Поручает Россия. Пётр Толстой
Из Энциклопедического словаря
Издание Брокгауза и Ефрона,
Т. XXXIII. СПб., 1901
ОЛСТОЙ (Пётр Андреевич, граф, 1645—1729) — сын окольничего Андрея Васильевича Толстого. Служил с 1682 г. при дворе стольником: 15 мая этого года, в день стрелецкого бунта, энергично действовал заодно с Милославскими и поднимал стрельцов, крича, что «Нарышкины задушили царевича Ивана».
Падение царевны Софьи заставило Толстого резко переменить фронт и перейти на сторону царя Петра, но последний долго относился к Толстому очень сдержанно, недоверчивость царя не поколебали и военные заслуги Толстого во 2-м Азовском походе (1696). В 1697 г. царь посылал «волонтёров» в заграничное учение, и Толстой, будучи уже в зрелых годах, сам вызвался ехать туда для изучения морского дела.
Два года, проведённые в Италии, сблизили Толстого с западноевропейской культурой. В конце 1701 г. Толстой назначен был посланником в Константинополь, на пост важный, но трудный (во время осложнений 1710—1713 гг. Толстой дважды сидел в Семибашенном замке), к тому же отдалявший Толстого от двора.
Вернувшись в Россию в 1714 г., Толстой расположил к себе всесильного Меншикова и назначен был сенатором.
В 1715—1719 гг. Толстой исполнял разные дипломатические поручения по делам датским, английским и прусским. В 1717 г. Толстой оказал царю важную услугу, навсегда упрочившую его положение: посланный в Неаполь, где в то время скрывался царевич Алексей со своей любовницей Ефросиньей, Толстой, при содействии последней, ловко обошёл царевича и путём застращивания и ложных обещаний склонил его к возвращению в Россию.
За деятельное участие в следствии и суде над царевичем Толстой был награждён поместьями и поставлен во главе Тайной канцелярии, у которой в это время было особенно много работы, вследствие толков и волнений, вызванных в народе судьбою царевича Алексея (1718). С этих пор Толстой становится одним из самых близких и доверенных лиц государя. Дело царевича Алексея сблизило его с царицей Екатериной, в день коронации которой он получил титул графа.
После смерти Петра Толстой вместе с Меншиковым энергично содействовал воцарению Екатерины: он знал, что успех другого кандидата, малолетнего Петра Алексеевича, положил бы конец его карьере. Однако ни высокое положение, занятое Толстым при дворе (он был одним из шести членов вновь учреждённого Верховного тайного совета), ни доверие императрицы, ни изворотливость и опытность в интригах не уберегли Толстого от падения. Долго действуя рука об руку с Меншиковым, Толстой разошёлся с ним по вопросу о преемнике Екатерины. План австрийского посланника Рабутина возвести на престол сына царевича Алексея, женив его на дочери Меншикова, сделал его соратником Петра, но Толстой, опасаясь, что воцарение Петра II будет грозить жизнью ему и всей его семье, стоял за возведение на престол одной из дочерей Петра Великого. Меншиков пересилил, и 82-летний Толстой поплатился ссылкою в Соловецкий монастырь, где прожил недолго.
Сохранился дневник заграничного путешествия Толстого в 1697—1699 гг. — характерный образчик тех впечатлений, какие выносили русские люди петровского времени из своего знакомства с Западной Европой. Кроме того, Толстой составил в 1706 г. обстоятельное описание Чёрного моря.
Глава первая
арь Пётр сидел у края стола молча, наклонив голову. Рука его, свободно брошенная на тёмное сукно скатерти, чуть приподнималась от кисти, и указательный палец, украшенный чугунным перстнем, раз за разом ударял в крышку стола: тра-та-та… Тра-та-та… Рука у царя была тяжёлая, удары были явственны.
Царёв кабинет-секретарь[1] Алексей Васильевич Макаров поднял серое лицо от бумаг и посмотрел на мерно постукивающий Петров палец. В глухих звуках ему почудилась дробь солдатской побудки. Макаров опустил лицо и усерднее прежнего зашелестел бумагами.
Так продолжалось минуту, две.
Наконец Пётр кашлянул сырым горлом, сказал:
— Зови.
Макаров без промедления встал, прошёл на жилистых ногах вдоль стола, заваленного книгами, бумагами, картами, заставленного медными и чугунными отливками, и растворил дверь.
Тут же, словно он ждал на пороге, в палату вступил Пётр Андреевич Толстой, шаркнул подошвой башмака о навощённый паркет и, роняя букли парика впереди лица, низко склонил голову.
Не произнося ни слова, царь оглядел полноватую фигуру вошедшего, скользнул взглядом по буклям парика, оценивающе всмотрелся в расшитый золотом камзол и, скрипнув стулом, сказал:
— Пышен… Ну-ну, хватит гнуться, дела не терпят.
Голос у Петра был раздражённый, неспокойный, с нотками тревоги.
Пётр Андреевич выпрямился, и глаза его встретились с тёмными, без блеска глазами царя.
Тра-та-та, тра-та-та… — ударил в стол Петров палец, и в этом звуке, в отличие от кабинет-секретаря, для Петра Андреевича прозвучали и вопрос, и раздумье, и усмешка. Вот ведь как, пустяк — царь пальцем на краю стола поиграл, но звук от того двоим и разное сказал. Да ещё и так, что Пётр Андреевич вмиг сообразил, о чём вопрос, отчего раздумье и по какой причине усмешка.
Рука царя плотно легла на сукно скатерти. Пётр оборотил лицо к секретарю.
Макаров торопливо подсказал:
— Второго дня апреля, сего тысяча семьсот второго года… Пётр прервал его:
— Знаю. — И оборотился к Толстому: — Тебе известно, что указом от сего числа ты назначен послом в Стамбул. — Помедлил мгновение и, в упор глядя на Толстого, продолжил: — А теперь о том, что надлежит постоянно помнить, исполняя сию должность.
И в третий раз ударил в крышку стола царёв палец: тра-та-та… Тра-та-та…
Пётр отвёл глаза от Толстого, и лицо царя — нездоровое, с набрякшими мешками под глазами, с желтизной — переменилось, как ежели бы он вышел из тесных палат и, стоя на высоком месте, заглянул вдаль. Да, Пётр и впрямь в эту минуту мысленно разглядывал, что там для России, за пеленой лет.
Редкие люди вперёд заглядывают. Оно ведь так говорят: ехал бы далече, да болят плечи. Вперёд заглянуть — труд велик, и лица у тех, кто дальнее видит, особым светом налиты. В лице Петра угадывались отблески пожара. И, как в царёвом голосе, заметны были в лице раздражение, неспокойство, тревога.
Толстой напрягся так, что под кожей проступили кости скул.
Дела державные складывались сурово. В ветреные ноябрьские дни 1700 года российская армия была жестоко бита под Нарвой, и Пётр с очевидностью понял, что усилия последних лет вытянуть российский воз в гору не дали результатов, которые он ожидал. Шведы, хорошо вооружённые и вымуштрованные, нависали над северными российскими пределами грозовой тучей. Союзница России — Дания вышла из войны[2], и это был ещё один удар по российским позициям. Другой союзник России — польский король и саксонский курфюрст[3] Август метался по Польше не только не в силах сдержать грозных шведов, но и справиться с собственной буйной шляхтой.
Пётр крепился, говорил приближённым:
— Швед нас под Нарвой воевать научил. За одного битого — двух небитых дают.
Но под ложечкой у царя посасывало. Пётр должен был сказать — как ни было горько, — что русские воевать с европейски выученной армией не могут. Кроме того, Пётр опасался союза шведского Карла с Османской империей. Такой поворот в межгосударственных отношениях мог оборотиться для России бедой, ибо в случае этом с севера упирался бы ей в грудь шведский штык, а с юга, в спину, османский кривой ятаган. Силу его Пётр помнил хорошо со времён Азовского похода и оттого посылал ныне в Стамбул посольство. Хотя бы этим хотел удержать вот-вот готовое обрушиться на Россию лихо. «Лихо, — подумал, — истинно лихо». И само это слово, внезапно родившееся в сознании, показалось ему страшным.
Пётр Андреевич неотрывно смотрел на царя. У Петра морщины прорезали лоб, и он вдруг, словно что-то решив, рывком поднялся со стула и, едва не касаясь низковатого потолка над головой, навис над Петром Андреевичем:
— Обязан ты мир с османами сыскать. Иного не моги! Непременно мир! И поручаю тебе это не я, но Россия!
Пётр даже задохнулся. Так, видно, жгло у него в груди, что перехватило дыхание.
Но он перемог себя, сказал спокойнее:
— Время на сборы даю самое малое. Требуй, кого надобно, в помощники, говори, иная в чём нужда… Отказа не будет, а спрос один — мир!
Толстой склонил голову. Проговорил, едва шевеля занемевшими от волнения губами:
— Понял, государь.
Макаров, вытянув шею, смотрел на Петра Андреевича. Много повидавшие глаза его были полны озабоченности. Он-то знал, какую ношу взваливает царь на плечи Толстого.
Пётр Андреевич вышел на крыльцо Преображенского дворца и остановился.
По истолчённому, грязному снегу двора маршировала полурота. Лица у солдат были синие от ветра, злые. А народ-то всё солдаты — рослый, крепкий, жеребцы, но, видать, и их уходили непривычной для мужика муштрой. Бух! Бух! — била полурота каблуками в грязно-снежное месиво. Свистела пронзительно солдатская дудка, гремел барабан, и нероссийского вида офицер, тоже багрово-синий от леденящего ветра, орал сорванной глоткой:
— Форвертс[4]! Держи рьяд!
На вылезающей из ворота мундира тощей офицерской шее надувались жилы.
— Анц, цвай, драй! — командовал офицер, но Пётр Андреевич команд этих не слышал. В ушах стоял возбуждённый голос царя: «Иного не моги!»
Ветер бросил в лицо Толстого горсть жёстких капель. Пётр Андреевич медленно выпростал из широкого рукава шубы руку, отёр лицо, да, тут же и забыв об ожегшем кожу злом порыве, взял пальцами за подбородок, крепко сжал челюсть. Задумался и понял — в голосе Петра был страх. «Во как, — удивился, — бывает, и цари боятся?» И ему самому стало страшно. Солдатская дудка свистела, надрывая душу, гремел барабан. Сомкнутые ряды полуроты, разбрызгивая ошметья грязи и снега, шли то вдоль двора, то, разворачиваясь, шагали поперёк, наступая, отступая от царёва крыльца и вновь подходя вплотную к ступеням. И всё орал, вспоминая нерусского бога, офицер.
Остро скрипнув полозьями саней по проглядывающей из луж брусчатке, подкатил кожаный возок Петра Андреевича. Весна была поздняя, и возок не переставили на колеса. С облучка на барина глянул бородатый кучер Филимон.
Пётр Андреевич не тронулся с места.
Кучер недоумённо сморгнул, потянул носом сырое, утёрся рукавом армяка — уразуметь не мог, отчего барин торчит на крыльце пугалом. А солдаты били, били каблуками. Над Преображенским несло низкие тучи, мотались по ветру вершины деревьев тесно обступавшего старый дворец в глухом бору. Сидя на верхней перекладине резных, обитых медными, прозеленевшими полосами ворот, надсаживалось в крике воронье. За годы привыкли длинноклювые к пронзительной дудке, барабанному бою, солдатам и — чёрт им не брат — никого не боялись. Круглили нахальные глаза: эге, мол, ребята, весна придёт, и уж мы попрыгаем, попляшем, будут забавы и игрища. До людских тягот и забот дела им не было. Они своё знали. Да что с воронья спросишь? Им — воронье, людям — людское.
Филимон в другой раз глянул на барина и, озаботившись лицом, полез задом с облучка. При Петре Андреевиче состоял с детства и смел был не по-мужичьи. Спрыгнул в грязь, подтянул кушак и пошёл вверх по ступеням царёва крыльца, оставляя за собой мокрые следы. Стал перед барином столбом. Пётр Андреевич увидел его.
— Что? — спросил, словно проснувшись. — Ты почему здесь?
— Домой надо, барин, — сказал Филимон, для убедительности подшмыгивая носом, — домой…
Пётр Андреевич, тут только оглядев дворцовый двор, увидел марширующую полуроту, воронье на воротах и, будто его в затылок толкнули, зашагал по ступеням.
Опасливо косясь на усы орущего на солдат офицера, Филимон объехал стороной полуроту и погнал коней в ворота. Задок возка подкидывало, водило из стороны в сторону. По весеннему бездорожью не езда была, а беда: того и гляди — не то возок попортишь, не то коней изломаешь.
— Но-но, милые! — крикнул Филимон, взмахнул кнутом, бодря не столько коней, сколько себя.
Пётр Андреевич откинулся на сиденье, по ноздри укутался в шубу, руки засунул в рукава. Зябко ему стало, неуютно. Нос только и выглядывал из рыжего меха из-под низко надвинутой шапки; нос костистый, с горбинкой упрямой, тот нос, глядя на который непременно скажешь: «Эге-ге… А хозяин-то твой не прост. Ох, не прост».
По крыше возка, как в барабан, ударили капли дождя. И Толстому вспомнилась дробь царёва пальца о стол: тра-та-та… И, как на крыльце Преображенского дворца, он выпростал из рукава руку, взялся за подбородок.
Задуматься было о чём. Вопрос, раздумье и усмешка в царёвом стуке послышались Петру Андреевичу неслучайно. Было в судьбе Толстого такое, что царь мог и вопрос задать, и задуматься над ответом, и усмехнуться, да ещё и недобро.
В такие же вот сырые весенние дни всколыхнуло Москву стрелецким бунтом[5]. Страшно загудели по слободам колокола, закричали заполошно, завыли по-дурному бабы, ярость вспыхнула в мужичьих глазах. Лихое, хмельное, озорное занятие — губы рвать. И, как всегда бывает в такие минуты, вдруг заметнее стала грязь нищих улиц, гнилье заборов, крыши на избах съехали вроде бы на сторону, опустились ниже и всё вокруг зашептало, запричитало задушенными голосами: «Обижены, со всех сторон обижены, обездолены, затеснены власть предержащими, царём, богом». И каждому себя жалко стало до слёз. В этот-то горячий час на прытком коне вылетел из-за изб Пётр Толстой. Ферязь на нём была раздернута у горла, шапка сбита на затылок, потные волосы липли ко лбу. Крикнул народу, показывая зубы:
— Эй, стрельцы! Что медлите? В Кремле царя Ивана удавили!
Поднял коня на дыбы. Весёлый был, боевой и радость выказывал. Не то от вида его, не то от крика, не то по иной какой причине, но на улицах явственно потянуло горьковатым дымом бунта, что кружит, пьянит головы крепче вина. Конь под Петром Андреевичем грыз удила и, в другой и в третий раз вздымаясь на дыбы, брызгал бешеной пеной с губ на стоящих вокруг. Русского человека на бунт только позвать надо. Слово найти точное, и тогда — держись! Озорство у русского в крови. Стрельцы закричали, бросились за Толстым.
А на царя Ивана руку никто не поднимал, жизни царской ничто не угрожало — пустое всё это было, выдумка; другое деялось на Москве. К власти рвалась царевна Софья. Не захотела она в девичьем тереме за семью замками сидеть, киснуть в тоске и неволе да ждать монастырской кельи, так как царевнам на Руси редко счастье улыбалось. Царевна хотя и царская дочь, но всё одно девка, и путь ей был один — в монастырь, за каменные стены, под кресты. Пущай ей — бога молит. А царевне хотелось воли и власти. Хотелось жить весело.
В те дни стрельцы побили многих на Москве и правительницей при малолетних Иване и Петре провозгласили Софью. Она взошла на трон, как обуянный хмельной радостью мужик в избу вваливается. Поднялась по ступеням самого высокого на Руси места и села, жадно ухватившись толстыми руками за выложенные жемчугом и рыбьим зубом подлокотники.
За службу в лихие дни правительница пожаловала Петра Андреевича в комнатные стольники к царю Ивану Алексеевичу. Это был уже немалый чин. Толстой приободрился. Счастья в жизни, хотя бы и немного, малую кроху, всем хочется.
Но Софьино царствование было недолго.
Пётр Алексеевич ссадил Софью с престола.
Толстой попал в опалу.
А на Москве начались невиданные дела. Вот то вправду было веселье, не стрелецкие забавы — кабаки громить, боярское добро растаскивать. Нет, куда там… Рвать армяки на груди, в ярости глаза таращить — игрища дитячьи, забавы дурные для тех, кто иного не мог и не смел. Москва потянулась к морям, к ганзейским торговым городам, к ремёслам и наукам, дотоле неизвестным, к новой жизни без гнусливых юродивых на папертях церквей, без надсаживающих сердце воплей: «Подайт-е-е-е Христа ради-и-и…»
Не коня, как Пётр Андреевич в шальные дни бунта, но всю Россию поднимал молодой царь на дыбы.
Толстой сел в отчем доме у оконца со многими переплётами и только поглядывал, как по улице поскакивали на весёлых конях новые люди, вышагивали подтянутые офицеры, опоясанные шарфами, торопились куда-то, поспешали.
Домашние осуждали Петра Андреевича. В один голос говорили: «Что глядеть-то? Срам всё это. Небывалое. Куда торопятся? Куда спешат? Тьфу, да и только».
Особенно раздражали иностранцы. Ступали они по улицам вольно, ногу выбрасывали смело, поглядывали с достоинством. Русские так не ходили, да и не умели того. С детства, с младых ногтей были учены: над всеми бог, под ним царь, ниже чиноначальники власть предержащие — так ты уж ходи смирно, голову клони да бойся. А вот коли сам начальником станешь, то тем, что ниже, головы пригибай, да построже, можно и зуботычиной, а лучше дубиной. На том всё и стояло.
Пётр Андреевич кусал заусенец на пальце и смотрел, смотрел прищуренными глазами: смелели люди, смелели.
В старом переулке бренькал колокол, звал к молитве. Отстояв положенное на коленях перед тёмными ликами святых, Пётр Андреевич опять тянулся к оконцу, и уже переплёты казались ему решётками, а капли дождя на слюде — слезами, что ползли не иссякая. Жизнь проходила мимо, дни утекали, как вода в песок.
От великой тоски Пётр Андреевич брал себя холодными пальцами за горло, мял, давил и, не в силах выговорить слово, только хрипел и булькал не то от досады на себя, не то на время, что выпало на его бесталанную долю.
Подносили рыжички солёненькие: «Откушай, барин». Подавали квасок кисленький, меды сладкие: «Отпей». Выставляли на стол жареное, пареное, варёное, томлёное, запечённое в сметане, в соусах хитрых: «Отведай, барин». Но нет. Он всё тянулся, тянулся к окну. И не выдержал, сломал гордыню, пошёл проситься в службу. И вымолил-таки — послали его воеводой в Устюг Великий.
Новый воевода в Устюге с жаром взялся за дело: расширил торговую площадь, перестроил причалы на Сухоне, начал строить торговые ряды.
Солнце тумана на реке не разгонит, а Пётр Андреевич у судов — кричит, командует, лезет в самую гущу. Английские и голландские купцы, открывшие склады в городе, в один голос говорили: «О-о-о… Это есть хороший пример царёвой службы!» И они же похвалили воеводу Петру, когда тот, во время путешествия в Архангельск, побывал в Устюге.
Пётр с купцами стоял на берегу реки, ветер гнал волны, полоскал паруса судов у причала. Кричали чайки. Водный простор распахивался перед глазами неоглядно. У царя было хорошее настроение. Толстой стоял чуть поодаль, у самого среза берега. Пётр похвалы выслушал, посмотрел с интересом на воеводу, но ничего купцам не ответил. С тем и ушёл на Архангельск на трёх карбасах. А устюжских дел Толстому стало мало, ему хотелось большего. Пётр Андреевич об том писал в Москву, просил определить его в военную службу.
Ему дали чин прапорщика.
В Азовском походе он выказал храбрость, и ему присвоили звание капитана гвардейского Семёновского полка. Жизнь, казалось, определилась, но он неожиданно напросился к царю. Вот тогда-то и увидел Толстой усмешку на губах Петра. Молод был Пётр, ретивое в нём играло: что, мол, сын дворянский, пришёл? Царёвы губы искривились в углах. Людское-то и царям не чуждо. Пётр Андреевич перемог себя и униженно, голосом покорным попросил отправить волонтёром в Италию.
— Учиться хочу, — сказал, — учиться.
Такого и быстрый в мыслях Пётр не ожидал. Взглянул с вопросом. Помедлил. В то время царь горел мыслью: как можно больше русских людей отправить за рубежи российские для обучения необходимым державе ремёслам и наукам. Пётр Андреевич выказал желание овладеть мореходным делом. Царь прошёлся по палате, заложив руки за спину, пошевеливая тесно сплетёнными пальцами, кашлянул.
Молчание царёво затягивалось.
Пётр Андреевич ждал решения.
Петровы каблуки стучали в дубовые плахи. Вот ведь как складывалось: против Петра звал стрельцов Софьин стольник Толстой, а ныне он от Петра ждал решения своей судьбы.
Царь остановился у окна, тень легла через всю палату. И Пётр Андреевич подумал, что скажет сей миг Пётр одно слово и тенью перечеркнёт все его дальнейшие годы. Толстому стало сумно. Почувствовал: в виски молотками бьёт кровь. Он поднял лицо, взглянул на царя. Что прочёл Пётр в его взгляде, о том он ни Толстому, ни кому иному не говорил, очевидным стало одно: задор он молодой перемог, отвердел губами, нахмурился и сказал раздельно:
— Добре. Поезжай.
И всё. Не наставлял, как других отправляющихся за границы, не обещал ничего за успехи в науках и ремёслах и не грозил за знания плохие, кои выкажет по возвращении. Но и перечёркивать судьбу не стал. Такого греха на душу не захотел брать. Толстой запомнил: смотрел на него Пётр, чуть наклонив голову к плечу, без укора, без раздражения и лишь раздумье читалось в глазах.
* * *
Возок тряхнуло. Филимон крикнул с досадой:
— Ну! Волчья сыть, шевели копытами! Толстой, отрываясь от дум, глянул в оконце. Подъезжали к Яузе.
Санная дорога напрямую через реку изломалась, и, хотя лёд стоял, объезжать надобно было вкруговую. Филимон завернул коней, но Пётр Андреевич всё смотрел и смотрел на ледовую дорогу. Поднятая горбом над истаивающим льдом, жёлтая от навоза, она была хорошо видна с высокого берега. Тут и там дорогу перерезали трещины, напирали на неё клыкастые, изломанные льдины, дыбились, громоздились, и было очевидно, что ещё день, другой — и дорога, преграждающая путь ледоходу, уйдёт под воду, освобождая простор пробудившейся к жизни реке. Толстой, до рези в висках вглядывавшийся в оконце саней, неожиданно для себя понял, почему он так долго не может оторвать глаз от зыбящейся под напором весны дороги. В сознании ясно встало — это не дорога через речку Яузу, нет! Это Софьина дорога. Избитая, изломанная, с полыньями поперёк хода, конской мочой залитая и навозом затолчённая, та дорога, по которой веками Русь на карачках ползёт, ломаными ногтями цепляясь и оставляя за собой алые маки кровавых пятен. И ещё подумалось с душевной мукой — счастлив он, что выбрал иной путь.
Возок тряхнуло на ухабе, кучер взял правее, и Яузы не стало видно. Толстой отвернулся от оконца.
— Господи, — прошептал Пётр Андреевич, — святые угодники, как воздать за то, что не оставили в замёрзлом упрямстве! — Перекрестился и раз, и другой, и третий. И ему вспомнились итальянские солнечные дороги. Особый вкус кремнистой их пыли — пресный, щекочущий губы, но сладостный по воспоминаниям…
За изучение наук в Италии Пётр Андреевич взялся так, что немало изумлял учителей въедливым умом и жаждой знаний. Бывал в библиотеках и госпиталях, в мануфактурах и академиях, изучил итальянский язык, познакомился с торговым делом и немало выказал способностей в знакомстве с искусствами, в коих итальянский народ был весьма сведущ. В Россию Толстой привёз аттестаты, в которых говорилось: «…в познании ветров как на буссоле, яко и на карте и в познании инструментов корабельных, дерев, парусов и верёвок есть искусный и до того способный». Были и другие слова: «…в дорогу морскую пустился, гольфу[6] переезжал, на которой через два месяца целых был неустрашённый в бурливости морской и в фале фортуны морских не убоялся, во всём с непостоянными ветрами шибко боролся». К аттестатам крепились на шнурах тяжёлые печати, выполненные сколь затейливо, столь и искусно. Но Пётр всё же счёл более полезным для России использовать Толстого не как моряка, но как дипломата.
На то нашлись причины.
По возвращении в Москву Петра Андреевича призвали к царю. По обыкновению, Пётр сидел вольно на простом стуле, закинув ногу на ногу. Белые нитяные чулки царя были забрызганы грязью. Он только что вернулся во дворец с артиллерийского поля, где ему представляли отлитые московскими мастерами пушки, и лицо его румянилось от морозного ветра, как это не часто бывало. Пётр слушал Толстого и покачивал носком башмака. У рта собирались морщины. За два года, которые Пётр Андреевич провёл в Италии, царь заметно изменился: жёстче стали губы, суровее глаза, и ежели раньше в разговоре он только взглядывал на собеседника и тут же отводил глаза в сторону, то ныне он смотрел в лицо сидящему напротив подолгу, не мигая, и только зрачки то расширялись, то сужались, словно дыша. Не прерывая Петра Андреевича, царь потянулся к лежащим на столе аттестатам, взял в руки один из свитков, развернул, шурша жёсткой бумагой.
Пётр Андреевич прервался на полуслове.
— Говори-говори, — взглянув поверх бумаги, сказал царь. Пётр Андреевич продолжил рассказ.
Царь отложил аттестат, взял трубочку, набил табаком, крепко уминая продымлённым пальцем.
Секретарь Макаров поспешил к Петру с дымящимся трутом на медной тарелочке.
Царь взял уголёк, не глядя, сунул в трубочку. Сильно втягивая щёки, затянулся, бросил перед лицом облачко дыма. Губы его по-прежнему морщились.
Макаров внимательно взглянул на царя: он понял — Пётр задумался, и задумался крепко. Кабинет-секретарь, как никто иной, знал, что Пётр не испытывал к бывшему стольнику Софьи особого доверия. Такое надо было заслужить, но то, что Толстой решительно отказался от старого и, не в пример многим московским сынам дворянским, сам выказал желание поехать за границы российские, и не только поехал, но вот и добрые знания привёз, что подтверждалось лежащими на столе аттестатами, Петру понравилось. Он был человеком решительным и решительность в иных любил и поощрял.
— То зело похвально, — сказал Пётр, притрагиваясь к аттестатам, — и поощрения всяческого заслуживает.
Пустил облачко дыма, сунул трубочку в рот, сжал зубами янтарный мундштук. И всё смотрел и смотрел на Толстого. Пётр Андреевич внутренне собрался, ожидая царёва слова.
Пётр, отведя ото рта трубочку, сказал:
— Знания практические в морских, горных или иных науках суть не только к употреблению в оных делах уместны, но ещё более важны в понимании судеб человеческих, движении стран, яко разных людских семей: как и в чём находить им применение особенностей своих, как им в мире жить, где искать честь свою. Читать в сей книге дано немногим. Научился ли ты разбирать алфавит её страниц?
И Толстой в другой раз удивил царя, показав такую осведомлённость в европейских межгосударственных делах, что Пётр отложил трубочку и впился глазами в Петра Андреевича.
— Ну-ну, — поторопил с живым интересом и даже стул к Толстому подвинул, — ну…
Пётр Андреевич, почувствовав уверенность, сказал:
— Более иного ныне следует опасаться действий военных на юге. — Ему ехало легче дышать, словно воздуха в палатах царёвых прибавилось, и он с определённостью закончил: — Из Стамбула вижу угрозу.
Пётр сорвался с места, пробежал по палате, рассыпая искры из трубочки. Лицо царя, минуту назад спокойное и невозмутимое, переменилось. Задвигались, зашевелились короткие усы над губой, как это случалось у него в моменты волнения. Пётр встал в углу, посмотрел оттуда на Толстого. Под обветренной кожей на скулах у царя обозначились тёмные пятна. Вернувшийся из-за границы Софьин стольник — а это Пётр держал в памяти — ударил в больное место: заговорил о том, о чём он, Пётр, и в близком кругу молчал, хотя и знал — молчи не молчи, а сказать придётся. Но всё же молчал. Испугать боялся. И так видел — напуганы нарвским поражением. И хотя были и победы — взятие мызы Эрестофер[7] и иные успехи, — в Москве всё одно головы гнули. Шептали по углам: «Ишь ты, победил… Колокола с церквей содрал на пушки, голь московскую согнал в солдаты… Левиофана снарядил, а убил-то муху… Эрестоферова мыза с ноготок всего… Было за что биться… Поглядим, как далее будет…» Разговоров было много. Вот и не хотел Пётр свой голос к тому добавлять.
— Пошто так мыслишь? — спросил холодно и жёстко.
Пётр Андреевич, заметив перемену в царе, с минуту подумал и продолжил убеждённо:
— Государь, слова мои, вижу, зело озаботили тебя, однако, ища лишь пользы России, должен сказать их, как сказать должен и другое. Россия сильная никому не нужна. Шибко — и я видел то — присматриваются к нам, россиянам, за рубежами нашими. С опаской присматриваются. У Европы сегодня много своих забот, и сильный сосед им не надобен. Османов, ежели они сами не похотят тревожить нас с юга, толкнут на то. Я мыслю — так Европе будет спокойнее.
Помолчали. Макаров перестал скрипеть пером. Понял: неуместно сей миг царю и столь малым досаждать. У Петра глаза округлились и явственно проступили налитые тяжёлой кровью жилки у висков.
— Ну, — протянул он с напряжением в голосе, — остёр ты умом… Остёр… И зубаст. С таким надобно камень за пазухой держать, дабы зубы выбить, коли укусить захочешь… А? — повернулся всем телом к Макарову.
Секретарь над бумагой согнулся и ничем не выдал ни одобрения царёвым словам, ни осуждения. Толстой же молча склонил голову.
Эта минута и решила дальнейшую судьбу Толстого. Царь увидел: знания из Европы стольник Софьин привёз весьма дельные, смел, дерзок… Пётр сопнул носом и вдруг вспомнил: «На крепостную стену в Азове Толстой лез со шпагой зело отчаянно».
Царь сел к столу и, как и прежде закинув ногу на ногу, сказал повеселевшим голосом:
— Зубаст, зубаст… Да мне такой и нужен. Поедешь в Стамбул. Вот там зубы и покажешь.
От неожиданности Толстой, словно ему горло перехватило, выдавил:
— Морским наукам учен, моряк я.
— А я царь, — не дал договорить Пётр. — Но вот ныне за пушечных дел мастера работал, — протянул к Толстому раскрытые ладони, — видишь?
Пётр Андреевич с удивлением разглядел свежие ссадины на ладонях и кистях царя.
— Инструмент был плох — оттого руки испортил, — пояснил Пётр, — лафет пушечный никуда не годился. А я его поправил. Понял?
Так определилась судьба Толстого.
— Иди, — сказал Пётр, — готовься и будь доволен, что России в работники нужен.
Возок завернул к воротам и остановился. Филимон степенно слез с облучка, шагнул к сбитой из тяжёлых плах калитке, застучал нетерпеливо кнутовищем.
— Эй! Спите? — крикнул. — Кто там? Отчиняй ворота, барин приехал.
Ворота с режущим скрипом растворились. Через минуту возок подкатил к крыльцу. Поддерживая под локоток, Филимон высадил барина. Пётр Андреевич поднялся по ступенькам отчего крыльца, взялся за мокрые, холодные перильца, глянул на небо.
Над Москвой ползли низкие, серые тучи, но у горизонта проглянула голубая полосочка, и такая яркая, ядрёная, бьющая по глазам, что ясно стало: тучи тучами, но весне быть, и быть вскорости. У Петра Андреевича в груди вдруг помягчало, стало просторнее, полегче. Он ступил через порог.
На другой день, едва воронье с кремлёвских башен слетело лошадиных яблочек на московских улицах поклевать или чего иного урвать, коли на то случай выпадет, Пётр Андреевич объявился в Посольском приказе.
Приказ стоял под тяжкой гонтовой крышей, глубоко уходя замшелыми стенами в кремлёвскую землю. Тесные окна храмины со свинцовыми прозеленевшими косыми отливами поглядывали хмуро. Трубы — толстые, не в обхват, — торчали, как стражи грозные. И на каждой трубе шапка теремом. Пугали трубы, грозили. Умели строить старые мастера — труба, торчащая на крыше, как перст предостерегающий себя выказывала. А много, ах, много дел было в Посольском приказе, и дела путаные. Тесно стояли под арочными, сводчатыми потолками в потаённых каморах, в подклетях, в подвалах шкафы с бумагами, да и не к каждому из них подходить посольским позволялось, не то что листать ветхие страницы. Дела были государевы, и тайны были государевы. Писцов и иной посольский люд держали в строгости. Баловать не давали. Чуть что не так, и батоги грозили приказному, а то и хуже — заплечных дел мастер ждал в застенке. А кнутобойцы кремлёвские были ребята лихие. Иной с третьего удара душу вынимал. То было ведомо всякому. Бумаги же были в приказе древние, ещё Ивана Грозного стариннейших времён, Годунова смутных лет. Вот бумага, писанная в Смутного времени дни хитромудрым думным дьяком Андреем Щелкаловым[8]. Разгонистый, летучий почерк его сразу угадывался. Рядом листы, начертанные рукой его брата, тоже думного дьяка, немалый след на Руси оставившего, Василия Щелкалова. Борода была рыжая у Василия, крутого волоса, однако, видать, от забот многочисленных не крепок волос был, падал, и меж листов нет-нет, а встретится золотая нить. И так и видишь: коптит сальная свеча, бьётся огонёк, дьяк клонится над бумагой, перо скрипит и вот волосок за ним потянулся, намарал, напачкал да и лёг на долгие годы. Из бумаг Посольского приказа можно было многое узнать. Петру Андреевичу царёвым словом и распоряжением президента посольских дел[9], графа Фёдора Алексеевича Головина, разрешили бумаги те смотреть и прежнее всё, что было между Россией и Стамбулом, ведать. Помогал ему в том великий знаток посольского дела думный дьяк Емельян Украинцев. Думный был стар, но памяти не потерял. В Стамбуле бывал и с турками мир сотворил на тридцать лет[10], однако ныне и он сомневался, что договора того турки будут придерживаться. Уж очень многим в Европе не хотелось, чтобы Россия вышла на Балтику. Нет, не хотелось. Там ганзейские купцы распоряжались, голландцы стремили паруса, шведы, англичане, и никому из них уступать место российским навигаторам было ни к чему. Балтику так и называли — морем Немецким.
Думный листал бумаги слабыми пальцами, щурился на плавающий огонёк свечи и лёгких переговоров с турками Толстому не обещал. Говорил прямо: «Придётся туго». Губы поджимал. Да Пётр Андреевич лёгкого и не ждал, однако, вместе с дьяком копаясь в старых бумагах и вникая в суть их слов до самых мелочей — иначе было нельзя, — мыслил и о ином. Уезжал он в Италию из одной Москвы, а приехал в другую. В белокаменной открылись школы математических и навигацких наук, артиллерийская, инженерная и хирургическая. Введён новый календарь, начали работать книгопечатни, вышла первая русская газета «Ведомости», церковнославянский шрифт заменили светским. Попы тех книг не читали, бросали их в грязь, топтали, называя напечатанное ересью. Дворянам велено было брить бороды, ходить в кафтанах иноземных, детей учить разным наукам. И многие бороды брили. И не только дворяне, но и среди купцов можно было увидеть не того, так иного, щеголяющего босым лицом и голыми губами. Москва гудела, как колокол, в который с маху влепили многопудовую громаду языка, взявшись миром за верёвку. Когда уезжал Пётр Андреевич за границу, шипели только, недовольно косясь на новины, а ныне говорили в голос. Да что там говорили — кричали, вопили. Пётр Андреевич видел, как на Варварке, где толчея всегда и неразбериха людская, рваный мужик, со впалыми глазами, окружёнными чернотой, с прозеленевшим староверческим крестом на груди, забрался на крышу избы и орал оттуда непотребное.
— Вот вам книги новые, — раздирал рот мужик и показывал пальцами у лба чёртовы рога. На синих его губах закипала бешеная пена. — Вот вам школы новые, — и опять пальцы корявые взлетали ко лбу. — Вот вам лекари новые, — закидывался мужик назад, закатывал глаза. — Антихрист идёт, бойтесь, бойтесь его! Знаки есть…
На Варварке люди стояли разинув рты.
Солдаты-преображенцы полезли на крышу, стянули вещуна, заломили ему руки и поволокли. Народ нехотя расступался, пропуская их к Пожару. Мужик, юродствуя, хрипел, рвался из солдатских рук, бормотал неразборчивое. Солдаты вконец разозлились, подняли его, встряхнули и погнали пинками. Но Пётр Андреевич видел глаза стеной стоящего люда, страшные это были глаза, и ежели бы могли, то убили этих в солдатских мундирах.
Да что мужик на Варварке, было и другое, и много страшнее. Роптали по всей Руси и на налоги, которыми царь задавил, и на наряды мужиков поставлять на строительство, обозы водить, дороги отсыпать, улицы мостить. И говорили, что на Дону казаки зашевелились, на Волге неспокойно. А стрельцы московские были подлинно как псы цепные — скалили зубы, подгибали мосластые пальцы в кулаки. Они бы давно в набат ударили, да боялись страшного человека[11] на Москве — князя-кесаря Фёдора Юрьевича Ромодановского.
Как-то, выйдя с думным дьяком на крыльцо Посольского приказа, Толстой увидел Фёдора Юрьевича, шагающего через Соборную площадь. Походка у князя-кесаря была тяжёлая. Ставил он ногу прямо, но так, что казалось, каждый раз обтаптывался, будто убедиться хотел, верно ли она стоит, устойчиво, надёжно, и только после того другую ногу переносил и опять обтаптывался. Надвигался, как большой воз, нагруженный кладью, которой и цена и спрос есть. На мгновение его взгляд задержался на лицах думного и Петра Андреевича, но Толстой понял, что и за это малое время князь-кесарь отметил, кто перед ним стоит. Дьяк Украинцев с почтением и достоинством поклонился Ромодановскому, поклонился и Пётр Андреевич. Глаза князя-кесаря прикрылись тяжёлыми веками, и он ответил кивком. Шею, приметно было, гнуть ему трудно. Но как ни грозен был князь-кесарь Фёдор Юрьевич, а разговоры шли, Москва шумела, и не тут, так там выныривал человечек с криками и жалобами, попишко иной в церкви начинал говорить о грядущем Антихристе, подмётное письмо обнаруживалось. На Мясницкую, близ Лубянки, где за высоким забором жил Фёдор Юрьевич, доносили об этом, и незамедлительно шли с Лубянки солдаты и брали тех крикунов в застенок. Но всё одно первопрестольная была неспокойна…
Толстой, сидя рядом с думным дьяком над посольскими бумагами, только вздыхал. И тот, многодумный, понял его настроение. Пожевал губами, отсунул от себя листы и, сложив покойно руки на краю стола, сказал:
— Служу я в Посольском приказе более четырёх десятков лет.
На лоб думного, заслоняя глаза, сползла седая прядь. Он поднял руку, поправил волосы и, в другой раз пожевав узкими, бесцветными губами, продолжал:
— Моей рукой писаны листы Андрусовского перемирия, по которому России были возвращены от Речи Посполитой захваченные неправедно Смоленск-город, Северская земля с Черниговом и Стародубом, достославный Киев и многие иные земли.
И вдруг думный выпрямил спину, глянул на Петра Андреевича повыше свечи, и пламя, хотя и неверное, высветило его лицо. Стали явны крупные черты, мощные брови и над ними — куполом — высокий лоб.
— И листы вечного мира с Речью Посполитой моей рукой писаны. А такой мир заключить было непросто. Константинопольский договор я же писал.
Петру Андреевичу разом припомнился идущий по Соборной площади князь-кесарь Ромодановский. Тяжкая его походка, придавливающий взгляд. И понял он: Украинцев и Ромодановский — одного поля ягоды. Да и не ягоды вовсе, устыдился в мыслях сравнению такому, но глыбы, валуны, а с одного поля точно.
— Так вот всё то, — сказал думный с твёрдостью, даже странной при его больших годах, — державе было нужно. А то, что кричат ныне иные на Москве, — не России для, но едино лишь к пользе своей обращено, и ты об том помнить должен во всю службу твою.
Думный замолчал, придвинул к себе листы, долго-долго шуршал бумагами и, только спустя немалое время, сказал:
— Читай. Здесь слово каждое полезным будет в твоём деле в Стамбуле.
И передохнул, унимая закипевшее в груди.
В тот же вечер Пётр Андреевич припомнил слова думного дьяка. Увязывал с Филимоном в коробья бумаги, которые должно было взять в Стамбул, и тут в палату вошёл брат Иван. Остановился у притолоки и, засунув руки в карманы заячьей домашней шубёнки, поглядывал с неодобрением. Высокий, в отличие от брата Петра, длиннолицый, с постриженной лопатой московской бородой. Сказал неопределённо:
— Собираешься?
Пётр Андреевич оборотил к нему лицо.
— Да, — ответил, — торопимся вот, царь время на сборы дал малое.
— Так, — протянул Иван, — только с дороги и опять в путь… Прытко…
В голосе да и во всей фигуре его объявлялась недоговорённость.
Пётр Андреевич, чувствуя, что брат что-то хочет сказать ему, отпустил Филимона.
— Ступай, — сказал, — позову.
Тот вышел. Брат, отвалясь от притолоки, прошагал через палату, проскрипев по половицам, сел к столу. Запустил пальцы в бороду.
— На тебя, — сказал Пётр Андреевич с осторожностью, — жену оставляю, дом. Когда вернусь — не знаю.
В палате повисла тишина. Пётр Андреевич смотрел на брата с вопросом.
— Об жене, — помолчав, ответил Иван, — не беспокойся.
И, отпустив бороду, посунулся на локтях через стол к Петру Андреевичу, глядя в глаза, сказал:
— Урок нелёгкий царь задаёт, а тебе нужно ли это? Что скажешь? Думал ли об том?
Выжидательно вытянув шею, не мигая, смотрел на брата.
На окне, тычась в слюду, запела ранняя муха. Ныла, зудела, колола в уши, как иглой. Чёрт её сюда занёс.
Пётр Андреевич осторожной рукой потрогал кожу у виска да и застыл, опершись локтем в стол. Он знал, что брат не одобряет Петровых новин, как не одобряет и его службу царю. Пётр Андреевич задумался: как ответить брату? А тот, увидев, что он замедлился с ответом, понял это по-своему и уже с твёрдостью в голосе продолжал:
— Царь Пётр никогда не простит тебе Софьи, — усмехнулся. — Нарышкины злопамятны. Знаю я Льва Кирилловича — у этого с крючка не сойдёшь. Он всё помнит и братьев своих[12], — и в другой раз криво усмехнулся, — Афанасия да Ивана, что стрельцы в бунт побили, тебе в строку поставит. Артамона Сергеевича Матвеева[13], друга своего, что на копьях стрелецких жизнь кончил, тоже припомнит. — И так расходился, расколыхался, что зубы у него застучали, борода моталась, ногти царапали стол. — Думал ли об том? За море, к басурманам идёшь. Глупой! Эх! — махнул рукой с безнадёжностью. — Все вы такие — пальцем поманят, и вы хоть на край света.
Пётр Андреевич тут-то и вспомнил князя-кесаря Ромодановского и думного дьяка Украинцева. Те зубами не ляскали. «Страсти, — подумал, — страсти. Злоба. А злоба не сила. Нет. Те посильнее, и много посильнее. Куда с добром».
— Замолчи, — сказал тихо, но так, что брат сразу смолк. — Упрям ты и дорогу свою сам определил. Переубеждать не буду, да и не к чему — всё не послушаешь. Но мы с тобой одной крови, и я упрям. И путь у меня свой. Так ты того не трогай. Но попомни — на гнилом вы сидите. И разговоры ваши пустые: Лев Кириллович, Матвеев… Не об том сейчас речь! Гуляли стрельцы, гуляли, а что за тем гуляньем? Лихость? Винца сладкого захотелось из боярских подвалов? Воли срамной? Да они и так вольны, по слободам пузы чешут да баб волтузят — вот и всё занятие. Видел я их в деле под Азовом и лихости не приметил. Задом больше наступали, задом… А со шведом как они себя показали?
Брат смотрел на Петра Андреевича, по-прежнему не мигая, только бровь над глазом подёргивалась, дышал тяжело.
— Вот то-то, — сказал Пётр Андреевич, — слепой ты, слепой… О бунте вспомнил… — И вдруг, сам распалясь, ударил кулаком о стол: — То было! А ныне и впредь — не то станется!
Брат отвалился от стола, запахнул на груди тулупчик. Скрюченные пальцы застыли на вороте, как морозом схваченные.
Вот так поговорили в отчем доме. Плохо, конечно, но иного разговора не получилось. В конце брат повторил всё же, что за женой Петра приглядит, сиротой она не станет и пущай он в чужеземщине не тревожится. Вот и всё напутствие.
Поднялся, пошёл из палаты. Пётр Андреевич смотрел ему в спину. На худой спине брата из-под шубёнки проглядывали острые лопатки, полы шубёнки мотались. Пётр Андреевич смотрел пронзительно, с таким напряжением, что увлажнились глаза. Но брат не повернулся. Только половицы скрипели под ногами, точно жалуясь. В сенях — было слышно — брат ступил на лестницу, и ещё громче, чем половицы, ещё жалостнее запели ступеньки, но и они смолкли.
Пётр Андреевич опустился на стул, посидел молча, а как стал подниматься, у него невольно вырвалось:
— О-хо-хо… — Но он оборвал вздох и твердо позвал: — Филимон, иди, поторапливаться надо!
В другой раз с братом поговорить не случилось.
В последние дни перед отъездом Пётр Андреевич побывал во многих домах московских и повстречался со многими людьми, но более другого запомнилось ему празднество, затеянное на Москве по случаю хотя и малых, но всё же побед над шведами. На Пожаре, на Балчуге москвичам давали кур в кашах, жареное мясо, для чего на больших вертелах тут же, на площадях, жарили туши бычков, и мужики большими ножами срезали подошедшие на огне куски; стояли распиленные бочки с медами и с водками, коробья пирогов с мясом, луком, рыбой, яйцами рублеными, капустой и всякой иной начинкой. Горой громоздились крендели, пряники, калачи. Народ хватал угощения, разноголосый гомон стоял над площадями, и не тут, так там мужики били каблуками в землю, пробуя себя в пляске, тянули носочком сапожка по пыли. Бабы взмахивали платочками. Московский народ повеселиться любил.
В Кремле, на Соборной площади, была устроена огненная потеха. Здесь Пётр Андреевич увидел Александра Меншикова с невероятно длинной шпагой на боку и шпорами необыкновенными на блестящих ботфортах; степенного Бориса Петровича Шереметева[14], улыбавшегося полным лицом на забавы; генерала Адама Вейде, знакомого Петру Андреевичу по Азовскому походу[15], рослого, широкоплечего, с лицом, рубленным саблей; Аникиту Ивановича Репнина[16]. Всё это были люди на виду, царёвы любимцы, но не это привлекло внимание Петра Андреевича. Он приметил особую уверенность в этих людях, ощущение каждым из них своего достоинства и значимости. Толстой знал Софьиных бояр, Софьиного фаворита Василия Васильевича Голицына, носившего звание оберегателя престола[17] и большого воеводы, Фёдора Леонтьевича Шакловитого, стоявшего над стрельцами[18], — в тех была кичливость, высокомерие, бахвальство боярством, родом, чинами. Василий Васильевич Голицын рядился в латы золочёные, венецийской работы шлем, похвалялся знанием латыни и неизменно ограждался от окружавших улыбкой презрительной, не сходившей с лица. Фёдор Шакловитый был нагл и дерзок. Влажно блестевшие под его усами зубы говорили всем и каждому: отойди — укушу, и укушу больно, а то и до смерти. Эти же были вовсе иными, и чувствовалось, их связывает одно — дело. Может, только начатое, трудное, от которого руки в мозолях и ссадинах, синяки болезненные и ушибы, и не ясно ещё, удастся ли их дело и приведёт ли к успеху, но всё одно — дело, которое сплотило этих людей и двигает их поступками и мыслями.
Царь зажигал потешные колеса с ракетами и шутихами. Он любил огненную забаву и, как только к тому представлялся случай, неизменно сам брал в руки запальный факел. Вот и сейчас он, стуча каблуками ботфортов, пробежал по площади, и за ним в небо вскинулись фонтаны огня, искр и дыма. Отступив наконец в сторону, царь запрокинул лицо кверху. В небе пылали красочные костры, отражались в широко распахнутых глазах Петра. Он повернулся к Толстому и гаркнул во всю силу лёгких:
— Виват, виват России!
Ракеты в вечернем небе трещали, лопались с громкими звуками, разваливаясь букетами необыкновенных цветов. И казалось, не было за плечами Петра Преображенского приказа, где свирепый человек Фёдор Юрьевич Ромодановский жилы из людей вытягивал, недавних казней стрельцов[19] Гундертмаркова, Чубарева, Чермного и Колзакова полков, что, снявшись с указанных им мест, пришли под Новый Иерусалим в тайной надежде воевать Москву и посадить на трон любезную им Софью.
На следующее утро Толстой выехал из Москвы. В передке кареты, для бережения укутанная в кожу и схороненная в ларце, лежала полномочная грамота, обращённая к султану. В ней говорилось, что сей посол направляется к его высокому лицу «…к вящему укреплению между нами и вами дружбы и любви, а государствам нашим к постоянному покою».
Как только посольский поезд выехал за Москву, объявилась ширь, дали раскрылись, окоём шагнул так далеко, что дух захватило. От белокаменной на запад, как на север и на восток, больше лежали тёмные леса да боры, но на юг хотя и здесь лесов было предостаточно, но всё же открывался простор и для глаза. Лето разгоралось, и травы, набравшие силу в поймах рек, по освободившимся от воды заливным лугам и на суходоле ложились под ветром упругой волной и волной же поднимались, лоснясь и играя под солнцем. В сказочно яркой зелени гривками, дорожками, кольцами, неведомо кем раскиданными, и синим, и жёлтым, и красным пылали цветы лугового чая и лугового шафрана, безвременецы, луговой руты и метлицы. Свистели, не смолкая, голоса степных ласточек и стрижей, кричал чибис.
Пётр Андреевич, по привычке всякого русского в дороге, хотел было привалиться в угол кареты да и поспать хорошенько с божьего позволения, но не смог. Загляделся на бьющегося в небесной выси жаворонка — пропасть жаворонков была в лугах — и раздумался. И вот ведь видел это приволье в Азовском походе, но, знать, не то недосуг в то время было, не то молодость глаза застила — не разглядел. Зато сей миг его будто ножом по сердцу резануло. Качал головой: «Ах, красота, красота несказанная». Итальянские дороги в памяти потускнели, тирольские горные луговины поблекли, австрийские реки поубавили в голубизне. А жаворонок сыпал и сыпал серебряной дудочкой, трепетал просвеченными солнцем крыльями, выше и выше уходя ввысь, да и затерялся в неоглядности неба, но голос его, проникающий в душу, гремел и гремел, нисколько не теряя в звонкости, переливчивости, полноте звука. «Богатство, богатство какое, — качал головой Пётр Андреевич, представляя, что и за видимой границей лежит такая же земля, которую впору ножом резать и с хлебом есть. — Где и какому народу такая земля дадена?! Нет такого нигде». И даже простонал, вспомнив сидение в воеводах в Устюге Великом. По Сухоне, по Северной Двине шла такая рыба, такие лососи, да так плотно, что течение забивало. Заторы образовывались, хотя бы и пеше по ним иди. «Да что лососи? А волжский осётр саженный? — Ив другой раз головой закивал. — А сибирская сторона: соболя по деревьям бегают, да сами деревья — ударь обушком, и оно звенит как медное». Пригорюнился Пётр Андреевич, закис за оконцем кареты: «А мы все в нужде, все из рвани не выдеремся». И крепко-крепко задумался: от чего бы такое? «Ленивы, ох, ленивы, — корил себя и других, но тут же и возражал: — Почему ленивы? Мужики вон как на земле ломаются, так и скотине не выпадает». И опять говорил: «Ленивы, бесталанны». Но и тут возражение было: «Глянь — храмы какие русскими людьми возведены. Изукрашены как — чудо! Любой иной страны человек рот разинет, изумившись. Знать, не бесталанны. Есть искра святая, горит в душе божий огонь». И вспоминал хотя бы и северных умельцев, что выковывали из железа и меди диво дивное, иконы писали так, что глянешь и будто глоток свежего воздуха вдохнёшь в затхлой нестерпимости суровой жизни. Ан думал и о том, что по деревням ещё и печи не научились класть, дома топили по-чёрному, пахали как и двести, и триста лет назад. «Так какой же он — русский человек, — вздыхал, — какой?» И вспоминал Азовский поход, штурм Азова. Боялись многие турецких янычар. Янычары были злы. Но ничего, обмялись мужики со временем и Азов тот взяли. Видел и такое Пётр Андреевич: сегодня тихий-тихий человечек — завтра, глядишь, в бою на нож бросился за товарища, смерти не убоявшись. «А ныне вот, — думал, — и шведа начали с божьей помощью ломать». Но и опять брало сомнение, горчинка являлась: «А мужик-то, мужик на Варварке как вопил, пена на губах закипала… Отчего? От дури единой? Так нет, во всём смысл свой есть. А люди как смотрели? Вспомнить страшно». Да тут же дьяк Емельян Украинцев вставал перед глазами. Русский ведь был человек Емельян-то, не голландец, не немец, боже избавь, нет — русский, а сказал: «…державе нужно…» Во как! В дороге российскому человеку поразмыслить — нет лучше, а Пётр Андреевич был натурой чисто российской и сто вопросов задал себе, сто ответов нашёл, но мысли бежали, бежали, и не было ему покоя. Ну да то ладно.
Филимон пощёлкивал кнутом, и кони прибавляли шаг.
«А брат мой, — думал Пётр Андреевич, — кровь ведь одна, а вишь как старине предался. Клещами не выдерешь её из него. Ну, мужик на Варварке — начётчик, старовер, он за единую запятую в «Апостоле» голову сложит, за двоеперстие в срубе сгорит, костяная башка, а брат… Нет и нет», — не находил Пётр Андреевич ответа. «Так какой же он, русский человек? — вновь задавал вопрос. — И в смелости ему не откажешь, и в работе горазд, смекалист, широк душой». И осаживал себя: «А жаден? Вот и поговорку поганую русский же придумал — пальцы-де у каждого только к себе гнутся. Это как?» Но было и возражение: «А иной расходится, разгуляется, всё расшвыряет, крест с себя снимет и отдаст другому. Есть ведь и такое». Да ещё и так прикинул Пётр Андреевич: «Вот ведь говорят: немец — расчётлив, англичанин — дисциплине привержен, итальянец — весел, а француз — легкодумен и амуром более других озабочен. А что же русский? Или в нём как в цыганском мешке всего натолкано — и шило, и мыло, уздечка, ремешок да и гвоздь, на случай, коли прибить оторванное придётся?»
Вздыхал Пётр Андреевич, душой надсаживаясь в нелёгких думах. А умаявшись, решил чисто по-российски: «Ничего, обойдётся». И тут вспомнил о русской песне, которая как ничто иное душу народа выдаёт. Консоны итальянские слышал и прелестью их проникался не раз, тирольской песне, с удивительными горловыми переливами, внимал, но, как только в памяти на слуху встала русская раздольная песня, дрогнуло в груди у Петра Андреевича, затрепетало, защемило томительной и сладкой болью. В ушах зазвучал неохватный разлив голосов, и непередаваемо прекрасные звуки ударили в самое сердце, подняли и повели вперёд в невыразимой боговой красоте, что хотя бы глаза закрой и замри в страдании. «Нет, нет, — подумал Пётр Андреевич, — чего уж, чего… Душой народ мой светел». И почувствовал, как поползла по щеке слеза. Да по-иному и быть не могло. Пётр Андреевич сопнул носом и, отвернувшись в сторону, отёр щёку жёстким рукавом камзола.
Колеса скрипели, наматывая вёрсты, и с каждым днём скрип этот становился заметнее и подозрительнее. Жаркое было лето, и возок Петра Андреевича рассыхался. В иных местах можно было и палец в щели совать. Пётр Андреевич вздыхал, перхал горлом, но и единым словом по поводу дорожных невзгод не обмолвился. Пыль в карете вилась клубом. Оно, конечно, возок можно было в пруд загнать да и дать постоять с неделю — глядишь, и дыры поменьше станут, и скрипы прекратятся, — но Пётр Андреевич поспешал, такого позволить не мог. А дорога всё летела, летела навстречу, уходя то в степное разнотравье, то ныряя за холмы, то теряясь в перелесках и дубравах.
Прелесть были дубравы. Вот уж истина — здесь, и только здесь могли родиться былинные предания о Соловье-разбойнике и Илье Муромце.
Наконец, в конце лета, взору открылся Днестр. Высокий правый берег белел меловыми уступами, поросшими колючим терновником да кривыми, ломаными акациями. Высоко в небе кружил над обрывами коршун, крутил головой. Уныло было вокруг, и до звона в ушах стрекотали в пыльной, жёлтой от палящего солнца траве голенастые длинноусые твари, которых ласковым словом кузнечик никак уж нельзя было назвать. Язык не поворачивался. Пугая лошадей, бурыми комками перекатывались через дорогу суслики. Кони вскидывали головы, спотыкались, дёргали карету, шли неровно.
Пётр Андреевич велел остановить поезд, сошёл на землю. Пристукнул каблуком, будто убедиться хотел, что под ногами земная твердь, а не опостылевшее трясучее дно возка, огляделся.
Подошёл подьячий Тимофей, взглянул страдающими глазами — вовсе умаялся за дорогу, плечи опустил. Лицо подьячего было серым от пыли, осунувшимся, только унылый нос — большой, переспелым огурцом — сохранял какую-то значимость. Нет, вовсе не похож был Тимофей на московского власть предержащего приказного, что выходил к люду, ступая широко, твердо, властно распахивал рот и вколачивал слова в кишащую перед крыльцом приказа толпу, как гвозди. Потерянность ныне просвечивала в каждой морщине, в каждой складке лица, и без гадания можно было сказать — мечтал в сию минуту подьячий лишь о холодной, со льдом, московской окрошке с забористым хреном, с кисленькой сметаной. Какая уж власть, какая сила? От пыли и тряски у подьячего горло перехватило, хотел было что-то сказать, но только вяло рукой махнул: «Пропадай-де всё пропадом». Носки сапог подьячего загребали пыль.
Пётр Андреевич, напротив, бойко шагнул к реке, зачерпнул ладонью днестровскую воду, ополоснул лицо и вовсе живыми глазами посмотрел на меловые откосы противоположного берега. От сей черты начиналось Валахское княжество[20], османские владения. Взгляд Толстого скользил по берегу, цепляясь за низкорослый кустарник, за чахлые купы акаций. Пётр Андреевич соображал: здесь, на берегу Днестра, посольство царское должно было ждать османского пристава, однако ни одной живой души Толстой ни у воды, ни на высоком берегу не приметил. Подьячий запалённо дышал в спину. Пётр Андреевич покашлял и велел немедля варить в котлах, что бог в дороге послал. Так решил: оно лучше, конечно, ежели бы здесь стол пышный с жареным барашком ждал, — наслышан был, что турки в этом не дураки, — однако и от иной пищи, посчитал, отказываться не след.
Какая ни есть еда, но всё одно она и сил, и бодрости прибавляет, и, хотя говорят, что не хлебом единым жив человек, но, пожевав сухарь, всё же веселее.
Филимон с солдатами вмиг натащили плавника, навесили котлы, и через малое время на берегу потянуло сладким дымком и не менее сладким духом поспевавшего варева. У посольских ноги заходили шибче. Даже подьячий Тимофей лицом посветлел. В котлах побулькивало. Не прошло и получаса, как посольские хлебали из котлов, дружно постукивая ложками. Пётр Андреевич сидел чуть поодаль от других на раскладном походном стульчике и с неменьшим удовольствием, чем попутчики, похрустывал недоваренное пшенцо, однако довольно сдобренное и сальцем, и лучком, и чем-то ещё, духовитым и приятным, ведомым лишь кашевару.
Днестр по-прежнему мощно катил воды. Но пахнуло свежим ветерком, и днестровские волны покрылись рябью, потемнели. Солнце садилось. Противоположный берег всё же был виден, и Пётр Андреевич первым разглядел взметнувшееся далеко в степи пыльное облачко. Нимало не торопясь, Пётр Андреевич передал миску Филимону, вытер губы тряпицей и, приказав всем принять приличный вид, сам приободрился, припустил из рукавов кружевца, встал с походного стульца. Между тем облачко на противоположном берегу приблизилось настолько, что стали приметны всадники, погонявшие коней.
— У-гу, — сказал Пётр Андреевич и бодренько прошёл по берегу несколько шагов, повернулся и пошёл в обратную сторону.
Надо заметить, что ноги он ставил чуть раздвигая носки, однако не по-рабьи, отяжелев от нужды носить непосильные тяжести, но чуть пританцовывая, весело, что говорило и об избытке сил полноватого ладного его тела, и о лёгкости нрава.
Всадники крутились уже у самого среза берега. Из бухточки, скрытой кустами, просунулась лодка, и в ней объявились гребцы. Всадники сошли с коней и, поспешая, спустились к лодочке» Гребцы замахали вёслами. Но это оказались не те люди, которых ожидал Пётр Андреевич. И такой оборот сильно озадачил Толстого. А оно бы и кто хочешь озадачился, а Пётр Андреевич только вступал на посольскую службу и, понятно, задумался. Навстречу царскому посольству к берегу Днестра прискакал не турецкий пристав, представляющий османского султана — как то было оговорено, — а люди валахского господаря. А это было вовсе иное. Пётр Андреевич губы собрал морщинами, наморщил лоб и, что всегда свидетельствовало в нём о крайней озабоченности, прикрыл глаза полуопущенными веками. В посольской службе, как научен был Толстой, ошибок не должно было случаться. Здесь каждое слово в строку надобно. А нет — так даже и исправленное, ежели не сегодня, так завтра скажется, как ремешок чинёный в лапте, который обязательно не в один день, так в другой ногу намнёт и ходу не даст.
Валахский воевода, низкорослый, необычайно живой, подвижный, выйдя из лодки, засуетился, блестя чёрными глазами и ослепительными в улыбке зубами. Велел своим слугам расстелить яркий ковёр, из лодки достали большие сумки, и без промедления ковёр был уставлен хотя и недорогими, но вместительными блюдами с весьма соблазнительными яствами. Зазвенели кубки, и объявились немалые мехи с вином. Пётр Андреевич всё медлил, соображая, как быть?
Валахскому господарю Россия всегда выказывала приязнь и дружеское участие. В этом сомнений у Петра Андреевича не было. Османы разоряли Валахию, и Россия десятилетиями помогала единоверным братьям за Днестром мягкой рухлядью, деньгами и оружием. Посылались за Днестр и церковные ценности. Однако ныне Толстой ехал в Стамбул для непременного заключения прочного и надёжного мира и никак не хотел, чтобы сей пир на берегу Днестра, хотя бы и в самой малой степени, мог отрицательно повлиять на успех его похода. А то, что глаза турок в валахских землях каждый уголок обшаривают, Пётр Андреевич, при всей своей неопытности в посольских делах, представлял очень хорошо. Валахский же воевода, едва сдерживая гнев и обиду, говорил о несносных убытках и всеконечном разорении, которые несут его земле турки. Пётр Андреевич, размыслив, решил так: хлеб преломить с единоверными братьями, однако в разговор злой о турках не вступать. Посольскую осторожность выказал.
Между тем стемнело. Днестровские воды отодвинулись в сторону, и темнота, вовсе не российская, накрыла берег. Яркими всплесками горели костры, и из ковыльной дали наносило на сидящих вкруг на ковре незнакомыми Петру Андреевичу запахами трав, пряным духом, прогретой солнцем, твёрдой, как хрящ, от веку не знавшей плуга степной земли. «Дрр-др-др, пи-пи…» — задёргала, заскрипела горлом, нежно запищала, казалось, за спиной какая-то птица. Огонь костра странно и тревожно освещал тесно сидевших людей. То вдруг высвечивалось ярко лицо того или иного с необычайно высветлявшимися пламенем глазами, то рука с кубком объявлялась взорам да тут же и уходила в тень, то жгуче-черный ус соседа, спадавший низко, случался перед глазами во всей своей красе или выступала в свете костра грудь, расшитая шнурами. Разговоры становились всё горячей, наливаясь страстью и нетерпением. Боль жгла валахского воеводу, и он, яростно взмахивая рукой, жаловался на бессилие перед османами. Прижимал пальцы к груди, призывал Толстого показать к валахскому господарю любовь и ко всей валахской земле милость.
— По должности христианской, — говорил, — видя наше, христиан, от басурман разорение и утеснение, не чинил бы ты обиды нам и в приставы себе турчан не требовал.
Пётр Андреевич больше на те речи молчал, но слушал внимательно.
Валахский воевода пояснил, что приставы османские при своём проезде к Днестру возьмут с христиан великий бакшиш за посланничий корм.
— А у нас и так беда, посевы пожгло засухой.
Пётр Андреевич вздохнул, перекрестился да и порешил так: турок у Днестра не ждать, идти к Дунаю. Великую брал на себя ответственность, но по-иному не мог. Уж очень не хотел быть причиной досады для единоверцев. Да и знал, что у россиян с испокон веку здесь правилом было: можешь помочь — помоги.
Османский пристав встретил Толстого у Дуная, взмахнул рукавами халата, растёкся в улыбке, рассыпался в извинениях, что не поспел к Днестру и не смог приветствовать высокого царского посла у Сороки. Торопился в словах:
— Послу чинено будет великое почтение и довольство паче всех прежде бывших послов.
И всё приступал, приступал к Толстому, тесня его великим чревом.
Толмач не поспевал за его сбивчивой речью.
— Паче и паче, — повторял раз за разом, вертя птичьей головой.
Горбоносый и курчавый, видать, был толмач из греков, и слова слетали с его губ и похожие на русские, и вовсе бы непохожие. Щебетал толмач, как скворец, что и знает слова, но всё одно они ему чужды.
Пристав прижимал ладони к груди, топтался по-гусиному на месте, мел полами халата пыль. Сопровождающие его люди тоже улыбались и кланялись, но Пётр Андреевич в их сторону и головы не повернул. Губы у пристава были сочные, налитые, и без слов становилось понятным, что любит сей человек покушать хорошо, на боку полежать достаточно и многое другое из сладкого ему весьма любезно. Глаза турка изливали восторг. На чалме, переливаясь в солнечных лучах, посвечивала капелька жемчуга.
Пётр Андреевич, однако, был строг. Ничто не дрогнуло в его лице, губы остались постны. Но всё, что должно было сказать при встрече, он сказал, как поклониться следовало — поклонился, ан тут же и выпрямился и, грудью осанисто отвердев, попросил настоятельно далее не мешкать и сопроводить его без промедления в Адрианополь, где находился тогда султанский двор. Пристав опять было разлился речью о почтении и довольстве, которое будет оказано царскому послу, но Пётр Андреевич и тут показал суровость и непреклонное желание как можно скорее предстать перед взором султанского величества. И именно тогда впервые Толстой понял, как важно для посла улыбнуться вовремя или губы в строгую нитку вытянуть, как того случай требует. Пристав заспешил, засуетился, замельтешил, и Пётр Андреевич подумал, что турок-то попался ему немудрёный. Жемчуг на чалме пристава погас, будто смутившись неловкости хозяина. На дальних холмах за дорогой играло марево, прогретый нестерпимым солнцем воздух вздымался волнами, опадал и вновь, вспучиваясь, поднимался кверху. Холмы были безлесны, желты и до пронзительности неродные в этой безлесности и желтизне для российского глаза.
Неожиданно объявилось, что пристав немалое время торговал в Венеции, весьма способно говорит по-итальянски, и горбоносый и бестолковый толмач в общении между ним и царским послом не так уж и надобен. Пётр Андреевич пригласил турка в свою карету. Кони тронулись и побежали неспешной рысцой. Пристав, выказывая чрезмерную словоохотливость, сообщил Толстому, что Адрианополь — название греческое, пришло из старины, а они сей город называют по-турецки — Эдирне. Тут только Пётр Андреевич приветливее губы сложил и тем подтолкнул пристава к дальнейшим рассказам. Тот сыпал слова, как грибы из лукошка. И всё рассказывал и рассказывал о том, что возделывают на этой земле, какие водят отары овец, как выращивают для иных мест невиданно крупных буйволов. Говорил, что хорош здесь табак и, как нигде, сладок лук. Пётр Андреевич незаметно подвинул его к другим рассуждениям. Спросил о султанском дворце, о котором-де вельми наслышан. Пристав подкатил глаза под лоб, защёлкал языком:
— О-о-о… Эски-Сарай! Это сладостная, как горный мёд, сказка…
И он восторженно стал описывать фонтаны, залы и причудливые дворики дворца султана. Да тут же и рассказал о величественной мечети Селимие, о множестве других мечетей, вскинувших над городом главы минаретов.
— Слава аллаху, — гордо сказал пристав, — мусульманину есть где преклонить колени в Эдирне!
Выпятил сочные губы.
— А как же греки, — спросил Пётр Андреевич, — как их молитвенные дома? Как живут они под властью султана?
Пристав без одухотворения признался, что греков здесь не любят. Покачал головой не то в раздумье, не то от тряски кареты. А дорога и впрямь была дурна и камениста, кони шагали с трудом, но Пётр Андреевич о том нисколько не жалел. Будь по его, так камней на дорогу ещё и более следовало подкинуть. Невзначай спросил пристава — чьих держав посольства в Эдирне представлены. И тот с охотой сообщил, что посольские подворья — в Стамбуле, однако когда султан и двор его переезжают в Эдирне, посольство аглицкое, как и французское, перебираются следом, и то немало им, приставам, доставляет хлопот. Лицо Петра Андреевича всё более и более становилось приветливым. Можно было и так сказать: ежели судить по оживлённому блеску глаз и мягкости излома губ — за короткий путь, проделанный с приставом, — он вроде бы стал ему родным дядей.
Не торопя, не понуждая к ответам настойчивостью, Толстой расспросил пристава о привычках послов, об их друзьях и недругах, об известных приставу помыслах англичан и французов. Поинтересовался, есть ли в городе товары аглицкие и французские, часто ли наезжают купцы из сих стран. Поправляя неловкость со встречей, пристав наговорил много и того, о чём след было и помолчать. А оно всегда так бывает: ошибётся иной и уж так заспешит-заторопится исправить глупость, что, глядишь, ещё и пуще дури наворочает. Вот и с приставом такое случилось. Из дорожного разговора Петру Андреевичу стало ясно: мнение, сложившееся в Москве, что здесь, на юге, опасность зреет для державы Российской, и опасность злая, — подтверждается.
Англичане, голландцы, негоцианты иных европейских стран успешно торговали с Россией. На туманном рейде и у бревенчатых причалов Архангельска стояло по десятку и по два судов под различными флагами. Русский лес, кожа, ворвань, полотно с успехом шли на европейских рынках, и не один негоциант обогатился, перепродавая российские товары.
— О-о-о, — растягивали в улыбке губы купцы, — русский товар!..
И глаза биржевиков в ганзейских торговых городах или в Лондоне вспыхивали жадно. Но там же, листая страницы гроссбухов, понимали: пробьётся Россия к морю и русские сами повезут лес, пеньку, ворвань, кожи морскими дорогами. Но этого-то и не хотелось. Ох, как не хотелось… И здесь, вдали от туманного Лондона и мрачного Стокгольма, на берегу сияющего Босфора, можно было завязать крепкий узелок, который бы сильно затруднил путь петровским полкам к Балтике. А то и вовсе не позволил им воевать море. Да оно чаще всего так и бывает в делах межгосударственных: пушки палят вовсе не там, где выкатывают их на позиции. Не там…
Столь важный разговор с приставом, сложившийся случайно, счастливой случайностью и остался. Дальнейшее в Адрианополе ни в коей мере не споспешествовало успеху царёва посольства. Султан Толстого не принял.
У руин древнего храма святой Софии, видевшего лучшие годы Адрианополя, кишела горластая толпа. Мелькали разноцветные фески, проплывали величественные чалмы, пёстрые халаты поражали глаз яркостью красок. Восточные люди, обливаясь потом, жарили на больших противнях куски шипящего мяса, приправленные острейшим перцем, брызгал обжигающими искрами жир. Из многочисленных кофеен нёсся пьянящий запах кофе. Тут и там громоздились пирамиды жёлтых груш, розовобоких яблок, истекающего сладким соком инжира и до кружения головы благоухали горы не виданных россиянами трав, годных для приправы к любому блюду. На древних осколках мрамора, на поваленных колоннах купец в расстёгнутом халате, из ворота которого выглядывала волосатая грудь, расставлял медные, прозеленевшие чашки. Хлам, неведомо кому потребный. Но были здесь и бесценные чеканные блюда из Египта и Алжира, кубки чудной работы венецийских мастеров, тунисская, тиснённая золотом кожа, иранские ожерелья из драгоценного розового жемчуга. Стучал, оглушительно бухал где-то, не умолкая, барабан и заунывно тянула зурна.
У Петра Андреевича пёстрая круговерть рынка вызывала палящую изжогу. Но не только восточная пестрота красок была причиной скверного самочувствия царского посла. Султанские чиновники с Толстым были ласковы, но разводили руками: султан принять его не может.
Накануне приезда российского посла умер визирь, новый же визирь ещё не был назначен. По сложившейся традиции, прежде султана посол должен был предстать перед главой правительства, а это в силу обстоятельств было невозможно. Чиновники цокали языками, в изнеможении подкатывали глаза, прижимали руки к сердцу: — Ай-яй-яй… И всё. Хоть тресни. Солнцеподобный и несравненный посла российского не принимал.
Толстой отстранил тянущегося к нему дервиша с красными, воспалёнными веками, шагнул к торговцу, разложившему товар на древних камнях храма святой Софии. Протянул руку к медной чашке и замер. Рядом с прозеленевшей медью, на горячем камне, сидела серо-зелёная ящерица. Неподвижные глаза её с презрением были устремлены на толпу. Чуть приподнятая треугольная голова была каменно застывшей и выражала только одно: всё, что зеркально отражается в её слюдянисто-блестящих глазах, — суета сует и всяческая суета. Они уже многократно видели это, как видели огонь и дым пожарищ: люди убивали друг друга и на залитых кровью камнях вновь расцветала жизнь. Величие мира всходило над этими землями, и вот на же тебе — прозеленевшая медная чашка на битом мраморе и потный под халатом купчишка-турок. Глаза ящерицы медленно прикрывались полупрозрачными веками… Холодок прошёл через всё тело Петра Андреевича, но он взмахнул рукой, и ящерица юркнула в трещину меж камнями. Толстой, кряхтя, нагнулся, взял чашку, повертел в пальцах. «Да, всё было, — подумал, — и надо уметь ждать». Опустил чашку на камни, она тонко звякнула. Он понял — ему не пробить ворота чиновничьей крепости и следует искать иных путей. Он даже улыбнулся: «Сия фортеция должна быть осаждаема с прорытием апрошей и шанцев, коль фронтальному штурму не подлежит».
В тот же день подьячий Тимофей по поручению Петра Андреевича отыскал в Эдирне купца Савву Лукича Владиславовича, о котором Толстому стало известно ещё в Москве. В Посольском приказе говорили: «Это человек надёжный. Много знает и россиянам готов помогать».
Посольство охранялось. Янычары были поставлены вкруг двора, но они больше спали на гнилых ступеньках дома — двор посольству отвели худой, вот-вот готовый рухнуть, — чем несли службу. Изредка, лениво переваливаясь с боку на бок, шлёпая туфлями без задников, ходили вокруг дома, поглядывали на окна, но тут же, утомившись, опять садились на ветхие ступени крыльца или прятались от солнца под чахлым кипарисом, росшим на камнях посреди двора. Пустое это было дерево, по мнению россиян, — кипарис. Ни ствола путевого, ни ветвей развалистых, ни листвы… Так, торчит пыльный веник, а к чему его приспособить можно — неведомо.
Пётр Андреевич сказал Тимофею:
— Предупреди Савву Лукича, что встрече лучше быть в какой-нибудь кофейне или в крайности у него в доме.
Тимофей поклонился и вышел из палаты. Пётр Андреевич вздохнул: «О-хо-хо…» В духоте палаты ждать было невмочь. Пётр Андреевич поднялся, пошёл по тем же, что и Тимофей, скрипучим ступеням. Один из турок поднял голову, но Пётр Андреевич пренебрёг. Загребая пыль, шагал вокруг подворья. Остановился, глянул на домину: облезлые, серые камни, растрескавшиеся дощечки галерей и лесенок и над всем этим срамом, как лужёный таз, без единого облачка, голое, бесцветное небо… Пётр Андреевич не выдержал, плюнул. «Курятник, — подумал, — истинно курятник… Эх, османы, великие османы… Вам бы наше узреть». И перед глазами встала могучая изба, рубленная из кряжей, гонтовая крыша, что на века сработана, над ней краюха неба синего-синего, и в нём стая горластого по морозу воронья. И так захотелось вдохнуть всей грудью морозца, что Петра Андреевича пронзила боль. И тут же, словно высеченная этой болью искра, пришла мысль о том, что кто-то неведомый постоянными отговорками, оттяжками султанских чиновников выигрывает мгновения, минуты, часы и дни, быть может, страшные для России, а он, как во сне, тянет руку и никак не может дотянуться до опоры, которая бы помогла ему в деле, для которого он и приехал сюда. Пётр Андреевич посмотрел на мотающийся под горячим ветром кипарис, на известковую пыль, завивающуюся по двору, на невесть откуда забредшую сюда жёлтую плешивую собаку и не выдержал, плюнул в другой раз. Но видно, дабы поддержать Толстого в душевном смятении, выпала и ему радость в тот же день.
Савва Лукич оказался громкогласным, с ядрёными зубами в белой бороде, большеруким мужиком, от одного взгляда на которого у Петра Андреевича потеплело в груди. И ему стало так хорошо, словно он, оказавшись на Варварском крестце в Москве, встретил старого знакомца.
Савва Лукич сказал, что Петру Андреевичу кручиниться нечего. Дело поправится. Султанские чиновники, рассказал Владиславович, народец чванливый, мздоимцы великие и более, чем чиновники в иных странах, привержены сложившимся правилам и на шаг в сторону от заведённого не отступают.
— Нельзя вперёд визиря у султана быть, — сказал он, — так, значит, так и станется. В этом их не свернёшь. Но у посла, чай, немало других забот? В том я и помогу.
И в другой раз показал ядрёные зубы, свидетельствующие и о здоровье добром, и о нраве лёгком, ибо раздражение и неприязнь в людях происходят ежели не от несварения желудка, то непременно от иной какой хвори.
Недели не прошло, как у Толстого объявилось множество знакомцев и приятелей, а такое в посольской службе — дело великое. Послу, дабы должность исполнять исправно, знать надо многое. Посол своей державе полезен тогда лишь, когда для него двери, и явные и тайные, при дворе, где он представлен, открыты. На Петра Андреевича возложена была задача Османскую империю от войны с Россией отвратить. А это означало, что надобно вызнать настроения при султанском дворе. Найти людей, которые определяли движение османской стороны. Выявить, пуста ли казна османская или есть в ней золото, без которого не то что на войну — на базар не пойдёшь. Узнать о состоянии войска, его способностях к ратному подвигу. И в том Савва Лукич оказался работником вельми полезным.
Уперев кулак так, что белая борода его развернулась веером, он неторопливо повёл Петра Андреевича по запутанной дорожке настроений и интриг султанского двора.
— Так-так, — поддакивая, поспевал за его словами Толстей, — так-так…
Савва Лукич отнял кулак от лица, огладил бороду и, неожиданно остро взглянув в глаза Петра Андреевича, спросил:
— А как у царя Петра дела воинские?
И в его голосе прозвучала такая заинтересованность, такая надежда на российский успех, что тут только Толстой до конца понял, почему усерден Владиславович в старании быть полезным послу России. Голос Саввы Лукича выдал, что он — серб и христианин — смотрит на державу Российскую, как на великую надежду освобождения балканских христиан от непосильной муки туретчины.
Хозяин кофейни, перемывая чашки, бубнил что-то под нос да нет-нет отмахивался от липнувших к потному лицу мух. Ему не было дела до двух иноземцев, по воле аллаха забредших в пустующую кофейню. Пускай сидят подольше и — аллах велик — попросят ещё кофе и сладостей. Глаза у турка были как две прокисшие сливы. Нос свисал уныло.
Толстой выпрямился на стуле, помолчал и, подумав достаточно, сказал с откровенностью:
— Дела российские во многом от наших стараний зависеть будут.
Савва Лукич ловил каждое его слово.
— России и царю Петру ныне великой помехой, коли не бедой явной, может стать нечестная игра здесь. — Толстой постучал пальцем в стол. — Подстрекаемые недругами нашими, боюсь, как бы османы заключённого мирного договора не нарушили.
Лицо Саввы Лукича стало строгим.
Хозяин кофейни, приняв стук пальцем по столу за приглашение, подскочил к гостям, но по выражениям лиц уразумел гололобый, что им в сей миг не до сладостей. Отошёл, и чашки вновь заскользили в его ловких пальцах.
Тогда же объявились у Петра Андреевича в доброхотах иерусалимский патриарх Досифей, его племянник Спилиот, консул Рагузинской республики, серб Лука Барка.
Пётр Андреевич писал в Москву: «Приятели, государь, господина Саввы весьма усердно работают в делах великого государя, и воистинно, государь, через них многие получаю потребные ведомости, понеже чистосердечно трудятся без боязни и от меня заплаты никакие не требуют, ниже чего не просят».
Толстой положил перо, помедлил. Он был удовлетворён, знал, что ныне должность исполняет достойно, и это было для него главным. Потёр усталые глаза и, задержав пальцы на переносице, долго сидел так, зажмурившись, отдыхая от трудных мыслей.
Во дворе раздался шум, возбуждённые голоса нарастали. Толстой отнял руку от лица, поднялся, вышел на галерею.
Филимон, вкативший во двор тележку с базара, кричал, наступая на чюрбачея — старшего из янычар. Тот что-то возражал, побагровев лицом. Толстой не торопясь спустился с лестницы. Филимон бросился к нему.
— Вот посмотри, — закричал, — Пётр Андреевич, посмотри, на что похоже? Как приволоку съестное, он тут как тут… И хапает самое лучшее… Нет бы что поплоше… Самые добрые куски выбирает…
Подле янычара, на серых камнях двора, стояла корзина, полная мяса, фруктов и зелени. Чюрбачей таращил глаза, сокрушённо разводил руками, булькал непонятное, но Пётр Андреевич разобрал: «бакшиш» и «аллах акбар». Строгие морщины прорезали лоб Толстого, лицо нахмурилось, и он, подступив к турку, сказал:
— Аллах, конечно, велик. Спору нет, но вот с бакшишем ты, братец, перехватил, — развёл руками, — больно жаден, жаден!
— Вах-х-х, — выдохнул чюрбачей и откачнулся, сел на пятки. В лице его объявилась растерянность.
Пётр Андреевич повернулся к Филимону, ткнул пальцем в корзину.
— Забери, — сказал, — но тоже понимать надо… — неопределённо пошевелил поднятой рукой.
Кашлянул, выпятил губы недовольно, пошёл вверх по ступеням.
В Москве стояла зимняя непогодь. В улицах ветер гнал режущий лица, игольчатый снег, переметал дороги порошей, стучал в оконные ставни. Плоха была погода, самое что ни есть ненастье, когда веет и крутит, рвёт и снизу метёт. Кони, тянущие тяжело груженные сани к Мытному двору, шли, мотая обмерзшими инеем мордами, дыхание рвалось из лошадиных ноздрей серым, клубящимся паром. Шипы подков крошили, драли крепкую наледь дороги, оставляя злые рваные следы. Воробьи, нахохлившись, сидели за застрехами и не спешили к горячим лошадиным яблочкам. Топорщили перья, всем видом выказывая: «Оно бы неплохо поклевать, но пущай его… Ишь дует! Сколько склюёшь — неведомо, но настынешь до дрожи точно. Подождём».
В передках саней, пряча ноги под овчину тулупов, горбились мужики, едва выказывая нахлёстанные ветром глаза из обросших инеем воротников. Неуютная была погода, а ежели прямо сказать — беда.
В эти дни царь приехал в Москву, оставив в только что взятом на шпагу Шлиссельбурге гарнизон под командованием Александра Меншикова. Дорога — снежная, ухабистая — утомила Петра, и он перед самым въездом в Москву задремал, приткнувшись в угол возка и натянув до глаз медвежью полость. Во сне хрипел простуженным горлом, дёргал ногой, и чувствовалось — нездоров, вовсе нездоров. Отросшая за дорогу борода обмётывала подбородок Петра грязным налётом. Макаров, сидевший рядом с царём, поглядывал на Петра настороженно: не нравилось ему и то, что хрипит Пётр, и то, что ногой дёргает. Думал: «Простужен зело да как бы и не слёг». А такое, знал, было не ко времени. У глаз Макарова собирались морщины. Когда стали въезжать на бугор к Пожару и кони, поскальзываясь и спотыкаясь, вовсе задёргали возок, Пётр проснулся. Сопнул по-ребячьи носом, заворочался под полостью и, качнувшись вперёд, потянулся к оконцу. Увидел Кремлёвскую стену, забитую меж зубцами снегом, башенные шатры и на них чёрные комья воронья. Ветер сбивал с крыш белую метельную взметь. Глянул в другое оконце: за схваченной инеем слюдой летели в низком небе кресты Василия Блаженного.
Пётр откинулся на сиденье, сказал глухим после сна голосом:
— Вели поворачивать в Преображенское.
Макаров тотчас толкнул дверцу и, морщась от бьющего в лицо снега, закричал солдату на облучке:
— В Преображенское! В Преображенское!
Солдат, скособочившись, глянул на него и, не понимая, мотнул башкой.
— В Преображенское! — повторил, надсаживаясь, Макаров. Солдат, отворотив на сторону коробом торчащую шапку, наконец услышал и кивнул царёву секретарю: есть-де, есть, уразумел.
Макаров захлопнул дверцу и стал обирать с мокрого лица снег. Пётр засмеялся коротким, фыркающим смешком, который всегда свидетельствовал о хорошем царёвом настроении, но было непонятно, чему он засмеялся: то ли Макаров, моргавший смущённо, насмешил его, то ли рад был возвращению в белокаменную. Но говорили, царь-де Москву не любит. А это было неправдой.
Пётр Москву любил, и особенно любил утренний город, когда едва-едва рождался над белокаменной день и Москва открывалась из царёвых палат в Кремле улица за улицей, объявлялась из застивших взор сумерек налитая небесной синью река. А ежели в такой час случалось Петру распахнуть окно, то в лицо ударял столь бодрящий, настоянный на запахах печёного хлеба дух, что грудь щемило болью. Не заглядывая в дома, мыслью легко можно было увидеть: избяную тесноту, зев печи, по локоть обнажённые женские руки, подающие на под каравай. И Пётр всей душой любил низенькие, тесные палаты с нависающими над головой потолками, с жаркими печами, к кирпичам которых можно было прижаться вот так, с дороги, с мороза, и вобрать в себя разом доброе, мягкое тепло, чтобы все косточки сладко заныли. Но особой приязнью царя в Москве было Преображенское. Здесь всё было Петру дорого: старый дворец со множеством ершистых бочек и полубочек над крышами, необыкновенные, с развалистыми перильцами крылечки, тихая Яуза, катящаяся по светлому песочку. В саду, в пронзительно ясные осенние дни, на каждой травинке сверкали прозрачные капли росы, на крыше дворца коралловым пожаром загорались увядающие листья плюща. А ещё виделось из детства: смешной ботик под парусом, вдруг шибко зажурчавшая за кормой вода, слепящие солнечные блики на рябившей под ветром стремнине. И он засмеялся, вспомнив неожиданно тот ботик, на котором когда-то хотелось ему уплыть в сказочную даль.
Солдат развернул возок посреди площади и погнал коней в Преображенское. В передок дробно застучали комья снега.
«Ботик, ботик, — подумал Пётр, сохраняя на лице мягкую приветливость, — ботик…» Да, у царя, помимо радужных детских воспоминаний, были сей раз и иные основания для радости. Ботик, солнце на воде — это так, минута, миг быстролётный. Ныне шведа много крепче прежнего побили в Лифляндии в нескольких сражениях и паче того — взяли крепостцу Нотебург у Невы. Стены твердыни были могучи, и к тому же располагала крепостца сильной артиллерией. Взять такую было непросто. Однако вот взяли. Петру всё ещё виделось: штурмовые лестницы, белый пороховой дым, выплески огня из пушечных стволов. Комендант гарнизона, гордец надменный, на предложение русских перед штурмом сдать крепость на способный договор ответил залпом из всех пушек. Однако через тринадцать часов непрерывного штурма, когда русские в двух местах. проломали стены и дрались в проломах, горнист на башне протрубил сдачу. Рыдающий звук трубы едва пробился сквозь угрюмый рёв охватившего крепость пожара, хлопки выстрелов, звон колоколов. Комендант с дрожащими губами — именно эти дрожащие губы более другого запомнились Петру — протянул шпагу эфесом вперёд. Манжет комендантского мундира был разорван, рука перепачкана кровью и сажей. Да, Пётр мог быть довольным.
Сани повернули к дворцовым воротам. Выносная кобылёнка, разбежавшись и не то шаля, не то по молодости не соразмеряя шаг по ледяной зимней дороге, и раз, и другой ударила подковой в оглоблю.
— Ишь спешит, — сказал Макаров, обращаясь лицом к царю.
Но Пётр на то ничего не ответил. Видать, думал о своём и слов секретаря не услышал. Стоящий у въезда во дворец солдат, узнав царёв возок, вскинул ружьё на караул с такой поспешностью, словно его в зад шилом ткнули. Набычил лицо, выкатил глаза. Возок промахнул в ворота и, широко заезжая по кругу, остановился у крыльца. Тут же сильная рука толкнула дверцу изнутри, и царь Пётр, выставив ногу вперёд, полез из возка. Выпростался, утвердился ботфортами на снегу, закинул руки на поясницу и, морща лицо и топыря усы, разогнулся, откинувшись плечами назад. Вот и привычен был к дороге, но намял спину. Глаза царёвы смотрели с удовольствием на дворец, на ребристые коньки, на шатром нависавшую над парадным крыльцом крышу. Как знак особого привета над одной из труб вился, сбиваемый ветром, синеватый дымок, стекал с крыши, и в ноздри царёвы ударило хорошим духом берёзовых, добро просушенных дров. Глаза царя и вовсе заблестели радостью. Но стоял он перед дворцом мгновение. Качнулся и забухал крепко окованными каблуками по ступеням. Не любил выказывать чувств, считал это слабостью.
Как только за царём захлопнулась дверь, из-под лесенок, из многочисленных пристроечек выглянула одна баба, другая, пробежал мужик, высоко поднимая ноги, затормошились, забегали иные люди. Вот ведь как — тишина была, безлюдье, на запорошенном снегом дворцовом дворе и следочка не угадывалось, а тут враз испятналось белое покрывало тропочками, тропинками, санные следы пролегли широкой дорогой и в предсмертном визге зашлась за сараями свинья, заполошно заквохтали куры, перо полетело по ветру. Что ж, дело известное: хозяин в дом — и каждому заботы нашлись.
С дороги Пётр сходил в мыльню и сел за стол, ещё красный лицом после парной. Не особенно разбирая, что попадается под руку, поел, как всегда торопливо, и, отсунув от себя блюда, набил трубочку табаком, затянулся дымом, прикрыл глаза. И вот эта-то минута и была, наверное, единственной, которую он позволил для души. Но дымок растаял над столом, и Пётр поднялся. Сказал Макарову:
— Вели возок закладывать.
С того часа царя закружило по Москве.
Пётр понимал: удача под Нотебургом — только передышка. Карл шведский, посчитав, что русских под Нарвой он свалил надолго, оставил в Прибалтике корпус Шлиппенбаха, а основные силы своей армии увёл в Польшу. Ныне короля польского — как доносили Петру — шведы травили, словно зайца. Да иного и ждать было нельзя, так как Августа более занимали пиры, охоты да польские красавицы[21]. Военные же заботы — считал сей монарх — не для него. Он сражался за столами, с кубком в руках. Вот здесь он был великолепен. Распахнутые женские глаза млели от восторга видеть столь достославного мужа. «Ах!» — и лёгкий вздох вырывался из пылавших от возбуждения, как кораллы, обворожительных уст…
Было ясно: Карл, не знающий иных радостей, кроме радости битвы, через месяц, другой раздавит это ничтожество, Августа, как гнилой орех. А что тогда? Куда повернут штыки железные Карловы батальоны? Ответ напрашивался один — в Россию. Так что Нотебург — вот тебе и виктория! — приближал час, когда Карл бросится добивать, как он говорил, «российского медведя». Нужны были новые полки, порох, пушки, запасы продовольствия и многое другое, что позволило бы противостоять Карлу. Нужны были деньги. За этим Пётр и прискакал в Москву.
Первым, с кем повстречался царь, был князь-кесарь Фёдор Юрьевич Ромодановский. Ему, как немногим в Москве, Пётр доверялся полностью. Князь-кесарь сидел, уперев руки в толстые колени, наваливаясь грудью вперёд. Бритое лицо было тяжёлым, неподвижным, но глаза, нет-нет, а показывающиеся из-под опущенных припухлых век, светили живым. И было ясно, что всё он понимал с полуслова, а то и так, без слов, заглядывал в самую суть.
— Август, Август, — повторил он, — ну, что ж, Август. Подол бабий и не таким как он, свет застил.
Качнулся на лавке, глянул на Петра.
Царь сорвался со стула, пробежал по палате. Князь-кесарь следил за ним неторопливым взглядом.
— Бабы, бабы! — выкрикнул Пётр. — Ну, сегодня, завтра, а дело!
В глазах Ромодановского что-то изменилось, они высветились, но не насмешкой, а, скорее, неким превосходством человека, прожившего большую жизнь перед тем, кому эту дорогу длиной в годы ещё предстояло пройти.
— Эта слабина, — сказал он, — коли есть в человеке — то надолго. — И хекнул утробно, заколыхав телом: — Кхе-кхе… Ну, ладно, с этим покончим.
— Деньги нужны, — сказал Пётр и резанул ладонью по горлу, — во как! Без денег не выстоять весной. Карл, печёнкой чую, повернёт все силы на нас.
Ромодановский молчал, только смотрел на царя.
— К весне Август со своими хвалёными саксонцами вовсе развалится. Что молчишь, дядя? Говори!
— Слушаю, — ответил неспешно Фёдор Юрьевич, — слушаю.
— Так как? Что присоветуешь? — спросил Пётр.
Лицо Фёдора Юрьевича, крупно, глубоко резанные на нём морщины, густые, могучие брови, нависавшие козырьками, было неподвижно. Да и весь он — тяжёлая фигура, руки, положенные на колени, подавшиеся вперёд плечи — стыл в грузной недвижимости. И показался Ромодановский Петру тем каменным идолом, коих видел он поднятых на курганы в степях, когда ходил походом на Азов. Не знали, кто поставил их в степных, ковыльных просторах, для чего они надобны, кого охраняют или кому грозят. Но как-то сгоряча, по молодости, Пётр с друзьями, после весёлого пира, подскакал на лихом коне к такому вот изваянию и, бодря копя плетью, подступил вплотную. Каменное лицо — сожжённое солнцем, иссечённое ветром, пургой обметённое и дождями мытое — вдруг напахнуло на него такой силой, такой властностью, таким многовековым всеведением, что он невольно опустил плеть, сдержал пляшущего коня и соскочил на землю. Встал черёд грозным ликом, опустив руки. И сотрапезники Петровы умолкли, будто кто-то неведомый разом унял в них молодую радость, хмельной задор. Слезли с коней и встали, как и Пётр, молча. Незрячие каменные глаза смотрели в упор на каждого. Грозили? Пугали? Неизвестно, но рта перед каменным ликом открывать по-пустому не хотелось, да и не моглось…
Царь отступил от Ромодановского, прошёл в угол палаты и только оттуда, прочистив горло, сказал много тише:
— Что молчишь? Говори.
— Фёдор Алексеевич Головин, — сказал Ромодановский, — ждёт твоего слова, государь. Давай его послушаем, а тогда и я своё скажу.
Пётр подошёл к двери, толкнул её, крикнул Макарову, чтобы попросил Головина.
Фёдор Алексеевич — человек много наторевший в делах посольских, заключавший ещё и Нерчинский договор с Китаем, второй посол «Великого посольства», с которым сам Пётр выезжал за рубежи российские, начал разговор с осторожностью. Пётр нетерпеливо вышагивал по палате, то и дело натыкаясь глазами на предостерегающий взгляд Ромодановского. Но царь проявлял нетерпение только до тех пор, пока Головин говорил об известном Петру положении в Польше. Фёдор Алексеевич, как и Пётр, не ждал от короля Августа многого. Но, покончив с делами польскими, Головин заговорил о положении на южных границах, и каблуки царя смолкли.
На южных гранях было беспокойно, о том доносили многажды воеводы с южных пределов через лазутчиков и купцов, предупреждаемые о намерениях крымских татар, пленные, коих казакам удавалось захватить, да и весь люд окраинный в один голос говорил: татары к походу на Русь готовятся. А главное Фёдор Алексеевич приберёг на конец: Толстой сообщал, что крымцы при султанском дворе открыто требуют войны.
Тут уж царь сел к столу, упёр локоть в столешню и, опустив подбородок в ладонь, молча уставился взглядом в затянутое морозным узорочьем окно. Лицо его сделалось тёмным.
В палате повисла тишина, которая бы и глупому сказала — трудно человеческую жизнь обдумать, но много трудней обмыслить державное. У иного жизнь — воробьиная потеха: зёрнышек поклевать да водички попить, — но и то задумаешься, как рассудить её, а тут громада — Россия. Эвон сколько судеб, дорог, надежд…
Пётр отвёл тяжёлый взгляд от окна, посмотрел на Головина. Тот сидел твердо, крепко, осанисто, как выучен был годами и высоким положением. Ничто не выдавало в нём сомнения в высказанном, и всё же Пётр спросил:
— Иная курочка одно яичко снесёт, но крику, шуму наделает, будто весь свет осчастливила. Сколь доверять можно вестям посла? Ночи-то темны на юге, и, может, Толстой серую кошку в темени этой за чёрную принял?
— Нет, государь, — чётко возразил Фёдор Алексеевич, — оно известно, что послу любезнее вести приносить, которые бы слух ласкали, и в том многие грешны в погоне за почестями и заслугами. Но посла твоего, государь, при османском дворе не то упрекнуть, но и заподозрить в таком нельзя. В словах его правда.
Пётр крепкими зубами прикусил губу и, не мигая, долго смотрел на Головина. Чувствовалось, царь не видит в сей миг сидящего перед ним графа, фельдмаршала, президента посольских дел, но вымеряет глубину человеческой души.
В памяти Петра встала Софья: толстая шея, крепкие руки, властная поступь. Припомнился Пётр Андреевич Толстой — стольник Софьи. Память человеческая цепка. Обиды в ней трудно стираются. И царёва память цепка. А может быть, царёва память дольше, чем у иных, зарубины злые хранит? А? Наверное, так. Но Пётр в сей миг понял: Толстому должно или поверить без сомнения, или…
— Государь, — сказал Фёдор Юрьевич, словно прочтя мысли Петра, — послу должно верить.
Царь всем телом оборотился к Ромодановскому. Тот сидел как и прежде — уперев руки в колени и подавшись грудью вперёд. Основательно круглились его плечи, рисовались на большом лице козырьки бровей, и твердо сложенные губы в углах таили столько непреклонности, что возразить ему было даже и нельзя. У царя судорога пробежала от щеки к виску. И погасло в памяти Софьино лицо. Он поверил: так убедителен был голос князя-кесаря, так много говорили его всевидящие глаза. Вера — вот и не цепь, которую руками потрогать можно, не верёвка с крепкими узлами, но связывает людей надёжнее и цепи и верёвки. По обыкновенности, от веку один пытается смирить другого и повести за собой кулаком, кнутом, страхом. И было так многажды: и смиряли, и вели, но вот надолго ли смиряли и далеко ли вели? Увлечь человека можно лишь верой единой, и это сильнее кнута и страха. И хотя Пётр говорил позже не раз, что вовсе не прост Пётр Андреевич — изворотлив, хитёр, лукав, — но при всём том Толстому верил.
И, вновь угадав мысли царя, князь-кесарь, уже и словом не обмолвившись о Петре Андреевиче, заговорил об ином:
— Деньги на войну взять надобно в монастырях да у купечества. Но говорить с ними я буду. Ты горяч, государь, а с ними говорить надобно особо.
— Добре, — ответил Пётр, — добре. А послу нашему отписать, дабы и живота не пожалел, но удержал татар от разбоя. Да послать ему мягкой рухляди, сколь можно. Тысяч на двадцать, или на тридцать, или по нужде и на пятьдесят. — Сопнул носом. Копейки считал, и вот на же тебе… «Да на эти деньги, — подумал, — три полка одеть и вооружить можно». И в другой раз, покраснев лицом, перемог себя, задавил досаду.
Сказал: — Патриарху Досифею в Иерусалим отписать с просьбой о помощи послу, елико возможной. Головин склонился в поклоне:
— Будет сделано, государь.
Пётр сунул руку в карман камзола, достал щепоть табаку и начал уминать в чебучок, рассыпая жёлтые крошки. Видать, не до трубочки ему было, не до табачка, иные мысли роились в голове… Да, всё тучи, тучи висли над Россией, солнышко-то редко проглядывало. Тучи — вот то ежедень.
Рухлядь мягкую: соболя медового, выдру, которой сноса нет и чей мех блестит под рукой, будто маслом смазанный, горностая белоснежного с чёрным накрапом — Пётр Андреевич из Москвы получил. Но дела складывались в Адрианополе так, что было не до мехов. Куда там… Пётр Андреевич поворошил связку соболиных шкурок, пропуская сквозь пальцы невесомый, как воздух, мех, пожевал губами. «Кхм-кхм», — крякнул. Поднёс пальцы ко лбу и, сильно надавливая, потёр прорезавшие чело морщины. «Кхм, кхм…» — крякнул в другой раз. Опустил руку, показал бровями Филимону: отнеси-де, спрячь. И всё.
Через верных людей Толстой знал, что султанская казна пуста. В положении таком не токмо войну начинать с Россией, но даже расплатиться с янычарами султан не мог и на требования крымских татар о набеге на российские южные пределы отвечал отказом. В Адрианополе по утрам муэдзины взывали с минаретов — «алла-инш-алла!» — и город, казалось, был спокоен. Как никогда спокоен.
Но это казалось не посвящённым в тайны султанского двора.
Толстого на рассвете будило цоканье копыт осликов, на которых торговцы развозили кислое буйволиное молоко, да надсадные крики, с мольбой предлагавшие нехитрый товар. Цок! Цок! Цок! — били раковинами копыт в звонкий камень ослики, и торговец заклинал высокородных эфенди[22] отведать животворного молока буйволицы. Пётр Андреевич настораживался, опершись на локоть, но цоканье копыт и голос торговца, удаляясь, смолкали в улицах. Тут же возникал другой голос, предлагавший чистую, родниковую воду или сладкий инжир, и опять ослик отбивал шаги по камням. Да, всё казалось обыденным в спасаемом небом Адрианополе.
— Аллах акбар! — вопил с минарета муэдзин, и правоверный торговец в длинном, до пят, галабеи расстилал на мостовой истёртую циновку, дабы преклонить колени в молитве. Сложенные ладони с трепетом прижимались к груди, и головы покорно склонялись, моля всевышнего всё об одном, всё об одном и том же: о хлебе, о мире, о человеческом маленьком счастье.
Пётр Андреевич, однако, знал — и то подтверждалось многими его доброхотами, — что в Адрианополе есть люди, с яростью и пеной на губах произносящие страшное слово «джихат», что означало немедленную войну против неверных.
Султан Мустафа, утомившись от возражений и настойчивости непокорного крымского хана, повелел сместить его и заточить в крепость. Это повеление он отдал во время охоты, на которую отправился, окружённый пятью тысячами янычар и караваном из пятисот верблюдов, нагруженных всяческим скарбом. Многие видели: визирь, на чистопородной арабской кобылке скакавший рядом с белым верблюдом, нёсшим паланкин султана, что-то говорил великому, но лицо того вдруг исказилось недовольством, и он раздражённо задёрнул шёлковые шторки паланкина. Визирь с растерянным видом остановил плясавшую под ним кобылку, а через минуту в Адрианополь полетела весть: крымского хана взять в железа. Слово султана было законом, однако крымцы нового хана принять отказались. И только что назначенный визирь Далтабан-паша предложил направить в Крым армию для усмирения непокорных татар. Вот здесь и начиналось то, что так беспокоило Толстого, не давало спать по ночам.
Пётр Андреевич побывал у визиря. Далтабан-паша был не по годам тучен и малоподвижен, но при всём том даже и самому изворотливому — а народец вкруг султана вился ловкий и зело пронырливый — дал бы наперёд очко, ежели бы им и в кости пришлось сыграть. А они, к слову сказать, не в кости играли, но делали политику при дворе, и здесь Далтабан-паша не очко, а много-много больше мог бы дать наперёд любому. Толстому подлинно было ведомо, что за визирское положение Далтабан-паша уплатил муфтию четыреста мешков по пяти сот левков. А один левк — деньги немалые — пятнадцать алтын. Экое сокровище отдал за место Далтабан-паша, и спрашивалось: сколько же он хотел приобрести, став визирем?
Подавали сладости. Далтабан-паша брал малую крошку с блюда и подолгу смаковал сочными губами, не торопясь выпивал глоток ароматного шербета и брал ещё крошку. Веки его были полуприкрыты. Толстой поглядывал на визиря, и в памяти вставали слова Саввы Лукича: «Все сказывают, что визирь глуп, и прочие высокие люди при дворе его не любят, кроме муфтия, который и поднял его перед султаном». Но Далтабан-паша оказывался не так уж и глуп. Ополоснув руки, визирь завёл разговор о крымских татарах. Слово-де султана не слушают и должны быть за то примерно наказаны.
— Янычары научат их повиновению, — сказал визирь и, улыбнувшись российскому послу, продолжил: — Достохвально бы сталось, коли высокочтимый посол эту мысль выскажет султану. Для России куда как способно, ежели крымцы, не помнящие, из чьей чашки хлебают, будут наказаны.
Улыбка сошла с его лица. Визирь выпрямился на подушках и тёмными от гнева глазами посмотрел на Толстого. И вдруг не стало приметно тучности визиря, неведомо куда пропал толстый живот, черты лица утратили расплывчатость и стали тверды и чётки.
— И армию следует послать в Крым сильную, такую, чтобы способна была до корня вырвать непокорность, — сказал Далтабан-паша, — шакал признает пулю, собака — плеть.
И, опять сладко улыбнувшись, осторожными пальцами взял с блюда прозрачный, как янтарь, цукат, поднёс ко рту да всё смотрел и смотрел на Толстого. И, так и не попробовав цукат, сказал:
— И это неплохо до слуха султана довести при возможности, к тому представившейся.
И тут Толстой подумал: «Отчего бы визирю так о России печься, коли он и о своей державе не болеет? Да для того ли только нужна ему сильная армия в Крыму, дабы татар сломить?» Он откинулся на заскрипевшую под локтем тугой шёлковой тканью подушку и сказал:
— Да так ли уж непокорны султану крымские татары, что надобна армия, дабы усмирить их?
Лицо визиря исказилось столь явно выказываемой злобой, что это и вовсе смутило Толстого. «Визирь достаточно хитёр, — подумал он, — чтобы не выражать своих чувств перед гостем».
Вот как разговор у визиря обернулся, и вот какие мысли родил он у Петра Андреевича.
Визирь хлопнул в ладоши. Стена перед ними тут же раздвинулась, словно распалась, и взорам явились едва прикрытые одеждами танцовщицы.
По лицу визиря разлилось блаженство. Зазвучали кеменча и ребаб, запел дюдюк[23]. Тела танцовщиц, казалось, струились увлекаемые певучими струнами ребаба и нежным голосом дюдюка.
Визирь взглядом пригласил Петра Андреевича полюбоваться танцем. Толстой с улыбкой покивал в ответ. Мысль же Петра Андреевича сказала: «Хороша музыка, девки славны, но к чему всё это? Отчего так ласков визирь, к чему бы настойчиво повторять ему: неплохо-де это до слуха султана довести и то добре султану сказать? Не просто всё здесь».
В тот же день Пётр Андреевич написал письмо иерусалимскому патриарху Досифею о своих сомнениях и зело просил помощи в разрешении загадки, заданной Далтабан-пашой. Писал и видел цукат у губ визиря, прищуренные его глаза. И ещё, и ещё раз решил: «За словами визиря есть тайный смысл».
Племяннику патриарха Спилиоту Пётр Андреевич сказал:
— С письмом поспеши. Как хочешь, но надобно ответ получить в дни.
Достал из стола кошель с золотыми.
— Вот, — добавил, — заплати кому, коли нужда будет. Спилиот отвёл кошель в сторону, ответил:
— Не надобно. Дело сие в защиту христиан. Деньги здесь ни при чём. Я поспешу.
И вышел.
Пётр Андреевич постоял, подумал, открыл стол и с неудовольствием бросил звякнувший кошель в ящик. Подумал: «Неловко, неловко вышло, да и я хорош…»
Однако для укоров времени у него не оставалось.
Пётр Андреевич подошёл к окну.
Спилиот шёл через двор, метя подолом рясы по пыльным камням. Чюрбачей, сидя под кипарисом, провожал его взглядом. Спилиот оборотился к дому и, благочестиво прижимая пальцы к груди и ко лбу, перекрестился, вышел за ворота. Он приходил в дом посла как служитель христианской церкви, и чюрбачей поделать ничего не мог. Пропускал на подворье, хотя и сказал, что больно зачастил монах к послу. Но сегодня, увидев, как визирь провожал Толстого до ступеней своего дворца, чюрбачей брови поднял до самой чалмы и склонился низко. Но всё одно, глядя на старшего над янычарами, охранявшими посольское подворье, Толстой подумал: «Стоит выйти со двора, и за мной увяжется десяток янычар». Он хотел сегодня же встретиться с Саввой Лукичом. Дело не терпело отлагательства.
Через самое малое время по камням двора затарахтели колеса тележки, с которой Филимон обычно направлялся на базар. Толстой видел, как чюрбачей подошёл к Филимону с удивлением на лице: почему-де слуга посла отправляется за покупками, когда лучшие часы базара прошли? Филимон со смехом ткнул чюрбачея пальцем в заметно выступавший из-под халата живот. Чюрбачей развёл руками. Янычары растворили ворота. А ещё через полчаса со двора съехал и сам посол. Карета завернула за угол, миновала улицу, свернула в другой раз в переулок. Толстой оглянулся. За каретой, поспешая, скакало с десяток янычар. «Ничего, пущай их», — решил Пётр Андреевич. Толстой распорядился, дабы Филимон предупредил Савву Лукича, что посол будет ждать его в лавке арабских редкостей у мечети Селимие. Ничто не вызывало у суетных турок столько уважения, как торговля. И особым почётом пользовался покупатель, ибо кто покупает — тот богат. Богат! И турок — вай-вай-вай — прищёлкивал языком, вскидывал глаза к небу. Толстой рассчитал так: пока янычары будут ждать его у арабской лавки, он успеет переговорить с Саввой Лукичом.
Всё вышло, как он и задумал.
Хозяин лавки склонился перед послом в глубоком поклоне, рассыпал слова благодарности за оказанную честь.
Юркие смуглые мальчики с поспешностью расстелили ковёр, расставили блюда со сладостями, но гость и хозяин не успели присесть на подушки, когда из глубины лавки вышел Савва Лукич.
— О-о-о, — улыбчиво округлил губы хозяин лавки, — ежели гость позволит, я представлю большого купца и ценителя редкостей.
Пётр Андреевич благосклонно покивал головой, показал Савве Лукичу на подушки. Тот сел, привычно подогнув ноги. Пётр Андреевич поднёс пиалу ко рту. Сквозь шнуры и кисти, прикрывавшие вход в лавку, он видел сбившихся в кучу верхоконных янычар. Войти в лавку они не смели. За витыми кистями входа совершалось таинство, которое было мечтой каждого из них: там продавали и покупали, меж пальцами скользили монеты и пели сказочные песни, которые может петь только золото. Музыка, слова этих напевов были и ворожбой, и свершением самого прекрасного, изнеженно-сладостного, что только могло представить пылкое воображение восточного человека, а воображение здесь у людишек было изобретательно и изощрённо. В Османской империи без бакшиша не решалось даже самое ничтожное дело. Прежде чем взглянуть просителю в глаза, чиновник смотрел на руки. И только когда из руки в руку, из рукава в рукав перепархивал золотой, он медленно-медленно приоткрывал глаза, всем видом выражая, что ежели и другой, и третий желанный жёлтенький кругляшек скользнёт в его ладонь, тогда у него наконец достанет сил преодолеть невыразимую тяжесть скованных многолетней дрёмой век. Куда уж янычарам было соваться в лавку.
Купец был щедр: показывал расписанное эмалями стекло из Дамаска, чеканенные в Халебе блюда, шёлк из Латакии. С величайшим бережением снял с полки сосуд с удлинённым носиком, большой, округлой ручкой и на раскрытых ладонях поднёс Толстому.
— Этой глине из Суз, — сказал купец с волнением, — тысячи лет.
Поставил сосуд перед гостем и отошёл в сторону, дабы не мешать ему насытить взор восприятием прекрасного.
Толстой, склонившись над сосудом, коротко сказал Савве Лукичу:
— Надо узнать, что думают янычары о походе в Крым. Ещё что думают о походе в окружении визиря. И наконец, как относятся к этому крымские татары.
Сосуд из Суз он толком и не рассмотрел.
Через час Толстой вышел из лавки. Хозяин с почтением нёс за ним завёрнутый в ткань ковёр из Дамгана[24]. В шерсть ковра были вплетены золотые нити. Купец сказал:
— Говорят, что этот ковёр украшал знаменитую мечеть Тарик-хане.
Толстой сел в карету. Купец положил к его ногам ковёр. Карета тронулась. Толстой, откинувшись на сиденье и прикрыв глаза, решил: «Главное сделано. Теперь надо ждать. Ждать…» Но тут же в сознании толкнулась тревожная мысль: «А есть ли время для ожидания?» И Пётр Андреевич не стал ждать. Он распорядился, дабы каждый в посольстве вслушивался в оброненные на улицах Адрианополя слова, примечал любое движение, запомнил всякое увиденное новое лицо, ибо всё это, как и ответы на заданные им, Толстым, вопросы иерусалимскому патриарху Досифею, Савве Лукичу, Спилиоту, могло в конце концов, собранное воедино и затем обдуманное и взвешенное, дать столь необходимый ответ.
Но шли дни, однако ответа не было.
Как часто бывает в подобных делах, решилось всё самым неожиданным образом.
Первым пришёл к Петру Андреевичу Филимон. Потоптался у порога и толково, без лишних слов, обсказал, что чюрбачей, чрезмерно хватив греческой водки-дузику, хвастал много, говорил непонятное, ятаган обнажал, а под конец сказал, будто отправляется в Крым и оттого султану Мустафе придёт извод. Филимон резанул по горлу ладонью.
— Во как, показал!
Пётр Андреевич даже опешил. На шаг отступил от Филимона и оглядел его с ног до головы. Мужик был, однако, вполне справен.
Чуть поразмыслив, Пётр Андреевич спросил:
— А сколько дузику чюрбачей выжрал?
— Много, — ответил Филимон.
— Кхм-кхм, — поперхал горлом Пётр Андреевич и крепко задумался.
Вскоре пришло письмо от иерусалимского патриарха. В нём сообщалось, что янычары султаном Мустафой недовольны. Денег-де за службу не платит, и великих дел от него не видно. А Савва Лукич не только подтвердил недовольство янычар султаном, но прямо сказал, что армия, отправляемая в Крым, должна послужить не усмирению татар, а их укреплению и, более того, стать опорой заговора против султана Мустафы.
Филимон, выходило, прав оказался и выразительнее других обсказал османские дела государственные.
Вот так и не иначе.
«Ну, что ж, — скажет иной, — счастлив в помощниках Пётр Андреевич оказался. Счастлив…»
Да оно так, однако и другое след заметить: счастье слепым не бывает и вдруг не объявляется. Кто знает о бессонных ночах Петра Андреевича, о пытливо бьющейся мысли, что не даёт покоя и на минуту, о сомнениях, отдающих горечью в горле? Много, ох, много потрудиться пришлось Петру Андреевичу, дабы истину установить, а ныне пришло время умно той истиной распорядиться, но и это было непросто — выйти на султана и раскрыть ему глаза на действия визиря. Пётр Андреевич по здравому размышлению никогда бы не пошёл на такое — знал, чем это могло ему грозить, но зрела опасность нападения крымских татар, поддерживаемых янычарами, на Россию. Война на южных гранях российских стучалась в дверь. Надо было действовать, и безотлагательно.
Пётр Андреевич сгоряча решил было просить иерусалимского патриарха Досифея связаться с главой мусульман — муфтием и через него довести планы визиря до султана Мустафы. Сел к столу, очинил перо, обмакнул в чернильницу. Да тут и подумал: «Какой муфтий, что это я? А пятьсот мешков левков, переданных ему Далтабан-пашой? Забыл? Ни патриарх Досифей, ни муфтий в этом деле не помощники».
Отбросил перо с раздражением, поднялся от стола.
За окном ветер нёс клубы пыли, на соседнем подворье мотались на верёвках пёстрые тряпки, здоровенный кот, с осторожностью касаясь лапами мостовой, переходил улицу… Мутно было на душе у Петра Андреевича, тревожно, будто в угол загнали, а он не ведал, как выбраться. Над плоскими черепичными крышами палкой торчал минарет, и на вершине его посвечивал полумесяц. «Хотя бы крест увидеть, — прошло в мыслях Петра Андреевича. Он вздохнул. — А в Москве сейчас заутреню служат».
И вдруг ему явственно услышалось, как поют «Величание», и, больше того, увиделся заполненный людом раззолоченный в ало-красном свете свечей храм, сверкающие иконы, истовые лица. И голос возгласил: «Славу отцу и сыну и святому духу ныне и присно и во веки веков!»
Хор мощно и сильно подхватил древний напев.
Пётр Андреевич стоял минуту, другую и, резко отвернувшись от окна, оглядел палату: ему показалось, что решение уже есть, оно зреет в нём и вот-вот дастся в руки. Взгляд Толстого переходил с предмета на предмет и вдруг задержался на золотой нити, прошивающей недавно купленный ковёр. Нить причудливо вилась меж сложных узоров, уходила в ворс и выныривала вновь, для того чтобы подчеркнуть, выделить тот или иной оттенок тканого чудными руками ковра.
— Купец! — воскликнул Толстой. — Купец!
На следующий день, не без помощи Саввы Лукича, купец из лавки арабских редкостей, что стояла у мечети Селимие, расстилал драгоценнейшие ткани перед матерью султана Мустафы. Предлагаемый товар стоил того, чтобы его показали во дворце султана. Но купец не только расхваливал ткани, но и успел сказать высокой султанше о намерениях визиря.
Судьба Далтабан-паши была решена. Ввечеру султан спросил визиря, для чего в Крым снаряжается столь великая рать янычар, и выразил при этом удивление: понеже-де татар можно усмирить и не таким великим собранием?
Визирь не нашёл ответа.
Той же ночью Далтабан-паша услышал перед рассветом осторожные шаги в своих покоях, вскинулся на подушках, но широкий пояс крепко лёг на его жирное горло.
Заговор был раздавлен до того, как на южных пределах России объявилась опасная рать янычар.
Пётр Андреевич мог праздновать первую большую посольскую победу.
В Москве донесение от Толстого получили в один из ранних весенних дней. Было сыро, капало с крыш. В Посольском приказе чадно коптили зажжённые с утра свечи. От крепкого свечного духа у приказных болели головы, и оно бы хорошо свечи вовсе не зажигать, но писцы жаловались: темно-де, буквицы не разберёшь и, гляди, не там намараешь. Свечи, конечно, было жаль — пропасть свечей сгорала в короткие ненастные дни, — но бумага была ещё дороже. Так что хочешь не хочешь, а запалишь свечку. Многие из приказных, правда, угорали. Но такого, угоревшего, возьмут под руки, выволокут на крыльцо, посадят спиной к мокрым тесинам — он и отдышится. Писцы народ был ловкий.
Рано поутру повытчик разбирал поступившие бумаги и вдруг, сощурившись, углядел: из Адрианополя, от посла Толстого. И, будто с цепи сорвавшись, соскочил с лавки и, неприлично бухая каблуками по избитым доскам пола, побежал через весь повыт к боярской палате. Подлетел к дверям и, не дождавшись разрешения войти, вскочил через порог, встал перед президентом посольских дел Фёдором Алексеевичем Головиным. Тот — как это дано только людям, сидящим высоко, — не поворачивая головы, скосил на него глаз.
— От посла Толстого, — выдохнул повытчик, — из Адрианополя.
Головин протянул руку. Но тоже не выдержал, заторопился, хрустя печатями. Повытчик кинулся придвинуть свечу. Головин полетел глазами по строчкам: «…рухлядь мягкая получена, однако дело, начатое, государь, твоим верным к царскому величеству радением, и без того свершилось, и то ныне не потребно…» И далее, всё более и более одушевляясь, Головин прочёл, что «визирь казнён, крымские татары попритихли и ныне у турок о войне ни в какую сторону не слышно».
Президент посольских дел передохнул, положил бумагу на стол перед собой и, подняв глаза на повытчика, сказал:
— Молодца, молодца!
И повытчик, ещё и не ведая, о каком молодце речь идёт, на всякий случай и по врождённой привычке каждого русского приказного человека подтвердил:
— Молодца, как есть молодца!
Но Фёдор Алексеевич посерьёзнел лицом и, навычным к государственным делам умом, уже прикидывал, что означает для России это замирение на южных пределах и как всё то может сказаться в задуманных царём Петром делах.
Глава вторая
посольском промысле есть особенность: лучше чего иного не сделать, нежели шаг ступить необдумавши. Ошибка потянет за собой другую, а там, глядишь, и беда пришла. И с Петром Андреевичем Толстым чуть было подобное не случилось… Карл-таки прибил короля Августа, хотя того и прозывали Сильным и Великолепным.
Подальше от любопытных глаз, в маленькой деревушке Альтранштадт, сей Август Сильный подписал отречение от польской короны. В секретных статьях договора говорилось, что он и как король польский, и как курфюрст саксонский разрывает союзнические отношения с Россией.
Август учинил пышную подпись и бросил перо. Помедлил мгновение, поднял глаза на короля Карла, но тот даже не удостоил его ответным взглядом. Да оно и смотреть-то было не на что. Крупная голова Августа, правда, по-прежнему гордо вздымалась на крепкой шее, и лицо, ещё час назад словно резанное великим мастером Твошем[25] из его, Августа, королевского Кракова, не представляло ничего значительного, а было неким жалким месивом. В прозрачных глазах Карла светило откровенное презрение. Коротким движением швед придвинул листы договора и, брызгая чернилами, единым росчерком подмахнул: «Карл». Как шпагу воткнул в соломенного болвана. Да, для него Август — король-шалун, король-баловень — и был соломенным болваном. И именно в эту минуту Август с отчаянием и болью почувствовал огромность своей потери. Однако, будучи натурой мелочной, он тут же попытался найти хотя бы малую лазейку для удовлетворения своего тщеславия. Не сводя глаз с узкогубого, серого лица шведа, Август с едкой иронией подумал: «Он, наверное, чудовищно нелеп и смешон в будуаре любимой им дамы, ежели таковая и есть у него». И улыбнулся. Он-то сам в будуаре был великолепен, и это было всё, что оставалось у него за душой.
Карл, так и не взглянув на Августа, с грохотом отодвинул смазным ботфортом стул и поднялся из-за стола. Над местной кирхой тоскливо брякнула медь колокола, и это была самая подходящая музыка для завершения свершившегося акта.
Через минуты от замка Альтранштадта отъехали две кареты. Примечательно: за обеими каретами поспешили верхоконные и дождь враз намочил до неразличимости их мундиры, кожаные возки карет одинаково заблестели под хлещущими струями. Однако при всей похожести этих первых, бросавшихся в глаза примет была разница в том, как сидели в сёдлах всадники, сопровождавшие кареты, вскидывали вожжи ездовые, шли кони. Всё потому, наверное, что одна карета везла победителя и короля, другая — побеждённого и бывшего короля.
Над тощими, желтевшими бесплодным песком полями сгущались сумерки.
В Польше был провозглашён королём ставленник Карла, выученик ордена иезуитов и ненавистник России — Станислав Лещинский[26]. Медлительный, в движениях, высокий, сухой, он занял королевский дворец в Варшаве и окружил себя шведами. В переулках Старого Мяста застучали крепкие каблуки здоровенных, розоволиких, уверенных в себе драгун короля Карла, и золочёный крест святого Яна, казалось, поблек от бесцеремонности, с которой чужие городу люди звенели шпорами у святой для каждого поляка гробницы князей Мазовецких.
Руки Карла в Польше отныне были развязаны, и он устремил взгляд на восток Но не только это обостряло положение на западных гранях России. Август, едва сойдя с кареты, привёзшей его из Альтранштадта, ввязал в кашу на западных пределах российских прусский, датский, английский и голландский королевские дворы. Заваривалась большая свара, и в это время царю Петру стали известны тайные статьи Альтранштадтского договора о разрыве союзнических обязательств Августа с Россией.
Пётр узнал об этом, сидя в избе у Меншикова, в недавно основанном на берегу Невы Петербурге. В избе, из меншиковского хвастовства величаемой дворцом, ещё сочились смолой стены, крепко пахло непросохшим лесом, но зато весело горел камин, облицованный на голландский манер кирпичом. Пётр, держа в одной руке поданную ему бумагу, другой взял щипцы от этого самого камина. И вдруг, выкрикнув с яростью: «Пёс, пёс поганый!», с силой влепил щипцами в камин. От пылающих поленьев брызнули угли, посыпались на пол. Меншиков бросился их подбирать. А когда разобрался, от чего гнев царский, сказал, успокаивая Петра:
— Господин бомбардир, брось, не горячись… Ну что Август… Бабник, сластёна… — и всё хватал, хватал пылающие угли голыми руками, швырял в камин. — Я всегда говорил: не царское это занятие — бабы. — Закинул последний уголёк, выпрямился, отряхнул руки. — Ну что от такого было ждать?
И засмеялся.
А смеяться было вовсе ни к чему. Да Александр Данилович отлично это понимал. Дело было куда как худо. Смеялся он для того, дабы Петра утихомирить.
— Двести тысяч Августу ежегодно отваливали, — сказал Пётр, — дабы он Карла за хвост держал. Двести! И куда он такую кучу девал, коли дела-то не было?
— Ну, так теперь они дома останутся, — усмехнулся Меншиков, — может, оно и к лучшему.
Сверкнул синими, весёлыми глазами.
Но лучше не сталось. Верные люди из Варшавы донесли, что Станислав Лещинский явно сносится с Крымом и опять можно ждать «гостей» с юга.
Президент посольских дел Фёдор Алексеевич Головин отписал в Стамбул Петру Андреевичу Толстому, дабы тот был недремен. От посла потребовали новые сведения о состоянии Османского государства и его армии. Пётр Андреевич поспешил с ответами Москве, и вот тут-то случилось неожиданное.
Толстой давно жил в Стамбуле, последовав за султанским двором, переехавшим из Адрианополя в древний город над морем. За это время разное случалось в посольской жизни, но одно оставалось неизменным: посольское подворье, как и в первый день в Адрианополе, было взято султанскими янычарами в крепкую осаду. Бывали дни послаблений, и тогда россиянам в Стамбуле дышать становилось полегче, но такое выпадало редко. Однако в том Пётр Андреевич стал обвыкаться, хотя и писал Головину: «В великой тесноте живу, от которой, государь, терпим болезни великие… На двор ко мне никакому человеку приттить невозможно, понеже отовсюду видимо и чюрбачей у меня стоит с янычары, бутто для чести. И всё для того, чтобы христиане ко мне не ходили».
Были, однако, за это время и радостные минуты для Петра Андреевича. Получил он из Москвы известие, что у него родился сын, названный Иваном, и растёт крепким и зело разумным. Извещён был Пётр Андреевич и о том, что брат его Иван вступил в царскую службу, послан воеводой в Азов. И это обрадовало Петра Андреевича не меньше вести о рождении сына. В тот же час он был в церкви и вознёс горячую молитву за то, что в божественном промысле всевышний не забывает его, Петра Андреевича, семью и наставляет в выборе пути.
Дрожащей от волнения рукой Пётр Андреевич возжёг свечу и, ощущая горячий воск под пальцами, прилепил к святому образу. Но этим радостное, пожалуй, и заканчивалось. Остальное было работой, и работой тяжкой.
Изменения, произошедшие на западных рубежах российских, Пётр Андреевич почувствовал тут же, как тому случиться пришлось. Вот и далеко сидел, но гром грянул, и раскаты его и в Стамбуле Толстой услышал. Правда, вначале об том Пётр Андреевич разговором пустяшным пользовался, но в его службе всякий разговор смысл имел. Слова, случайно услышанные, Толстой на ус намотал, ну да вскоре они и явно подтвердились. В Стамбуле объявились люди из Варшавы и зашевелились крымцы. Толстой тех поляков зрел: бобровые шапки; богатые, ещё дедовских времён перевязи; сабли, украшенные самоцветами. Лица надменные. Ну да Пётр Андреевич видел — это порох, от которого больше дыма, чем силы. И всё же за поляками и крымцами следил внимательно и оплошки в том не дал никакой. Ошибся он в другом.
Ещё в первый год сидения в Адрианополе написал он для Москвы бумагу, в титле которой значилось: «Состояние народа турецкого». В бумаге сей с подробностями, которые говорили об остроте глаза, Пётр Андреевич указывал, что в земле османской «утесняется правосудие мздой», «султан держит себя во обыкновенном поведении гордостно. и поступки ево происходят в церемониях по древним их законоположениям, а прилежание и охоту большую ни к воинским, ни же к духовным делам, ни же по управлениям домовым не имеет». Сообщал Толстой и о тогдашнем визире, что «человек он мало смышлён, а к войне охочь да не разсудителен». Большая же часть бумаги отдана была рассмотрению казны и войска османского. «Начальные люди, — писал Толстой, — морского их флота аще суть и босурманы, но не природные турки, все христоотречники, французы, италианцы, англичане, галанцы и иных стран жители, и суть в науке искусны, от них обучаются и самые турки». «Корабли турецкие суть крепки, яко и французские, сшиваны великими железными гвоздями».
Бумага давала полное представление об армии и флоте. Когда же Фёдор Алексеевич Головин попросил Толстого прислать новые сведения, посол решил перебелить черновик бумаги и после того дополнить её всем тем, что удалось узнать в последнее время.
Перебелить бумагу он поручил подьячему Тимофею. Позвал его и сказал:
— Поспеши.
Тимофей протянул руку к бумагам на посольском столе, и Пётр Андреевич отметил: пальцы подьячего пляшут. Толстой с неудовольствием взглянул ему в лицо, полагая, что сие дрожание рук происходит от чрезмерного употребления отнюдь не сладких шербетов, коими Стамбул, как никакой иной город, был богат. Выразительный цвет носа подьячего мысль эту подтвердил.
— Кхм-кхм, — кашлянул Пётр Андреевич, сам весьма воздержанный в этой слабости человеческой. — Ты вот что, — сказал, словно откусывая каждое слово без удовольствия, — голову холодной водой чаще пользуй. Холодной.
Тимофей поспешил из палаты. И то, как он шёл к дверям, Петру Андреевичу тоже не понравилось: шаг у подьячего мелок был, спотыклив. Так ходят, когда на земле не очень-то устойчиво чувствуют.
Человек, который на ногах стоит крепко, шагает вольно, у него каблук под пяткой не пляшет.
Дверь за подьячим притворилась. Пётр Андреевич упёрся глазами в стол. Тронул пальцами висок, и в лице у него явилась неопределённость. Пальцы на виске, чуть касаясь кожи, поглаживали её, но видно было, что мозг Петра Андреевича не участвовал в этом движении, а был занят вовсе иным.
За подьячим худого вроде бы не замечали. Напротив, за короткое время он выучился говорить по-местному и был весьма полезен в разговорах, коли под рукой недоставало толмача. Но это, пожалуй, только и припомнилось Петру Андреевичу, а дальше мысль не пошла. Весь облик Тимофея расплывался в сознании, не образуя ничего явного, что смогло бы выявить его до конца. И Пётр Андреевич вдруг подумал, что за годы, которые они были вместе, ему всё недосуг было приглядеться к подьячему, всё мешали дела, и он о том в сей миг пожалел и сказал: «Негоже, сие надо исправить».
Пётр Андреевич взял перо и обмакнул в чернила. Дело торопило. Больше в этот раз о подьячем он не думал. Данное ему поручение — перебелить бумагу — было обыденностью, и ничего плохого от того Толстой не ждал. А зря.
…Французский посол Ферриоль восхищался парившим над плоскими жёлтыми крышами Стамбула куполом Айя-Софии[27].
— Это Византия, — говорил посол, — роскошная, великолепная Византия. — В галльских глазах Ферриоля горел почти неподдельный восторг. — В очертаниях купола вся её история. Здесь византийская роскошь и византийский размах, но в этом есть и ущербность. — Посол искоса взглянул на Петра Андреевича.
Тот слушал, поджав губы, и глядел на рыжую плешивую собаку, переходившую тесную улицу. В Стамбуле, даже до удивления, было множество бродячих собак, по-особому облезлых и страховидных. Бродили они стаями, не боясь людей, но, напротив, наводя на многих страх. Французский посол, впрочем, на паскудную псину внимания не обратил.
— Да, — воскликнул он, — именно ущербность! Святая София только утверждает себя. В этом куполе мощь и сила, но нет движения.
«К чему эти рассуждения, — подумал Пётр Андреевич, — зачем столько слов?»
— Взгляните на мечеть Сулеймана, — Ферриоль выкинул вперёд длинный сухой палец, — это всплеск, целеустремлённость ислама.
Пётр Андреевич перевёл взгляд на торчавший в небе обглоданной рыбьей костью минарет и в другой раз подумал: «К чему он клонит, что за словами?»
Белёные стены домов были ослепительны под солнцем, и Пётр Андреевич поднял руку, заслоняя глаза от раздражающего света.
Но это была только хитрость. Свет ему не мешал. Толстой хотел подумать, а ему не нравилось, что Ферриоль уж очень внимательно вглядывается в его лицо.
В Европе пылала война[28] за испанское наследство. Франции противостояли Англия и Голландия, австрийский габсбургский императорский двор. И усилия французского посла в Стамбуле были направлены на то, чтобы толкнуть Османскую державу на войну с Австрией и тем отвлечь австрийцев от европейских дел. Для успеха в этом можно было, конечно, порассуждать не только о достоинствах мечетей Стамбула. Здесь у Петра Андреевича была полная ясность, и он даже сочувствовал Ферриолю. Толстому было известно, что француз, стремясь разжечь войну между австрийцами и турками, не только слова тратил, но и швырял деньгами. Говорили, что Ферриоль роздал приближённым султана свыше ста тысяч реалов, но так и не подвинулся вперёд. «Печь-то в избе, — подумал Пётр Андреевич, — и то с умом растапливать надо. Можно под самый свод дров насовать, спалить разом, но от того тепла в избе мало прибудет. А можно по полешку, по полешку на угольки подкладывать. Глядишь — дров меньше уйдёт, печь протопится и изба прогреется». Кашлянул — «кхе-кхе».
Ферриоль взглянул на него и замолчал. Больше о святых храмах разговора у них не было. Француз заговорил об османских чиновниках: жадны-де непомерно, изворотливы и понять их европейцу невозможно. Пётр Андреевич на это ответил неопределённым:
— Да-а-а…
И руками развёл. Жест его можно было понимать только так: а где, мол, они, чиновники те, хороши? Во Франции? В Италии? В России?
Пётр Андреевич даже слегка хохотнул, пофыркивая:
— Хе-хе-хе…
На том пустяковый этот разговор и закончился. Однако смысл в нём был, ибо, расставаясь с российским послом, француз заметил, что видел на визирском дворе подьячего Тимофея. Мысль Петра Андреевича, как замок капкана, всегда готовая ухватить памятью нужное, слова эти удержала. Рассудил же он их так: Ферриоль ищет новых подходов к визирю для разрешения своих дел и, считая, что у российского посла — коли его работники свободно на двор визирский ходят — такие подходы есть, просит его, Толстого, помощи.
Задуматься над этим смысл был.
Француз хлопотал, дабы ослабить Австрию. Помыслы Толстого были устремлены на отвращение ятаганов янычар от России. Но в этих задачах было общее — война османов с австрийцами устраивала и Ферриоля, и российского посла. Вступив в войну, Стамбулу стало бы не по силам воевать российские пределы, а Вене — претендовать на испанское наследство.
Толстой, расхаживая по своей палате, сложность эту понял, но была закавыка, о которой француз, по всей видимости, не догадывался. Пётр Андреевич подьячего Тимофея на двор визиря не посылал. Но он-то там был. А зачем?
Толстой сел к столу, упёрся локтями в столешницу и положил подбородок на туго сплетённые пальцы. Лицо застыло в задумчивости. И стало вдруг видно, как оно изменилось за время, проведённое в Стамбуле. Прежде всего черты его стали острее, явственнее, ушла некая расплывчатость, округлость, и сейчас они являли определённость характера, в той мере, в какой лицо человека может выражать его сущность. Лицо Петра Андреевича не было одним из тех лиц, которые сразу же выдают силу, волю, властность, способность человека к решительным и смелым поступкам. Нет. С первого взгляда лицо Толстого казалось простоватым и ничем не выдающимся, но чем больше вы вглядывались в него, тем явственнее и даже с удивлением открывали, что лоб Петра Андреевича был высок, выказывая незаурядный ум; брови, углом поднимавшиеся к вискам, густы и мощны, что говорило о силе характера и воле; губы, сложенные твердо, свидетельствовали о способности Петра Андреевича противостоять слабостям человеческим, которые, как ржа железо, разъедают порой натуры небесталанные и крупные. Вместе с тем черты лица, охваченные единым взглядом, создавали неожиданное впечатление некоей иронической фигуры, а неопределённого цвета глаза — можно было приметить — разглядывали мир с едкой насмешкой. Но такое увидеть было дано не каждому, так как Пётр Андреевич умел, и с годами искусство это совершенствовалось, придать лицу постоянное выражение добродушия и снисходительности, дабы не рядили, не судили, умён ли, глуп ли, а легко протягивали навстречу руку, ожидая такого же лёгкого, приветливого ответа. Но сейчас он был в палате один, это знал, да и известие о Тимофее было столь неожиданным, что лицо выдало потаённое, скрытое от посторонних, ненужных взглядов.
Пётр Андреевич позвал Филимона и сказал, чтобы тот глаз с подьячего не спускал.
— И особливо, — сказал, — коли Тимофей с подворья пойдёт. На базар или куда ещё.
Тогда же Пётр Андреевич встретился с Саввой Лукичом. Савва Лукич собирался в Москву.
— Всё, — говорил, — пожил я среди басурман. Хочу так последние дни жизни своей устроить, дабы постоянно зреть лики христианские и в христианской земле перед престолом всевышнего предстать.
Решение его было окончательно. Но когда Толстой рассказал о сомнениях относительно подьячего Тимофея, Савва Лукич, сильно тому изумившись, отъезд отложил. Понял, какая опасность грозит российскому посольству. Всегда спокойный и уравновешенный, он разволновался так, что чашка с кофе заплясала у него в пальцах, расплёскивая густой, тёмный напиток.
Он торопливо, так, что звякнуло блюдечко, опустил чашку и перекрестился.
— Господи, — взмолился, — вот не чаял, что придётся видеть, когда россиянин христопродавцем станет. Господи…
— Постой, — остановил Толстой, — может, до того не дошло?
— Нет, — сказал Савва Лукич, — здесь так не бывает. В гарем султана только евнух войти может, и на двор визиря по-пустому никого не пустят. Это предательство.
Так слово страшное было произнесено, а, ударив по слуху, оно загремело, многократно повторяясь в сознании Петра Андреевича, как ежели бы его отбрасывало и отбрасывало назад эхо: «Предательство, предательство, предательство!»
Из дверей кофейни, где Толстой сидел с Саввой Лукичом, раскрывался широкий вид на море. Древний Босфор играл бесчисленными бликами ленивых, медленно катящихся к берегу волн. Они вспыхивали, как искры невесть кем разожжённого прекрасного костра. Это была чудесная восточная сказка, расказываемая под тихий шелест ложащихся на горячую гальку волн, под убаюкивающие стоны чаек… И вдруг Петру Андреевичу вспомнилось: он стоит на крыльце Преображенского дворца, пронзительно бьёт барабан и по снегу двора маршируют солдаты с синими от злого ветра лицами. Бух, бух, бух! — стучат каблуки в стылую жижу, и кричит, надрываясь, офицер. «Их-то за что он предал, — подумал, отводя взгляд от сверкающего под солнцем моря, Пётр Андреевич, — солдат-то этих? У них-то доля тяжкая, куда уж там». Толстой положил руку на лоб и до боли пальцами сжал виски. Савва Лукич молчал.
Наконец Пётр Андреевич отнял руку от лица и сказал глухо:
— Всё вызнать надо доподлинно.
Тайное скрытым остаётся лишь до тех пор, пока вызнать о том не захотят. А особливо для такого человека, как Пётр Андреевич. Отец Толстого — жёсткий и властный — детям говорил сызмалу: «Ты хотя бы и дырку в стене пальцем верти, но без дела не сиди». В том был твёрд и добился своего — Пётр Андреевич минуту попусту не тратил. Подьячему Тимофею тягаться с Петром Андреевичем было трудно. А в деле таком, когда державе угроза была, Толстой, ни время, ни сил не пожалев, и из песка бы верёвку свил. Пётр Андреевич в те дни всех озадачил: и Савву Лукича, и Спилиота, и Луку Барка. И каждому указал: где и как измену подьячего искать. Да и знал он, что работники его за христианскую веру, за державу Российскую, на которую молились, как на святыню, связывая с ней все надежды и помыслы, не то что Стамбул, но и дно гавани Халич перероют. Когда Толстой о подьячем со Спилиотом говорил, у того лицо дрожало, а у Луки Барка глаза налились нехорошим светом.
Но как ни надеялся Пётр Андреевич на своих работников, сам всё же поехал к визирю. Знал: многого тот не скажет, однако для Толстого сейчас не только слова были важны, но и то, как их произнесут. Отъезжая с посольского подворья, он подтвердил Филимону:
— За Тимофеем гляди в оба.
Подьячий гнулся в каморе над бумагами. Филимон вошёл, глянул. Перо в руках подьячего скрипело, буквицы из-под него объявлялись медленно, словно обиженные и за себя, что из-под такого скрипливого пера на бумагу ложатся, да и за писца, который, чувствовалось, занятие это — по бумаге пером водить, ежели бы не приказ строгий, вмиг оставил и приспособился к чему-либо иному, более приятному. Глядя на грустно и тяжко виснувший над бумагой синий нос подьячего, Филимон подумал: «И куда с такой рожей в басурмане? Они-то, басурмане, напитка этого злого не употребляют». Однако тут же вспомнил, как чюрбачей дузик греческий жрал, а ведь веру имел басурманскую. «Нет, — решил, — видать, это зелье поганое у всех народов негодных людишек забивает, к земле гнёт».
Тимофей, оставив перо, взглянул на Филимона. И тот отметил, что лицо у подьячего ещё молодое и гладкое. «Знать, сила есть, — решил, — и как эта порча в нём завелась, что он перекинуться на басурманскую сторону решил? Или червоточина такая с младых ногтей в людях объявляется?»
О том же размышлял и Пётр Андреевич Толстой, разговаривая с визирем.
Визирь встретил его ласково, но ласкания эти не понравились Петру Андреевичу больше, чем сухость и неприязнь, которые постоянно выказывал к нему визирь. И Толстой, сидя на подогнутых ногах — выучился по-здешнему, а то всё ноги-то затекали, ныли, никак подгибаться не хотели, — заговорил резко и, надо думать, о больном для визиря. Сказал прямо, что в Стамбуле люди из Варшавы объявились от Станислава Лещинского, а тот-де России враг и он — посол российский — должен заявить визирю, что негоже, коли Россия и Османская империя в дружбе между собой, османской стороне принимать врага иной стороны.
Визирь отвечал длинно и путано, что Стамбул город большой, стоит на торговых путях и здесь бывать никому не возбраняется.
— Вон, — показал гостю на гавань, — сколько флагов к нам приходит, и то процветанию торговли споспешествует и благу людей наших.
Над судами в гавани и впрямь ветер полоскал английские, голландские и многие иные флаги.
— У купцов наших в судах нехватка, хотя суда турецкие, слава аллаху, крепки, яко и французские, и сшиваны великими железными гвоздями.
У Толстого, услышавшего эти слова, горло спазмой сжало, и он едва удержал возглас удивления. Это были слова из его, посла российского, бумаги «О состоянии народа турецкого», которую он поручил перебелить подьячему Тимофею. Большего подтверждения измены Тимофея не требовалось. Визирь, того не желая, выдал его с головой. А через два дня Спилиот отыскал и мечеть, в которой должны были совершить тайный обряд посвящения в мусульманскую веру подьячего. Нашёл он и муллу, который обряд этот обязался совершить. Все концы связались в тугой узел, и разрубить его предстояло послу российскому — Петру Андреевичу Толстому.
* * *
…Пётр Андреевич знал, сколь много известно подьячему Тимофею о посольских делах и какую опасность несут те его знания для державы Российской. Бумаг через руки подьячего проходило много, и ему ведомы были и имена добровольных работников Петра Андреевича, и связи среди приближённых султана, и намерения посла. Сказать надо было с определённостью: подьячий Тимофей изменой беду принесёт, и беду большую. Пётр Андреевич, как чайка, голову под крыло прятать не стал. Сказал без лукавства: опасен сей человек державе Российской, зело опасен. И первое, что решил, — тайно вывезти подьячего из Стамбула и переправить в Россию. Однако Савва Лукич возразил:
— Нет, сие невмочно. Турки увезти подьячего не дадут. Спилиот слова эти подтвердил. И Лука Барка сказал:
— Да, это так.
— Деньги и камни дробят, — настаивал Пётр Андреевич, — особливо здесь. Восточный народ на сладкое падок.
— Верно, — ответил Савва Лукич, — однако подьячего тайно не вывезти. За российским посольством смотрят крепко, и янычары злы.
— Но ты попробуй, — упорствовал Пётр Андреевич, — попробуй.
— Что ж, — ответил Савва Лукич, поглядев на Спилиота и Луку Барка, — попробуем…
Пётр Андреевич теребил ворот камзола. Душно ему стало, и Савва Лукич понял, отчего вдруг воздуха послу не хватило. Опустил глаза, повторил:
— Попробуем.
— Тайно, в карете, — сказал Толстой, — вывезти с посольского подворья, купцам передать, а там хотя бы и в Венецию. Оттуда уже легче до России добраться.
— Хорошо бы и так, — взялся за бороду Савва Лукич, — только думаю, что такого не получится. Вот вам и чюрбачея нового к посольству приставили, и янычар сменили. То неслучайно. Тимофей им нужен, и визирь, думаю, обеспокоился. Но всё же попробуем.
Савва Лукич оказался прав. Вывезти подьячего никто не решился. С купцами говорили, большие деньги сулили, но купцы качали головами и твердили одно:
— У султана Семибашенный замок крепок, подвалы в нём глубоки. Люди в них гниют заживо. Ай-яй-яй… Золото это хорошо, но…
Разводили руками. В подвалы султанской тюрьмы никому не хотелось. Напуганы были сильно. Знать, о том кто-то побеспокоился.
— На кол, — говорили купцы, — и не за такое султан сажает, — и округляли испуганно глаза.
Казалось, и Тимофей почувствовал, что его измена открылась, а может, ему о том шепнул чюрбачей или кто из янычар. Подьячий забеспокоился, и не было дня, когда не попросился в город. То одно ему надобно было, то другое, но Филимон всё подносил и подносил для перебеливания бумаги. Принесёт бумагу, положит на стол, выйдет за дверь и, остановившись, прислушается: как там подьячий? И слышно было, что тот не столько за столом сидел, сколько расхаживал по палате. Половицы под сапогами Тимофея стонали. Пробежит подьячий через палату и остановится у окна, шаги смолкнут, но вот опять запоют половицы, и вновь молчок. На вопросы Петра Андреевича Филимон отвечал так:
— Не сидится Тимофею на месте. Бегает, бегает по палате, и шаг у него боязливый, что у мыши. Только — шасть, шасть из стороны в сторону. Войдёшь — в лицо не смотрит.
— Ступай, — отвечал на то Пётр Андреевич и всё тяжелее гнулся над столом.
Посольское подворье замерло в ожидании — что дальше?
Свои и ступать-то громко опасались, а говорили полушёпотом, да и по нужде только. А так всё больше молчком обходились. Чюрбачей насторожился. Торчал посреди подворья с утра до вечера и носом по сторонам водил, кривым, изломанным не то в драке, не то в сече какой.
Филимон о нём говорил:
— Гляди, как петух выглядывает. И перо-то в чалме торчит, словно гребень. Ну-ну…
Пётр Андреевич сидел в своей палате и будто ждал чего или на что-то ещё надеялся. Но всем на подворье было ясно — надеяться ему не на что.
Ввечеру скрипнула дверь посольской палаты. Филимон услышал, как Пётр Андреевич пробормотал неразборчивое под нос, нужно думать вспомнив чёрта. В доме шага нельзя было ступить, дабы что-то не откликнулось на это движение. Стар, не обихожен, запущен был дом. Затрещали перила. Толстой спускался по лестнице. В другой раз скрипнула дверь, и Филимон догадался, что Пётр Андреевич зашёл в палату к посольскому священнику.
Вновь стихло.
Толстой, войдя к священнику, застал того у иконы. Слабый огонёк лампады освещал согбенную чёрную фигуру молящегося, лаково отсвечивающую доску иконы. Святой лик был неразличим, икона, видать, была стара. Пётр Андреевич молча ждал, пока отец Пимен окончит молитву.
Наконец тот поклонился, коснувшись лбом пола, поднялся с колен. Шагнул к столу, долго высекал искру, но справился и с этим, зажёг от затеплившегося трута бумажку, засветил свечу.
Молча сели.
Свеча потрескивала, разгоралась не вдруг. Пламя качнулось в одну сторону, в другую, через край лунки, в которой плавал фитилёк, перекатилась восковая слеза, и огонёк поднялся повыше, осветил сидящих за столом. Стало видно, что говорить им трудно.
Отец Пимен прибыл в Стамбул недавно. Был он молод, и лицо его ещё не тронули морщины. Белёсым отсвечивали выцветшие под солнцем рязанские брови, и сквозила лёгкая, незаматеревшая бородёнка, однако губы были сложены сурово, лоб нахмурен. Нет, трудно было ему прервать молчание. И всё же, теребя трепетными пальцами крест на груди и не поднимая глаз на Толстого, он сказал:
— Един бог дарует жизнь человеку, и бог единый может её отнять.
Толстой на те слова тяжело задышал и, только уняв волнение, сказал:
— А христопродавство? А измена?
Глаза Петра Андреевича уставились в упор на отца Пимена. Тот по-прежнему на гостя не смотрел. Рука попа всё крепче и крепче цеплялась за крест и, наконец схватив его всеми пальцами, припала к груди, как ежели бы в этом обретя защиту. Едва различимо он ответил:
— Не судья тебе слабый, сирый священник… Не судья… Одно скажу — на тебе царское повеление державу Российскую оберегать, и богу дано тебя рассудить. Богу!
Толстой смотрел на пламя свечи, и зрачки его то расширялись, заливая чернотой весь глаз, то сужались до остро колющей точки. Слабый огонёк колебался, и тени скользили по стенам, представляя причудливый и странный мир ни на что не похожих, мгновенно меняющихся фигур, в движении которых невозможно было уловить последовательность, и оттого двое у стола в своей неподвижности являли ещё большую определённость и устойчивость. Так сидели они долго, и отец Пимен, теперь не пряча глаз, смотрел на Толстого, и понимая, и скорбя, и содрогаясь душой за муку, которую этот человек должен был принять на себя. И, наконец, не выдержал, всхлипнул, слеза поползла по его щеке. Толстой, услышав всхлип, вздрогнул и, будто очнувшись ото сна, резко поднялся, шагнул к дверям. Услышал за спиной:
— Господи, помилосердствуй, наставь его, прости и укрепи…
Пётр Андреевич, не дослушав сдавленный шёпот отца Пимена, шагнул через порог.
Филимон вновь услышал, как заскрипели половицы. Пётр Андреевич ступал тяжело, и был он в эту минуту и походкой, и лицом, да и всей повадкой до удивления похож на князя-кесаря Ромодановского или на дьяка Украинцева, что наставлял его перед поездкой в Стамбул. Да, сходство это удивительное сказывалось не столько во внешних чертах, сколько в неотвратимости движения грузной фигуры, ощущаемой в ней силе. Вот в этом-то единое было точно, и объявилось оно не случайно, не вдруг, но день за днём и год за годом, так как и день за днём, и год за годом и князь-кесарь Ромодановский, и покойный к тому времени дьяк Украинцев, и посол российский в Стамбуле Пётр Андреевич Толстой были связаны и невидимыми нитями, и явными делами, направленными на одно, всё на одно — на шпагу взять или добыть иным путём успех и славу державе своей. А время было тяжкое, и на каждого из них оно накладывало печать этой похожести, которая определяла суровость трудного пути утверждения самостоятельности и достоинства народа российского.
Поднявшись в свою палату, Пётр Андреевич сказал Филимону:
— Зови.
Имя не обозначил, но и так было ясно, о ком речь.
Тимофей вошёл и, словно в стену, упёрся в устремлённые на него глаза Петра Андреевича.
Тот молчал. Молчал и Тимофей, но и первый и второй знали, какие слова будут сказаны. У подьячего судорогой исказилось лицо, и он упал перед столом, сухо стукнув коленами в пол.
— Не виноват, не виноват! — взмолился Тимофей.
— Не лги, — сказал Толстой, — на тебе и так великий грех. Не отягчай душу.
Тимофей уронил голову на грудь, плечи его дрожали.
— С тобой должно, — твердо сказал Толстой, — поступить беспощадно. Ты вере христианской — отступник, царю — вор, народу российскому — изменник.
Лицо Петра Андреевича переменилось совершенно. Вот и он, Пётр Андреевич Толстой, сидел за столом, а вроде бы и не он. Исчезла в глазах насмешка, ожесточились добродушные морщинки, пролегавшие к вискам, и только презрение, убеждённость в правоте совершаемого и сила проступили в нём.
— Одним облегчить душу можешь, — сказал он, — покаяться, — Пётр Андреевич передохнул и обрушил на подьячего страшные слова: — Да смерть принять добровольно.
И вроде бы хищный хряск топора раздался, как бывало в Москве, на Болоте, где казнили последнюю сволочь городскую. Хрясть! — и голова с глухим стуком падала на доски помоста.
— Нет! — вскинулся подьячий. — Нет!
Теперь лицо его было в слезах, на висках, на тощей шее, выглядывавшей из ставшего вдруг непомерно широким ворота, проступили вены, набрякшие от кинувшейся в голову дурной, чёрной от ужаса крови.
— Нет!
— Ну-ну — сказал Толстой, с гадливостью опустив углы губ, — умеешь воровать, умей и ответ держать.
— Нет! — в другой раз крикнул подьячий с безнадёжностью. — Нет!
Но Толстой этого «нет» не слышал. Здесь, в тесной палате со скрипучими полами, в чужом городе, под небом, расцвеченным иными, нежели на родине, звёздами, он был и народом, что толпился на Болоте, в Москве, вкруг помоста, на котором совершались казни над преступившими установленные людьми пределы, и судьёй, вынесшим приговор, и даже тем, кто исполнял волю закона и не мог, не имел права позволить себе ни жалости, ни сострадания. И оттого не слышал он воплей подьячего, да и не глядел на него.
Толстой поднялся от стола, шагнул к поставцу, достал и, крепко пристукнув донцем, выставил на стол штоф с вином и чашу синего непрозрачного стекла. На дне чаши белела щепоть брошенного загодя отравного зелья.
Подьячий, смолкнув, следил за Петром Андреевичем мало что понимающими глазами. От сдерживаемых рыданий тело его содрогалось.
Толстой наклонил штоф над чашей. Тяжело булькая, словно вторя задавленным всхлипываниям подьячего, вино полилось в синее стекло.
— Пей! — ударил голосом Толстой так, будто вскричала разъярённая толпа у помоста, требуя казни ненавистного татя. — Пей!
И отвернулся к окну. Услышал, как, захлёбываясь, Тимофей и раз, и другой глотнул из чаши. Чтобы не слышать тягостные звуки, Толстой шагнул из палаты на галерею. Увидел — тень от стены легла на половину двора чёрной полосой, но и оттуда, из непроглядной черноты, смотрели глаза Тимофея. Толстой почувствовал, как острая боль резанула в груди с такой силой, что ежели бы он не успел ухватиться за шаткие перильца, то непременно упал здесь же, у дверей палаты.
Истинно говорят: «Беда за бедой по нитке ходит». Едва несчастье с подьячим избыли, как другое привалило.
Над Стамбулом гуляли ветра, а море раскачало так, что в гавани Халич, добро укрытой от непогоды, на берег выбросило лёгкие фелюги и сандалы, да и суда потяжелее сорвало с якорей. Птица и та страдала от штормов, и на прибрежной гальке валялись без числа тушки чаек и уток, летело перо да грызлись из-за падали собаки.
Посольский дом гудел и стонал под ударами ветра. На крыше, не смолкая, стучала битая черепица, ветхие галереи гремели изломанными перильцами и до жути дикими голосами выли прогнившие водоотводные желоба. Посольские мёрзли, да и сам Пётр Андреевич, кутаясь в старый московский беличий тулупчик и повязав голову тёплым платком, ругательски ругал бестолковых турок, не умеющих не то что печь добрую сложить, но соорудить хотя бы плохонький очаг, дабы согреться русскому человеку. Здесь обходились в домах жаровнями или глиняными горшками с древесным углём, от которого больше было угара, разламывающего голову, нежели жара. Но всё то не было бедой. Да и тёплый платок на голове и заячий тулупчик Пётр Андреевич снёс бы без ропота. Беспокоило другое, отчего и ходил посол по дому туча тучей и ворчал недовольно. Почта из России шла медленно, а слухов и разговоров в Стамбуле было много, и разговоров разных. И хотя Пётр Андреевич был не тем человеком, которого разговоры могли смутить, однако то ясное, что известно ему было, придавало особый смысл и невнятным шёпотам.
А известно послу в Стамбуле было немало.
Карл шведский, раздавив ничтожного Августа, в Польше не задержался. Разорена была войной Польша и накормить отощавших шведов не могла. Одному из довереннейших своих придворных, генерал-лейтенанту барону Гилленкроку, Карл сказал:
— Здесь не то чужим, своим хлеба до весны не хватит. Армия Карла двинулась в богатую Саксонию. Шведы шли весело, улавливая чуткими носами соблазнительные запахи жареного мяса и вдохновляемые надеждой отоспаться на тёплых, не выпотрошенных войной перинах. Глаза солдат радовали обильные поля. Август, бессильный противостоять Карлу, распахнул перед шведами городские ворота и Дрездена, и Лейпцига, и Хемница. Но и Толстому, и тем более царю Петру, его генералам и Посольскому приказу было ясно: Карл только набогатится в Саксонии. И Пётр на совете в городишке Жолкве, куда был собран весь цвет российского командования, так и сказал:
— Набогатится и тогда уже будет наш гость!
Сказал не то чтобы с опаской, но и не без волнения. Шведов бить научились, но с самим королём Карлом, после Нарвы, не встречались, и каждый из сидящих на совете понимал: одно — генералы Карла, другое — он сам. Да понимали и то, что армия шведская, после долгого сидения в Саксонии, сил накопила столько, что, ежели с такой армией в поле встретиться, потеха будет серьёзная.
Александр Данилович Меншиков на что петух был, а и то, бойко звякнув под столом шпорой, всё же насупился. Да и Пётр, дабы удержать его от неуместного в сей миг бахвальства, посмотрел на него строго и повторил с особым ударением:
— Наш гость!
Посол в Стамбуле об этом заключении царя был извещён. Известно ему стало и то, что в Жолкве решили генеральского сражения Карлу в Польше не давать, но отступать до своих границ и, только когда того необходимая нужда требовать будет, дать бой.
— Понеже, — сказал Пётр, — ежели бы какое несчастие учинилось, то бы трудно иметь было нам на чужой земле ретираду. Армии должно томить неприятеля, устраивать засады, внезапные нападения на переправах, уничтожать запасы провианта и фуража.
Толстой понял это так: Пётр хочет втянуть Карла в болотистые, лесистые российские пределы.
Шведы, наевшись в Саксонии до отвала, одетые в лучшее саксонское сукно и крепкие саксонские башмаки, двинулись к российским границам. Однако, прежде чем отдать приказ войскам к выступлению, Карл затеял тайную игру.
В Москве считали, что Карл направит войска на Псков и затем ударит по Прибалтике, дабы вернуть потерянные Шлиссельбург, Нарву и Дерпт. Генералы Карла были того же мнения, но не так думал Карл. По натуре замкнутый и скрытный, он вынашивал иной план.
Перед выступлением армии, разгуливая по роскошному кабинету знаменитого дрезденского дворца Цвингер — впрочем, красоты дворца Карла не интересовали, — он, глядя в окно на воды Эльбы, неожиданно сказал почтительно слушающему его барону Гилленкроку:
— Главная цель нашего похода — Москва!
Барон, давно привыкший к неожиданным поворотам мысли Карла, был всё же безмерно удивлён. Ему, генерал-лейтенанту и приближённому короля, было известно, что в ставке Карла не один месяц изучаются крепостные сооружения Пскова и составляются планы овладения этой крепостью и городом. И вдруг — Москва!
Он поднял плечи.
— Ваше величество, неприятель употребит, вероятно, все средства к воспрепятствованию такому походу.
Уложенная в кожаный чехол жидкая косица короля метнулась между проступающими из-под камзола лопатками, однако Карл не обернулся к барону.
— Ваше величество… — начал было вновь Гилленкрок.
Но Карл, только сейчас повернувшись к нему лицом, прервал барона:
— Неприятель не может остановить нас.
Как можно более смягчая ответ, Гилленкрок возразил:
— Полагаю, что неприятель не отважится вступить в сражение с вашим величеством, но русские будут для лучшей обороны окапываться на всех трудных для нас местах.
— Все эти окопы ничего не значат, и они не могут мешать нашему движению.
Понимая, что он может вызвать гнев короля, скрепив душу, Гилленкрок продолжал возражать:
— Когда неприятель увидит, что не может остановить движение нашей армии, то непременно начнёт жечь в своей земле.
Серые глаза Карла лишь на мгновение задержались на лице придворного.
— Ну и что же? — сказал король. — Ежели царь Пётр не выжжет своей земли, то я сожгу всё.
И, уже вовсе рискуя разгневать короля, Гилленкрок твердо на то ответил:
— Со временем, ваше величество, убедитесь, как опасно углубляться в неприятельскую землю, не имея прочных сообщений с отечеством.
Карл отвернулся от барона и, вновь глядя на воды Эльбы, сказал:
— Мы должны отважиться на это, пока нам благоприятствует счастье.
Косица короля чётко пролегла между лопаток. С королями не спорят, но барон развёл руками:
— Счастье… — он запнулся, — счастье… Это очень опасно, ваше величество.
— Нет, — отрезал Карл, — тут нет никакой опасности. Будьте покойны.
Карл считал: Псков, Нарва, Дерпт и даже вся Прибалтика — это только частности. Успех здесь не решал главной задачи — окончательного сокрушения России. Только на развалинах Москвы, по мнению Карла, Пётр мог быть повержен на всегда.
Нервное, подвижное лицо Карла напряглось, выказывав борьбу, происходившую в душе короля, но Карл сделал усилие и готовая было сломать его губы гримаса неудовольствия сменилась улыбкой.
Барон понял, что разговор окончен, и изящно раскланялся.
Об этом разговоре ни царь, ни Толстой знать не могли, как не могли они знать и о том, что тогда же по распоряжению Карла были посланы тайные агенты в Варшаву, Лондон и Вену. С каждым из них король говорил лично. И каждому из этих доверенных лиц королевский казначей вручил по изрядному кошелю, недвусмысленно позвякивающему металлом. Происходило это также тайно, но, однако, мелодичный тот звон услышали в далёких от Дрездена европейских столицах, ибо вскоре и из Варшавы, и из Лондона, и из Вены в Москву, в Посольский приказ, поступили срочные депеши, сильно озаботившие царя Петра. Из Москвы в Стамбул пошла эстафета. Офицеру, коему было вручено письмо к российскому послу в Стамбуле, в Посольском приказе сказали жёстко:
— Коней не жалеть, поспешать, елико возможно!
Офицер вскинул руку к треуголке.
Известия, полученные Толстым из Москвы, были неожиданными. Пётр Андреевич жадно прочёл письма, разложил на столе, передохнул и, по давней привычке крепко охватив пальцами подбородок, задумался.
Перед ним лежало три бумаги. Список с послания украинского гетмана Мазепы в Москву. Письмо ныне возглавившего Посольский приказ[29] — граф Фёдор Алексеевич Головин скончался, и о том Толстой жалел безмерно — Гаврилы Ивановича Головкина и указ Петра, в котором говорилось: «Господин посол, посылаем вам о некотором деле письмо, здесь вложенное, на которое немедленно желаем отповеди». Так резко царь Толстому никогда не писал. Однако Петра Андреевича не столько обескуражил царёв тон — хотя это само по себе было неприятно, — сколько список с послания гетмана Мазепы. Прочтя его, Толстой был ошарашен, словно хватил непомерную понюшку злого табаку. Он тряхнул головой, будто желая убедиться, что всё это ему не приснилось, но существует в яви, и в другой раз устремил глаза на столь удивившую его бумагу.
Пётр Андреевич встречался с украинским гетманом, чашу вина пригублял с ним и сейчас постарался восстановить в памяти ту встречу.
Иван Степанович был высокий, худой, смуглый от загара, с вислыми хохлацкими усами, которые, впрочем, казались на его продолговатом лице со слабым, утопленным к шее подбородком чем-то ненужным или вовсе чужим. Запомнился он Петру Андреевичу человеком приветливым, обходительным, весьма осторожным в выражениях. Несмотря на украшавшую его голову казацкую чуприну, в нём чувствовалось польское воспитание и польское щегольство, свойственное тем украинским дворянам, которые выросли при польском королевском дворе. Выпил он за столом чуть, говорил немного; в движениях и поступках Ивана Степановича угадывалось умение сдерживать себя, что заметно выделяло его среди шумной, громкоголосой казацкой старшины.
Письмо же, лежащее перед Толстым, было написано человеком, явно не раздумывающим над поступками и не выбирающим слов. Пётр Андреевич перечитал письмо и с определённостью решил, что тот гетман Украины, которого он знал, тот, прежний Иван Степанович Мазепа, такого написать не мог. Это было или недоразумение, ошибка, или… Но тут Толстой придержал разбежавшуюся мысль, не позволив додумать промелькнувшую догадку, и, в который уже раз, углубился в строчки письма.
Иван Степанович с твёрдостью, на которую мог решиться человек полностью осведомлённый, утверждал: «Порта Оттоманская конечно и непременно намеревается начать войну с его царским величеством».
«Вот так, — мысленно сказал Толстой, — «конечно и непременно», не иначе, никак не иначе… Ну-ну…»
Мазепа писал, что в Бендеры отправлено двести пушек, много пополнен гарнизон крепости, и шведы, и поляки, склоняя Порту к войне с Россией, заявляют, что для победы турок «наступило самое благоприятное время, какого они вперёд не могут и иметь».
— Так… Так-так… — протянул Толстой, придерживая бумагу перед глазами, и подумал: «Не могут иметь, не могут иметь… А что они имеют? Пустую казну? Нет, здесь что-то неладно, что-то не складывается». И побежал глазами дальше по строчкам.
Мазепа писал — и это окончательно смутило Петра Андреевича, — что иерусалимский патриарх Досифей сообщил ему: «Порта непременно со шведом и с Лещинским хочет и самим делом склоняется в союз военный вступить и войну или зимою, или весною с его царским величеством начать».
Не выдержав, Пётр Андреевич встал из-за стола и с несвойственной для него поспешностью пробежал по палате из угла в угол.
Оборотился, вновь подступил к столу и, не присаживаясь, пробежал глазами по строчке: «Досифей подтвердил…»
— Нет! — с яростью ударил Пётр Андреевич кулаком по столу. — Нет!
Это была ложь. Но ложь в том мире, в котором жил Пётр Андреевич, никогда не рождалась без умысла, и он это знал. Значит, эта ложь о немедленной войне между Россией и турками была кому-то нужна. На лжи перед Москвой настаивал Иван Степанович Мазепа, но он был верным слугой царя Петра.
И Толстой решил так: кто-то преднамеренно и зло обманывает Мазепу. Кто же это?
Толстой боком присел к столу. «Обманывает Мазепу? — спросил он и тут же ответил: — Э-э-э, нет. Не то. Обман в самом письме Мазепы. Досифей не сообщал и не мог сообщить украинскому гетману то, о чём он пишет. Значит, обманывает Мазепа?» И тогда догадка, которую Пётр Андреевич не решился додумать при первом прочтении письма, вновь возникла в мыслях.
Толстой твердо положил руку на полученные из Москвы бумаги и сказал:
— Надо всё с великим тщанием проверить. Путаного здесь много.
Русская армия отступала. И как бывают схожи все наступления, когда радостное ощущение победы заслоняет неразбериху и сумятицу перемещения огромного числа людей, боль от ран и даже сами смерти побеждающих, схожи и все отступления. Только в отступлении придавливающая всех и каждого угрюмость движения вспять с особой подчёркнутостью выявляет то, мимо чего скользит, не замечая, взгляд в наступлении. И здесь отчётливо видна непролазность разбитых, залитых конской мочой дорог, рвань солдатских башмаков, голодные, с ввалившимися щеками, обросшие щетиной лица. Слух с обострённостью следит за повторяющимися из раза в раз всхлипами выдираемых из грязи ног, вскриками и стонами раненых или больных, за треском сцепляющих орудийных лафетов и телег. И царь Пётр хотя и из возка, но всё одно видел и разбитую дорогу, и голодные, заросшие щетиной лица, как слышал вскрики, стоны, треск телег и орудийных лафетов.
Возок бросало из стороны в сторону. Сидящий рядом с царём кабинет-секретарь Макаров, сцепив зубы, молчал, дабы не прикусить язык, но дорога пошла поровней, и он отважился сказать:
— А теперь, ваше величество, письма из Москвы, от Головкина, — и раскрыл мостившийся на коленях походный сундучок, — только что доставлены.
— Давай, — ответил коротко Пётр.
Макаров пошелестел в сундучке бумагами и вытащил одну из них.
— Это из Лондона, от посла вашего величества.
Он хотел было протянуть бумагу царю, но Пётр, не взяв письма, буркнул под нос:
— Суть, суть перескажи.
— Всё то же, ваше величество, — заторопился Макаров, — посол настойчиво предупреждает о сговоре между королём Карлом и турецким султаном. Лондон, сообщает он, только и говорит о предстоящей войне.
Пётр смотрел в заляпанное грязью слюдяное оконце. Лицо его в сумерках возка было неразличимо.
Макаров подержал бумагу в руках, ожидая, что царь что-либо спросит, но тот упорно молчал. Тогда Макаров спрятал письмо из Лондона и достал другое.
Пётр всё молчал.
— Письмо из Парижа, также пересланное Головкиным, — шелестящим голосом с прежней однотонностью продолжил Макаров. — Посол сообщает…
— То же? — прервал его Пётр.
Макаров от неожиданности вроде бы поперхнулся, но поправился и подтвердил:
— Да.
— Ну, а от Толстого, — спросил Пётр, — есть письма?
— Нет.
— Нет, — подтвердил за ним Пётр, — не-ет…
И было непонятно, что он хотел сказать этим «нет». Во всяком случае, растянутое царём «не-ет» не только подтверждало отсутствие вестей из Стамбула.
Возок внезапно дёрнулся и стал. В передок ударило копыто коренника. И царь и Макаров услышали, как с облучка спрыгнул возница-солдат, как разом зашумели, перебивая друг друга, людские голоса.
— Что там ещё? — ворчливо сказал Пётр.
Макаров только взглянул на него и ничего не ответил. Царь подождал мгновение и раздражённо толкнул дверцу.
Слева и справа возок обтекали шагающие не в лад солдаты царёва Преображенского полка, и хотя шагали они розно, но увлекающая их вперёд сила была столь велика, с такой властностью захватывала всех, отнимая и помыслы и чувства, что ни один из них не обратил внимания на вылезшего из возка царя. Да Пётр и сам был далёк от того, чтобы обращать на себя чьё-либо внимание. Оскальзываясь по грязи, он шагнул за передок возка и увидел, что стало причиной внезапной остановки.
В жидкой, бурой грязи лежал, вытянувшись во весь рост, любимец Петра, жеребец-коренник. И царь прежде другого увидел углом торчащее ухо и огромный, налитый болью и ужасом глаз жеребца. Солдат-возница, бестолково, по-бабьи суетясь, подсовывал под могучее тело жеребца плечо, выдыхая с рвущимся изо рта паром стонущее:
— Ну-ну, ну же, ну…
Но Пётр уже понял, что усилия возницы напрасны. Жеребец, упав, сломал выше бабок передние ноги, и ему не было суждено подняться, и оттого, знать, и был налит ужасом и болью устремлённый на Петра глаз. Судорога собрала в комок кожу у виска царя и прокатилась по щеке к шее. К Петру из рядов солдат шагнул офицер. Вытянулся струной. Пётр, с трудом выпрямив согнутую судорогой шею, сказал коротко:
— Пристрели.
И, уже не глядя на жеребца, ссутулившись, повернулся и пошёл вперёд по дороге. Поскользнувшись, поправился, утвердившись каблуками на грязи, и опять зашагал, придерживая рукой драгунский, в обшарпанных ножнах палаш на боку.
По напряжённой спине царя было видно, что идти ему трудно. Минуту-другую необычно высокая фигура царя выделялась в сером колышущемся людском потоке, но, по мере того как Пётр уходил дальше и дальше, серое однообразие стёрло это отличие и царь затерялся в рядах солдат.
В эти трудные дни отступления русской армии Пётр Андреевич получил ещё одно письмо от Гаврилы Ивановича Головкина. И хотя написано оно было жёстче, чем предыдущее, письмо его не удивило, не огорчило и даже не раздосадовало. Слишком много дел было у посла российского в Стамбуле, и душевных сил на досаду и огорчения не хватало. Гаврила Иванович писал: «Мы зело удивляемся, что ваша милость о турском намерении, которое они ныне против царского величества, как слышится, намеревают, также и о прочих противных поступках и пересылках со шведом и с Лещинским через посольство их турецкое ничего к нам не пишешь».
Толстой отложил письмо, сложил губы в некую фигуру и издал труднопередаваемый звук, который всегда выражал у него особое душевное волнение. Это было нечто среднее между «тра-та-та», «ду-ду-ду» или, быть может, «др-др-др». Ничего музыкального в этом не было, однако сложность и полноту чувства звук этот передавал весьма явственно.
Последнее время Петра Андреевича на посольском подворье почти не видели, но вполне могло сложиться впечатление, что посол российский одновременно, словно раздваиваясь, бывает в разных концах Стамбула. Его можно было застать у муфтия, у его кяхья[30], у султанского имама, у капи-кяхья Юсуф-паши и во многих других домах. Янычары, приставленные к российскому посольству, сбивались с ног. У чюрбачея от бесчисленных поездок провалились глаза, и он в эти дни скорее напоминал бурдюк, из которого выпустили вино, нежели представительного и осанистого воина, каким он был недавно. И ежели после многотрудной и многочасовой скачки по Стамбулу, поспешая за Толстым, чюрбачею приходилось возвратиться на посольское подворье, он выдыхал одно только «ва-х-х-х!» и без сил опускался на землю. Посол же российский, втянувшись в гонку, с каждым днём становился бойчее и даже прибавлял в скорости передвижения. Чюрбачей, окончательно отчаявшись, приступил к Толстому с вопросом: отчего высокочтимый посол не полёживает на подушках с кальяном, наслаждаясь дарованной аллахом жизнью, но скачет и скачет от дома к дому?
Пётр Андреевич прищурил глаз и ответил чюрбачею не без лукавства:
— Э-ге, братец, служба… — И ласково потрепал растерявшегося турка по плечу. — Служба!
И добродушно, рассыпчато, как это может человек, на душе у которого одна радость светлая, рассмеялся.
Но по правде, смеяться российскому послу в эти дни было ни к чему. Положение его было сложным, и весьма.
Пётр Андреевич понимал, что Гаврила Иванович Головкин не детскими играми тешится, когда пишет послу грозные письма. У него, главы Посольского приказа, забот много, и ему не до забав. А более того не забавляется царь Пётр, когда указывает: «…немедленно желаем отповеди». И окажись прав Иван Степанович Мазепа, послу — да и поделом — головы не сносить. Не о рыжичках солёных речь в письмах между Москвой и Стамбулом шла, но о судьбе державы. Прав Мазепа: тогда Петру немедленный резон был, отведя часть войск с западных российских пределов, срочным маршем бросить на юг, к Крыму, к Дунаю, и защититься от османов. Но это же означало, что манёвром сим царь ослабит армию, противостоящую шведу, подставив под удар Москву. Нет, здесь никто не шутил… Игра была начата страшная. В лапту, на лугу зелёном, мальчишки играют, а послы державы людские судьбы в руках держат. Здесь счёт большой — кровь. И всё то Петру Андреевичу было ясно, и ошибиться он не имел права. Никак не имел. И вот колесил по Стамбулу, в дома входил, спрашивал да ответы слушал. И многое успел. Оттого-то Толстой губами и сыграл: «тра-та-та», «ду-ду-ду» и даже «др-др-др».
Ныне Пётр Андреевич знал твердо: в письме Ивана Степановича Мазепы и малой толики правды нет. Обмакнув перо в чернильницу, он с уверенностью написал в Москву: «…и то самая ложь». Сообщил о Бендерах, что послано туда пятьсот янычар, да и из тех большая часть разбежалась, а пушек отправлено лишь столько, сколько потребно для обороны, но никак не для наступления, и что «войны от татар не слышится, и весна уже приближается, а у турок никакого приготовления к войне не является». Вот и измучился за последнее время, устал невыразимо, зато писал с облегчением. В конце письма даже шутку позволил о Мазепе, что-де он, находясь далече, «самые тайные секреты султанские ведает, чего мы здесь отнюдь проведать не можем». Но, пошутив так и отложив перо, нахмурился: не нравилось ему письмо Мазепы, ох, не нравилось. И не ошибку он здесь примечал, но много худшее. Однако утверждать окончательно того не мог и от заключения воздержался. Напраслину возводить было не в правилах российского посла в Стамбуле, а то, что в душе сомнение явилось, оставил для себя и решил ещё и ещё раз проверить. О тайной же игре короля Карла в европейских столицах, где шум о предстоящей войне османов с Россией его, Толстого, доверенные люди подняли, написал. Вот и в Дрездене не был, в двери кабинета короля Карла не входил, не слышал звона металла в кошелях, которые королевский казначей передал посланцам в Лондон и Вену, однако точно угадал. Всё расставил по местам.
Анатолийское весеннее солнце согрело исхлёстанный сумасшедшими зимними ветрами Стамбул, и город преобразился. Цвели миндаль и лавровишня. Розовые лепестки были как обещание счастья, а нежнейший их запах придавал аромат даже проплесневелой лепёшке нищего.
— Аллах акба-а-р! — восклицали муэдзины с высот минаретов, и в эти дни больше чем когда-либо верилось, что великий аллах и вправду защитит правоверных и дарует самому неудачнейшему минуту отдохновения от невзгод. Весна всем и всегда внушала надежды, и не её вина, что не у всех и не всегда они сбывались.
Над окном у Толстого сладко ворковала, катала хрустальный шарик в горле голубка. Уж так плакала, так молила о счастье. Пётр Андреевич только вздыхал: вспомнил дом, жену… Филимон, вытиравший пыль в комнате посла, глянул на Петра Андреевича и ухмыльнулся со значением. Толстой, перехватив взгляд, дёрнул головой, как взнузданный, сказал:
— Чертовка, прости, господи, меня грешного. Возьми палку да прогони. Голову разломило… Ну, ступай!
Голубку, растревожившую посла, прогнали.
В эти лучезарные дни Пётр Андреевич решил осуществить давнее начинание: открыть торговый путь между Азовом и Стамбулом. Щурясь на солнце, Пётр Андреевич с определённостью сказал: «Время пришло». Но не ласковое анатолийское весеннее солнце пробудило посла к действию.
Во время зимних гонок по Стамбулу Пётр Андреевич обрёл немало новых знакомцев да и с теми, кого раньше знал, сошёлся много ближе. Нужда заставила и горькую редьку есть.
Многажды беседовал посол с визирем. И к великому удивлению того, говорил не только о пользе державы, коею представлял при султанском дворе, но и империи Османской.
Так однажды, прихлёбывая кофе, Пётр Андреевич сказал:
— Османской империи не след помощь оказывать в борьбе ни Швеции, ни Станиславу Лещинскому.
Визирь, слушая Толстого, кивал головой. Он понимал: перед ним посол державы Российской, а Швеция и Станислав Лещинский её враги, и Толстой и вправе и должен и делами и разговорами споспешествовать их ослаблению. Всё было правильно в словах Петра Андреевича Толстого, и иного от него визирь не ждал. Но посол, отставляя чашку, вдруг сказал:
— Как не должно османам помогать и России.
У визиря от удивления взлетели брови.
— Я поясню, — сказал с улыбкой Толстой.
Более и более Пётр Андреевич осознавал, что дипломатия есть искусство, и искусство тончайшее. О том он слышал в путешествиях по западным странам, читал; но только ныне искусство это входило в его плоть, становясь не понятием, но образом мышления и действия. Так художник, изо дня в день копируя натуру, в какой-то миг замечает, что кисть, вначале только тупо следующая за обретёнными трудами знаниями, вдруг взлетает над полотном и, будто управляемая не рукой, но движимая неведомой силой, набрасывает краски. Послы державы Российской учены были одному: к словам и букве цепляясь, стой на том, что прямо служит успеху твоей державы. Толстой ныне отказывался от привычного. Его «кисть» уже летела над полотном.
— Поясню, — повторил Пётр Андреевич и откинулся на подушки.
Визирь выразил на лице внимание.
— Победа России в войне со шведом, — мягко начал Толстой, — безусловно, укрепит её, и Османская империя обретёт на северных границах сильного соседа. Выгодно ли это османской стороне? — Толстой развёл руками и улыбнулся: — Очевидно — нет.
Визирь по-прежнему выражал внимание.
— Ну а ежели победят шведы? — задал вопрос Толстой. — Выгодно ли такое султанскому двору? Также — нет, ибо швед, укрепившись в Польше, будет, несомненно, грозить османским владениям на пограничных с поляками землях.
Толстой выпрямился на подушках и согнал улыбку с лица:
— Равновесие на гранях державных — вот что было, есть и будет впредь искомой истиной мужами государственными. Равновесие!
Визирь опустил глаза, и оливковое лицо застыло, сохраняя должное достоинство. «А он прав, — думал визирь, — этот московит. Прав. Империи не нужны ни сильный Карл, ни могущественный Пётр. Пусть их в войне истощают друг друга. Оно лучше. Так и только так можно сохранить спокойствие на границах империи».
Прошла долгая минута, прежде чем визирь поднял лицо и сказал:
— А ты лукав, посол. Лукав!
— Нет, — возразил Пётр Андреевич, — я ищу выгоды державе своей, но не хочу достигнуть успеха за счёт бед соседа, ибо известно: чужое взять — своё потерять.
И раскинул руки, словно говоря: «Вот он я — весь перед вами их открытой душой». Да тут же и сказал:
— Всякого посла художества и хитрость суть строить между государи и государствы тишину и покой обеим странам в пользу.
Так говорил Толстой и с другими придворными и добивался многого, но прежде удерживал османов от безрассудного вступления в войну и вместе с тем завоёвывал доверие. А это в посольском деле было важно и очень. На волне этих добрых отношений и решил Пётр Андреевич пробить хотя бы малую щёлку в глухой, годами возводимой турками стене для ограждения российской торговли Чёрным морем.
Чёрное море турки берегли, словно непорочную деву, предназначенную для султанского гарема. А как мечталось российскими кораблями — слава богу, флот в Воронеже научились строить — пройти Чёрным морем в Стамбул, а там и в Венецию, и дальше. Но нет — турки море держали в своих руках крепко. А славно бы пшеничку российскую и на венецийский рынок или даже и далее — во Францию! В Архангельске ганзейские негоцианты за горло русского купца держали: назначат цену по три копейки за пуд пшеницы и ты хотя бы и криком кричи, но всё одно отдашь, так как деваться некуда. А тут, на Черном-то море, раздолье, и корабли по Дону спустить можно. В Амстердаме за пуд той же пшеницы по гульдену давали, во Франции и того больше. Вот деньги, да и какие! Нужду бы забыли в дырявом кармане полушки искать. Царь Пётр колокола с церквей стягивал, мужика вовсе задавили налогами. Уже и на лапти, на проруби в Москве-реке, на дымы из труб налоги положили. Куда уж дальше, а? Нет, России без моря было нельзя. Никак нельзя.
В Москве покойный ныне граф Фёдор Алексеевич Головин, сидя под низкими сводами Посольского приказа, говорил Петру Андреевичу:
«Великое дело сотворишь, коли ворота Чёрного моря для нашего купечества откроешь. Великое!»
И глаза у него — вот и стар был, и рыхл чрезмерно — блестели.
Пётр многажды наказывал:
«Первостатейное дело — Чёрное море нам отворить».
Отворить…
Толстой загорелся и ещё в Адрианополе, в первые месяцы пребывания в Османской империи, со всей страстью, на которую способен малоискушённый, но жаждущий действий человек, принялся за выполнение царёва наказа и — получил примерный урок.
Чиновник султанский, от которого во многом зависело решение столь важного дела, едва выслушав посла, взглянул на него, не скрывая негодования, сказал твердо:
— Не только судам торговым или иным российским в Черном море не быть, но и двухвесельной лодке московитов никогда волн его не коснуться. Никогда!
Однако и столь категоричное заявление Петра Андреевича не остановило. Савва Лукич был послу в решении сего великого начинания первейшим помощником. Хорошо зная турецкое купечество, он присоветовал Петру Андреевичу действовать именно через купцов.
— Чиновник султанский, — говорил Савва Лукич, — подобен упрямой ослице. Её можно привести к источнику, но никто не заставит ослицу напиться, ежели она того не захочет. А купец — это деньги. Посулить купцу торговую выгоду, и он ради барыша всё сделает.
Савва Лукич пообещал свести Петра Андреевича с Мустафой Языджи — старшиной адрианопольского купечества. И в один из дней на посольской коляске подъехали они к дому купца. Пётр Андреевич ступил на землю, глянул: переулок был тих, безлюден, лишь ветер завивал пыль на жёлтых плитках. Подворье Мустафы Языджи смотрело на гостей глухой каменной стеной, покрытой поверху черепицей. Под черепичным скатом окованные медными гвоздями ворота, такие, что при нужде за ними можно было отсидеться и против иной пушки.
Савва Лукич стукнул в медную дощечку медным же, висевшим на крепкой цепи молотком. Тотчас в воротах отворилась калиточка, и на гостей глянул здоровенный чернобородый мужик в бараньем полукафтане, но таком, что руки мужика оставались голыми по плечи. На поясе у него висел нож. «Эге, — подумал Пётр Андреевич, — здесь не шутят».
Подворье было вымощено булыжником, и булыжник выметен так, что будто бы даже и лоснился под солнцем. Три цвета бросились в глаза: тёмный булыжник, белёные стены, зелень ухоженных кустов, рассаженных по двору. «А у нас войдёшь в иной двор, — подумал с горечью Пётр Андреевич, — и навоза куча… Да…» Пожевал губами, увидел, как через двор поспешал навстречу хозяин. Высокий, в богатом халате, шагал широко. Взглянув на него, Пётр Андреевич понял: человек с размахом и говорить с ним надо открыто, без уловок, так как всё одно хитрость купец почувствует и замкнётся. Есть такие люди, повадка которых объявляет их сразу. Да они ничего и не скрывают, уверены в своей силе, но скорее это не уверенность в них выказывается, а сама сила так себя выдаёт. Играет слабый, а такому играть душа не позволяет.
Через малое время гости и хозяин сидели за столом на широкой галерее, опоясывавшей дом. Перед галереей цвели сладко пахнущие розы. Вот такой был дом у старшины адрианопольского купечества Мустафы Языджи: снаружи — крепость, во дворе — рай.
И, как в раю, пели, щебетали птицы в клетках, развешанных по галерее. И птицы необычные, каких Пётр Андреевич ещё и не видел.
К разговору Петра Андреевича о торговле между русскими и османами купец отнёсся с живым вниманием.
— О-о-о, — округлил губы, — чем больше товара, тем выше барыш.
Наклонился к Савве Лукичу и быстро-быстро заговорил по-своему. Савва Лукич рассмеялся и, оборотив лицо к Петру Андреевичу, сказал:
— Это у них немного по-иному звучит, но смысл такой: торговать — не воевать.
Пётр Андреевич обрадовался, подумал: «Ну, сговоримся. Не обманулся я: купец, видать, мужик толковый». И с обидой рассказал, как его встретил султанский чиновник.
Мустафа Языджи выслушал его и, подвигая к послу блюдо с засахаренными фруктами, сказал:
— Торг любит волю, а ум простор, но простора-то в головах у султанских чиновников и не хватает.
Мустафа Языджи закусил травинку, взятую с блюда, и задумался. Прищурил глаз, словно целился в кого-то.
— Свободно, безбедно и безопасно торговать обеим сторонам, — сказал Толстой, — вот что ищу едино.
Купец покусывал травинку крепкими зубами. Пётр Андреевич взглянул на него с надеждой. Мустафа Языджи сказал:
— Чиновник, известно, по одной тропинке ходит, и в сторону ему отвернуть трудно.
Взял чётки, и пальцы его полетели по янтарным зёрнам. Чек, чек, чек — постукивали чётки, словно отсчитывая ступени лестницы, по которой следовало подняться, дабы преодолеть строптивость и упорство чиновничьего Стамбула.
Через час коляска российского посла отъехала от дома старшины адрианопольского купечества.
— Ну как, — спросил Савва Лукич, — что думаешь?
— Размышляю, — ответил Пётр Андреевич, — размышляю. Однако сказать надо, купцы адрианопольские не ошиблись, выбрав Мустафу Языджи старшиной. Башковитый мужик. Башковитый…
Савва Лукич засмеялся, сказал:
— Купец что стрелец: попал, так с полем, а не попал, так заряд пропал!
Пётр Андреевич, не мешкая, подал прошение визирю, дабы купцам российским, которые в Стамбуле или иных османских землях торговлю вели, разрешено было возвращаться домой морем. Не позволяете-де товары судами доставлять, так разрешите людям морем ходить. Когда писал, подумал: «Не в лоб, так по лбу».
Визирь, прочтя просьбу, опешил, и о том Петру Андреевичу на ушко шепнули. Толстой, не долго размышляя, напросился к нему с визитом. Ответ послу российскому был, однако, уже готов. Чиновник с шустрыми глазами, мазнув по лицу посла усмешливым взглядом, бойко прочёл:
— Торговым московским людям, докончив торговые статьи, через Чёрное море ездить не надлежит…
Визирь развёл пухлыми, холёными руками, сладко улыбаясь.
— Не надлежит, — повторил чиновник. Визирь глянул на него, и того как ветром сдуло.
В фонтане умиротворяюще журчала вода, лёгкие струйки бежали, бежали, играя под солнцем бесчисленными бликами. «Не надлежит, — соображал Толстой, — вот, значит, как…» Иного он не ожидал и, предусматривая этот ход, видел и продолжение партии.
— Кхе-кхе, — кашлянул Пётр Андреевич и смял лицо, будто полынной горечи отведал.
— Нелюбовно, — сказал, — ох, нелюбовно. А у нас мир между державами. Ласка — бумагами высокими оговорённая.
Визирь заёрзал.
— И к чему обиды чинить? — наступал Толстой. — К чему раздражение? Нелюбовный ответ, и думу я твёрдую имею, что говорили его люди подначальные. Высокочтимый визирь к сему не причастен. Его мысли государственные, а это так, с пустой головой написано. Мудрейший султан, я полагаю, такого ответа не одобрит. Нет, — Пётр Андреевич воздел руки кверху, — высокому уму присущ и высокий полёт.
Визирь заёрзал более.
На другой день посол российский получил султанский указ, в котором сообщалось, что велено его высоким именем выделить московским купцам бесплатно тридцать подвод до Валахии, а путь по валахской земле оплачивать вполовину. Обоз российский сопровождать янычарам для безопасности. Такое было неслыханно. Однако моря турки не отворили. Но Пётр Андреевич и тем был доволен. Знал: первый шаг сделан, другой полегче будет, — и обратился к визирю с новой просьбой.
Толстой ныне просил разрешения отправить закупленные им для своего брата — азовского воеводы — вещи морем.
— А, — восклицал, — торговое судно снарядим и прямо в Азов! Так помалу морской путь в Россию и отворим.
Пётр Андреевич, конечно, лукавил. Вещи, которые он хотел отправить в Азов, были не его и не для брата куплены. В Россию возвращался Савва Лукич Владиславович. Товары принадлежали ему, но послу российскому нужно было создать случай отправки торгового судна в Азов. Не так важны и ценны были сами вещи, как почин. Турки отказать послу в отправке вещей для брата не посмели.
Двухмачтовый галиот стоял у причала, и Пётр Андреевич дважды и трижды в день ездил на берег. Следил за погрузкой, беспокоился, волновался, как бы в последнюю минуту турки не отменили разрешение, и был счастлив. Даже забронзовел лицом под жарким солнцем, был необычно шумен и словоохотлив.
— Моряк ведь я, моряк, — говорил Савве Лукичу, похлопывая ладонью по мощному стволу мачты, — на Мальту ходил в шторма… Море было бурно!
Над галиотом кричали чайки, сгибаясь под тяжестью тюков, грузчики шагали по скрипучим трапам, мимо борта галиота скользил по тихой воде сандал, покрытый богатыми коврами. Какие-то турки с полнокровными, сытыми лицами рассматривали не без удивления русских.
— Хорошо, — оглядывал берег и море Пётр Андреевич, — ей-ей, хорошо! — И, вдруг сев на бухту каната у борта, сказал: — А я вот здесь приткнусь и с судна не сойду. Так и в Азов приду.
Савва Лукич рассмеялся.
— Нет, — возразил, — а кто посольские дела править будет? Толстой, опустив лицо, помолчал с минуту и сказал с очевидной печалью в голосе:
— Завидую тебе, Савва Лукич. Ох, завидую. Недели не пройдёт, на своей земле будешь… Завидую… В церковь сходишь, в баньку, кг полке тебя попарят с кваском… Брат мой, Иван, в баньке толк понимает, так что заранее могу обещать: банька у него отменная и венички наверняка есть…
Упёр ладони в колени и молчал долго-долго. Молчал и Савва Лукич. Знал: дела заворачивались в Стамбуле круто.
Последнее время Пётр Андреевич писал в Посольский приказ, что «здесь суть вельми спокойно». И вдруг ветерком в Стамбуле потянуло. Холодным, знобящим ветерком.
Карл шведский заплутал на петлистых южных российских шляхах. Казалось — у этой земли нет края. С каждым днём, с каждой пройденной верстой незаметно, исподволь, но неизменно нарастало напряжение. Так бывает с человеком, который идёт по тёмному коридору. Он делает шаг, другой. Ничто не грозит опасностью. Он идёт дальше, и опять шаг, другой. Неожиданно нога начинает ощущать какую-то зыбкость пола, слух улавливает невнятные шорохи. Человек делает ещё шаг, ещё, ещё… Лица вроде бы касается не то паутина, не то чьё-то дыхание. Человек останавливается и, убеждая себя, что это показалось, делает ещё несколько шагов. И тут нога отчётливо ощущает опасную неровность, слух явно различает подозрительные скрипы, и безотчётная тревога рождается в душе… Но армия Карла всё ещё двигалась вперёд. Солдаты, нагуляв жирок в благодатной Саксонии, шагали даже бойко, но генералы уже оглядывались окрест с опаской. И вдруг, как выстрел в упор, грянула весть из корпуса генерала Левенгаупта, шедшего из Риги на соединение с главными силами короля[31].
Карл прилёг на походную постель, когда у входа в королевскую палатку раздался взволнованный голос дежурного офицера:
— Ваше величество! Ваше величество…
— Ну, что там? — недовольно скрипящим голосом откликнулся король. — Войдите.
Дежурный офицер отдёрнул полог и, поколебав свет свечи в грошовом шандале на столе, остановился у входа. Карл, недовольно повернувшись на постели, оборотился к нему, и глаза короля удивлённо расширились. Лицо дежурного офицера выражало полнейшую растерянность, ежели не страх.
— Что случилось? — невольно заражаясь волнением, спросил король.
— Солдат из корпуса генерала Левенгаупта! — почти выкрикнул офицер. — Он доносит… — офицер задохнулся, проглотил слюну, — он доносит…
Король поднялся с постели и с плохо сдерживаемым бешенством спросил:
— Так что же он доносит? Что вы мямлите?
— Корпус генерала Левенгаупта, — упавшим до шёпота голосом сообщил офицер, — разгромлен.
Через минуту перед королём стоял солдат из корпуса Левенгаупта. Мундир на нём был порван, лицо захлёстано грязью. Солдата шатало, и его поддерживали под руки. Это был рядовой лучшего гренадерского полка, случайно вырвавшийся из окружения. Он был так плох, что ему дали кружку вина, и только тогда солдат смог рассказать, что корпус разгромлен, а обоз в две тысячи телег, в котором было продовольствие и порох для армии Карла, захвачен казаками. Гренадер охватил голову руками и склонился на стуле.
— О боже, — невнятно выговорил он, — моим глазам пришлось увидеть такое… — Вдруг, выпрямившись, он с яростью и слезами выкрикнул в лица офицеров и придворных короля: — Корпуса больше нет!
В глазах солдата, казалось, зажглось безумие.
— Это ложь! — свистящим шёпотом выговорил король и, заметавшись по палатке, вскричал: — Ложь!
Но это не было ложью.
Разгром шведов под деревней Лесной многих заставил задуматься.
То, что Карл увяз в бескрайних российских просторах, было понятно и без того, но гибель восьми тысяч шведов под Лесной потрясла Стокгольм. Не один колокол ударил в шведской столице по погибшим и не одна мать заголосила, рвя на себе волосы. Да и не только в столице.
— Да… — говорили по всей Швеции, горестно складывая губы, — однако…
— Оно, конечно, хорошо иметь порты в Прибалтике, хороши русские пенька, лен и хлеб, но восемь тысяч солдат…
— Это здоровенные парни с сильными руками, которые бы на родных полях выращивали отменные урожаи…
— Король слишком увлекается…
— Увлекается? Нет, это следует назвать по-другому!
В эти дни в Стокгольме собрался сенат. В мрачный зал окна едва пропускали сумеречный свет. Лица сенаторов были угрюмы. Говорили долго о пустующей казне, об обезлюдевших деревнях, о тревожных разговорах среди судовладельцев, лесопромышленников, купечества. Но к единому мнению так и не пришли и ограничились петицией в ставку короля. В ней отчётливо звучали тревога и желание предостеречь короля от дальнейших необдуманных действий.
После заседания сената королевский советник граф Пипер[32] вышел на ступеньки подъезда и остановился, вглядываясь в сгущающиеся сумерки. Широкогрудый, массивный, на крепких ногах, всегда отличающийся здоровьем и бодрым нравом, сейчас он выглядел не таким уж крепким и вовсе не здоровым. Ветер с шелестом подкатил под ноги советника жёлтые осенние листья. Карл Пипер жёстко сложил губы. Настроение у него было отвратительное. Он был против похода на Украину и ныне отчётливо угадывал его гибельность. «Вот уж истинно, — подумал Пипер, — от великого до смешного — один шаг. И почему люди из раза в раз переступают эту грань?»
Холодный туман наползал из улиц.
Тревога в Стокгольме не осталась незамеченной другими королевскими домами, признаки беспокойства объявились и в Стамбуле.
Французский двор отозвал неудачливого посла Ферриоля, и на его место был прислан маркиз Дезальер. Пётр Андреевич сразу же оценил силу и умение этого ещё молодого аристократа. При кажущейся лёгкости поведения, которое очевидно для всех выказывало, что усилия маркиза направлены только на получение в жизни удовольствий, он обнаружил недюжинный ум и волю к достижению поставленных тайных целей. Маркиз не стал, как его предшественник, задаривать всех подряд в Стамбуле, но, изучив расстановку сил, повёл усиленную атаку на визиря Чарлулу Али-пашу. Пётр Андреевич понял: французский посол хочет свалить медлительного Али-пашу и подвинуть Порту к войне с Россией. «Христианские державы, — говорил Французский посол, и о том стало известно Петру Андреевичу, — вот уже десять лет заняты взаимными войнами, и надо быть глупцами здесь, в Стамбуле, чтобы не отобрать назад потерянные в России земли и не отомстить врагам религии». Посол высказал это как размышление среди европейских дипломатов, но не следовало сомневаться, что слова эти предназначались для слуха турецкого султана. И наконец, самое огорчительное для Петра Андреевича — в Стамбуле объявились украинские синежупанные казаки. Теперь не оставалось сомнения в том, что Мазепа предал царя Петра и переметнулся в лагерь шведов. Для российского посла в Стамбуле наступали трудные времена. Петру Андреевичу противостояли шведы, французы, люди Станислава Лещинского и Мазепы. Все вместе они представляли грозную силу, но да и Пётр Андреевич ныне был не тот, что прежде.
Царь Пётр, отправляя Толстого в Стамбул, заметил: «Ты зубаст, и надобно, говоря с тобой, камень иметь за пазухой, дабы зубы те выбить, коли укусить захочешь». И ошибался. Тогда ещё зубы не остры были у Толстого, а ныне вот и впрямь крепкие стали.
О размышлениях маркиза Дезальера рассказал Петру Андреевичу австрийский посол в Стамбуле Тальман. И хотя слова маркиза он передал Толстому с улыбкой, как шутку забавника-аристократа, и Пётр Андреевич не замедлил на то улыбнуться и даже шаркнуть ножкой, однако подумал: «Австрияк отнюдь не для моей пользы это болтает, но свою цель преследует». Пётр Андреевич игру Тальмана понял так: Ферриоль толкал турок на войну с Австрией, маркиз ведёт их к войне с Россией, а это означает, что, увязнув в российских делах, Османской империи будет не до Австрии. «А это устраивает Тальмана, — подумал Толстой, — и он хочет поссорить меня с Дезальером. Но, глупец, ежели Порта перейдёт рубежи Валахии, османская армия подопрёт границы Австрии, и так или иначе, но австриякам придётся собрать все силы для отражения возможного вторжения. Ах, маркиз! Ах, хитрая голова! Одним ударом хочет убить двух зайцев: связать и Россию, и Австрию… Ну-ну…» И Пётр Андреевич ещё любезнее ответил на улыбку австрияка. Размыслив, Толстой всё же посчитал, что сейчас наиболее опасны для Российской державы не французы с их сложной игрой, затеянной в королевских домах Парижа, Стокгольма, Варшавы и здесь, в султанском дворце в Стамбуле, но шведы и Мазепа. И оказался прав.
Казаки смело ходили по улицам Стамбула, заломив на затылки мерлушковые шапки[33] и звеня шашками. Их пугались. Здесь хорошо помнили дерзкие казачьи набеги на Анатолийское побережье.
Шведы шли к Полтаве.
— Мой король, — сказал барон Гилленкрок, — разве вы намерены осаждать Полтаву?
Разговор происходил в палатке Карла в присутствии советника короля графа Пипера, недавно прискакавшего из Стокгольма. Советник стоял чуть в стороне от говоривших, кусая губы. За час до этого он имел долгий разговор с Карлом. Граф убеждал его отказаться от дальнейшей войны здесь, на Украине. Он рассказал об озабоченности сената, о разговорах и слухах в Швеции, пустой казне и даже о проклятьях, которые шлют на голову короля матери погибших в далёкой России солдат. Король, однако, был неумолим.
— Да, Гилленкрок, — ответил Карл генералу, переждав порыв ветра, рвущий верх палатки, — я намерен осаждать Полтаву, и вы должны составить диспозицию и сказать нам заранее, в какой день мы завладеем городом. Так делает Вобан во Франции, а вы здесь — маленький Вобан.
Гилленкрок болезненно взмахнул рукой и дотронулся до виска.
— Я полагаю, — сказал он глухо, — что и Вобан, великий инженер и генерал, увидел бы себя в немалом затруднении, потому что не имел бы под рукой того, что нужно для осады.
Карл ответил с нескрываемым презрением в голосе:
— У нас довольно всего, что может быть нужно против Полтавы. Полтава — крепость ничтожная.
Карлу Пиперу захотелось закричать, застучать каблуком, но он не мог противостоять королю. При всей телесной мощи на это у него не хватало нравственных сил.
Гилленкрок без всякой уверенности возразил Карлу:
— Крепость, конечно, не из сильных, но по многочисленному гарнизону, из четырёх тысяч русских, кроме казаков, Полтава не слаба.
На это король ответил:
— Когда русские увидят, что мы хотим атаковать, то после первого выстрела сдадутся все.
Гилленкрок, ища поддержки, оборотился к Пиперу. Но тот — необычайно бледный — только положил руку на горло, словно пытаясь расслабить душивший его ворот. Генерал понял, что поддержки от Пипера не дождётся, и вновь повернулся к королю.
— После первого выстрела?.. — Гилленкрок помолчал и, уняв волнение, сказал: — Не вижу и не понимаю, как это может случиться без особенного счастья.
Неосторожно сказанное слово «счастье» подействовало на Карла как шпоры, всаженные в бока лошади.
— Да, счастье! — воскликнул он. — Мы свершим необыкновенное дело и приобретём и славу и честь!
Король проводил генерала и советника до выхода из палатки и, коротко кивнув, резким движением задёрнул полог.
Дальнейший ход войны был определён, и предвидение Петра Андреевича относительно наибольшей опасности от шведов и Мазепы вполне подтвердилось. Готовясь к броску под Полтаву, шведы начали собирать силы, и в столице Османской империи объявился вслед за казаками гетман Мазепа. Петра Андреевича известили об этом тотчас, а ещё через два дня он и сам увидел, во время визита к визирю, изменника гетмана.
Мазепа стоял у фонтана во дворе визирского дворца в окружении поляков и шведов. Лицо его было нездорово темно. Заметив российского посла, он вскинул голову, губы его сломала странная, болезненная улыбка, в которой были и ущемлённое самолюбие, и неуёмная гордыня, и… страх. Пётр Андреевич, головы не повернув, прошагал мимо.
Предатель всегда жалок. И для тех, кого он предал, и даже для тех, на чью сторону он переметнулся. Больше того — он жалок для себя. Человек никогда не живёт один и не может жить один. Мнение о нём окружающих значит для него гораздо больше, чем он думает. А предатель знает, что он презираем со всех сторон, и это висит над ним и днём и ночью, как топор.
Пётр Андреевич вызнал, что Мазепа был у крымского хана и просил того выступить ордой через Перекоп. Гетман-изменник сулил крымцам дань с Украины, которую они раньше получали от Российской державы, и даже дань от королевства Польского. Крымский хан выказал полную готовность к началу военных действий. Но начать войну без согласия Стамбула он не мог, и вот тут-то мёртвой хваткой вцепился и в хана и в Мазепу Пётр Андреевич. Да, гетману-изменнику трудно было противостоять послу российскому. За спиной у Толстого была держава, за Мазепой — пустота. Пётр Андреевич через верных людей добился того, что силистрийский паша Юсуф написал султану: «Швед есть осаждён ото всех сторон от московских войск тако, что невозможно никому выйти и пойти вон никуды в места их… видится во всём бессилии их и худоба как самого короля, так и войска его». Мнение Юсуф-паши было решающим для Дивана[34]. Паша ближе всех стоял к сражающимся русской и шведской армиям, и его лазутчики шныряли по Украине. Это был ход, который не предусмотрел Мазепа. Султан запретил крымскому хану выступить против России. Пётр Андреевич мог поздравить себя с новой победой, но посол российский торжествовать не спешил.
Вернувшись от визиря, который заверил, что крымцы хотя и скучают по ясырю — взятке, однако не посмеют переступить через султанское запрещение. Пётр Андреевич, пройдя в свою палату, стащил с головы, как шапку, парик и швырнул на стол. Зажёг свечу и надолго остановил взгляд на шатком под сквозняками огоньке. Он угадывал: шведы вот-вот будут разбиты и европейские королевские дома тотчас вступят в ожесточённую борьбу, понуждая Порту к войне. «России мира не позволят, — думал Пётр Андреевич, — слишком счастлива судьба царя Петра, слишком многого он достиг, укрепившись в Прибалтике». Перед глазами встал любезно раскланивающийся маркиз Дезальер, загадочно улыбающийся австрийский посол Тальман. Свалить Мазепу оказалось не так уж трудно. С этими было сложней.
Военные победы воочию объявляются на полях сражений. За столом дипломатов они не так очевидны и больше того — часто чреваты последствиями, которые на нет сводят затраченные усилия и даже саму кровь солдат. Спешат к победам только генералы. Мужам государственным должно одинаково рассчитывать последствия и побед и поражений.
Пётр Андреевич, тиская и сжимая попавшийся под руку парик, неотрывно смотрел на слабый огонёк свечи…
Тогда же, в Москве, провожая царя Петра под Полтаву, глава Посольского приказа Гаврила Иванович Головкин сказал:
— Ах, кабы Карл повернул да ушёл восвояси. Куда как славно бы сталось…
Пётр взглянул на него и промолчал. Он знал: Карл не повернёт, королю шведов ещё жаждалось побед, грозных атак, порохового дыма. О последствиях он не думал. Ехать было необходимо.
Через два месяца под Полтавой шведская армия была разгромлена наголову. Король Карл, раненный в плечо и ногу, едва спасся, уйдя от погони русских драгун. Гилленкрок бежал вместе с королём, граф Пипер попал в плен. Впереди его ждали заключение в Шлиссельбургской крепости и смерть в одном из её казематов.
Солдаты царя Петра сделали всё, что могли. Теперь в драку надо было вступать послу российскому — Петру Андреевичу Толстому.
Лукавый маркиз своего добился: медлительный Чарлулу Али-паша был смещён и великим визирем назначили Кёпрюлю Нумен-пашу, радевшего об укреплении ислама больше, чем глава церкви — муфтий. С того дня, как Нумен-паша получил власть, у стамбульских муэдзинов похоже прорезались голоса и они много громче прежнего стали восхвалять всевышнего с высот минаретов, а глухие, чёрные галобеи правоверных удлинились, пожалуй, и ниже пяток. Женщины поверх чадры укутали головы платками, и в святую пятницу в мечетях многократно прибыло число слушающих чтение Корана и толкование сур.
Но не только чистота религии занимала нового визиря.
Ныне Карл, разбитый под Полтавой, жил под защитой султана. Ему даже определили кормление. Турки были не очень щедры, но всё же содержали короля и его немногочисленный двор. Карл оправился от ран и с неменьшей задиристостью, чем прежде, рвался в бой. Пётр Андреевич с тревогой писал в Посольский приказ, что Карл при султанском дворе хвастает, «будто может он вновь иметь изрядного войска больше пятидесяти тысяч», а Мазепа клялся, «будто и Украина вся будет с ними согласна». Но и это было не всё, что так тревожило российского посла в Стамбуле.
Разгром шведов под Полтавой круто изменил многое. Станислав Лещинский бежал из Варшавы, и, как птица Феникс, восстал из пепла король Август, неожиданно вспомнивший, что он прозывается Сильным. Больше того: Август припомнил, что он союзник России, и поспешил затеять новую коалицию против битого короля Карла. Август с необыкновенной пышностью въехал в Варшаву и на деньги, полученные от царя Петра, устроил для варшавян гулянье с «возжиганием потешных огней, многими играми и забавами, а такоже с раздачей жареного мяса, полотков и птицы разной». Наибольшее внимание Август уделил восстановлению утраченного великолепия королевского дворца. Станислав Лещинский, несмотря на поспешность, с которой бежал из Варшавы, вывез не только государственную казну, но и всё ценное, что было в королевских покоях. На это Август, войдя во дворец и оглядев ободранные стены, с презрением сказал:
— Жалкий человек, но я всегда говорил, что Лещинские жадны и мелочны!
И с широтой, достойной польского короля, не жалея петровских ефимков, распорядился незамедлительно украсить дворец с прежней роскошью. За спиной короля раздался восторженный шёпот придворных. Многочисленные дамы, всегда сопровождавшие короля, присели в книксене[35].
Закончив эти многотрудные дела, Август ускакал в Потсдам, дабы с королём датским и королём прусским заключить конвенцию против столь обидевшего его Карла. И в Городском замке Потсдама, стоящем среди цветущих роз, конвенция была заключена. Царь Пётр, несмотря на настоятельные предложения, пока воздержался от участия в сей конвенции.
Решительные действия трёх премудрых королей сразу же осложнили и так накалённую обстановку в Стамбуле. Пётр Андреевич от верных людей день ото дня получал всё больше и больше подтверждений о начавшемся приготовлении Османской империи к войне с Россией. В Стамбуле и других портовых городах по Анатолийскому побережью ускоренно строились боевые фрегаты. Спилиот сообщил Петру Андреевичу о перебросках к российским рубежам военных грузов, иерусалимский патриарх Досифей дал знать об указе султана о призыве под ружьё янычар. Да Толстой и сам отмечал грозные признаки приготовления к войне. В письме Гавриле Ивановичу Головкину он писал в эти дни: «Здесь ныне чинятся великие приуготовления воинские с великим поспешанием ни в какую иную сторону, токмо к границам российским».
Бегство Станислава Лещинского из Варшавы и заключённая коалиция трёх королей, казалось, удвоили силы маркиза Дезальера. Ныне французский посол уже был недоволен действиями визиря Кёпрюлю Нумен-паши. Да, новый визирь начал приготовления к войне с северным соседом, но и его усилия, как представлялось маркизу Дезальеру, были всё же недостаточными. Лука Барка, предостерегая Петра Андреевича, сообщил, что маркиз окружил себя наиболее воинственными янычарами и всячески подогревает настроение вновь сменить визиря и поставить ныне во главе правительства ярого врага России Балтаджи Мехмед-пашу.
Мехмед-пашу Пётр Андреевич знал. Тот даже не скрывал неприязни к русским и, встречаясь с российским послом, прикрывал глаза от сжигавшей его ненависти. Говорил, спотыкаясь в словах, так горело у него в груди.
— Ну-ну, — только и сказал Толстой, выслушав Луку Барка. Сидели они в кофейне над бухтой Халич. Пётр Андреевич приезжал ныне сюда ежедневно, садился за столик к окну и так проводил долгие часы. В кофейне было малолюдно, и русский посол стал желанным гостем для хозяина. Он, поспешая, ставил перед Толстым медные тарелки с засахаренными фруктами, печеньем, поил шербетами. Но Петра Андреевича не занимали эти угощения, хотя он с годами, проведёнными в Стамбуле, и пристрастился к восточным сладостям. Для него наиважнейшим было здесь иное. Из окна кофейни открывался широкий вид на бухту, и перед взором Петра Андреевича как на ладони видны были стоящие у причалов суда, пакгаузы, ведущие к порту дороги. На причалах ни на минуту не стихала лихорадочная суета. Пётр Андреевич видел, как грузят пушки, ядра, бочонки с порохом и свинцом, ящики с оружием, загоняют в трюмы лошадей, тяжелоногих мулов, медлительных верблюдов, надменно несущих по-змеиному маленькие головы.
— Что скажешь, — кивнул Пётр Андреевич Луке Барка на порт, — а?
Барка долго смотрел на грузящиеся суда, словно стараясь запомнить, сколько их и что несут по сходням на палубы, но наконец отвернулся от окна и взглянул прямо в глаза Толстому.
— Это война, — сказал, — война…
— Война, — подтвердил Толстой, — вижу.
— Чем можно помочь России? — спросил Барка. Толстой помолчал, ответил глухим, без красок, голосом:
— Теперь, наверное, ничем. Одно лишь укрепляет меня, да и тебя должно укреплять, что много лет нам удавалось поддерживать здесь, в Стамбуле, так нужный России мир. Ныне царь Пётр крепок. Вот и Карла шведского свалили, а сила была грозная. В той победе и наша доля есть. — Голос его несколько окреп. — Сей же миг полезны можем быть тем, что предостережём Россию о грозящем лихе.
В кофейню вошёл чюрбачей. То всё топтался на улице с янычарами, но вот вошёл. Осмелел, знать. Толстой поглядел на него и как ни в чём не бывало кивнул: садись-де, выпей чашку кофе. Чюрбачей с каменным лицом поклонился, но не сел за стол, повернулся и вышел. И то, что он вошёл, и то, что отказался от приглашения, — всё было тревожными признаками. Пётр Андреевич отхлебнул из чашки, и ему показалось, что кофе горек, как полынь.
На следующий день Пётр Андреевич приехал в кофейню над бухтой Халич и увидел, что двери её закрыты, окна заставлены тяжёлыми ставнями. Посольская коляска остановилась, кони, перебирая ногами, били копытами по плоским, истёртым камням. «Вот, значит, как, — подумал Толстой, — не напрасно, видать, чюрбачей входил в кофейню. Сообразил гололобый… Так…» Пётр Андреевич велел поворачивать коней. Коляска развернулась, едва не задевая стен тесно стоявших в улице домов, и покатила, стуча по камням. Чюрбачей, поднявшись на стременах, пропустил её вперёд и поскакал следом. За ним поспешило с десяток янычар. «Обкладывают меня, обкладывают, — подумал Пётр Андреевич, — как волка в буераке». И незнакомое до того ощущение загнанности вдруг объявилось в нём. Пётр Андреевич физически почувствовал упёршийся в затылок взгляд чюрбачея, и несвобода его — Толстого — в этом чужом, а ныне откровенно враждебном городе, стала вдруг очевидна, как теснота клетки. Это не было страхом, но большим, чем страх, ощущением незащищённости, на которое он никак не мог повлиять. Ничего не изменилось — бежали, пощёлкивая копытами, кони, светило солнце, и ветерок обдувал лицо, но в это мгновение Пётр Андреевич противно деятельной своей натуре должен был сказать: «Всё, я не принадлежу себе, но едино лишь случаю, и этот чюрбачей, что скачет за коляской, может в любую минуту поднять ятаган и ударить меня по затылку. Всё будет зависеть от приказа, который он получит». Пётр Андреевич знал, что здесь в Стамбуле, коли османы объявляли войну, с послами противной стороны случалось всякое и смерть от удара ятаганом была не худшим исходом. «Ну, вот теперь, — решил он, — я до конца испытал посольскую долю». Ан это было не так — на дне посольской его чаши ещё оставалась самая гуща.
Русская армия осаждала Ригу. Царь Пётр победителям шведов под Полтавой дал два дня отдыха и тотчас направил и пехоту и конницу в Прибалтику. Командовал армией фельдмаршал Борис Петрович Шереметев. Спешно проделав многовёрстый поход, русские обложили Ригу грозным полукольцом. С присущей ему обстоятельностью Борис Петрович объехал на смирной лошадке — фельдмаршал был не молод и грузен — вокруг осаждённой крепости и указал, где и как копать осадные рвы и насыпи для закрытого подхода к стенам, прокладывать траншеи. Тыкал пальцем, украшенным перстнем:
— Здесь, здесь рыть! Здесь.
Офицеры, сопровождавшие фельдмаршала, начали было морщиться: старик, казалось, хотел всю землю перекопать перед крепостью.
Борис Петрович заметил это недовольство и, гневно покраснев, закричал:
— Тот солдат крепости побеждает, кто с лопатой дружен! С лопатой, господа офицеры! Буду проверять, как выполнены указания, и нерадивых наказывать!
Дёрнул поводья и поскакал к своей палатке, тяжело наваливаясь животом на высокую луку седла.
Русская армия начала зарываться в землю. Ну да земля была легка, морозы ещё не наступили, и солдаты копали без особых усилий, играючи. Шутили:
— Солдату землю копать — что бабу обнимать: и греет, и веселит!
— Копни поглубже, найдёшь погуще!
И тут и там слышен был смех, весёлые вскрики. Людьми владело настроение, которое присуще всякой побеждающей армии. Ещё недавно был бой, раны, страдания, ужас витали над головами, но это всё прошло, и человеческое естество, выказывая радость сохранённой жизни, выплёскивается в заражающем всех смехе, весёлой шутке, озорной подначке, и сами движения и жесты солдат побеждающей армии полны радостью бытия и оттого по-особому легки, умелы, ловки и лихи.
В палатке фельдмаршала царило тоже приподнятое настроение. Борис Петрович давал обед в честь прибытия в лагерь царя Петра. Горели многочисленные свечи, стол был уставлен блюдами, кубками, у гостей блестели глаза.
Пётр, прискакав поутру в лагерь, самолично сделал три выстрела из пушки по осаждённой Риге. Пушку выкатили против центрального бастиона. Царь взял банник, прочистил ствол, забил заряд, вкатил ядро, с прищуром глянул на стены крепости и поднёс фитиль. Пушка зевласто ахнула и выплюнула белое облако дыма. Когда дым отнесло ветром, генералы и фельдмаршал увидели: царь всадил ядро точно над воротами. Развороченные кирпичи дымились.
— А-га! — крикнул Пётр, навалился на откатившуюся пушку. — Вот так, господа, вот так! — оборотился оживлённым лицом к стоявшим за ним. — А вы небось думали, промажет царь? Нет, господа, нет!
Два последующих ядра он вбил в крепостную стену так же точно и остался весьма доволен.
Сейчас Пётр сидел развалившись за столом и с улыбкой слушал генерала Репнина.
— Да я что, — говорил князь Репнин, — пущай господин фельдмаршал сам расскажет.
Пётр повернулся к Борису Петровичу. Но тот только конфузливо заколыхался на стуле:
— Чего, чего рассказывать… Глупость одна.
За столом засмеялись так, что пламя свечей забилось, вскидываясь коптящими языками.
— Ну уж нет, — сказал Пётр, — начали, так говорите. Борис Петрович замахал руками:
— Нет и нет!
Тогда со смехом начал рассказывать князь Репнин.
А случай вышел такой. Борис Петрович ехал из Москвы санным путём к войскам. До Твери доехали благополучно, а под самым городом возок фельдмаршала попал в затор. В дорожной узости сбилось множество саней, и ходу не стало. Ямщик фельдмаршала начал было кое-как продираться со своим возком, но на него набросились с кулаками матросы, шедшие из Воронежа обозом. Фельдмаршал послал на помощь денщика. Матросы и в того вцепились. Поднялся крик, шум, мужики всерьёз друг за друга взялись. Борис Петрович — к тому времени уже прославленный победитель шведского генерала Шлиппенбаха, командующий армиями, взявшими крепости Мариенбург, Нотебург, Шлиссельбург, кавалер ордена Андрея Первозванного — начал было из саней вразумлять матросов, говоря, кто он и что за драку может с ними статься, но тут один из них бросился к его саням.
Борис Петрович прервал рассказ князя Репнина:
— А что? Всё же пьяны были на дороге. Начали бить, стрелять. Пришли к моим саням и меня тащили. А один шельмой меня назвал. — Фельдмаршал развёл пухлыми руками. — Вот как…
Царь не выдержал и захохотал. Бухал голосом, словно барабан бил:
— Ха-ха-ха!
Смехом надрывалось и всё застолье. И только фельдмаршал сидел без улыбки, лицо его было полно осуждения.
— И зря смеётесь, — сказал он, — подлец этот из пистолета в меня стрелял. Слава богу, что пистолет не пулей был заряжен, но пыжом, а так бы сгинуть мне там без покаяния. — Покивал головой: — Вот вам и гы-гы… А я отроду такого страху над собой не видел, где ни обретался против неприятеля.
У Петра от смеха слёзы на глазах объявились. Но царь отсмеялся, утёрся, сказал:
— Ну, уморили… Уморили… А кто же этот матрос-то, как имя, чей сын?
— Сукин он сын, — ответил фельдмаршал, — чёрт его имя спрашивал. Мы тогда еле-еле ускакали.
Стол опять взорвался смехом.
На другой день Пётр уехал из лагеря. Обнял на прощание Бориса Петровича и, крепко прижимая к жёсткому нагольному тулупу, сказал:
— Да ты не кручинься насчёт этого матроса. Жив-то остался, знать, бог сберёг… Ригу возьми, непременно возьми!
Поцеловал фельдмаршала и сел в возок. Кони тронулись. Откинувшись на спинку сиденья, Пётр всё же подумал: «Ах, люди, люди… Вот так бы и фельдмаршала угробили ни за понюх табаку. Надо матроса этого найти и прищучить». Но тут же об том и забыл. Все мысли его уже были устремлены к Стамбулу. Царь знал: там плохо.
Настоянием и волею янычар — но за этим, конечно, стоял маркиз Дезальер — визирь Кёпрюлю Нумен-паша был смещён, и во главе правительства стал Балтаджи Мехмед.
Перемещения в правительстве прошли негладко. У Кёпрюлю Нумен-паши нашлось немало сторонников, и главным из них был муфтий. Он явился к султану и заявил, что Кёпрюлю Нумен-паша высоко несёт зелёное знамя ислама и правоверные будут его защищать. У многих мечетей в Стамбуле собрались волнующиеся толпы мусульман. Это была грозная сила. Придворный люд, как это всегда и бывает при высоких домах, растерялся. По городу поползли разные слухи. А толпы у мечетей волновались. И иным из этих, у мечетей, страшно было заглянуть в лица — столь мрачный огонь разгорался в глазах правоверных.
Да, в Стамбуле хорошо знали, что такие толпы, ежели только они придут в движение, страшнее пожара в бурю.
Чюрбачей, ведавший охраной посольского подворья, без спроса поднялся по ступеням шаткой галереи в палаты Петра Андреевича и твердо сказал:
— Именем султана послу не дозволяется и шага ступать за ворота подворья.
Губы у чюрбачея были жёстко поджаты, скулы обострены. «Э-ге, — сказал про себя Пётр Андреевич, — что-то не заладилось у янычар. Ишь как рожу-то ему обтянуло. Точно, не получается что-то…» Но выслушал приказ молча. Чюрбачей повернулся и вышел. В городе нет-нет но слышались выстрелы.
Пётр Андреевич подошёл к окну. Улица словно вымерла. То всегда толчея, беспокойство, а тут только один кривоногий продавец в драном халате катил на убогой тележке корзину с яблоками. Окна в домах были закрыты ставнями. Пётр Андреевич в другой раз подумал: «Не так… не так…» И надежда ворохнулась в душе: «Может, обойдётся? Затеется в Стамбуле свара великая, и не до войны с Россией станется?» Но тут же сказал про себя: «Нет, случайности в делах межгосударственных — редкость. Всему есть причины, и каждое действие определено. Вот только не всегда мы угадываем причины и оттого неверно прослеживаем их продолжения. От войны не уйти».
Пётр Андреевич вспомнил стамбульский порт. Не от безделья сидел он в вонючей кофейне над гаванью Халич. Видел французские скорострельные пушки, что грузили в трюмы судов, льежские ружья дальнего боя и в воображении — а оно надобно не только сладкоголосым стихотворцам, но и добрым дипломатам — представил французский двор. Ныне книгу, о которой говорил царь Пётр, отправляя Петра Андреевича в Стамбул, — «судеб человеческих, движении стран, яко разных людских семей», — Толстой читал свободнее. В воображении его в сей миг представлялся не только двор французского короля, но и поспешающие по бесчисленным дорогам армии, крымские орды, стоящие у Перекопа, идущие через море корабли. Вся громада людей, обозов, дворцовых и правительственных договорённостей, явных и тайных сделок, которая была приведена в движение и уже никем и никак не могла быть остановлена. Пётр Андреевич, оглядывая всё это внутренним взором, соображал: какое время отпущено России, дабы приготовиться к невзгоде на южных пределах, и какое время отпущено ему, послу, дабы не застало его врасплох объявление войны и следующее за тем заключение в султанском Семибашенном замке. А то, что не избежать этого, он понимал теперь твердо.
За окном послышался грохот копыт скачущего коня. В улицу влетел верхоконный в чалме и с ятаганом, мотающимся на перевязи у стремени, продавец яблок метнулся в сторону, но храпящий конь ударил грудью в тележку, и продавец и корзина покатились по камням. Не сбавляя хода, янычар проскакал по улице, скрылся за углом. Продавец хотел было подняться, но слабые руки не удержали его, и он упал вновь. Алые яблоки горели на сером камне, как свежепролитая кровь. Явственно послышался выстрел, другой… Пётр Андреевич поднёс руку к лицу. «Когда спор идёт о власти, — подумал, — для такого человека, как Балтаджи Мехмед-паша, и зелёное знамя ислама ничего не значит. Мусульмане у мечетей будут рассеяны».
Так оно и сталось.
Балтаджи Мехмед-паша взял власть в руки жестоко, и муфтий голову склонил. Отныне слово «джихат» (священная война) произносилось не со святым трепетом и придыханием улемов[36], но с хищным, устрашающим звуком врубающегося в живую плоть ятагана. В каждом письме, отправляемом Петром Андреевичем в Москву, ныне настойчиво повторялось предупреждение о готовой разразиться войне. Посольское подворье было взято в плотное кольцо янычар, и всё же Пётр Андреевич узнал, что в Стамбул прибыл крымский хан Девлет-Гирей и султаном назначено заседание большого Дивана, на котором крымскому хану будет предоставлено первое слово.
Тогда же Пётр Андреевич сообщил в Москву: «И я, чаю, что уже больше не возмогу писать… Порта войну с нами решила начать ныне через татар, а весною всеми турецкими силами». До объявления Османской империей войны России оставались часы.
Пётр Андреевич рвал и бросал в разожжённую Филимоном жаровню посольские бумаги. Он знал: вот-вот во дворе раздадутся крики, загремят по ступеням галереи шаги и янычары ворвутся в посольские палаты. Угли в жаровне горели плохо, чадили, дым ел глаза. Толстой торопился.
— Открой окно, — сказал Филимону, — гореть будет лучше.
— А эти, — возразил Филимон, — янычары… Увидят…
— Пущай видят, — сказал Толстой, бросая последнюю стопку бумаг в огонь. — Им уже здесь взять нечего.
Филимон подступил к окну, дёрнул так, что зазвенело стекло. Пламя высоко взметнулось над жаровней. Толстой молча смотрел, как огонь пожирает бумаги, листы свёртывались в трубку, осыпались чёрным пеплом.
— Ну, вот и всё, — сказал Пётр Андреевич, — всё…
И, опустив плечи, ссутулившись, словно неся непосильный груз, отступил от жаровни, шагнул к окну, взялся обеими руками за влажный от тумана подоконник.
За окном стояла глухая темень. Ночь дышала сыростью, наносимой из гавани. Пальцы стыли на ветру. Толстой вдруг оборотился к Филимону и необыкновенно прозвучавшим голосом сказал:
— Сей миг бы в наше сельцо, под Москву. А?.. Небо небось голубое. Осень. Шишки-то, помнишь, как горят на рассвете на елях? А?.. Золотом, ей-ей, золотом…
Глаза у Петра Андреевича распахнулись так, будто он и вправду увидел ранний подмосковный рассвет и поднимающиеся в алом свете зари могучие ели с сияющими вершинами. У Филимона задрожало лицо, Пётр Андреевич подступил к нему и заговорил быстро:
— А ты не кручинься. Тебя небось не посадят в замок этот вонючий, не посадят. А я ничего, выдюжу…
И тут по ступеням застучали шаги. Толстой замолчал, насторожился лицом. Шаги уже стучали по ветхим доскам галереи. Пётр Андреевич вновь оборотился к Филимону, сказал:
— Ты за меня помолись.
Глава третья
ветало. На Курской дороге, у московской заставы, солдат, продрогший до дрожи в ночной сырости, увидел, как из тумана объявились лошадиные морды. Минуту, другую, мотаясь сверху вниз, они висели над дорогой, но затем вытянули из серой падерги[37] тяжёлые конские тела, и взору открылся влекомый разномастной тройкой, захлёстанный грязью приземистый кожаный возок. Солдат переступил с ноги на ногу. Льдистая наледь хрустнула под каблуками. Возок приближался, и солдат разглядел в лицо сидящего на облучке мужика, узластые его руки, держащие вожжи. Дорога была нехороша, кони шли трудно.
Подъехав к заставе, мужик остановил коней, слез с облучка, шагнул к возку, отворил дверку и сказал что-то в тёмное нутро кожаного короба. Солдат разобрал одно: «Москва».
Тотчас из дверки высунулась нога в крепком башмаке с медной пряжкой, и, чувствовалось, не без усилий из возка полез на дорогу человек в тяжёлой шубе. Хватался рукой за дверку, тянул тело, но рука соскальзывала. Мужик подхватил его под локоть, выпростал из короба. Человек в шубе укрепился на дороге, медленно снял шапку, поднял руку для крестного знамения. Пальцы его плясали.
— Господи, — выдохнул он, — господи, сподобил увидеть… Господи…
И не то не удержали его слабые ноги, не то он сам их подогнул, но качнулся вперёд и встал на колени. И всё крестился, крестился, и хотел что-то выговорить, да не мог, дыхание срывалось. Слышно было только:
— Господи… Дома, дома, ах, дома…
Лицо ходуном ходило. И как ни продрог солдат у заставы, как ни прожгло его за ночь злым ветром, ан понял: много страдал человек, тяжка была его доля, труден путь, коли взмолился у порога дома. И как это может только русский человек, наделённый отзывчивой на страдание душой, сам поскучнел лицом, обмяк губами и, скособочив шею, отвёл глаза, дабы и взглядом не обеспокоить.
Открывавшаяся в эту минуту с заставы Москва была ещё затенена синей рассветной дымкой. Однако, теснясь одна на другую, накатывались на заставу опушённые ночным свежим снежком крыши бесчисленных домов, и тут и там меж ними видны были вздымающиеся к небу купола церквей, посвечивающие золочёными крестами, и дымы, дымы поднимались над крышами, как странные, причудливые, несказанной красоты цветы. Стоящий на дороге на коленях человек очарованно смотрел на просыпающийся город, по щекам его ползли слёзы.
— Ну-ну, Пётр Андреевич, — сказал оказавшийся с ним рядом мужик, — зазябнешь.
Подхватил под руку.
— Ничего, Филимон, — ответил Толстой, — ныне дома…
Так вернулся в Москву после нескольких лет заточения в Семибашенном замке в Стамбуле Российской державы посол в Османской империи Пётр Андреевич Толстой.
Годы в султанских подземельях были тяжкими. Здесь не то что одежда на людях гнила — гнили тела и мясо отваливалось от костей. Выжил Пётр Андреевич благодаря недюжинному здоровью, которым отцы и деды его наделили, да стараниям Филимона, нет-нет, но передававшего Толстому то что-либо из одежды, дабы тело прикрыть, то какую ни есть еду. Но не только крепкое российское здоровье, Филимоновы тряпки — стража забирала лучшее — поддерживали Петра Андреевича в гнилой яме Семибашенного замка, а прежде — глубокая убеждённость, что он не всё сделал в этой жизни. Вера эта теплилась в нём, как теплятся горячие угли под серым пеплом, не затухая долго и после того, как упадёт пламя костра. И вот странно: как только приходилось ему вовсе нестерпимо — вера эта разгоралась, как закрытые пеплом угли разгораются под ветром. Тем и жил. Такая уж это была натура, что набирал Пётр Андреевич больше силы и упорства, чем тягостнее груз наваливался на него.
Стены Семибашенного замка были толсты, стража зла, однако до узника доходили вести о военных действиях между российской и османской армиями, о неудачах россиян, подошедших к Пруту в расстройстве от жары, безводья и голода, о сражениях и тяжёлом ущербе, понесённом русскими.
В один из дней, когда петровская армия в осаде держала трудную оборону на Пруте, в подземелье к заточенному послу спустился начальствующий над стражей замка. Остановился на ступенях лестницы. Свет дырчатого фонаря прыгал по заплесневелым сводам. Турок стоял молча, лица не было видно, белела только в неверном свете чалма. Пётр Андреевич, опираясь руками о скользкую от сырости стену, поднялся на ноги. С горловым клёкотом турок бешено выкрикнул что-то, ступил вперёд, и отчётливо звякнули о ступеньку ножны ятагана. Турок, захлёбываясь, прокричал какие-то слова. Толстой стоял недвижимо, ничем не выдавая страха.
В напряжённой тишине сорвалась со свода капля, тяжело ударила в кирпичный пол: тук!
И другая: тук!
И третья: тук!
Турок повернулся, пошёл вверх по ступеням. Толстой не знал, что у янычара, на Пруте, в сражении с русскими погиб сын, и начальствующий над стражей, ежели бы мог, кожу бы содрал со своего пленника, так был взбешён. А крикнул он, что на колу погибнуть русской неверной собаке и он сам кол тот вырубит. Пена вскипела у янычара на губах, и, дрогни пленник, засуетись, ятаган, наверно бы, вылетел из ножен. Турок ждал взмаха руки русского, шага… Мгновения, когда капли, падающие со свода, стучали в пол подземелья, были мерилом силы одного и слабости другого. Рядом прошла смерть с Петром Андреевичем, вовсе рядом.
В дверях лязгнул замок.
Толстой опустился на кирпичный пол, опёрся спиной о сырую стену. «Худы, видать, наши дела на Пруте, — подумал, — коли янычар этот так на посла российского кричал. Худы…» Руки Петра Андреевича дрожали, скользили по камню.
Положение петровской армии было и впрямь отчаянное. Взятые в кольцо, без провианта, без фуража, без огненного припаса, отягощённые обозами с больными и ранеными, русские отбивались из последних сил. По армии был отдан приказ: «За скудностью пулек сечь железо на дробь», «лошадей артиллерийских добрых взять с собой, а худых — не токмо артиллерийских, но и всех — побить и мясо наварить или напечь».
Царь Пётр — за эти дни он исхудал так, что на лице только глаза были видны да торчащие под носом забитые известковой пылью усы, — повелел из Посольской канцелярии послать в османский лагерь парламентёра.
Ответа, однако, от турок не последовало.
Тогда Пётр сказал вице-канцлеру Петру Петровичу Шафирову.
— Поезжай ты. — Дёрнул ногой, так что пронзительно звякнула шпора на пыльном ботфорте. — Ежели подлинно будут говорить о мире, то ставь с ними на всё, чего похотят…
Ветер гудел натянутой парусиной палатки, нёс горькие запахи палёной лошадиной шерсти, горелого мяса, углей догорающих костров. Солдаты дожигали последние арбы обозов.
Шафиров — низкий, кривоногий, с тяжёлым загривком — глянул на царя чёрными, глубоко спрятанными под нависшим лбом глазами и, повернувшись, пошёл к подведённому для него жеребцу. И вдруг стало видно, что стремя подтянуто на жеребце слишком высоко для него. Пётр даже поморщился. Вице-канцлера подсадили, и он неловко плюхнулся в седло. Сел на жеребца, как собака на забор. Расставил локти. Стоявший тут же фельдмаршал Борис Петрович Шереметев отвернулся. Не захотел смотреть — плохой был всадник из вице-канцлера. Но царь Пётр знал, кого посылать к туркам. Пётр Петрович, может, и не картинкой на коне выглядел, но за столом переговоров посильнее был многих из тех, кто скакать умел зело бойко.
— Гони, — махнул рукой царь, — гони!
Вице-канцлер отпустил повод, конь пошёл, тяжело ударяя копытами в сухую, как камень, землю. Удары копыт звоном отдались в голове Петра — бум! бум! бум!
Царь не ошибся. Шафиров мир заключил, но сам сел в Семибашенный замок, как заложник выполнения условий договора, по которому Россия обязывалась вернуть османам Азов, срыть Таганрог и Каменный Затон.
Пётр Алексеевич, услышав об этих условиях договора, так ударил по подвернувшемуся под руку барабану, что лопнула шкура. Сел на подставленный стул, уронил голову в ладони и закачался из стороны в сторону.
— Ай-яй-яй, — простонал сквозь зубы, — ай-яй-яй…
Ему вспомнилось Азовское сидение, горы трупов под стенами крепости, стаи воронья, великие надежды, вызванные тогдашней победой…
— Ай-яй-яй… — причитал он.
— Армию надо спасать, — сказал стоящий перед ним Шереметев, — государь. Азов мы ещё наживём.
Пётр поднял на него глаза. По лицу царя текли слёзы. Русские на тягостные условия согласились. Армию спасли. Петру Андреевичу стало известно, что Шафиров посажен в Семибашенный замок, и он Христом-богом просил Филимона, дабы тот через Спилиота, Луку Барка или даже через патриарха Досифея добился разрешения на встречу его с заключённым российским вице-канцлером. Но того сделать было нельзя. Хотя бы и бейся головой о стену, ан нет и нет. От сознания, что тут вот, рядом, соотечественник и товарищ, мысли мутились, но нет — кричи, вой, ан не услышит. А турки освобождать посла и заложника, вице-канцлера, не спешили. Ждали выполнения условий договора.
Ныне всё это было позади…
Филимон у московской заставы подсадил Петра Андреевича в возок, притворил дверцу. Полез на облучок. Коренник — пегий могучий жеребец — наклонил голову и, раздувая ноздри, обнюхивал дорожную наледь и вдруг, не то родное почувствовав, не то уколовшись о злые ледяные коросты, а может быть, взыграв сердцем от пьяных весенних запахов, вскинул голову и заржал трубно, оттягивая губы и показывая молодые зубы, розовые десны. Филимон столбом вытянулся на облучке, но и вожжой не сдёрнул жеребца и кнута не поднял, сказал смущённо:
— Не балуй, не балуй… Солдат поднял шлагбаум.
После радости у заставы жизнь обушком да и прямо в лоб хватила Петра Андреевича. Радость и горе, известно, рядом ходят.
Едва войдя в дом, Толстой узнал, что брата его, когда Азов туркам передавали, татарин стрелой уложил, а жена за месяц, как Петру Андреевичу вернуться, умерла от злой лихорадки. Так что встретил его малолетний, родившийся без него сын Иван — худенький отрок с налитыми горем и страхом глазами. Взгляд его прямо в душу Петра Андреевича ударил.
— Ну, иди ко мне, иди, — сказал Толстой, протягивая к сыну руки, — иди.
Ступил по скрипливым половицам, пропевшим пронзительно под ногами, и обхватил, прижал к себе слабое, воробьиное тельце. Под пальцами почувствовались мягкие косточки. Петра Андреевича прожгло такой мукой, какой не испытывал он никогда.
— Беда, беда, сынок, — выговаривал, дрожа губами, — беда… Многочисленная дворня, толпившаяся в дверях, завыла, бабы запричитали. Филимон, дабы не волновать излишне барина, замахал на баб руками:
— Пошли, пошли, ишь раскисли…
Да у него и самого горло спазмой перехватило. Тоже настрадался на чужбине да и русский то был человек: на чужую беду пустыми глазами смотреть не мог.
Весь день Толстой не отпускал от себя сына и спать велел уложить с собой. Под ладонью ощущал тоненькие волосёнки. Сын, засыпая, вздрагивал. Пётр Андреевич прикрыл глаза, лежал молча, думал: «Господи, за что наказываешь меня, за что испытываешь?» Но роптать не смел, только стонал душой да вслушивался в привычные с младых лет звуки родного дома. Ветер стучал на крыше, словно кто-то ходил в тяжёлых сапогах, сухо стучали ветви деревьев старого сада, пели на чердаке сквозняки, вздыхало тяжко в дымоходах, ухало, будто окликая неведомо кого, стонало… «Не чаял услышать музыку эту, — думал Пётр Андреевич, — ан вот звучит она горько…» И ему захотелось вдруг закричать, но он перемог это пронзившее его желание, боясь потревожить сына. А тот затих, спал крепко, ровное дыхание его звучало для Петра Андреевича как слова утешения. Заснул он, однако, только под утро, услышав, как завозились во дворе люди, замычал бык, крикнул петух и нежно, со сна знать, прогудела тёлочка: «Му-му…»
Родные звуки разлились в груди сладкой болью…
Гаврила Иванович Головкин встретил Петра Андреевича с радостными глазами. Поднялся навстречу, раскинул руки.
— Входи, входи, — сказал, — ёрой!
Всё знал он о домашних делах Петра Андреевича, но о печальном и словом не обмолвился, а заговорил шумно, не сдерживая голоса, о царском благоволении, признательности за добрую службу.
— Царь, — сказал, — жалует тебя двумя подмосковными добрыми деревеньками и от души поздравляет с освобождением из плена… Да ты молодца! А Пётр Петрович Шафиров едва живой добрался… Вовсе укатали его турки. Вот так-то… — И сразу заговорил о делах посольских: — Тебя жду давно, люди нужны. Забот выше головы… — повёл рукой.
Пётр Андреевич, невольно подчиняясь его жесту, оглядел приказ.
На столах мерцали свечи, приказные гнули разномастные головы с заложенными за уши, подхваченными ремешками и верёвочками волосами, скрипели перья.
— Бумаг, бумаг, — со вздохом сказал Гаврила Иванович, — едва отписываем. Ты уж не взыщи, с завтрего жду тебя поутру.
Так, едва войдя в Посольский приказ, Пётр Андреевич окунулся в посольские нужды. Да это, может, и к лучшему было. О себе подумать времени не оставалось.
Однако как ни озаботили посольскими делами Петра Андреевича, но всё одно вокруг огляделся.
Слышал Толстой всегда чутко, видел остро и разглядел, что вот хотя и достаточно времени прошло, пока он в Стамбуле сидел, а в Москве по-прежнему всё оставалось непросто. И сказать должен был с определённостью: новые царёвы люди больше прежнего укрепились (да и как по-иному — вона в Прибалтику пробились, крепости отвоевали, о которых раньше-то и думать не могли), но и старые роды своего не уступали. Как противостояли друг другу две силы, так оно и оставалось.
Пётр Андреевич как-то, возвращаясь из приказа, поглядел на московский люд, на кривые оконца изб, на обгаженные вороньем церковные кресты и подумал: «Ах, Москва, Москва… Трудно тебя переделать. Годы нужны, да ещё какие годы. Бороду сбрить — это можно, и кафтан венгерский или немецкий одеть — можно, да только лопнет он на твоих плечах, непременно лопнет…» Но Москва всё же была иная. Да много изменился и сам Пётр Андреевич.
До стамбульского сидения Толстой был само действие. И участие его в стрелецком бунте, и шаг в петровский лагерь, и поездка волонтёром в Италию — всё было движением. Ныне сталось иное. Он даже внешне не похож был на прежнего Толстого. Сделался нетороплив в походке, в жестах и выступал так, что видно было и не особливо приметчивому — этот не ступит шага, коли до того мыслью вперёд не пройдёт. В лице его явилась странная улыбка, так что сразу и не поймёшь: не то это горечь губы ему ломает, не то сомнение, не то насмешка. И насмешка необычная: над собой ли он насмехался, над другими ли — понять было трудно. Но сила угадывалась в нём по-прежнему и сразу. Да тут и время приспело силу эту употребить.
Дела европейские заворачивались круто.
Петру Андреевичу ныне рассказали: когда он сидел в Семибашенном замке, шведский король в Бендерах учинил такое, что и бывалые удивлялись.
В Бендерах Карл с остатком войска человек в триста, после бегства с Украины, укрывался под рукой султана. Туркам он был в великую тяготу, и они хотели его выбить вон. Однако Карл не уходил, требовал войска и тогда только, обрушившись с новой силой на Петра, обещал покинуть османские пределы. Султанский двор не знал, что делать со строптивым гостем. И турки то назначали ему должное для короля кормление, с роскошным столом и выдачей немалых денежных сумм, то грубо отказывали в самом необходимом. Наконец вышел султанский указ убираться королю восвояси. Карл ответил: он «над собою никакой державы, кроме одного бога, быть не признает, а есть ли кто будет его насилость, то он станет себя оборонять до последней минуты своего живота». Турки, однако, настаивали на своём и в который уже раз лишили Карла султанского кормления. Нежеланный гость повелел своему немногочисленному войску «побить излишних лошадей, между которыми и от султана присланные были, приказал их посолить и употреблять в пищу». Покинуть же османские пределы по-прежнему отказывался. И здесь «с обеих сторон у них война началась». Турки пошли на штурм королевской резиденции, Карл, ни минуты не сомневаясь, «учредя своё великое воинство, начал бить по туркам из двух пушек, из мелкого ружья». Хозяева, смутившись было, отступили, ан опомнились и тоже ответили огнём из пушек. Карл, «видя сие, мудрая голова, воспринял отходом в другие хоромы людей своих ретираду, но в пути обойдён от янычар, и один ему четыре пальца у руки отсёк, в которой держал король шпагу, а другой отстрел часть уха и конец самой нос, а третий поколол или пострелил ево в спину».
Ныне Карл, сидя в Стокгольме, выколачивал из своих баронов последние фартинги, строил флот и сколачивал новую армию. Но не только Карл грозил России. Русские солдаты стояли уже и в Померании и в Мекленбургии, и при многих царствующих домах заговорили, как бы Немецкое море не превратилось в Русское озеро. Смущение великое в Европе сталось. Противороссийские настроения зрели в Англии, в Австрии, в странах Балтийского моря. В интригах, в спорах образовывались коалиции и союзы, шло усиленное дипломатическое борение. В английском парламенте почтенные лорды рвали друг на друге парики, что те шляхтичи в буйной Польше, в Париже забывать стали о развлечениях галантных, ропот слышался из Стамбула.
Царь Пётр сидел в Амстердаме, пытаясь удержать своих союзников в одной упряжке. Но только его сил явно не хватало. В Москву пришёл царёв указ, призывавший в Амстердам цвет Петровых дипломатов. Среди других в Амстердам выехал и Пётр Андреевич Толстой. И как всегда, царь на сборы времени не дал. Пётр Андреевич призвал Филимона и, заставив поцеловать крест, доверил его попечению сына.
— На тебя уповаю, — сказал, — более ни на кого надежды у меня нет.
Обнял за плечи да с тем и уехал.
Поручение, данное царём в Амстердаме, было для Петра Андреевича Толстого полной неожиданностью.
Из Амстердама в Росток к генералу Вейде, возглавлявшему русский корпус в Мекленбургии, пришло в начале зимы письмо. А генералу и без того жилось беспокойно в той приморской, недавно занятой русскими войсками земле.
Шведские корабли чуть ли не ежедневно атаковывали позиции русских на побережье, и генерал не сходил с коня, мотаясь от городка к городку.
В тот день, когда пришло письмо, генерал прискакал из Варнемюнде — дрянной деревушки на побережье — и, едва войдя в дом, бросился к жарко пылавшему камину. Зелёный измятый мундир командующего дымился паром. Вейде сбросил ботфорты и протянул к огню ноги в заскорузлых от пота шерстяных чулках. Откинулся на спинку тяжёлого, сколоченного из тёмной сосны крестьянского кресла.
Денщик суетился у стола, позвякивая оловянными тарелками. Генерал вспомнил, что не ел с утра. Выругался:
— Вонючая дыра… Зло плюнул в огонь.
Дверь стукнула, и в комнату вошёл офицер. Поднял руку к треуголке, щёлкнул шпорами.
Генерал недовольно повернулся. Вгляделся в пришедшего. Видно было, что офицер проделал немалый путь. Ботфорты и плащ были захлёстаны грязью, а из-под треуголки смотрели на генерала красные, воспалённые глаза человека, много часов скакавшего навстречу ветру.
Вейде, скорее всего, послал бы непрошеного гостя к чёрту — так устал за день, — но в воинском деле генерал толк знал и с первого взгляда определил, что офицер проскакал добрых три сотни вёрст, не слезая с седла, а три сотни вёрст ради удовольствия не скачут.
— Слушаю, — сказал генерал.
Из-за отворота плаща офицер вытащил большой серый конверт и протянул его Вейде. Генерал, не вставая с кресла, взял письмо. Прищурился на печати. На алом сургуче он узнал царский вензель.
В пляшущем свете камина командующий прочёл: «26 сентября сего 1717 года из Москвы в Копенгаген выехал наследник, царевич Алексей…»
В письме сообщалось, что два месяца сведений о высокой персоне не имеется. Офицерам корпуса указывалось отыскать след путешествующей особы и следовать за ней тайно.
«Тайно!»
Вейде дважды перечитал письмо. Сжал челюсти. На скулах проступили тугие желваки. Старый рубленый шрам от виска к щеке — память об Азове — налился кровью. Письмо обескуражило и испугало командующего.
Генерал вытянулся в кресле, глядя в огонь.
Вейде был не из робких. Участвовал во взятии крепостей, считавшихся неприступными, и не хоронился за чужие спины, но в раздоры царской семьи не входил никогда и трезвым немецким умом полагал: не приведи господь иметь такую честь. На крепостной стене пуля, может, и пролетит мимо, пощадит шрапнель, а во дворцовых интригах голову сложишь всенепременно. Случаев к тому было множество. У русского царя был Преображенский приказ с застенками глубокими, обитыми железом, от упоминания о которых мороз драл по коже, были и заплечных дел мастера, что с третьего удара перешибали кнутом человеку хребет.
Тайно!
Когда отдаётся такой приказ относительно лиц царствующего дома, то подумать надо крепко. Лица царствующие слежки за собой не любят, а тех, кто ведёт её, помнят долго.
«Нет, — подумал генерал, — калач сей сух и губы обдерёт. Эх, лучше бы не получать такого письма», — пожалел он. Но вот оно, в руках. Хрустит ломкая бумага, и сургуч сыплется на зелёные полы мундира.
Соображая, как лучше поступить, Вейде вертел письмо в руках. Многотрудный опыт подсказывал: дело с царским наследником неладно. На мгновение командующий увидел тёмное лицо Петра с пронзительными глазами, глядящими сквозь человека; бледный лик царского наследника с жидкими волосёнками, спадающими с угловатого, вдавленного в плечи затылка. Подумал: «Знать бы, чем обернётся участие в этом розыске завтра и через годы».
Подскочил денщик. Рожа рябая, глаза быстрые. Генерал отдал конверт, снял плохо гнущимися пальцами с цепи на толстом животе ключ и внимательно проследил, как денщик уложил письмо в походный железный ящик. Вновь тщательно прицепил ключ к цепи и, кряхтя, стал натягивать ботфорты. Морщился. Ботфорты ссохлись у огня и на ноги не лезли.
Генерал поднялся с кресла. Он был двумя головами выше и денщика, и царёва посланца. У офицера из Амстердама даже лицо вытянулось. Но Вейде и без того знал, какое впечатление производит его могучая фигура.
— Мне приказано, — отрапортовал офицер, — участвовать в вашем предприятии.
— Как звать? — спросил генерал.
— Капитан Александр Румянцев[38], — бойко ответил офицер.
«Дорога от Москвы трудна, — думал генерал, — но навряд ли царевича забили воры дубинами в литовских лесах или польских пущах. Царевич не глуп, один не поедет, да и за золото царское коней ему дают не морёных. А бродяга, что ж? Бродяга зимой в лесу голоден, и конь у него хром».
Генерал отвернулся от окна:
— Путь из Москвы в Копенгаген непременно лежит через Митаву, а потом уж через Мекленбургию и далее. Немало харчевен, почтовых станций и постоялых дворов по пути, но начинать, я думаю, всё же надо с Митавы. Город сей стоит на большой дороге, и народ там торговый, воровской и дерзкий.
Генерал замолчал, глянул на денщика. Тот без слов, приседая от усердия, вылетел пулей в дверь. В окно видно было, как пробежал он через дорогу, прикрываясь от дождя драной рогожей.
— Людей, — сказал Вейде офицеру, — я дам для розыска надёжных. И таких, что молчать умеют.
Вошли два крепколицых усача. Встали истуканами у входа.
Генерал глухо кашлянул и, как крепкие дубовые колоды, непреклонно сжал губы…
Не прошло и получаса, из Ростока вышел на рысях небольшой конный отряд. Видно было, что люди поспешают.
На разъезде, где дорога разбегалась на три стороны, всадники остановились. Ехавший первым капитан Румянцев осадил лошадь. Норовистый, мышастой масти жеребец поднялся было на дыбы, сиганул в сторону. Но офицер засмеялся, стеганул жеребца между ушей, прижал сильно поводья. Жеребец присмирел. Отвернувшись от ветра, капитан сказал несколько слов.
Отряд распался. Трое поскакали на юг, по узкой дороге, уходящей вдаль среди дуплистых старых вётел, другие направили коней на запад, к темневшему невдалеке взгорку, а Александр Румянцев повернул жеребца на восток. Туда, где за чужими границами лежала русская земля. Жеребец пошёл боком, заплясал по грязи, забил копытом.
— И-эх! — дико, по-степному гикнул Румянцев, вытянул жеребца плетью, толкнул вперёд.
Тот пошёл, широко выбрасывая ноги.
В те же дни получил письмо из Амстердама русский резидент в Вене — Авраам Павлович Веселовский. Царский гонец проскакал пол-Европы и торопился так, что сломал карету, запалил двух лошадей, но поспел в указанное время.
Ни о письме к генералу Вейде, ни о письме в Вену Пётр Андреевич Толстой не знал, но к нему это имело самое прямое отношение.
В столицу Германской империи гонец прибыл ранним утром, едва открыли крепостные ворота. Карета, грохоча, прокатила по узким, путаным улочкам и стала возле тёмного, спящего дома. Фасад его венчался пышной каменной кладкой по последнему штилю барокко. В оконцах не было ни огонька.
«Спят, — подумал гонец, — а мы разбудим, а мы поднимем, а мы плясать заставим». Выпрыгнул на мостовую. Весело, несмотря на дальнюю дорогу, под усами его сверкнула подкова белоснежных молодых зубов.
На властный, требовательный стук гонца в дверь ответили испуганным шёпотом. Зашикали: рано-де, и хорошие люди приходят, когда хозяева их ждут. Но офицер ударил в резную, обитую медными гвоздями дверь кованой шпорой. В тишине узкой улицы лязгнул засов, и дверь отворилась. Гонца впустили в дом.
В темном вестибюле толпилась многочисленная дворня. Авраам Веселовский представлял российского царя при чопорном, кичливом дворе германского цесаря широко и богато.
Гонец потребовал хозяина.
— Что ты, батюшка, — зашамкал старый слуга, — почивать изволят.
Бородёнка у слуги тряслась, слезливые глаза помаргивали. За плечами у него стали два крепеньких молодца. Такие возьмут незваного гостя под руки и вмиг вышибут вон. Но гонец так глянул, что старик, охая, засеменил в тёмные покои.
Молодцы отступили.
Внесли свечи. Свет их вывел из темноты высокие зеркала у стен, пышные золочёные диваны, какие-то диковинные растения с яркими, спускающимися до полу цветами. Но гонец глазами по сторонам не шарил, лицо его было строго. Втянул только носом сладкий запах, стоящий в зале, но подивился ли ему или нет — видно не было.
Пламя свечей подхватило сквозняком, взметнуло вверх.
Вышел Веселовский — мятый, сонный, с брюзгливо сложенными губами. На своей беспокойной службе привык он ко всячине, не удивлялся и тому, чем бы иной и поражён был. Хрипло откашлялся, встал у свечей. На голове представителя российского царя полосатый ночной колпак, на плечах широкий красный халат, подбитый мехом. Всё говорило: спал человек, и спал сладко, а раз так — душа у него покойна и злых мыслей за ним нет.
Веселовский кивнул холопам, стоящим у стены. Те вышли. Веселовский сложил пухлые руки на животе. Но не так прост он был, каким хотел казаться, и настороженным глазом царапнул, как сова из дупла, по неподвижной фигуре гонца. Смекнул: лицо каменное, такого за неурочный визит не облаешь. Знал царских удальцов: ежели прикажут, и бога обворуют.
Веселовский молча взял письмо. Приблизил к огню, пробежал бегло. Царь вызывал его в Амстердам.
— Карета, — сказал гонец, — у дома.
Голос его громкий отдался эхом под высоким потолком.
Авраам Павлович как ни искушён был, а обомлел от такой прыти. Сунул руку в карман халата, достал табакерку, запустил злую понюшку в нос для прочистки мозгов. Прочихался, утёрся пёстрым платком, с недоумением переспросил:
— Как, сейчас же?
На запалённом лице гонца не дрогнул и мускул. Веселовский понял: ехать надо, и ехать немедля.
Через самое малое время от посольства отъехала карета. Ведомо было Веселовскому, что задуманный Петром десант на берега Швеции из-за проволочек и попустительства союзников не удался. Знал он и о происках парижского двора, готового помочь Карлу XII и золотом и оружием в его борьбе с царём российским. Веселовский догадывался о помыслах Петра найти примирение с Карлом. Россия вышла на Балтику прочно, стала у берегов твердо, и самое время пришло мир учинить, закрепив монаршими подписями и печатями литыми завоёванное кровью русского мужика. Ни к чему было войной зорить, опустошать северные сии земли. И так попалили много, разогнали мужиков по лесам. Деревни стояли безлюдные, избы заколочены. Ветер на крышах ворошил сопревшую солому. «Кто хлеб-то сеять будет? — в нос хмыкнул. — Кто новую столицу Питербурх провиантом обеспечит? Привезти можно, конечно, издалека и хлеб, и мясо. Но сколько телег обломается, сколько мужиков погибнет в дороге? А земли — вот они. Под самой новой столицей. Мир нужен».
— Грехи наши, — кряхтел Веселовский.
Как лодка на неспокойной воде, ныряла карета по рытвинам и водомоинам. Того и гляди — вывалит на обочину. Мотало Веселовского. Хватался он обеими руками за своего попутчика, сидевшего столбом, шибко ударялся о стену кареты. И всё думал: «Так что же ждёт в Амстердаме, у царя?» Прикидывал и так и эдак, но до причины истинной не додумался. Слишком неожиданной оказалась весть.
Резидент поглядывал в оконце хмуро.
По другой дороге и в иную сторону катила карета, из окна которой выглядывало не лицо, затуманенное невесёлыми мыслями, а женская хорошенькая головка с карими живыми глазками, с румянцем на щеках, снежными локонами, выбивающимися из-под мягкого, дорогого платка. Любопытство было в тех глазках, и хотели охватить они и лес вдоль дороги, и поля, и дальние деревушки с уже нерусскими, высокими, крытыми черепицей кирхами. Даже вертлявая сорока, крутившаяся над дорогой, занимала весёлую путешественницу. Кричит птица, стрекочет, хочется ей ухватить оброненный кем-то кусок не то серого крестьянского хлеба, не то мяса, вывалянного в грязи. Вороны отгоняют её. Хлопочет сорока, залетает с разных сторон. И обманула-таки, украла кусок, бросилась в придорожные кусты.
Засмеялась красавица в карете, обернулась к молча приткнувшемуся в темном углу спутнику.
Неведомо было Петру Андреевичу Толстому, как неведомо было о письмах, рассылаемых царём Петром по европейским городам, и об этой карете. Ан знать ему, по какой дороге катила карета, было бы не худо, так как вскорости довелось Толстому трудно разыскивать её следы.
Красавица смеялась зазывно.
За первой каретой поспешала вторая. Там трое удальцов чистую тряпочку расстелили на откидном мудреном стульчике. Тут и вино, и табак, и игральные кости. Весело. Так и самый дальний путь незаметно пролетит. А поезд на наезженной дороге, видно было, собрался неблизко. Тяжёлые сундуки и в задках карет, и на крышах тесно, высоко громоздятся. Рессоры примнуло. И сундуки большие, сработанные хорошими мастерами из доброго дерева. В таких сундуках пустяковые тряпки не возят.
Похохатывают молодцы. Катают кости. Лица довольные. Кони бегут резво.
Красавица в первой карете не отстаёт от своего спутника, тормошит его. Тот вяло улыбается:
— Ах, оставь, Ефросиньюшка. Оставь, не до того.
Лицо у него бледное, осунувшееся, глаза задумчивые. Взглядывает он в оконце с опаской. А опасаться ему надо. Он-то и есть причина волнения и беспокойства Петрова. Из-за него скачут по всей Европе гонцы, глухими ночами поднимают с постелей важных дипломатов, тревожат генералов. За ним, за ним и только за ним гонят коней вскачь по дорогам гвардейские офицеры. Храпят кони, роняют жёлтую пену и несут всадников без остановки. Ибо то законный наследник русского царя, повелевающего неоглядной землёй, раскинувшейся от холодных северных морей до самой Туретчины, уходящей за Урал-реку, туда, куда и люди-то не ходили. Экая громада с народом бесчисленным, никем не сосчитанным! И он, путешественник тот, утомлённый дорогой, царевич Алексей, должен унаследовать и царский скипетр, и шапку Мономаха, и власть над той землёй и её народом. Он управлять должен необозримым царством и вести за собой его людей. А наследник-то и исчез. Как сквозь землю провалился. Забеспокоишься в таком разе, пошлёшь гонцов.
— Подожди, Ефросиньюшка, — говорит Алексей, — вот в Митаву прибудем. Поешь горяченького, соскучилась небось.
Укрывает царевич ноги красавицы меховой полостью. Но Ефросиньюшке, его любезной, и без того жарко. Молодая кровь в ней играет. Так бы и полетела впереди кареты. Как там, в заморских землях? Засиделась она в московском, невпродых натопленном тереме, надоело ей хоронить от людей в Москве любовь свою к Алёшеньке. «Среди чужих, — думает она, — прятаться будет ни к чему. Ужо погуляем. Скорей, скорей, кони!»
У царевича иные мысли. Тёмные, путаные, пугающие. Пляшут пальцы царевича на мягкой коже сиденья, беспокоятся, словно перебирают струны гуслей. Но песни нет…
Провожавшим Алексея в Москве было известно: наследник едет в Копенгаген по вызову царскому принять участие в морских баталиях с королём шведским. Пётр писал о том наследнику и просил поспешать.
Карету проводили, перекрестили вслед, по христианскому обычаю, не ведая, что наследник удумал царский указ не выполнять, а поступить по-своему.
В Преображенском воронье с ворот сорвалось, заорало, закружило. Карета выехала со двора, и стук колёс стих на пыльной дороге. Провожавшие постояли для приличия на крыльце, повздыхали:
— Ах, путь не близкий… Храни господь…
Разошлись. Воронье село на верхушки башен, повозилось, устраиваясь, и всё стихло. Скучно. Безлюдно. Только ветер посредине двора завивает пыль.
Царёв дьяк, идя через двор, зевнул сладко. Перекрестил рот: «Слава богу. Ни тебе новостей, ни тебе беспокойства. Оно так и лучше. Идёт время тихо. Всё от бога на земле, и мы боговы. Настанет пора — приберёт всевышний. Куда уж спешить?»
От нечего делать швырнул дьяк в невесть откуда забежавшую собаку палкой:
— Пошла вон, паскуда!
Пошёл дальше. Кваску захотелось испить: «Ах, квасок, квасок сладок…»
А беспокоиться в Преображенском причины были. Недогляд с наследником вышел. Царь за то по головке не погладит. Но кто знал тайные думы царевича?
Алексей, миновав Москву, остановил коней у махонькой церквушки. Поднялся по ступенькам, чуть выступающим из земли. Церквушка была из захудалых.
Вошёл. Под образами горели тоненькие свечи. Упал на колени, как подломился. Зашептал:
— Господи Иисусе Христе, сын божий, помилуй меня, грешного… Научи, господи…
Долго молился. Поминал прошлое. Неладно складывалось у него с отцом. Принимал он ругань от него и битие. Подталкивал его отец сильной рукой на ратные дела, а он противился. Всё бы дома был, в знакомых теремах, что с детства до последнего закоулка на коленях выползал. «Ты больше за бездельем ходишь, — говорил Пётр, — нежели дела по сей так нужный час смотришь».
Принуждал отец к строительным делам в новом городе Петербурге, а ему покойнее шататься по монастырям, с попами, монахами водить игрища.
В Петербурге холодно, сыро, туманы. Выйдешь со двора — топь. И суетливо бегают люди, тащат брёвна, сваи бьют с криком да уханьем, тешут камни молотами. Перезвон стоит — больно ушам. Нет, не по нему то. В монастырях московских покойно, благолепно. Так-то хорошо сидишь с церковными отцами, тихо, а то скажут — и принесут пахучих медов. Гоже приятно. И на рожках поиграют, спляшут, ежели близко чужих нет. А у отца грозные глаза. Боязно Алёшеньке за безделье ответ держать.
«Помогаешь ли ты в моих несносных печалях и трудах, которые я для народа своего, не жалея здоровья, делаю? — спрашивал отец. И отвечал: — Николи, что всем известно».
— Вразуми, господи… — шептал Алексей.
Пламя свечей колыхалось. Христос будто кивал со стены, и кивал добро.
«Одумайся, — говорил отец, — бог умом тебя не обидел. Люди вокруг изнемогают под тяжестью трудов своих. Города строят, флоты создают, землю отвоёвывают для блага страны своей. Ты же — сын мой, а от дел моих бежишь».
— Поддержи, господи, — низко кланялся царевич до полу, лбом прижимался к холодным камням.
Голос отца гремел — хриплый, табачный: «Мне лучше чужой добрый, чем родной непотребный. Не хочешь дел моих вершить и продолжать — иди в монастырь. Надвинь на лоб клобук монашеский…»
Алексей поднялся с колен, с надеждой взглянул в лицо Христа, будто ожидая знамения. Неведомо было, когда и какой мастер икону писал, но по чёрным подпалинам на кирпиче от свечей и лампад можно было сказать не гадая: видели глаза те множество молящихся и кающихся. И кивал ему вроде Христос во время молитвы с сочувствием, а сейчас смотрел сурово.
Алексей побоялся высказать вслух мысль, что тайно держал в голове.
Из церкви вышел растерянный. Прежде чем сесть в карету, хотел было перекреститься на летящие в небе кресты, но рука затрепетала, и пальцы до лба он не донёс. Постоял молча, глядя в землю. Повернулся, сказал тихо, потухшим голосом:
— Трогай.
Ефросиньюшка крепилась. Вопросов царевичу не задавала, будто поняла: на нелёгкое дело Алексей собирается, тревожить его не след. И царевич не замечал её, уткнувшись в оконце кареты. В ушах пел перезвон колоколов, сжимая сердце, и был Алексей в ту минуту до удивления похож лицом на отца своего, делу которого он собирался изменить.
Миновали пригороды. Выехали на Смоленскую дорогу. Кони бежали, бежали среди увядающих лесов, и всё больше и больше вёрст отделяло царевича от первопрестольной Москвы.
А время было осеннее, и леса стояли уже одетые в жёлтое. Падал лист.
Алексей не отводил глаз от оконца кареты, глядя на леса, теряющие лист, и злая тоска грызла его. До вечера молчал он, а позже обмяк. Ах, душа человеческая — потёмки.
Ефросиньюшка обгладила его мягкими ладошками, положила голову на грудь, согрела. Наследник и подобрел.
Ехали без происшествий. Из кареты в ямах ни Ефросинья, ни царевич не выходили. Перепрягут коней холопы, и опять в дорогу.
…Впереди показались синие дымы.
— Митава, знать, — сказала Ефросиньюшка сладким голосом. Алексей оживился:
— Митава, Митава!
Здесь, помнил наследник, должен стоять его закадычный дружок — Александр Васильевич Кикин[39], и ждал Алексей от него важных вестей.
— Прочь с дороги! — крикнул офицер и сильной рукой пихнул в грудь замешкавшегося в дверях корчмы человека в разодранном кафтане. Тот шарахнулся в сторону. Не устояв, ткнутся головой в грязь.
Офицер шагнул через высокий порог. Упавший начал было подниматься, но вновь свалился. Видно, пьян был сильно.
В корчме, у дальней стены, в шандале медном светила слепая свеча. Жёлтенький огонёк мигал, метался, едва освещая столы, высокие спинки стульев, стойку с громоздившимися на ней штофами, полубутылками, узкогорлыми четвертями. Чадно было в корчме, дымно. Сильно пахло чесноком, перцем, горелым мясом.
От ворвавшегося в дверь ветерка огонёк свечи чуть не погас. Но хозяин всё же разглядел офицерскую треуголку, кинулся навстречу. Знал: люди военные нетерпеливы, с ними лучше ног не жалеть. А может, услышал хозяин возглас офицера, оттолкнувшего пьяницу. Русскую речь здесь знали. Немного-то и лет минуло, как петровские полки штурмом брали Митавский замок, служивший шведскому королю провиантским складом. Штурм был трудный. Половина Митавы выгорела. Такое запоминается надолго.
Хозяин с пейсиками на длинном лошадином лице, в узком камзоле, когда-то белых, а теперь засаленных, перепачканных чулках и башмаках с пряжками кланялся низко:
— Прошу ясновельможного пана... Прошу...
Растопырив руки, пятился к стойке. Тараторил, мешая русские, еврейские, польские и немецкие слова. Растягивал губы в улыбке. А лицо дрожало. Корчма на дороге стоит, всякие люди заходят. Беда всегда рядом. А от кого помощи ждать?
В Варшаве родился хозяин, в гетто. Улицы там тесные. Как на рынок идти, меж домов людей набьётся — не протолкнёшься. И если кто мешок тянет — норовит приткнуть его соседу на плечо, на спину, на голову, как получится. У того, может, сердце из горла выпрыгивает, но человеку с мешком дела нет. Мешок лишь бы свой сохранить. С детства хозяин и запомнил: за мешок свой держись двумя руками и на себя лишь надейся.
За офицером в корчму вошли двое в плащах, с усами, торчащими на медных лицах, как у котов. Русский шагнул к стойке. Свеча осветила его. Это был тот самый офицер, что несколько дней назад прискакал к генералу Вейде из Амстердама, — капитан Румянцев.
— Во дворе кони, — сказал требовательно, — дай им зерна, и получше. Нам вина.
Хозяин отворил скрипучую дверь за стойкой, крикнул что-то на своём языке. Сейчас же из глубины дома выбежала женщина с корчиком пшеницы. Пробежала к дверям, стрельнув на гостей чёрными миндалинами глаз. Эта не боялась. Бойкая, видно, была бабочка, непуганая и мужем не битая. За ней, тоже с корчиком пшеницы, прошагал длинновязый парень в рыжем яломке[40].
Хозяин вертелся у стола. Поставил свечу, нашвырял тарелок, принёс стаканы. И всё трещал и трещал языком, прицыкивал сквозь жёлтые, веером расставленные зубы, сопел от усердия:
— Ой, вей, мир! Такие славные паны офицыры — и должны шататься поздними вечерами по несчастным корчмам. Нет бы сидеть дома да пить вино из своего стакана.
Нарезал хлеб большими ломтями. Подал блюдо с колбасками.
— Чесночные колбаски... Ни у кого нет таких колбасок. Паны офицыры будут довольные.
Колбаски шкворчали, постреливали светлым жиром. Хозяин разлил вино и задом-задом ушёл за стойку.
Офицер из-за поднятого стакана внимательно оглядел корчму; что-то смекнув, погасил любопытные искорки в чёрных с азиатчинкой глазах. Выпил.
За столом у окна, в компании людей в толстых свитках, затянули дурными голосами песню. Хозяин взмахнул руками, бросился с криком:
— Здесь паны офицыры, ясновельможные паны офицыры!..
Песня оборвалась. Одна из свиток подалась к дверям. Хозяин махал руками, плевался, топал ногой.
За ушедшим потянулись и другие. В дверях косматый в шубе дядька оборотился, глянул на Румянцева.
Белые глаза его резанули, как ножи. Злы были люди! Ох злы! Война прошла по тем местам много раз. Стропила обгорелые и теперь торчали над обрушившимися домами. Озлишься.
— Вот народ, — сказал хозяин, вернувшись к столу Румянцева, — выпьют на грош, а убытку и не измерить.
— Хозяин, — спросил Румянцев, отпихивая от себя блюдо, — ежели ехать через Митаву, корчму твою не минешь?
— Это так, это так, — заторопился корчмарь, — здесь и станция почтовая. Пока коней сменят, каждый зайдёт.
Румянцев выпил вино.
— А из Москвы часто у тебя гости?
— Бывают, бывают, ясновельможный пан. Как не бывать!
Голосом безразличным Румянцев спросил:
— Важные господа?
— Так, так, пан офицыр.
— Недавно, — Румянцев вскинул глаза, — высокий господин, очень высокий, худой, с лицом бледным не проезжал?
Хозяин свернул кривой нос в сторону. На лице изобразилась задумчивость. Румянцев достал из кармана золотой. Знал, золото мозги встряхивает и память обостряет. Подкинул золотой высоко, бросил на стол. Золото звякнуло звонко. Из двери, что за стойкой, выглянуло смазливое лицо хозяйки. Показался рыжий яломок работника. Корчмарь живо обернулся, зашипел. Головы скрылись.
— Ах, пан офицыр, ясновельможный пан, как можно рассказывать бедному корчмарю о его гостях... Что стоит обидеть корчмаря...
Глаза хозяина впились в золотой.
— Так был или нет такой господин? — повторил Румянцев и накрыл золотой ладонью.
Хозяин подскочил на аршин и, совершенно отчаявшись, выкрикнул:
— Был, был!..
Два усача, сидевшие с Румянцевым, разом повернули к корчмарю головы. Отставили стаканы. Серьёзные были ребята.
Румянцев достал второй золотой.
— Утром приехал тот высокий господин, — заторопился корчмарь, — здесь его дожидался боярин знатный. Такая шуба на нём, что, я думаю, и у польского круля нет. Знатная шуба. О такой шубе и думать простому человеку не можно.
Корчмарь несмело протянул руку, но Румянцев прикрыл золотые. Корчмаря будто в зад ткнули шилом.
— Высокого господина, — быстро-быстро заговорил корчмарь, — в карете дама ожидала. Красавица, — Он вытянул губы в трубочку, чмокнул, словно сладкое съел. — Если я и видел такую, то, пожалуй, один только раз в самой Варшаве, а может, и не видел вовсе.
— О чём говорил высокий господин с боярином? — спросил Румянцев и положил на стол третий золотой.
Монеты сверкали на засаленном столе, словно жаркие солнца. От их вида корчмаря гнуло, как ветром. Даже чулки обвисли на его тощих ногах. Он оглядывался на окна, на дверь, пришёптывал что-то, скосив глаза:
— Боярин в шубе сказал: «Поезжай в Вену, там тебя не выдадут». — Корчмарь завыл, взявшись за голову: — Ой, ясновельможный пан, теперь меня убьют, наверное, за мои слова!
— А называл боярин как-нибудь высокого господина?
— Так, так, — ответил корчмарь, вероятно махнув рукой на последствия разговора, — я добежал на почтовую станцию. В книге было написано: подполковник Кохановский с супругой. А боярин — Александр Васильевич Кикин. Московский боярин.
Румянцев бросил корчмарю золото.
На лицах сопровождавших его усачей выразилось неудовольствие: «Ну, сболтнул корчмарь, и, видать, лишнее для себя, но золото зачем отдавать? Плюнуть, да всё тут... Да и веры корчмарь к тому же не нашей...»
Но Румянцев поднялся от стола весело и пошёл бойко к дверям.
Царь меж тем был болен. Болезнь та давняя то отпускала его, то вспыхивала с новой силой, и Пётр страдал тяжко. Неослабная мука рвала низ живота, гнула, ломала тело.
Нынешний приступ был особенно остр. У Петра отекло лицо. Чёрные круги легли под глазами. Ночами царь стонал глухо, сквозь зубы. Маялся, метался.
Денщик через дверь слышал стоны, но не смел войти в спальню, боялся Петрова гнева. Крестился щепотью:
— Помоги ему, Боже, помоги...
По крыше дробно бил дождь. Толкался в стену ветер. За окном что-то шуршало, царапалось в стекло, поскрипывало... Неспокойно было. Ох неспокойно.
Денщик ворочался на неудобной лавке, засыпал лишь под утро. Но и спал-то вполуха, готовый в любую минуту сорваться на царёв зов. А ночи стояли тёмные, длинные, осенние. Не приведи Господи занемочь в такую пору.
Если бы царь был в любезном ему Питербурхе, он бы давно велел заложить возок и ускакал на Солонец- кие минеральные воды или на воды Угодских заводов Меллеров, Петром же самим и открытые. Дорога, скорее всего, была бы тяжела. Рытвины и ухабы измучили бы царя вконец, но Пётр верил в лечебную силу тех вод, и они бы ему, наверное, помогли.
Но Питербурх был далеко. За многие сотни вёрст. Пятый месяц Пётр жил в Амстердаме.
Доктор Теодор Шварц, присланный русскому царю штатгальтером голландским, неотступно находился при Петре все дни болезни. Но помочь он, видимо, мог немногим, хотя и привёз чудные сосуды с яркими, разноцветными жидкостями, многочисленные ступки и пестики, реторты, колбы, кожаные мешочки с травой толчёной, скорлупками ореха, камушками да ракушками морскими. Две кареты посылали за Теодором Шварцем, и обе они вернулись осевшие до земли, набитые доверху диковинами.
Доктор был величествен в движениях. Взгляд имел задумчивый. Можно было думать, что Теодор Шварц постоянно общается с силами, недоступными другим. И сейчас, выйдя из царёвых покоев, он многозначительно поднял глаза, постоял неподвижно под настороженным взглядом светлейшего князя Меншикова, неспешно кивнул головой и, отойдя в сторону, сел на мягкий пуфик, изобразив всем лицом озабоченность крайнюю. На лаковых изящных туфельках доктора посверкивали золотые пряжки.
«Странный этот русский князь, — подумал Теодор Шварц о Меншикове, — я сделал всё, что может сделать честный лекарь, а ему нужно чудо».
Светлейший поднялся порывисто, шагнул к дверям Петровой спальни. Каблуки его громыхнули по навощённому паркету неприлично громко.
У доктора брови поползли вверх.
Царь лежал на широкой кровати. Балдахин из тяжёлой, тканной серебром парчи Пётр велел снять, и кровать с низкими спинками казалась голой. «Как место лобное», — подумал Меншиков, испытав неприятное чувство, и, рассыпав букли чёрного алонжевого парика по одеялу, покрывавшему царя, склонился к его руке.
Рука царя была горяча и суха.
Пётр повернул голову на смятой подушке. Глаза его в глубоко запавших глазницах были темны. Волосы, потные, свалявшиеся, липли ко лбу. Лицо было серым.
— Мейн херц, — шепнул Меншиков и повторил: — Мейн херц...
Горло у него перехватило спазмой. Царь отвернулся. Упёр взгляд в потолок.
Стоя на коленях, Меншиков склонялся ниже и ниже и всей щекой прижался к руке Петра. «Пожалел, — скривил спёкшиеся губы царь, — пожалел».
Грудь Петра поднялась, но он подавил вздох. Взгляд его скользнул по тёмным потолочным балкам. «Какой высокий потолок, — подумал Пётр, — и здесь так холодно и неуютно».
Перед глазами встали низкие покои Преображенского дворца, сводчатые арки входов, узкие коридоры и коридорчики, ступеньки многочисленных переходов. Дохнуло жаром печей.
Пётр разомкнул губы:
— Готова ли баня?
— Да, да, ваше величество, — подняв голову, торопливо ответил Меншиков.
Вчера поутру царь пожелал попариться в русской бане. Здесь, в Амстердаме, мылись в корытах, неудобных, узких, как гробы.
Баню срубили. Меншиков сам выбрал лес и, обрывая драгоценные брюссельские кружева на манжетах, сам же в лапу связал первый ряд кряжей, показывая амстердамским плотникам, как класть сруб. Махал топором, только щепки летели в стороны. Плотники стояли вокруг, смотрели молча. Меншиков всадил топор в кряж, сказал:
— Вот так и давайте!
Пошёл к дому, но на крыльце оглянулся.
Плотники взялись за работу. Весь день слышно было, как тюкали топоры: хрясь, хрясь...
Мужики амстердамские оказались понятливыми.
К вечеру баню затопили. Сырой лес сочился смолой, но всё же то была баня, а не голландское корыто. Князь самолично плеснул на раскалённую каменку ковш квасу, и ударило таким паром, что у светлейшего перехватило дух.
Теодор Шварц на затею русских посмотрел косо. Вздохнул. Но Меншикову было не до доктора в узком общелканном сюртуке, с унылым носом на белобрысом лице.
Когда Петра, закутанного в шубу, собрались вести в баню, доктор молитвенно сложил руки, зашептал:
— Мейн гот, мейн гот...
Но Меншиков только шикнул на него, сверкнув глазами. Доктор счёл единственно правильным отступить за портьеру. Петра подняли, понесли.
В дверях случилась заминка. Тяжёл был всё же царь. Петра чуть не уронили. Меншиков пустил сквозь зубы крепкие слова. В словесности той был он великий мастак и выдавал такие рулады, что некоторые субтильные дамы, ахнув и закатив глаза, с ног валились. А так, в делах житейских, слова те, от сердца, людей только взбадривали.
Царя подхватили и лихо, бегом вынесли во двор.
Меншиков распахнул дверь сруба. Полок в бане, как распорядился светлейший, уже выстлали соломой и облили кипятком. Царя положили на горячее. Меншиков скинул франтовской бархатный камзол и, поддав жару, взялся за веник.
Пётр лежал на полке без движения — худой, костлявый.
Угнул лобастую голову в стену. Тело его было жёлто.
Меншиков сильно потянул носом, но угара не почувствовал. От каменки шёл ровный жар. Светлейший поднял веник к потолку, набрал пару в листву, ещё плеснул ковшик квасу на каменку и, приметив, что веник обмяк, потяжелел в руке, ударил резко царя по плечам. Пётр вздрогнул слабо. Шевельнулся на полке. Меншиков ударил второй раз, третий. И пошёл, пошёл хлестать по спине, по пояснице, по ногам.
Парил он хлёстко, с полной руки, как парили банные мужики в Москве, в торговых банях на Балчуге, что могли так-то в парной человека из полного изумления и после крепкого застолья вывести.
Светлейший отбросил исхлёстанный веник, взял другой, свежий. И всё поддавал, поддавал квасу на каменку, хотя волосы на голове уже трещали от жара. Остановился, вытер рукавом пылающее лицо, склонился к Петру, крикнул:
— Ну что, мейн херц, костью жар чувствуешь?
— Дюжее, дюжее дери, — прохрипел в пару Пётр.
— Нет, батюшка, — ответил Меншиков, — хватит пока. На вот, испей лучше. — И подал царю ковш водки, настоянной на вологодских травах.
Пётр выпил залпом. Глянул с полка. Глаза его светились живым. Меншиков засмеялся:
— Пётр Алексеевич, а то покрепче, чем лечение Шварца... А? Тебе бы ещё бабу. Знаешь, есть такие рязанские: на четверых разделить — и каждому хватт Хворь-то от застоя крови, а она бы тебя так тряхнула - какой уж застой!
Пётр покосился на князя хмуро, но Меншиков уже распахнул из тяжёлых горбылей сколоченную дверь крикнул:
— Шубу!
Подбежали, шлёпая по грязи, двое. Приняли Петра на руки. Понесли.
Светлейший вышел из бани как был, в мокрой рубашке. Только камзол накинул на плечи. Прошагал, не взглянув, мимо хлопающего глазами Теодора Шварца.
Ночь прошла тревожно: ждали — что ещё из парной той выйдет? Но наутро царь хотя и бледный, слабый, но всё же поднялся с постели. Неуверенно загнув руки за спину, помял поясницу, сморщился, встал.
Вошёл денщик.
— Кафтан подай, — сказал царь.
Надев кафтан, Пётр походил по комнате, ступая нетвёрдо, вышел во двор. Постоял.
С крыши капало. Капель звонка, словно весной, но небо низкое, тесное, зимнее.
Царь огляделся. Островерхие черепичные крыши уходили вдаль. Над ними ветер с моря нёс рваные тучи. Ветер солон, и у Петра — хоть и слаб был — ноздри затрепетали: «Хорошо на ветру. Сейчас бы на простор, на море, и чтобы волна била в борт и брызги летели выше головы».
Не много-то и надо человеку для радости: ветерок с моря.
Пётр повернулся уже нетерпеливо и тогда только увидел накануне срубленную баньку. Прищурился. Искусанные во время болезни губы дёрнулись, но улыбки не получилось. Сказал отрывисто:
— Разобрать. Лес продать. Кряжи добрые.
На личные траты царь был скуп.
Тут же забыв о бане, Пётр заспешил. Рванул дверь. Цветные вставные стёклышки, украшавшие её, зазвенели тонко.
— Перо, чернила, — бросил царь через плечо.
Денщик кинулся одурело выполнять приказ: промедлений Пётр не терпел.
Через покои царь шагал широко, и шаги гремели так, что и не скажешь, — накануне-то был в хвори и немощи. Сел к столу. Прокуренными, жёлтыми пальцами схватил поднесённое перо. Выставил на свет, посмотрел прищуренным глазом, о кафтан счистил волосок. Обмакнул перо в чернильницу, склонился над листом бумаги.
За дни болезни неотписанных дел накопилось множество. Вошёл Меншиков, сияя улыбкой на пухлых губах. Пётр взглянул на него строго, и светлейший — царедворец опытный и лукавый — посерьёзнел лицом, шаркнул ногой, склонился низко.
Пётр писал сосредоточенно. Волосы у него на голове стояли колтуном.
Русский царь по сердечному согласию союзников был назначен командующим флотом России, Англии, Голландии, Дании. Союз тот давал в руки Петра оружие, которым он мог сломить силу Швеции на Балтике. Пётр задумал дерзкий десант в Шонию — прибрежную провинцию Швеции. Но дело с десантом продвигалось медленно.
Подумав о том, Пётр дёрнул носом, прорвал бумагу. Скомкал лист, взял другой. Сопнул в нос:
—Десант, десант...
Пётр сам обследовал место высадки. Промерил дно. Шведы обстреляли царский вельбот. Два ядра упали совсем рядом. Английский офицер, стоявший рядом с Петром у борта, нырнул за планшир. Пётр взглянул на него снисходительно. Офицер вскочил, вытянулся, лицо вспыхнуло краской.
Царь сказал, по-доброму морща губы: «Ничего, ничего, привыкать надо». Офицер смутился ещё больше.
Во время той разведки царь и застудил поясницу...
Перо брызгало чернилами, скрипело. Меншиков почтительно стоял у стола. Пётр положил руки на зелёное сукно. Меншиков видел, как пальцы Петровы медленно сжались в тугие кулаки. Ногти побелели. Князь опустил глаза, склонил голову, не смея разогнуться. Светлейший понял, о чём спросит царь. И не ошибся. Царь сказал, свистя осипшим горлом:
— Есть ли сведения от генерала Вейде?
Замолчал. Задышал громко. Меншиков медлил с ответом. Переждать надо было вспышку царёва гнева. На виске светлейшего забилась жилка. Малая жилка, но стучала больно, до крика. В тишине слышно было, как потрескивают поленья в камине.
Светлейший поднёс руку к виску. Ответил чуть слышно:
— Нет, ваше величество. Известий не получено.
Взглянул на Петра. Царь смотрел ему в лицо круглыми глазами, и Меншиков подумал: Пётр не видит его.
Царь тряхнул головой, словно освобождаясь от пут, и голосом обычным сказал:
— Доктору Теодору Шварцу деньги заплатить, а самого со двора вон. Бездельник!
Меншиков повернулся живо. Пётр остановил его:
— Но по политесу, по политесу...
Знал, что светлейший может и пинками проводить.
Выдав доктору деньги, Меншиков всё же не удержался, сказал:
— Рожей ещё не вышел русского человека лечить.
И показал кукиш. Но Теодор Шварц русского языка не ведал, а кукиш принял за особый жест благодарности.
Доктор склонился в глубоком поклоне.
Вызванный указом царя, Пётр Андреевич Толстой третий день жил в Амстердаме, но государь ещё не призывал его к себе. О тайном бегстве царевича Петру Андреевичу сообщил Шафиров. Поднял густые, с проседью, как матёрый бобровый мех, брови, сказал с неудовольствием, давясь словами:
— Вот так… Усилиями офицера Румянцева след его отыскан в Митаве. Там царевич встречался с Кикиным… Кхм-кхм…
Закашлял, заперхал горлом.
— С Кикиным? Александром Васильевичем?
— Да, с Александром Васильевичем, и будто бы тот сказал ему, езжай-де в Вену, там укроют. Прохвостом Кикин-то оказался, прохвостом, — вскинул глаза на Толстого, уколол взглядом.
Пётр Андреевич достал табакерку, ухватил щепоть табаку, но мысли его были отнюдь не о табаке. Что с наследником не всё ладно — знали. Ленив не в отца. Нелюбознателен. Лопухинский последыш. Те по монастырям любили ходить. Собирали сопливых юродивых на подворье. Но то всё только забавы ради, не больше. Блаженные, вериги, цепи… Нет, здесь иное… Догадки одна страшней другой рождались в голове. Решил твердо: «За царевичем должны быть руки сильные и головы должны быть, что обдумали его шаги. Иного не бывает. У икон блажить — так, видимость одна».
Шафиров молчал, насупясь.
Толстой прикинул: «Алексей в руках цесаря, ежели он в Вену поехал, карта козырная. Туз! А вот когда его на зелёное сукно бросят — неведомо. Большую, ох, большую игру кто-то затеял. За такой игрой и корона может быть и плаха».
Помедлив немалое время, Шафиров добавил, что едет царевич под чужим именем, называется подполковником Кохановским.
— Веселовский, — сказал, — тут был три недели назад. Царём повелено ему о царевиче в Вене вызнать. В помощники ему определён офицер Румянцев. Однако вестей от них нет. Царь недоволен и обеспокоен весьма.
Скользя по навощённому паркету, вошёл слуга. Объявил:
— Карета подана.
Поднялись. Пошли молча. Впереди Шафиров — тяжёлый, сумрачный. Лицо — туча тучей. В затылке поскребёшь, глядя на такого. Холоп дверь отворил. По ступенькам спустились к карете.
Когда вошли к Петру, тот, без парика, в рубашке из голландского полотна, гнулся у токарного станка. Точил малую вещицу. На вошедших взглянул через плечо.
Поклонились по этикету. Пётр бросил вещицу в ящик и, вытирая руки ветошкой, оборотился к вошедшим:
— Вас дожидаем.
Тут только выступили вперёд стоявшие в стороне Куракин и Остерман[41].
Пётр подошёл к столу.
Толстой, давно не видевший царя, отметил: лицо у Петра тёмное, веки набрякшие. Но царь был спокоен. Всегда горящие глаза неподвижны и холодны. Зная о случившемся с наследником, Пётр Андреевич подумал, о том-то и заговорит царь. Но Пётр сказал о другом.
— Дело со шведами надо кончать, — промолвил он ровно, — и в том ум, смётка ваша надобны.
Дипломаты слушали стоя.
— Прямо на Карла выйти невозможно. Строптив больно и горяч. — Усмехнулся: — А после неудач военных и зла в нём накопилось много. Говорить с нами он не будет. Самолюбив гораздо. Посредник нужен, через которого переговоры вести должно.
Царь оглядел лица стоящих перед ним. Шафиров слушал, как всегда опустив глаза. Толстой стоял с непроницаемым лицом. Куракин, не уступавший в дипломатической изворотливости ни Шафирову, ни Толстому, теребил букли парика, будто то было сейчас главным. И только Остерман сплоховал, глянул в глаза царя, думая не о сказанном Петром, а о случившемся с наследником. И царь прочёл его мысли. Уколол взглядом. Стянутая судорогой щека у Петра поехала в сторону, шея налилась кровью, но царь сдержал судорогу, продолжил ровно:
— А посредником этим в переговорах должен быть, как разумею, двор французский, хотя он сейчас потакает Карлу противу нас. Вашим умением повернуть надо сию страну в её мнении, с тем чтобы она нам не врагом, а помощником была. Дело трудное, но исполнять его надо без промедления.
Пётр взял бумагу со стола, глянул, сказал:
— Вот реестрик я составил для вас. Подумайте, — протянул бумагу Шафирову.
На том аудиенция кончилась. Пётр, отослав Шафирова, Остермана, Куракина, повелел остаться Толстому.
Когда дверь за ушедшими притворилась, Пётр достал трубочку, не свою, прокуренную, с гнутым мундштуком, а новую, голландскую, фарфоровую, расписанную, как пасхальное яичко. Набил табаком, прикурил от уголька из камина, пыхнул дымком. Да всё стоял и стоял прямо напротив Петра Андреевича, но не глядя на него. Дым плыл к потолку, лицо царя было отрешённым.
Европа тесна, и дороги между столицами не бог весть какие гладкие, но есть. И катят по ним почтовые дилижансы, скачут гонцы, дудят в рожки, и вести, особенно дурные, разносятся быстро. А весть для одного дурная, для иного — радость.
О том, что при дворе российского царя не всё ладно, узнали и в Париже, и в Лондоне, и при дворе Карла шведского. А раздоры — значит, и придержать можно российского медведя. Много, слишком много побед. Флот растёт, полки Петровы по Европе маршируют. Хорошо ли? Пётр металл, говорят, на Урале льёт. Но к чему то? К Балтике пробился. Это уж вовсе негоже. Раздор в семье царской? Что ж, бывало такое и при европейских царствующих домах. Опыт подсказывает: самое подходящее время кусок урвать.
Неожиданно дипломатический корабль Петра, шедший под хорошими парусами, потерял ветер. Паруса обвисли бессильно. Пётр это увидел сразу. И, как матросы на вантах, забегали, засуетились его дипломаты. Ни слов лестных, ни подарков не жалели, ко причину, которая объясняла бы неожиданную настороженность в европейских столицах к русским, царю обговаривали туманно, путано.
Пётр сильно потёр лицо рукой, помял горло, словно его мучила боль, сказал:
— Про царевича, вижу, знаешь. Помни: не Петра и не его сына это дело, а государственное и на ущерб России оно обращено.
Зашагал порывисто по палате. Широкая рубашка трепетала за спиной. Повернулся к Петру Андреевичу всем телом.
— Не как царский сын, а как тать ночной, сменил он имя, но отыскать его в Вене надобно и причину сего бегства вскрыть.
Толстой переступил на скрипливом паркете, сказал с осторожностью:
— Второе, я полагаю, государь, в Москве искать следует. Царь, отвернувшийся было к окну, резко оборотился к Толстому.
— Умён, — сказал, — умён… Для того тебя и вызвал. Отпиши Меншикову, пущай досмотрит, но и по эту сторону границы государства Российского причина есть, и ты дознайся до неё.
Пётр недовольно стукнул каблуком в пол.
— Да, без топора, а под корень сечёт Алексей… Мир с Карлом позарез нужен. Побережье надо укреплять. Питербурх строить… Алексей помеха делу сему. Отыскать надобно царевича, вернуть в Москву.
Царь остановился напротив Петра Андреевича: руки за спиной, ноги циркулем. На скулах у царя пухли желваки.
— Вестей из Вены мы не получаем. О чём свидетельствовать то может? О нерадении, нерасторопности посла Веселовского? А может, он царевичеву делу радеет? Из старых он, родовитый. Как знать… А?
И царь пронзительно, как мог только он, глянул в лицо Петра Андреевича, но тут же и отвернулся, зашагал по палате.
Толстой молчал, ждал.
— С Веселовским, — сказал Пётр, — мы цесарю австрийскому письмо направили, ответа, однако, нет. Это как понимать?
Пётр ходил и ходил по палате. И Толстой, и Куракин, и Шафиров, и Остерман нужны ему были в Париже. Переговоры с французским двором представлялись Петру весьма и весьма трудными, а проиграть их — это Пётр знал твердо — было нельзя. И всё же царь сказал:
— Пётр Андреевич, не хватать, ох, не хватать тебя будет в Париже на конференции с французским двором, но повелеваю я ехать тебе в Вену. Каверза с наследником может развитие получить воровское. Езжай немедля и, ежели Авраам Веселовский робеет в чём или злой умысел какой имеет, от дела его отлучи и сам возьмись всё выполнить.
Толстой заволновался, заколыхал обширным чревом, но промолчал. Знал: Пётр два раза одно и то же не говорит.
— И напомни при дворе любезного нам цесаря, — сказал Пётр зло, — что войско русское стоит в Мекленбургии. Силезия рядом, а оттуда до Вены рукой подать.
Пётр Андреевич поклонился, и странная улыбка вдруг объявилась на его губах. Он хмыкнул:
— Угу…
Пётр глянул на него, но ничего не сказал.
Вице-канцлер Германской империи граф Шенборн получил нечто вроде маленького удара, когда в один из дней лакей ввёл к нему в кабинет незнакомого человека в темном дорожном платье.
Граф Шенборн был утончённым, изысканным придворным. В его кабинете царила сосредоточенная тишина, воздух был напоен тончайшим ароматом духов и даже картины, украшавшие стены, были подобраны так, чтобы краски их не тревожили глаз. Дела государственные требовали внимания.
Когда ввели незнакомца, Шенборн работал над дневником. Дело это он полагал наиважнейшим и относился к нему с великой ответственностью. Для дневника была выбрана глянцевая, наилучшим способом отбелённая бумага, обученный лакей затачивал ежедневно новое перо и следил за цветом чернил. Дневник должен был сохранить бесценные описания приёмов, обедов, прогулок — пеших и конных — монаршей особы.
Граф обмакнул перо, с тем чтобы записать тонкое наблюдение, когда вошедший неожиданно сорвал с головы мокрую от дождя шляпу и швырнул её на стол.
С пера графа Шенборна упала капля чернил, и безобразная клякса легла на белоснежную страницу. Шенборн вскочил с кресла.
Дальнейшее было не менее ошеломляющим. Незнакомец объявил, что он наследник царя Великая, Малая и Белая России царевич Алексей и требует немедленного свидания с императором Карлом, его шурином.
Тут-то и произошло у графа Шенборна маленькое кровоизлияние. Всё поплыло перед глазами, ноги ослабли. Слуга подхватил его под руку.
Оправившись, граф из путаных речей неожиданного гостя понял, что в Вену тот прибыл инкогнито, боится преследований грозного отца и просит убежища у цесаря. Царевич Алексей говорил сбивчиво, был крайне возбуждён и перепуган. Зубы его стучали, как в жестоком ознобе.
Туман в голове у Шенборна постепенно рассеялся, и он подумал, что присутствует при историческом событии, безусловно счастливом для его страны. Шенборн недаром занимал высокий государственный пост и мог видеть далеко. Он понял сразу же выгоды, какие может принести этот визит.
Граф засуетился, усадил царевича в кресло и, нарушая самим же выработанные правила, повысил голос, потребовав вина. Он полагал, что вино успокоит взвинченные нервы гостя.
Вино принесли на серебряном блюде. Граф низко склонился, подавая гостю бокал. На побледневшем лице Шенборна цвела обольстительнейшая улыбка.
Расплёскивая душистый мозельвейн, царевич говорил, что у него немало друзей и они поддержат его в стремлении к трону, помогут взять скипетр в руки и возложить на голову священную шапку Мономаха, которой хочет лишить его отец. С гневом, с ненавистью, столь страстной, что было непонятно, как она бушует в хилом теле наследника, он произнёс несколько имён: Меншиков, Ромодановский, Толстой, Ушаков. Назвал их хулителями веры, ниспровергателями святой старины. Сказал, словно плюнул: «Любимцы царя».
Шенборн, слушая царевича, не раз и не два мысленно сказал: «Спокойно, спокойно, спокойно…» Больше того, граф попытался припомнить похожие примеры из древней истории. Но волнение его было всё же столь велико, что память не могла подсказать что-либо подобающее случаю. Всё же Шенборн из дипломатической осторожности на том речь гостя прервал заботливым напоминанием о необходимости такой высокой особе, как наследник царя, беспокоиться о здоровье. Плавным движением граф коснулся платья наследника и выразил сомнение в том, что оно достаточно сухо и тепло.
Поднялся. Приглашающий жест его был полон изящества. Скрытыми, тайными ходами, которых было множество в старом дворце, граф провёл наследника к выходу.
Карета уже ждала. Царевича с осторожностью свели со ступенек. Шурша колёсами по схваченной морозом земле, карета отъехала.
Вице-канцлер поднёс холодные тонкие пальцы ко лбу. Лоб пылал.
То было в Вене. А Пётр Андреевич, непременно имея сей город на памяти, озабочен был в эти дни трудами — сыскать корень происшедшего с царевичем в России, ибо полагал, и не без оснований, что тут, тут вся закавыка. О тёмных словах Александра Кикина, оброненных в митавской корчме: «Поезжай в Вену, там тебя не выдадут», — сообщил он светлейшему князю Александру Даниловичу Меншикову, как и велел Пётр. И обсказал, дабы Александр Данилович за дело взялся покрепче и что поручение это царёво. Наказал: «Не пугай Кикина до времени. О разговорах с наследником разведай исподволь, если к тому случай будет».
Меншиков — человек на руку быстрый — случай поторопил.
Накануне великого праздника рождества Христова светлейший заехал к старому князю Фёдору Юрьевичу Ромодановскому. Князь болел с лета — тяжело, безнадёжно. Говорили о нём: «Не жилец».
Возок подкатил к новому, с колоннадой, княжескому дому, и Меншиков, спрыгнув на снег, легко взбежал по широким ступеням подъезда. Морозец был изрядный. Снег хрустел под каблуками. Дворецкий принял шубу. Меншиков походил по вестибюлю, с удовольствием приглядываясь к широким окнам, заставленным прозрачным, как воздух, аглицким стеклом. Немногие могли похвастать такой новинкой. Светлейший подумал:
«Дворцу бы тому Пётр порадовался — вот-де какие в Питербурхе хоромы строить стали».
Меншиков обогрелся у камина — не хотел студить больного, — вошёл к князю.
Тот лежал в кресле — грузный, бледный. На воздухе уже полгода не был. Но с отёчного лица из-под нездорово нависших век глянули на светлейшего по-прежнему острые, угольного цвета глаза.
Меншиков поклонился низко, как кланялся немногим, и голосом бойким, слишком уж бойким сказал:
— Князь, праздник великий днями… Пошумим…
— Садись пониже, — ответил князь, — голову мне поднимать невмочь.
В горле у Ромодановского булькало, хрипело страшно.
Меншикову подали табуреточку.
Как известно, Фёдор Юрьевич был особой, от которой Пётр тайн не держал.
И князю-то, подвинувшись ближе, светлейший и пересказал тёмные слова Кикина, говорённые в Митаве.
Ромодановский закрыл глаза и долго лежал молча. Светлейший даже забеспокоился.
— Фёдор Юрьевич, Фёдор Юрьевич… Князь! — воскликнул тревожно.
Глаза Ромодановского раскрылись.
— Алексашка Кикин, — сказал он, — вор и царёву делу изменник. О том я давно ведаю.
Слова Ромодановский выговаривал тяжело, словно глыбы каменные ворочал.
— Каким барашком был послушным да мягким, когда под рукой царёвой ходил денщиком. А как на интендантство в Адмиралтействе сел, проворовался тотчас. — Вздохнул: — Да и не о том речь… Кто царю не виноват и богу не грешен… Праведников, почитай, и нет… Праведники… Крылья у них белые, а в подкрылках какая чернота — неведомо. Боялся я праведников, всегда боялся. Грешник — он весь перед тобой, как на ладони. С ним легше… Но я о другом. Есть люди, которым по башке дать за дело — благо. Такой шишку обомнёт, подумает и лучше прежнего станет. Недаром говорят: «За битого двух небитых дают». Есть и другие: шишка, набитая у такого, всю жизнь рогом торчит, и если он вновь к добру пристанет, то воровать втрое будет против старого. Глотки будет рвать людям. А за руку схватят — зубы покажет на аршин больше прежних. Так вот Кикин из тех.
Меншиков ловил каждое слово Ромодановского с великим вниманием.
— За воровство Кикина, — продолжал князь, — я в застенок его брал. Но кнутом не бил и на дыбу не поднимал, а попугал маленько. От страху паралич его расшиб. И он лежал колодой неподвижной, да так бы и сдох. Кикина обида жжёт. Того огня страшнее не бывает, ибо обида та за власть потерянную.
Многое знал Фёдор Юрьевич. Всё, что смертному дозволено, видеть ему довелось. Знаком он был с людьми в парчовых кафтанах, видел их и в чём мать родила на дыбе с вывернутыми руками, битых кнутом, железом калёным припечённых. Слова слышал, что губы шепчут за мгновение до того, как голова, отрубленная топором, отскочит арбузом.
— Обида за власть утраченную и в явь и в сон в человеке горит. Кикин сейчас не на Петра — на наследника ставит, дабы самому подняться. И хотя он труслив до медвежьей болезни, но хитёр, и ты, Александр Данилович, к нему подходи с осторожностью. Друзья его — Никифор Вяземский, Иван Афанасьев, Лопухины[42]. За ними догляд надобен. — И не хотел, видно, но всё же под конец сказал: — И за царицей бывшей, старицей Еленой, пригляди.
Откинулся на спинку кресла. Лицо его большое застыло. На том и расстались.
«Ну, Сашка, держись, — подумал о Кикине Меншиков, — посмотрим, так ли уж ты ловок, что с нами тягаться решил… Воровство мыслил… Ох, воровство… Поглядим».
И о другом подумал: «Скоро Рождество, ряженые будут игрища заводить. Веселье, песни, вино... А человек слаб, коли вина выпьет. Вот тогда-то к Александру Васильевичу Кикину мы и нагрянем».
Светлейший одним прыжком вскочил в карету, крикнул звонко солдату на облучке:
— Давай! Живее!
Солдат рванул вожжи. Кони с места взяли в карьер.
Как задумал светлейший, так и сделал.
Рождество в Питербурхе было весёлое. И хоть колоколов не много ещё навешали, перезвон стоял — в ушах гудело. Обнимались, целуясь троекратно, и попито вина было да сладких наливок, водок, настоек, медов, пива разного, браги, выморозок — море. С едой было трудненько, не то, конечно, что в Москве хлебосольной. Обозы в Питербурх шли долго да и нелегко, но всё же едено было и жареное мясо, и пареное, и тушёное. Подавали рыбу и под морошкой, и под клюквой, и под рябиной, морозом схваченной. И струганину едали, пупки куриные, на мёду варенные, и пироги московские; расстегаи, жиром текучие, подавали. Дичь всякую на стол метали. И зайчатину, чесноком сдобренную, и оленину нежную, розовую, и медвежатину красную, кирпичную, что только мужам пристало есть, так как от того мяса силы играют молодецкие.
Принявшим вина излишек щи подавали кислые — такие, что глаз дерут. Съев горшок щей тех, человек вставал как встрёпанный.
От столов отвалившись, начинали игрища и забавы. Рядились кто во что горазд.
В компании Меншикова трёх офицеров Преображенского полка, дуроломов двухметрового роста, одели медведями. А так как офицеры те за столом водки крепости оглушающей хватили изрядно, то ревели они осатанело, пуще зверей настоящих.
Меншиков вырядился султаном восточным, чалму алую на голову накрутил, перо цветное воткнул. Князь Шаховской — шут царский — ослиную голову с ушами метровыми себе приделал и по-дурному игогокал — откуда только и голос брался. Гости иные и чертями, и арапами с мордами чёрными, как сапоги, понаряжались. Один ухитрился галерой турецкой одеться, да так, что и впереди у него девка морская в чешуе, без хвоста, и сзади девка, но уж с хвостом рыбьим. И всё бы ничего, но надумал он ещё и парус за спиной пристроить. И как из дворца вывалились на воздух, ветер в паруса ударил, гость в снег головой бултых! За ноги его в сани сволокли. Бросили. Всей компанией залезли под полости меховые и под рёв медвежий и крик ослиный душераздирающий с колокольцами погнали коней.
Люди на улицах шарахались. Галера турецкая до пяти раз по дороге из саней вываливалась. Но кое-как втаскивали её в сани и, коней не жалея, гнали дальше.
Александр Васильевич Кикин, увидев сию компанию, хотел было схорониться в дальних комнатах, но, узнав, что с гостями светлейший князь Меншиков пожаловал, вышел с улыбкой.
В гостиной у него были Никифор Вяземский, братья Лопухины, поплоше человек пять. Толстомордые, за щёки будто по яблоку засунуто. Красные от выпитого.
Дуроломы Преображенские в пляс ударились. Пол гнулся, трещал. Прочие сигали, скакали, прыгали. Галера турецкая крепчайшей водкой обносила. Водка в бочонке морском с цепью изрядной. И если гость смел отказываться, галера без слов лишних цепью по голове и прочим болезненным местам охаживала. Тут же медведи подступали, и тогда уж врагу хмельного плохо приходилось.
В шуме и лёгких забавах тех Меншиков подсел к Кикину, уже трижды отведавшему из бочонка галеры. От возлияний глаза у Александра Васильевича на мир смотрели странно. А галера в четвёртый раз подплыла. Мигнул Меншиков глазком хитрым. Шаховской из дальнего угла коршуном кинулся, затряс ослиными ушами, завопил:
— Во имя Отца и Сына и Свя-та-го Ду-ха-а-а!
И подал Кикину не бокал, а ковш с четверть ведра. Хозяин затряс головой, отказываясь, но галера с цепью подступила. Все прочие встали в круг, плескали в ладоши. Шаховской завопил на ноте предельной:
— Свя-та-го Ду-ха-а-а!..
Перевёл, не прерывая дыхания, возглас сей церковный в ослиный, непотребный рёв:
— Иа-а-а... иа-а-а...
Хозяин выпил.
А уж после того Меншиков к нему подкатился лисой. Хвостом только не вилял, так как султану восточному, в чьё платье он был обряжен, хвост не полагался. Голосом медовым между прочим закинул:
— А нет ли известий от светлейшей и ласковой особы наследника?
И увидел — лицо хозяина изменилось и хмель с Александра Васильевича соскочил разом.
А Меншиков уже в сторону отошёл. Всё понял лукавый: были говорены Кикиным поносные слова в Митаве. Были.
Игрища продолжались до утра. Утром, вернувшись к себе во дворец, светлейший прошёл в кабинет, сел к столу. Прикрыв ладонью глаза от свечи, опёрся устало на локоть.
В комнатке было тепло, уютно. Так бы и лёг на диван турецкий, широкий, мягкий. Но, посидев малое время, светлейший стянул с головы чалму дурацкую, швырнул в угол. Взялся за перо и, старательно выводя буквы неуверенной после пиршества рукой, написал:
«Мейн херц, кениг! Алексашка Кикин слова измен- ничьи в Митаве наследнику говорил. Подтверждение тому есть. Слов сих боится смертно. А ещё привет тебе шлёт князь Ромодановский. Он же присоветовал присмотреть за известной тебе старицей Еленой. Совет, думаю, не пустой. Дела прочие идут слава Богу. Царю своему слуга, князь Меншиков».
Положив перо и запечатав конверт, крикнул, чтобы подавали платье обыденное. Надо было ехать досмотреть, как идут работы на набережной Адмиралтейского острова. Побывать в гавани, узнать, всё ли готово для отправки камня тёсаного на остров Котлин. Царь запрашивал о том в письме. Непременно съездить к Леблону, чертившему план новой столицы. Французский сей архитектор деньги за работу брал большие, а дело двигалось медленно. И о том Пётр беспокоился. А главное — поспеть на Адмиралтейскую верфь. Закладывали там восьмидесятипушечный корабль. Дело ещё неиспробованное. Спустили со стапелей «Полтаву» о пятидесяти четырёх пушках, а такого элефанта работать не приходилось. Много, много дел было у светлейшего, и хоть тресни, а поспей всюду.
— Ну, ну, скорей же! — крикнул он другой раз слуге. — Черти! Сколько повторять буду!
Душа горела у светлейшего. Не мог ждать.
Рыночная площадь в Вене просыпается рано. Здесь и рыба живая дунайская, которую привозят рыбаки, едва только откроются крепостные ворота; мясные туши на крючьях, горы фруктов самых диковинных, овощи, пахучие травы. Можно купить и кафтан, и башмаки, и трубку зрительную, и монастырей дорожный, а в нём два ножичка, да ноженки, да вилка, да свайка, да зубочистка. Но гвалта, неразберихи и толчеи, как на Ильинке или в Ветошном переулке в Москве, нет. Там нищему или юродивому деньгу не подашь — так гляди и грязью навозной закидают или шапку сорвут запросто. И кричи, беги меж рядов, только толку от того чуть.
В Вене торгуют чинно, вещь подают с поклоном, а не суют в лицо, так что и не разглядишь товара. Люди ходят не спеша, в одеждах чистых. Тут и яркие красные платья из бархата рытого испанского или французского увидеть можно на кавалерах знатных; тёмные — синие или чёрные — с отливом из сукон немецких — на людях поскромнее; из восточных пёстрых тканей, сверкающих так, что в глазах рябит, — на горожанках богатых.
Купцы ежели из немцев, то всё больше бритые, а ежели из восточных людей, то в чалмах и с бородами ухоженными — товар раскладывают по порядку, одним глазом всё видно.
Правда, и в Вене не без греха. Цыгане крутятся, цыганки трясут широкими юбками, цыганята как черти шастают, и глаза у них чертячьи — дерзкие. Ходят и нищие оборванцы. Рвануть кошель из-под камзола вполне могут, но всё же спокойнее здесь, чем на московском торжище.
По рыночной площади в Вене ходит русский бравый офицер Александр Румянцев. Усы колечками закручены, на бедре шпага, лицо весёлое. Присматривается офицер к людям, слушает разговоры. Товар не берёт, а так притиснется, где пошумнее, глянет остро, пойдёт дальше. А мысль у офицера такая: если наследник в городе, то или сам он, или люди его на площадь придут. Мимо рынка не пройти. Покушать ли чего царевич изволит или вещицу купить — найдёшь только на рынке. А ещё думает офицер: любимая Ефросиньюшка с царевичем. Ей-то, наверное, наследник подарочек заморский захочет купить, или она сама того попросит. И опять мимо рынка не пройти. Но то так кумекает офицер, дабы время не терять. Такой уж он человек нетерпеливый, а в Вене по предписанию военному офицер сей дожидается Веселовского, что уехал к царю, в Амстердам. На рынок ходит на всякий случай. Авось и скажется царевич.
И русское «авось» Румянцева не подвело. Удачливый он был, везучий.
Утром, чуть свет, забежал офицер на подворье к Веселовскому. Но сказали: ещё не пожаловал. Румянцев вышел из дома, постоял на крыльце каменном, позвенел шпорой и пошёл на рынок. Не доходя торговой площади, свернул в харчевню. Над входом бык из жести ветром на вертеле вертится. Полюбовался офицер забавной игрушкой, вошёл в харчевню. Над очагом туша жарится, и хозяин в фартуке длинным ножом срезает с неё поджаренное румяное мясо. Бросает на блюда. И мясо такое, что слюна брызжет. Если деньги есть, последние отдашь.
Взял Румянцев мяса, отошёл в сторону. И его как по глазам ударило. Перед ним сидел человек, и на шапке у него мех. Соболь русский. Такого ни в Германской империи, ни во Франции, ни в других странах нет. Коричневый, играющий, с блестящей остью, словно маслом смазанной. У Румянцева сердце забилось чаще. Ест он мясо горячее, обжигается, а на человека в собольей шапке глаз нет-нет да и забросит. Пригляделся. Кафтан на незнакомце на австрийский фасон сшит, а сделан мастером нездешним. Отличие есть. Настырный был человек Румянцев: и как стежку кладут на одежду, примечал и запоминал.
Человек в собольей шапке встал и из харчевни вышел. Румянцев блюдо отодвинул, выскочил следом. Карета тут не ко времени по улице катила, собака шелудивая под ноги офицеру бросилась. Налево, направо повернул голову Румянцев — нет человека в собольей шапке. С лица у офицера кровь схлынула: «Упустил!»
Но карета проехала, от собаки Румянцев ботфортой отбился и увидел приметного незнакомца. Шёл тот не спеша, шагах в двадцати. Румянцев, таясь, за ним нырнул в переулок. Переулок кривой, ручеёк бежит по истёртым камням. Человек в собольей шапке оглянулся. Румянцев прижался к щербатой стене. Незнакомец пошагал дальше. Но глаза сказали: боится он взгляда чужого. А что прятаться честному человеку? От кого и зачем? Знать, на душе неспокойно.
Вышли на рынок. Человек в собольей шапке прошёл к лавкам, где торговали купцы веницийские стеклом, ларцами, камнями изукрашенными, кубками, кольцами, цепками золотыми, затейливыми. Товар такой, что не каждый подойдёт и руку протянет. Мошну надо иметь толстую. Незнакомец приценился к одной вещице, к другой, взял третью. Офицер, подступив со стороны, смотрел искоса. Человек в собольей шапке вертел в руке бокал хрустальный. Рука холёная, чёрной работы не знающая. Понравился, видно, бокал незнакомцу, и он его в платочек завернул, а купцу отдал золотой. Румянцев вперёд посунулся, разглядывая монету, и увидел: золотой царский, последней петровской чеканки. Румянцева облило жаром: таки высмотрел, выглядел он то, что искал. Понял, приведёт его тот человек к царевичу.
А незнакомец с рынка уходить не торопился. Похаживал между лавок, рассматривал товары, и видно было — любо ему здесь.
Купцы кричат вокруг, товар выхваляя, пёстрые ткани, развешанные на шестах, горят как пламя, горожане ходят нарядные. Интересно. И то выдавало тоже в незнакомце приезжего, видящего всё в новину, сообразил Румянцев. Не отставая далеко от человека в собольей шапке, офицер к лицу его присматривался, запомнить хотел хорошо.
Лицо у незнакомца светлое. Глаза большие, голубые, и над левой бровью зарубка, шрам старый, белой полоской выбегающий из-под волос к глазу.
Незнакомец, бережно придерживая узелок с бокалом веницийским, свернул с площади и пошёл улицей. Не торопился, стуча каблуками красных сапожек, но по сторонам глаз не пялил и дорогу, видимо, знал изрядно.
Вышли к дворцу Шварценбергову. Незнакомец миновал величественный фасад, обошёл домину, вышел к задним пристройкам. Остановился у малой незаметной арки в каменной высокой стене. Уверенно стукнул бронзовым молотком, укреплённым на железной крепкой дверце. Дверца тут же приотворилась, и незнакомец исчез за стеной, как его и не было.
Румянцев ещё раз возрадовался удаче: русский в Вене, в собольей шапке, что только боярину знатнейшего рода пристала, укрывается в одной из цесарских резиденций, во дворец входит в потайную дверцу — нет, неспроста то.
«Найдётся царевич, — подумал офицер, — объявится. А может, уже и нашёлся».
Российский след в случае с царевичем Пётр Андреевич Толстой угадал точно. Хорошо знал Москву-матушку и людей её знал. Да Кикина — хотя вот и просил светлейшего приглядеть за этим человечком — он за плотву счёл. Щуки в другом месте водились.
…Между Москвой и Суздалем лесов, озёр, рек и речушек — много. И лес дремучий, с завалами, старыми засеками, заросшими так, что и зверь обходит, не то что конному проехать или пешему пройти.
Дорожка из Москвы в Суздаль узкая. Вьётся, петляет меж косогоров и речушек. И на дороге той и зимой и летом царские драгуны стоят. Служба та нелегка. Зимой — мороз, метели, снега. В дозоре стоять тяжко. Мёрзли драгуны, да и с харчами не очень весело было. Говорили так: «Сегодня вершки, а завтра в пузе щелчки». Летом донимал зной. Вода здесь болотная, кислая, торфом воняет. Животами служивые маялись и злы были, как псы цепные. За каждого беглого холопа, что передавали они власти, — два дня отлучки домой. И уж через то только гонялись они за вольными людьми пуще, чем борзые за зайцем.
По той дороге в древний суздальский Покровский монастырь свезли Петрову жену — Евдокию Лопухину, бывшую царицу. Свезли с бережением.
Обоз растянулся на версту. Родня с бывшей царицей ехала: братья её, сёстры.
Евдокия в возке, изукрашенном коврами, кони в дорогой упряжке. Но как ни наряден поезд, не на свадьбу он вёз бывшую царицу Великая, Малая и Белая Россия, а в изгнание.
Скучали в возках. Лица хмурые. Разговоров мало. Да и о чём говорить? Всё проговорено… «В монастырь матушку-заступницу везём… Какой уж прибыток ждать от того? Дворы придут в запустенье. Нахолодаемся. Ремешки на животах подтянем…»
Скрипели полозья саней по льдистой дороге, рвали сердце.
Евдокия плакала. Поглядывала из-под платка на вековечные, могучие сосны, заметённые снегом, на белые берёзы, уходившие бог знает в какую даль, а слёзы катились и катились. Сёстры успокаивали её:
— Кто знает, Евдокиюшка, как дело обернётся. Да и сынок у тебя есть, Алёшенька. Сын матери всегда заступник.
Слёзы вытирала бывшая царица насухо злой рукой, думала: «Да, сын, сын, сынок… Вызволит из немилости. Время покажет».
Крестилась. Ехали дальше. И опять сосны да ели заснеженные, страшные, как чернецы в длинных рясах у кладбищенских ворот. И закипали опять слёзы:
— Завезут, завезут за монастырские стены каменные, высокие, и оттуда не докричишься ни до Алёшеньки, ни до братьев, ни до сестёр… Горе мне, горе…
Опускала голову низко. Братья, глядя на неё, тоже склоняли головы:
— Видно, отошло счастье. Другие наперёд выйдут. Другие!
В душах поднималось такое — не дай господь и подумать. Лошади скользили по наледи, оступались.
— Ну, ну же! — кричали мужики. Соскакивали на дорогу, подталкивали плечами сани. Мучились на подъёмах. Лошади падали. Ну а как уж под гору…
— И-эх! — гикнет мужик, и кони понесут вскачь.
А там опять затяжной подъём. От коней пар столбом. Мужики глотки надсаживают, хрипят. Трудна дорога, и снег валит, валит.
Но вот солнце выглянуло из-за низких туч. Заиграл снег на соснах, на елях. Всё вокруг, как радугой, осветилось в семь цветов. С ветки на ветку через дорогу белочка прыгнула. Да не долетела, упала, побежала по снежной замяти. Хвостик рыжий торчит кверху, мотается. Засмеялась сестрица Марья, что рядом с Евдокией сидела, а лицо у неё белое да румяное, как наливное яблочко. Глаза сияют.
— Смотри, смотри, сестра!
И в другой раз засмеялась. Евдокия смахнула слёзы, развеселилась. С лица тень сбежала, краска на щеках выступила Вспомнила, как теремная мамка говорила: «Авось да небось, что там ещё будет. Лета твои молодые».
Драгун подъехал посмотреть, чему бывшая царица радуется. Причины вроде нет. От него пахнуло табачным дымом да водочным перегаром. Глаза серые, настороженные под заиндевелыми бровями. Глядит волком.
И Евдокия поперхнулась смехом, ушла лицом в платок. Так и ехала — то слёзы, тоска, хоть в голос кричи, то вдруг забрезжит надежда, как слабый огонёк, но светит всё же и на него можно выйти. Боялась Евдокия монастыря. Кресты, камни, толстые стены. Глухо за каменными громадами. Ворота запрут со скрежетом. И все… Знала: не первая она из великих хором в монастырь едет. Бывало такое и раньше. Сколько их, новообращённых монахинь, укутанных в чёрное, головой билось о каменные стены, рвало волосы, звало из-за монастырских решёток, кричало, да не докричалось? Никому не ведомо, погосты монастырские о том лишь знают. Царский венец камнями усыпан драгоценными, горит и сверкает, но, на голову его надевая, получаешь не одни радости. Страшно. Ох, страшно…
При въезде в монастырь бывшую царицу настоятельница встретила. Кланялась низко. Из возка под ручки вывела. Дорожку ковровую Евдокии постелили под ножки, в келью привели, а там тепло, лампады тихо мерцают под дорогими, в золотых окладах, иконами, сладко пахнет ладаном. Покойно. И хотя назвали её старицей Еленой, чёрных одежд не надели и грубой верёвкой не подпоясали.
В церковь повели Евдокию с великим почтением за сукнами. Четыре черницы вокруг на палках алые полотнища несли, чтобы старицу Елену от глаза чужого, недоброго уберечь.
Ступала бывшая царица в золочёных сапожках по певучему снегу, думала: «А настоятельница приветлива, хоть лицом и сурова. Я-то думала, хуже будет».
Над головой колокол торжественно пел. В церковь вошли, старицу Елену провели вперёд, на первое место. И всё с поклоном, с почтением.
Помолились. И служба коротка. Подумали, видать, — старица Елена-то с дороги. Будет время — своё выстоит перед иконами. А сейчас и отдохнуть надо. Поберегли.
В келью вернулись тем же путём, и опять черницы шли по сторонам с красными сукнами. В келье накрыт стол. А на столе блюда да чашки не хуже, чем в царском тереме. Настоятельница пригласила к столу. Лбы перекрестив, сели. Разговору за столом мало, но оно и хорошо, по обычаю православному. И так всё истово, покойно.
Жить бы Евдокии смиренно в монастыре, молиться тихо, гулять по соседней сказочной красоты роще, но нет. Страсти человеческие велики и необузданны.
Уехали провожавшие бывшую царицу в Суздаль, ускакали братья, укатили весёлые сёстры. Марья на прощание платочком пёстреньким махнула, засмеялась. Кони рванули, и всё закрыло искристой снеговой взметью.
Старица Елена медленно поднималась по каменным ступеням в келью. И хоть вверх вели ступени, а казалось бывшей царице, спускается она в глубокий подвал, такой, из которого и выхода нет, и будто бы даже в лицо дышало подвальной, могильной сыростью. Затылком чувствовала: вот-вот грохнет за спиной тяжёлая плита и навсегда затворится.
Вошла в келью. Глянула в окошко. Окошечко маленькое, в толстой стене. И свет белый крест-накрест перечеркнут решёткой ржавой. За решёткой лес и дорога, уходящая вдаль. По дороге тройка скачет, что сестёр увозит. И всё дальше, дальше, а там и скрылась…
Упала бывшая царица на каменные плиты, закричала, заломила руки. Пришло то, чего так боялась. Закрылись ворота, отгородив от мира, заслонили от глаз людских замшелые камни.
Привстала Евдокия на колени, поползла к иконам.
— Помогите! — крикнула. Но иконы молчали.
И ещё крикнула:
— Спасите!
Но тёмные доски безмолвствовали. Завыла Евдокия, запричитала. Головой в стену ударилась, упала.
Всё вспомнила в ту ночь старица Елена. И как венчали с Петром — царём российским, как дрожала у неё в руке тоненькая свечечка тёплая, скользила в пальцах. Как согнулись боярские спины, когда она вышла на крыльцо к народу. Головы поникли, как рожь под ветром.
В уши шепоток братца Ивана Лопухина, старшего, влез: «Человек к тебе будет приходить. Ты ему верь. Письмецо принесёт или слово скажет. Пётр не вечен. Алексей, сын твой, на смену ему придёт. Дождёмся».
Лицо братца придвинулось, глаза смотрели остро: «Погоди, дождёмся». Борода тряслась.
И уже перед глазами улыбка князя Меншикова. Косая, злая. Приехал он к Евдокии объявить о приказе царя следовать ей в суздальский Покровский монастырь. «А ежели ослушаться, матушка, изволишь, указал царь, водворить в ту обитель силой». Поклонился, зубы блеснули.
Мамки, тётки вокруг, дворовые люди да два-три боярина худых, что возле её двора ютились, только ахнули. Карлица любимая, что в ногах кувыркалась, сморщила лицо, заплакала, заскулила, как собака, выбитая пинком со двора.
Меншиков непочтительно крутнулся и вышел, стуча каблуками, словно в кабаке…
— Погоди, — прошептала старица Елена, — ужо Алёшенька воздаст тебе. Воздаст!
Кусала губы старица Елена, грызла пальцы. Не было в её сердце смирения. Видения одно мстительнее другого проходили перед ней. Каталась по келье в тоске.
Утром поднялась с камней, обвязалась платком туго, пошла в церковь. Шла прямо. Ноги ставила, как деревянные. Молилась, поклоны клала, касаясь лбом пола, а на глазах ни слезинки. Высохли глаза. Какую молитву читала, что просила у бога — никто не слышал. Вышла из церкви, лицо застывшее. Настоятельница заговорила с ней, но старица только губы плотнее сжала. Руки у груди, лицо бледно.
— Богу молюсь, — сказала, — за грехи наши. Прошла мимо.
Через неделю человек к ней заглянул, посланный братом. Пришёл незаметно. Встал у церкви, помолился на сверкающие кресты. На человеке лапти, котомка за плечами, шапка на голове рваная. Странник? Нет, глаза выдавали, что ждёт он кого-то. Взгляд по двору шарил. И дождался, кого хотел. К церкви шла старица Елена. Человек к ней кинулся, кланяясь. Шепнул что-то обмерзшими губами. Старица взглянула на него строго, сказала:
— Пройди в келью мою. Скажи, я велела.
Ушёл гость в тот же день. Вышел за монастырские ворота и зашагал в сторону Москвы.
Так завязался чёрный клубок.
Далеко от Москвы до Суздаля, и трудна дорога. Но всё же пробирались по ней люди. Письма носили, слова передавали тайные. Письма те не чернилами написаны — желчью. И Алёшеньке письма носили. И верила, верила старица Елена: придёт время — отомстится за её страдания и слёзы, царицей она при сыне сядет, и вновь венец царский на её голове воссияет. Братья помогут, иные люди, что старине любезной приверженцы. Есть такие, и они не выдадут.
Ходили, ходили люди между Суздалем и Москвой. Таились по оврагам, по чащобам, укрывались от драгун царских, но ходили…
Царь подошёл к столу. На столе трубка, кисет, бисером шитый, карты. Не присаживаясь, Пётр развернул свиток. Чертёж датской крепости на побережье. Добрая крепость. Стены любой штурм выдержат. Ещё утром, разглядывая чертёж, Пётр подумал: «Вот такую крепостицу на Котлине надо утвердить. Хороший замок к Питербурху с моря будет».
Подержал чертёж в руках, пальцы задрожали, Пётр с досадой бросил свиток. В мыслях мелькнуло: «Котлин... Котлин... До него ли?» Отвернулся от стола.
И Куракин, и Остерман, и Шафиров хитрили, прятали глаза, недоговаривали, что думали. Знали: на царёвой службе дураком-то порой быть куда как лучше. Боялись.
Пётр морщился, тёр лицо руками:
— Они-то боятся. Оно и верно, боязно. Ах, Алексей... Алексей... Малое дитя... Не ведает, что творит? Не так, не так...
Понимал — одним словом всё можно определить. Но вот слово то и пугало Петра больше всего. На зубах каталось оно, как орех круглый, а раскусить сил не было. Даже тайно, не ведомо ни для кого, в мыслях произнести его он не решался. Сын его был Алексей, родная кровь, наследник царский. Державой управлять на роду ему написано. Державой!
Не сказал Пётр страшного слова. Мысль пугливо вильнула в сторону. Вспомнил, как поручал царевичу укрепить Москву на случай подхода войск Карла. А что вышло из того?
Прискакал Пётр в столицу и увидел, что валы, которые велел возвести, не насыпаны, бастионы крепостные порушены. А если бы быстрый Карл подошёл? Кто бы расплачивался за то нерадение? Чьи бы головы слетели, чья бы кровь пролилась? И ещё вспомнил, как повелел он царевичу прислать рекрутов в Преображенский полк, куда солдат брали крепких, рослых, сильных, чтобы кровь с молоком в лице играла. И из того ничего не вышло. Алексей о рекрутах и малой заботы не проявил.
Пётр тогда разговор с ним имел долгий. Стоял Алексей перед отцом, руки опустив. Лицо белое, камзол, как на палке, болтается. Глаз не поднимал.
Пётр сказал:
— Ну, что же ты? Или сил нет?
Алексей пробормотал что-то оправдательное.
— Одумайся, — сказал Пётр, и в слове том уже не гнев, а мольба была.
Алексей молчал.
Пётр махнул рукой. Царевич повернулся, пошёл к дверям. На спине — узкой и длинной — лопатки угласто проступали.
Взглянул Пётр ему вслед, и лопатки те угластые по сердцу его ударили до боли. Чуть не вскрикнул.
Быть бы Алексею дубиной битым за нерадение в воинском деле, но царский сын он. Да и не дубиной даже. За небрежение такое боярин Ромодановский — человек строгий — поднял бы его в Преображенском приказе на дыбу, сказав: «Кнутом его за измену».
Вот так слово, что произнести Пётр не решался, само по себе выскочило.
Выскочило... Но било оно больнее ножа. Жгло сильнее огня. По приказу царёву головы рубили людям, ноздри рвали, выдирали языки, страшными казнями казнили. И сам он головы рубил, и казнил сам за вины разные, считал, что горше предательства нет вины.
Сцепил за спиной Пётр пальцы в замок, сжал до хруста. Стоял, раскачивался с носка на пятку. Каблуки стучали в пол.
За окном в безветрии тихо падал снег, устилал мостовую, высокие крыши домов, карнизы окон, причудливую лепнину стен. Улица была бела. И из сверкающей чистоты чужого города вдруг пахнуло на Петра косматым, путаным, душным, сырым, московским. Шапки о сорока соболей, рясы чёрные, глаза безумные, разинутые рты... И шорохи, шёпоты, крики вопливные под колокол набатный, гвоздящий в темя: «Куда ведёшь нас, государь? Мы третий Рим!»
Откачнулся Пётр от окна, забегал по комнате, натыкаясь на стулья и креслица. Остановился. В мыслях высветилось то, что хоронил и от себя, и от людей:
— Вот то за ним: шапки горлатные, рясы чёрные и самолюбивое: «Мы третий Рим!» Им бы только на лавках сидеть прелыми задами, киснуть в шубах, да чтобы мошна была полна и звон колокольный стоял, возвещая выход к народу. А Россия — та пусть хоть в язвах, в рубище, тёмная, слепая, грамоты не разумеющая. Третий Рим...
Пётр стиснул зубы, желваки на скулах выскочили.
— Кресты... Лампады мерцающие... Честолюбие азиатское, непомерное... Чёрта ли лысого искать в курных избах закопчённых? В голоде, в холоде, в страданиях? В вечной нужде?
Топнул ногой.
— За хвост кобылу тянут, хотят, чтобы она задом ходила. Так нет! Не повернётся Россия вспять!
В комнату вскочил денщик.
— Шафирова ко мне, — сказал Пётр, — немедля.
«Сам в Париж поеду, — подумал он. — Мир с Карлом
позарез нужен. Побережье надо укреплять. Питербурх строить... Дипломаты не нашли к миру тропки, я найду. Чиниться ради такого великого дела нечего».
И, как-то вдруг успокоившись, сел к столу. Притянул к себе чертежи. Но мысль тревожная вновь кольнула больно: «Алексей — помеха делу сему. Отыскать царевича, отыскать всенепременно. Вернуть в Москву».
Румянцев в Вене обзаводился знакомыми. На улыбку он был щедр, за словом в карман не лез, и где улыбнётся, где словцо острое ввернёт — глядишь, и разговор получился. Так знакомства и заводились. Особенно везло ему с бабами. Молодая венка разговорчива, улыбчива, не чета московской дурынде, дочери боярской, засидевшейся в тереме отцовом за дубовыми дверьми. Та на слово сказанное вспыхнет, платком глухим бабкиным прикроется и сидит квашней. Красная, потеет. А венка нет. Смехом серебристым ответит, глянет задорно глазком голубым и готова день простоять, с молодым разговариваючи.
Румянцев у дворца Шварценбергова приглядел такую. Тоненькая, высокая, в платье чистом. Забежала она к башмачнику. И офицер туда — шасть. Заговорил. Смеётся венка выговору Румянцева, зубки сахарные показывает.
Разговорились. Вышли от башмачника — солнце яркое. Лужи на мостовой под ветерком словно золотом покрыты. Весна. Расставаться не хотелось.
Через три дня венка Румянцева уже дружком сердечным называла. А с дружком и поделиться можно многим. И венка та весёлая рассказала: живёт во дворце, в дальних комнатах, с недавних пор гость тайный. Никто его не видел, но кушанья богатые ему подают. При столе гостя в услужении свои люди. Один из них со шрамом, из-под волос к брови сбегающим. Сказала девица смешливая, что при тайной той особе паж есть. И его она однажды видела и подивилась сильно. Высок паж, строен, с лицом, румянцем играющим, но грудь у него высока непомерно для юноши, и если вслед смотреть, то тоже пышность видна излишняя.
Румянцев рассказ тот запомнил.
У нового знакомца из башенных дознайщиков, что считают вошедших и вышедших из города, налог берут в пользу цесаря, записывают в книги имена прибывших иностранцев, узнал он и другое. Дознайщик сказывал, что прибыл в город польский кавалер Кременецкий, и с ним паж и слуги. Имя одному из них — Иван Афанасьев. Склонившись над бумагами, над которыми всю жизнь просидел в крепостной башне при свече и волосы растерял все до единого, добавил:
— Да, припоминаю, шрам у Ивана Афанасьева на лице. Через лоб к брови.
Вина после того разговора они выпили в харчевне, и тогда же писарь башенный посулил запись в воротной книге о польском кавалере Кременецком, паже и слугах его показать офицеру.
За столом человек говорит охотно и многое обещать может, но часто, одумавшись, от слов своих отказывается. Дознайщик же слово сдержал. По ступеням шатким, истёртым провёл в башню и книги раскрыл.
Румянцев к тому времени знал, что Иван Афанасьев — камердинер царевича. А раз так, то нетрудно было догадаться, что польский кавалер Кременецкий, гость Шварценбергова дворца, — наследник Алексей. Паж с высокой грудью — любушка его Ефросинья. Стало известно Румянцеву и то, что кавалер Кременецкий по приезде в Вену остановился в трактире «Под золотым гусем», но пробыл там недолго. И ещё до одной закавыки докопался дотошный Румянцев.
Иван Афанасьев, пока бравый офицер ждал возвращения в Вену Веселовского, ещё трижды был на рыночной площади. Купил вазу веницийскую, хрустальную, тонкой работы, зеркало в серебряной оправе, ножичек затейливый восточный.
Деньги, что он купцам передал, Румянцев выкупил за голландские гульдены. И оказались золотые Ивана Афанасьева точно российской, петровской чеканки. Румянцев в первый раз, как Ивана Афанасьева видел, разглядел монету, купцу им уплаченную. Но сомнение было: издали всё же смотрел. А сейчас вот они, монеты, в ладони. Золотые те офицер подальше спрятал до приезда Веселовского, а когда тот вернулся в Вену, выложил на стол.
Авраам Павлович повертел золотые в пальцах, разглядывая, на зуб попробовал: не фальшивы ли? Нет, монеты были доброй чеканки. Отложил золото в сторону. На лице раздумье выразилось: мало ли монет Петровых по Европе ходит? Кто привёз, кто покупал? Обязательно ли царевича то след? Тогда Румянцев рассказал о сообщении дознайщика крепостных ворот о кавалере польском Кременецком и о болтовне знакомой венки о госте Шварценбергова дворца. Об Иване Афанасьеве, в воротной книге записанном. То было уже серьёзно, и Веселовский задумался крепко. Лоб наморщил. Знал хорошо изворотливость вельмож цесаря австрийского. Идти к вице-канцлеру графу Шенборну с рассказами девчонки да воротного писаря — пустое. Граф только глаза поднимет удивлённо, может, платочком душистым обмахнётся — не больше. А монеты? Что монеты! Улика слабая. «Нет, — подумал, — идти без пользы».
Всё же отметил старания офицера: «Знать, царь хвалил не зря. Помощник изрядный». И, не скрываясь от Румянцева, сказал так:
— К графу Шенборну идти рано. Подождём. А ты, молодец, пригляди за тем дворцом Шварценберговым.
Подумал: «Дела... Ох дела... До добра ли они доведут...» Покачал головой с сомнением. Страшное затевалось. Подумать только, и то оторопь берёт.
Угадать Петру Андреевичу связь старицы Елены с Алексеем не так уж и сложно было. Знаком он был с Фёдором Лопухиным — отцом бывшей царицы. Когда Евдокию замуж за царя Петра выдавали, на свадьбе гулял Фёдор Лопухин и от радости не знал, как встать, кому поклониться. Глаза пучились, глядючи на молодого царя. В мыслях Фёдор уже у трона стоял первым, по правую руку от царя. И бороду задирал выше головы Лопухин-старший. Пил вино, а хмеля не чувствовал. Хмельнее вина мечты были. Но мечты разлетелись, как туман, сдутый ветром. Пётр сослал Евдокию в монастырь.
«Разве такое Фёдор Лопухин простить мог? — думал Пётр Андреевич, поспешая в карете по указу царя в Вену, — нет, куда там…»
В оконце кареты лепило снегом, начиналась метель…
Лепило снегом и в оконце кельи старицы Елены в далёком Суздале. Но снег не мокрый, не тирольский, что кашей липнет к стеклу, а сухой, колючий, игольчатый. Ложился на монастырские стены шапками, нависал карнизами так, что монашки ходить у стен опасались. Упадёт такая шапка, оземь ахнет, будто ударит пушка. Монашка старая, согнутая пополам, попала под такой обвал — едва отходили.
Стучится, стучится снег в оконце кельи, шуршит, течёт и так бьётся в свод, что и свету не видно. Темно в келье, словно в могиле. Лихо, ох, лихо в такую зиму сидеть за обмерзшим оконцем. Плакала старица Елена, просила настоятельницу, чтобы счистили снег. Настоятельница головой поначалу покивала неодобрительно — что в оконце-то пялиться, — но всё же приказала просьбу старицы выполнить.
А зима лютовала. Стены монастырские обросли инеем, как белой шубой. Воронье и птица помельче от холода в трубы печные забивались. Поутру с криком, шумом поднимается стая, закружит над собором, сажа летит хлопьями. Монашки задирали головы, крестились: не черти ли то из преисподней, кострами адовыми прокопчённые?
Старицу Елену, как вести в собор, кутали в две шубы, и всё же, пока стоит на молитве, на холодных плитах ноги зайдутся. Идёт из церкви по заваленному снегом двору, роняет слёзы. Ножки у старицы холёные, к ледяным колдобинам да снежным ямам непривычные, вот и падают слёзы.
Настоятельница относила то не к мирским невзгодам, а к божественному и, умиляясь, велела ухаживать за старицей заботливее.
— Слышь, Евлампия, — говорила монашке, приглядывавшей за Еленой, — ты всё больше с поклоном к ней, мяконько. Вишь как богу-то она служит. Из церкви со слезами идёт.
Лицом кисла настоятельница от умиления, губы гузкой куриной складывала, глаза щурила, словно на яркий свет глядела. Потеплела настоятельница к старице Елене ещё заметнее, как прислали той из деревень её столовый оброк. Возы пришли нагруженные мёдом, птицей, мясом, рыбой, грибами да ягодой. О том братцы побеспокоились. Мясо как мраморное, в белых тонких прослойках жира, откормленная птица, рыба из лучших прудов.
Старица вышла к обозу, мужики попадали на колени. Подбежал, скрипя лаптями по снегу, управитель, пригнавший обоз, и тоже бухнулся в ноги. Спросил, не поднимая головы:
— Прикажет ли матушка расшпилить возы?
Старица обоз взглядом окинула. Возы стояли нагруженные высоко. Вокруг по снегу воронье ходило, приглядывалось — может, что перепадёт.
Старица на мужиков взглянула. Бороды косматые, армяки рваные. Подумала: «Не разбогатели, видать, без меня. Братцы, знать, — решила Елена, — столовый оброк прислали, но и себя не забыли. Упряжь на лошадях верёвочная. Да и рвань одна, узлы. Мужикам-то полегче должно было стать, как я со дворца Преображенского съехала. То, что нынче привезли, — щепоть в сравнении с тем, что в Преображенское ставили. Да… Лютуют братцы, видать».
Но Елена и слова в упрёк братьям не передала. Понимала: не время сердить родню.
Управитель всё топтался на коленях. Матерился про себя — под коленками-то лёд. Старица наконец сказала:
— Встань, Иван.
И велела пять возов настоятельнице отдать, а оставшееся сложить в отведённую для неё монастырём камору. Ушла в келью.
С оброком столовым прислано было Елене письмецо. Разворачивала Елена вчетверо сложенный жёлтый листок и волновалась. Давно уже слова от братцев не получала.
В письме говорилось, что Алёшенька уехал за границу и от отца скрылся. Где он сейчас, никто не знает. Елена растерянно откинулась на стуле и хотела было уже закричать в голос, но сдержалась.
Братцы писали, что от отъезда царевича перемен надо ждать, и перемен к лучшему. У старицы Елены лицо вытянулось: каких перемен ждать? Недогадлива была. Перечитала письмо, шлёпая губами, и уразумела одно: письмо писано весело, с большой надеждой, с радостью.
В тот же день отписала бывшая царица братцам, чтобы пояснили об отъезде Алёшеньки вразумительно. Но всё же радость братцев силы ей придала, и ходить она стала веселее.
Как-то после молитвы осторожненько намекнула Елена настоятельнице: мол, весть имеет верную, что сын Алёшенька возвышается. Настоятельница слова те выслушала молча, не моргнув глазом. Но голос у неё подобрел ещё больше, словно горло смазала маслом.
Старица Елена, приметив перемену ту, попросила настоятельницу, чтобы к ней в келью беспрепятственно допускали гостей, какие в монастырь на богомолье приезжают. Настоятельница согласие дала. Подумала: «Может, власть за то не похвалит, да где она, власть-то? Неведомо. Ещё и так выйдет, что старица Елена самой большой властью и станет».
В церкви на другой день пригляделась к Елене. Та стояла прямая, как свеча, голову держала высоко. «Да, — подумала настоятельниц:,— так сирые и обиженные не стоят».
Как-то в сумерках зашла она в келью старицы Елены; сели под образа, тихо заговорили. Сложна-де людская жизнь. Уж она и мнёт, и крутит, и ломает, а всё выходит — кому что суждено, от того не уйти.
— А может, погадать? — сказала настоятельница вопросительно.
— Грех-то какой! — Елена руками всплеснула. Настоятельница резонно возразила:
— Гадание не грех. Вот если ворожба — то истинно греховное занятие. А так, на бобах раскинуть, — зазорного ничего нет. И деды наши бобы разводили и через то, бывало, великие дела для церкви совершали.
Заметила, что есть в монастыре черница, которая через бобы судьбу человеческую читает, как книгу. Елена загорелась:
— Позови, матушка.
Пришла черница, согнутая чуть не до полу, села, на платок шёлковый бобы разноцветные высыпала и рукой сухой, изломанной, как куриная лапа, быстро-быстро бобы смешала. Тряхнула платок за уголочек, и бобы — странно и страшно — легли звездой. А один, самый крупный, в сторону отвалился. За ним и ещё несколько — помельче и не такие яркие — откатились.
Черница со значением посмотрела на Елену, заговорила:
— Истинно глаголю тебе: самый лютый твой враг вот-вот уйдёт, прахом рассыплется. За ним помельче люди, что на пути твоём стоят, развеются по всем сторонам. Счастье тебе будет, и счастье сын твой тебе несёт. Вижу, вижу, как идёт он…
От речей тех старица Елена сомлела. Настоятельница рукой махнула чернице:
— Иди, иди уж… Напугала.
Елене в лицо настоятельница брызнула святой водой. Та открыла глаза. Переглянулись, и настоятельница подумала: «Нет, не зря я разрешила гостям в келье бывшую царицу навещать».
Гости к старице похаживать стали частенько. Сидят смирно. Слушают. Старица говорила темно. Имя Петра не поминала. Жалела всё больше о доброй старине. Выходило так: перемен сейчас много, но к хорошему ли они ведут? Раньше и дети родителей почитали, и холопы непрекословно слушались. Смирные были люди. А сейчас и сын отцу дерзит, и холоп на сторону смотрит, да, того и гляди, заведётся какой-нибудь Стенька Разин и пойдёт сшибать головы. Не лучше ли новины те порушить да вернуться к старому? Гости кивали. Житьё и вправду было не сладкое. Деревеньки обнищали. Москва налогами непомерными задавила. Дворянских сынов в службу берут. И никуда не денешься: царёв указ на то есть, против ничего скажешь — сломают. Такое было.
А ещё старица Елена приглядела юродивого у церкви. Босой, на шее вериги в пуд весом. Голова всклокочена, глаза кровью залиты, глядит дико, мелет косноязычно.
Из церкви шла старица да и остановилась подле него на снежной дорожке. Юродивый на клюках железных скакал к монастырской трапезной. Прикармливали его там: зима-то крепкая, ещё замёрзнет с голодухи.
Старица огляделась. Юродивый вытянул шею, ждал, что скажет. Елена деньгу ему бросила. Повернулась, пошла спешно. Юродивый деньгу за щёку сунул, горлом заклекотал неразборчивое.
В тот же день старица, укрывшись в келье, долго говорила с настоятельницей. Торопилась бывшая царица, хотелось ей побыстрее гнать время. От одной мысли, что может вновь подняться по ступеням трона, в груди жгло сладко, путались мысли.
О чём говорили они с настоятельницей, никому не ведомо. Но наутро при всём народе после службы, в церкви, на паперти, юродивый встал звероподобно на четвереньки и закричал во весь голос:
— Вижу новое царствие! Царя вижу молодого, и головка у него светлая! Молитесь, люди, за молодого царя! Молитесь!
Народ смутился. Многие креститься начали. Обступили паперть. У настоятельницы, когда слова те услышала, заколотилось сердце. Поняла: плаха за такое может выйти.
А юродивый ещё страшнее завопил:
— Молодой царь сменит старого! Знаки к тому есть святые!
И понёс уж совсем несуразное.
Люди таращились на вещуна. Юродивый зубами вериги грыз, трясся, подскакивал, урчал, бился о каменные ступени. На него дерюжку накинули, и он стих. Но слова его по Суздалю пошли гулять. По углам зашептали:
— Святой человек и увидел святое. Головка светлая у молодого царя.
В монастырь с того дня народу наезжать стало больше. Старица Елена, когда юродивый на паперти кричал страшное, в церковь не ходила. Лихорадило её, застудилась, видно. Но слова вещие ей передали. Старица подняла изумлённо брови.
Разговор был при настоятельнице, но та голову опустила, и всё. Старица шепнула постно:
— Провидцы на Руси всегда были.
Подобрала упрямо губы в ниточку, перекрестилась троекратно. Сказала:
— Время рассудит истинность сих видений.
Солдатики, что при монастыре стояли, хотели было юродивого палками побить. Пришли к церкви, закричали. Юродивый к каменным ступенькам припал, тряпками вонючими голову прикрыл. Трясся.
Настоятельница бить его не велела.
Солдатики пошумели и разошлись.
Вечером настоятельница вина им послала. Вино доброе, монастырское, в глубоких подвалах настоянное. Солдатики попробовали — огонь, а не вино. Выпили бочоночек и о юроде забыли. Знать, вино было не простое. Монахини о травах разных знали много.
Ходил, ходил Румянцев вокруг дворца Шварценбергова и своё выходил.
Сидел он в аустерии напротив ворот дворцовых, вёл неторопливый разговор с хозяином. Бывал он в той аустерии часто, и посетители ему уже кланялись. Стол Румянцева у окна, а из окна дворец как на ладони.
Хозяин, толстый, неповоротливый, в вязаном тёплом жилете, улыбался пухлыми губами:
— Амур, амур... О-о-о!
Поднимал палец кверху. Он считал, что Румянцев просиживает здесь целыми днями из-за весёлой венки из дворца. Она заходила в аустерию и, присаживаясь к столу Румянцева, смеялась, закидывала голову, показывая беленькое горлышко.
— Молодость, молодость, — говорил хозяин. Подмигивал офицеру: — Я сам, ухаживая за своей Гретхен, потерял столько драгоценного времени! — Он качал головой. — Но то жизнь. Да, да, сама жизнь...
Румянцев отвечал шутками.
Аустерия была полна голосов. Громыхал глухим басом колбасник из соседней колбасной, с весёлыми, заплывшими жиром глазками; попискивал тонко аптекарь, худой, высокий, с запавшими седыми висками; улыбался любезный, разговорчивый старик башмачник, сдувая пену с налитой до краёв кружки пива:
— О-о-о! Амур!
Любовь русского офицера была для них как острая приправа к знаменитому венскому шницелю.
Румянцев рассказывал хозяину об охоте на медведя. Тот ахал, восхищался. А Румянцев нет-нет да и поглядывал в окно. Но у ворот дворца только неторопливо похаживал мушкетёр в длинном, до земли, плаще, а злой зимний ветер раскачивал ветви тёмных деревьев за оградой. Улица была безлюдна.
— А господин офицер сумел бы одолеть медведя? — спросил хозяин.
— Эх, дядя, — вскочил из-за стола Румянцев, — смотри! — Он поднял руки выше головы и пошёл косолапо. — То медведь!.. А вот я! — Офицер резко нагнулся и кинулся будто бы под брюхо зверю. И был он так ловок, быстр и гибок, что верилось: возьмёт он медведя, обязательно возьмёт.
Двадцать с небольшим лет всего было тому офицеру, двадцать...
Хозяина позвали из глубины зала, и он, покивав Румянцеву красным носом, отошёл от стола. Аптекарь, попыхивая трубкой, взглянул на офицера светлым глазком.
Румянцев повернулся к окну и от неожиданности чуть не вскрикнул. Из распахнутых ворот выезжала большая, чёрная, закрытая глухой кожей карета. Впереди драгуны на конях. Мушкетёр, за минуту до того скучно похаживавший вдоль ворот, вытянулся струной.
Офицер сорвался со стула, бросился через зал к выходу. Хозяин повернулся, хотел что-то сказать ему, но Румянцев уже дверью хлопнул.
Карета катила по улице. Офицер бросился вслед, шлёпая ботфортами по лужам.
Кучер щёлкнул кнутом. Колеса закрутились бойко. «Всё, — мелькнуло в голове у Румянцева, — укатят!» Драгун оборотил лицо к поспешавшему за каретой человеку. «Шабаш», — задыхаясь, подумал Румянцев.
Остановился, оскалившись. Злой был, хоть пальцы кусай. Лицо грязью заляпано, и не заметил, как из-под колёс кареты окатило стылой жижей. Оглянулся растерянно.
Из ворот дворца выезжала карета поменьше. Офицер отступил в сторону. Карета катила мимо, и вдруг в оконце её стукнули. Румянцев вгляделся — угадал за стеклом лицо знакомой венки. Кинулся, распахнул дверцу. Венка только губки пунцовые раскрыла — Румянцев уже сидел рядом. Кучер заглянул в переднее оконце, но девушка махнула рукой, и колеса застучали по булыжнику.
— То мой дядя, — заспешила венка, — он знает о вас. Я ему рассказывала, — Спросила озабоченно: — А господин офицер знает, что мы едем далеко? В замок Эренберг. Вернёмся не скоро.
Затрещала, как птичка: русского гостя Шварценбергова дворца перевозят в Тироль, её же дворцовый кастелян послал с постельным бельём и другими необходимыми вещами сопровождать знатного иностранца.
Надула щёки, показывая, какой он смешной, кастелян. Засмеялась. Упала грудью на сиденье.
Румянцев от радости обхватил венку за плечи, сунулся заляпанным грязью лицом. Девушка отстранилась:
— Пфуй, пфуй... У господина офицера перепачканное лицо.
Вытащила из кармана душистый платочек и стала заботливо стирать грязь со щёк и усов Румянцева.
Румянцев, радуясь, что так удачно всё вышло, только зубы скалил. Приподнялся, выглянул в оконце. В полусотне шагов катила карета, окружённая драгунами. Откинулся на сиденье:
— Ну, схвачу я царевича за хвост.
Венка спрятала платочек. Поправила юбки. В оконце кареты лепило поздним снегом. Начиналась метель. Последняя метель суровой зимы.
Памятуя письмо Толстого и совет Фёдора Юрьевича Ромодановского, Меншиков приискал человечка — бывшего подьячего Посольского приказа, злого выпивоху, но проныру и плута, какие редко встречаются, — и поручил ему приглядывать за людишками, о которых говорил ему князь-кесарь.
Пьяница Черемной принёс вести важные.
Авраам Лопухин, брат бывшей царицы, мужик ума не гораздо богатого, посетил австрийского резидента в Петербурге, господина Плейера, и вёл с ним разговоры, для державы Российской вредные.
Дыша водочным перегаром, крючок приказной посунулся ближе. Князь, на что уж к вину привычный, и то поморщился, отпихнул его:
— Ты что лезешь ко мне, как к девке! Черемной взглянул по-собачьи:
— Говорить страшно, ваша светлость.
— Ну-ну, ты не из робких, — качнул головой Меншиков, — говори без утайки.
Фёдор прочихался в кулак и, отвернув срамной, отёчный лик, чтобы не дышать густо на князя, зашептал:
— Интересовался Авраамка царевичем. Говорил, что друзей у наследника и в Москве, и в Питербурхе, и в других городах премного и они судьбой его озадачены.
— Так-так, — подбодрил князь, — далее что говорено было?
— Боюсь и сказывать.
— Ну, что тянешь?
— Сказывал Лопухин, что силы вокруг Москвы собираются, чтоб вспомочь наследнику. Сигнала, мол, ждут.
Меншиков кулаком по столу ахнул.
— Врёшь, чёртова чернильница!
Фёдор Черемной отскочил. Встал на колени. Слёзы выдавил. Закрестился:
— Ей-ей, правда. Верный человек разговор слышал. И ещё намекнул Авраамка, чтобы речи его царевичу через Плейера того известны стали.
И опять забожился, что всё то истинно. Князь задумался.
Черемной бормотал, крестился, кланялся. Меншиков не слышал его. В мыслях было одно: «Эко замахнулись Лопухины! Широко. Пуп бы не треснул». Толкнул ногой Черемного:
— Хватит гнусить. Смотри, если соврал, головой ответишь. Помолчав малость, сказал:
— С Лопухиных глаз не спускай. Каждый их шаг должен быть тебе известен. Смотри!
Погрозил пальцем.
Фёдор выпятился за дверь. Князь плотнее запахнул тулупчик. «Эх, — подумал, — строить надо сколько. Корабли вон в Питербурх уже со всей Европы приходят. Швед никак не успокоится. На юге тревожно. Турок гололобый шалит. А тут на тебе — воровство в своём доме. И какое воровство…»
Прикинул так: «Насчёт того, что у наследника друзей много, Лопухин врёт. Друзья царевича — народ пустой. Голь… А что силы собирают, присмотреть надо…»
Лицом помрачнел. Озадачил его Фёдор Черемной. Озадачил.
Меншиков прошёлся по комнате, сказал вслух неведомо для кого:
— Эх, народ…
Выругался.
* * *
Авраам Веселовский собирался к графу Шенборну. С утра холопы выкатили во двор карету, вычистили, вымыли так, что сияла каждая бляшка и каждая пряжечка. Коней подвели самых лучших — глаз не отвести. Шеи лебединые, крупы, щётками натёртые, блестят. Кучер — ворот епанчи выше головы — разобрал красные вожжи.
Веселовский выступил на крыльцо. Коренник скосил на него кровавый, дикий глаз. Заржал — по всей улице слышно было. Ударил копытом, потянул вожжи. Пристяжные заволновались, заплясали на месте: только вожжи отпусти — рванут птицей.
Всё было хорошо. И карета пышная, и кони резвые, холёные, и кучер лучше не бывает: мордастый, отъевшийся. Господин только плох. Глаза невесёлые, губы обмякшие, щёки свисли на мех соболий, прикрывавший шею. Скучный господин. А больших дел от человека скучного не жди. Дело зла требует, въедливости, твёрдости, наглости. Кручёный, верченый, недобрый, в ком каждая жилка играет, сцепив зубы, гору свернёт. А так, спустя рукава только кисель ржаной по тарелке мазать. Нет, нехорош был господин.
Под руки подсадили посла в карету, и кони пошли в ворота. Впереди побежал человек с криком:
— Дорогу, дорогу, российского царя посол едет!
Люди к стенам домов прижались: сомнут кони, задавят. Глядели на посла с опаской. А резидент в карете — сонный. И мысли его о том, что дело с царевичем только начинается. И будет, будет по нему розыск, и розыск злой.
Помнил Веселовский розыски и после Петрова сидения в Троицкой лавре по воровству правительницы Софьи, и по стрелецкому бунту, когда, как туши свиные на крючьях, по Москве стрельцы висели на каждом столбе.
«Но всё то, — думал резидент, — в сравнении с тем, каков может быть розыск по царевичу, — забава детская. Не больше. И не стрелецкие головы уже, а боярские с самой верхушки полетят. На Руси кровь проливать — дело привычное».
Заскучаешь.
Вспомнил Веселовский, как Цыклеру — дружку его, стрелецкому полковнику — за участие в смуте голову рубили на площади перед Кремлем. Цыклер — человек сильный. А на Лобном месте сломался. Смотрел на людей, вокруг стоящих, и плакал. Летал же высоко. Гордый был человек. «Тяжко, тяжко умирать-то на плахе», — подумал резидент, и, хотя в шубе был, холодно ему стало. Незаметно перекрестил живот:
— Спаси, Господи, и помилуй.
Карета подъехала к резиденции вице-канцлера Германской империи. Веселовский полез из кареты. Шубой зацепился за крюк какой-то. Зло дёрнул полу и споткнулся тут же. Примета не к добру. Совсем помрачнел. «Нет, видно, — подумал, — чему уж быть, от того не уйдёшь».
Шенборн встретил посла ласковой улыбкой. Веселовский согнулся было в поклоне, но граф взял за плечи, в глаза посмотрел радостно и проводил к креслу. Веселовский смекнул: любезность такая ничего хорошего не сулит.
Лицо графа было само радушие. Тоном, приличествующим его сану, Шенборн осведомился о здоровье царя Великая, Малая и Белая России. Весь титул царский назвал с большим почтением.
Веселовский ответил: ничего-де, царь здоров, но вот есть у него некая сердечная кручина. Поднял глаза на вице-канцлера. Вздохнул, покивал головой. Но Шенборн, слов тех не заметив, стал сказывать об успехах русского оружия. Восхищался:
— О русском царе говорят при всех дворах. Подвиги его в ратном деле бессмертны, как бессмертны подвиги Александра Македонского. Полтава! О-о-о! Полтава... У вашего царя счастливая судьба.
Воспламенился, вскочил, руками взмахнул.
«Эко куда хватил! — подумал Веселовский, глядя на графа в упор. — До Македонского дошёл. Надо его осадить». Сказал:
— Полтава не есть дочь ветреной фортуны, а плод многолетнего труда, кровавых мозолей на ладонях. Но речь не об том...
Хотел было ещё раз сказать о царёвой печали. Но только рот раскрыл.
— Да, да, я понимаю, — перебил его Шенборн и вновь заговорил о победах русских.
Тогда резидент, кашлянув внушительно, сказал:
— Я имею повеление от великой особы государя о розыске наследника престола — царевича Алексея, ныне обретающегося в ваших землях.
Шенборн удивлённо склонил голову к плечику:
— ???
— О том, что царевич Алексей обрёл заступничество под рукой цесаря, — продолжал Веселовский твердо, — доподлинно мне ведомо.
Резидент назвал запись в воротной книге о польском кавалере Кременецком, свидетельство дворцовой прислужницы о тайном госте Шварценбергова дворца, о золотых русской чеканки, скупленных Румянцевым на венском рынке.
Золотые достал и в ладони побросал:
— Вот они. Чеканка новая.
Шенборн выслушал всё то с улыбкой, как интересную, забавную сказку. Платочек к губам приложил, будто улыбку скрывая.
Резидент последним козырем ударил:
— Наш доверенный офицер проследил переезд царевича Алексея из Вены в Эренберговский замок. И, лично в замке побывав, царевича и сопровождавших его лиц русского происхождения видел.
Вице-канцлер откинулся на спинку кресла. Улыбка сошла у него с лица. Прижал всё-таки Веселовский его, загнал в угол.
Нервной рукой Шенборн поправил кружевной воротник, встал, стуча каблуками, прошёлся по кабинету. Веселовский, поднявшись с кресла, всё так же упорно смотрел на вице-канцлера.
Шенборн остановился напротив посла:
— Всё сказанное вами, любезный друг, я должен проверить. Ваши сообщения для меня новость.
— И ещё я имею заявить, — ровным голосом сказал
Веселовский, — что при мне письмо моего государя к цесарю Карлу. Письмо я отдам в монаршие руки и посему прошу аудиенции у его величества цесаря.
Глаза у Шенборна забегали, он наклонился, отыскивая на столе какую-то безделицу. Веселовский молчал, не желая и словом помочь вице-канцлеру.
«Письмо... Письмо...— соображал Шенборн. — Вручённое цесарю, оно потребует ответа, и незамедлительного. Лучше бы его не брать, тогда и ответа не нужно, но и не взять нельзя. Русский царь в силе...»
Шенборн споткнулся в мыслях, будто на столб налетел. Подумал: «Нет... Нет... Последствия могут быть неожиданные».
Вице-канцлер вышел из-за стола и, склонившись в поклоне, сказал:
— Я доложу императору.
Распустив морщинки на лице, вновь заулыбался лучезарно. Веселовский, в нарушение дипломатического этикета, улыбкой не ответил. Повернулся, зашагал к выходу.
Шенборн семенил за ним в лёгких, как пёрышко, туфельках. В дверях ещё раз, всё с той же улыбкой, склонился низко. А когда выпрямился, лицо у него было сухое, резкое, нос гнулся хищно к верхней губе. И даже лёгонькие туфельки застучали по наборному, яркому, как восточный ковёр, паркету, словно тяжёлые ботфорты мушкетёра.
Сказал:
— Комендант Эренберга виселицы достоин. Безмозглый старый осёл.
Веселовский хотя и не добился своего, но из равновесия душевного графа Шенборна, похвалявшегося выдержкой, выбил. Но и только.
К отъезду государя во Францию всё было готово. Собрали нехитрый скарб.
Пётр отписывал последние бумаги, пришедшие из Москвы: просьбы об открытии мануфактур, разрешения на торговлю в Питербурхе, жалобы на воевод. Ругался сквозь зубы:
— Ах, мздоимцы... Шкуры барабанные... Племя неистребимое...
Денщик неловко возился с узлами. Пётр посмотрел на него, встал и, толкнув в бок, буркнул:
— Отойди.
Взялся за верёвку, потянул. Верёвка лопнула. Пётр поднёс обрывок к лицу, посмотрел, поколупал пальцем. Спросил:
— Где взял?
— У немца купил, — ответил денщик, — за углом.
— Сколько заплатил?
— Две деньги.
— Ну и дурак… Гнилье, а не товар. Вот уж не думал, что и здесь купцы воры. Всё на наших, московских, клепал. Той верёвкой морду бы купцу натыкать.
Сунул обрывки денщику:
— Свяжи концы и затягивай полегче, раз уж так обошли тебя.
Сказал, однако, смущённо. Вернулся к столу.
В Москву бы надо было ему скакать, коней не жалея, в Москву, а не в Париж. Да и казалось, видел он первопрестольную, как въявь. Вспоминались кремлёвские стены красного кирпича, жаркие купола Василия Блаженного и закат в лугах за Москвой-рекой. Тихо садится солнце, лёгкая паутина летит меж жёлтых листьев Тайнинского сада...
Здесь, в Амстердаме, даже солнце садилось по-иному. Багровое, тревожное, как пожар. Падало в море, словно и не подняться ему наутро вовсе.
Видел он и великими трудами возводимый Питербурх. Кучи глины, горы леса пилёного, камня. Города, почитай, ещё и нет, но шумно среди новых строительств, ветрено, голоса громкие, крики, звон пил, удары топоров, грохот железа. Аж ладони Петру зажгло. Взял бы сейчас топор широкий и полез на Адмиралтейскую верфь. Там, отписывали, восьмидесятипушечный корабль заложили.
А главное — щемила, саднила сердце боль непроходящая по наследнику Алексею. Был бы в Москве, пожалуй, путь скорее нашёл, как его по-отечески исправить можно.
Но нет! Понимал: нельзя в Москву, не замирившись со шведом. А сейчас, когда слух прошёл о бегстве царевича, тем более нельзя. Под корень рубил Алексей дело державы Российской. Ехать в Париж надо было. Показать силу свою, уверенность. И французы, и Карл шведский сговорчивее будут.
Пётр поднял руку, устало потёр ладонью лоб. Дипломаты смотрели на него внимательно. Знали: жест тот означает недоброе. Задумался царь: а что из того выйдет?
За окном застучали по мостовой колеса. Пётр глянул через плечо. Подъехала царёва двуколка, встала рядом с каретами дипломатов. Весь обоз собрался. Надо было ехать.
Пётр Андреевич Толстой, приехав в Вену, имел долгий разговор с царёвым резидентом. Из разговора стало ему ясно, что Авраам Веселовский злого умысла не имел, но радения и изворотливости ума, что требовалось в столь щепетильном деле, проявил не гораздо много. Сделав такое заключение, разговор Пётр Андреевич прервал, бодро хлопнул ладонями о ручки кресла и высказал желание покушать. Едок он был известный, наголодался в Семибашенном замке на всю оставшуюся жизнь.
Стол в соседней зале уже был накрыт. Пётр Андреевич на блюда взглянул по-соколиному, не мешкая, сел и глазами слуге показал, какое именно из блюд следует пододвинуть.
Степенно отведал и мяса, и рыбки, зелени, что была на столе, покушал с желанием и, войдя в аппетит, принялся за супы.
Супы ему понравились. Оно, конечно, не щи московские с бараниной, да с говядиной, да с капустой кислой, выдержанной, с душистыми травками, но всё же еда изрядная.
Поднесли рыбу, на пару сваренную, дунайскую. И то блюдо Пётр Андреевич отведал. Заметил всё же: стерлядка московская или осётр из Казани, сиг невский или, скажем, белорыбица онежская, ежели её живую в ушатах привезут, куда как слаще, но на чужбине, конечно, и тем довольствоваться можно, и даже очень неплохо.
Задумался. Лоб наморщил и ещё отведал рыбки.
Стали подносить дичь. Пётр Андреевич ни одного блюда не пропустил, не откушавши. Велел квасу подать. Испив жбанчик изрядный, посетовал, что за рубежами державы Российской каш мало подают.
— А каша столу особый аромат приносит, — заметил, — к тому же солидна и фундаментом как бы в еде является.
Обмахиваясь салфеткой, высказал ещё одну серьёзную сентенцию Веселовскому. Добро-добро глаза прищурил, молвил:
— Авраам Павлович, ты на меня не сетуй, но должен я тебе сказать. Едок из тебя небольшой, и поверь — быть может, оттого и не все дела у тебя ладны.
На том они застолье закончили, и Пётр Андреевич, велев подать карету, с офицером Румянцевым поехал по местам, которые в Вене хотел осмотреть.
Офицер Румянцев уже рассказал Петру Андреевичу, что отыскал он в Вене русского человека, записанного в городской книге, куда вносят имена всех приезжих, как Иван Афанасьев, сообщил и о том, что Иван Афанасьев на рынке венском неоднократно покупки делал и расплачивался петровскими золотыми. А далее сказал, что он проследил за ним, и Иван Афанасьев привёл его к Шварценбергову императорскому дворцу. Тут офицер замялся, но Толстой поторопил его:
— Ну-ну…
— Да я девицу себе разыскал из дворца, — и вовсе смутился тот, — славная девица.
— Что же, — сказал Пётр Андреевич и рукой огладил подбородок, — дело молодое. Понятно.
— Так вот девица та, — ободрился Румянцев, — рассказала, что во дворце остановилась неизвестная особа, которую ото всех скрывают. При ней паж и слуги. Один из них Иван Афанасьев.
— Хорошо, — сказал Пётр Андреевич, — очень хорошо.
— Узнал я от башенного дознайщика, — продолжил Румянцев, — что особа эта, до того как во дворец Шварценбергов переехать, по приезде в город останавливалась в гостинице «Под золотым гусем». И имя особы записано у башенного дознайщика — кавалер Кременецкий. С ним слуги означены.
— Хорошо, — с большим удовлетворением повторил Пётр Андреевич.
— Однако вот недавно, — сказал Румянцев, — особу эту со слугами и пажем из Шварценбергова дворца перевезли за город в замок Эренберг. Я за ними проследил. Девица моя в том помогла. — И, прямо глядя в глаза Петру Андреевичу, закончил с твёрдостью: — Наверное сказать могу — царевич это, наследник, а паж уж больно пышен в заду и узок в плечах для юноши. Баба это, в мужское одетая.
— Ладно, — ответил Пётр Андреевич, — поглядим. Перво-наперво побывал он в гостинице «Под золотым гусем», где наследник, приехав в Вену, ненадолго останавливался. У гостиницы с кареты сошёл и, несмотря на грузность и немалую одышку, по ступенькам поднялся в комнаты, что квартировал царевич.
Комнаты оглядел внимательно. Столик золочёный даже пошатал рукой, присел на диванчик, посмотрел в окно. Спросил хозяина, сколько времени гость из Москвы здесь пробыл. Ему ответили, что час-два, не более. Поинтересовался Пётр Андреевич, что стоит постой в сих апартаментах. И на то ему дали ответ.
— Угу, — промычал Толстой в нос и пошёл к лестнице.
В карете, расположившись свободно, Пётр Андреевич сказал офицеру Румянцеву:
— А с деньжонками у наследника, ежели, конечно, это он, туговато. Иначе бы он апартаменты снял побогаче.
Взглянул на офицера со значением. Велел везти к Шварценбергову дворцу. Подъехав, расспросил Румянцева дотошно, в какую дверку Иван Афанасьев — слуга наследника входил и из каких ворот карета с наследником выезжала. Просил показать окна комнат дворцовых, где жил наследник и которые венка — дружочек сердечный офицера — ему указывала.
Сказавши всё то же «угу», распорядился ехать дальше. Пояснил Румянцеву:
— Комнаты непарадные царевичу отвели, а по ним и почёт видно, выказанный его особе. Спрятаны к тому же апартаменты в глубине дворца: видно, огласку приёму царевича давать не хотели. — Поднял толстый палец. — Немаловажно.
На городской ратуше часы пробили полдень. Выслушав бой курантов, Пётр Андреевич пожелал перекусить. Расспросил Румянцева, где и что можно покушать, какое вино подают и сколько денег за то спрашивают. Румянцев назвал харчевню, где впервые встретил Ивана Афанасьева.
— Хорошо, — сказал Толстой, — но ты мне, голубчик, дознайщика башенного приведи, что запись о кавалере Кременецком тебе показал. Расстарайся, голубчик. Отобедать с ним я хочу.
В харчевню Пётр Андреевич вступил величественно. И не то чтобы на нём ленты или драгоценности какие сверкали, Свидетельствуя о богатстве и знатности рода, — нет. Но походка, чрево, взор выдавали вельможу. Хозяин, и слова ещё от него не услышав, низко склонился. Толстой тушу, подвешенную над огнём, оглядел внимательно. Повеселевшими глазами глянул на Румянцева: — Изрядно, изрядно…
Голову к плечику пригнул, разглядывая тушу, как редкую парсуну.
Взяв железную вилку, потыкал мясо, потянул носом и указал, какие куски для него срезать. Сел за стол, но мясо не велел подавать, пока не придёт дознайщик. Сидел молча, многодумную голову опустив на руку. Даже глаза веками прикрыл.
Вошёл дознайщик. Редкие волосёнки, порыжелый камзол, пыльные башмаки. Затоптался у порога, робея. Видно было, место своё человек знает. Скромный. Глаза в пол уставил. В Вене чиновный люд помельче по головке не гладили. Больше по-другому поступали: нет-нет да и стукнут. Сиди, есть повыше тебя, им вот вольно.
Пётр Андреевич, не чинясь, бойко поднялся от стола и, расцветя улыбкой, как родного брата, подвёл дознайщика к столу, усадил и, осведомившись о здоровье, об успехах служебных, выказал радость вместе отобедать.
Австрияк приткнулся на краешке стула неловко, отвечал невпопад.
Пётр Андреевич, угощая австрияка, расспрашивал, как выглядел кавалер Кременецкий, записанный в книге приезжих иностранцев, что говорил он и что говорили люди его. Весёлым ли кавалер показался дознайщику или видно было — печален тот путешественник?
Шутил много и выдавил-таки улыбку на бледных губах перепуганного австрияка. Смеяться заставил. Дознайщик, уже не смущаясь, рассказал всё, что знал.
Отобедав, Пётр Андреевич галантно проводил дознайщика до дверей. Раскланялся. Вернулся к столу, сел, раскинув пошире полы камзола, сказал Румянцеву:
— А теперь, голубчик, венку мне представь, дружка твоего сердечного. Сам поезжай к графу Шенборну. О моём приезде ему уже доложено. Ты же засвидетельствуй только моё к нему уважение.
Пальцами пошевелил неопределённо. Сказал ещё:
— Если вице-канцлер станет спрашивать, для чего я прибыл в Вену, без лишних слов скажи: интересуется фуражом для корпуса российского, что в Мекленбургии стоит. — Улыбнулся хитренько, переспросил: — Понял, голубчик?
Румянцев вытянулся, щёлкнул шпорами.
«Экий молодец, — подумал Толстой, глядя на него с удовольствием, — нет, не зря царь ломал стрельцов, головы рубил, не зря. Вот с такими многое можно сделать. А то не войско было, а квашня квашней. Только и знали, что лбом об пол трескать. Да воровать горазды были».
— Завтра, — сказал Толстой, — к замку Эренберговскому поедем. Поглядим, как стоит и чем славен.
К замку выехали поутру. Коней Пётр Андреевич гнать не велел. Ехали не спеша.
День выдался славный: солнце, ветерок не сильный гонит лёгкие облака. Видно далеко. Пётр Андреевич оконце в карете опустил, смотрел на земли незнакомые с интересом.
Показал на деревья, посаженные вдоль дороги, сказал, что неплохо и им такое в России завести. И для глаза приятно, да и снег в зимнюю пору задерживать будут.
В долинах деревеньки просматривались ясно. Деревеньки нарядные: крыши красные, черепичные, стены белёные.
Заметил Пётр Андреевич:
— Трудолюбив народ сей. — Повернулся к Румянцеву, спросил неожиданно: — Как Шенборн, господин офицер, встретил? Что говорил?
— Вице-канцлер, — ответил Румянцев, — просил передать, что счастлив будет лично повстречаться с знаменитым дипломатом.
— Угу, — сказал на то Пётр Андреевич. Отвернулся к окну. Карета катила всё так же не спеша.
И больше ни слова не сказал Пётр Андреевич, пока до замка не доехали. Сидел уютно, губами издавал звук, который можно было принять и за барабанную дробь, и за гудение рожка. Потом и вовсе задремал. Всхрапывал легонько. Но когда на горе показался замок и Румянцев хотел было сказать, что, дескать, приехали, проговорил внятно:
— Вижу, голубчик, вижу.
Завертел головой, оглядывая замок, и соседний лес, и деревушку под горой.
— Так-так, — протянул. — Вот что, голубчик, ступай к коменданту. Скажи, иностранец-де знатный замок осмотреть хочет. Деньги посулил. И говори с ним погромче, голоса не жалей, дабы каждое слово в замке слышно было.
Румянцев выскочил из кареты и зашагал к замку, пыля ботфортами. Здесь, в горах, солнышко подсушило землю, и дорога уже пылила по-весеннему.
Офицер остановился у рва. Внизу плескалась вода, последние тающие льдины вызванивали о камни. В ров была отведена горная речонка.
— Эй, стража! — крикнул офицер. — Стража! В ворота высунулся солдат.
— Коменданта мне, — сказал Румянцев.
Солдат оглядел его недоверчиво. Перевёл взгляд на стоящую чуть поодаль карету. Пётр Андреевич из кареты к тому времени вышел и стоял пышный, в шубе, в шляпе с необыкновенно ярким пером.
И перо то, и как стоял гость — вольно, представительно — солдата смутили.
А Толстой, широко улыбаясь, глазами по стенам замка шарил. Отыскал окошечко небольшое в башне угловой и взглядом в него упёрся. Ждал, что будет.
Солдат ушёл. Румянцев во весь голос зашумел:
— Стража! Эй, стража!
Вышел комендант. Румянцев треуголку снял и по всем правилам политеса заплясал на дороге, кланяясь и расшаркиваясь. Крикнул:
— Знатный иностранец желает замок сей осмотреть! За то пожалует он охрану вознаграждением щедрым!
И второй раз комендант отрицательно помахал рукой. Румянцев в сердцах крепкие русские слова сказал.
А Толстой всё смотрел и смотрел на окошечко зарешеченное. В окошечке мелькнуло белое. Вгляделся Толстой — лицо и широко распахнутые глаза. Мгновение только и смотрел человек из башни на офицера, на Толстого в собольей шубе. Откачнулся, исчез.
Толстой медведем полез в карету. Сказал кучеру:
— Поди уйми господина офицера. Голос надорвёт. Хватит. Своё мы увидели.
В человеке, что выглянул из маленького оконца на башне, узнал царевича. Зоркий был глаз у Петра Андреевича Толстого.
Замок Эренберг стар. И лучшие времена, когда двор его был полон голосов и грохота копыт, давно прошли. Отпылали его широкие камины, в которых по целому быку жарить можно. Отплясали в залах красавицы, отыграли клавесины, и рыцари давно не ловили улыбок дам, стоящих на его балконах. Да и балконы те обрушились. В залах на стенах проступили тёмные пятна сырости, плиты в полу расшатались, обветшали ступени лестниц скрытых и явных переходов.
На стенах замка старой, доброй кладки тут и там трава пробилась. Да что там трава! Кое-где и деревца поднялись. Чахлые, но всё же корнями жёсткими кирпичи раздвигали. Время не только людей, камни грызёт...
В один из дней прикатили кареты из Вены во двор замка, люди, неведомо кем посланные, сорвали сгнившие гобелены, кое-как, торопливо, без любви и приязни повесили новые, вымели мусор из углов, обмахнули паутину, поправили перильца, червём съеденные, подновили ступени. В одном из залов растопили камин. Но прогреть старые стены было нелегко, и в замке по- прежнему было холодно и неуютно.
Царевич Алексей, шагая по гулким плитам, ёжился, потирал руки. Не мог согреться. Ходил, как журавль по болоту, ноги высоко поднимая.
Ефросинья в беличьей московской шубке сидела у камина. Лицо невесёлое. Не замка Эренбергова, затерянного в горах, ждала она здесь. Не потайных комнат дворца Шварценберг, не карет, крепким караулом охраняемых. Нет! Мечтала она, что будет жить за границей вольно, лица не закрывая и в машкерадные одежды пажей не рядясь. Но того не получилось. Алексей поглядывал на неё с боязнью. Говорил мягко:
— Подожди, Ефросиньюшка, всё образуется.
Шагнул царевич к креслу, хотел было руку на плечо
любушке своей ласково положить, но вдруг крик страшный раздался:
— С-с-с-ы-ы-ы...
Откачнулся Алексей, у Ефросиньи гребень из рук вывалился. Подскочила в кресле. Глаза побелели. И опять крик:
— С-с-с-ы-ы-ы...— С болью, со стоном.
Алексей схватил колоколец с камина, зазвонил что
есть силы. Простучали быстрые шаги. Дверь распахнулась. Заглянул испуганный комендант в шляпе с пером.
— Что то? Что? — выкрикнул Алексей.
И в третий раз, словно на дыбе железом припекли:
— С-с-с-ы-ы-ы...
У Ефросиньи лицо задрожало жалко.
— Совы, высокородный граф, — сказал комендант, — совы...
Высокородным графом величать гостя Эренберговского замка распорядился вице-канцлер Шенборн.
— Совы...
У Алексея рука с колокольцем плясала.
— Переловить, переловить, согнать из замка!..— выкрикнул царевич.
Каблуками забил в пол. Швырнул колоколец. Тот покатился со звоном по каменным плитам.
— Согнать, согнать!
Комендант выскочил в дверь. А Алексей всё стучал каблуками. Губы искривились.
— Ладно уж, Алёшенька, — сказала Ефросинья, — иди ко мне.
Алексей опустился на колени перед креслом, ткнулся головой в мягкий мех беличьей шубки.
— Успокойся, успокойся, голубок, — гладила его по голове Ефросинья.
Плечи у царевича ходуном ходили.
Неладное получалось житьё у наследника под рукой цесаревой. Шурин, Карл VI, в аудиенции отказал: занят делами спешными. Велел передать только, что рад-де приютить его на своей земле. Радость ту цесареву, как кость собаке, Алексею кинули.
Вице-канцлер и так и эдак отказ скрашивал. И руку наследнику жал, и в плечико целовал, и улыбался. Слова говорил любезные. Но слова только и есть что слова, и как их ни перекладывай, а дела от того чуть.
Однако наезжал граф Шенборн в Эренберговский замок часто. Приедет — в парадной зале стол накроют богато. Кубки поставят дорогие, блюда серебряные внесут. Нарядно. Весело. Пестро. Будто и не замок то скрытый, а дворец роскошный. И царевич не упрятан здесь от глаз людских, а приехал на праздник в хороший, беззаботный день. Захочет и уедет в быстрой карете.
Но как-то, сидя за столом, царевич глянул в сторону, а в углу зала крыса сидит, зубы жёлтые скалит. Поймав его взгляд испуганный, граф обернулся и крысу увидел. Засмеялся. Сказал, что в старых замках крысы те, по преданию древнему, покой охраняют. Но всё же в угол апельсином бросил. Крыса ушла лениво, хвостом вильнула. Хорошо, Ефросиньюшки за столом не было. Она бы в обморок упала. Ефросиньюшку, впрочем, не приглашать к столу попросил с поклоном граф. Дела-де государственные обсуждать нужно, а женщины — народ ветреный. Им то ни к чему. Так, вдвоём, они всегда и сидели: Шенборн, подтянутый, чинный, в чёрном камзоле бархатном, и царевич с растерянными глазами.
Шенборн исподволь расспрашивал царевича, что он предпринимать в дальнейшем полагает и почему у него раздоры с отцом пошли. Алексей терялся, отмалчивался. Но, выпив вина — а граф подливал и подливал мозельское щедрой рукой, — наследник воспламенялся и говорил увереннее. На отца жаловался:
— Новины вводит, старые роды боярские извести хочет. А меня, меня, — кричал, задыхаясь, — в монастырь! Клобук монашеский на лоб надвинуть. Не хочу!
Хватал бокал. Пил жадно.
— Я для царствования рождён! — Выкрикивая всё то без порядка, называл имена: — Канцлер Головин, адмирал славный Апраксин, сенатор, боярин родовитый Стрешнев — мои друзья. Они мне помогут! Поддержат! Фельдмаршал Борис Петрович Шереметев и многие из офицеров мне друзья же. На губернатора киевского Дмитрия Михайловича Голицына имею надежду. Он мне друг и говаривал: «Я тебе всегда верный слуга».
Шенборн бокал ко рту подносил, но вина не пил, слушая речи те.
Будь Алексей повнимательнее, заметил бы, с каким интересом поглядывает на него вице-канцлер. Да и понял бы, что слова его для души Шенборна лучше вина драгоценного.
«Великие последствия может иметь случай с наследником русского царя, — думал вице-канцлер. — В Москву на трон посадить человека, которому цесарь австрийский протекцию в изгнании оказал, послушного человека, слово из Вены получающего, — то, пожалуй, равно не баталии, а большой войне, выигранной счастливо!»
Кивал, кивал головой Шенборн наследнику. Поддакивал. «Гришку Отрепьева на трон российский церковь римская католическая да король польский хотели посадить. Не вышло. Выбили его из Москвы. Так, может, цесарю удачи больше будет?»
А наследник говорил, говорил и, винными парами подогреваемый, руки уже тянул к шапке Мономаховой. Шенборн поощрительно улыбался. «Германская корона может далеко, ох как далеко владения свои раздвинуть».
Мысли вице-канцлера вспорхнули высоко. Шенборн облизнулся даже, как кот на масло. «А земли-то в России какие! Немецкой рукой взять можно много... Ох много...»
В Петербурге хоронили князя-кесаря Ромодановского. Похоронная процессия растянулась на версту. Впереди шли преображенцы с чёрными лентами на треуголках, за ними семёновцы с чёрным же на рукавах мундиров. Месили тающий снег дипломаты. Шла старая знать. В шубах, в горлатных высоких шапках, вытащенных из сундуков. Словно забыто было царёво указание о ношении платья венгерского или саксонского.
Повозку с гробом везли чёрные как сажа кони с пышными султанами на чепраках. Ставили точёные копыта в снежное месиво. Процессию замыкали пушкари. Сорок пушек на чёрных лафетах приказал выкатить для погребального салюта светлейший.
Меншиков, в парике, без шляпы, с заплаканным, опухшим лицом, шёл за рясами митрополита, дьяков, дымивших ладаном служек.
Лица у знати кислые, но загляни в глаза — радость так и прыгает наружу. По домам родовитым крестились:
— Прибрал бог… Оно и ладно… Давно пора… Шептались:
— Ишь ты, в Питербурхе хоронят… В гнилой земле.
— Да сам вроде распорядился. Куда там… И после смерти царю хотел угодить… Вот теперь и ляжет в болото, в топь…
А ещё говорили с надеждой:
— Царёва рука… Пыточных дел мастер… Царь теперь послабже станет… Пёс, князь-то Фёдор, самый злой был и рыкающий.
Процессия двигалась медленно. Ветер с Невы рвал полы шуб и плащей, срывал шляпы. Выжимал слёзы из глаз. Локотками, плечиками загораживалась от ветра знать, но где уж загородиться — ветер чуть не с ног валил.
Дьяки, шедшие за гробом, медноголосо ревели.
Простой люд, встречая погребальный поезд, падал на колени в грязь, в снег, не разбирая места. Повалишься, ежели по шее не хочешь получить.
— Кого хоронят-то? — спросил мужик в рваном армяке. Лицо голодное, сквозь прорехи видно тело.
— Князя.
— Знамо, князя… Тебя двенадцать коней не повезут на погост.
— Царёвой дубинкой, бают, князь был. Столп подпирающий. Вот и коней много.
Третий сказал смиренно:
— Да оно без разницы, сколько коней на погост везут. Один ли, десять ли… Всё одно к яме тащат.
— Эка, скажи, столп, — хмыкнул рваный армяк, — а смерть не спросила.
— Она никого не спрашивает.
Процессия подошла ближе. Говоруны на всякий случай ткнулись головами в снег.
Меншиков слёз не вытирал. Шагал потерянно. Думал: «Ах, Фёдор Юрьевич, князь дорогой… Сколько вместе-то пережито? Тяжко без тебя будет… И царя не дождался…» Понимал: Ромодановский хоть и болел давно, но, и во дворце своём сидя, был силой грозной. «Где найдёшь такого верного человека, — думал Меншиков, — где? Среди тех вот?»
Глянул недобро на бредущую толпой знать. Увидел: первыми идут Лопухины, Вяземский, Кикин. В душе закипело. Сцепил зубы, удерживая рвущуюся наружу злость. Опустил голову, чтобы не видеть ненавистные лица: «Слетелись, как воронье. Вот радость-то у них».
Семёновцы и преображенцы шагали мерно. Морды красные, плечи — косая сажень. Из-под ботфорт ошметья грязи летели в стороны. Дипломаты поглядывали на солдат с завистью неподдельной.
— Крепкие солдаты у русского царя, — говорили, — князь-кесарь Ромодановский и к этому руку приложил. В потешном Петровом войске имел титул генералиссимуса.
— Да, славного слугу потерял царь Пётр.
— Все не вечны.
— Так-то оно так, но Пётр Алексеевич пожалеет о нём особо. Александр Кикин шагал, выбирая дорогу посуше. Слышал, как сзади покашливали, переговаривались свои негромко. Но те уже по-другому разговор вели:
— Погодку-то бог послал. Ветер да дождь со снегом. Застудишься.
— По покойнику и почёт…
Из каждого слова желчь сочилась.
«Одно к одному, — хмурил брови Кикин, — царевич в чужие земли укатил, а этот к праотцам отправился. Так-то славно выходит…» И вдруг вспомнил, как глядел на него Фёдор Юрьевич в пыточном застенке. Страшно глядел, листая корявыми пальцами страницы свидетельских сказок, Ромодановский спросил тогда: «Ну, о воровстве своём сам говорить будешь или тряхнуть тебя?» Вскинул глаза.
От стены шагнул в свет свечи малый в короткой красной рубашечке. Рукава подкатаны высоко, чтобы удобнее было. У Кикина от одного его вида испарина лицо облила. «Погоди, — сказал Ромодановский, — твоё время придёт». Тот отступил в тень…
Вспомнив такое, Кикин поскользнулся, чуть не упал. Старший Лопухин поддержал его:
— Ты что?
— Ничего, — буркнул Кикин. Не говорить же: увидел-де эдакое, что в страшном сне причудится — мамку крикнешь.
Пошли дальше. Всё та же грязь, навоз, лужи нахлюпанные. Ногу поставить негде.
Дорога свернула к погосту. Увидели: две сотни крестов деревянных, сосны редкие, чахлые — какой уж лес на болоте гиблом, — часовенка, невесть каким доброхотом поставленная. Ни благолепия, ни торжественности, ни скорби… Глина развороченная, истоптанная земля, испоганенная, истолчённая.
«Так-то Пётр и всю Русь перекопает да истопчет, — подумал Кикин, — плюнуть бы, да неприлично. Кости всё же православные лежат».
У часовенки мужики в армяках, замызганных глиной, стояли с лопатами.
Могилу заливало жёлтой водой со снегом.
Остановились. Повозку с гробом с трудом протащили к часовне. Колеса вязли по ступицу в грязи. По одному стали подходить прощаться. Дьяки взревели пуще прежнего.
Меншиков шагнул к гробу, опёрся руками о край, взглянул в лицо боярина. Горло сжала спазма: «Фёдор Юрьевич, сердцем болел ты за дела отечества, помнить за то о тебе будут вечно».
Тяжёлая голова Ромодановского была приподнята на подушке высоко, и показалось светлейшему, что полуоткрытые глаза князя упорно смотрят ему за спину.
Меншиков оглянулся. У могилы стояли бояре. Лица словно на пудовые замки закрыты: ничего не прочтёшь, ничего не узнаешь.
«Псы, — с яростью подумал он, — вот так бы всё в глину, в грязь уложили. Третий Рим!»
Лицо светлейшему залило до зелени бледностью. Глаза бешено сузились. Под обтянувшимися губами зубы проступили: сейчас укусит. Известно было князю, что шептали, говорили по домам, как улыбались криво, хоронясь за спины. «Псы, псы алчные, собаки!» Качнулся от гроба, сжав кулаки. К нему по грязи кинулся князь Шаховской.
— Что ты, что ты, Александр Данилович! — запричитал торопливо. Видно, увидел в глазах Меншикова: не в себе тот. — Очнись! Не время, не место!
Махнул рукой пушкарям. Ахнул залп. С сосенок сорвалось воронье, забило крыльями.
Меншиков, как шапку, стащил парик, мазнул по глазам и, не разбирая дороги, по лужам пошёл к карете. Дипломаты зашептались, закивали головами:
— Чем это любимец царя недоволен?
Из-за боярских спин вышли мужики в армяках, подошли к гробу.
— Ну, — сказал один, — давай, ребята. На лямки бери. Подняли гроб и, скользя по грязи худыми лаптями, шагнули к могиле.
Пушки били не смолкая. Стая воронья то взмывала в небо, то падала вниз. Металась над зелёной луковичкой кладбищенской несчастной часовенки.
Погост заволакивало белым пороховым дымом. Гроб опустили в глинистую жижу.
Сидя в карете, Меншиков увидел плывущее меж редких сосенок белое облако. Подумал: «Порох плохой. Селитры много или подмочили? В арсенал съездить надо да рожи набить». И ещё: «Много, ох, много в эту землю людей ляжет, пока поднимется город».
Ударил кулаком по сиденью:
— А всё же поднимется!
…Посольский поезд Петра, на удивление дипломатам французского короля, подвигался быстро. Французы, изнеженные лёгкой придворной жизнью, жаловались даже:
— Его величество царь Пётр заморить нас пожелал непременно.
А поезд и впрямь поспешал бойко, хотя дороги были размыты весенними дождями. По пуду грязи наматывало на колеса, и лошади тянули из последних сил.
В путь отправлялись, едва заря поднималась, и останавливались только по крайней нужде.
Пётр говорил:
— Отсиживаться дома будем.
Зады у русских, на что привычные ко многим невзгодам, и то уставали при такой езде. Французские же дипломаты, не стесняясь, заголялись и показывали синяки и шишки.
Но улыбались при том по политесу, а жалобы оборачивались вроде бы шуткой. Любезники они были известные, московскому или тверскому облому — сыну дворянскому — и думать нечего было в улыбках и ласканиях разных их перещеголять.
Петру сказали, что главное сопровождающее его лицо — дворянин самой почтенной фамилии — на ночь велит укладывать себя в постель непременно задней частью кверху, дабы отдохнуть от дневных неудобств. Также велит сие лицо употреблять греческое масло и притирания разные для смягчения плоти на зашибленных местах.
Царь посмеялся, но коней сдерживать не велел. Сам он ехал во всегдашней своей двуколке и не испытывал видимых невзгод.
Сказал всё же:
— Лампадного маслица ему передайте от меня. Оно задницу-то подсушит быстро.
Выходит, знал: не только горький лук слезу вышибает.
Пётр в пути был хмур и, не в пример прошлым поездкам, меньше интересовался раритетами. Разговоров избегал.
Торопился царь, понимал: времени нет. В Москву надо. Неспокойно на душе было. И в Париж-то поехал от великой нужды.
Шафиров — калач тёртый в дипломатических делах — приладился в карету свою приглашать главное лицо, что больше всего от неудобств поездки страдало, и, распорядившись, чтобы сенца на сиденье подбрасывали побольше да помягче, говорил о торговлишке России на Балтике через новый порт и столичный град Петербург.
Выходило из разговоров так: ежели Россия замирится со шведами, французы наверное через торговлю ту по горло в золоте ходить будут.
Главное лицо радостно улыбалось. Видно было, что першпектива такая приятна ему была во всех отношениях. Шафиров и сам цвёл от счастья. Но хмурился вдруг:
— Но вот когда мира не найдём…
Тут он незаметно давал знак вознице, и тот гнал коней, не разбирая дороги. Главное лицо только вскрикивало, придерживая старательно столь дорогое ему место, для которого оно и греческого масла не жалело.
Возница коней осаживать не спешил. Шафиров, сморкаясь и покашливая, говорил назидательно:
— На Балтике мира не найдём — всем придётся страдать. Через неделю главное лицо стало самым верным поборником мира. И считало всенепременным, чтобы Франция на сие ежели не живот, то какие ни есть силы положила. Молилось о том искренне своему католическому богу.
На такой способ ведения переговоров Пётр много смеялся. Говорил Шафирову, похлопывая поощрительно по спине, так, что у того моталась голова.
— Презент, презент ты заслужил. То верно, на всякий случай надо иметь манёвр.
В Париж поезд царёв пришёл ярким весенним днём. Встречали Петра пышно. Народу сбегалось посмотреть на русских тысячи, но Пётр и лица не показал. Шляпу надвинул низко и в карете задёрнул штору на оконце.
В Лувре, в королевской резиденции, были отведены для российского царя богатые покои. В двухсветной зале, где в высокие окна широко, рекой лилось благодатное солнце, был накрыт стол на восемьсот персон. Сверкал хрусталь.
Пётр вошёл в зал, отщипнул кусочек бисквита, поднёс к губам бокал с вином и вышел со словами:
— Я солдат, и когда найду хлеб да воду, то и буду доволен.
Скромность такая французских придворных обескуражила. Многие терялись.
Но ещё больше удивил Пётр парижан, когда, в нарушение придворного этикета, при встрече с королём вместо жеманных поклонов и приветствий подхватил семилетнего Людовика XV[43] на руки и, поцеловав, сказал:
— То не поцелуй Иуды.
Придворные, едва найдясь, радостно зашумели.
Празднества по случаю приезда русского царя были большие. В вечернее небо запускали невиданной красоты фейерверки, плясали много, волшебно звучала музыка. Казалось, вот так и петь, и плясать, и игры заводить забавные при французском дворе могут день за днём. Женщины здесь были легкомысленны, а мужчины — мотыльки, перелетающие с цветка на цветок. И уже наплясались вроде. На иного кавалера взглянешь — неведомо, в чём душа держится, но улыбается, любезен, галантен и днём и ночью готов вести даму за руку под нежные звуки. У другого, смотришь, волос уже не седой, а даже какой-то зелёный пробивается. Ему бы богу молиться, но и он туда же — пляшет.
Пётр на балу спросил:
— А куда детей девают? При плясках, наверное, их немало рождается?
Хозяева не ответили. Но Пётр и не настаивал.
Бал давали в парке Версальского дворца.
Шафиров, вырвавшись из шумного, благоухающего круга придворных, нашёл царя у тёмной беседки, увитой молодой, яркой листвой. Пётр стоял один, по лицу его текли разноцветные отсветы горящих в небе ракет. Глаза царя были устремлены на танцующих придворных. Заметив Шафирова, он повернулся к нему и голосом совсем не праздничным сказал:
— Вольно им скакать и прыгать. Мы же прибыли сюда по наиважнейшему делу для государства Российского. Извольте завтра же начать переговоры.
Помолчал. Ракеты погасли, и лицо царя, теперь уже в тени, было почти чёрным. Глаза неспокойно блестели.
— И поспешайте, — сказал Пётр, — поспешайте с делом сим.
В тот же вечер Пётр написал в Россию: «Визитовал меня здешний королище, который пальца на два более любимого карлы нашего Луки. Дитя зело изрядно образом и станом и по возрасту своему довольно разумен».
За теми словами нетрудно было угадать боль за своего сына.
Пётр писал при свече, фитиль потрескивал. Царь положил перо и надолго уставился на летучее узенькое пламя.
Вице-канцлер Германской империи граф Шенборн был разбужен, противу установленных правил, на час раньше. «Да, — подумал он, — всё свидетельствует о том, что я впал в полосу потрясений».
Граф сел к туалетному столику и, печально глядя на своё изображение в зеркале, слабым голосом сказал слуге:
— Просите.
Гремя шпорами, величиной чуть ли не с тележные колеса, в комнату вошёл комендант Эренберговского замка. Был он в медной кирасе, в боевом шлеме, со шпагой у пояса. Лицо странно.
Комендант рассказал, что находящийся под его охраной высокородный граф (так величали в целях скрытности царевича Алексея) требует карету и желает немедленно покинуть замок. Дабы задержать отъезд, комендант приказал солдатам поднять выездной мост, опустить осадную решётку на воротах, но ручаться не может ни за что, так как высокородный граф в бешенстве.
— Ещё опаснее, — заявил комендант, — дама, сопровождающая высокородного графа.
Комендант поднял руку в боевой перчатке к лицу, и Шенборн разглядел на его щеках кровавые борозды, происхождение которых было понятно без слов.
Шенборн сломал гребешок итальянской работы, крикнул слуге, чтобы подавали платье. Оделся граф как никогда быстро, даже пренебрегая некоторыми деталями туалета, и незамедлительно выехал в замок Эренберг.
К наследнику граф вошёл с массивной канцлерской золотой цепью на груди, но был вышиблен из залы неистовыми воплями царевича и его дамы. Круглые глаза стоящего за дверями коменданта в начищенной кирпичом кирасе свидетельствовали, что он готов умереть за особу императора, но сейчас бессилен что-либо сделать.
Вице-канцлер поправил на груди цепь и сделал вторую попытку разрешить конфликт. Дверь перед ним распахнул комендант.
На этот раз всё обошлось почти пристойно. Наследник русского царя, правда, ещё кричал, топал ногами, метался по зале, но страсти его уже остывали. Царевич беспрестанно повторял:
— Они уже здесь, здесь… В Рим! К папе, упасть к его трону… Они здесь…
Голос царевича срывался. Из выкриков и воплей Шенборн не без труда уяснил, что у ворот замка был Толстой с русским офицером и наследник, перепуганный тем обстоятельством, больше не желает оставаться в Эренберге.
— Я царевич и имею право отправиться куда пожелаю! — кричал Алексей. — И когда пожелаю! Еду в Рим. Извольте приготовить карету!
— Подожди, Алёшенька, — сказала сопровождающая его дама. — Нужно ли нам в Рим? Что найдём мы там? Кто защитит нас?
— Папа, — сказал Алексей. Но видно было, что его смутило замечание дамы. Он взглянул на неё искоса, отошёл в сторону, встал у окна.
Из окна замка видна была вся долина. Снега уже сошли, и чувствовалось: вот-вот, ещё день, два — и долина вспыхнет всем буйством весенних красок.
Алексей засмотрелся на открывающуюся перед ним картину. Яркое солнце, летящие облака, уходящие вдаль горы… Покой и тишина царствовали над долиной. И наследник вдруг забыл и о замке Эренберг, и о Шенборне, и о коменданте в медной кирасе, который не то охраняет его от кого-то, не то стережёт, как пленника.
Стоял он так минуту или две.
За спиной раздались голоса. Шенборн говорил что-то Ефросинье, и та отвечала ему. Царевич повернулся, сказал:
— Замолчите!
Шенборн вздрогнул: так сильно, властно, повелительно прозвучало то слово. Вице-канцлер почтительно склонился, понял: перед ним наследник престола великой страны, а он забылся, дав ему комедиантский, нелепый титул высокородного графа.
Ефросинья прижала руки к груди. Ни она, ни Шенборн не узнали о мыслях, промелькнувших в голове у наследника в ту минуту.
А увидел царевич Меншикова с сияющими глазами, в камзоле с распахнутым воротом, со шпагой в руках на крепостной стене под пулями мушкетов; Ромодановского, спускающегося с дворцового крыльца, и гудящую толпу, — под взглядами боярина Фёдора Юрьевича головы никли, как трава под косой; Толстого с грамотой о заключении мира с турками. И во всём том был восторг, сила, размах. Дела великие.
И, глядя на прекрасный вид долины, открывающийся из окна, подумал Алексей, что на стену крепостную со шпагой он не полезет, в толпу, враждебно гудящую, не войдёт и султана на свой лад не настроит. Ему любезнее с Алексашкой Кикиным кривобоким; протопопом Алексеем, гнусившим о боге, а думающим о застолье хмельном; с Лопухиными, алчущими богатства. Среди них он повелитель. И они перед ним головы клонили. Стелились мягко.
Алексей расслабленной походкой отошёл от окна, сказал потухшим голосом:
— Уезжать отсюда надо. И уезжать немедля. Куда — не ведаю.
И показалось — не он только что, от окна повернувшись, бросил властное и сильное слово. Нет, не он. Другой человек. Совсем другой. Но того — другого — лишь на мгновение хватило.
Пётр Андреевич с годами по утрам подниматься ото сна стал нелегко. Фыркал, чмокал губами, вздыхал, ворочался. Потом всё же вылезал из-под перины. Слуга подавал обширнейшие панталоны. Пётр Андреевич норовил ещё свалиться в подушки, но панталоны кое-как водружали на него, и Толстой восставал к дневным трудам.
Первой заботой был завтрак. Пётр Андреевич предпочитал утром, прежде чем откушать чего-нибудь плотного, поесть щей. И не просто щей, каких ни попало, а выдержанных день или два и подогретых в глиняном горшке.
Когда подавали горшок на стол, Пётр Андреевич подвигал его поближе и, склонившись, вдыхал пар. Вот тут-то лицо его окончательно после сна разглаживалось, глаза разгорались, и видно было, как кровь восходила по жилам.
Оживившись, Пётр Андреевич брал в руки ложку.
По объявившейся у него привычке, любил он во время еды высказывать вслух приходившие вдруг мысли, даже если рядом с ним никого и не было. Случаи такие были, правда, редки, так как Пётр Андреевич считал, что за стол одному садиться глупо. Мысли рождались у него за столом разные. По поводу щей Пётр Андреевич, например, говорил такое:
— Щи непременно надо варить загодя и выдерживать на холоду. Ежели подавать их с пылу с жару, то это вовсе не щи, а так — одна видимость, вроде бабы по первому году замужем. Пороху много, а толку чуть.
Впрочем, частые гастрономические рассуждения Петра Андреевича были всё же не столько выражением натуры гурмана, сколько лукавством. За словами, которые он так охотно рассыпал, сидя за столом, был не только восторг по поводу подаваемых блюд, но прежде желание разговорить вкушающего с ним хлеб. Пётр Андреевич был убеждён, что человек нигде не бывает столь откровенен, как за столом.
Откушав, Пётр Андреевич приказывал закладывать карету. И собирался к выезду так же не торопясь и ничем не омрачая приятные воспоминания о завтраке.
Наконец, выйдя во двор, он быстро подходил к карете, как если бы гнались за ним, и останавливался подле неё словно вкопанный.
Далее торопить его было нельзя. Пётр Андреевич осматривал карету. Примечал всё: и где потёртость какая или трещинка, где камушком ударило или щепочка, отлетев от копыт на ходу, зацепила. Не скрывались от него и мелочи.
— Здесь вот навозец прилепился, а там, — он смотрел на кучера, — недогляд вышел. Голуби у тебя в конюшне-то. Видишь?
И он показывал перстом на некое пятнышко. Выражал сомнения, не скажется ли то пагубно на прочности всей кареты.
— А то может от того, — разводил руками, — и беда случиться.
Так, осмотрев всё не спеша, садился в карету и приказывал трогать, махнув рукой на возможные незамеченные порчи и неисправности. Карета ехала не то чтоб уж быстро, но к концу дня оказывалось, что Толстой успевал побывать во множестве мест.
После поездки в Эренберговский замок наладился Пётр Андреевич ездить по венским купцам. И заезжал к тем, кто торговал фуражом. Овсы всё больше смотрел по амбарам, сеном интересовался, не пренебрегал соломой.
Говорил с купцами подолгу. Сколько продать может? Возможно ли договориться о дальнейших закупках? Только ли в венских амбарах фураж взять можно, или купец доставит закупленное зерно и сено в место указанное?
Купцы спрашивали: куда именно он прикажет фураж привезти? Пётр Андреевич отвечал с неохотой. Тянул, мялся заметно. Но называл всё же места поближе к землям силезским. А то и прямо силезские города указывал.
Купцы много тому дивились. Толстой же, не забыв представиться полным титулом и имя назвав, ехал дальше.
Смотрел другие амбары. Зерно в руки брал. На зуб пробовал: не подмочено ли, не проросло ли, сладко ли или хлебной тлею попорчено и прогоркло? Сено тоже рассматривал внимательно: луговые ли травы, а может, с окосов лесных или, того хуже, взяты на болотах? Говорил:
— Болотные травы лошади поедают охотно, но потом пузом маются и силы теряют. Дует их изнутри.
Округляя руки вокруг чрева своего, показывал, как то бывает. Тут же поучал:
— Такой вздувшейся лошади надо брюхо гвоздиком проковырять. Оно и опадёт. Однако уточнял: — Но не всегда таким манером пособить можно.
Представлялся опять же всеми титулами и ехал дальше. От поездок тех по городу пошёл большой разговор. Даже шум получился. А Пётр Андреевич, объездив всех купцов-фуражиров, запёрся в доме и носа в город не показывал.
Авраам Павлович Веселовский намекнул ему, что-де не мешало бы вице-канцлеру нанести визит, в связи с тем, что Пётр Андреевич в Эренберговском замке был и царевича хоть и мельком, но сам зрел в башенном окошке.
— Угу, — на то ответил Толстой, но с места не сдвинулся. И ещё день сиднем просидел, не ударив палец о палец.
Тогда-то к нему пришёл человек. По виду немец. Сказал почтительно дворне:
— К господину Толстому имею поручение.
Его провели. Когда уходил немец, глазастая дворня приметила: с крыльца сошёл он довольный. Знать, отблагодарил его Пётр Андреевич хорошо. Старый слуга прошамкал с завистью:
— Бывает же людям счастье.
Доложили Веселовскому. Он прошёл к Толстому, но тот и не обмолвился, что был у него гость. Авраам Павлович поговорил о пустяках да с тем и вышел. Недоволен был: что за секреты такие? Толстой же ходил по комнате и губами играл:
— Бум, бум, бум…
На следующее утро неожиданно к дому русского резидента подъехала пышная карета. Авраам Павлович всплеснул руками, узнав в вышедшем из кареты господина вице-канцлера Шенборна.
Веселовский бросился к Петру Андреевичу. Толстой ника кого удивления не высказал. Напротив, взглянув на хлопотавшего растерянно Авраама Павловича, сказал:
— Менувет перед графом сим танцевать[44] нам не следует. Сказаны были те слова тоном строгим.
По весенней грязи, по самому что ни есть бездорожью Меншиков отправился в Москву. Говорили ему:
— Что ты, князь? Повремени. Лошади тонут в грязи. Разливы вокруг…
Но Меншиков не послушался совета. В Москву надо было позарез.
Разговоров разных слишком уж много пошло. Объявились люди в северных лесах, говорившие, что царству-де Петрову конец. В Петербурге предсказывали наводнение на весну, которое город новый смоет, и останется, мол, от него один кукиш, скалой из земли торчащий. Болтали и о царевиче Алексее: заступник-де веры и Пётр за то услал его в земли чужие.
Меншиков уверен был: разговоры идут из Москвы. Вот и поехал посмотреть знать московскую. Захватил с собой и Фёдора Черемного. В поездке Фёдора к себе не приближал, чтобы неизвестно было, кто таков и зачем едет. Черемной держался в сторонке. Так, на седьмом возу в обозе, под десятой рогожкой, едет смирный человек. Мало ли кого знакомцы посадили. В Москву надо — вот и пристал.
А грязи было подлинно как никогда. Не езда по такой дороге, а мучение одно. Десять вёрст за день обозом пройдут — и рады. Трети пути не доезжая до Москвы, Меншиков не выдержал, обоз бросил. Не по его нетерпеливой натуре была такая езда.
Пересел на верховую лошадь, двух заводных коней взял и с драгунами ускакал вперёд.
Обоз тащился всё так же, еле-еле выдираясь из грязи. Топи миновали на пятнадцатые сутки. Вылезли на сухой пригорок. У лошадей глаза кровью налиты от натуги, ноги дрожат. Мужики закричали:
— Переждать надо малость! Скотину замордовали! Остановились. Мужики слезли с телег, захлопотали насчёт горячего. Кое-где задымили костры.
Фёдор Черемной из-под рогожки выбрался, подошёл к возчику. Тот мужик, видать, справный, как мог с лошадки грязь обобрал, сбрую поправил, сел и, достав из тряпочки хлеб, ел, отламывая кусочки от краюхи. Ел не жадно. Рассудительно, по-хозяйски. Так, чтобы и вкус почувствовать, и съесть немного.
Черемному то понравилось. Пустой мужик как ест: хватает, хватает побольше куски, а оно и сытности нет, да и хлеб, гляди, кончился.
Присел Черемной рядом с возницей. Мужик от греха тряпочкой прикрыл хлеб. Но Черемной будто и не заметил того. Покряхтел солидно, глазами поводил, кашлянул и из-за пазухи достал скляночку малую. Смирненько так спросил:
— Нет ли луковки?
Как бы невзначай тряхнул скляночкой. В стекле булькнуло. Мужик хотел было сказать: много, дескать, вас, охочих, куски сшибать, — но голос, каким попросил Черемной, мягок был уж слишком. Да и скляночка смущала. Понимал, в такой посудине святую воду не держат. Мужик с сомнением отвернул тряпочку, протянул Фёдору луковку.
Черемной хороший ножичек из кармана достал и аккуратно луковку на две части разрезал. Помедлил, глядя на дорогу, и без спешки глотнул из склянки. Пострадав лицом, как человек хороший, луковкой с видимым удовольствием закусил.
Мужик для приличия отвернулся. Но Черемной приметил, как по горлу того сладкий комочек прокатился.
Отдышавшись, Фёдор с поклоном скляночку мужику протянул. Возница башкой замотал: я-де не смею… Но принял скляночку. А Черемной и половину луковки ему подал. Всё получилось как у обстоятельных людей.
В это время закричали:
— Поднимайся, поднимайся! Поехали!
Мужики начали затаптывать костры, прятать котелки по телегам. Но спешки особой никто не проявлял. От телеги к телеге побежали солдаты — кому пинка в зад дать, кого по шее ударить. Известное дело: без таски такой мужику торопиться даже бывает скучно. Наконец обоз тронулся. Дорога побежала под уклон, и лошадка пошла спокойно. Шею не тянула, надсаживаясь.
Черемной сел рядом с возницей, спустил ноги с телеги и лаптями помахивал вольно.
Поговорили о том о сём. Посетовали на жизнь. А так как в дороге русский человек рассказывает всё больше о необычном, то и обратились к непонятному.
Черемной вспомнил о кукише, что, говорили, вместо Петербурга окажется, как пройдёт наводнение. Сказал и то, что некоторые люди на Васильевском острове уже и теперь угадывают небольшое трясение земли.
Приложились к скляночке.
Возница, не желая остаться в долгу при разговоре опасном, сказал нечто совсем уж странное. В Москву с обозами ходил он часто. И вот в последний раз, как в Москве был, стал свидетелем — тут мужик перекрестился — не иначе как колдовства.
Случилось невиданное.
У церкви Зачатия Анны в Углу, что в Зарядье, объявился юрод. Зарядье — место с испокон веку известно как тёмное. Народ здесь пёстрый обитает, колодочники, шапочники, кошелевщики, пуговичники, картузники. Всего пожитков у такого человека — в мешок собрал да и снялся. И ежели кто в Москве зашалит, а власти его искать начнут, тот бежит в Зарядье. Там и сам чёрт не сыщет.
Так вот, утром вышел народ, а у церкви воронья черным-черно. И на земле сидят вороны, и на крестах, на ограде и по всем местам. Крик, хлопанье крыльев, а у паперти стоит юрод и воронью бросает сырое мясо с кровью. Рвёт прямо у себя из-под живота и швыряет горстями. Потом занятие то оставил и руками, как крыльями, замахал. Вороны поднялись разом, а юрод и крикни: «Быть худу!»
На что народ в Зарядье кручёный, а обомлел. Так и стояли все, опустив руки.
Случился здесь солдат. Солдату, известно, страх неведом — он и бросился к юроду. Тот исчез вдруг. И опять народ сильно удивился. Дальше — больше. Стали думать. И оказалось, что лица никто не приметил, а некоторые даже говорили, будто юрод без лица был вовсе. Вроде и не пустое место на плечах у него видели, а примеришься — лица нет явно. Народ оробел. Бабы закричали. А мужики — как то бывает — с неделю после того работу никакую не делали, а всё больше шумели по кружалам[45]. Изумление получилось.
С полверсты после такого разговора ехали молча. Что скажешь-то? Возница всё же не удержался и рассказал ещё более страшное:
— У той церкви Зачатия Анны в Углу позже до семи раз кричали сверху: «Быть худу!» Кричали и другое: «Молодой царь сменит старого, и голова у него светлая!»
После того и Черемной, и возница раскрыть рты уже не решились. И так наговорено было достаточно. Ежели кто услышит, то непременно побежит за ярыжкой. А что затем следует — неизвестно.
Через малое время Фёдор Черемной тихо-тихо под рогожу свою залез и до Москвы почти что и не вылезал. А ежели и выпростается из-под рогожи, то, как заяц, стреканёт в придорожные кусты и назад тем же ходом.
Бывалый человек, а тоже испугался или вид к тому подавал: смирный-де и страшного боится.
Обоз тянулся и тянулся по грязи.
…В Париже, несмотря на пышную встречу, фейерверки и плясания под музыку в Луврском дворце, переговоры не заладились. Французы напустили туману и, вроде боясь кого-то, разговоры вели с оглядкой, вокруг да около.
Поутру присылали к отелю «Ледигьер», где остановился Пётр со своими дипломатами, секретную карету и увозили Шафирова с Куракиным за плотными шторами в загородную резиденцию.
Карета подкатит к дому, русских дипломатов подсадят на ступеньки и, едва дверцы захлопнув, коней погоняют кнутом, будто кто скачет следом. И всё тайно, молча, с лицами, застёгнутыми на застёжки.
Вокруг отеля дипломаты, и английские, и испанские, и австрийские, роились, как мухи. Нюхали, что привело российского царя в Париж. Но ни Пётр, ни люди его и слова не говорили о причинах приезда. На вопросы отвечали неопределённо и всё больше рассуждали о красотах Парижа или, уж когда настойчиво припрут, кивали любезно головами и — в сторону.
Шафиров с Куракиным между тем рассказывали, что в загородном доме, куда их ежедневно возят, никто не живёт, но обставлена резиденция богато. Почёт русским оказывается достойный, но французы ведут речи о проезде своих купцов через земли российские к китайским и индийским границам. Обещают выгоды для России из того большие. Жалуются, что морем в восточные страны ходить им и далеко, и небезопасно, так как страдают купцы на воде от каперства. Говорят: едва-едва из трёх кораблей один приходит не разграбленный морскими разбойниками. О мире же со шведами пока молчат.
Куракин разговоры те пресечь хотел, сказавши, что предприятие о проезде через российские земли — дело большое и о том-де им вести переговоры не велено.
Шафиров намекнул: можно, мол, и о том поговорить, но позже, решив главное, для чего они и прибыли в Париж. Улыбался при этом, кланялся. Научился у хозяев любезности расточать.
Куракин же — человек по натуре жёсткий — стал французов вводить в оглобли чуть ли не силой. И с одной стороны заходил, и с другой, и за гриву хватал, и с хвоста примеривался. Но французы, как намыленные, из рук выскальзывали. И всё будто имели что-то за спиной и даже сказать сие тайно хотели, но лили и лили пустые слова.
Шафиров за дни тех разговоров осунулся. А Куракин, здоровьем и так не крепкий, желчью налился, и принять его можно было вполне за арапа или иного какого африканца — до того стал жёлт. Но под остреньким носиком у Куракина торчали крепкие зубы. Злобы набрался он, и его уже осаживать приходилось, чтобы с руганью откровенной не лез.
Пётр волнения не выказывал, и ежели судить по нему, сказать можно было одно: всё идёт хорошо.
В переговорах царь участия не принимал, всё своё время отдавая поездкам по Парижу.
Пётр бывал и в аптеках, ездил на фабрики. Возвращался часто затемно, в перепачканном камзоле — в Париже стояла невиданная жара и пыль застилала улицы, — но неизменно оживлённый. Глаза так и блестели. Наскоро споласкивал лицо, садился обедать. Ел так только, чтоб сытому быть, а что подадут — неважно. К столу звал спутников и дотошно выспрашивал о том, что было говорено на конференции в загородном доме и как.
Слушал ответы Шафирова и Куракина внимательно. Часто переспрашивал и бывал крайне недоволен, если выходила какая неточность. Хмурился, вскакивал из-за стола, ходил по комнате, заложив руки за спину. Неожиданно поворачивался и, уставившись в глаза, торопил, если дипломаты показывали нерешительность в суждениях.
— Ну, ну же, — говорил, словно коня погонял, — не вижу мысли чёткой.
Дипломаты к Петру со вздором нестоящим ходить не смели.
В один из дней русский царь попросил аудиенции у герцога Орлеанского — регента малолетнего французского короля. Аудиенция была представлена ему незамедлительно. Пётр поехал на встречу с герцогом настроенный благодушно. Вернувшись в отель, сел за стол, сказал денщику:
— Что стоишь? Водки подай и капусты солёной натряси. Взял стакан твёрдыми пальцами, выпил медленно, прихватил щепоть капусты. Жевал долго, с хрустом. Проглотив, взглянул на дипломатов, сидевших тут же:
— Чего закисли-то? — Ткнул пальцем в Куракина: — А ты плох, вижу. Здоровье твоё державе Российской принадлежит, и помнить о том ты повинен.
Взял ещё щепоть капусты, но до рта не донёс. Положил назад, в блюдо. Подумал с минуту, сказал:
— Завтра французы заговорят по-другому, и вы к тому будьте готовы.
Переговоры с того дня и впрямь покатились, как по гладкой дорожке.
О чём говорил Пётр с герцогом Орлеанским, никому не ведомо. Но дипломатам своим, дабы знали и при разговорах не попали впросак, сказал Пётр, что получил он известие верное о переписке двора английского с австрийским относительно наследника Алексея. А из переписки той видно, что англичане выгоды из беды российской сыскать хотят.
— Имя Алексея по всей Европе сейчас треплют, и каждый царевича в свою сторону тянет. Ах, Алексей, Алексей…
Говорили, по обыкновению, вечером. На столе стояла одна свеча, и абажур свет её вниз направлял. Пётр же при словах тех поднялся и отошёл в сторону. Лица его видно не было. Но голосом всё же волнение выдал.
И ещё сказал:
— Франция, как сладкая начинка в пироге, между землями англичан и немцев лежит. И начинку ту и одному и другому съесть хочется. У французов один путь — к миру с нами, и к миру на годы долгие. Вот сие герцогу растолковать мне и удалось. И он закономерность сию понял.
Офицер Румянцев после поездки к Эренбергову замку в Вену не вернулся. Не выходя из кареты, Толстой сказал ему:
— Господин офицер, полагаю, здесь, близ замка, вам остаться следует.
Стукнул в переднее оконце перстом. Карета съехала к обочине. За обочиной спуск крутой, внизу дома деревушки краснеют черепичными крышами. Над трубами поднимаются дымы. Мирные дымы. Картина, не часто в Европе видимая по нынешним беспокойным временам.
— Как сюда ехали, — сказал Толстой, — приметил я трактир у дороги. Кто бы из замка Эренберг ни вышел, мимо трактира сего не пройдёт.
Когда ехали в замок, Пётр Андреевич дремал, вроде бы похрапывая даже, а вот всё разглядел и всё запомнил.
— В трактире, — сказал, — тебе, дружок, и остановиться надлежит. Думаю я, что наследника после нашего визитования из крепости увезут.
С неудовольствием Толстой достал из-под камзола толстенький кожаный мешочек. Встряхнул. В мешке звякнуло. Толстой губами пожевал, но всё же тесёмочку на мешке начал развязывать. Узелок был тугой, и Толстой возился с ним долго. Офицер сидел молча. Толстой взглянул на него осуждающе: вот-де какую ты мне неприятность доставляешь. Наконец с узелком справился и, расставив колени, в подол камзола высыпал золотые. Стал считать. Отсчитав, сколько полагал нужным, протянул офицеру. Сказал:
— Коней купите, господин офицер, а когда наследника из замка повезут, за ним последуйте. И ни-ни царевича потерять из виду. Ответ за то — голова…
Не удержался, добавил назидательно:
— Дело хотя и государственное, но помнить надобно: деньги счёт имеют. — Пальцем погрозил: — Знаю я вас… А коней добрых купите.
На том расстались. Карета Толстого покатила в Вену. Румянцев поглядел ей вслед и зашагал по кремнистой дороге к трактиру. Шёл, посвистывал: уверен был, не уйдёт от него наследник. Нет, не уйдёт!
Коней офицер купил в тот же день. Двух караковых жеребцов. Лошадки на высоких бабках, стройные, подбористые. Зубы — сахар кипенной белизны. Хоть в сказке Ивану-царевичу скакать.
Хозяин трактира, что лошадей привёл, языком только щёлкал:
— Огонь… Огонь…
Но Румянцев на то внимания не обратил. Знал — цену набивает. Тоже на базарах-то бывал, видел. Перевёл разговор на другое. Поинтересовался, куда дороги ведут через деревушку.
Хозяин с немецкой обстоятельностью присел на корточки и, чертя прутиком по пыли, рассказал:
— Эта на Вену. Та на Инсбрук. Выведет она к Мантуе, во Флоренцию, и по всей Италии дальше. Вот эта — малая дорожка — объезд… Завалы в горах были… Объезд ведёт к дороге, что на Инсбрук уходит.
Поднялся с корточек, рукой в горы показал:
— Вон объезд тот, господин офицер.
— Да-да, — понял Румянцев. Заулыбался: — Пора выпить нам по стаканчику.
— О-о-о, — хозяин распустил морщинки на благодушном немецком лице, — это правильно. Лошадки будут легче на ногу.
Немец сходил в дом, вынес стаканчики, налил доверху. Чокнулись по-русски. Стаканчик шнапса тот позже большим добром для Румянцева обернулся.
Три дня просидел в трактире офицер в ожидании, и все три дня не поднимали у замка мост, а на четвёртый…
Ранним утром, затемно, услышал Румянцев, как на дороге рожок прогудел. Не почтовый, как овца, просительно блеющий, а властный, громкий — тот, с которым гонцы цесарские скачут. Кто ни есть на дороге — вельможа ли в карете, крестьянин ли на ослике вислоухом, солдат ли идёт, богатый или нищий шагает, — должен сойти к обочине и стоять, пока гонец с вестями государственной важности проскачет. За правилом тем следили в Австрийской империи строго. Оно и верно. Власть лишь та крепка, которая свои законы уважать заставляет каждого, кто бы он ни был — важный ли господин или последний бродяга, — и с каждого спрашивает поровну.
За рожком различил Румянцев конский топот. Утром в горах слышно далеко, и офицер разобрал: скачут двое и коней гонят шибко.
Румянцев нашарил в темноте плащ и подался к окну. А всадники вот уже, на дороге. Проскакали во весь опор, и у первого в руке мелькнул фонарь.
Офицер с лестницы скатился кубарем, едва лоб не расшибив о притолоку, выскочил за дверь. Всадники свернули к замку. Видно было, как на дороге пляшет фонарь. У замка огонёк погас. Наверное, мост опустили и всадники в замке скрылись.
Румянцев поспешил в конюшню. Лошадки заволновались, зафыркали. Не узнали офицера. Но он огладил их крепкой рукой, взнуздал. На жеребца, что покрупней и статьями побогаче, накинул седло и коней потихоньку вывел из конюшни. Поставил в тень, под деревья.
Светало. С гор, клубясь, пополз туман. Скатывался в долину полосами, застил дорогу. Румянцев сквозь зубы, так, чтобы коней не тревожить, выругался. Туман мог сильно напортить. Не видно ничего, да и звук глохнет в тумане, как в вате.
В долине потемнело, но через минуту вершины гор высветились первыми лучами солнца. И замок Эренберг вышел из тумана — различить было можно теперь каждую его башенку, каждый зубец на стене.
Румянцев, вытянувшись, как собака на тяге, напряжённо вглядывался. Но на дороге у замка, которая то выглядывала ясно из серых, летучих клубов, то вновь заслонялась сплошной пеленой, никого не было видно.
Кони нервничали. Позвякивали удилами. Плясали нетерпеливо. Под тонкой кожей играли узлы мышц. И вдруг кони навострили уши. На горе запел рожок. Румянцев увидел: от замка катила карета. Впереди всадник с рожком. За ним трое драгун, потом карета и ещё трое драгун поспешали сзади. Караул куда там!
Румянцев, ногу в стремя не вставляя, вскочил на жеребца и хотел было с места бросить в карьер, но сдержал поводья. Подумал: «Драгуны к карете и близко не подпустят. А в карете наследник есть ли, нет ли — кто знает?»
Поезд из замка, не доезжая до трактира, свернул на дорогу, что уходила на Инсбрук. Румянцев вспоминал: «Объезд! Хозяин сказывал, через малый круг он на основную дорогу выведет!»
Офицер отпустил поводья. Жеребец пошёл намётом. Вторая лошадка шла сзади на длинном поводе. Вот теперь-то офицер увидел в деле, что коней купил и вправду добрых.
Ели, стоящие стеной у дороги, неожиданно расступились, и жеребец, не меняя шага, вылетел к развилке.
Румянцев натянул поводья. Соскочил на дорогу, согнулся, приглядываясь. На кремнистой, белёсой дорожной пыли ровно лежала роса. Румянцев, не торопясь, поднялся в седло и поскакал навстречу карете. И вновь жеребец порадовал офицера: он шёл всё так же легко, мощно, вытягивая в беге ладное, длинное тело. Стелился над дорогой.
Карета вывернула из-за поворота. Скакавший впереди всадник даже не успел рог поднять. Одним движением Румянцев принял на себя повод заводной лошадки и сильно послал её вперёд. Лошадь, набирая ход, пошла на драгун. Приёму тому, татарскому, научили Румянцева офицеры, ходившие с Петром к Азову. Исстари татары пробивали так строй противника. Шли лавой, а подходя вплотную, из-за спины выводили лошадок и посылали вперёд, как стрелы из лука. Остановить такую лошадь, идущую налегке, без всадника, невозможно. Заводные те лошадки мяли, валили, сбивали и коней и людей. Строй распадался.
У кареты один драгун поднял свою лошадь на дыбы, второй — кинул коня к обочине. Упряжка сбилась в кучу, заметалась. Румянцев, отпустив поводья, вихрем промчался мимо. Погнал под уклон. Но то, что надо, офицер увидел. В оконце кареты мелькнуло испуганное лицо наследника. Румянцев разглядел даже взметнувшуюся руку царевича, которой тот хотел загородиться.
Дальше всё пошло как по писаному. Румянцев в трактир прискакал, к хозяину подступился:
— Свези записочку в Вену. Просьба великая. Да там и отблагодарят. Выручи по дружбе. Мы-то за дружбу стаканчиками с тобой чокались…
Хозяин заулыбался:
— Да, да, господин офицер. Свезу, как же, для хорошего человека всё можно сделать.
И свёз записочку Толстому. В записочке той сказано было, что наследника повезли за караулом крепким на Инсбрук, а он, Румянцев, за ним последовал.
Пётр Андреевич встретил вице-канцлера Шенборна без улыбки. Лицо у Толстого всегда мягкое, доброе, круглое и вроде бы даже на кувшин глиняный похоже. А кувшин — посуда привычная, так что к лицу, с нехитрым тем изделием схожему, относишься с симпатией — чем-то домашним, тёплым от него дышит. А сейчас перед Шенборном стоял другой человек. Щёки подтянулись, морщины жёсткими складками легли, глаза налились оловянным блеском. А голос, чуть с хрипотцой и развальцем вальяжным, зазвенел металлом. И стал в эту минуту Пётр Андреевич похож на того, прежнего Толстого, который у посольского окна в Стамбуле стоял, ожидая что вот-вот в покои войдут янычары и уведут его в Семибашенный замок.
Авраам Павлович Веселовский даже и не признал его. Подумал, кто-то другой, не Пётр Андреевич к вице-канцлеру вышел. Веселовский голову в плечи вобрал — так удивился преображению необыкновенному.
Толстой после приветствий положенных замолчал, и казалось, уже и слова не скажет. Смотрел вопросительно. Вице-канцлер такого поворота не ожидал. Шляпой Шенборн помахал весьма любезно, улыбки, которые заготовил, выдал — а дальше что?
Пётр Андреевич помалкивал. И помалкивал со значением. Бывает такое: и рта вроде не раскрывал человек, а сказано уже много. Шенборн совсем растерялся.
Толстой неожиданно заговорил о саксонском фарфоре. О знаменитой своими изделиями мануфактуре в Мейсене. Шенборн не мог понять: «При чём здесь фарфор? О чём говорит русский дипломат?» Мысли путались.
Пётр Андреевич продолжал:
— А замечательные глины для своих чудных изделий где изволят брать мастера? В речных обрывах?
Шенборн потёр лоб:
— Да-да, кажется, в обрывах, по берегам рек… Точно не могу сказать…
Толстой проявил некоторую живость, сделал три шага в сторону, вернулся и, уже улыбнувшись графу, спросил:
— А не мешают ли тому весенние разливы рек? Велики ли в Саксонии наводнения?
— Нет, — промямлил Шенборн, — наводнения в землях этих никогда особенно не тревожили…
Он всё соображал: «К чему это — фарфор, а теперь вот реки, наводнение весеннее…»
— Есть надёжные мосты? — продолжал Толстой.
Вице-канцлера как будто осенило: «Сейчас весна, реки, мосты… А до того русский интересовался фуражом. Об этом только и говорили венские купцы. Да, да… Русское войско в Мекленбургии. Несомненно, этот хитрец думает о военном походе в Саксонию… Но, несмотря на азиатскую хитрость, ему не обмануть меня».
— Мосты? — переспросил он. — Мне трудно ответить. Русский дипломат сказал, как выстрелил:
— Я должен выразить признательность его величеству цесарю за то, что наследнику русского престола в путешествии по землям Германской империи предоставляется при переездах надёжный караул. В нынешней его поездке в Инсбрук охраняется путешествующая высокая персона весьма примерно.
Шенборн чуть не присел на пятки. Стоявший в стороне Авраам Павлович раскрыл рот — так неожиданно повернул Пётр Андреевич разговор.
Толстой чеканил слова ледяным тоном:
— Дорога из Инсбрука идёт через Мантую на Флоренцию. Флорентийские места болотисты, и климат тамошний для слабого здоровья наследника пригож мало. Нас интересует, где именно полагает предоставить его величество цесарь резиденцию для временного пребывания наследника?
Шенборн попытался что-то сказать, но язык будто к гортани присох, не слушался.
— Понимаю, — сказал Толстой, — граф не готов к ответу. — Шагнул вперёд: — С почтением просим также сообщить нам в ближайшее время, когда мы сможем встретиться с путешествующей высокой особой.
Пётр Андреевич несколько раз повторил: «путешествующая высокая особа», подчеркнув тем, что русский двор считает Алексея не беглецом, а только лишь путешественником вольным.
Толстой раскланялся и вышел из залы.
После столь ошеломляющего разговора вице-канцлер бросился во дворец цесаря. Понял: о наследнике престола, находящемся на землях империи, русским известно всё. Это путало все планы, так радужно рисовавшиеся в воображении вице-канцлера.
Вот уж истинно: не садись в сани, пока коня не впрягли.
Глава четвёртая
орога на Инсбрук шумна и многолюдна, так как сей город тирольский стоит на перекрёстке путей, ведущих из Германии, славной своими товарами, в благодатную Швейцарию, цветущую Италию с её шумными рынками и торговыми домами, известными на всё Средиземноморье. По дороге той за многолюдством постоянным незаметно проехать нетрудно. Но Румянцев всё же карету известную не версту добрую пропустил, дабы в глаза страже царевича не бросаться. Решил так: «Царевич никуда не убежит, но мне поберечься всё ж надо». И как ни хотелось офицеру с девками весёлыми, что на возах, шуткой переброситься или с крестьянином каким поговорить, но он рот на замок замкнул. Больше того: в плащ закутался и на лицо шляпу надвинул низко.
Кони шли шагом.
Ближе к Инсбруку Румянцев коня чуть шпорой тронул и на лёгкой рыси обошёл ближние фуры. Увидел: карета с царевичем, по-прежнему не торопясь, пылит к городу, и драгуны скачут за ней. Осадил коня, но назад сдавать не стал. Подумал, что в город карета вкатит и в улицах затеряться может. Лучше уж поближе держаться и из виду царевича с его охраной не выпускать.
Как задумал, так и сделал.
Карета в город въехала, а Румянцев за ней. Миновали рынок, свернули в улицу узкую, в другую, офицер следом. За угол отпустит карету и придавит шпорой коня. Тот прижмёт уши и, послушный приказу хозяина, прибавит шаг. Звонко ударят в булыжник подковы, и вот уже карета перед глазами.
А Инсбрук — город немалый да и путаный: улицы в гору лезут, петляют, но офицер всё же карету до самого дома, где царевича поместили, сопроводил. Карета у ворот остановилась, и Румянцев, глазами по сторонам стрельнув, трактиришко приметил и с коня соскочил.
Слова офицер не успел сказать, а из трактира на ножках коротких хозяин в колпаке вязаном шаром выкатился. Руками всплеснул, радуясь гостю. Мальчонка расторопный выбежал. Принял коней у офицера. Румянцев поводья ему передал, а сам к улице оборотился, будто бы расправляя плечи, уставшие от долгой дороги.
Увидел: из кареты известной вышел царевич с дамой и поспешно в воротах скрылся. «Вот и всё, — подумал Румянцев, — птичка в клетку залетела. Теперь мне вольно». Шагнул в трактир, зацепившись шпорой за порог. Устал всё же. Дорога не такой уж лёгкой была.
Хозяин, непрестанно улыбаясь медной рожей, принёс кувшин вина, жёлтый сыр на тарелке, зелень какую-то и с поклоном налил высокий стакан. Подал на стол горшок с похлёбкой, от которой пахнуло так, что у офицера голова закружилась, и он вспомнил, что со вчерашнего дня не держал во рту и макового зёрнышка.
Дабы гостю поскорее с дороги согреться, в камин мальчонка подбросил поленьев, и пламя разом вскинулось высоко. Жарком потянуло по всему трактиру. Отсветы весёлые заплясали по стенам. Вот так-то любо путнику после дороги многотрудной покой обрести. И поест он, и согреется, и слово доброе от хозяина услышит.
Конюх в харчевню вошёл, сказал с поклоном, что кони вычищены, напоены, в стойла поставлены, так что путник может не беспокоиться. Офицер, с полным ртом похлёбки, кивнул ему с благодарностью.
В дверях брякнул колокольчик. Хозяин поспешил навстречу. А Румянцев и головы не поднял — так уж вкусна похлёбка была. Но вдруг услышал, как шпоры звякнули, и ложка у него повисла в воздухе. Вскинул глаза. В дверях стояли драгуны, что сопровождали царевича. Румянцев медленно ложку в горшок опустил. В голове пронеслось: «Вина пришли выпить или меня приметили?» И, уже не чувствуя вкуса похлёбки, черпнул ложкой раз и другой.
Хозяин, о чём-то переговорив с драгунами, провёл их к стойке. И всё кивал головой в белом колпаке. Достал из-за полок большую корзину и поставил на стойку. Румянцев без вкуса хлебал похлёбку. Поглядывал на драгун искоса.
Хозяин положил в корзину изрядных размеров бутыль вина, головку сыра, срезал висевшую над камином связку колбас. Драгуны колбасы понюхали и, видно было, остались весьма довольны. Хозяин кивнул им и суетливо выскочил в низенькую дверку за стойкой.
Румянцев отодвинул горшок с похлёбкой. «Нет, — подумал, — не за мной они. Здесь что-то другое». Твёрдой рукой взял кувшин. Налил стакан вина, поднёс ко рту. Драгуны на него не глядели, переговариваясь о своём.
Хозяин вернулся со второй корзиной, и Румянцев острыми глазами рассмотрел в ней зелень и фрукты.
Пламя в камине поднялось высоко, и вино в стакане у Румянцева налилось глубоким кровавым цветом. Офицер поигрывал стаканом, беспокоил вино, как человек, для которого одно только и есть — его ужин после дороги.
Звякнул о стойку золотой, и драгуны, подхватив корзины, пошли к выходу. Хозяин услужливо выбежал вперёд, распахнул дверь. И ещё долго кивал вслед гостям даже и тогда, когда они вышли на улицу.
У Румянцева беспокойство от сердца отлегло, и он стукнул стаканом о крышку стола. Хозяин тут же подкатился к нему на смешных ножках, как будто бы на вертлюгах, приделанных к толстому животу.
— О-о-о! — воскликнул. — Вы принесли мне удачу! Как только вы появились в моём трактире, тут же пришли славные драгуны, которых вы видели, с богатым заказом. Неподалёку в доме знатного человека остановился иностранец, и драгуны по поручению хозяина взяли у меня и вино, и дорогую ветчину, колбасы, фрукты и пообещали прийти ещё и завтра.
Живот хозяина колыхался под фартуком, словно там был запрятан изрядный поросёнок.
— Я отведу вам лучшую комнату для ночлега и дам такую постель, на которую согласилась бы лечь и самая изнеженная принцесса.
Хозяин подхватил кувшин с вином и хотел было налить стакан гостю, но Румянцев отвёл в сторону кувшин и поднялся из-за стола.
— Нет-нет, — сказал, — после дороги дальней и хорошему вину я предпочту отдых…
Хозяин с пониманием поклонился и взял со стола свечу. Он угадал в госте серьёзного человека, понял — не из тех пустозвонов, что, набравшись в придорожной харчевне вина, будут бренчать на гитарах и плясать по-шутовски, забыв о деле. Этот своё знает. У хозяина глаз был намётан на людей.
По узкой скрипучей лестнице он проводил Румянцева на мансарду и распахнул перед ним дверь комнаты, приготовленной для ночлега. Поставил свечу, склонился над постелью и, как ребёнка дорогого, ухватил, подкинул подушку. Ловко, споро. Чуял, видно, немец- стервец — деньгу получит, и старался угодить.
— О-о-о! — воскликнул. — Будете спать, как у родной гроссмуттер!
Румянцев толкнул оконце в лёгонькой раме. Подумал мимоходом: «Здесь всё не как у нас — планки, реечки. Игрушки словно бы... В Москве раму оконную срубят, так и плечом не вышибешь». Но то так, пролетело в голове — заботило офицера другое. Вглядывался он в темноту: что там, за окном, во дворе? Увидел при тусклом свете фонаря стоящих под навесом коней. «Ага, конюшня, — обрадовался, — с крыши на коня. Славно». Обернулся к хозяину. Тот тряс перины.
— Хорошо, хорошо, — сказал Румянцев, — комната мне нравится.
Показал в улыбке зубы. А зубы у Румянцева — жемчуг белый. И не хочешь, а, увидев улыбку такую, непременно и сам улыбнёшься.
Хозяин огладил перины и задом-задом выпятился из комнаты. Кивал всё, кивал:
— Приятных сновидений... Приятных сновидений...
Когда закрылась за ним дверь, улыбку с лица Румянцева словно ледяной рукой стёрло. Офицер прикрыл растворенное окно, шагнул к лестнице, напряжённо прислушиваясь, как скрипят под тяжёлым немцем шаткие ступени.
Шаги смолкли. Румянцев отступил в глубину комнаты, отстегнул шпоры с ботфортов, задул в шандале свечу и вышел на лестницу. Ступая так, чтобы сухое дерево не скрипело под ногами, спустился вниз.
Во дворе слышно только, как кони переступают негромко в стойлах, как шуршит сено в кормушках, осторожно выбираемое мягкими губами лошадей. Под фонарём, в высвеченном кругу, поблескивают камни, влажные от вечерней сырости. Румянцев, помедлив мгновение, прошагал через двор к воротам. Взялся за холодное кольцо в калиточке, повернул, и калиточка отворилась.
На улице было также безлюдно и тихо. Настал тот час, когда немец аккуратный, придя домой, съел две свои картофелины и сел покойно в кресло, дабы выкурить трубочку перед сном.
У дома, где остановился царевич, светил неярко фонарь. Румянцев запахнул плащ и неторопливо, как добрый прохожий, которому нечего опасаться, пошагал в улицу. Стучал каблуками о каменные плиты мостовой, прикидывал: «Вина и колбас драгуны взяли немало. За таким столом долго просидишь, но чем чёрт не шутит — вдруг взбредёт в голову царевичу или хозяевам его в ночь дальше путь продолжить, с тем чтобы и вовсе следы скрыть? Нет, лучше я пригляжу. Ежели коней из кареты выпрягли, в стойла поставили и корму задали достаточно, то до утра можно ждать спокойно».
Под свет фонаря Румянцев не пошёл, но прошагал мимо дома по стороне противоположной, однако к окнам пригляделся внимательно.
Окна шторами прикрыты, а свет свечей всё же за шторами угадывался, и свет яркий. Догадаться легко можно было: сидят люди за столом, вино пьют и свечей зажгли немало. Однако голосов или шуму какого слышно не было. И то понятно: чего кричать, чего веселиться? По чужим городам царевич едет тайно — какая уж радость? И, вина выпив достаточно, из-за стола не вскочишь и каблуком в пол не ударишь, да и песню не запоёшь. Не до песен в таком разе. В клетке, известно, и птица долго приживается, пока запоёт. Так то птица. Да к тому же ещё не каждая голос свой покажет и через время. Чаще сидит, сидит за решёточками, пускай даже они и золотые, пёрышки нахохлив, а песенки — ни-ни. Ей уж и зёрнышек покрупнее подсыплют, водички почище и похолоднее нальют, а она всё одно не поёт.
Миновал дом офицер, за угол завернул. Пригляделся — стена невысокая, перескочить можно. Потрогал стену рукой — камни грубые, необточенные, ногу поставить удобно, и через стену перемахнёшь вмиг. «А ежели там охрана?» — подумал беспокойно.
Постоял в тени стены, чутко уши насторожив, но во дворе дома ни голоса, ни звука какого. «Нет, — решил, — другого не придумаешь. Надо через стену перебраться».
Ещё помедлив с минуту и отыскав носком ботфорты выступ в стене, бросил тело вверх. Ухватился руками за край, лёг грудью на стену. Прислушался, вглядываясь в темноту. Но во дворе черно, не разглядеть ничего. Румянцев ноги перенёс через стену и, сказав про себя: «Помогай, Господи», рухнул вниз.
Хрустнули под ботфортами сминаемые кусты, хлестнули по лицу мокрые от ночной росы ветки. Румянцев замер. И, словно бы в награду за смелость офицера, из-за тучи луна выглянула. Румянцев дыхание перевёл и, по-прежнему от стены не отходя, разглядел двор.
У дома, где царевича принимали, подъезд каменными ступенями во двор раскрывался, перед подъездом площадка небольшая, мощённая плиточником, чуть в стороне конюшня с широкими воротами. У конюшни карета распряжённая.
Румянцев, памятуя, что в замысленном деле медлить не резон, поспешно вдоль стены прошёл и, дождавшись, когда луна вновь за тучи ушла, шагнул к конюшне. Потянул тяжёлую створку ворот. В лицо пахнуло пряным запахом сена и конского пота. Румянцев услышал, как стукнуло в переборку стойла копыто. Губами сладко чмокнув, как цыган-конокрад, что и из-под живого мужика кобылку уведёт, а он и не ворохнётся, офицер руку вперёд протянул и, нащупав круп конский, ещё слаще зачмокал. Лошадка успокоилось.
В конюшню Румянцеву не след было лезть — и так ясно стало, что царевич до утра в доме расположился, — но всё хотел потрогать своими руками офицер.
Румянцев склонился над кормушкой. Зерно лежало высокой горкой. «Эге-ге, — подумал он, — лошадок-то надолго хозяин поставил». И хмыкнул удовлетворённо.
Всё, что ему надо было, он узнал и попятился из конюшни. Отворил осторожно ворота и к земле прирос. На широких ступенях подъезда стояли два драгуна.
Луна в ту минуту вновь из-за облаков вынырнула, и Румянцев различил отчётливо и шляпы драгунские с перьями, и торчащие из-под плащей клинки шпаг. Стояли драгуны вольно, чувствовалось, что и перекусили ребята на ночь хорошо, и винца хватили достаточно, и вот вышли на воздух не ради дела, но для удовольствия.
Драгуны переговаривались негромко и даже смеялись чему-то. Крепкие, видно, были ребята и в плечах не узкие. Один из них вдруг повернулся к конюшне и, увидев Румянцева, крикнул:
— Эй, конюх, иди сюда!
Голос у него был с развальцем, довольный, беззаботный. Румянцев, будто не расслышав его, выступил из ворот и шагнул к стене.
— Эй, эй! — уже со злинкой крикнул драгун и начал спускаться со ступенек. Румянцев понял, что до стены добежать не успеет.
Фёдор Черемной, добравшись наконец с обозом до Москвы и малого времени не теряя, зашагал в Зарядье. Шёл, глазел по сторонам. В Москве года три не был, с тех самых пор, как столицу перевели в Петербург.
Плутал-плутал меж домов, а церковь, что ему нужна была — Зачатия Анны в Углу, нашёл.
Церковь, не в пример другим, богатая. Крыша свежевыкрашена, золочёные купола, ограда вокруг церкви чугунная, литая, затейливая. «Даяниями, знать, церковь не обделена, — смекнул Черемной, — процветают отцы».
Постоял, обмахнулся крестом, толкнул калиточку. От паперти к нему непонятный человечек поспешил. Словно без костей весь — так и вьётся, изгибается и теми местами, которые изгибаться не могут. «Зашибленный какой-то», — подумал Черемной, но поклонился на всякий случай.
— Что надобно? — прошелестел вьюн, глаза подкатил под брови, губы вопрошающе выпятил.
— Да я вот… — тянул Черемной, — даяние святой Анне… И докончить не успел, вьюн сказал:
— К отцу протопопу пройди. Он распорядится.
Заскользил впереди, показывая дорогу. На походку его Черемной весьма подивился. Будто и не переступает ногами человек, а всё же вперёд продвигается.
Остановился вьюн, пальцем показал:
— В ту дверку стукни.
Сам стоит, смотрит. Черемной стукнул в дверь. Ему ответили. Он шагнул через порог. Под мерцающей лампадой Черемной увидел седого старца. Тот прищурился, поглядел на него внимательно из-под седых же бровей. Не вставая с кресла, спросил смиренно:
— Что привело тебя, раб божий, в нашу обитель?
Черемной плаксиво заговорил, что вот-де жена страдает болезнями и оттого который уж год ждут-ждут чада, а бог не даёт. Пришёл послужить, мол, церкви вашей. Может, святая Анна помощь окажет?
— Мысль твоя, — сказал протопоп, — богоприятна. А что делать умеешь?
— Богомаз я, — ответил Черемной, — из-под Твери.
И не соврал, к удивлению. И впрямь отдавал его отец ещё мальчонкой к мастеру, и Федька пробыл у того около года. Позже мастер прогнал его за неспособность и характер злой. Сказал отцу: «Ежели драть его без всякой жалости, может, и выйдет какой приказной крючок. А к иконам подпускать нельзя. Подл до невозможности».
«Посмотри, — сказал мастер отцу, — рожа-то какая?»
Федька из угла глядел васильковыми, невинными глазами.
«Тьфу, — плюнул мастер, — и не сморгнёт ведь».
На крючка приказного Черемной и выучился. Драли его, правда, нещадно. Отец совет мастера-богомаза помнил… Драли и розгами, и верёвочными вожжами, и вожжами сыромятными, и батогами. Полена в ход пускали. Другой при таком дёре давно бы протянул ноги. У Федьки же на месте, которое бог сотворил для юношей, в науку стремящихся, выросла роговая мозоль. И был он к бою почти бесчувственный, так что наука в него входила слабо. Но пронырой стал Федька предерзким. Того не отнять. И памятью обладал редкой.
— Богомаз нам не нужен, — сказал отец протопоп слабым голосом, — но вот по хозяйству помочь — то можно. Богу всякая работа люба.
— Готов я и по хозяйству, — ответил Черемной. Подумал: «Знаю вас, чертей, скажи только: «Задарма работать буду», — вы и ума не сложите, что приказать».
— Как звать-то? — спросил протопоп.
— Федькой.
— Иди, раб божий Фёдор, к ключарю. Он укажет.
Махнул рукой и прикрыл глаза прозрачными веками. Черемной поклонился в ноги. Для истовости на колени встал. Заметил: отцу протопопу то понравилось. Лицо у него подобрело. Вышел. Бескостный стоял на прежнем месте. Фёдор спросил:
— Мне бы ключаря.
— А я и есть ключарь, — ответил тот.
Фёдор обсказал ему разговор свой с протопопом.
— Пойдём, — кивнул ключарь и повёл на конюшню.
На конюшне навоз горой. Черемной как взглянул, шапка чуть не упала.
— Уберёшь, — сказал бескостный, — другой урок дадим.
И, больше слова не проронив, заскользил по двору. Ушёл.
Фёдор постоял-постоял, приглядываясь, с какого краю получше к куче подступиться, и взялся за вилы. К работе чёрной был он непривычен, и вилы в ладони тяжеленько ему легли. С досады покряхтел, но что делать: урок-то выполнить надо. Весь день провозился Черемной на конюшне и спину изломал — не разогнуться. К тому же и жрать за день не дали и малой крошки. Присел уже в сумерках, отвалился к стене, дышал трудно. Загнали малого, как скотинку на пахоте.
Пришёл ключарь. Глянул сонно, позвал с собой. Фёдор шёл за ним следом, а пудовые ноги не слушаются, гнутся. Вот как хлебушек-то добывается, ежели трудом, а не подьяческим крючкотворством. Солёный он. Сочтёшь кусочки такие и ради баловства, от полного пуза, не укусишь. Спотыкался Фёдор, а вьюн — за день-то, наверное, хребет не очень утрудил — поспешал легко.
Пришли в церковную боковушку. Но натоплено здесь было и три свечи горели в шандале. Стол добрый стоял, по стенам лежанки, дерюжками чистыми накрытые. Черемной огляделся и не устоял. Сунулся к лавке, сел. Бескостный глянул на него, но промолчал.
Отворилась боковая дверца, и вошёл человек. Бородища чёрная от глаз растёт, а сам — поперёк шире. Но без жиру, жилистый. Лицо звероподобное — рта за бородой не видно, под глазами бугры. Человек за собой дверь ногой прикрыл и на стол церковную посудину поставил с большим бережением.
— Звонарь наш, — сказал о нём вьюн, — ты громче говори. Уши ему колоколами отбило.
Фёдор к посудине пригляделся да так и ахнул: купель на столе, в которую православных при крещении опускают. И полна до краёв водки. Ключарь рыбы достал вяленой, калач, варёное мясо. Глазами пошарил и с полки снял миску с огурцами.
Сели за стол, не перекрестив лба. Пили из одной кружки. Передавали по кругу. Поровну выходило. Фёдор не отказывался: намордовался за день.
Когда в груди отлегло от дневных трудов, приглядываться стал. Звонарь — то понятно — силы был, видно, недюжинной, и кружку за кружкой опрастывая, не хмелел. А вот как вьюн бескостный от него не отставал — диву давался Черемной. Между прочим подумал: «Мужику серому когда ещё выйдет склянка с зельем водочным. А эти из бутылей или там штофов уже не жрут. Им купель подавай». Но мысль та о мужике пришла к нему невзначай. Мужик-то ему был ни к чему.
— Протопоп намедни жаловался, — сказал ключарь, — дохода у церкви нет.
— Как так? — спросил без любопытства Черемной.
— А так вот. Царь столицу в Питербурх перевёл, и народ из Москвы уходить стал. При Алексее-то Михайловиче в первопрестольной, почитай, двести тысяч народу было, а сейчас на четверть почти ушло.
Черемной, как глупый, глаза раскрыл: не понимаю-де, что с того?
— А ты посчитай, — сказал ключарь, — ежели с каждого ушедшего по одной только копеечке за свечу — сколько церковь потеряла? А крестины, — вьюн щёлкнул ногтем по купели, — а свадьбы, а отпевания… Всего не перечтёшь. Плачут отцы от царёвых указов.
Звонарь поднялся, наклонил купель, слил в кружку последние капли.
— Вот спроси его, — вьюн показал на звонаря, — сколько получал, как заказывали ему о покойнике отзвонить?
Звонарь слова разобрал, засопел, под глазами бугры красным налились.
— То-то, — крякнул ключарь. Откинулся на лавке. — Юрода нам нужно. Может, с ним дело поправится.
Фёдор навострился на бескостного.
— Если у церкви юрод, — засмеялся ключарь, — народ валом валит. Кружки с даяниями только успевай оттаскивать. У нас был такой… — Хохотнул: — Семь раз на колокольню поднимался и звонарю семь раз по золотому отваливал.
— Так где же он? — спросил Черемной.
— Ушёл.
— Позвать можно.
— Далеко ходить.
— Да я за святую Анну, за благословение её, — Фёдор закрестился часто-часто, — хоть на край света.
— Дорога опасна. Драгуны царские загораживают.
— Мне всё нипочём. — Фёдор ещё раз перекрестился.
— А что, — сказал вдруг ключарь, — может, и впрямь послать тебя? Человек ты не московский. Богомаз опять же… На богомолье идёшь. Всё сходится… В Суздаль идти-то. В монастырь. Поговорим с отцом протопопом. — Буквица за буквицей повторил: — По-го-во-рим…
Помолчали. Звонарь желваки катал на скулах. Вьюн вскочил из-за стола, как подброшенный:
— Ещё, что ли, по стаканчику!
Нагнулся и из-под лавки, у окна, достал штоф. Разговор пошёл совсем уж вольный.
— Нет, — говорил вьюн, — раньше-то лучше жилось. Теперь придавили. Тряхнуть бы Москву как следует. Зашевелятся людишки. Пётр-то не сахар. Полынь для многих.
Черемной закрестился робко:
— Что ты, что ты, власть-то за такие речи не похвалит.
— Эх ты, сосуд! — крикнул вьюн. — Власть-то она власть, а ты на неё поперёк влазь, иначе задавит.
Вот каким пришибленный-то оказался. Ухарь.
В Париже переговоры как покатились, словно сани с горки, так и пошло. Оказывается, подтолкнуть только и надо было, да вот не знали, с какой стороны. Пётр надоумил, а уж мысль его, что Франции без России промеж англичан и немца никак не устоять, Шафиров с Куракиным по-всякому вертели. От такого союза-де и, во-первых, прибыток, и, во-вторых, достаток, и, в-третьих, выгода. Тоже ловкие были ребята.
Теперь начались и застолья, и пиры. И хотя, как видели русские, чёрный народ жил в глубокой нищете, на пирах столы в королевских дворцах сверкали серебряной и золотой посудой, а вина и различные яства подавали в таком изобилии, что трудно было даже сказать, на какие аппетиты всё то рассчитано.
Пётр, несмотря на вновь пошатнувшееся здоровье, участие в пирах принимал. Даже знаменитую фаворитку[46] Людовика XIV, госпожу Ментенон, посетил в Сент-Сире.
Почтенная дама пожаловалась на здоровье.
— Чем вы больны? — спросил Пётр.
— Старостью, — ответила Ментенон.
— Сей болезни все мы подвержены, если будем долго жить, — сказал с поклоном Пётр.
Ментенон и присутствующие при разговоре придворные были приятно обрадованы галантностью русского царя. И маленький тот эпизод в большой игре переговоров стал своей каплей масла.
Русские добивались, чтобы Франция признала завоевания России на Балтике. Речь шла о землях обширнейших. Здесь и Петербург, и Нарва, и остров Котлин, и территории Истляндские и Лифляндские, и многое-многое другое. Признать их за Россией — означало увековечить утверждение державы Российской у моря. С тем сбывалась Петрова мечта — твёрдой ногой стать на побережье, иметь выход России в Европу морем. Сколько ночей о том думалось, как мечталось, сколько страданий было принято! И уже стояли русские у моря, и корабли строили отменные, да вот бумагой закрепить завоёванное надо было за Россией.
Всё шло хорошо, вроде и согласия французов добились, но, как только дело до подписания бумаг дошло, опять вышла закавыка. Французы начали жаться. Говорили: отойдут те земли России по договору со Швецией, тогда и они, со своей стороны, признают завоевания у моря.
Пётр понял: в Европе сейчас беда его семейная с Алёшкиным бегством многими учитывается. Ждали, чем-де всё кончится. Говорили: Пётр армией силён, но сам здоровьем некрепок, а ежели к власти в России сын его неверный придёт, как повернёт дело? И другое говорили: что-де наследнику все те завоевания у моря ни к чему, и он им противник.
И вновь в Париже начались проволочки.
Пётр предложил тогда искать путь к признанию морских земель за Россией по-иному — просить французский двор воздержаться от выплаты денежных субсидий королю шведскому. Известно было, что карман Карла XII пуст. А с пустым карманом много не навоюешь. Генералы Карла и так были недовольны постоянными задержками жалованья. Не будет у Карла золота, и ему ничего не останется, как начать переговоры с русскими и признать их завоевания у моря.
О том Пётр, просидев ночь, написал записку. Шафиров сейчас перебелял её, так как почерк у царя был неразборчив. Пётр ходил по комнате, пояснял непонятные места. Лицо у него опять было нездорово. Сказывалось напряжение последних дней. Но болезнь свою царь скрывал и о болях, возобновившихся в низу живота, не сказал никому. Все силы, все помыслы его были устремлены на заключение договора. Речь-то шла о том, быть ли России со своими портами на Балтике, через которые торговля пойдёт вольная, без постыдного посредничества иноземных купцов, или нет. А боль, что уж там! Боль пройдёт.
Шафиров осторожно кашлянул. Пётр взял бумагу, прочёл написанное. Подумал: «На то французы должны пойти. Золото всем дорого. А в Карла они сейчас не шибко верят. Золото валить ему не под что… Золото под победы дают, а не под поражения. Надо давить на них. А Карл без денег задохнётся».
Вернул лист Шафирову, сказал:
— Вот так и бейте в одну точку. Не мытьём, так катаньем, а договор вырвать надо.
И согнулся. В низу живота резануло, как ножом.
Драгуны бегом через двор бросились, и Румянцев услышал, как звякнула выхватываемая из ножен шпага. «Милые, — мелькнуло весело в голове у офицера, — ну что ж...» И он даже фыркнул, как кот. Схватился за эфес, но тут же и осадил себя: «Нет, ребята, шалишь. Шпага мне ни к чему. То вам, баловства ради, вольно пороть друг друга клинками». Метнулся к карете, чуть в стороне стоявшей, выворотил оглоблю. Подкинул в руках: оглобля ничего себе была — крепкая. Разом решил: «Так-то сподручнее. Кто да кого оглоблей огрел — дело тёмное. Может, драгуны Гретхен какую ущипнули. Мужики, видать, по тому делу не слабые, вот и получили орясиной в лоб. А шпага — то уже серьёзно».
Первый драгун, бросившийся на Румянцева, — фехтовальщик, полагать, зело умелый — выбросил приёмом хитрым клинок и достал бы офицера, но тот, минуты не сумняшеся, оглоблю поднял и ахнул драгуна по пышной шляпе. Петушиные яркие пёрышки, украшавшие шляпу, брызнули в стороны. Драгун руками взмахнул и сел на зад бесславно.
Второй, видя, что виктории дружок его не одержал, забежал к Румянцеву со стороны и хотел было ложным финтом сбить с позиции, но тот, и в том случае решив, что ни к чему манёвры сложные, оглоблей бойца императора германского огрел.
Но ударил не со всего плеча, а так, вполсилы, без потяга, дабы не зашибить мужика серьёзно, а только пыл охладить излишний. Драгун повалился на землю кулём мягким. Лёг спокойненько и ножками не дрыгнув, словно бы отдохнуть решил после застолья доброго.
«Эх, иноземщина, — подумал Румянцев, — любите вы покрасоваться со шпагой... А вот против дубины вам трудненько». Бросил оружие немудрящее и к стене кинулся. Обдирая ладони, вскарабкался наверх, перевалил на улицу. Стукнулся каблуками о крепкие плиты мостовой, выпрямился, отряхнул плащ и пошагал, как ежели бы произошедшее минуту назад за каменной стеной не с ним приключилось, а с дядей чужим.
Как и в первый раз, проходя мимо дома, где царевича принимали, Румянцев фонарь стороной миновал, но к окнам и сейчас внимательно пригляделся. За шторами, как и прежде, горели свечи и голосов слышно не было. Тревоги в доме не угадывалось. «Знать, бойцы-то зашибленные ещё не очухались», — подумал офицер и свернул к воротам харчевни, в которой остановился с вечера.
Так, чтобы никого не потревожить, на носочках ботфортов миновал двор. Да оно и тревожить было некого. Во дворе ни души. Слышно только, как кони пофыркивают да жуют сено спокойненько. Знать, сенцо хорошее им задали, раз они так старались кормушки очистить.
По ступенькам ветхим офицер поднялся в комнатку под крышей. На ощупь, свечи не вздув, Румянцев отыскал стул и сел, упёрся локтями в крышку стола. Сжал пальцами виски. «От драгун я отбился, — подумал, — а дальше что? Опомнятся ребятушки да и тревогу поднимут. Или того хуже: карету запрягут, царевича с дамой его под руки на ступеньки подсадят и шагом марш?»
В груди Румянцева как-то плохо защемило, тревожно. В доме тишина стояла, да и на улице голосов слышно не было. Глухо так, глухо, нигде ничего не брякнет, не стукнет. «Нет, — решил он, — досмотреть надо, как бы царевич по тишине той не укатил».
Поднялся Румянцев из-за стола, постоял малое время, и ежели бы свеча горела, можно было бы на лице его увидеть сосредоточенность крайнюю, настороженность, то выражение, что выдаёт и душевное волнение, и одновременно непреклонность довести задуманное до конца.
Румянцев толкнул оконце и полез на крышу. Черепица опасно захрустела под ботфортами, и офицер плюнул с досады: «Нет бы по-людски тёсом крыть крыши, так нет — глину проклятую стелют». Раскорячился и чуть ли не на животе попёр по карнизу осторожненько. Боже избавь, понимал, черепицу хрупкую каблуком придавить. Всей подошвой ступал, да ещё и так: шаг сделает, обтопчется и тогда только вторую ногу перенесёт. Приноровился и мало-помалу до трубы добрался. Здесь понадёжнее было. Всё же есть за что ухватиться.
Передохнул с облегчением. Эх, служба царская, вот и по крышам заставила лазать. А что поделаешь, коли надо?
Огляделся офицер и увидел тот самый фонарь в улице, что горел у дома, где царевича принимали. Понял: с крыши разглядит и в тёмной ночи, ежели карета с царевичем в дорогу тронется. Ощупал сырые черепичины и сел.
Над Инсбруком, над чёрными крышами пылали не по-российски яркие костры звёзд.
Румянцев запрокинул голову, вгляделся в небо, и холодно вдруг ему стало. Даже плечами передёрнул. До носа закутался офицер в плащ, ссутулил плечи. Вспомнилась сказка, на солдатском привале услышанная, о том, что в небе для каждого Бог звезду приколотил гвоздиком особенным, и пока она горит, солдату в бой без страха идти можно. Перекрестись Бога для и ступай смело. Звезда оборонит тебя. Но вот ежели погасла она, то тут уж и молитва не поможет. И горит или нет звезда твоя, говорили старые солдаты, иные люди видят явственно.
«Вот бы свою звезду, — думал офицер, — выглядеть среди других!»
Человек, знающий свою звезду, говорили ещё, отличен всегда, потому как спокоен и суеты в нём нет. А то главное, ежели человек не суетится, не бросается то вперёд, то назад или вовсе по сторонам. Он дорогу знает, идёт уверенно, и потому его и пуля в бою облетает, и сабля не берёт. Так уж, ежели бой самый жаркий, свистнет пулька возле уха, сабля пролетит над головой, но чтобы до живого достать — никогда.
«Как-бы звезду ту отличить?» — вглядывался в небо Румянцев. Но тут же и подумал: не в бою он и пули не летают, так что пока и без звезды можно обойтись. Однако, по молодости, понимать надо, в голову ему не пришло, что участвует он в деле страшном, тайном, которое и без пули многих с ног свалит.
А звёзды, одна крупнее другой, ярче вспыхивали, перемигивались над его головой, и, наверное, по ним уже определить можно было человеку понимающему, которая из них догорает вместе с чьей-то жизнью, а которая ещё будет светить своему хозяину долго.
Внизу, во дворе, прозвучали шаги, и Румянцев, о звёздах забыв, прислушался настороженно. Скрипнули ворота конюшни, стукнула о камень подкова потревоженного коня, и опять прозвучали шаги.
Румянцев понял: конюх беспокойный вышел коней проведать. «Молодец, — подумал, — или хозяин у него больно строг. И поди ж ты, немцы ведь, а скотину любят. Да ещё и, не в пример многим нашим, ухаживают за ней». Вновь уставился на светивший в улице фонарь. От яркого пятна того будто бы паутина золотая тянулась и тянулась, веки оплетая, да так, что они всё тяжелели и тяжелели нестерпимо, и казалось, вот-вот сами по себе закроются. Но Румянцев, упрямо зубы сжав, только сел ровнее на черепичных горбылях. «Нет уж, — сказал про себя, — так не выйдет. Ишь ты, паутина». И вот надо же, хоть бы собака где взлаяла или петух прокричал, душу бодря православную. Нет и нет. Скучна была ночь в нерусском Инсбруке. В местах-то родных или в колотушку где брякнут, или будочник прокричит: «По-слу-ши-ва-а-ай!» Оно и веселей. А здесь глухо, сумно.
Голова клонилась, клонилась у Румянцева, и вдруг вскинулся он, словно взнуздали, и увидел: звёзды померкли и на востоке небо зазеленело. «Всё, — решил Румянцев, — прошла ночь. Слезать надо с крыши, а то торчу здесь, как ворон чёрный». И опять на карачках, придерживаясь осторожно за скользкую черепицу, пополз к окну в свою камору.
Спрыгнул с подоконника и услышал, как лестница заскрипела под чьими-то башмаками. В дверь стукнули негромко. Румянцев поспешно мундир стянул, с тем чтобы видно было, будто он сейчас из постели вылез. Вошёл давешний парнишка, что коней у офицера принял. В руках у него тазик медный и кувшин с водой. Парнишка поклонился низко.
Румянцев даже обрадовался ему. Исподнее стянул, склонился над тазиком, подмигнул:
— Лей, лей смелее!
Вода обожгла холодом. Офицер крякал от удовольствия и норовил так под струю стать, чтобы до лопаток достала и проняла всего ледяной свежестью.
Через время малое сидел офицер в харчевне, на улицу поглядывал и, посмеиваясь по привычке всегдашней, шутил с хозяином. А тот рад был ему услужить и всё подкладывал и подкладывал вкусное на тарелку. В стакан наливал пополнее. Огонь плясал в камине.
Вдруг, так же как вечером, накануне, колокольчик брякнул, и в харчевню вошли давешние драгуны. Румянцев поспешно лицо над тарелкой опустил. Но всё же приметил, что у вошедшего в харчевню первым лоб припух заметно и под глазами сильные тени явственно проступили.
— Кхм-кхм, — протянул офицер.
Драгуны, на него внимания не обратив, к стойке прошагали бодро и, как вчера, потребовали вина, колбас, ветчины, сыру и зелени.
Румянцев чуть приподнял лицо и разглядел, что и бутыли, и колбасы, и сыр укладывают драгуны в корзины совсем не так, как давеча укладывали. Бутыли они попросили хозяина сенцом переложить, а колбасы и сыр травкой зелёной распорядились укрыть да ещё сверху водичкой обрызгать.
Румянцев понял: то не на стол пойдёт, так укладывают корзины, в дорогу собираясь дальнюю. Отрезал офицер кусок мяса пожирнее и зубами в него впился. «Ну, ребята, — подумал, — вы от меня не уйдёте».
Немного времени прошло, и в Инсбруке прохожие приметили, как через город карета тяжёлая, с оконцами, прикрытыми изнутри, проследовала. Но никто и внимания не обратил на поспешавшего за ней всадника в плаще сером, неприметном и в шляпе того же цвета, на глаза надвинутой.
В доме Фёдора Лопухина крик стоял, словно на пожаре. А всё учёный ворон. Утром птица та, живущая у Лопухиных бог знает с какого времени, неожиданно крикнула петухом. Примета, известно, к беде. К птице кинулись толпой, а она в окно вылетела, села на сарай и, глазом кося на снующую по двору челядь, как ни в чём не бывало принялась чистить клюв. Чёрная, страшная, и глаза блестят. Кто-то из бойких хотел было камнем в неё запустить. Не разрешили. Неизвестно, как ещё прикажут. Разошлись потихоньку.
О том случае хозяину не сказали. Но он сам дознался. Слуга, слабый от старости умом, принёс в покои ковш квасу и брякнул: так, мол, и так, а ворон наш петухом кричал. Сейчас на сарае сидит и на всех смотрит странно.
Фёдор квасом поперхнулся, в исподнем во двор выскочил. А ворон и впрямь на сарае сидит и смотрит круглыми глазами. Фёдор к сараю подбежал, крикнул:
— Подь сюда!
На плечико указал. А ворон и голову в сторону отвернул, хотя всегда был послушен.
Случай тот весь дом перевернул. И вот некстати тут объявили, что пожаловал Александр Васильевич Кикин. Не виделись они давно, с похорон Фёдора Юрьевича Ромодановского. Да и тогда лишь переглянулись, а разговора у них не было. Народ вокруг толпился, и слова не скажешь, чтобы не влетело в чужие уши.
Хозяин разговор начал с рассказа об учёном вороне. Губы у Лопухина тряслись. Кикин не дослушал, сморщился: дескать, что там ворон, или уж поглупели вовсе. Лопухин хотел было обидеться, но Кикин сказал о визите Меншикова с товарищами к нему и о вопросе светлейшего относительно наследника. Лопухин о вороне забыл. Александр Васильевич голову опустил и передёрнул зябко плечами.
На стол люди начали подносить заедки разные, вино поставили в богатом штофе, но хозяин на холопов ощерился. И дверь в покои, где они сидели, прикрыли плотно. По дому теперь более как на цыпочках никто ходить не смел. Хозяйка и та под иконы села и, губы сложив благолепно, застыла, не ворохнётся. Воробьи — шальная птица — под окнами только и орали яростно. Ну да им и боярский приказ не приказ.
Гость сидел молча. Лопухин ворочал глазами, приглядывался к Александру Васильевичу и решил: «Скушный ты что-то, скушный. Нехорошо».
А Кикин о своём думал.
Больше всего пугала его тишина. Вестей от Алексея из-за границы никаких не приходило, да и здесь, в Петербурге, люди, что из сильненьких, тоже помалкивали. А тишина не к добру. Страшно, когда тихо.
Думал, думал Александр Васильевич, с кем поговорить, как проведать, что там с наследником, и наехал к Лопухину. Для всего рода их — Лопухиных — наследник надежда. Они-то не выдадут.
— Тебе бы, Фёдор, — сказал Кикин, — промеж знатных людей разговор завести, где, мол, наследник. О преемнике царском беспокоиться надо. Пётр-то вон опять, говорят, приболел в Париже. Сильно хворый. Всё бывает, и цари не вечны.
Фёдор Лопухин скосил опасливо глаза на гостя:
— А пошто ты не заговоришь? Людей-то, чай, знаешь не хуже меня.
Кикин заёрзал на стуле:
— Да вишь ты, вам-то, Лопухиным, Алексей родня, и беспокойство твоё понятно.
— То так, то так, — загордился Фёдор.
Что Кикин вспомнил об их родстве с царевичем, было ему лестно. Речь-то шла не о дядьке седьмой воды на киселе — родственнике из забытой в нехоженой степи деревни, а о наследнике престола российского.
Хозяин от удовольствия крякнул, надул щёки: знай, мол, ещё и первыми людьми в державе станем.
— Да-да, — сказал он, — то верно. Царевич родня нам.
— И ещё вот скажи, ежели с кем разговор зайдёт, — ужом изогнулся Александр Васильевич, — дескать, заранее надо готовиться к тому. Молодые-то уж больно предерзки. Наперёд всё хотят забежать. И нам должно друг друга поддерживать.
«Молодые молодыми, но и ты своего не упустишь», — подумал Фёдор.
— И ещё на Кукуе в Москве, да и здесь, в Питербурхе, среди французов да немцев больше бы разговору завести о наследнике. Мол, опора он боярству.
— А то к чему?
— Непонятлив ты, — с досадой сказал Кикин.
Лопухин вновь хотел обидеться, но Александр Васильевич объяснил:
— Алексей-то не за рыжиками за границы поехал, а корону искать царскую, и ведомо должно стать покровителям тамошним, что в России помощники ему в его предприятии есть. Старое-де боярство наследнику служить готово.
Опасный разговор получился: при живом отце заговорили о короне для сына. Вроде бы Пётр уже и не царь, а скипетр и держава не у него в руках.
Лопухин на окно взглянул, испугавшись, что услышит их вдруг какой человек. Но слушать речи те бесстрашные некому было. Челядь ворона учёного ловила. Хозяин приказал: поймать и голову свернуть, чтобы петухом не кричал. Ишь ты, ворон, а туда же — старого голоса ему мало. Таких-то теперь много развелось — кукарекать по-петушиному или ещё как. А зачем? Дано тебе каркать, так ты каркай или, ежели приспичило, спроси сначала, каким голосом кричать, а укажут — тогда и рот разевай. «Потроха выдрать, — сказал, — выдрать и собакам бросить!»
Лопухин провякал:
— Поговорить оно можно. Люди есть…
А Кикин поддал жару — знал, как расшевелить:
— Алексей-то, наследник, в своё время вспомнит, кто ему помощником был. Разумеешь?
«Разуметь-то я разумею, ты за дурака меня не считай, Александр Васильевич, — думал Лопухин, глядя на узенькое личико Кикина, — но вот вперёд высовываться не хочется. Как бы по переднему дубиной не двинули. Переднему всегда больше достаётся».
А Кикин ещё поддал:
— Всё кумпанство Алексеево поговаривает: пора, мол, и нам наследнику помочь. На тебя смотрят. Ты ведь у нас других-то местом повыше.
— То известно, — опять приосанился Лопухин.
«Дурак ты, дурак, — подумал Кикин, — оглобля… Ну да сейчас не до того, чтобы местами считаться. Дело надо сделать, а там уж сочтёмся».
Но сказал другое:
— О царёвой болезни надо известить людей. Пусть знают. Кое-кто хвост прижмёт. О будущем помыслит.
Лопухин опять глаза скосил на окно: «Эх, разговор… разговор опасный».
О том, что Петру вновь неможется, а в Петербурге и в Москве беспокоятся о наследнике престола, Алексей узнал от приставленного к нему цесарским двором секретаря Кейля.
Царевич жил теперь в Неаполе, в средневековом замке Сант-Эльм. Жил довольно. В город выезжал, по заливу на золочёной лодочке катался, и слуг при дворце было как в боярском доме в Москве — и не поймёшь, зачем столько-то. Пузы, что ли, растить.
Секретарь Кейль — хорошо воспитанный, из почтенной дворянской семьи молодой человек — сообщил ту новость скорбным, слегка приглушённым голосом. Наследник русского престола, выслушав, встрепенулся всем телом, вспыхнул лицом и опустился в кресло.
Кейль не подал виду, что угадал мысли царевича. Секретарь поклонился и вышел, притворив за собой дверь. Кейль не ошибся: царевич чуть в ладоши не ударил, услышав о болезни Петра. Удержался вовремя. «Пётр-то отец мне, — подумал, — неприлично весёлость выказывать».
Кейль постоял с минуту в коридоре у дверей и услышал то, что ждал. За дверью громко, торопливо простучали каблуки наследника. Секретарь бледно улыбнулся: «Не удержался-таки царевич, побежал поделиться радостью со своей дамой». Кейль прикрыл глаза и прошёл в свой кабинет. Тихо прошёл, неслышно.
Алексей бежал, ног под собой не чуя. Скорее, скорее, через три ступеньки перепрыгивал по лестнице. Дыханье в груди стеснилось. Вбежал к Ефросиньюшке, схватил её за руки, завертел по комнате:
— Ефросиньюшка! Чую, чую, скоро в Москве будем! — Голос у Алексея звонкий, каким давно не был. Лицо пунцовое. — Радость!
Ефросиньюшка встала посреди комнаты как вкопанная.
— Да в чём дело-то?
Алексей склонился к ней, шепнул, задыхаясь:
— Известие есть — батюшка болен, у бояр в Питербурхе да Москве только обо мне и разговору. Знал я, знал — друзей у меня много. Отцу то было неведомо. Вот как ошибался он! Ну, приедем! — И опять закружил любимую по зале: — Вот уж радость так радость!
А ноги у Алексея сами так и ходят и каблуки притоптывают. Плясать-то наследник умел. В кумпании его плясунов было много, научился.
— Возьми платочек! — крикнул Ефросиньюшке. — Пройди кружок для души!
Ефросиньюшка застеснялась. Плечиком приподнятым лицо загородила.
— Ну же, ну, — просил Алексей, — порадуй!
И Ефросиньюшка послушалась. Вытащила из карманчика шитый платочек и пошла, пошла по зале. Высокая, тонкая, красивая. Шла — как по воздуху летела. Руками взмахнула плавно, подняла их над головой. Загляденье!
У Алексея глаза загорелись. Крикнул:
— Ну, милая, удружила, нет тебя краше!
А Ефросиньюшка всё плыла и плыла по зале. То приближалась, то уходила в дальний угол и опять плыла к царевичу, волнуя гибкостью стана, маковым цветом молодого лица.
В тот вечер Алексей приказал подать вина что ни есть лучше, стол накрыть на открытой галерее, выходившей на залив. От счастья у Алексея кружилась голова. У бога по ночам просимый миг, казалось, вот-вот придёт.
Стояла вершина мая. От подножья замка террасами цветущие деревья спускались к морю. Ветер заливал галерею медовым ароматом цветов.
Первым к столу вышел секретарь Кейль. На белоснежной скатерти в свете свечей огнями играл тонкий хрусталь бокалов, тускло поблескивало старое серебро. Слуги тихо переговаривались, хлопоча о своём, ровно горели свечи.
На галерею вышла Ефросиньюшка, за ней царевич. Кейль встал. На Ефросиньюшке французское платье с широкой юбкой, прошитой золотыми нитями. Плечи открыты, на пальцах, на груди — камни. Ефросинья протянула руку Кейлю для поцелуя.
Царевич был необычайно оживлён. Кейль хотел было обратить его внимание на красоту залива, но наследник русского престола взял в руку бокал. Как всегда слегка косноязыча, он заговорил первым:
— Кейль, вы принесли сегодня наиважную новость. Выпьем за послание из Питербурха.
Алексей осушил бокал до дна. Кейль подумал: «Наследник престола опять не сдержан в вине». Но секретарю было строго-настрого приказано молчать и слушать. И он слушал.
Наследник неловко потыкал вилкой в тарелку и вновь протянул руку к бокалу.
За дни, проведённые в Сант-Эльме, лицо царевича загорело под солнцем, округлилось, и он казался сейчас как никогда здоровым. Но всё же длинные, сухие пальцы, держащие бокал за тонкую ножку, чуть вздрагивали, выдавая нервное напряжение.
Наследника сегодня, казалось, распирало желание говорить и говорить. И он говорил вволю:
— Приду царём на Москву — Питербурху не быть. Разрушить и срыть с земли велю сей град. На месте гибельном стоит он, и жить там негоже. Жить буду в Москве зимой, в Ярославле летом. Славна земля ярославская… Сухая, песчаная, с дубравами и березняками бескрайними.
Ефросиньюшка медленно крутила в пальцах серебряный ножичек. Через стол взглядывала на залив. По лицу её скользили тени. «Северная Венус», — подумал Кейль, но слов Алексея не пропустил. Кивал головой:
— Да, да… очень интересно.
— Со шведами мир установлю. Нововладения приморские ни к чему. Земли в России много. Ссориться из-за неё с сильным соседом не резон. Торговля морская — выдумка батюшкина. Купцам, а не царю ею заниматься. Царю сие зазорно.
— Да, да, — вставил осторожно Кейль, — жить надо для удовольствий. Мне говорили, что в России забывают о том.
Но наследник не слышал секретаря. Говорил Алексей, уперев взгляд в белую скатерть, на собеседников не взглядывал, и, как понял Кейль, говорил для себя.
Кейль повторил:
— Многие философы мира, величайшие умы утверждали: жизнь только тогда имеет смысл, когда она радость. В посвящении себя радости наслаждений видели они единственный путь.
Выпито было много.
Алексей неожиданно встал, сказал Кейлю:
— Велите заложить карету. Хочу в город.
— Час поздний, — начал было Кейль, но наследник упрямо нагнул голову, и секретарь понял: какие-либо резоны к возражению искать бесполезно.
— Как прикажете, ваше высочество, — склонился он. Через четверть часа из ворот замка Сант-Эльм выехала открытая карета. Четвёрка белых лошадей, звонко выстукивая подковами о дорогу, понесла её к городу, раскинувшемуся внизу, у моря.
Алексей, склонившись к Ефросиньюшке, что-то говорил ей так тихо, что сидевший на переднем сиденье Кейль не разбирал слов. Неожиданно наследник громко спросил:
— Что там?
И показал вытянутой рукой вперёд. Кейль приподнялся на сиденье, вглядываясь в плясавшие на дороге огни. Улыбнулся и, оборотясь к спутникам, пояснил:
— Неаполитанцы — самый весёлый народ в мире. То, вероятно, праздничный карнавал.
Сейчас же до них донеслись пение, радостные голоса. Кони сбавили шаг. Карету окружила толпа. Девушки в ярких нарядах, парни в широких шляпах, с гитарами, люди в плащах, с пылающими факелами. Все пели, плясали, шутили.
Алексей живо повернулся к Ефросиньюшке и, перекрывая шум и голоса, крикнул:
— Вот как кстати!
Громко засмеялся, но вдруг лицо его исказилось страхом. Упираясь руками в колени Ефросиньюшки, он сунулся вперёд, затем отпрянул в угол кареты и даже не крикнул, а прохрипел, словно его схватили за горло:
— Назад! Назад! Домой!
Кейль с удивлением оборотился к нему.
— Назад, домой! — хрипел царевич.
В праздничной толпе Алексей отчётливо разглядел лицо офицера Румянцева. Офицер взглянул ему в глаза и исчез в толпе.
Меншиков покрутил носом, сказал:
— Вонища невпродых.
Толкнул дубовую, в полтора человеческих роста калитку. Навстречу ему, хрипя и задыхаясь в лае, бросилось через двор с полдюжины здоровенных кобелей. Чёрные, лохматые, из пастей языки вываливаются.
Светлейший глянул и шарахнулся назад, спиной чуть не сбив с ног идущего следом офицера. Захлопнул калитку. Кобели, навалившись на ворота, скребли когтями.
— Ну и зверье, — смущённо сказал Меншиков, — тигры алчущие…
За воротами послышался голос:
— Цыцте, проклятые!
Калитка приотворилась, и в щель вылезла борода. Мужик ругнуть хотел незваных гостей, но застыл. Да и любой глаза бы растопырил. Пугнуть-то собирался словами нелестными, а перед воротами фигура: через плечо лента голубая, на ленте звезда в бриллиантах, парик до пупа.
Меншиков покрасовался перед заробевшим насмерть мужиком, шагнул в калитку, сказал всё же смущённо:
— Ты коблов-то попридержи. Где хозяин?
И без испугу пошёл через двор. Офицер, поспешающий следом, за шпагу взялся. Кобели и впрямь были как звери. Того и гляди, задавят. Но кобели присмирели. Уж больно нагло пёр через двор светлейший.
С крыльца навстречу князю кинулся детина с версту ростом, живот не в обхват. Бежал, однако, бойко.
— Александр Данилыч! Как же так, без предупреждений? Мы бы встретили!
— Встретили, встретили, — сказал Меншиков ворчливо, — коблы твои встретили…
Детина рыкнул на собак. Подхватил князя под руку. В глаза заглянул ласково.
Хозяин — купчина из новых. Миллионами ворочал. Царём обласкан. Умён — сквозь землю видел, но пройдоха был редкий и сейчас вот взял подряд на кожи для кораблей, строящихся на петербургской верфи, а с товаром тянул. Меншиков приехал взглянуть: что и как с кожами?
— Вот здесь, здесь ступай, Александр Данилыч, — заискивал купчина, — у нас и испачкаться недолго, а то и платье изорвать.
— Ты вот меня собаками едва не затравил, — начал Меншиков, усаживаясь в кресло, — а я к тебе с подарком дорогим. С кожами-то затянул?
— Э-э… Нет, князь, три дня сроку мне ещё, а за три дня мы многое успеем.
— Успеете, успеете. Кожи в Питербурх доставить надо. А грязища по дороге?..
— Какая, князь? Солнце палит… Грязь высохнет…
И всё крутился, крутился вокруг, по плечику гладил, а сам уже шепнул кому надо, и на стол потащили жареное и пареное. Но Меншиков сказал:
— Ты это, — ткнул пальцем в блюда, — оставь. Не до того.
— Александр Данилыч! — взмолился купец. — Хлеб-соли отведать — святое дело…
— Нет, — сказал Меншиков, как отрезал, — водки чарку выпью, и всё. Я с делом к тебе.
Купец — жох, сразу же замолчал.
Меншиков, приехав в Москву, понял: одной таской за волосы многого не сделаешь. Купчишки поприжались: Петра Алексеевича скоро год как в России нет и нездоров, говорят. К тому же наследник в бегах… А просто так, сдуру, царские дети не бегают. Случись что с Петром, сынок-то, наверно, защитников себе нашёл бы в землях дальних, а ежели придёт, как дело повернёт — неведомо. Ты капитал вбухаешь в петербургское ли строительство, в верфи ли корабельные, в суконное или кожевенное дело, а он и скажет: а кораблики те зачем? Сукнишко-то солдатам на мундиры, а новый правитель и армию разогнать может. Говорят, он более по церквам да монастырям ходок, чем по полям ратным. Задумаешься. Нехорошие слухи шли. А Москва слухи любит и прислушивается к ним. Битый здесь был народ. Всякое видел.
Меншиков и решил: нет, за волосы таскать не годится. Только напугаешь больше. Известно давно: правители лютуют, когда конец близок. Обласкать людей надо. Веры будет больше.
— Кильсей Степанович, — поднялся с кресла светлейший с улыбкой, — царь прислал тебе презент. Наградить решил за старание твоё на строительстве корабельном, столь для державы важном.
За отворот мундира руку сунул князь и бухнул на стол мешочек кожаный.
— Сто червонцев от себя Пётр Алексеевич тебе пожаловал.
Купчина от неожиданности назад отступил, сел на лавку.
Знал светлейший: сто червонцев для купца не деньги, — но знал и другое: царские рубли необычным счётом меряются. Им цена в тысячу крат дороже. Купец те червонцы скобой стальной крепости к вывеске своей приколотит, так как почёт важен, а почёт золотом не купишь.
И ещё ведал князь: Москва весть о тех царём дарованных рублях по всем дворам пронесёт, как на вороных. И многие в затылках почешут: «О царе, знать, болтают невесть что… Из-за границы, из чёрт-те каких земель французских, купчине презент прислал… Нет, не слаб он. Далеко смотрит… Слабого да хворого свои болячки беспокоят, и о завтрашнем дне он не думает…» И не одному захочется царю послужить и презент заработать. В душах человеческих князь разбирался. Жизнь помяла его, научила.
Купец с лавки сорвался.
— Да мы, да я… Схватил со стола четверть.
— Э-э-э… Нет, — придержал его Меншиков, — как сказано, чарку только и выпью. Дела, брат, дела.
Чарку князь выпил, а уходя, уже на крыльце погрозил пальцем:
— А кожи-то в срок чтобы в Питербурхе были.
Купец пополам согнулся:
— Что ты, что ты, Александр Данилыч! Да мы в лепёшку расшибёмся…
— То-то, — сказал Меншиков.
Кобелей во дворе не было. Увели куда-то, дабы князя не смущать.
Меншиков по двору прошёл как петух, бриллиантовой звездой сияя. Говорят, ежели наголодается да нахолодается человек во младости, а позже судьба звездой его наделит, то он всенепременно на шею её нацепит и не снимет, пока не натешится. А уж у светлейшего младые годы были самые что ни на есть лютые.
Фёдор Черемной в Суздаль притопал. В лаптешки сенца подстелил помягче и по холодку где лесочком, где овражком дошёл.
Светало. Солнце ещё не показалось, но за полем, за ельником тёмным купола суздальских церквей проглянули. И кресты золочёные разобрать можно было.
Черемной присел под берёзку, откинулся на ствол гладкий. Хоть и не спешил особо, а за дорогу намаялся. Чувствовал — ноги набил.
Перед тем как в Суздаль идти, ключарь, вьюн бескостный, свёл Фёдора к отцу протопопу. Пьян, пьян был вьюн-то, а запомнил разговор в пристроечке, за купелью с водочкой сладкой.
Фёдор, как позвал вьюн, затоптался вроде от робости:
— Непонятлив я, не разберу чего.
— Разберёшь, — засмеялся ключарь, — отец протопоп втолкует. Он чего хошь втолкует. У нас протопоп…
И, не досказав, ещё раз засмеялся. С тем и повёл.
Отец протопоп был в притворе. Молился. К вошедшим лика не оборотил. Но Фёдор понял: ждал их святой отец, оговорено, видать, всё у них было с ключарём.
Стояли, пока протопоп молитву не закончил, долго, но сколь ни стояли, а своё выстояли. Отец протопоп подошёл, руку для целования сунул. Посмотрел на Фёдора внимательно. Фёдор в лицо ему не смел взглянуть. На руки воззрился.
Кожа тонкая на руках у протопопа, просвечивает. Слабые руки, ветхие. Лежат вяло, не по-живому. Под ногтями сине, мертво. Не жилец был протопоп. Такими пальцами холодными за жизнь долго не удержишься.
— Сходить в Суздаль решил? — спросил протопоп. — Церкви пособить? — И, не дожидаясь ответа, продолжил: — Дело не простое. Хоронись от глаз чужих. А ежели кого повстречаешь, об уроке своём не сказывай. На богомолье идёшь, и всё тут.
Фёдор головой кивал послушно.
— В монастырской церкви юроду поклон передашь. Скажи: ждём, мол. Помолишься в монастыре — обитель сия святая, — возвращайся. Не медли. Юрод скажет какие слова — запомни. Драгуны царские схватят — боль прими, пытку, но молчи. — Спросил твердо: — Понял, сын мой?
— Понял.
— Иди, — сказал протопоп, — иди с богом. Зачтётся тебе. Поднял руку, перекрестил широко. На коленях Фёдор выполз из притвора.
На дорогу вьюн Черемному дал хлеба, две рыбины вяленых — так, ничего себе, крупненькие, — луковиц с десяток, соли в тряпочке. Не пожадничал. Черемной поскоблил подбородок: «Святые отцы корку хлеба не пожалели, неспроста то. Значит, очень уж нужно им человека в Суздаль послать. Печёт, видать».
Посидел-посидел под берёзкой Фёдор, встал.
В монастырь пришёл, народ только-только из церкви расходиться начал. Фёдор противу толпы не попёр и на паперть не вылез. Стал в стороне, у кустика. И видно всё, а сам и заметен-то не очень.
Народ из церкви валил серый: старухи из города в вонючих лохмотьях, старики с костылями, парни в разбитых лаптях да девки в линялых сарафанах. Потом уж монашки высыпали во двор. Великопостницы. Идут — глаза книзу, руки на груди сложены. «Племя мышиное», — подумал Фёдор.
И вдруг народ расступился. На паперть настоятельница вышла. Высокая, дородная, плечи крутые. За ней две монахини — тоже незаморённые, — и в руках у них на шестах сукно алое распялено.
Люди попадали на колени. Настоятельница потихоньку с паперти пошла. Монахини следом.
Фёдор Черемной на что уж повидал разного, но и то в диковинку ему эдакое было. Потянулся из-за куста получше разглядеть диво такое. И под сукнами в малую щель рассмотрел ножки женские, в лёгкие, узорчатые туфельки одетые. Всё понял: за сукнами царицу бывшую ведут. «Не по сану так-то старице Елене ходить, — подумал, — да и грешно…»
Настоятельница рядом с Черемным прошла, и он лицо её увидел близко. Глаза прикрыты веками — не доберёшься, не заглянешь, подбородок как обух у колуна. На шее крест, и камень в нём с орех лесной. Тоже, видать, любила стадо своё, паству невест христовых. Всё отдать им была готова.
За полотнищами алыми прыгал собакой, скакал, тряс башкой лохматый юрод. Народ ахал только. Волосья юрода по земле метутся. В лохмах репьи прошлогодние. Глаза врастопырку, нос до губы достаёт, а губа отвисла лопатой.
Фёдор глянул: «Милай, знаем мы, как те шутки делаются. Нехитрое занятие». И вдруг показалось: «А ведь видел я эту рожу!»
Черемной из куста вылез: «Знакомец-то старый!» Память у Фёдора была крепкая.
Пётр Андреевич Толстой в Неаполь приехал почтовым дилижансом. Румянцев Петра Андреевича ждал.
Одним из последних из дилижанса вышел господин, фигурой на Толстого весьма похожий. Когда шагнул со ступеньки на землю, карету приметно качнуло, но, подавшись ему навстречу, Румянцев понял: ошибся.
Господин был в пыльном сером плаще до пят, в шляпе с широкими полями, что выдавало в нём торговца мелкого или вовсе музыканта, но никак уж не российского знатнейшего вельможу.
Румянцев в другой раз вгляделся и решил: наверное, музыкант.
Здесь, в Неаполе, офицер многому удивлялся. Ежели спросишь, кто, дескать, вон тот господин, неаполитанец сливовые глаза под лоб закатит, языком защёлкает и с придыханием глубоким сообщит:
— О-о-о! Это великий маэстро!
Так что Румянцев был уверен, что здесь всякий, кто ни есть, хоть на тарелках медных, но всенепременно играет.
Ошибившись, Румянцев в сторону от дилижанса отошёл.
Известно, как только русский человек за границу приедет, ему наговорят чёрт-те чего, он и ахнет: «Скажи, а нам, дуракам, и невдомёк такое…»
Так и Румянцев:
«Неаполитанский залив… Цветочки благоухают… Пальмы разные и апельсины…»
А потом присмотрелся:
«Э-э-э… Да то, ребята, баловство одно. Цветики-то дурманом отдают, от которого и голова слабой становится. А море-то, море… При таком море и на забор неживой полезешь. С сучками. Вот народ и балованный тут. Знают только на мандолинах разыгрывать».
Серьёзный был человек. В корень зрел. Узнал он и то, что цирки здесь были ещё при римских императорах и в тех цирках мужиков, гладиаторами называемых, звери при всём народе терзали. И народ будто бы даже при том ликовал.
«И ничего странного, — решил Румянцев, — они ещё больше натворят. Такие, жди, цирки соорудят, что не только звери людей, но и сами люди друг друга рвать начнут». А ему сказали: и такое, дескать, было.
К неаполитанцам Румянцев стал относиться подозрительно.
Народ между тем с площади разбежался, похватав корзины. Только один — тот самый, которого Румянцев музыкантом посчитал, — стоял у фонтанчика.
«Не приехал», — решил Румянцев и зашагал прочь. Но вдруг услышал голос:
— Господин офицер…
Румянцев обернулся. Из-под шляпы широкополой на него смотрели хитрющие глаза Петра Андреевича. И так вот удивлять мог Толстой.
Перво-наперво Толстой расспросил у Румянцева о наследнике. И наказал обсказывать всё до мелочей, казалось бы даже и несущественных. Слушал внимательно. Интересовало его, и как ехали через Альпы, и где ночлег был или иные остановки, каких коней давали наследнику, кто встречал его в городах разных и как встречал: в городе ли самом или навстречу выезжали.
Разузнав всё, Толстой некоторое время сидел в раздумье, потупив голову. Другой бы даже предположить мог, что задремал с дороги Пётр Андреевич, утомившись, но Румянцев знал, что Толстой далёк от сладкой дрёмы.
Наконец Пётр Андреевич голову поднял и стал расспрашивать офицера о его житье в Неаполе. Румянцев и скажи о своих рассуждениях о неаполитанцах. Толстой выслушал его так же внимательно, но потом, избочив голову и взглянув снизу вверх, сказал:
— А суров ты, братец, суров. Удивил старика. — И усмехнулся криво, с мыслью едкой. — Поговорим, — сказал, — время будет, поговорим.
В дилижансе он приехал почтовом — проезд-то, почитай, и денег не стоил, — плащ надел с плеча торговца мелкого, а палаццо в Неаполе снял что ни было из богатейших.
— Суетен, — сказал Пётр Андреевич, — чиновник местный и судить будет о нас по подаркам да по комнатам, в которых принимать станем.
Весь оставшийся день ездили они по городу в наёмном экипаже неприметном. Толстой присматривался. И всё больше просил останавливать у домов чиновничьих. Выходил даже из кареты и, не торопясь, прогуливался вдоль домов.
К концу дня, по обыкновению своему, Пётр Андреевич поиграл губами, как на рожках игрывают, и выразил желание отведать неаполитанских блюд.
За столом, вкушая знаменитый суп из морских ракушек, рачков и диковинных рыбок, высказал несколько наблюдений в форме весьма категорической.
— Что касательно государств, то они с годами дряхлеют, как и люди. Империя Германская корнями восходит к временам римским, и лучшие её годы отцвели, — говорил он, поглядывая на Румянцева, но не забывая и о тарелке своей.
К рассуждениям Петра Андреевича за столом Румянцев уже привыкать стал.
— Власть предержащие люди империи больны давно, — говорил Пётр Андреевич, — и главный недуг происходит от их неуёмной жажды богатства. Посмотрите на них: они обзаводятся домами, которые дворцам подобны, приобретают экипажи для себя и домочадцев своих, драгоценным деревом и золотом изукрашенные, предаются страстям чрезмерным. Другая пагубная болезнь — неслыханное честолюбие. Иной из властью распоряжающихся увешивает себя знаками отличия так, что и лица не видно, а замечаешь только золотое свечение звёзд и регалий. Не имея возможности укрепить все полученные звёзды на груди, готовы уж и к заду пристроить.
Толстой замолк, покивал носом задумчиво, склонился над супом.
— Из-за тех и многих других недугов, — продолжил Пётр Андреевич, с видимым сожалением положив ложку, — высокие посты в государстве сем занимают люди недостойные, потрафляющие порокам власть имущих или подвигаемые по лестнице чинов благодаря связям родственным. Взяточничество процветает в Германской империи, и золото здесь — бог. — Пётр Андреевич поднял глаза на Румянцева: — Рассказываю вам анатомию сию не ради удовлетворения праздного любопытства, а токмо из соображений практических. В делах наших знания те зело пригодны будут, ибо королевство Неаполитанское, где находимся мы сейчас, подвластно империи Германской. Известно же, если хозяин плох, то слуги его трижды худы.
Толстой встал, одёрнул камзол, взлезший горой на чреве, и, с огорчившимся вдруг лицом, отошёл от стола.
Что явилось причиной сего огорчения: то ли, что от стола было время подниматься, или же мысли о недугах, государствами переживаемых, — Румянцев, по младости нужно думать, не понял.
Пётр Андреевич повернулся к офицеру, сказал:
— Что же касательно ваших наблюдений, могу заметить: богата история земли сей неаполитанской и была она за многие годы светочем мысли лучезарной и сеятелем мрака. И думаю, преподнесёт ещё миру немало сюрпризов. Среди них, боюсь, и орешки горькие…
На том ужин они закончили, и Пётр Андреевич соизволил отправиться к вице-королю неаполитанскому, графу Дауну. Письмо у него было к лицу тому высокому, и письмо крепкое.
Лист, украшенный гербами и замысловатыми виньетками, сообщал, что Петру Андреевичу Толстому, доверенному лицу его величества царя Великая, и Малая, и Белая России Петра Первого, разрешается аудиенция с наследником престола его высочеством царевичем Алексеем, ныне пребывающим в замке Сант-Эльм в Неаполе.
Даун прочёл бумагу, заканчивающуюся подписью графа Шенборна, которую можно было счесть и за редкой красоты миниатюру, склонил голову. Улыбнулся умно. Голова его, однако, при всём при том напомнила Петру Андреевичу почему-то место, что ниже спины его отдалённой родственницы из Твери. Он ещё подумал: «И надо ж… Человек-то в Неаполе живёт». Перекрестился Толстой незаметно, сказал себе: «Господи, прости меня, грешного, за мысли мои».
У Петра был счастливый день. Первый счастливый день за минувший год.
Утром, сидя за столом, царь повертел в руках забавный каравай чёрного хлеба — французы, узнав, что это любимый его хлеб, выпекли буханочку, — неожиданно рассмеялся звонко и весело. Денщик даже голову вскинул, как лошадь от удара. Всяким видел Петра, но таким никогда.
Царь отрезал от каравая ломоть, посыпал солью и, откусив добрую половину, жевал с очевидным удовольствием.
Переговоры в Париже, которым отдано было столько сил, завершились благополучно. И Пётр был по-настоящему радостен. Французский двор согласился на все требования русских. Франция брала на себя роль посредника в переговорах между Россией и Швецией, а главное, обязывалась воздержаться впредь от выплаты субсидий шведскому королю и оказания ему иных видов помощи. Карл оставался без французского золота.
Легко было представить, что случится в Стокгольме, когда там узнают сию новость.
Но то было не всё, чего добились в Париже. Франция готова была признать приобретения России на Балтийском море, которые отойдут ей по договору со Швецией.
Вот то было победой. Пётр наконец-то собирал урожай, зёрна под который были брошены ещё на Переяславском озере, когда он поднял парус своего смешного потешного ботика.
Ботик! Без улыбки нельзя было вспомнить о нём. Игрушечные мачты, медные, надраенные до сияния бляшки такелажа, тоненький, как журавлиный нос, устремлённый вперёд бушприт. Но с его борта царь в разодранной до пупа рубахе — починить-то некогда, — с облупившимся под солнцем носом увидел море.
В Москве тогда смеялись забавам Петровым: «Гы-гы-гы...» Скалили жёлтые зубы в бородищах косматых боярских: «Царь-то без порток по мачтам лазит... Гы-гы-гы...»
Пётр положил ломоть с солью на стол. О рожах тех вспомнил, и хлеб кислым показался.
Зубы жёлтые... Видел он их, видел ещё ребёнком, когда мать — Наталья Кирилловна, от страха трясясь, вынесла его на руках на красное крыльцо, к стрельцам. Случай спас. Забоялись бояре спустить с цепи стрельцов. Кровь царскую пролить страшно всё же было. Бросили тогда стрельцам на копья[47] братьев царицы — Ивана и Афанасия, князей Юрия и Михаила Долгоруких, Григория и Андрея Ромодановских, Матвеева-старика.
Потоптались стрельцы на знатных костях, понюхали кровушки, разграбили палаты царские и успокоились, винища в кремлёвских подвалах нажравшись. Ушли. За ворота дубовые, в избы вонючие сели.
Но стрельцы только что и есть быки рогатые. Лбы каменные. Пастухи страшнее. Не зелья хмельного в Кремле они искали — вольность боярскую, чтобы каждый сам себе государем был. Им бы Россию, как шубу, на куски разодрать. И тот рад будет, кто клок побольше урвёт. И хоть гнилая овчина, прелая, блохастая, червём источенная, но моя. Схоронюсь в ней, в неразворотный, дремучий мех зароюсь, крестом обмахнусь, и никто меня оттуда не выколупнет.
Денщик со стола тарелки убрал, штоф сунул в шкаф и стоял дурак дураком. Моргал ресницами сивыми, славянскими. Ждал: «Что же дальше-то? Царю ехать надо, а он сидит — и ни с места. Смеялся, а теперь вот голову повесил. Чудно».
...Зубы жёлтые.
Бил Пётр по зубам по тем. Крошил, ломал. А они опять оскалились. Алексеев-то побёг — всё те же зубы хищные. На сей раз нацелились они на самое горло Петрово. И вцепились крепко. И не вдруг, не вчера, не позавчера задумано то было.
«Победа, победа, — подумал, — да вот Алексей, эх, Алексей…»
Пётр вспомнил проповедь, произнесённую в Москве рязанским митрополитом Яворским Стефаном. С яростью, так, что слюна в углах губ закипала, святой отец говорил о неугодных церкви новинах и, высоко воздев руки, возопил: «Надежда наша — царевич Алексей, душе которого старина любезна! И он нам люб».
Быть бы тогда Яворскому Стефану сосланным в монастырь дальний чёрным монахом, но Пётр школу военную горестью и терпением проходил — не до того было. Руки лопатой ломал, апроши и бастионы строя и солдат своих тому воинскому делу обучая. По ноздри в глине жидкой ледяной ходил, сна не знал, а если и выпадало соснуть, то спал в обозе, под тулупом на крестьянской телеге, ежели и телега ещё была, а то и так, приткнувшись где ни есть — в овраге, у костра.
«Но теперь неприятель, — подумал царь, — от которого трепетали, сам ещё более трепещет, а эти всё скалятся…»
— Что стоишь? Перо, чернила подай, — сказал Пётр таращившему на него глаза денщику.
Когда здесь, в Париже, переговоры были окончены, Пётр решил обратить все свои силы на исправление Алексеево, считая дело то первостепенным после одержанной виктории в переговорах. Как камень тяжкий Алексей на шее висел. И камень тот надо было снять.
Понимал Пётр: врага за рубежами державы Российской здесь победили, но остался враг, сидящий в дому, — и сказать не враз можно было, кто страшней.
«В войне-то проще, наверное, — подумал Пётр, — враг виден. Вот он, перед тобой, на противоположных холмах стоит да ещё и в барабан бьёт. Смелость имей и иди на него со шпагой. А враг, что в доме твоём, в барабан не ударит и в горн не затрубит. Он как туман серый, и шпагой его не достанешь. Алексей — игрушка в руках чужих, воск. Но вот кто воск тот мнёт, знать надобно».
Царь написал:
«Мой сын! Понеже всем известно, какое ты непослушание и презрение воли моей делал и ни от слов, ни от наказания не последовал наставлению моему, но, наконец, обольстяся и заклинаясь богом при прощании со мною, потом что учинил? Ушёл и отдался, яко изменник, под чужую протекцию, что не слыхано не точию междо наших детей, но ниже междо нарочитых поданных, чем какую обиду и досаду отцу своему и стыд отечеству своему учинил.
Того ради посылаю ныне сие послание к тебе, дабы ты по воле моей учинил, о чём тебе господа Толстой и Румянцев будут говорить и предлагать. Буде же побоишься меня, то я тебя обнадёживаю и обещаю богом и судом его, что никакого наказания тебе не будет, но лучшую любовь покажу тебе, ежели воли моей послушаешь и возвратишься. Буде же сего не учинишь, то, яко отец, данною мне от бога властью проклинаю тебя вечно, а яко государь твой, за изменника объявляю и не оставлю всех способов тебе, яко изменнику и ругателю отцов, учинить, в чём бог мне поможет в моей истине».
Писал Пётр, не отрывая пера от бумаги. Писал быстро, но с каждым словом, казалось, из него уходили силы. Когда положил перо, боль в низу живота была нестерпимой. Казалось, воткнули под рёбра тупой нож и ворочали в теле без жалости.
Денщик присыпал написанное песком, стряхнул бумагу. Пётр сидел, прижав ладони к животу, словно дыру зажимал. Так было полегче. Когда приступ стих, царь взял в плохо слушающиеся пальцы перо, сказал сквозь зубы:
— Положи письмо. Я подпишу.
И криво и косо черкнул внизу листа: «Птр». На большее сил не хватило. В тот же день царя отвезли в Спаа на лечебные воды. Пётр был совсем плох.
За монастырскими стенами спать ложатся рано. Вечерний колокол отзвонит, и, перекрестивши лоб, смирный человек глаза закрывает. Будет ещё день, и богу молитву отдаст.
Колокол отзвонил. Тишина разлилась над монастырём. Травы побелели. Упала вечерняя роса.
Черемной у монастырской стены дрожал от холода. Руки ходуном ходили. От земли тянуло сыростью. Продрогнешь. Где-то осина скрипела, лопнувшая от лютых морозов зимой. Ни звука больше.
И вдруг: тук-тук… Застучало металлом о камень под аркой монастырских ворот.
Тук-тук-тук… И ближе, ближе. Черемной навострился. Но черно у стены. Ничего не разглядишь.
И опять: тук-тук-тук…
Фёдор качнулся, шагнул на тот стук. Увидел: из ворот монастырских тенью скользнул человек. И по камню клюки звонкие: тук-тук-тук.
Черемной пошёл следом. Человек впереди поспешал. Фёдор хмыкнул: «Эх ты… Голый Иван. Достиг всё же я тебя».
Взбодрился. На ходу-то потеплее стало. Да и дождался своего: значит, не зря дрожал под стеной. «Долго же ты бегал, Иван Голый, — подумал, — а поди ж ты, встретиться всё же пришлось. Верно говорят: сколько ни виться верёвочке, а конец будет».
…Лет десять назад на Ярославской дороге шалить начали неведомые люди. То одного купчишку встретили — деньги отняли и коней, то другого. Ну, думали, уйдут шалуны. А воровство росло. В одну из ночей тати, совсем страх потеряв, приступом взяли богатый целовальников двор, добро растащили, а людей побили. И детей, совсем малых, тоже побили.
Ярославская дорога к Троице ведёт. Места святые, а тут такое кровопролитие. Разбойный приказ на Ярославскую дорогу послал стрельцов, и они изловили татей. Привезли в Москву, и воровскому делу был назначен розыск. Фёдор Черемной в розыске том был. Записывал воровские речи.
Татей ломали без пощады. Детей побитых простить не могли. Но воры держались крепко. Особой дерзостью при пытке отличился Голый Иван — мужик, невесть откуда под Москву явившийся и татей тех собравший. Визжал Голый на дыбе, харкал кровью в лица ведущим розыск, но так ничего и не сказал. Установлено всё же было, что детей побил он своими руками и деньги целовальниковы он же спрятал.
Стали готовить для него колесо со спицами — орудие пытки страшное. На спицах и железные говорили. Но когда пришли за Голым в подвал, лежал он бездыханный. Колесо было ни к чему.
Голого бросили в сарай к побитым сотоварищам. Но наутро мёртвое тело татя не нашли. И вот Голый объявился. В монастырском юроде Фёдор его признал.
Юрод впереди клюками стучал. Шёл смело, в тень не хоронился. Поперёк согнутый человечишка-то, но клюки перебирал ловко. Вдруг Голый в сторону подался. Домишко стоял у дороги. К нему юрод и шагнул. Хозяином калитку отворил, вошёл во двор. Заборишко вокруг дома плохой: курица перешагнёт. Фёдору всё было видно. Да Черемной ещё и к самой огородке приткнулся, стал у столбика.
Юрод потоптался во дворе, дверцу какую-то отворил, и Фёдор услышал, как клюки по ступеням застучали. И так тише, тише и смолкли. Черемной понял: Голый в подпол спустился.
Баба на крыльцо вышла. Помои выплеснула из ведра. Зевнула на луну. Рот перекрестила, ушла. Черемной ещё постоял и перевалился через забор. Прошёл к подполу. Ступеньки вниз Вели, и там, внизу, в щель дверную свет пробивался. Фёдор неслышно шагнул на ступеньки. Умел Черемной и так ходить. До дверки спустился и чуть ладошкой мягкой дверку толкнул. Не знал, однако, что петли ржавые. Они и скрипнули.
Голый у свечи сидел согнувшись. Не поднимая головы, спросил ясно:
— Ты, Прасковья?
Фёдор не ответил. Ждал, пока Голый поднимет голову.
— Чего тебе? — повернулся тот.
— Ошибся ты. Не Прасковья к тебе пришла, — негромко, но со значением сказал Черемной.
Юрод вскинулся:
— Кто таков?
Рукой глаза от свечи заслонил. Так же тихо Черемной сказал:
— Ты не признаешь меня, а я тебя признал, Голый Иван. И словами теми как палкой ударил. Юрод к клюке метнулся.
Черемной остановил:
— Сядь. Я сломаю тебя. Силы у тебя не те, что были. Сядь… И юрод сел. В глазах у него вспыхнул огонёк свечи. Дикие глаза были, кошачьи. Но Черемной на то внимания не обратил. Обошёл свечу и стал напротив Голого:
— Поговорим.
Взглянул: что там, у свечи, юрод ковырял? Вокруг свечи лежали медяки. Но много, горкой.
— Что? — спросил Черемной. — Всё копишь деньгу-то? — Скривил рот: —А зачем?
Голый молчал.
— Ладно, — сказал Черемной, — привет я привёз тебе от отца протопопа церкви Зачатия Анны в Углу.
У юрода по лицу судорога вроде пробежала, и он клюку швырнул в угол. Хохотнул, как всхлипнул:
— А напугал-то, напугал… Вот напугал…
— Ты не веселись прежде времени, — сказал Черемной, — спроси лучше, откуда мне имя твоё известно? Ярославскую дорогу помнишь? Целовальника помнишь? Детей его, тобой побитых, помнишь?
Юрод попятился в угол. Крестом обмахиваясь, зашептал:
— Свят, свят…
— Не гнуси, — оборвал его Черемной, — то для глупых оставь. Садись! Спрашивать тебя буду, а ты отвечай.
Голый Иван рассказал, что старица Елена живёт в монастыре не по обычаю монашескому и иноческих одежд не носит. Сказал, что ходят к ней люди разные. Дворяне окрестные наезжают. И которые издалека также бывают. И ещё сказал, что старица Елена многажды к себе пускает, днём и по вечерам, Степана Глебова.
— А то зачем? — спросил Черемной.
— По бабьему делу, должно.
— Тьфу, — плюнул Черемной. — Ты говори, кто тот Степан Глебов?
— Капитан. Послан в Суздаль для рекрутского набору.
— Так, — протянул Черемной, — а письма, письма в Москву старица посылала?
— Носили письма.
— Об Алексее, царевиче, сыне своём, какие речи говорит?
— Не ведаю.
Нагнул голову, пряча лицо. Понимал: то похуже целовальникова воровства. Здесь за спицы сразу возьмутся. Тянуть не будут.
— А ты что кричал у церкви Анны в Зарядье, что здесь, в Суздале, на паперти выл?
— Не помню, без памяти был. Позвонки у меня поломаны, мысли заходятся.
— Вспомнишь, — сказал Черемной и поднялся, — всё вспомнишь. Позвонки мы тебе враз вправим. — Шагнул к лестнице. Сказал ещё: — Сиди. И из монастыря не высовывайся. Протопопу от тебя я слова передам.
Погрозил глазами и вышел. Решил так: Ивана Голого отдавать сейчас власти, чтобы заковали в железа, рано. И так будет сидеть молча. Напуган вдосталь. Клубок же весь — и монастырский, и протопопов — не его, Черемного, дело шевелить. То большим людям под силу. К светлейшему князю Меншикову идти надо, и идти не мешкая.
Царевич Алексей встретил Толстого стоя.
Пётр Андреевич неловко зацепился в дверях шпагой, но поправился и шагнул к царевичу бодро. Согнулся в поклоне низком. К наследнику пришёл престола российского, спину жалеть не приходится. Румянцев у дверей застыл и по чину офицерскому руку к треуголке поднёс.
Пётр Андреевич выпрямился и только тогда в лицо наследника взглянул. Где-то в чреве у Толстого жилка малая дрогнула: черты Петровы он угадал в Алексее сразу.
— Здравствуй, ваше высочество, — сказал Толстой совсем по-домашнему, мягко, как если бы те было говорено в Москве, а не в далёком замке Сант-Эльм у неведомого многим Неаполитанского залива, в чужом городе.
Но наследник промолчал. Пётр Андреевич прочистил завалившее горло, сказал:
— Имею честь передать, ваше высочество, письмо батюшки твоего, царя Великая, и Малая, и…
Осёкся. Царевич шагнул к нему и протянул руку.
От дверей грохнул ботфортами капитан Румянцев. Из-за отворота мундира выхватил конверт, передал Толстому. Пётр Андреевич полнее конверт царевичу. Румянцев отступил к дверям.
Толстой, глаз не поднимая на Алексея, слушал, как шуршала у наследника в руках бумага, как перебирал он хрупкие листки, на одном из которых стояла дрожащей от боли рукой начертанная косо подпись «Птр».
Письмо царевич прочёл. И голосом неуверенным — Толстой отметил — сказал:
— Сего часу не могу ничего ответить, понеже надобно мыслить о том гораздо.
— А что же, — осторожненько начал Толстой, — вводит тебя в сумнение, ваше высочество?
Алексей толкнул стул, сел. Сказал покрепче:
— Возвратиться к отцу опасно и перед разгневанное лицо явиться небесстрашно, а почему не смею возвратиться, о том письменно донесу протектору моему, его цесарскому величеству.
Пётр Андреевич лицом потемнел:
— Протектор твой — самодержец российский, Пётр Алексеевич. И другого протектора быть не может, ибо наследник ты престола его!
Брови густые Пётр Андреевич насунул на глаза хмуро и слова те произнёс с очевидным гневом. Знал: говорить так с царевичем не брёх пустой. Отец с сыном и помириться могут. Кровь-то одна. Помнил и другое: промеж двух глыб стоять нельзя — расшибут вдребезги. Но за державу Российскую обида его взяла. Вот ведь как получалось: у наследника престола российского протектором стал цесарь германский. Такого и не придумаешь.
Не сдержал себя Толстой. И Алексей взял круто. Заквасочка-то у него была Петрова.
— Батюшка мой царь над Россией, а я в землях австрийских. А ежели грозить мне будете и пугать чем-либо, то я под святую руку римского папы отдамся. Оттуда меня не возьмёте.
Но только больше старика разгневал. Пётр Андреевич вплотную к нему подступился, крикнул, колыша чревом:
— С кем говорю я: с царским сыном, российского трона наследником? Или с изменником страны своей, хулителем державы Российской?
И так яр был Пётр Андреевич Толстой, что Алексей, поднявшие со стула, попятился. Сила перла на него. Сила российская, несокрушимая, безудержная, непреодолимая.
— Батюшка твой, царь российский, земли воюет для народа своего и в ратном деле наитруднейшем кровь пролить не боится. На штурм крепостей, от мира Россию загораживающих, многажды со шпагой ходил, из пушек палил и солдат мужеством своим вдохновлял к виктории. А ты, ваше высочество, под руку чужую, говоришь, отдашься? Победам русского оружия бессмертным врагом выйти хочешь? Не слышал я тех слов! — И, от гнева распалясь, Толстой в пол каблуком стукнул. — Не слышал!
Повернулся и, не раскланявшись, пошёл к дверям. Даже не взглянул на царевича. Тот шагнул было ему вслед, но остановился, опешив от такой дерзости.
Так разговору хорошего и не получилось, но Толстой понял: царевич робеет — письмо-то в руках шуршало сильно, значит, пальцы некрепки были, и решить-то ещё, наверное, не решил ничего. Мечется. Понял и то, что в слабости своей Алексей зело опасен для державы Российской, так как легко может стать воровским орудием.
Подумал (матёр был Пётр Андреевич): «Ладно, подойдём с другого боку. Посмотрим, как он стоять тогда на ногах будет. Оно и горькая рябина слаще становится, когда её морозцем прихватит».
Фёдор Лопухин разговор с Александром Васильевичем Кикиным родне своей передал. Говорил с оглядкой, но всё же сказал: царевич вернётся и вспомнит, кто ему помощником в России был. А царь-де болен тяжко и, нужно думать, болезнь не осилит.
Весть ту понесла сорока на хвосте. Говорили таясь, косоротясь, но были и такие, что и не особенно речи скрывали. Русские люди поговорить любят о правителях своих.
В доме князя генерала Долгорукова сказывали, что в войсках российских, стоящих в Мекленбургии и в Польше, разговоры и недовольства и может то и к бунту привести. Солдаты и офицеры от дому, мол, долгое время отлучены и выступить готовы за царевича, который войну за приморские земли вести не хочет.
У Варвары Головиной — сестры бывшей царицы — говорили ещё определённее: за царевича стоят сейчас и цесарь германский, и король английский и переписка между ними есть и сговор — Алексея всенепременно посадить на трон.
Морок навели. Не разобрать, где выдумка, а где правда. В Москве такое бывает. Брякнет человек языком невесть что, слова его через сто дворов пройдут и к нему же вернутся, а он и рот раскроет:
— Ты скажи, что люди-то говорят… Вот новость… Морок… Морок… Тьма-тьмущая. И там и тут:
— Шу-шу., шу-шу…
— Подставь-ка ушко, кума, поближе… И опять:
— Шу-шу, шу-шу…
А молва как ржа — и корону съест.
Черемной, придя в Москву из Суздаля, подался к светлейшему. Денщик Черемного встретил.
— Ну что, — оскалил зубы, — крючок приказной, принёс?
Фёдор говорить поостерёгся, глазами по сторонам повёл. Денщик ещё шире рот разинул — весёлых людей князь для себя подбирал, — но повёл Черемного во внутренние покои.
Пришли. Комнатка тесная, двери закрыли плотно.
— Сказывай теперь, — сказал офицер.
— Поиздержался я, — ответил Черемной, — поручение князя выполняя.
Офицер только головой закрутил:
— Ну, крючок! Крыса жадная. Сказывай, а по новостям и плата будет. Я в Питербурх сегодня еду. Светлейшему сказки твои передам.
Черемной помялся малость. И словами пострашней рассказал, что был в Суздале. Разузнал от людей знающих, что бывшая царица блудно живёт и монастырских порядков не придерживается. Сказал и о капитане Глебове Степане. О письмах выложил, что от старицы в Москву и Петербург и к ней людишки, хоронясь, носят. О гостях, сиживающих подолгу в келье бывшей царицы, тоже сказал.
Посмотрел на денщика, а тот, хотя и молодой и весёлый, понял всё ж, что донос сей людям голов стоить будет. Сунул Черемному золотых горсть, и Фёдор порадовался, что не всё высказал. Есть и ещё вести, и, может, опаснее: о протопопе церкви Зачатия Анны в Углу, о юроде и криках его воровских. «Те известия, — подумал Фёдор, — я сам князю поведаю, и он раскошелится».
Денщику сказал так:
— Передай светлейшему: следок я нашёл. Следок верный, но о том, выведав всё, сам в Питербурхе его особе скажу.
Вышел походочкой лёгкой из княжьего дома. Доволен был: в кармане денежки весело звенели да и думка была, что ещё получит звонких таких кругляшков немало.
«Хорошо, — сощурился на прохожих людей, — видишь, как жизнь-то распоряжается… Время пришло, и мне счастье привалит».
* * *
…Царевич маялся. Напугал-таки его Пётр Андреевич. Сильно напугал. Не спал ночами Алексей, и под загаром неаполитанским синяки у него под глазами угадываться стали. Во сне стонал. Ефросиньюшка его будила:
— Что с тобой, Алёшенька?
— Ефросиньюшка, — шептал царевич, — может, нам в Рим, к папе ехать? Папа примет.
Об оконную раму, как лапой когтистой, листом широким шлёпала, царапалась непривычная пальма. Тревожно так скреблась, неспокойно. Птицы неведомые кричали. Петуха бы за окно, голосистого, российского. Он бы успокоил. Но только ветка чужая царапала, скребла душу.
Ефросинья опиралась локотком на подушку, задумывалась. Беременна была, мысли рождались не сразу. Тоже ведь суетность бабья: дитя, мол, всё покроет. Поторопилась. А ведь и царицы, бывало, плод травили, не под венцом нажитый. Дитя — душа, конечно, живая, но от беды не загородит.
— Нет, — говорила, — тебя папа, может, и примет, а со мной будет как? Кто я тебе? Девка? И на дитя не посмотрит. Здесь пересидим. Цесарь оборонит.
— Оборонит, думаешь?
— Кейль говорил, что ты для цесаря важная персона.
— Оборонит, — повторил Алексей, веря и не веря, — в Кейле сомневаюсь. Он лукавый.
Алексей вскакивал, шептал горячо совсем страшное:
— А может, в Стокгольм пробиться? К Карлу шведскому? Мне друзья говаривали с ним корону российскую воевать. — Руками за Ефросинью хватался: — Ну?
— Какой уж ты вояка, Алёшенька? То не твоё дело. — Ефросинья смотрела на царевича с сомнением.
— Нет, — говорил Алексей, распаляясь, — Карл батюшке моему враг смертельный, и я ему, значит, подмога добрая.
Свеча горела, потрескивая, на стенах качались тени.
А ведь видел царевич шведом сожжённые русские деревни. Ребятишек с льняными головами видел, на пепелищах воющих. Разграбленную, испоганенную, истоптанную войной землю видел. Но, не боясь мысли изменничьей, не думая, что воевать-то надо против родины своей, Алексей прикидывал:
— На дилижансах почтовых проехать можно инкогнито, в платье чужом. До Парижа добраться только, а там уж рукой подать…
И в пляшущих на стене тенях рисовалась ему дорога, скачущие кони. Но тут же вспоминал царевич непреклонные глаза капитана Румянцева. Они смотрели в упор. Не мигая, как тогда, на дороге в Неаполь, и Алексей понимал: тот настигнет везде, не остановится ни перед чем, и от него не уйти.
Алексей срывался с постели, падал на колени, молился долго:
— Боже всемилостивейший, защити меня, помоги мне… И шептал чуть слышно: — Прибери, боже, отца моего. Здоровьем он слаб… Своё пожил… Господи, услышь меня…
— Хватит шептать-то, — говорила Ефросинья, — молитвой не много выпросишь.
Алексей поворачивал к ней тёмное лицо:
— Я сын царский. Мне до бога ближе. Меня услышит. Поднимался с колен, ложился в постель, тушил свечу. Лежал в темноте с открытыми глазами. Решил: «К батюшке не поеду. Здесь перебуду или ещё где. Защитников найду. — Упрямо морщил лоб: — Не поеду».
— Боже, — шептали Алексеевы губы, — помоги же мне… Помоги…
И просил, и требовал помощи божьей, и опять просил.
Пётр Андреевич Толстой время на пустяки не тратил.
Чутьё подсказывало ему: надо торопиться. Близились переговоры со шведами, и Пётр Андреевич боялся, крутил головой сокрушённо: не использует ли Карл в той игре Алексея?
— Глупости может наделать наследник, — говорил он, — а цена им — кровь русская.
И по домам чиновничьим, что объехали однажды с Румянцевым, покатили они в другой раз. Только сейчас одним разглядыванием оных Пётр Андреевич не удовлетворился. У тех, что повыше да побогаче, карету останавливал и посылал Румянцева вперёд, сказать хозяевам, что пожаловал российский вельможа знатный, дипломат Толстой. Хозяева высыпали к коляске. Пётр Андреевич сиял лицом, как ясное солнышко. И людей-то тех видел впервые, но и глазами, и жестами, и словами выказывал, что роднее и ближе нет у него никого на свете.
Дамам обязательно целовал ручки. Но надо было видеть, как целовал. Иной ткнётся в руку не то подбородком, не то носом, как клюнет, да ещё и руку-то пальчищами своими придавит или прищемит, того хуже. А потом и вовсе руку оттолкнёт, будто обжёгся или горького хватил. Не таков был Пётр Андреевич. Ручку дамскую брал нежно, как нечто невесомое и, уж безусловно, драгоценное. В глаза смотрел выразительно, с обаянием, словно подобных глаз он и не видел никогда и только в то мгновение открылось перед ним некое таинство, волшебство, очарование. Склонялся к руке Пётр Андреевич прочувствованно, как к святыне. Губы прикладывал не то чтобы жадно, но всё же энергически и, приложившись так, выдерживал именно то время, которое было бы и прилично и вместе с тем свидетельствовало, что отрываться от того блаженства ему явно не хочется.
Дамы цвели.
Хозяину после приличествующих поклонов Толстой пожимал руку. И то он делал тоже по-особенному. Руку брал властно и сильно, но вместе с тем в пожатии сразу же чувствовалось почтение, выказываемое мужу государственному, незаурядному уму, человеку, преуспевающему в жизни благодаря выдающимся способностям. Притом Пётр Андреевич глядел на хозяина дружелюбно, откровенно, с уверенностью, что здесь-то уж он обязательно будет понят, так как посчастливилось ему видеть перед собой лицо, исключительное во всех отношениях. Хозяин невольно ощущал прилив сил, распрямлял плечи, вскидывал горделиво голову, выкатывал грудь. Хотя многим из чиновников выкатывать её и не следовало бы, так как всякому человеку помнить должно: выкатывают только то, что выкатывается, и всегда лучше оставить в тайне то, что, ставши явным, не в пользу хозяина глаголить станет.
В окружении дам, ведомый под локоть хозяином Толстой вступал в гостиную. Подавали кофе. Пётр Андреевич подносил чашечку к губам, прихлёбывал малую толику и проглатывал не спеша, как если бы то была амброзия.
Поговорив должное время с дамами, Пётр Андреевич с поклоном поднимался из-за кофейного столика, брал хозяина под руку и молча, но совершенно очевидно готовясь к чрезвычайно важному разговору, прогуливался по комнате. Пройдясь так под руку с хозяином раз пять, удалялись они для беседы в кабинет.
Можно было думать, что засидятся они за разговором долго, но Пётр Андреевич на беседу тратил самое малое время, выходил решительно из кабинета и, улыбаясь, следовал прямо к карете.
Румянцев заметил, что каждый раз, когда они отъезжали от очередного чиновничьего дома, Пётр Андреевич запускал руку под камзол, где хранил кожаный мешочек с золотом, ощупывал его и крякал:
— Угу…
Об экскурсиях Петра Андреевича Алексей не знал ничего, но уже через день-два почувствовал, как на него пахнуло холодком. Прислуга, более чем почтительная и угодливая, стала выказывать знаки неуважения. Старик камердинер — холёный австрияк с висячими бакенбардами, — всегда гнувшийся низко, неожиданно обрёл не свойственную ему крепость в спине. Будто гвоздь ему между сухих лопаток забили и он прострелил его до поясницы, и хоть ты кричи, а спина не гнулась. Иные слуги, поплоше, стали тарелки на стол подавать руками неловкими. Но тарелки мелки, может, и впрямь скользят меж пальцев и падают где ни попало, но, казалось бы, куда уж как не иголка поднос серебряный в полпуда весом, однако и тот выскальзывал из рук и всё норовил на колени Ефросиньи свалиться. На третий же день — ужинали не на галерее открытой, а где подали, в душной зале, — Ефросинье в подол опрокинулся кувшин с вином. Ефросинья вскочила, а платье на ней красным залито, как кровью. Страшно Алексею стало.
Кейль птицу какую-то ел и чуть не подавился костью. Ефросинья вскрикнула дико и убежала. Алексей, как прирос к стулу, подняться не мог. Ноги ослабли. Кейль, с костью кое-как справившись, встал. Лицо растерянное. С минуту молча смотрел на наследника, а затем, заикаясь и досадливо морщась, сказал:
— Ваше высочество, должен сообщить вам, — здесь он передохнул, — я имею повеление выдворить из замка Сант-Эльм вашу даму.
Кейль проглотил слюну и — смелый, видать, был дворянин-то, высокой, рыцарской крови, — пряча глаза, продолжил:
— Цесарь Германской империи взял под свою руку вас, ваше высочество, как наследника российского престола. На прочих лиц покровительство его распространяться не может.
— Что? — крикнул Алексей. — Что ты сказал? Наследник подбежал к Кейлю и вцепился руками в пышное кружево жабо:
— Лжёшь, лжёшь, негодяй…
— Ваше высочество, ваше высочество, — забормотал Кейль, — ваше высочество…
Алексей тряс секретаря, как крестьянин осеннюю грушу. Лицо Кейля моталось из стороны в сторону бледным пятном.
Наследник отпустил секретаря и бросился бегом через залу. Кейль поспешил за ним:
— Ваше высочество… Постойте! Куда же вы?
Алексей распахнул дверь залы, выскочил на лестницу. Крикнул:
— Мне не надобно покровительство цесаря, я еду в Рим! Побежал по ступенькам вниз. Под гулкими сводами замка отдалось эхом: «В Рим… в Рим… в Рим…» Дробью простучали каблуки. И вдруг царевич словно о стену ударился. Сверху крикнула Ефросинья:
— Алексей! Алёшенька, а меня-то ты забыл? Как же я-то? Она стояла на верхней ступеньке, с подсвечником в руках.
Свет свечей колебался, но всё же ясно освещал и лицо и фигуру.
Алексей повернулся. Взглянул на неё. И вновь увидел на платье багровое пятна, будто ножом пырнули в сердце его ненаглядную Ефросинью и кровь молодая, сильная, яркая брызнула ключом. Алексей взялся руками за голову и сел на ступени лестницы.
…На петербургской верфи спускали восьмидесятипушечный корабль. Светлейший — хмельной с утра — ходил по специально сбитому помосту и покрикивал. Весёлый был и злой. Когда поворачивался, букли парика разлетались бешено в стороны, только что искры не сыпались.
Восьмидесятипушечный красавец стоял на стапеле как игрушка литая. Мачты, стрелы тонкие, казалось, вонзались в голубой свод — так непривычно были высоки. Борта, мягкой дугой сбегавшие книзу, лоснились от смолы, словно лакированные.
— А-а-а? — шумел Меншиков, наступая на голландского инженера, топтавшегося здесь же на помосте. — Хорош? Скажи, хорош?
Тот пыхтел трубкой.
К Меншикову протолкался сквозь толпу денщик. Светлейший глянул на него, спросил удивлённо:
— Что так спешно из Москвы-то сбежал? Посидел бы уж… У денщика лицо заморённое, скакал, видно, поспешая. Он наклонился к уху князя и шепнул что-то тайно. Улыбка сошла с лица светлейшего. Он отстранил денщика, сказал:
— Постой.
Пошёл по берегу. Под ногами хрустели свежие щепки, солнце яростно било в лицо, ослепительно блестело море.
— Хорошо-то как, — сказал Меншиков, — хорошо! — И пожалел: — Петра Алексеевича нет…
Когда карета светлейшего поднялась на высокий взгорок, князь ещё раз взглянул на судно. Корабль был и вправду хорош: строен, крутобок, лёгок. «Лебедь, — подумал Меншиков, — как есть лебедь. А ещё паруса наденут… Точно птица волшебная».
Карету тряхнуло на ухабе. Меншиков отвернулся от окна, сказал денщику:
— Говори.
Денщик, понизив голос, передал слова Черемного. Меншиков выслушал не перебивая и, только когда денщик смолк, спросил:
— А где крючок-то, подьячий?
— Сказывал, что след важный нашёл и, уж до конца его пройдя, объявится и всё сам расскажет.
Меншиков побарабанил пальцами по коленке, протянул задумчиво:
— Много наворотил крючок, много… Фёдор Черемной… — Светлейший посмотрел на денщика глазами голубыми, холодными, сказал: — О речах подьячего никому ни полслова. Царь в Варшаве уже. В Питербурхе будет днями. Ему и обскажешь.
Понимал светлейший: всё круче и круче заворачивается дело с наследником.
Граф Шенборн любил шахматы. Эта старая индийская игра доставляла ему истинное наслаждение.
— Шахматы, — говорил граф, — пир для ума.
Шенборн никогда не торопился, разыгрывая партию. Граф внимательно изучал позицию противника и, заглядывая на много ходов вперёд, оценивал сильные и слабые стороны шахматного воинства партнёра. Мысленно Шенборн пунктиром простреливал доску, жившие только в его сознании линии взламывали оборону противника, и уже в начале партии он видел, как привести короля партнёра к последнему пределу.
Шахматная доска для графа не была зелёным полем, по которому перемещалась артиллерия, скакали полки драгун, чёткими каре стояла пехота. Он не видел клубов белого порохового дыма, вырывавшегося из стволов пушек, и не слышал голосов горнов, зовущих армии в атаку. Нет! Шахматная партия была для графа пересечением абстрактных геометрических фигур, мгновенным столкновением быстрых, как огненная вспышка, импульсов мысли, взрывом идей. Беззвучный, бестелесный вихрь за тонкой височной костью. Без лязга сабель, звона шпаг, грохота мушкетов. Можно поднести руку ко лбу и ощутить только мягкий ток крови в слабой жилке. И всё.
Граф, как правило, играл лёгкими фигурами. Его пешечный строй теснил противоборствующие ряды, оборачивал их вспять, разрывал узлы обороны, открывая путь к победе. И только когда партнёр был на грани поражения, граф вводил в бой тяжёлые фигуры. Они наносили последний, завершающий, неотразимый удар.
В жизни граф поступал так же, как за шахматной доской. Партию с наследником русского престола он мысленно проиграл всю до конца. Правда, надо учесть, что всё началось слишком неожиданно и первые ходы были случайны, но вины Шенборна в том не было. Наследник свалился на него как снег на голову. Дальше Шенборн повёл партию по нужному руслу.
В дебюте графу противостоял русский посол в Вене Веселовский. Шенборн с первого же хода прочёл всё, что сможет ему предложить на шестидесяти четырёх полях скучный резидент. Позже возник новый человек — офицер Румянцев. Шенборн не видел его, но действия Румянцева показали, что то энергичный, стремящийся без компромиссов к победе противник. Он доставил графу хлопот, но тоже не представлял опасности. Затем вступил в игру граф Толстой.
Шенборн знал, что такого медведя царь Пётр не спустит с цепи без обстоятельств чрезвычайных, но всё же встретил Петра Андреевича не без улыбки.
Вице-канцлер вспомнил о той улыбке и нервно поднялся с кресла. Прошёлся по кабинету. Граф умел смотреть правде в глаза и сказал себе: «Улыбка была преждевременной и самонадеянной». Толстой всё смешал на доске. Чётко намеченные линии прервались, и многоходовые комбинации потеряли смысл, так как не вели уже к задуманному окончанию. Партия, успешно развивавшаяся, потеряла логическую стройность, и на доске Шенборн, к стыду своему, увидел только развалины так старательно выстроенной им позиции.
Вице-канцлер остановился у полотна Фрюауфа Старшего — гордости своего собрания. Краски полотна вносили в душу человека покой и тихую радость. Трудно сказать, каким волшебством мастер пятнадцатого века достигал такого эффекта. Но всегда, когда море бушевавших вокруг страстей начинало захлёстывать Шенборна, вице-канцлер приходил к старому мастеру и обретал душевное равновесие.
Но сейчас и Фрюауф Старший не приносил желаемого успокоения. Шенборн понимал: русский медведь вырывает добычу у него из рук. Игру, где ставка ни больше ни меньше чем наследник российского престола, он — вице-канцлер Германской империи — проигрывает. А проигрывать ему не хотелось. Ох не хотелось... Шенборн подумал: «Партия окончена только тогда, когда король положен на доску. Я своего короля ещё не положил».
…К Петербургу поезд Петра добрался на рассвете. Шёл затяжной, октябрьский холодный дождь. Но Пётр велел остановить возок и вылез на дорогу. Огромный, в чёрном, коробом стоящем голландском кожаном плаще царь ступил в грязь, поскользнулся, выругался сквозь зубы и шагнул к опущенному шлагбауму. Встал, вцепившись руками в черно-белый брус.
Солдат у шлагбаума узнал Петра и вытянулся столбом. С залива порывами налетал резкий, с снежной крупой, злой ветер. Сёк, мял лужи, гнул к земле хилый осинник, поднимавшийся редколесьем за придорожной канавой. Лицо у солдата было синим от холода. Но Пётр головы к нему не повернул, а как остановился у шлагбаума, так и стоял, вглядываясь в пелену ненастья, закрывшую город.
За дождём трудно было что-то увидеть, но царь всё же разглядел за серой колышущейся сеткой купол Троицкого собора, угадал сооружения Адмиралтейства и Петропавловской крепости. Больше года не видел он Санкт-Петербурга, и вот вновь город был перед ним.
Дождь бил по лицу царя, барабанил по жёсткой коже плаща, но Пётр всё стоял и смотрел.
Пашка Ягужинский[48] — царёв денщик — тревожно выглянул из возка, крикнул:
— Пётр Алексеевич, едем, что ли? Или как? Пётр повернулся к нему, ответил:
— Постой.
И тут увидел бледного от холода солдата. Тот стоял по-прежнему как вкопанный.
— Ну, здравствуй, — сказал, шагнув к нему, Пётр. — Рожу-то вытри. Мокрая. Давай поцелуемся.
И сгрёб растерявшегося солдата в охапку, прижался губами. Отстранившись, крикнул Ягужинскому с просветлевшим вдруг лицом:
— Чем орать попусту, водки, водки налей служивому! Застыл на ветру. Совсем застыл.
Пашка нырнул за кожаный верх возка и тут же высунулся с кружкой. Чего-чего, а водка у Ягужинского всегда была под рукой.
Пётр влез в возок, сказал:
— Трогай.
Поезд потянулся через шлагбаум. За царёвым возком катило ещё с десяток. И из каждого выглядывали лица — довольные, смеющиеся, радостные. Как же иначе: домой приехали! Солдат, ещё обалдевший и от неожиданной царской ласки, и от выпитой водки, улыбаясь, подумал: «Весёлые едут, смотри ты, весёлые».
А Пётр был невесел…
В ту ночь останавливались отдохнуть после трудной дороги на чухонской мызе. Петру постелили на лавке у печи. Здесь было теплее, а царь, хотя и пил лечебные воды в Спаа, чувствовал себя всё ещё неважно.
Пётр уснул, как только лёг на лавку. Но спал недолго. Проснулся среди ночи и глаз больше не сомкнул. Казалось бы, и блохи не жрали, и под тулупом угрелся хорошо, а сна не было.
В комнате пахло свежевымытыми полами — мыза была на удивление чистой, — от печи тянуло теплом, негромко, с осторожностью посапывал носом денщик на рогожке у дверей. Во сне чмокал губами, будто титьку сосал. «Совсем малец», — подумал Пётр и неожиданно вспомнил, как впервые увидел сына своего Алексея.
Царевича показали ему на третий день после рождения. Мамка, старая боярыня, но всё ещё крепкая, ладная, вынесла его к Петру и с поклоном передала с рук на руки. Пётр принял сына, и мягкий, тёплый комочек привалился к груди, лёг молча, вроде бы и не дыша. Боярыня откинула с его личика простынку, и Пётр увидел лицо сына. Царь хотел было наклониться и поцеловать младенца, но боярыня недовольно заворчала и отняла у него царевича. Пётр был так растерян, что отдал сына беспрекословно.
Сейчас, лёжа у печи на чухонской незнакомой мызе, ему мучительно захотелось припомнить увиденное много лет назад лицо Алексея. Но как он ни напрягал память, не смог припомнить. Он видел другое: бледное, испуганное, злое лицо царевича, уже длинноногого, длиннорукого, нескладного мальчика, которого он однажды хотел поругать за малое старание, проявляемое к учению. Но только два слова сказал, увидел искоса брошенный недобрый взгляд и замолчал. Алексей опустил голову, ссутулил узкие плечи и словно стеной отгородился от отца. Пётр взял его за слабую спинку и поставил между колен. Голосом добрым заговорил о пользе учения для человека, которому богом назначено царствовать над людьми. Но царевич выставил колючие локти и только сопел носом. И слова путного выжать из него не смог отец.
Царь отпустил Алексея. Бывший тут же учитель царевича, Никита Вяземский, начал было: «Образуется…» И смолк.
Пётр повернулся, на лавке, и под телом тяжёлым лавка заскрипела. Денщик, как подброшенный, вскочил с рогожи.
— Огонь вздуй, — сказал Пётр.
Топая ботфортами, денщик прошёл торопливо к оконцу, затянутому бычьим пузырём, повозился там с минуту и зажёг свечу. Поднёс к лавке.
Пётр потянулся к свече с трубкой. Прикурил и лёг вновь на лавку, попыхивая дымком. Денщик постоял рядом, ожидая, чего ещё пожелает царь, и отошёл. Поставил свечу на стол. Сел. На стену легла тень от его головы: курносый нос, всклокоченные волосы, косо торчащий ворот мундира.
— Вань, — позвал царь, — скажи-ка, у твоего отца деревенек много?
Денщик вскочил, шагнул к лавке:
— Три деревеньки. Под Тверью две и одна под Калугой. От брата перешла.
— А мужиков сколько?
— Триста душ, — ещё не понимая, к чему клонит царь, ответил без запинки денщик.
— Чем мужики промышляют?
— Тверские льном заняты, рожь тоже сеют, пчёлки по дворам есть. Калужские — там другое: овечек больше разводят, скот молочный. Покосы у них хороши.
Сена много. Они сено-то в Москву возят и через торговлю ту прибытки имеют хорошие. Овсы взращивают.
— Так...— протянул Пётр. — А у тебя соображения насчёт хозяйства какие?
Денщик заторопился:
— Да я отцу много раз говаривал: рожь тверским забросить надо. Землю только по-пустому занимают. Им на лен бы налечь. Льны у нас — шёлк истинный. Цены нет. В Москве полотняные заводы с руками те льны рвут.
И так загорелся, рассказывая, что прямо к лицу царёву подступил:
— Озолотились бы льнами только. А калужским больше надо на овсы налегать. Здесь батюшка прав. И для армии в Москву возим, да и так купцы берут хорошо. А овчина тамошняя всегда в цене была. Вот только бы надо торговлишку свою в Москве иметь. Не через чужие руки торговать.
Царь прервал его:
— Лет тебе, Ваня, сколько?
— Двадцать, — оторопело ответил денщик: о хозяйстве разговорился, а царь перебил.
Пётр затянулся глубоко, пыхнул в потолок клубом, сказал:
— Молодец ты у батюшки своего.
Прибавил:
— Письмо будешь ему писать, от меня привет передай.
И замолчал надолго. Думал: «Вот бы Алексей так государственное дело разумел и так о нём пёкся. Кручины бы я не знал».
Сказал:
— Поднимай всех. Хватит дрыхнуть. — И ноги с лавки сбросил...
...Поезд царский миновал шлагбаум, и Ягужинский спросил Петра, приткнувшегося в углу кареты:
— Пётр Алексеевич, сейчас куда же?
— На Васильевский, — ответил Пётр, — к Меншикову.
* * *
…Слово, один раз сказанное, крепко, а трижды повтори его, и силу оно теряет. Пётр Андреевич помнил то и к царевичу идти не спешил после памятного разговора с криком. Но знал он о здешней жизни царевича, почитай, всё. О том, чтобы каждый шаг Алексея Толстому был известен, беспокоился офицер Румянцев и глаз с царевича не спускал. В каминные трубы дворца Сант-Эльм он не лазил — хотя при нужде мог бы Румянцев и сей подвиг совершить, — но, подружившись с офицерами охраны замка, часто и помногу попивал с ними славное итальянское киянти.
У киянти немало исключительных качеств. Во-первых, оно хорошо утоляет жажду. Во-вторых, вызывает огромный аппетит. В-третьих… Но так можно перечислять до бесконечности. Назовём же ещё только одно из чудесных качеств киянти: вино то пьётся в количествах совершенно невероятных, если оплачивается из чужого кармана. Подметив сие выдающееся свойство итальянского вина, Румянцев смог проникать даже в самые дальние уголки замка Сант-Эльм. Больше того, киянти настолько обострило его слух, что и на значительном расстоянии слышал он тишайшие шёпоты в стенах замка.
Узнав от Румянцева о конфузе, случившемся в Сант-Эльме во время ужина, когда царевич чуть не сбежал к папе римскому, забыв свою Ефросиньюшку, Пётр Андреевич решил, что время для следующего визита к наследнику российского престола подошло. Часы пробили три четверти часа, и остались до визитования лишь считанные минуты. Но и то оставшееся время он решил заполнить некими действиями, с тем чтобы ещё более подтолкнуть наследника на желаемый путь.
И вновь, не щадя себя, он объехал гостеприимных неаполитанских чиновников, страстно желавших остаться с Толстым с глазу на глаз хотя бы и на одну минуту. Правды ради следует отметить, что беседы с глазу на глаз не есть исключительная привязанность чиновников только неаполитанских, чиновники и других народов не менее способны к таким высокомудрым беседам. Любовь та к значительным разговорам зародилась у чиновников ещё со времён Ноя и Хама и животрепещет, неутолённая, по сей день. Постоянство, поистине вызывающее удивление.
Через день-два в замке Сант-Эльм и дичь, и рыба, и мясо, из коих готовились блюда к столу царевича, претерпели заметный урон не только в количестве, но и в качестве, так что, набрав ложку супа, Ефросиньюшка настороженно принюхалась и ложку на стол положила. Рассеянно хлебавший наследник взглянул на любушку свою, пожевал губами и тоже почувствовал вдруг, что суп приванивает. Аппетит у царевича враз пропал.
В тот же вечер камины в комнатах царевича задымили, будто трубы кто заткнул наглухо. И уж что только ни делали: и кошку проволочную в трубу опускали, и гирей пудовой дымоходы чистили, — дымят камины, хоть тресни. В дыме и наследник и дама к утру угорели. Ефросинья вышла из спальни с прозеленью в лице. А царевич и вовсе едва голову смог поднять. Но головная боль, хотя мозги трещат и височные кости наружу выпирают, всё же пустяк. Выйдешь лишний раз на широкую галерею, открытую на Неаполитанский залив, и, рот разинув пошире, подышишь благодатным воздушком — боль и пройдёт. А может, правда, и задумаешься, жабры распустив, как рыба: хорош-то он хорош, воздух над Неаполитанским заливом, а в Рязани, гляди ты, может, и лучше. А уж наверное каминов там проклятых понастроили куда как меньше…
Крутилось, одним словом, колесо, Петром Андреевичем запущенное. Прямо скажем, что твой вечный двигатель. И поди ж ты, сколько речей вели о таком двигателе прекрасном, какие умы мечтаниями загорались, прожектов разных строилось великое множество, и всё пустым оборачивалось. А Пётр Андреевич только всего и делал, что во время беседы многодумной вытащит на минутку из-под камзола мешочек кожаный, непустой, и на тебе — вертится колесо. Чудо, да и только.
Отдышавшись кое-как от угару, царевич опять кричал на Кейля, топал ногами, бегал по комнатам и галереям. Пётр Андреевич, узнав о том, решил — пора и в тот же час испросил аудиенции у наследника.
Между прочим, собираясь в замок Сант-Эльм, сказал Румянцеву:
— Полагаю, что житьё наше в сём замечательном граде к концу подошло. Побеспокойся, дружок, пока я с наследником разговоры вести буду, к замку карету подогнать, способную для дальней дороги.
С тем и вышел, поправив звезду на груди.
Алексей, как и в первый раз, встретил Петра Андреевича стоя. Толстой, как вошёл, сдёрнул с головы шляпу и, стеля перьями по полу на французский манер, поклонился наипочтеннейше, подчёркивая тем самым, что, может быть, для кого-либо стоящий перед ним человек и гость нежеланный, которому и суп с тухлятиной подать можно, а для него — наследник престола и особых знаков уважения заслуживает.
Но прежде чем склонить голову, Пётр Андреевич от дверей ещё на Алексея глянул внимательно и, пока стоял склонившись, в мыслях прикинул: «Лицо царевича осунулось от прежнего разу, и бледности поприбавилось». Заметил и то, что колено у царевича подрагивает, а руки он за спину сунул, и неспроста, наверное, а дабы волнение не выказывать. И ещё более в решении своём утвердился: «Сегодня же надо всё и кончить».
Выпрямился и с лучезарной улыбкой сказал:
— Ваше высочество, батюшка твой Пётр Алексеевич, царь Великая, и Малая, и Белая России, привет передаёт и просит сказывать, что сам скоровременно в сию страну после успешных переговоров в Париже проследовать изволит.
Слова те царевича будто подстегнули. Он сорвался с места и побежал по комнате. Остановился у окна. Повернулся, взглянул на Толстого расширенными глазами.
— И ещё просил передать Пётр Алексеевич, — ровно продолжил Толстой, — что отдан им приказ о сборе войск в Польше, дабы готовы были к походу в Саксонию. Сие будет сделано, ежели цесарь германский воспрепятствует твоему возвращению на родину.
Царевич прижался к подоконнику.
— Нет! — выкрикнул. — Я в Россию не вернусь! И отсюда уйду. След скрою. Протектора найду нового!
Толстой стронулся с места и, тяжело ступая по навощённому паркету, пошёл на царевича. Если бы было куда отступить, Алексей отступил бы, но в спину вдавился мраморный подоконник. Царевич отвернулся от Толстого, вцепился руками в раму.
— Я не уеду отсюда, — сказал Пётр Андреевич, — пока не доставлю тебя отцу, живым или мёртвым. — И повторил: — Живым или мёртвым. Я буду следовать за тобой повсюду, куда бы ты ни пытался скрыться. Ежели ты останешься, то отец будет считать тебя изменником. — Толстой, отступив шаг назад, добавил: — Ну, решай!
Пальцы царевича закостенели на раме. И та точенная искусно, покрытая золотом рама была как решётка, отгораживающая от него мир.
За окном благоухал сад. Мёдом сладким наполняли воздух поздние глицинии. Яркой зеленью сверкали пинии, а дальше, за садом, синим светило море…
«Вырваться бы отсюда и полететь, — подумал царевич, — полететь». Но за спиной тяжело дышал Пётр Андреевич Толстой, и царевич затылком чувствовал его дыхание. «Вот-вот вцепится, — мелькнуло в голове. — Волк ведь, волк».
— Письмо я напишу батюшке, — сказал он, прижавшись лбом к стеклу.
— Пиши, — чуть помедлив, ответил Толстой, — садись и пиши. Ждать нам времени царь не дал.
На негнущихся ногах подошёл Алексей к столу, сел. Но прежде чем взять перо, сказал:
— Я поеду к отцу с условием, чтобы назначено было мне жить в деревнях и чтобы Ефросиньи у меня не отнимать.
Тяжело ему было сказать те слова, ибо крест-накрест перечёркивал он свою мечту о троне, лелеянную много лет в самой потаённой глубине сердца. Жаркую, страстную, до боли желанную мечту. Ох как тяжело… Властолюбив человек и к трону готов идти и по телам мёртвым. Известно, что ступенями лестницы к месту тому высокому были и кинжалами заколотые, и отравленные, и зашибленные, и замученные в застенках матери, отцы, братья и сёстры единоутробные. В стремлении подняться над людьми не считает человек преступным ни ложь, ни попрание клятвы, ни кровосмешение. Нет греха, который бы он не взял на себя в жажде власти. Так было, так есть, и не ведомо никому, какую и чем наполненную чашу должен испить человек, чтобы, утолив ту жажду, сказать: «Сыт!»
А может быть, и нет такой чаши и напитка такого нет? И не нужны человеку ни чаша сия, ни напиток тот? Кто знает?
Толстой стоял молча, пока перо скрипело в руке царевича. Когда же наследник подписался: «Всенижайший и непотребный раб и недостойный называться сыном Алексей» — и поставил точку, Пётр Андреевич сказал:
— Карета для дальней дороги приготовлена.
Над Суздалем малиновый звон. В монастырском храме большая служба: свечи горят, освещая лики святых, мигают огоньки, переливается свет, и оклады икон тяжёлые вспыхивают бликами, сверкают драгоценными камнями. Славен храм сей старыми иконами и иконостасом резным редкой красоты.
— …О прощении грехов наших, о даровании благодати по-мо-лим-ся-а-а, — взывает голос, и монашки головы опускают, клонятся, великопостницы, как серый камыш под ветром. Крестятся торопливо, тыча пальцами, воском закапанными, в плоские груди, лбы, морщинами изъеденные. Падают на колени. Лица истовые.
В храме тесно от людей, душно. У самого алтаря, на первом месте, старица Елена в тёмной одежде монашеской, надетой впервые. Молится бывшая царица, склоняется до полу вместе со всеми. На иконы глядит старица, и губы её шевелятся, но в голове не слова молитвы, что на устах.
Известно ей: Пётр уже в Петербурге. И не болен вовсе, как сказывали, а выглядит крепче прежнего. Приехал недобрый, говорит мало и какие мысли привёз — неизвестно. О сыне же, об Алексее, Алёшеньке, вестей нет. Где он — неведомо. И не только люди верные о том беседы вели, но и гадания вещали: быть, быть ему на царстве. В Москве и Петербурге шумели: мол, с Кукуя немцев да французов разных вон выбить надо, старые порядки завести и зажить миром да ладом в тишине и покорности. Так, чтобы знать свою жизнь от первого до последнего шага и ещё во младости увидеть место на погосте, где ляжешь ты рядом с отцом своим и матерью своей. Без сутолоки иноземной, сумасшедшей спешки, бесу лишь лукавому потакающей, как прадеды и деды жили, что без молитвы и святого креста и шагу не делали.
Мечутся, мечутся мысли в голове у старицы Елены: «А что же теперь? Кто скажет?»
Сиживали в келье у неё гости, думали, лбы морща, но то все людишки захудалые, от власти стоящие далеко. Поговорить только и могут, облегчить душу.
Тревожно старице, смущена бывшая царица: разговоров разных немало было. Говаривали и такое, за что и спросить можно. А что ответишь? «Пётр — он грозен, — пугается старица Елена. — Характер его кому, как не мне, знать. Кашу заваривали — людей вокруг много стояло, а теперь вот: как горячую хлебать, что-то уж и стол опустел. Ложки лежат, а людей нет. Алёшенька, Алёшенька, где же ты? Надёжа последняя! Хотя бы малую весточку дал…»
Слушала бывшая царица высокое церковное пение, но успокоение не приходило. И не только Алексей стоял у неё перед глазами, но и другая мысль, вовсе уж тайная, волновала, пугала бывшую царицу.
Дружок её ненаглядный, последняя, самая дорогая любовь, лазоревый цветик Степанушка Глебов, потерянным каким-то стал. Вроде болен, или печаль злая ест его. Придёт в келью в час назначенный, а не тот уже, что прежде, когда горел весь жарким огнём. Сядет в сторонке и сидит, глаз не поднимая…
— По-мо-лим-ся-а-а…
Встряхивает головой бывшая царица: «О чём я в храме-то святом? Грешно». Но мысли кружатся, кружатся, и не слышит старица Елена молитвы.
Бывало, придёт Степанушка, обнимет ещё у порога, и забудет она и монастырские стены, и кресты чёрные, и решётки ржавые, перечеркнувшие оконца кельи. За обиды, за унижения, за слёзы пролитые счастье ей привалило. У Степанушки нежные руки, ласковые речи. Обнимет он, прижмёт к груди — немеют губы, кружится голова, и сердце обмирает, падает, падает в пропасть сладкую, без дна… За все долгие годы, жестокие, безмужние, пришло к бывшей царице бабье счастье. Но и то отнимают у неё. Ныне Степанушка чужой, холодный. И всё он — Пётр страшный. Приехал — будто туча налетела, закрыла солнце и цветики головки опустили.
Небогатым умишком своим соображала бывшая царица: «Сейчас тайное нужно оставить тайным, явное спрятать до дней лучших. И чтобы до Петрова слуха ничего не дошло и ничего услышано им не было бы. А уж за временем как бог даст».
Святые врата закрылись, и служба кончилась. Старица Елена на паперть вышла, и глаза ей ослепило: до того ярко, до того солнечно было над Суздалем, хоть рукой загородись. Такие дни выпадают перед самым зазимьем: синий небесный купол необычайной высоты и ни ветерка, тихо-тихо падает жёлтый лист да плывёт паутина золотая…
«Зачем ясность-то такая? — подумала, щурясь, старица Елена. — Сейчас бы небо пониже да дождик помельче, что надолго, на недели. Тучи бы землю придавили, и души поспокойнее были бы. Так-то сейчас лучше».
В келью свою возвратившись, старица Елена настоятельнице сказала:
— Юроду известно лишнего немало. Ныне время такое, что язык его ни к чему.
И взглянула настоятельнице в глаза. Та головой кивнула и вышла.
Небо пониже и туч поплотнее, чтобы потише и потемнее было, просила не только старица Елена из-за монастырских стен Суздаля, но и другие в Москве и в Петербурге, как только царь вернулся из долгой поездки. Пугало в домах родовитых то, что, противу обычая, по возвращении своём Пётр большой ассамблеи не собрал. На ассамблеях тех царь кого одаривал словом или взглядом, а кого и лаял, но всё явно было. Вино всё наружу выплёскивало. Бывало, дворянина с праздника такого битым зело увозили домой, но ведомо было и битому, что после шумства и драки у царя на него за пазухой камня нет. Пётр на руку был скор, но, оплеуху вельможе залепив, считал дело на том поконченным.
Сейчас же всё было по-иному. Сутки просидев у Меншикова, Пётр поехал по городу, но в разговоры никакие не вступал, а распоряжения отдавал — как плёткой стегал. Говорил только «да» или «нет», и всё тут.
Насторожились в Петербурге.
Александр Васильевич Кикин в доме запёрся, как в осаждённой крепости. И сам ни шагу за ворота, и к нему ход был закрыт.
В осаду Александр Васильевич сел неспроста.
Пётр на второй неделе после приезда в Канцелярии от строений приказал собрать людей поболее. Для чего о собрании том царь распорядился, говорили по-разному, путного всё же добиться было трудно. Людей, однако, съехалось множество.
К окнам ближе в зале стол был поставлен, а на столе планы и карты Петербурга разложены. У стола Пётр, тут же Леблон — архитектор французский, и он пояснения царю давал и спицей острой на планах указывал дома и каналы, о которых речь шла.
Говорили о важном: как вести застройку Петербурга. Леблон доказывал, что новую столицу следует уподобить Венеции и, изрезав город каналами, строить дома вдоль водных тех ямин, которые бы и стали основными дорогами для горожан.
Все прожекты посмотрев, Пётр сказал, что северное местоположение Петербурга и обилие воды навряд ли послужат к укреплению здоровья жителей. Вокруг все заговорили разом, но громче всех светлейший князь Меншиков:
— Место сырое, я-то знаю. Попервах, как жили здесь: портки на ночь снимаешь, а утром и надевать не хочется — волглые, хоть выжимай. Каналы здесь нужны, но такие, чтобы они воду из земли выводили, а для сего и прожекты рисовать надобно.
Пётр хмыкнул в кулак одобрительно.
Мнения сошлись на одном: Петербург с Венецией никак не сравним и потому каналы в таком числе, в каком Леблон предлагает, полезны городу не будут.
Александр Васильевич вперёд посунулся и возле царя оказался. Пётр, взяв спицу у Леблона и указывая на рисованный прожект дворца богатого, с колоннадой чуть ли не на версту, говорил:
— И окон нам таких больших не надобно, понеже у нас не французский климат.
— Так-так! — угодливо, петушком, выкрикнул Александр Васильевич.
Пётр, голос тот услышав, повернулся и увидел Кикина. Глаза царёвы в глаза Александра Васильевича упёрлись. И Кикин пожалел, что вперёд полез, что дуром невесть что закричал, но поздно было.
Головой вниз Кикин нырнул, кланяясь до полу, но Пётр отвернулся. И всё же понял Александр Васильевич: конец пришёл. В глазах Петра увидел он и плаху и топор. Не помнил, как из комнат вышел, как с крыльца спустился и сел в карету. В голове звон стоял неумолчный. Кровь в виски била молотом пудовым.
Домой приехав, Кикин упал в кресло, и слова от него домашние добиться не могли. Затихли все. Словно покойника в комнаты внесли. А Александр Васильевич уже и был покойником, хотя глазами хлопал. Только и была мысль у него: «Царь всё знает». Но надежда всё же билась, как пламя свечи на ветру: «А может, и пронесётся буря стороной. Не один ведь я. И князь Долгоруков царевичу поддержку выказывал. Иван Нарышкин, Лопухины и других немало. Люди-то все крепкие. Побоится Пётр тряхнуть таких».
И сам же отвечал: «Нет, не побоится».
Свеча на ветру горит недолго. Гаснет. Страшно было Александру Васильевичу. Страшно.
…Толстой подвигался со всею скоростью, какую только могли позволить звонкие русские золотые.
Венеция за окном промелькнула, Инсбрук, Вена. Пётр Андреевич — благодушный, довольный — сидел в карете, развалясь свободно, и по привычке на губах поигрывал.
За каретой, верхоконным, поспешал офицер Румянцев.
Алексей, стягивая потуже плед на груди, часто о Ефросиньюшке думал. Пётр Андреевич — не без мысли — подсказал отправить её в Россию каретой отдельной: мол, чадо она ждёт и ей повредиться в дороге никак нельзя. Пусть едет не торопясь, с остановками долгими, а ежели надобно, где и с медиумами поговорит, а то и помощи попросит. Ему, Толстому, приказано было царевича домой, в Россию доставить, а девка его не заботила. Девка и есть девка, куда она денется? Приедет, дорогу найдёт.
Алексея беспокоило: как там Ефросиньюшка в пути перемогается, как здоровье её, не в нужде ли живёт? Письма он ей писал с дороги. Граф хотел было возражать против той переписки, а потом решил: «Пускай его царевич тешится».
Из Инсбрука царевич написал возлюбленной, которая вот-вот должна была одарить его ребёнком:
«Матушка моя, друг мой сердешный, Ефросиньюшка, здравствуй! И ты, друг мой, не печалься, поезжай с богом, а дорогою себя береги. А где захочешь, отдыхай, по скольку дней хочешь. Не смотри на расход денежный: хотя и много издержишь, мне твоё здоровье лучше всего».
Мысли же о том, как с отцом встретится, Алексей от себя гнал и, как говорить будет о поступках своих, не думал. Злость в груди у него разгоралась. Почему он, наследник, объясняться должен? Он, богом предназначенный царствовать? «Жизнь отец мне ломает, — хрустел пальцами царевич, — без жалости, под охраной в Россию гонит. Так не буду же и думать о том, не буду…»
Открывал глаза царевич, смотрел на Толстого с ненавистью.
Пётр Андреевич об ином размышлял. Знал: граф Шенборн легко добычу свою не уступит. Ждал Толстой подвоха Шенборнова или каверзы какой. Подвох не замедлил объявиться.
Карета въехала в город Брюн. Остановились в гостинице: царевич жаловался, что чувствует себя плохо и нуждается в отдыхе.
Через малое время в гостиницу явился комендант города граф Колорадо с офицерами. Но ещё на лестнице встретил их Румянцев и путь преградил. Граф потребовал, чтобы его допустили к царевичу, так как он, дескать, хочет высказать ему комплимент. Настроен граф Колорадо был весьма решительно. Однако Румянцев уступать не хотел. Офицеры за спиной Колорадо шпорами звенели. Но Румянцев как стал поперёк прохода, так и стоял, и с места сдвинуть его было непросто.
Комендант города, сообразительности не лишённый, понял, что русский офицер не отступит и не тот он человек, которого звоном шпор напугать можно. И потому — уже тоном любезным — попросил встречи с Толстым.
Но и в том Румянцев отказал. Молвил только:
— Пётр Андреевич Толстой, доверенное лицо царя Великая, и Малая, и Белая России, прибудет в резиденцию коменданта города в указанное ему время, а сейчас он занят устройством отдыха царевича Алексея после нелёгкой дороги.
Граф Колорадо крутнулся на каблуках и пошёл по ступенькам вниз, к выходу из гостиницы. Румянцев смотрел ему вслед, пока дверь за комендантом города не захлопнулась. И только тогда оглянулся.
С верхней площадки лестницы покивал Румянцеву Пётр Андреевич. «Вот она, каверза Шенборнова, — подумал Толстой, — и показывает себя. Ну что же, поговорим с господином комендантом».
Фёдор Черемной нырял в людском море торжища на Ильинке как рыба в воде. Где пролезет меж лавок, куда продерётся в толчее, протиснется ли меж возов или протолкается, ежели прижмут слишком крепко, но и в суконном ряду шапку его увидеть можно было, и в шёлковом, и в седельном, и в овощном, и в игольном, и в скобяном. С шуточками ходил крючок-подьячий меж людей, с прибаутками, с присказками. Улыбнётся — все зубы видно, — а то и спляшет. Потянет носочком лапотка по пыли, и хотя каблуков и нет, а пойдёт вприсядку — удивишься. И лапоточки стучат. Ещё и припевочкой удивит: «Эх, чок, чок, чок, только, миленький, молчок...»
Кто не ответит такому? Орел!
А после шуточек, зубоскальства, припевочек Фёдор Черемной интересовался разным: и кто как думает, и чем занят, что слышал да как кума и сватья говорили.
Русского человека ежели к стенке припереть, калёным железом припечь, он зубы стиснет и промолчит. Бей не бей, хоть голову расколи. А так, между шуток да слов смешных, многое сказать может. И говорили, а Фёдор на ус мотал.
— Тяжко, тяжко, — говорили, — на Руси стало. С мужика уже не то что последнюю одёжку, но и кожу дерут с мясом. А где заступник? Царевич Алексей, сказывают, тих.
У русского народа, известно, надежда одна — на царя хорошего.
— А где он, хороший-то? — спрашивали.
— Да тот, что будет, наверное, и хорош, так как хуже нынешнего и сыскать трудно.
— Алексей, — уверяли, — заступником станет.
И ещё разговоры были:
— В какую ни ткнись церковь, почитай, каждый поп тебе скажет: царевич, он благостен и будет народу сладок.
— Да... Попы ведают... Им оно, конечно, приметнее...
Врастопырку стояли мужики и гадали. А животы впалые лыком подвязаны.
На торжище на Ильинке потолкавшись, Черемной подался на Варварку. Здесь церквей да часовен не счесть: и церковь юродивого Максима, и церковь Варвары, и Воскресения в Булгакове, часовня Боголюбской Божьей Матери.
У церквей и часовен стоят попы безместные. С деньжонками у них плохо, и попы те — злы: кто и когда ещё придёт да на погост пригласит службу справить или в дом поведёт над покойником почитать, а он, поп безместный, стоит, трясётся на холоде или под дождём мокнет. Попы — те зубами скрипели от лютости, и в народе хорями их звали.
Фёдор к одному из таких и подкатился. Но тоже с выбором подошёл.
Поп, ежели у него из-под рясы хоть и рыжие, но сапоги выглядывают, ещё сыт. А вот тот, который в лаптях, наверняка неделю не жрал, и он-то уж никого не пощадит.
Фёдор выбрал лапотника: драный стоит, бородёнка сивая, глаза моргают. К нему и подошёл: дескать, богомаз я, хочу посоветоваться, куда и как кинуться.
Попик в него вцепился — не оторвать. Пошли в кружало.
В угол потемнее забились, а как на стол принесли хлёбово горячее, попа аж затрясло. «Истинно, — подумал Фёдор, — с неделю маковой росинки во рту не было».
От ломтя хлеб откусывал поп такими кусками, что Черемной даже забоялся: подавится. Но тот не подавился, однако. Всё со стола подмёл, на дружочка нового даже не взглянув. А ложки две к миске подали. «Ну, жаден, — подумал Фёдор, — даже до удивления».
Поп миску коркой последней вытер досуха и корку сжевал. Глазами пошарил: нет ли ещё чего?
Убедившись, что всё съедено, на Фёдора взглянул. Но без стеснения — дескать, голоден очень, вот всё и проглотил, не заметив, что ты и крошки не взял, — а, напротив, с надеждой: мол, ещё не дадут ли?
В кабаке шум, гвалт, неразбериха. У стойки мужичок кривобокий — без рубахи уже — ломался. Но на груди у него крест поблескивал — куражиться, значит, ещё было с чего.
Две девки в волосы друг другу вцепились. Рты поразевали — орут. А щёки свёклой натёртые — синие. Тоже пьяны были гораздо. Но тем и чёрт не брат. Мужик пьяный ещё проспится, глядишь, и опять за работу встанет. А то народ бросовый. Редко какая баба от вина поднимется. Вино бабу крутит, и ей с зельем тем не сладить.
Фёдор разговор издалека начал. Головой покачал:
— Дорогонько всё стало. Пироги-то нынче кусаются. За пару с тухлятиной уже копейку дерут. А о горячем и не говори. Миску швырнут на стол, а ты пятак вынь да положь. Ах, жизнь... Но есть и такие, что едят от пуза. Съел, и ещё дадут. И некоторые из церковных тоже не обижены.
Попа, словно кобылу, загнанную кнутом, между глаз ударили:
— Некоторые? Каждый, кто пристроен! Сказал тоже... Вон на Никольскую пришёл я в монастырь Николы Старого, а монахи в скоромный день говядину трескают так, что в затылках, трещит. А в Богоявленском монастыре бывал ты? Каждый день по два воза рыбы и мяса привозят. Да и здесь, на Варварке, в какую церковь ни войди, попы благоденствуют...
— Так что же они плачутся? — по-глупому брякнул Фёдор, — Все царём Алексея-царевича желают?
— Алексей им мёд. Зажрались, а ведомо, у кого брюхо толще, тот больше и жадничает. Пётр-то им не потатчик[49]. А Алексея они знают. Он с ними и винцо пивал здесь, в Москве.
Смелый, однако, попишка был. С голодухи-то оно, правда, и робкий зубы оскалит.
— Ты имена, имена назови, — наступал на него Фёдор, — кто кричит больше об Алексее.
— Можно и имена. Отец Виссарион, отец Василий, отец Пётр горластый очень уж... А заправи́ла у них протопоп церкви Зачатия Анны в Углу.
Фёдор обрадовался: «Ну, уж о том-то я много знаю».
С попиком у кружала Черемной распрощался. Забыл даже о делах богомазовых спросить, да и тот не вспомнил. Доволен был: «Пожрал и копейки не истратил». На том и расстались.
«Ну, теперь шатну я их, шатну, — подумал Черемной, — есть что светлейшему рассказать. Есть и за что денежку попросить».
Полну пазуху слов, слухов, шёпотов нагрузил Фёдор, словно мужик на сеновале блох покосных. А блохи те, известно, мелки, но кровожадны до беспощадности. Жгут хуже крапивы. Так и Черемного жгли слова людские, им собранные. И словами теми, знал он, как камнями, побить можно многих.
Черемному на радостях захотелось выпить медку горяченького. Так захотелось, что в животе судорога случилась. «Да и поесть, — подумал, — не мешало бы похлёбочки из потрошков. Остренькой, с чесночком».
Губами Фёдор зашлёпал. Слюна во рту набежала.
Когда поп жрал, он-то, Фёдор, только в рот ему смотрел. «И не здесь поесть надо, — решил он, — не в кружале вонючем. Пойду в Зарядье. Там фортина есть славная».
И пошагал Черемной в Зарядье. Знал: медки сладки в тамошней фортине, а похлёбочку такую подадут — со щенками съешь. Деньги у Черемного были ещё из тех, что меншиковский денщик дал.
Пришёл к фортине, за скобу дверную рукой взялся да тут увидел: со стороны к нему вьюн бескостный, ключарь церкви Зачатия Анны, идёт.
Фёдору бы дверь рвануть, в фортину броситься да к стойке, к целовальнику. Горсть золота, что в кармане звенела, в руки сунуть, взмолиться: «Христа ради, тайным ходом выведи».
Ходы такие здесь, почитай, в каждом доме были, а уж из кабака за золото так уведут, что и чёрту не найти. Но сплоховал Черемной. Перехитрить хитрейшего захотел или жадность сгубила. Губы растянул, лицом воссиял:
— Встреча счастливая… пришёл я, пришёл из Суздаля… К вам поспешал, да вот перекусить горбушку какую решил. В дороге голодно.
И ключарь заулыбался:
— Да чего здесь-то хорошего? У нас разве своего мало? — Под руку взял Черемного: — Всего-то и перейти через дорогу. А я и водочку приготовил, и рыбку.
Черемной к фортине повернул лицо, и в нос ему — запах. «Потрошки, точно потрошки, — подумал, — остренькие». И мёдом вроде потянуло. Но ключарь Черемного уже под руку вёл. А идти-то и точно рядом было.
Вошли в ограду церковную, и ключарь в знакомой боковушке, где из купели водочку пили, дверку отворил. Сказал:
— Входи, соколик. Садись. Я мигом.
И вышел. Дверь притворил. Замочком щёлкнул. Черемной присел, огляделся. Всё в пристроечке так же, как и было: тряпочки чистые на лавках и купель стоит. «Ладно, — подумал, — подождём…» И вдруг услышал: тук-тук-тук — металлом по камню. Вскочил с лавки.
Дверка отворилась, и через порог шагнул юрод, за ним ключарь, а там и отец протопоп. Из оконца свет жидкий протопопа осветил. Стоял он неподвижно, только пальцы слабые, видел Фёдор, крест на груди чуть ощупывали.
Вторая дверца, из церкви что отворилась, без звука распахнулась, и в пристроечку вступил звонарь. По бороде чёрной Фёдор его признал. Отец протопоп, всё так же крест ощупывая, сказал:
— Обоим камень на шею и в реку.
Черемной к окошечку кинулся, крикнул:
— Караул! Люди, караул!
Но к нему звонарь подступил:
— Не беспокойся, милок. Сил напрасно не трать. У нас стены толстые…
Через неделю мужики из балчугских бань кадки мыли в Москве-реке. От горячей воды да пара в кадках плесень растёт, их и моют в реке с песочком.
Работу сделав, мужик, что посмирнее был, увидел под водой тело человеческое. На шее верёвка оборванная. В воде тело колышется, вот-вот всплывёт. Ахнул мужик, закрестился. Второй, из расторопных, глянул, сказал:
— Толкай его. Пущай плывёт.
Но всё ж перекрестился. Сердобольный, видно, был человек. Из тех, кому до каждого дело есть.
Тело оттолкнули от берега, и пошёл Фёдор Черемной вниз по Москве-реке. А юрод и не всплыл даже. Верёвка, что камень у него на шее держала, была из крепких. Так и сгинули голубки.
Церковь тайны хранить умеет. В церкви за души людские молятся. Мирское ей чуждо. Там всё о божественном.
Граф Колорадо Петру Андреевичу Толстому заявление сделал, что не имеет указания из Вены о проезде свободном через город Брюн русского царевича Алексея. А посему вынужден задержать царевича до особого распоряжения. Заявление своё сделал он любезно, голосом ласковым, жестами изящными сопровождая. Но комендант города с такими людьми, как Толстой, раньше не встречался и не понял, что кость та не по зубам. Зубы-то слабы у графа Колорадо были для Петра Андреевича, поломать можно. Но самонадеян человек и силы свои не умел рассчитывать.
Комендант повертел в пальцах ножичек костяной для разрезывания бумаг и осторожненько так положил его на стол. Доволен был. Нравилось ему его поручение, ещё бы, как кот с мышкой, с дипломатом русским играл.
Пётр Андреевич выслушал коменданта Брюна и без шуму и крику сказал, что, во-первых, письменный протест подаст против незаконного задержания наследника российского престола, а во-вторых, сейчас же письмо отпишет командующему русским корпусом в Мекленбургии с просьбой о помощи в вызволении из плена его высочества царевича Алексея.
Так и молвил: «Из плена».
Высказав то, Пётр Андреевич поднялся от стола и, тепло и простодушно глядя в глаза графу Колорадо, добавил, что-де он, комендант города, уже имел честь познакомиться с русским капитаном Румянцевым и, наверное, согласится, что доблестный сей офицер в дорогу собраться не замедлит, а в пути не задержится и, можно сказать без ошибки, доскачет в Мекленбургию весьма скоро.
На том разговор закончив, Толстой бодренько, походочкой мелкой к дверям подался на губах наигрывая своё:
— Трум, турурум. тум…
Вроде бы ничего неожиданного для него не случилось. Но был остановлен любезными словами коменданта. Тот понял, что дело принимает оборот скверный, а такого он допустить никак не мог. В указаниях Шенборновых говорилось, чтобы он, комендант Брюна, явился к русскому наследнику Алексею и, поприветствовав, спросил, волей или неволей возвращается он в Россию. Ежели царевич ответит, что неволей, а насильно увозится из земель австрийских, взял бы его под защиту.
Говорилось, однако, и то, что притом с русскими, сопровождающими царевича, в споры вступать не следует, а, напротив, всячески задабривая их, игру вести тонко, дабы миру между Россией и империей Германской не повредить. А тут получилось, что столь важный сановник, каким был Пётр Андреевич Толстой, чуть ли не дверью хлопнул. И граф Колорадо струсил. В дипломатии он был не силён. Ему бы всё больше шпорами звенеть да со шпагой красоваться перед дамами.
Нет, решил граф Колорадо, вице-канцлер может дела свои вести, как ему вздумается, а он, комендант Брюна, комплимент скажет царевичу, и всё. А то неприятностей не оберёшься.
Соображал граф-то, не вовсе уж глуп был. Колорадо к Петру Андреевичу поспешно подошёл и, ласково взяв за руку, заговорил миролюбиво. Достопочтенный гость должен простить его, графа Колорадо, если он не совсем точно выразил мысль. Какие заявления, какие протесты? Он, комендант Брюна, желает проезжающим через город прежде всего добра. Да-да! Добра. Он хочет только сказать несколько любезных слов царевичу Алексею по случаю его проезда через Брюн. Чувство гостеприимства подвигает его на ту встречу.
Пётр Андреевич довольно долго стоял, наморщив лоб. Но наконец поднял глаза на графа Колорадо.
— Ну что же, скажите свой комплимент. Я думаю, царевич выслушает вас с удовольствием. Идёмте.
У Колорадо от неожиданности даже голос сел:
— Но я не готов. Надо одеться подобающим случаю образом.
Толстой окинул коменданта города взглядом с головы до ног.
— Почему же? Костюм на вас изрядный. Идёмте.
Вот так и привёз в гостиницу несколько оторопевшего коменданта. Граф Колорадо всё порывался дорогой сказать что-то, но только рот разевал. Правда, за комендантом города увязались его офицеры, но при входе в гостиницу ещё одна неожиданность объявилась.
Как только Пётр Андреевич и граф Колорадо вошли, в дверях стал Румянцев и путь офицерам преградил. Офицеры зашумели было, но Румянцев был, как всегда, непреклонен.
Алексей встретил коменданта, сидя в кресле. Граф Колорадо рассыпался в любезностях. Пётр же Андреевич стоял с непроницаемым лицом. Комендант скосил на него глаза, и вопрос, волей или неволей следует царевич в Россию, в горле у Колорадо застрял.
Припомнил было комендант города, что в указаниях Шенборна предписывалось встречаться с царевичем с глазу на глаз. Но тут же и подумал он: «До того ли теперь? Хорошо хоть, и так допустили».
Колорадо раскланялся и вышел. Алексей и словом не обмолвился. В лицо Петра Андреевича взглянул царевич и решил за лучшее промолчать.
О Петербурге иностранцы говорили: «То город, в котором просыпаешься под визг пилы, а засыпаешь под стук молотков каменотёсов, не оставляющих работу и после того, как солнце уйдёт за горизонт».
С возвращением Петра из-за границы работы на строительстве города разгорелись, как пламя костра, в который подбросили смолья изрядную охапку.
Нескончаемой вереницей через заставы «парадиза», как Пётр называл новую столицу, тянулись обозы с лесом, камнем, металлом, лопатами, ломами и Бог весть ещё каким грузом, нужным строителям. Шли и шли люди: каменщики, столяры, землекопы, плотники, жестянщики. Мужики с любопытством поглядывали на болотистые земли, крутили головами:
— Хляби здесь...
— Да, сыро.
— Хватим горячего.
— Эй, разговоры! — покрикивали драгуны царские, сопровождавшие обозы.
Мужики косились:
— Строго, однако.
Шли дальше.
И проходило их через заставы тысячи. Безвестных русских людей с крепкими руками и несокрушимым здоровьем, что могли работать и по пояс в ледяной воде стоя, и под дождём, и в метель, и в зной палящий.
А ежели и у такого отказывали силы, то уходил он из жизни без стонов и крика.
Утром, поднимаясь под хриплый голос военного рожка, находили мужика под рваным армяком или сопревшей от сырости овчиной. Много-много потрудившиеся его руки лежали сложенные на груди, а на лице было не виданное никогда у живых выражение покоя. Поднимали мужика на плечи и несли на погост, а совершив над ним молитву краткую, насыпали холмик песчаный, илистый, комкастый — земля-то небогатая — и ставили крест, на котором и имени часто не указывали, так как или не знали, или грамотея не находилось. А рожок уже кричал, звал на работу, и драгуны вокруг покрикивали:
— Ну, ну же, ребята!
И опять копали каналы мужики безвестные, мостили дороги, строили дома. И кровь, разогревшись от работы, веселее бежала по жилам, лица разгорались, и выходил какой-нибудь Иван, подставлял широкую спину под лесину ли тяжеленную, под тёсаный ли камень огромнейший и говорил с задором:
— Давай я попробую!
Другой, лихо, с шуткой, с прибауткой подхватив колотун, что и руки из плеч выдерет, гнал сваю:
— И-эх! И-эх!
Лесина входила в землю, как в масло. Вокруг шумели:
— Пуп развяжешь!
— Не лопни, Ерёма!
— Знай нашенских!
И азарт, непонятный иностранным мастерам и инженерам, охватывал всех сразу. Люди рвали лопатами землю, надсаживаясь, тащили камни, лезли по горло в воду, бегом носились по строительным лесам. Драные, голодные, они, казалось, горы хотели своротить. Зачем? Какая была им в том корысть? Никто не мог того объяснить, да и не объяснял никто. Люди бросались в хляби бездонные, задыхаясь от спешки, возводили дворцы, в которых и жить-то не собирались, прокладывали каналы, по которым не плавать им было, камнем облицовывали набережные и молы для кораблей, на палубах и в трюмах которых кипами лежали не их товары. Что же за наваждение то было? Какие то были люди? Из каких земель пришли они и что двигало ими? Откуда бралось в них упорство, настойчивость, одержимость? Неведомая, даже и нечеловеческая сила. Кое- кто из иностранцев, что побашковитей, говорил:
— Какой народ поднимается! Да... Задумаешься...
Пётр и сам не ведал покоя в ежедневных, ежечасных делах строительных, будто вперегонки с кем связался.
Вставал до рассвета и мотался в двуколке из конца в конец города. Когда поест, когда и нет или на ходу к солдатскому котлу пристроится, к каменотёсам пристанет, из котелка какого ни есть похлебает — и дальше. Горел «парадизом». Во сне он ему снился: прошпекты как стрелы, набережные в граните и корабли, корабли на Неве, под белыми парусами. Дух захватывало. Меншиков сказал ему:
— Майн херц, загонишь так и себя, и людей.
— Дурак, — ответил царь, — от работы человек только крепче становится.
Но глаза отвёл. Знал, гонит он коней, гонит вскачь, кнута со спины не снимая, и не только потому, что уж очень хочется «парадиз» не во сне, а наяву увидеть. В работе неистовой забывал Пётр, что есть у него ещё одно дело. Дело страшное, с царевичем. И время пришло развязать тот узел, затянутый на горле. Душила, дыхание перехватывая, жёсткая верёвка, а мочи не хватало снять её.
— Дурак-то оно, может быть, и дурак, — кисло возразил Меншиков, — но ты на себя погляди. Перед иностранцами и то неловко. Царь ведь, а взглянешь — кожа да кости. Почернел даже. Портки порваны.
Пётр криво улыбнулся:
— Пузо отрастить, что ли?
Меншиков плечами дёрнул. Пётр помолчал, потом сказал:
— Ты не хитри, Данилыч. Знаю, о чём думаешь. Завтра в Москву еду.
Ещё помолчал. Светлейший парик стянул, смотрел на Петра. Царь продолжил:
— Скажи Ягужинскому, Шаховскому, Ушакову — пускай собираются. Завтра с рассветом в путь.
Меншиков вышел, постоял с минуту, плюнул под ноги, зашагал, размахивая руками.
Пётр, опустив голову на сжатые кулаки, смотрел на дымившуюся в пепельнице трубку. Понимал: последнее слово он должен сказать. И времени больше на раздумье ему не отпущено. Не загородиться от того. И не уйти никуда. Сказать нужно твердо: губителем дел его станет сын Алексей, взойдя на трон царский. Разрушителем того, что создавалось тысячами людей, что завоёвывалось кровью солдат и что процветанию России лишь должно было послужить. И он, Пётр, не мог, не имел права позволить свершиться тому, чтобы повернули вспять Россию, набиравшую ход.
«Пусть всенародно заявит, — думал Пётр, — об отказе от престола. Манифест подпишет и крест поцелует. Все услышать должны: отказываюсь от престола, ибо неспособен, слаб и немощен к вершению дел государственных. А там пускай хотя и в деревнях поселится с девкой своей, раз подол её весь белый свет ему застит… Так вот и надо решить и на том покончить».
…Зимними утрами в Москве первым воронье на кремлёвских башнях просыпается.
Перед тем как солнцу взойти, птица та заворчит без крика, захлопает крыльями, и пойдёт по всему Кремлю неразборчивое бормотание: не то жалоба, не то угроза. Иному человеку даже страшно становилось: жуткое что-то было в вороновом том ворчании.
В утро третьего дня февраля 1718 года воронье в Кремле было разбужено затемно. К Боровицким воротам с фонарями подъехала одна карета, за ней другая, а там и третья, и четвёртая… Кучера закричали, погоняя коней на одетом льдом подъёме, защёлкали кнутами, и воронье сорвалось с башен, забилось в темном небе, заполошно ныряя между церковных крестов.
Беспокойно начиналось утро. А кареты всё новые и новые подъезжали и подъезжали. Стая воронья завилась штопором и ушла за Москву-реку.
Кареты теснились к Грановитой палате, к святым её сеням. Казалось, всё московское боярство приехало в Кремль, все послы иноплеменные. И шляпы с перьями разноцветными видны здесь были, и шапки собольи, и плащи, мехом подбитые, с рукавами на отлёте, и дорогие шубы. Лица у людей настороженные, глаза блестят: будет, будет дело. Ах, дело невиданное…
Кони хрипели, трещали оглобли.
— Осади, куда прёшь!
В то утро царь Великая, и Малая, и Белая России Пётр в Грановитой палате Московского Кремля сына своего, беглого царевича Алексея, встречал. И знала Москва боярская, что разговор между царём-отцом и царевичем-сыном будет. Трудный разговор. За всю историю дома Романовых не было такого разговора, и не помнили ни отцы, ни деды, ни прадеды даже, чтобы царствующий отец сына своего подвигнул к отказу от престола. Затылки чесали, а вспомнить не могли.
В сени снегу натащили, он растаял и стоял лужами. Того и гляди, брякнешься при всём народе. В дверях напирали.
— Эй! Чего встали-то? Проходи! Те, что побойчей, попёрли в залу. Шептали:
— Отплясал Алексей.
— Дура, чего мелешь! Плакать надо.
— Загибнет Русь… Заступника от трона отлучают.
Но то всё больше из старых шипели. Молодые в ответ дерзили:
— Вы бы помолчали. Языки калёным прижгут.
— Кого жалеете? Да он хоть и годами мал, а сгнил уже…
— Цыцте, — шикнул кто-то, и у стены смолкли.
Пётр на троне сидел строго. Видели: взгляд у царя колючий. И от Петра глаза отводили. Что-то ещё увидит он в очах твоих, как поймёт? Нет, лучше в спину соседову взор свой упереть, благо она обширна, загородиться можно.
И вдруг, как шелест, прокатилось по зале:
— Приехал, приехал! В сени входит!
Все лица оборотились к дверям.
Алексей, вступив в залу, взглянул на Петра и лицо книзу опустил. Встал, словно споткнулся. Пётр, вцепившись пальцами в подлокотники трона, навстречу ему подался. Шею вытянул. Глаза у царя широко распахнулись. Казалось, сейчас вот сорвётся он с трона, вниз по ступенькам сбежит и в объятия примет блудного сына. И все в зале головами вперёд потянулись: что будет-то?
Но Алексей в дверях медлил, будто и хотел шагнуть к отцу, но путы невидимые держали.
Все замерли. Вице-канцлер Шафиров персты ко рту прижал. Ушаков, лицом тяжёлым окаменев, набычился и, не мигая, на царевича смотрел. Улыбка странная губы Шаховского, царского шута, скривила, да так и стоял он: не понять было — не то заплачет, не то в пузырь с горохом сушёным ударит и захохочет.
В тишине зловещей кто-то ахнул на всю залу. Петра словно в грудь толкнули, и он, пальцы разжав, откинулся на спинку трона.
Алексей выпростал из-за спины руку, и все увидели зажатый у него в пальцах большой, вполовину согнутый лист. Неся лист перед собой, царевич шагнул к трону и упал на колени. Полы его чёрного сюртука раскинулись, и из-под них торчали, как неживые, ноги в белых чулках.
Царь встал, сошёл со ступеней и за плечи поднял царевича. Голову Петра повело назад, лицо исказилось судорогой, побагровело, но он, словно груз вытягивая тяжкий, сцепил зубы и встал ровно. Взял лист из рук царевича, но, взглянув на него мельком, отдал Шафирову, спросил хрипло:
— Что хочешь сказать ты нам? Царевич, не поднимая лица, ответил тотчас:
— О прощении молю едином и о даровании жизни мне, недостойному.
Голос Алексея выдал волнение. Царь задышал часто. Минуту или две только и слышно было его дыхание. Наконец сказал:
— Я тебе дарую то, о чём просишь, но ты утратил право наследовать престол наш и должен отречься от него торжественным актом за своею подписью.
Голос Петра под сводами эхом отдался: «…своею подписью». Как гвозди вколотил он те слова.
Царевич молчал. Шафиров суетливо к нему кинулся с пером в руках.
Царевич стоял недвижимо. В зале не было человека, который бы дыхание не задержал.
Алексей впервые, как вошёл в залу, посмотрел в лицо отцу и сказал:
— Согласен и акт сей подпишу.
Шагнул к стоящему чуть поодаль от трона столу, выхватил из руки Шафирова перо. И долго-долго, как переламываясь, клонился к бумаге.
Наконец перо коснулось акта, и буква за буквой, словно глыбы ворочая, царевич начертал: «Алексей». Выронил перо из пальцев ослабевших. И шум вдруг пошёл по зале. Заворчали родовитые, как воронье на башнях кремлёвских в час предрассветный. Глухо, с болью.
Царь обвёл залу взглядом. Все смолкли.
— Зачем не внял ты моим предостережениям? — спросил Пётр царевича. — И кто мог советовать тебе бежать?
И вновь в зале дыхание затаили. Понятно было: назовёт имена царевич и каждого названного к плахе приговорит.
Алексей качнулся к Петру и на ухо ему шепнул что-то. Царь встал, шагнул к малой дверце за троном. Алексей пошёл за ним следом…
Из Кремля знать разъезжалась, как с похорон. И слова друг другу никто не хотел сказать, взглядами обменяться боялись. Садились в кареты, устраиваясь от оконцев подальше, лица мрачные, в глазах скука.
— Трогай!
…В тот день царевич назвал Петру два имени: Александра Кикина и Ивана Афанасьева.
Март едва начинался. Но хотя и говорят о нём: марток — надевай семеро порток, — в тот год покатил март на тепло.
В Преображенском снег пожух, осел и меж сугробов ручьи показались. Земля по-весеннему запахла. Свежо, сладко. Вдохнёшь — и вроде сил прибавится. Но к запахам, людям на радость дарованным, в ветерок весенний кисленькое вплеталось. А кто в Москве не знает, как кровь пахнет? Так уж повелось, что к запаху кровушки острому привыкают здесь, едва от материнской титьки оторвавшись. Крестились люди, мимо Преображенского проходя:
— Спаси, господи, и помилуй…
Четвёртую неделю в Преображенском шёл розыск. Вели его Ушаков да Шафиров с Толстым. Были и другие в розыске, но самые тайные дознания Пётр поручил тем троим. Не хотел, чтобы молва далеко шла, а в них был уверен: ежели и услышат, что знать иным не нужно, то оно тайным и останется.
Александра Васильевича Кикина привезли из Петербурга вместе с Иваном Нарышкиным, Авраамом Лопухиным, Варварой Головиной и князем Долгоруковым.
Кикина из саней к Ушакову да Шафирову с Толстым потащили. В подклети Преображенского дворца, где когда-то стрельцов пытали и где крючья и петли железные, хотя и ржой схваченные, ещё крепки были, Петром назначенная комиссия вопросы Кикину и задала.
Кикина приволокли в цепях. К ногам Ушакова толкнули. Упал Александр Васильевич, цепи загремели. Поднялся на колени, лицо в слезах.
— Плачешь? — спросил Ушаков. — Что же раньше-то не плакал?
Сидел он без парика, глаза варёные. Не спал третьи сутки. Устал гораздо.
Кикин молвить что-то хотел, да не мог: спазма горло сжала.
— Собака! — крикнул Ушаков, замотав щеками. — Собака!
Пнул Кикина в грудь. Тот покатился к стене.
Ежели Пётр Андреевич Толстой не торопясь запрягал, но быстро ездил, Ушаков сразу же хомут набрасывал и супонь затягивал до хруста в позвонках, а уж погонял — ноги не успеешь переставлять.
Кикин лежал под стеной, как мешок с тряпьём. Всхлипывал.
Васька, мастер заплечный, знака не дожидаясь, подступил к Александру Васильевичу, на руки петлю накинул и с полу предерзко поднял на дыбу. Дёрнул за верёвку — руки из плечевых суставов у Александра Васильевича с хрустом вылетели, и, охнуть не успев, закачался он под сводом. Васька на ноги хомут ему пристроил и бревно навесил. Отошёл в сторонку, руки за спину заложил.
От гоньбы такой Пётр Андреевич поморщился. Шафиров нагар со свечи снимать начал: тоже, видать, не по себе ему стало. Ушаков к Кикину подступил.
— Ну, — сказал, — поговорим?
Кикин только воздух ртом ловил. Очухаться не успел. Больно быстро всё началось, так-то и Ромодановский Фёдор Юрьевич не спешил.
— Вася, — сказал Ушаков тихо.
В воздухе кнут просвистел. С хрястом влип в тело. Кикин взвыл, рванулся. Но куда рваться-то? Верёвки крепкие в Преображенском были.
На ступеньках, что в подклеть вели, каблуки застучали. Кто-то невидимый поскользнулся, но удержался и опять застучал по ступенькам. Толстой по шагам узнал — царь идёт. Махнул рукой Ваське:
— Постой.
Тот кнут опустил. Пётр вошёл и сел у лестницы на дубовую лавку. Ушаков повернулся, взглянул на царя вопросительно, но Пётр в ответ губы сжал, а словом не обмолвился. В наступившей тишине слышно было, как всхлипывает, захлёбывается слезами Кикин на дыбе.
— Вася, — позвал Ушаков.
Но ещё и кнут не просвистел, Кикин закричал, содрогаясь:
— Буду, буду говорить! Спрашивай!
И опять захлюпал носом. Шафиров и Толстой оживились. Дьяк, сидевший с краю стола, обмакнул перо в чернильницу, насторожился над бумагой.
— Скажи-ка нам, — начал Шафиров, — был или не был меж тобой и царевичем разговор о том, чтобы ему от престола отказаться и в монастырь уйти?
Кикин, выгибая грудь, голосом плачущим ответил:
— Был, был… Вины в том не вижу.
— А и другое скажи, — продолжал Шафиров, — были ли говорены тобой слова поносные, что-де клобук не гвоздём к голове прибит и ещё неведомо, как дело сложится, а то, мол, можно и из монастыря выйти и на трон сесть?
Пётр на лавке придвинулся ближе. Кикин башкой замотал.
— Врут, не говорил я тех слов.
— Свидетельство есть, что слова те были тобой говорены, — твердо сказал Ушаков,
— Врут, врут! — закричал Кикин, брызгая слюной. Ушаков Ваське кивнул, и вновь просвистел кнут, влепился в тело. Кикин голову закинул, закричал:
— Говорил, говорил!.. Пётр ещё ближе подсел.
— А ведь из того, голубок, следует, — сказал Толстой, — что против воли царской ты шёл и загодя заговор против особы его высокой готовил?
Вот так вопросики Андреевич ставил! Головы они стоили. И Кикин понял это. Забился на верёвке, но Заська ногой на бревно стал, и тело Кикина вытянулось струной.
Тяжёл был кат, хотя и без брюха.
— Ну, — подступил к Александру Васильевичу Ушаков, — отвечай!
— Бейте, бейте!.. — закричал Кикин, — Царевича я жалел!
— Себя жалел, — прервал Ушаков, — дорогу тропил свою и против царя умысел имел.
— Хе-е, — выдохнул кат открытым ртом, и кнут, срывая чёрные лохмотья паутины с потолка, упал на спину Александру Васильевичу. Того вперёд бросило.
— Хе-е. — и второй удар рассёк, разорвал кожу.
— Хе-е…
У Кикина, казалось, глаза выскочат, он разинул рот, но крика уже не было. Хрип лез из горла.
— Хе-е…
Пётр поднялся с лавки и шагнул к лестнице. Секунду помедлил и, так ничего и не сказав, пошёл вверх. Нагнул голову: свод низок был, не по его росту.
Поднимался по ступенькам, а за спиной хрипел, выкрикивая слова, Кикин. Но Пётр слов тех не слушал. Не нужны ему были теперь слова.
Месяц шёл розыск, и царь всё больше и больше понимал, что отказ царевича от притязаний на трон, подписание самого акта, изданный манифест об отречении от престола ничего не решили. Казнили уже не одного. Казнят Кикина, и много ещё голов на плахе будет отсечено, но тем только напугали старые роды. И всё.
«Как зверь стреляный, глубже они спрячутся, а всё же их сила будет, — думал Пётр. — Вон Кикин как сказал: клобук не гвоздём к голове прибит. А акт? Манифест? Бумага… Разорвут и отшвырнут в сторону».
Вспомнил, как знать в Грановитой палате заворчала, словно вороны башенные кремлёвские, когда Алексей акт об отречении от престола подписывал. Зловеще заворчали, грозно…
Пётр вылез из тёмной подклети и остановился, ломая тонкий ледок каблуками ботфорт. Солнечно было на дворе и ветрено. Облака летели над Преображенским. Лёгкие облака, солнцем просвеченные.
«Уезжать надо из Москвы, — подумал царь, — уезжать. Делать здесь больше нечего. В Питербурх ехать надо. Вот-вот вода подойдёт весенняя. Беда может случиться».
А как быть с царевичем, не решил. Не знал. И ежели кто увидел бы царя в ту минуту, не поверил, что перед ним Пётр. Неуверенность была написана на его лице, растерянность.
Снегопад начался с вечера. Перед окнами закружили ленивые белые мухи, с севера налетел ветер, и началась метель.
Старый Преображенский дворец, давно не видевший ни топора плотника, ни мастерка каменщика, под резкими порывами ветра наполнился звуками. Где-то застучала ставня, на крыше захлопал, защёлкал, заскрежетал отставший лемех, заскрипели перекосившиеся двери, и протяжно, на разные голоса запело в печных трубах. То будто всхлипывал ребёнок, сердясь на злую няньку, то скулила, царапалась собака, то ухала, стонала сова.
Пётр давно не обращал внимания на то, что и полы во дворце рассохлись, и ступеньки на крыльце сбились, да и сами стены дома, когда-то раскрашенные ярко, облезли и облупились. Всё недосуг ему было заняться домом, всё в дороге был, в отъезде, или дела другие мешали. Так и в тот раз, как в Москву вернулся, глянул от ворот на дворец и подумал: «Надо бы порадеть, дворец-то совсем захудал». Но только и всего, что подумал, а сказать о том никому не сказал. Постоял во дворе, поводил глазами по маковкам и крышам, поморщился: «Надо, надо заняться» — и заторопился по ступенькам крыльца.
И сейчас, разбуженный стуками и шумами старого дома, Пётр прежде всего забеспокоился о том, что в метель такую в дороге будет трудненько, а о старом доме даже и мысли у него не мелькнуло.
Царь поднялся с лежанки, прильнул к окну. Но мутное, жёлтое, ещё при отце — Алексее Михайловиче — с великим бережением привезённое из Англии стекло обросло наледью. Пётр кривым, твёрдым ногтем поскоблил наледь, дохнул на стекло, но видно от того не стало лучше. За окном снежная круговерть стояла стеной.
«Всё равно едем, — подумал Пётр, — дорога известна». И начал торопливо одеваться. В темноте сунул ноги в ботфорты, кое-как, криво и косо, натянул камзол и, крепко стукнув каблуками в пол, поднялся с лежанки. Отворил тяжёлый засов на дверях.
В коридоре, у порога, стоял солдат с подносом. На подносе хлеб, мясо, чищеные луковицы, жбан добрый с квасом.
С лавки у стены встали Толстой, Шафиров, Ушаков, сумрачный Ягужинский. Все в париках, одетые в дорогу. Склонились низко.
Пётр шагнул к солдату, взял с подноса жбан с квасом. Пил долго, шумно, глотая, как запалённая лошадь. Поставив жбан, сказал:
— Едем.
И пошёл к лестнице. Свита гуськом почтительно потянулась за царём.
Когда Пётр вышел на крыльцо, ветер был так силён, что фонарь в руках у солдата, освещавшего царю дорогу, чуть не погас. Но солдат только прикрыл фонарь полой шубы и, повернувшись к ветру спиной, пропустил вперёд царя. Пётр торопливо сбежал со ступенек, сунулся в возок. Сани тронулись.
По разметённой кое-как дорожке сани вымахнули из ворот дворца. Пётр троекратно мелкими крестиками обмахнул лоб, завалился в угол возка. К дороге дальней привычный был человек.
— И-эх! И-эх! — погонял коней солдат на облучке. Щёлкал кнутом.
Царский поезд растянулся на версту. Впереди скакали верхоконными драгуны, за ними темнели на дороге возки с кожаными чёрными верхами, крестьянские, розвальнями, сани. На розвальнях в цепях и колодках везли в Петербург оставшихся в живых после розыска. Колодникам было худо под сырым ветром. Кутались они в какое было тряпье, лезли под солому, согревали друг друга битыми боками. Таков уж человек: завтра ему голову на плахе отсекут, а он сегодня боится ноги приморозить.
В одной из карет — сумрачный Алексей. Лицо у царевича бледное. Зубы стиснуты крепко. Глаза неподвижны. Обеспокоен был царевич. Накануне в Москве казнили Кикина Александра Васильевича. Казнь ему назначили жестокую: четвертование. Да ещё и так рубили руки и ноги, чтобы продлить мучения.
Александр Васильевич снял богатый, с бриллиантами, перстень с пальца и отдал палачу, воротник с накрапом жемчужным от рубахи отнял и тоже ему подал, но палач, в личине сушёной овечьей, всё же не спешил топором махать. Видно, приказ имел строгий.
Люди опускали головы. Понятно было: напугать хочет царь Москву страшною казнью. И напугал. Сбитенщики горластые, шнырявшие в толпе, и те замолчали. А кабацкая голь, что всегда лезет к месту Лобному, теснится к самым ступеням, назад подалась.
Казнили и Ивана Афанасьева, а закончив розыск по делу старицы Елены, казнили Степана Глебова. На кол посадили. Все добивались от Глебова признания, что бунт против царя хотел поднять. Но ни признаний, ни доказательств к тому не получили. Степан Глебов сознался, что жил с бывшей царёвой женой блудно, но всякое иное воровство своё против государя отрицал.
Трижды на дыбу его поднимали, били кнутом жестоко но на сказанном однажды стоял он твердо.
Участие бывшей царицы в побеге царевича за границу также доказано не было. Открылись при розыске воровские её разговоры с наезжавшими в монастырь боярами, но что да как было говорено — не разобрались. О церковных же доброжелателях бывшей царицы, о юроде с его преступными криками, предерзко обращёнными против царя, о зарядьевской церкви Зачатия Анны в Углу и слова не было говорено. Церковь умела вывернуться и концы прятала глубоко.
Вспомнили было Фёдора Черемного: мол, крючок-подьячий знает много. Но толкнулись сюда, туда, а подьячего нет. На том и успокоились. Примечено: люди не любят вора, но издревле на Руси не в почёте и тот, кто ловит вора.
— Н-да, — протянул Ушаков, — Фёдор Черемной…
И имя то в последний раз прозвучало под синим небесным сводом. Как панихида, как звон погребальный, за которым уже и нет ничего.
Решено было бывшую царицу сослать в Ладожский монастырь. Из Преображенского укатили её к ладожским монахам не как в Суздальскую обитель — в возке изукрашенном, а бросив в розвальни соломы клок да шубу овчинную, рваную…
…Царёв возок качнуло сильно. Пётр заворочался под шубой. Протянул руку, отворил слюдяное оконце, залепленное снегом.
Последние дни перед отъездом в Петербург царь сторонился людей и почти не выходил из тесной — о три окна — палаты, в которой прожил молодые годы и где обычно останавливался, возвращаясь в Москву из поездок и походов.
По вечерам приходил к Петру в малую комнатку Ушаков. Садился к свече и, склонив тяжёлое лицо, читал записи пыточных речей. Голос у Ушакова был хриплый, простуженный, непроспавшийся. Нет-нет да и вскидывал от бумаг глаза на царя, но Пётр сидел неподвижно и молча, и трудно было сказать даже, слушает ли он или нет. Ушаков опускал глаза и читал дальше.
А Пётр и вправду почти не слышал его. Слова, сказанные на дыбе Кикиным, поразили царя. И он забыть не мог с хрипом, со стоном выдохнутое: «Клобук монашеский не гвоздём к голове прибит».
Толстой заставил Александра Васильевича повторить фразу ту дважды, кнутом вырывая каждое слово. И Пётр знал теперь наверное, что в какие бы дальние деревни ни был удалён царевич, за какие бы крепкие монастырские стены ни водворили его, какими бы манифестами ни утверждали его отречение от престола, — на царство тот сядет, как только ему представится случай. И знать Пётр хотел теперь только одно: как далеко ушёл сын его от дел, вершимых новой Россией. А ни в акт об отречении, ни в обнародованный манифест больше не верил. Если клобук монашеский хотели сменить на корону царскую, бумаги те, хотя бы они с печатями были тяжёлыми и важными подписями, не убеждали Петра ни в чём.
Пётр передал царевичу вопросные пункты, которые сам и составил, призывая сына, не таясь, рассказать о сотоварищах его, что и как ими было говорено, кто подсказал ему бежать за границы российские и кто помощником в том был.
«Всё, что к сему делу касается, — писал он, — хотя, чего здесь и не упомянуто, то объяви и очисти себя, как на сущей исповеди. А ежели что укроешь, а потом явно будет, на меня не пеняй, перед всем народом объявлено, что за сие пардон не в пардон».
Но с ответом царевич тянул.
«Нет, — подумал Пётр, — не дитя Алексей неразумное, которое за руку ведут, а оно только ножками переставляет. Годами зрел. Да и дитя упирается, ежели что не по нём. Ручку вырывает».
— Сын же он мне, — вдруг вслух с болью сказал Пётр, — сын…
Но слова царские никто не слышал. Да если бы и услышал, наверное бы, и не понял. Люди больше о своих болячках пекутся, а до чужой боли им дела нет. Мало кто мается чужим горем. И когда ещё боль чужая для человека своей станет? Хотя быть такое должно. Ибо и в маете и в гордыне человек один быть не может, и даже слово само дано ему, чтобы другой его услышал. А иначе зачем оно, слово-то?
* * *
Петербург встретил царёв поезд дождём.
Ещё за полсотни вёрст до «парадиза» дорога расквасилась, растеклась лужами, и из-под наледи показалась жёлтая глина с песочком. Надо было бы поставить поезд на колеса, но Пётр ждать не хотел, и потащились дальше по грязи санно. Полозья скрипели, аж за душу брало. Кони, исхудавшие за дорогу, едва волокли возки. Одна только надежда и была, что до Питербурга рукой подать. А на последней версте, известное дело, и хромой конь рысью бежит.
Вёрст за пять до заставы увидели на дороге пышную карету. Пётр глянул в оконце, признал — Меншиков. Остановил возок. Светлейший бросился к царю по воде. Пётр вылез из возка. Обнялись.
Ветер мял, морщил лужи. Сёк дождь.
Меншиков отстранился, взглянул в лицо Петра пытливо. Тот в ответ головой покивал. Улыбки на лице у царя не было. Светлейший распахнул дверцу кареты роскошной, но Пётр пожелал добираться до Питербурга в возке своём.
Меншиков сел рядом с царём. Объяснять светлейшему не надо было ничего: он и так всё понял. Заговорил торопливо о делах питербургских. Знал хорошо: делом только и можно отвлечь Петра от мыслей невесёлых.
Светлейший рассказал, что против прошлых лет льды на Неве немалые и можно ждать и заторов, и подъёма воды. Больше же всего следует беспокоиться о верфи, так как весенняя вода высокая и льды могут неприятности принести. Ещё и приврал светлейший для впечатления большего.
Пётр, вначале слушавший князя без интереса, забеспокоился, стал расспрашивать. Светлейший сыпал и сыпал словами. Мол, надо берег у верфи укрепить и о крепости Петропавловской позаботиться — и ей-де вода опасна, — об острове Котлин порадеть.
— А особо большого ледохода, — сказал Меншиков, — надо ждать не сейчас, а во второй половине апреля.
Нева лёд свой сбросит, а потом уж пойдёт лёд с Ладожского озера. Вот тот лёд ещё страшней.
Забот высыпал мешок, за год не переделаешь, не то что до ледохода. Увидев же, что Пётр обмяк немного, сказал:
— Едем ко мне, мейн херц. Стол накрыт. Колбаски твои любимые кровавые будут и уха из снетков онежских. Не уха — объедение.
Меж тем миновали заставу. Солдат у шлагбаума взял на караул. Пётр руку к шляпе приложил и велел остановить возок. Съехав на обочину, встали, и царёв поезд потянулся мимо. В одном из возков мелькнуло лицо царевича, и Пётр, подняв веки тёмные, тяжело взглянул на него.
Потащились розвальни с колодниками. Промокшие до последней нитки, с чёрными лицами, колодники таращились на людей голодными глазами. Тянули руки, просили Христа ради хлебушка. Драгуны, озлившиеся за дорогу нелёгкую, хлестали их по головам плетьми. Колодники заслонялись, но лениво. К битью уже привыкли. Драгуны теснили людей конями, хрипло покрикивали:
—Сдай назад!
Пётр сел в карету, сказал Меншикову:
— Давай, к тебе едем.
Светлейший, сразу же повеселев, заторопил кучера:
— Живо, живо! Гони!
К полуночи небо очистилось от туч, к на тёмной воде Невы явственно, как в зеркале, выступили отразившиеся звёзды. На текучей воде звёзды вздрагивали и мерцали, словно в небе морозной зимней ночи. От взгляда на ту необычную звёздную карту становилось холодно. И Пётр, стоя у самого края берега, зябко передёрнул плечами. Меншиков, заметив, как царь вздрогнул, что-то негромко сказал стоявшему чуть поодаль офицеру. Тот повернулся круто и нырнул за тёмный остов лежавшей на берегу разбитой барки.
Последние дни Пётр почти не уходил с берегов Невы. Наводнение, правда, не было таким сильным, как предсказывали. Вода и на полсажени не поднялась, да и лёд не был так уж силён. Кое-где на Неве и на Мойке всё же доломало деревянные набережные, разворотило входы в каналы, но вообще-то обошлись малым страхом.
Чавкая ботфортами по грязи, подбежал офицер и передал светлейшему длинный кожаный голландский плащ царя. Меншиков шагнул к Петру и накинул плащ на плечи. Сказал:
— Что, майн херц, пойдём, пожалуй?
Князь взглянул на светивший окнами чуть в стороне Апраксинский дворец.
— Чай, заждались. Да и ты, вижу, продрог.
Пётр шагнул было за светлейшим, но на реке ударил колокол, и сразу же, будто из-под воды, вынырнули корабельные огни.
— Бот, — сказал Пётр, — откуда бы то?
В сырой, стоячей темноте голос его прозвучал глухо.
Огни быстро приближались, и, перечеркнув звёздную карту на чёрной воде тенью паруса, бот, ловко сманеврировав, чиркнул бортом о бревенчатую обшивку набережной.
С бота соскочили три человека. Один из них стал заводить канат за торчавший у среза набережной кнехт, другие, помедлив мгновение, зашагали к стоявшему у берега царю. Не доходя трёх шагов, первый остановился и, кинув руку к шляпе, отрапортовал:
— Ваше величество, капитан Румянцев. Имею депешу от его превосходительства Ягужинского.
И протянул царю конверт. Пётр взял депешу, повертел её в пальцах, кивнул подбородком второму из подошедших, державшему в руке фонарь:
— Посвети.
Тот шагнул к царю и поднял фонарь. В свете неверном свечи лица стоявших на берегу заблестели влажно. Сыро было на Неве. Пётр разорвал конверт, прочитал косо сбегавшие к краю листа строки. Сложил листок, сунул в карман, сказал:
— Хорошо.
И пошёл к боту. Меншиков, шагая за царём, с сожалением посмотрел на тепло светившиеся окна Апраксинского дворца. Знал: там в зале жарко пылает камин, накрыт стол и сладко пахнет жареными утками. Подумал: «Вот жизнь собачья. И пожрать не дадут». Плюнул в грязь.
Пётр, взойдя на бот, сел на банку, сказал Румянцеву:
— Командуй, капитан.
Бот отвалил от причала и сразу же, набрав полный парус ветра, скоро пошёл в разрез течению. Вода шумно заговорила у бортов. Пётр удовлетворённо хмыкнул. Доволен был: сложный манёвр бот выполнил блестяще. Лучшим угодить Петру было трудно.
Курс взяли на Петропавловскую крепость.
В записке Ягужинского говорилось, что привезённая после родов из Берлина девка царевича Ефросинья «показания дала, весьма к делу царевича касаемые, и выслушать её следует без промедления, так как запереться может и слов тех уже услышать нельзя будет».
Каблуки сухо простучали по каменным плитам и смолкли. Свет фонаря высветил крутые ступени, ведущие в подвал. Широкие, высеченные из целых кусков гранита, тяжёлые, темно-красные, словно застыла на них спёкшаяся кровь.
А они и вправду могли быть залиты кровью, так как ходили по ним не на праздник, а на муку и вели они не в залу светлую, высвеченную солнцем, а в застенок пыточный.
Румянцев остановился и оборотил лицо к царю. Пётр стоял за ним чёрной тенью. Румянцев поднял фонарь повыше и шагнул вперёд. Жёлтое пятно света, сползая со ступеньки на ступеньку, поплыло вниз.
Пётр медлил. Свет фонаря уплывал всё дальше и дальше.
А царь всё медлил, словно угадывая, что там, внизу, он услышит страшное.
Наконец Пётр тяжело оторвал ногу от камня и пошёл по лестнице. Тук… тук… тук… — простучали каблуки.
Фонарь осветил узкий коридор. От каменных стен дышало холодом. Румянцев толкнул взвизгнувшую на петлях дверь и отступил в сторону.
И вновь Пётр помедлил мгновение, но всё же шагнул через порог и тут же увидел устремлённые ему навстречу, распахнутые ужасом карие глаза Ефросиньи. Она соскользнула с лавки и поползла к царю. И разом разглядел Пётр тонкий стебелёк её шеи, протянутые вперёд слабые руки, открывшийся в немом крике рот.
Пётр, опустив голову, прошёл к жарко пылавшей печи и, шаркнув подошвами ботфорт по кирпичному полу, сел в кресло. Румянцев стал у царя за спиной.
— Кхе-кхе, — прокашлял Ягужинский, — так повтори, голубка, воровские, хулительные речи, что говорены были царевичем.
Ефросинья пискнула, как синица в зазябшем осеннем лесу.
— Ну, ну же, — заторопил Ягужинский.
Пётр закрыл лицо ладонью. Ягужинский засопел носом. Сказал резко:
— Царь перед тобой, и он ждёт.
— Боюсь я слов тех, — всхлипнула Ефросинья.
— Говори, — проскрипел сидящий рядом с Ягужинским Ушаков, — правду рассказать царю не страшно. Един бог без греха, а человек слаб. Неправда страшна.
У Ефросиньи лицо задрожало.
— Не вводи нас в злобу, девка, — сказал Ушаков, — а то можно и калёным припечь.
Толстой, третьим сидевший у стола, опустил подбородок в высокое кружево воротника. Насупился.
Ефросинья руки заломила, забилась у лавки. И уж не «северная Венус», что сидела на галерее в замке Сант-Эльм в платье французском, с кольцами дорогими на тонких пальцах, глянула из неё. Девка рязанская, барином битая, поротая, клятая, голову клонила, кричала по-птичьи. И страхи, ею, и матерью её, и бабкой, и прабабкой пережитые, поднимались в душе перед теми сильными в пудреных париках, с холёными лицами, с глазами властными. «Бойся их! — кричало в ней всё. — Бойся!»
И, едва шевеля губами обморочными, заговорила она торопливо:
— Отцу… отцу своему смерти царевич у бога просил…
Пётр глубже ладонь на лицо надвинул.
— Помощи просил у цесаря германского, трон для себя ища…
Пётр голову опускал всё ниже и ниже, клоня, как на плаху.
— К королю шведов Карлу ехать собирался — воевать с Россией.
Пётр вскочил и кресло отшвырнул так, что ножки подломились. Крикнул:
— Воевать с Россией?
Видел Пётр, как людей пытали. И сам пытал. Слышал, как кости хрустят, как хрипит голос в крике, как трещит кожа, припечённая калёным железом. Знал, как ломают на колесе, растягивают на дыбе, рассекают на плахах. Но вот и самому ему довелось и калёным железом припечённым быть, и на колесе ломаться, и на дыбе тянуться, и на плаху лечь. Ибо слова те Ефросиньины были для него и огнём, и железом, и колесом, и дыбой, и плахой. И, словно сникнув под той пыткой, Пётр голову опустил и вышел из пыточной. Оставшиеся молчали, боясь шелохнуться. Румянцев вышел вслед за царём.
На рассвете того же дня Пётр написал послания в Синод и Сенат высшим духовным иерархам и чинам светским с просьбой вершить суд нелицеприятный над царевичем Алексеем в сообразии с виной осуждаемого и отрешась от того, «что тот суд ваш надлежит вам учинить на моего, яко государя вашего, сына».
Как государь и как отец он сам бы мог вынести приговор своему преступному сыну. «Однако ж, — написал Пётр, — боюсь бога дабы не погрешить, ибо натурально есть, что люди в своих делах меньше видят, нежели другие в их. Тако ж и врачи, хотя б и всех искуснее который был, то не отважится свою болезнь сам лечить, но призывает других».
Пётр положил перо. Вошёл Румянцев, доложил, что царевич Алексей, как государственный преступник, взят под стражу.
Плохо спится в Петербурге белыми ночами. Часы полночь пробьют, а за окном и день не в день, и ночь не в ночь.
Люди просыпаются в Петербурге с лицами жёлтыми, опухшими, недобрыми. Выйдет такой на крыльцо поутру, а холопы не знают, куда и деваться. Дело ясное: как ни крути, а быть битым.
Сумрачные сидели генералы, сенаторы, лица духовные, собравшиеся, как царь повелел, судить царевича. Морщины глубокие лбы бороздили, под глазами мешки.
За окном день разгорался: нездоровый, серенький. Солнца не видно. И лица собравшихся оттого ещё более хмурыми казались. Совсем закручинились мужи государственные. Но ночь белая была в том неповинна. Другое головы пригибало, от другого хмурились.
Сына царёва судили. Задумаешься… И жизнь свою по дням переберёшь. «Нет» или «да» сказать в деле таком, что топор поднять, и неведомо ещё, на чью голову он упадёт. На царевичеву ли, на твою ли, а может, на детей твоих или внуков. Кто ответит?
Много повидал каждый из сидевших в зале за годы последние. И много в час тот трудный каждый в памяти своей перебрал.
Началось всё с малого. Царь, приехав из земель чужедальних, бороды стал резать ножницами, что овец стригут.
Вспомнил мрачный Ушаков, как отец его, тяжёлый и рыхлый, от царя воротясь с босым лицом, слёзы лил. Мать руками всплеснула, закрестилась, упала. Водой святой её сбрызнули, и она кое-как очухалась. А отец с неделю сидел запёршись и людям на глаза не показываясь. То же и с другими было. Заговорили по Москве недобро, но обвыклись. Что уж там бороды!
Дальше — больше: детей боярских стали из домов силой выбивать и за рубежи державы слать для учений разных.
Но и к тому привыкать стали. Дети-то возвращались, и вроде бы даже глупей не становясь. Но и тем не кончилось.
Пошли в походы земли южные воевать. Тут уж подлинно пострадать пришлось. Набедовались по маковку.
Генерал Бутурлин[50] сидел туча тучей. Он-то помнил те походы. По степи шли сгоревшей, глотки сохли, глаза, гарью запорошенные, гноились, а от смрада павших лошадей перехватывало дыхание. Не забудешь такое и через годы, расскажешь детям и внукам.
С войной конфуз вышел. Турка не одолели. А царь с палкой: корабли строй! «Какие ещё корабли?» — ему говорили. Отроду того никто не ведал. Но царский указ один: строй!
Апраксин Фёдор Матвеевич хорошо знал воронежское то корабельное строительство. На своём горбу вынес. Руки выворачивали пилами, а когда было видано, чтобы дворянин пилой махал? Научились всё же. И железо ковали в лютую стужу, когда за металл и взяться нельзя, чтобы лоскут кожи кровавый на нём не оставить. Кости, застуженные на тех ветрах, ещё и теперь по ночам ноют.
Русский человек ко всему привыкнуть может. Построили корабли те. И турка обидеть смогли. «Ну, — вздохнули, — теперь спокойнее будет».
Куда там… Пошли воевать шведа. Горе да беда глаза кровью заливали.
У светлейшего князя Меншикова перед взором мысленным дорога на Нарву и сейчас стояла. Грязь непролазная, воронье, орущее над головой. Брёл, брёл по дороге той князь, тянул ноги из грязи и свалился, но встал и пошёл дальше. От холода, голода, от брюшных болезней люди мёрли сотнями, и смерть сама казалась уже благодеянием. Отмучился-де человек, а нам-то дальше идти.
Поражения были тяжкими, победы ещё труднее. Но обтерпелись и даже земли приморские к державе прибрали. Больше того: некоторые руку так поднабили, что без викторий уже и не могли. Готовы были лезть со шпагами не то что на крепостные стены, но хоть на небо.
В промежутках между горькими поражениями и победами, ещё более горшими, и стрельцам головы рубили, и за Урал-кряж людей посылали, и мануфактуры да заводы железные и медные строили. Купцы, смелости поднабравшись, стали свои товары своими же кораблями в города ганзейские и английские возить. Город Петербург строить на болоте начали, остров Котлин насыпали и в камень одели. И поняли вдруг: да что заморские те мастера, да купцы, да мужи, превзошедшие учения? А мы что, или рожей кривы? Русскому мужику навостриться — он и чёрту не брат.
А теперь вот пришлось и царского сына судить. Но судьи, своими руками выдиравшие победы те тяжкие, понимали, что не судили бы царевича Алексея, если бы не было Азовских походов, кровавых штурмов крепостей шведских и не полоскались бы паруса русских кораблей на просторах морских. Большая цена каждым из сидевших в зале за всё то уплачена была, а ещё больше — знал каждый же — отдал за то русский народ.
Царевич вошёл в зал смело и остановился, крепко притопнув каблуками.
— Да, — сказал он, — отцу своему я смерти желал.
Кожа на лице у Алексея обтянулась, и злые желваки под скулами выступили. Глаза были сухи.
— Да, — сказал он, — поборник я старинных нравов и обычаев и в новинах отцовых смысла не вижу.
И все удивились твёрдости, с которой он высказал те предерзкие слова. И головы стали поднимать, приглядываясь, словно видя впервые: каков же он, что говорит так? А он стоял — слабая узкая грудь, бессильные руки, брошенные вдоль тела. Руки, что кирпича не положили и шпагу не держали.
У светлейшего князя Меншикова от ярости глаза, как раскалённые угли, вспыхнули. Ягужинский кулаки сжал до белизны в суставах. У Апраксина рот пополз на сторону.
Нет, не этим людям речи такие слушать было. Они не могли их принять. Хотя бы потому, что каждый из них, оправдав царевича, должен был обвинить себя и перечеркнуть все раны свои, и страдания, и боли, принять только его боль за несостоявшийся трон.
— Да, — сказал царевич, — хотел я возмутить Русь, чтобы новины те порушить и к старому вернуться, чем жили наши деды и прадеды.
«Легко же тебе новины хулить и рушить, — подумал Толстой, ещё более помрачнев лицом, — легко…» Но лаю не было. Слишком уж круто дело заворачивалось.
Когда царевич смолк, долго сидели молча, словно дыхания перевести не могли, взобравшись на гору крутую. Наконец поднялся Пётр.
— Смотрите, — заговорил он глухо, — как зачерствело сие сердце, и обратите внимание на то, что он говорит.
Пётр смолк и опустил голову. И все молчали. Опять понимали: сына его судят, царевича, данного богом. А кто против бога без страха пойти может?
Пётр продолжил, сумев превозмочь волнение:
— Соберитесь после моего ухода, вопросите совесть свою, право и справедливость и представьте письменное мнение о наказании, которое он заслужил, замышляя против отца своего.
Голос у Петра пресёкся. Булькнув горлом, он сказал:
— Но мнение то не будет конечным судом: вам, судьям земным, поручено исполнить правосудие на земле. На небе же бог суд свой совершит. — Лицо у Петра потемнело, будто на костре он стоял и лик копотью ему одело. — Я прошу, — сказал он, — произнести ваш приговор по совести и законам. Но вместе с тем тако же, чтобы приговор был умерен и милосерд, насколько вы найдёте возможным то сделать.
Пётр вышел из-за стола, шагнул к царевичу. Остановился перед ним, заглянул в глаза. Медленно поднял руки и, обхватив за плечи, притянул к себе, поцеловал в губы.
Царевич Алексей, наследник трона Великая, и Малая, и Белая России, судом приговорён был к смертной казни. Из залы, где состоялся суд, царевича отвезли в Петропавловскую крепость.
Во дворце Меншикова светила в окне свеча. Бледно светила, незаметно. Да и кому было приметить: стояла ночь.
И вдруг свет поплыл из окна в окно и всё ближе, ближе к входу. А потом и вовсе скрылась свеча, и в то же время отворилась дверь дворцовая. Вышли четверо: генерал Бутурлин, Ушаков, Толстой да Румянцев — капитан.
Ночь была ветрена.
В двери показался Меншиков. Постоял и, отступив назад, дверь за собой прикрыл.
Четверо пошли к Неве. У причала к железному кольцу доброй цепью была примкнута шлюпка. На корме горел неизвестно чьей рукой зажжённый фонарь.
Остановились. Шлюпка раскачивалась на волне. Чайки над Невой кричали тревожно. Ветер рвал плащи на плечах.
Толстой повернулся и, отыскав глазами вдали церковный крест, перекрестился, подолгу прижимая сложенные пальцы ко лбу, к обширному чреву, плечам. Сказал:
— Изменивший отцу своему, и земле своей да не прощён будет!
— Аминь, — заключил Ушаков и первым шагнул в шлюпку. За ним сошли и другие.
Румянцев, сильно оттолкнув шлюпку, прыгнул на корму, чиркнув носком ботфорты о воду. Сел за вёсла. Шлюпка пошла к Петропавловской крепости.
…На следующий день, 26 июня 1718 года, было объявлено, что царевич Алексей Петрович скончался.
А ещё через два дня в Петербурге с Адмиралтейской верфи спускали построенный его величества собственным тщанием корабль «Лесной». Шумство было немалое.
С полудня потянулись к верфи кареты пышные; колымаги, гнутые корытами; разные возки, тройкой, а то и шестериком запряжённые. Подвигались к верфи сенаторы, министры, иностранные дипломаты. Кучера ярили коней, выхваляясь друг перед другом.
Пётр подъехал на своей всегдашней, известной каждому в Петербурге двуколке с рыжим солдатом на облучке, спрыгнул на землю и не то кивнул ожидавшим его государственным персонам, не то только головой дёрнул сверху вниз от неудобства воротника мундира. Лицо у царя под низко надвинутой шляпой было тёмное и неподвижное.
К Петру соколом кинулся светлейший, заговорил быстро-быстро, округло разводя руками. Но слов его никто не разобрал. С Невы потягивало свежим ветром, да так, что иные из стоящих у верфи придерживали руками шляпы.
Пётр, широко расставив ноги, не мигая, смотрел на корабль. От него ждали слов каких-либо. Но он молчал. Государственные мужи топтались неловко на плахах и горбылях, брошенных в грязь. Наконец Пётр сказал что-то Меншикову. Тот ступил вперёд и крикнул мужикам у стапеля. Один из них, в чистом армяке и больших, как сани, лаптях, низко подпоясанный праздничным красным кушаком, подбежал к Петру и к ногам царя опустил тяжёлый молот для выбивания клиньев из-под полозьев под кораблём Пётр крепкой рукой взялся за рукоять и неожиданно оглянулся на стоящих за его спиной мужей. Резко повернулся и поймал взгляд, уколовший его в спину. Из-за шляп, из-за настороженных лиц глядели на него пристально чьи-то глаза. Вгляделся царь, узнал — Плейер, резидент цесаря германского. Глаза Плейера были внимательны гораздо и не то спрашивали, не то осуждали. С минуту Пётр смотрел в глаза те и, не изменив лица, отвернулся, вскинул на плечо молот и зашагал к кораблю.
Спину Петрову буравили глаза Плейера, страшили. Но глуп был резидент австрийский с помаргивающими глазами, с цыплячьей шеей, бесценными кружевами одетой. Как понять ему было из благополучия своего немецкого, из мелочной упорядоченности, когда всё по полочкам расставлено, что испугать Петра, перешагнувшего в жизни своей через самое страшное, уже нечем.
Пётр подошёл к стапелю и крякнул мужикам:
— Давай, давай! Становись для спуска!
И всё с тем же каменным лицом поднял молот.
…Всё время по возвращении в Россию, дни розыска и суда Пётр Андреевич Толстой жил странно, непохоже на прежнее своё житьё. Оно, конечно, не на дудках все эти дни играли, а государевым словом вершили государево дело, но то было для Толстого привычно. И одной этой занятостью странности его поведения объяснить было нельзя. Правда, разом много навалилось страшного, но и раньше Петра Андреевича жизнь по головке не гладила, всякое видел, ан вот холода такого в груди, как ныне, неуютства не ощущал. Даже и в трудные времена Софьиного бунта, лихую пору, в дни тягостные опалы, в стамбульском заточении. Беспокойное, тревожное чувство и на минуту не оставляло его, так, как ежели бы шёл он по ночному лесу и во тьме непроглядной ждал: сей миг кинется из тьмы зверь кровожадный или земля под ногой провалится. Однако проходили дни, но и зверь кровожадный не бросался, и земля не проваливалась, но всё одно знобящий холод в груди оставался. «Знать, старею, — думал он, — старею…» Но это не утешало и не убеждало. Да и знал он, что дело вовсе не в прожитых годах. Это так про старость говорил только, отмахиваясь от трудных мыслей. Но додумать всё до конца — угадывал — придётся.
Возвратившись в родной дом, поднявшись по ступенькам крыльца, где каждая выбоинка была знакома и памятна, он рассеянно приласкал сына, отметив, что отрок белоголовый много окреп благодаря радению Филимона, и подумал, что время пришло определить вьюношу в полк, но тут же об том забыл. Чуть придавил руками плечи мальчика, сказал:
— Поди, поди, поиграй.
Сын взглянул на него снизу вверх и тихо пошёл из палаты. Пётр Андреевич, более ничего ему не сказав, стоял молча. Дом его не обрадовал. А из Стамбула-то когда вернулся, как взмолился у заставы, как возликовал душой? А ныне вот ничто в нём не шевельнулось, будто не в отчий дом вошёл, а так — в городьбу незнакомую. Потерял вкус к еде и вечерами, подолгу сидя за столом, отщипывал крошку и отодвигал блюда.
Филимон хлопотал вокруг стола, вздыхал, поглядывая на барина, но Пётр Андреевич, казалось, его не замечал. У Филимона от недоумения поднимались плечи. Человек расчётливый, умеющий копейки считать, говоривший не раз: тяжела должна быть копеечка, тяжела, — Толстой без внутреннего участия, как ежели это и не его касалось, воспринял и щедрые царёвы награды. То уж было диво.
А награды были немалые.
Царь «приказал двор Авраама Лопухина, что на Васильевском острову, с палатным и протчим строением и со всеми припасами» отдать Толстому в вечное владение. Но и то было не всё. Пётр Андреевич получил около полутора тысяч крестьянских дворов, да и дворов крепких. Приказной, что отписывал на Толстого крестьянские души, осклабившись, сказал:
— Благоволение государево безгранично… Поздравляю…
И склонил плешивую голову. Толстой глянул на него пустыми глазами и не ответил даже и кивком. Тот, поняв это по-своему, склонился ещё ниже:
— Поздравляю.
Выглянувшая из широкого ворота шея приказного, изрезанная глубокими морщинами, выразила рабскую покорность. Толстой отворотил от нега лицо.
Однако и передачей лопухинского подворья и полутора тысяч крестьянских душ не ограничилась царская ласка к Петру Андреевичу. «За показанную великую службу не токмо мне, — говорилось в царёвом указе, — но паче ко всему отечеству, в привезении по рождению сына моего, а по делу злодея и губителя отца и отечества» Толстому был пожалован чин действительного тайного советника, стоящий в табели о рангах второй строкой после канцлера — высшего державного чина. Пётр Андреевич был назначен президентом Коммерц-коллегии, сенатором. Но всё то были милости. Свидетельством полного доверия царя стало назначение Петра Андреевича начальником Тайной розыскных дел канцелярии. Это была вершина власти. И здесь не приказной поздравлял его, но половина Москвы съехалась со словами привета.
Скрипливые ворота у толстовского дома были распахнуты настежь, толпились зеваки и дворня. Москвичи поглазеть любят. По засыпанной сеном улице подкатывали кареты с гайдуками на запятках, с ливрейными мужиками, и всё больше цугом, раззолоченные, с прозрачными стёклами в дверцах. Зверовидные кучера натягивали вожжи.
Филимон охрип, объявляя на новый, только вводимый в Москве манер входивших в палаты.
Среди поздравлявших были Александр Данилович Меншиков, канцлер граф Гаврила Иванович Головкин, князь Дмитрий Михайлович Голицын и многие другие, в шитых золотом мундирах, опоясанные голубыми лентами, с алмазными звёздами. Цвет державный. Те, кто ближе всех к царю стояли. Александр Данилович, по обычаю своему вольно шагая по палате, подошёл к Толстому, потрепал дружески по плечу, не сдерживая голоса, сказал громко:
— Рад, рад, поздравляю… Широко шагаешь, широко…
Блеснул голубыми глазами. Однако губы у него в улыбке сложились криво и зло. Честолюбив и завистлив был князь до крайности. Ах, завистлив!
Один из старомосковских бояр, худой, высокий, с острым лицом, держа узкую рюмку в иссохшей, но крепкой, без дрожания руке, тоже улыбкой наградил Петра Андреевича.
— Счастлив ты, Пётр Андреевич, — сказал, — милостями государевыми и друзьями счастлив.
Обвёл палату взглядом и прикрыл глаза. Слова его прошелестели зловеще.
А дамы плясали. Летели платья, сверкали обнажённые плечи, искрились глаза. Непривычный к шуму и громким голосам дом Толстого гудел, вздрагивал, откликался гулами на громкие голоса и стуки, Филимон стоял у стены, сложив руки на груди, и немало удивлялся.
Однако гости разъехались. Пётр Андреевич, сидя за столом, вялой рукой чертил на скатерти ножом замысловатую фигуру.
Свечи, потрескивая, догорали.
Ступая неслышно, в палату вошёл Филимон. С осторожностью, дабы не обеспокоить барина, заменил свечи в шандале, стоявшем подле Петра Андреевича. Взглянул искоса. Толстой, тяжело сидя на немецком стуле с высокой, много выше головы, спинкой, по-прежнему водил ножом по скатерти. Хорошо освещённый свечными огоньками лоб Петра Андреевича прорезали крутые, злые морщины, и явно было, что такие меты на чело не ложатся от лёгких мечтаний. Нет, куда там. Толстой, медленно подняв глаза от стола, взглянул на окошко, у которого в дни опалы сиживал подолгу, и странная улыбка сморщила его губы.
Головой своей многодумной Пётр Андреевич понимал, что, розыском пресеча умысел царского сына Алексея, он для России послужил немало и наверное предостерёг державу от могущих последовать смуты, тягот и лиха, однако сердце Толстого томилось в беспокойстве. Ныне это был вовсе не тот Толстой, который в жарком порыве стремился за знаниями в Италию, и не тот, что входил с твёрдой уверенностью в султанский дворец в Стамбуле, спускался, упрямо закусив губу, в подвал Семибашенного замка или гнал коней по неаполитанским дорогам за сумасбродным царевичем. Нет, не тот… Многое случалось увидеть ему, и теперь только он понял, почему так тяжела, трудна была походка князя-кесаря Фёдора Юрьевича Ромодановского, когда Пётр Андреевич и думный дьяк Украинцев увидели того с крыльца Посольского приказа накануне его, Толстого, отъезда в Стамбул. «Власть, — с отчётливостью прояснилось в сознании Петра Андреевича, — это груз, который удержать трудно, и воробышком под его тяжестью не поскачешь». А ещё и то понял, что люди, наделённые властью, большие её пленники, нежели те, над кем они властвуют, хотя то не всегда понимают или не хотят понять. Пётр Андреевич вспомнил голубым огнём блеснувшие глаза князя Меншикова, шелестящий голос боярина и должен был сказать себе: с сего дня дорога его жизненная острее, по которой ступать можно с великой осторожностью. И разом холодным умом рассудил, что дело царевича Алексея, хотя вот и поставило его на вершину лестницы власть предержащих, однако же впредь жить ему явно в крепости осаждённой, так как прямая причастность к смерти царевича стеной его отгородила от старой Москвы, родов стариннейших, которые никогда ему не простят Алексея, но и вместе с тем люди новые, стоящие вкруг Петра, тот же Меншиков, бдить будут каждый его шаг.
С несвойственным раздражением Толстой отшвырнул нож, и тот, звеня, покатился по столу. Резко поднялся, шагнул по палате.
Филимон взглянул с изумлением. Таким барина он не видел никогда. В ту минуту Пётр Андреевич чувствовал, будто на перекрёстке стоит и на него из улицы тройка гонит. Кинулся бы в сторону, но и оттуда кони скачут. В третью — а и там ямщик удалой кнут поднял и гонит вороных во всю прыть. Копыта в землю бьют, пыль летит, и грохот глушит, пригибает голову.
— Ну-ну… — сказал всё-таки Пётр Андреевич, хотя и не очень уверенно, да тут же повторил и потвёрже: — Ну-ну…
Да это и не Толстой бы вовсе был, ежели такого не сказал.
Глава пятая
оворчала Москва угрюмо по смерти царевича да и притихла. Здесь и пугать и пугаться привыкли. Да Толстой в Москве не задержался. Определил малого сына Ивана в Преображенский полк да и ускакал в Петербург. Дела не ждали.
Успех Петров в Париже хотя и охладил пыл шведов, но война тем не кончилась.
В дела прибалтийские властно вмешалась Англия. Туманный Альбион. Вот уж кого не хватало в этой каше. Но да ждать того было нужно. Море и англичанин были неразделимы. Британия владычествовала над морями и дралась за своё первенство свирепо.
Карл был убит при штурме[51] одной из крепостей. На трон в Швеции села его унылая сестра Ульрика-Элеонора[52], при каждом шаге устремлявшая взор к Лондону. Своего авантюрного брата она вспоминала как страшное наваждение. Но ежели Карл, наделённый избыточной силой, был способен на любую безрассудную дерзость, Ульрика-Элеонора представляла саму анемичность. Начавшиеся было на одном из островов Аландского архипелага переговоры между Россией и Швецией о мире прервались. В том сыграли роль многие, но прежде всего Петровы союзники. Пётр был несчастен в союзниках. Он вкладывал и силы и огромные средства, чтобы удержать их в договорённостях, но как только нависала угроза над тем или иным его начинанием, союзники предавали Петра самым злым и коварным образом. Так было с Данией, когда Карл двинул войска к пределам России, так многажды повторялось с королём польским и курфюрстом саксонским Августом, так же складывалось и с Пруссией.
Царь знал, что европейские «дружочки», как он их называл, народец ненадёжный. И в раздражении частил их самыми злыми словами, на которые был великий мастер, но до странного боялся их потерять, хотя за долгую войну они ему ни разу не помогли и завоевания российские были совершены российскими трудами и российской же кровью. У Петра была привычка жить в маленьких и низких палатах. И коль случалось ему останавливаться в доме с высокими потолками, он велел натягивать в палате, где спал, полотняный дополнительный потолок, дабы принизить высоту. Только тогда он чувствовал себя спокойно. Так и союзники его были вроде этого полотняного потолка, который и пальцем можно было проткнуть, но само существование союзов вносило в душу царя покой и уверенность. Когда Пётр сел на российский трон, в России считали, что существует три внешние опасности: с севера — Швеция, отторгнувшая исконные российские прибалтийские земли; Речь Посполитая, постоянно угрожавшая западным пределам, и на юге — Турция, руками крымских орд да и собственными силами безжалостно грабившая и разорявшая южные украины. И традиционно же россияне укрепляли границы с трёх направлений и стремились к вытеснению противников с этих земель. Сейчас было иное. После Полтавы Россия вступила в мир, как равноправный член сообщества европейских стран, без которого нельзя было решать сколь-нибудь серьёзные вопросы. Во всяком случае, силы её надо было учитывать, как бы этого ни хотелось. А этого как раз и не хотелось.
В Европе начиналась англо-русская дуэль.
— О-хо-хо, — покряхтывал Пётр Андреевич, пробираясь по грязям в валком возке в Петербург и размышляя над многоходовыми державными играми европейских царствующих домов.
Порой казалось, что иные царствующие особы забавляются сим мудрейшим из занятий. Но забава-то была нелёгкая. Лилась кровь, и конца этому взаимному кровопусканию не было видно.
Ныне Пётр, отвоевав у шведов прибалтийские земли, дразнил ими Европу. Множество жадных рук из различных европейских столиц тянулось к вожделенным прибалтийским землям. У королей и курфюрстов блестели глаза и спазмы перехватывали глотки.
Пётр Андреевич поспешал в Петербург не только потому, что закончил московские дела, но ещё и по причине известия от Гаврилы Ивановича Головкина о приезде в Петербург герцогини мекленбургской. Гаврила Иванович писал, что в сём деле участие Толстого будет весьма полезно. В этом же письме Головкин по-старчески жаловался на погоду и непрерывные ветры с Невы, от которых-де голова гудит колоколом и просыпаются в теле старые болячки. Но Пётр Андреевич понимал, что не ветры и старые болячки озаботили Гаврилу Ивановича. Тот хотел, как явствовало из письма, иметь подле себя в щекотливом деле добрых помощников. А в них была нехватка. Борис Иванович Куракин, светлая голова, не боявшийся и царю Петру резкую правду сказать, сидел в Гааге, Остерман и Брюс[53] попусту томились на Аландах в ожидании продолжения переговоров со шведами, да и другие были в деле. Так что под рукой у Головкина, пожалуй, оставались только Меншиков да Шафиров из тех, кто мог с царём говорить всерьёз. Ну да на Александра Даниловича, как знал Толстой, у Головкина расчёт был не велик.
Меншиков — несдержанный, громогласный — в интриги дипломатические встревать не желал и считал переговоры, договоры, соображения межгосударственные пустым брёхом, да так это и называл. Командуя российским корпусом в Померании, он так восстановил против себя короля датского, что тот без зубовного скрежета и говорить об нем не мог. На одном из балов в столице Дании министру тамошнему, когда тот неосторожно о России выразился, Александр Данилович вместо достойного случаю изящного словесного возражения дал такого крепкого цинка в зад, что сей министр растянулся во весь рост. Король возмутился.
Меншиков мысли выражал с предельной простотой:
— Есть деньги, клади на стол. Нет — пошёл вон. Да так себя и вёл.
О смерти Карла он сказал:
— Шлёпнули сего ероя, шлёпнули, — и руки раскинул в стороны, — был нужен — держали. А как поперёк горла стал, тут и стукнули по затылку.
Пётр начал было осаживать его, но Александр Данилович на своём стоял твердо:
— Э-э-э… Пустое, адъютант его же и шлёпнул, Карла-то… Адъютант или секретарь он же. Шлёпнул и скрылся. Знаю я. Вопрос в том — кому это было нужно? Кому? Вот это закавыка.
Синие глаза Александра Даниловича распахивались на поллица…
В переговорах с герцогиней надо было вести дело тоньше. По чёрной дороге катило злую порошу. Кони спотыкались.
— Ладно, — сказал Пётр Андреевич, перебирая в пальцах листки письма Головкина. Захватил в дорогу. Знал: время будет — почитает, подумает. — Поглядим…
За оконцем всё тянулись грязи. Пороша затягивала колеи. Нахальное воронье орало, вилось над возком. И отчего оно плодилось, чем жило — загадка. В деревнях и людям-то жрать было нечего. Деревни по дороге стояли плохие. Кривобокие избы топырили локти гнилых углов, заборы были завалены, редко-редко увидишь человека, да и тот, единственный, норовит в грязь перед проезжим возком упасть да руку протянуть христа-ради. Навоевалась Россия, да и какой уж год зорили её налогами, солдатчиной, и конца тому было не видно. Пётр Андреевич только покашливал хмуро, поглядывая в окно. Путь к морю давался России великими тяготами.
«Корабль-то построить, — подумал Пётр Андреевич, — что хороший город поднять». — Ай-яй-яй… Возок дёргало и шатало.
Король Август затеял охоту в королевских угодьях под Варшавой. Егеря по первому снегу обложили пущу над Вислой и ждали команду дворцового маршалка начать гон. А пока мёрзли под пронзительным, северным ветром, попрыгивали, постукивали деревянно стучавшей обувкой. На обсыпанных сверкавшим снегом деревьях качались красногрудые снегири. Мороз прижимал.
«Пи-пи, пи-пи…» — посвистывали снегири, и от голосов их мороз ещё крепче брал за обмороженные носы, заползал под рваные кожухи. Команды, однако, начать гон не было. Егеря в не лучших выражениях поминали и бар своих, и Матку-боску — заступницу. Пойди попробуй-ка так-то вот, час за часом, на ветерке в заледеневшем лесу под кустиками поскакать.
Король меж тем, сидя перед пылающим камином в охотничьем домике, не спешил взять ружьё. Да и по тому, как он широко раскинул большое тело в удобном кресле, казалось, что он вовсе забыл об охоте. Надменное, с крупными чертами лицо короля приятно розовело в свете камина. В большой холёной руке Август держал бокал с подогретым вином и, время от времени поднося его к сочным губам, велеречиво рассуждал о европейской политике. Гости короля, полукругом рассевшись у камина, слушали внимательно. Такие минуты король особенно ценил, и ему было не до охоты.
Август любил полёт, широту, размах в политических разговорах, и для него было в конце концов не важно, чем заканчивались такие рассуждения. Будет ли от них прок или единое лишь сотрясение воздуха. Слова, слова, какие красивые были слова… От них кружилась голова больше, чем от вина, и это-то и было главным для Августа. Вот так у камина, с бокалом в руке, он мог переустраивать миры. Король был смел в словах, отчаян, решителен, быстр, неудержим в стремлении идти дальше и дальше. То были эскопады ума, взрывы идей. В такие минуты королю никак нельзя было отказать в изобретательности, знании пороков и достоинств царствующих дворов Европы.
Сегодня Август избрал тему невозможности союза с Россией.
— Россия, — восклицал Август, вздымая в руке бокал, — что же… Она сделала своё… Карла — жадного зверя, постоянно терзавшего нам печень, — более не существует, и ныне царь Пётр должен достойно отступить. Там, в России, в снежных просторах, он может решать собственные дела, но не мешать более Европе. Его историческая миссия выполнена. Он сделал своё, и благодарная Европа готова ему рукоплескать, но не больше.
Голос короля звучал как орган, серебряные горла которого несли бесконечную гамму звуков. Голос Августа то неожиданно густел, являя власть и силу, то поднимался кверху, и тогда в нём чувствовалась нежность свирели, увлекающая сила зовущей вдаль дудочки.
— Над Европой, — говорил Август, — более не тяготеет проклятье ужасного шведского ветра. Розы могут распускаться, не боясь смазного ботфорта шведского солдата. Пусть царствуют музы, торжествует Эрос.
— Как вы правы, ваше величество! — трепеща, воскликнула одна из приглашённых на охоту дам.
Король взглянул на неё и втянул воздух побледневшими крыльями великолепного, по-римски строгого носа.
— Да, да, — подтвердил он, — пусть торжествует Эрос!
Август выдержал паузу, дабы каждый почувствовал значимость его призыва. А когда королю показалось, что присутствующие достаточно прониклись глубиной его мыслей, он откинулся в кресле и, воздев кверху свободную от бокала с вином руку, сомнамбулически откинул гордо посаженную на широкие плечи голову и сказал голосом человека, открыто читающего будущее:
— Я предвижу! Перед упрямым и прямолинейным царём Петром будет воздвигнут барьер. Взявшись за руки, европейские страны противопоставят России своё единение. Восток опасен Европе.
Один из придворных опустил глаза. Он не хотел ставить в неловкое положение короля, так как знал, что это предвидение — решённый вопрос, а не заглядывание вдаль. В ближайшее время в Вене должен был состояться конгресс, который предполагал подписание давно подготовленного договора между австрийским императором Карлом VI, английским Георгом I и Августом о взаимной помощи и союзе против возможных попыток России занять Польшу или проводить войска в Германию через польские земли. Договаривающиеся стороны обязались вступить в Польшу в случае появления здесь русских войск. Георг I обещал обеспечить поддержку английского флота на Балтике против России. Участники договора составили и план мира между Россией и Швецией, по которому Пётр получал только Петербург, Нарву и остров Котлин. Договаривающиеся стороны условливались: ежели Пётр не примет этих статей, то они будут навязаны силой, дабы вытеснить русских из Лифляндии и Эстляндии. Кроме того, договором утверждалось — вернуть Польше Киев и Смоленск. Ежели вчитываться в торжественные слова этого союзного решения, можно было подумать, что победу под Полтавой одержал не Пётр, а по крайности Август и не Петровы войска стояли в Померании, но войска английского Георга. Это было более чем странно, но так хотели короли.
У Августа внезапно пересохли губы, и король залпом выпил бокал вина. Он не задумывался, что совершает очередную подлость по отношению к царю Петру, чьим золотом и войсками восстановлен на польском троне.
Гибко и сильно поднявшись с кресла, Август воскликнул:
— Дамы и господа, а теперь нас ждёт пуща!
Перед охотничьим домиком, красовавшимся на заснеженном взгорке, как яркий пряник, хрипя и стеная, прогремел охотничий рог. Егеря, вовсе замерзшие под злым ветром, встрепенулись.
По широким ступеням крыльца, пружиня обтянутыми шёлком икрами, величественно сошёл король. За ним последовали придворные. На короле был подбитый русскими соболями алый плащ, горевший красками пожара на свежем снегу, широкополая шляпа, украшенная яркими перьями и отогнутая над гордым лбом так, чтобы не затенять королевского лица. Снег скрипел под каблуками Августа с подчёркнутой силой и мужественностью. Не менее выразительнее короля были придворные. На дамах выделялись восхитительные высокие бобровые шапочки, голубой снег мели пышные юбки. Выше похвал были и кавалеры. Вся группа являла необычайное собрание красок на непорочно белом полотне заснеженного взгорка. Это был неповторимый по колориту великий Дюрер, брошенный волшебной рукой в польские пущи.
Багровея лицом, дворцовый маршалок гремел в рог.
Король сделал несколько шагов и остановился. Все замерли в ожидании. Хриплый голос рога смолк. Всё шло по многажды испытанной, многократно разыгранной схеме, и вдруг произошёл сбой, некая заминка. На охоте выдержать впечатляющую паузу с тем же успехом, как это делал король у камина с бокалом в руках, не удалось. Что-то не заладилось у егерей, что-то замешкалось, пауза до неприличия затягивалась. Король недовольно поморщился. Одна из дам зябко повела плечом под колючим ветром. Кто-то из кавалеров неосторожно переступил лёгким башмаком по звучному снегу. У дворцового маршалка дрогнуло и, пульсируя, забилось веко над глазом.
Однако охота тут же наладилась. Егеря, застуженные до крайности за долгие часы стояния в продутой ледяным ветром пуще, по пузо проваливаясь в снег, выкрикивая проклятья, всё же вывели оленя на охотничий домик.
Рогатый красавец вымахнул из кустов и, опешив, стал перед королём на дрожащих, подкашивающихся ногах. Адъютант подал Августу ружьё с взведёнными курками. Олень всё ещё стоял, и было видно, как дыхание бурными струями рвётся из его заиндевелых ноздрей.
Ударил выстрел. Олень шагнул вперёд, ещё, ещё… и рухнул в снег. И никому было невдомёк, что поразил его отнюдь не королевский выстрел. Август мог спокойно стрелять в воздух, как чаще всего и делают короли. Не надеясь на меткость Августа, оленя свалил егерь, бивший по нему из-за кустов. Удар пришёлся в бок, против сердца. Но король уже принимал поздравления. Тем и кончилась охота. А вот разговор Августа у камина имел продолжение. Через некоторое время в Вене собрались австрийский император и короли. Договор был подписан. Август и на этот раз восхитил придворных даром предвидения. А он так жаждал восхищения.
За полсотни вёрст до «парадиза», как называл царь Петербург, дорога расквасилась вовсе, растеклась лужами. Возок Петра Андреевича едва-едва тащился. Кони, исхудавшие за дорогу, влегали в хомуты с хрипом, со стоном, роняли серые клочья пены. Одна только надежда и была, что до Петербурга рукой подать. А на последней версте, известно, и хромой конь рысью бежит.
Вознаграждением за трудную дорогу при въезде в Петербург ждала Петра Андреевича неожиданная встреча.
Миновали первые дома, и возок остановился, пропуская спешно марширующий отряд солдат.
Пётр Андреевич выглянул в заляпанное грязью оконце.
Солдатских лиц за дождём было не разглядеть, только медные кики посвечивали над головами. Офицер на коне возвышался над строем тёмной горой. Ветер заваливал лошадиный хвост на сторону. Офицер разевал рот, кричал, но голоса не было слышно. Пётр Андреевич вгляделся в него, ахнул: «Румянцев!» Распахнул дверцу возка и вышагнул на дорогу. Тут и офицер увидел его, подскакал, вскинул руку к треуголке.
— Ну, здравствуй, братец, — воскликнул Пётр Андреевич, — здравствуй, не чаял и увидеть тебя! Как жизнь-то?
— Царём не обижен, службой доволен! — бойко вскричал Румянцев.
По крепкому лицу офицера ползли капли дождя, но он того не замечал.
— По команде отправлен в войска, следую к месту назначения.
— Ну, следуй, следуй, братец, — с волнением отвечал Пётр Андреевич, — очень рад тебя видеть.
И вспомнил вдруг голубые глаза Меншикова, злую его улыбку, шелестящий голос старомосковского боярина. Подумал: «Может быть, чаша сия минует тебя. Дай-то бог!»
Протянул руку Румянцеву. Свешиваясь с седла, офицер ухватил её сильной, влажной от дождя пятерней, сжал крепко. В том же, что его, Петра Андреевича, доля злая не минует, Толстой был уверен.
— Счастливо тебе, господин офицер, — сказал, — счастливо. Помогай бог!
Через час Пётр Андреевич поднимался по ступеням царского дворца.
Царёв дворец был так себе, плоховат. По правде — была это изба на две горницы с кое-какими пристройками позади. Но избу по указу царя выкрасили под кирпич и не по-российски высоко подняли ей крышу, дабы напоминала она Петру любезные его сердцу голландские кровли. Над входом красовались вырезанная из дерева умельцами с судовой верфи мортира и тут же две бомбы с горящими фитилями. Мортира выглядела довольно грозно. Но в сенях и переходах избы гуляли сквозняки, сырым тянуло от стен, дышало холодом от пола. Дворец, почитай, только что срубили. Да здесь, в Петербурге, всё было внове.
Город едва начинался. Как во всяком строящемся городе, по улицам тянулись бесконечные обозы с лесом, камнем, металлом, лопатами, ломами и бог весть ещё каким грузом. Шли люди: каменщики, землекопы, плотники, жестянщики. Только что прибывшие в новую российскую столицу мужики с любопытством поглядывали на болотистые земли, крутили
— Хляби здесь…
— Да, сыре.
— Хватим горячего.
— Эй, разговоры! — покрикивали недобро драгуны царские, сопровождавшие обозы.
Мужики косились:
— Строго, однако. Шли дальше.
Строили, строили «парадиз» на костях людских, на замеси слёз, пота и крови.
Пётр Андреевич разыскал во дворе дежурного офицера. Тот глянул, сказал:
— Да-да, ждут, — и, громко стуча ботфортами по гулким доскам пола, повёл Толстого в глубину дворца. Указал на дверь: — Здесь.
Пётр Андреевич вступил в палату.
У оконца, за столом, заваленным бумагами, сидели Гаврила Иванович Головкин и Пётр Петрович Шафиров. Серый свет сочился в окно, но, видать, им его мало было; и на столе в кривобоком медном шандале горели две оплывающие свечи.
Толстому стула не нашлось. Царь, спеша утвердить новую столицу, повелел приказы перевести в Петербург, и вот перетащили бумаги Посольского приказа, который велено было именовать ныне Иностранной коллегией, а избы доброй сей коллегии так и не подыскали. Мыкались кое-как. В меншиковский дворец часть бумаг свезли, в дом Головкина, в чуланах у Шафирова хранили бумаги, кое-что здесь было да по иным углам.
Шафиров ногой подвинул Петру Андреевичу короб.
— Садись, — сказал, — авось не свалишься. — Улыбнулся одними губами, лицо было озабоченно. — Как добрался-то? — спросил. — Дорога чёртова, знаю.
Толстой сел на шаткий короб и огляделся. Увидел стопами сложенные у стены приказные бумаги и тогда только понял, что его поразило при входе в палату: запах старых бумаг. Дворец-то был новый, а тут этот въедливый запах.
Поднял глаза на Шафирова. Пётр Петрович был невесел. Да Толстой угадывал — веселиться не от чего.
Головкин, упираясь локтями в стол, прогудел:
— Пётр Алексеевич сегодня герцогиню принимает, и нам велено при том быть.
Выпятил губы и глаза завесил бровями. Радости и у него на лице не обнаруживалось.
С герцогиней дело подлежало серьёзному обдумыванию.
Царь Пётр выдал засидевшуюся в девках племянницу свою Екатерину Ивановну за герцога мекленбургского Карла-Леопольда. Вот она и стала герцогиней. А герцог, посчитав, что с женой, за спиной которой стоит могучий Пётр, и чёрт не страшен, повёл себя так, что мекленбургское дворянство его возненавидело. В Мекленбурге Карлом-Леопольдом детей пугали. Но это было ещё половиной беды. На Мекленбург зарился австрийский император, не без интереса поглядывал и английский Георг, курфюрст Ганновера. Но этот готов был и уступить Мекленбург Карлу австрийскому, да только чтобы эта земля не доставалась русским. Уж очень хотели англичане вытолкнуть Петра из Европы. Однако Карл австрийский как ни жаждал засунуть в свой мешок Мекленбург, но помнил, что вблизи границ Польши стоит стотысячная русская армия и пушки её заряжены не пареной репой с горохом. И всё же ныне усиленно подталкиваемый Англией Карл австрийский отдал приказ войскам вступить в Мекленбург, якобы для разрешения ссоры между строптивым герцогом Карлом-Леопольдом и его дворянством. В Петербурге получили известие, что войска Карла двинулись через польские земли к морю. Тут-то и началась свалка. Карл-Леопольд завопил: «Грабят!» И Екатерина Ивановна, не долго размышляя, бросилась в карету и, загоняя коней, поторопилась к могучему дяде, у которого, в отличие от её высокородного, но вздорного супруга, были хорошие солдаты. И Головкин, и Шафиров, и Пётр Андреевич Толстой знали, что баба она настырная и, умолив Петра о помощи, может много бед наделать. К тому же было известно, что царь Пётр относится к ней по-родственному тепло. Однако было известно и то, что, вмешайся в сей миг Россия в мекленбургское дело, вой пойдёт по всей Европе. А на Аландах Остерман с Брюсом все ждали и ждали продолжения переговоров о мире со шведами, и сейчас шум был вовсе ни к чему. Пётр Андреевич знал Екатерину Ивановну. Пышногрудая, шумная, подкупавшая царя Петра тем, что на балах могла плясать так, что и самые крепкие кавалеры от верчения её юбок в страх приходили, она, думать надо было, не добившись своего, из Петербурга не уедет.
— Ну, что скажешь? — упёрся взглядом в Петра Андреевича Головкин. — Письмо моё читал?
Голос его прозвучал хрипло, натужно. Наверное, и вправду, как писал он Толстому в Москву, здоровьем надорвался под сырыми ветрами здесь, на Неве, в болоте, но скорее, подумал Пётр Андреевич, что озадачен был шибко приездом мекленбургской герцогини.
Шафиров сидел надувшись, как мышь на крупу, ковырял ногтем оплывающую свечу. Молчал. Воск под его ногтем сыпался на стол прозрачной стружкой.
Отвечать Петру Андреевичу было нечего. Он уже понял, что и Головкин и Шафиров со всех сторон дело мекленбургское обсудили и вывод сделали. И решение сие было ему известно.
Толстой кашлянул и, потянувшись через стол, придержал руку Шафирова.
— Оставь, — сказал он, — погаснет.
Шафиров хекнул досадливо, стряхнул крошки с руки, поднялся со стула и — грузный, неуклюжий, взъерошенный, с нахлобученным париком на голове — переваливаясь зашагал по палате. Толстой, следя за ним взглядом, сказал:
— Да так вот и надо, наверное, господа министры, и обрубить — не время-де и не место в мекленбургскую кашу влазить. Горяч горшок-то, обожжёмся. Пущай остынет. Сейчас время важно выиграть.
Шафиров резко остановился у стола и, багровея лицом, поклонился:
— Молодца, вот дождались совета. Стоило ехать-то из Москвы по грязям.
Блеснул глазами обидно.
— Погодь, погодь, — остановил его Головкин, — что с лаю-то начинать, тогда дракой кончать надо.
Толстой, будто не разобрав слов Шафирова, ровным голосом, как и начал, докончил мысль:
— России мир крайне надобен, и на том Пётр Алексеевич стоит твердо. — Пётр Андреевич, оторвав от стола, воздел руку и в другой раз сказал: — Твердо!
Шафиров, отошедший в угол палаты, оборотился к нему боком и застыл напрягшись.
— И нам в один голос, — продолжал Толстой, — на том стоять надобно да ещё прибавить, что дело мекленбургское великой каверзой миру может стать. Мужик где ноги ломает? На кочках? Нет, на кочках он сторожко идёт и каждый раз место выбирает, куда ногу поставить. А вот на ровное выйдет, и тут уж страха нет. Гонит знай себе. Глянь, камушек подвернулся, а он голову-то задрал, ворон считая, ну, и… растянется… Вот нога и пополам. Так-то. Свинье простительно в корыто рыло совать, пока в уши не затечёт. А людям бог разум дал.
Шафиров подошёл к столу, сел. На лице появилось раздумье.
— А что, — сказал, — с камушком-то ничего… Ничего. Головкин смотрел на свечи. По два огонька плавало у него в каждом глазу.
— А дабы герцогине урону не было какого, — сказал Толстой, — паче обиды, посулить можно — пошлём-де в Мекленбург человека стоящего. Пущай-де рассудит на месте.
Толстой на бочок голову свалил, добавил:
— А рассуживать-то можно долго. Ох, долго… Шафиров через стол лицом потянулся к Головкину, ткнул пальцем в Толстого:
— А, — сказал, — дело мыслит. — Засмеялся хрипло: — Де-е-ло… Послать какого ни есть приказного, да и деньжонок ему сунуть. Кабаки там хорошие. Долго будет рассуживать.
Дверь распахнулась под крепкой рукой. Гремя шпорами, в палату вступил Александр Данилович Меншиков. От него пахнуло свежим запахом и холодом Невы.
— Здорово, господа министры! — гаркнул.
Свечи на столе затрепетали. Прикрывая огоньки свечей пухлой ладонью, Гаврила Иванович ворчливо, не отвечая на приветствие Александра Даниловича, сказал:
— Дверь-то, дверь прикрой.
Меншиков мазнул по лицам скучных вельмож дерзким взглядом, ответил:
— Что сидеть-то, царь через десять минут ждёт.
— Но ты входи, входи, — в тон Головкину вмешался Шафиров, — и садись. Есть разговор. К царю успеем.
Александр Данилович прикрыл дверь, окинул палату взглядом и, не увидев стула, сел на стопы бумаг у стены. Расставил колени.
— Знатно, — сказал, — на бумагах-то ваших — что те на лежанке.
Засмеялся, но, видя кислые лица, посерьёзнел и сам, спросил:
— Что задумались?
Ответил Головкин:
— Да плясать не от чего. Сам-то что думаешь?
Меншиков подрожал мгновение коленкой и решительно ответил:
— Всё ясно. Пётр Алексеевич даст мне корпус, и от этих австрияков под Мекленбургом только пыль завьётся. Знаю этих вояк.
Шафиров набычил шею и не поворачиваясь к князю, сказал:
— Вот и угодил пальцем в небо. — Повернулся всем телом, так что стул под ним запищал. — Да здесь миром, миром надо покончить. Какой чёрт нам в этом Мекленбурге нужен, какая нужда души российские под ним класть? А крику будет сколько? Тебе бы только на коня, шпагу в руки и вперёд… Эх!
Досадливо махнул рукой.
— И то правда, Александр Данилович, — заговорил вразумительно Головкин, — сколько наши-то на Аландах сидят, а мы сей миг Мекленбургом этим проклятым всё испортим. Так нельзя. Миром надо решить.
— Миром? — вскинул брови Меншиков. — Да много ли вы миром добились? Когда это было, чтобы нам хотя бы полушку уступили? А?
И тут в разговор все встряли, заговорили, перебивая друг друга. Меншиков ощерился, как кот перед псами.
Дверь стукнула, в палату вошёл царь Пётр, по его не заметили за руганью. Шафиров наступал на Александра Даниловича, тесня того брюхом. Пётр сказал властно:
— Об чем лай?
И тогда только все разом смолкли. Оборотились к царю. Склонились в поклоне. Пётр по очереди заглянул в каждое лицо.
— Ну, — сказал много тише, — кто говорить-то будет? Вперёд выступил Головкин и ясным голосом — откуда он только и прорезался — заговорил о вздорном характере Карла-Леопольда, о пылкости Екатерины Ивановны, о возможных последствиях вмешательства России в сию ссору.
Пётр, слушая, только бровями шевелил.
Под конец Гаврила Иванович сказал о камушке, на котором мужик спотыкается. Замолчал, стоял, смотрел преданными глазами на царя. Из-под сдвинутого на затылок парика выглядывали свои с сединой, коротко стриженные волосы.
— Всё? — спросил Пётр.
— Да, государь.
— Так, — протянул Пётр, — камушек, камушек… Это верно. Сей камушек может плохую службу сослужить. — Подступил к Меншикову. — А ты небось, — спросил, — воевать собрался?
— А что, — вздёрнул головой князь, — я бы им таких угольков подсыпал…
— Ну и дурак! — сказал с твёрдостью Пётр, прерывая его. — Ты всё-таки, Александр Данилович, думных хотя бы время от времени слушай. Польза будет. — И, подняв руку, явственно постучал Меншикову пальцем в лоб. — Слушай. Польза будет.
Заложил руки за спину. Покивал раздумчиво головой. Сказал:
— Я раньше говорил: за одного битого — двух небитых дают. А ныне думаю и так: по-пустому в драку лезть нечего.
Повернулся, пошёл к дверям, но, прежде чем выйти из палаты, оборотился, сказал:
— Свободны. С Екатериной Ивановной, герцогиней, я сам поговорю. Шум нам ни к чему — то правда! А вот человечка подыщите, который в Мекленбург поедет рассуживать. Подыщите.
Закрыл за собой дверь.
Екатерину Ивановну провожали с великой пышностью. Фейерверк зажигали, было большое шумство, пили много из больших чаш, а приглашённые царём офицеры устроили такой пляс, что у герцогини, пригорюнившейся было, лицо расцвело. Александр Данилович, рыцарски преклонив колено, цветы ей преподнёс. Это здесь-то, в Петербурге, где вся земля разворочена была, в грязях тонули, и вот те на — цветы. Где уж он их раздобыл — никому было не ведомо. Но да Александр Данилович при желании и звезду с неба мог украсть.
Ныне поутру перед царским дворцом собрались придворные, жёлтые после вчерашнего буйства, в мятых камзолах, но ничего — улыбались.
Ветер морщил лужи, трепал парики.
Среди стоящих перед дворцом ростом и осанистостью выделялся некто Гудков — приказной из Иностранной коллегии, — которого раньше никто не видел среди придворных. У него было крепкое породистое лицо, в котором, правда, угадывалась какая-то нехватка или изъян, но понять точно, чего именно не хватало или в чём изъян случился, было трудно. Нос ли был не по нему, или взгляд ломок, а может быть, в фигуре, в том, как стоял сей Гудков, что-то смущало, но при всём том мужчина он был чрезвычайно видный. Грудь колесом, как у борзого кобеля, подтянутый живот, крепкие ляжки. Мужик, прямо сказать, не промах. Да и Екатерине Ивановне он сразу понравился.
Сам царь во время вчерашнего бала, подведя приказного к герцогине, сказал:
«Это умнейшая голова… — и со значением добавил: — Многое может».
Гудков церемонно раскланялся.
Герцогиня оглядела его с ног до головы и, видимо оставшись довольной, подарила лучезарной улыбкой.
Немногие знали: вовсе недавно за путаницу в бумагах Шафиров избил Гудкова палкой, за что и был царём на три дня посажен на гауптвахту. Да, впрочем, это прошло незаметно. Мало ли кто и кого при Петре палкой бил, даже и до полусмерти. Сам Пётр сие вразумляющее орудие многократно в ход пускал.
В ожидании царского выхода придворные ёжились от ветра, косились на Неву, катившую свинцовые воды, и многих из тех, что накануне зело изрядно вступили в сражение с Ивашкой Хмельницким, знобило даже и до дрожания в членах. Гудков подёргивал коленкой. Знать, выпить тоже был не дурак.
Герцогиня вышла из дворца в сопровождении царя. Пётр посадил её в возок. Выстроившаяся перед дворцом рота солдат крикнула «Ура!», и кони тронулись.
Пётр постоял, расставив ноги, поглядел вслед коляске, поднял руку и перекрестил её. Коляска, прокатив через площадь, свернула за угловой дом. Пётр ещё мгновение стоял в раздумье, затем оборотился лицом к придворным. В глазах у царя мелькнуло что-то странное, щека напряглась, как бывало в минуты гнева, он опустил лицо и, торопясь, побежал по ступенькам крыльца. Скрылся в дверях.
Придворные потоптались неловко да и начали расходиться. Бойкий офицер развернул роту и повёл в улицу.
На том с мекленбургским делом и закончили, предоставив герцогу Карлу-Леопольду самому разбираться со своим дворянством, а теперь вот ещё и с приказным Гудковым. Мужчина-то он и вправду был хваткий, да и улыбка герцогини, подаренная ему во время вчерашнего шумства, могла обещать продолжение самое неожиданное. Пётр Андреевич Толстой и здесь в корень зрел.
Пришло время подумать о другом.
Обсуждая мекленбургские дела, вспомнили сидящих на Аландах Остермане и Брюсе, но говорить не стали, каждый понимал: здесь коль слово молвить, то всерьёз надо, а не так, походя.
На диком острове Сундшер, где стояло с десяток сложенных из корявого плитняка домишек, царёвым посланникам жилось несладко. И дело было не в том, что зябкого Андрея Ивановича Остермана — а точнее, немца из Вестфалии Генриха Иоганна Фридриха Остермана — по вечерам трясло от одной мысли о том, что придётся ложиться в сырую от туманов, холодную постель, но прежде всего в бесконечных затяжках и волоките, чинимых шведами. Другой царёв представитель, Яков Вилимович Брюс — обрусевший шотландец, книгочей и учёный, участник ещё и Азовского похода, — был много спокойнее раздражительного немца, но и он, однако, проявлял признаки нетерпения.
По утрам шведский барон, престарелый Лилиенштед, помаргивая белёсыми ресницами, желал российским представителям доброго утра, садился за стол и с полной безнадёжностью бил ложкой по верхушке поданного в подставке с кривой ножкой варёного яйца. Проделав сию ответственную операцию, швед ещё долго принюхивался в сомнениях о съедобности подаваемого блюда и только после того с неприязнью и опасением начинал трапезу. Кормление россиянам было назначено скромное, а уж слово вытягивалось из барона и вовсе с великим трудом. И всё же царёвы представители на Аландах знали, что ныне в Стокгольме царил совершенно непонятный подъём воинственного духа.
Королева Ульрика-Элеонора считала, что мир с Россией возможен только в том случае, ежели царь Пётр откажется от завоёванных им Лифляндии, Эстляндии, Риги, Ревеля и Выборга, не говоря уже о занятой к тому времени русскими войсками Финляндии. России оставлялись королевой шведов только Ингрия с Петербургом. Это было ни на что не похоже. Царь Пётр должен был отказаться почти ото всех завоеваний трудной и кровопролитной войны. Но Ульрика-Элеонора, по слухам, об ином и говорить не желала. Дама она была нервная, колючая, подверженная частым необъяснимым вспышкам гнева, и спорить с ней было трудно. Придворные её откровенно боялись. Вот уж впрямь, подданным шведской короны не везло: Карл был вздорным и трудноуправляемым, да вот и сестра его оказалась не лучше.
Унылый Лилиенштедт доедал тощий завтрак и, поковыряв в квадратных зубах жёлтой от долгого употребления зубочисткой из пера, принадлежавшего, наверное, одному из тех гусей, которые спасли Рим, предлагал российским дипломатам совершить прогулку по берегу моря. Поднимался от стола и шагал на ревматических, нетвёрдых ногах через пропахшую плесенью залу. Цветная слюда в свинцовых рамах узких, высоких окон, пропуская слабый свет вечно хмурого неба, разрезала фигуру барона шутовскими полосами.
Минуты спустя три кутающиеся в плащи фигуры объявлялись на берегу острова.
Тоскливо кричали чайки, угрюмо, с постоянством, которое могло привести в отчаяние, били в каменистый берег волны, и в море не было видно ни единого паруса. Лилиенштедт, с безразличием переставляя ноги, шёл впереди, за ним, пряча лица от ветра в поднятые воротники, шагали российские дипломаты. И только шум ветра и удары волн не позволяли услышать злобного ворчания доведённого до белого каления Остермана.
Так шагали они по берегу до торчавших на мысу двух заржавевших пушек, поворачивали и шли обратно. Лицо Остермана беспрестанно подёргивалось, будто у него гвоздь объявился в башмаке.
От безделья и отчаяния, а скорее, уступая натуре, Генрих Иоганн Фридрих, называемый в России Андреем Ивановичем с таким же успехом, как ежели бы его величали Сидором Фёдоровичем, начал интриговать в отсылаемых в Петербург письмах против уравновешенного и миролюбивого Брюса. Впрочем, для дипломатов, живущих вдали от пославшей их страны, это было явлением заурядным, привычным, и в Петербурге на то не обращали внимания.
Сейчас важным было иное.
Царь Пётр собрал совет. Он считал, что далее голову прятать под крыло нечего и надо всё расставить по местам. Это были не годы Софьиного правления, когда он, молодой и напуганный, в памятную для него на всю жизнь ночь стрелецкого возмущения ускакал из Преображенского в Троицу чуть ли не без штанов.
Теперь не он боялся, а его пугались.
Пётр вышел к собравшимся в зелёном мундире Преображенского полка, опоясанный офицерским шарфом. Прошёл через палату на негнущихся ногах и сел во главе стола. Лицо у него было хмуро. Все насторожились. Кабинет-секретарь Макаров поторопился поставить перед царём пепельницу. Пётр обвёл глазами сидящих за столом, сказал:
— Герцогиню мы спровадили и с Гудковым успели, но сия баталия, думаю, не есть главный манёвр.
Упёрся взглядом в Головкина. Тот, словно разбегаясь, пошаркал подошвами под столом, поднялся и заговорил витиевато. И о том, и о сём, и о всяком. Лежащие на столе руки Петра стали подбирать пальцы в кулаки. Но царь не дал волю гневу, сказал только резко, как выстрелил:
— Хватит. Дело говори! Все головы пригнули.
Головкин замолчал, как ежели бы лбом упёрся в стену, передохнул, посмотрел искоса на Петра, ответил:
— Ежели дело, то попусту на Аландах людей держим и себя тем тешим попусту же…
Дряблая кожа под подбородком у него затрепетала.
— Вот так, — выдохнул Пётр, — вот так, господа. Гнали, гнали коней, а теперь обнаружили, что вовсе не туда правим? — Развёл руками: — Это как понимать?
Пётр Андреевич, сидевший напротив Головкина, щекой — будто припекло её жарким — почувствовал: царь смотрит на него. Но Толстой головы не повернул. Ещё раньше, когда стояли у дворца, провожая Екатерину Ивановну, он понял, что царь случившимся с герцогиней недоволен. Видел он глаза Петровы и уразумел: царю неловко. Пётр, когда замуж Екатерину Ивановну выдавал, Карлу-Леопольду помощь в трудном случае обещал. А ныне назад пошёл. Как ни верти, а царёво слово некрепким оказалось. Но и так подумал Пётр Андреевич: «По-другому-то было нельзя». Да оно и впрямь в мекленбургское дело лезть не следовало. Не на пользу России оно было, а Пётр в то вник и через родную кровь перешагнул. Здесь мысли Петра Андреевича споткнулись. Имя царевича Алексея встало в сознании, но он тут же погасил это воспоминание. Ан всплыло в голове: «Опять через свою кровь…»
Щёку жгло всё сильнее.
Пётр взгляда от Толстого не отводил.
Пётр Андреевич заколыхался на стуле. Кашлянул в кулак.
— Не согласен, — сказал, — на Аландах Остермана да Брюса не зря держим. Пущай они там и сидят. Все дороги к миру, а отзовём, дело-то нетрудное, подумают в Стокгольме, что мы и говорить с ними не хотим.
— Ну, — сказал Пётр, — разумно… А дальше что? Дальше… Вот дальше-то и было самое трудное. Пётр Андреевич отчётливо понимал, как, впрочем, и сидящие с ним рядом за столом, что нынешние амбиции Ульрики-Элеоноры только отзвук голосов из королевского дворца в Лондоне. Георг английский, как пёс, дрался сегодня за присоединение к своему ганноверскому владению Бремена и Вердена и всё смущал и смущал Ульрику, обещая ей, чего и не мог. Королева шведов — и об том знали в Петербурге — била своих баронов по щекам, называя их недостойными трусами, и была уверена, что любезный Георг ей поможет. Надо было уверенность эту в королеве шведов сломать. Испугать Ульрику. И Пётр Андреевич об том сказал. Сказал убеждённо.
— Вот-вот, — обрадованно подхватил Александр Данилович Меншиков, звеня шпорой под столом, — а о чём я говорил? Пинка ей хорошего, пинка, а запляшет. Ишь ты, баба — воин…
Пётр перевёл на него глаза, сказал:
— Помолчи.
— Дело говорю, ваше величество!
— Помолчи, — повторил Пётр.
Меншиковская шпора под столом смолкла. Александр Данилович, с обидой сложив губы, замолчал.
Пётр опустил глаза. Все ждали. А царь думал так: «Толстой правильно сказал — испугать».
Земли Померании, за которые дрались короли, прибалтийские провинции Финляндии царь не считал необходимым отстаивать за Россией. И когда отдавал приказ войскам идти в Финляндию и воевать её, полагал, что, сколько бы земель они ни взяли под себя, будут земли те лишь козырной картой в торге за Лифляндию, Истляндию и Ингрию, за которые надо было и живот положить. А подумав так, он полетел мыслью по гаваням на Балтике, прикидывая, сколько можно вывести при нужде кораблей, дабы королеве шведов настроение подпортить и спесь с неё сбить. Поднял глаза и посмотрел на Александра Даниловича.
Меншиков петухом раздувал грудь, трепал буклю парика изукрашенным перстнем пальцем. Пётр поморщился и опять опустил глаза. То, что предлагал Александр Данилович — послать корпус в Мекленбургию, — было не делом. Только союзников, как они ни худы были, злить. А вот флот вывести да подойти под самый Стокгольм — то было другое. Такое стало бы острасткой не для одной Ульрики-Элеоноры, но и для Георга английского. На верфях судовых не зря все эти годы россияне трудились. Флот у России ныне был, и флот крепкий. «Георг не дурак, — подумал Пётр, — поймёт, что такими кораблями и до Британских островов дойти можно».
— Так, — наконец сказал царь, — писать в Стокгольм больше не будем. Полагаю, что, ежели оружие употреблено не будет, толку не добьёмся. А теперь, господа, давайте думать, как его лучше употребить.
Головы за столом сблизились. Каждый понял: будет дело, и дело серьёзное.
После решения сего совета Петербург заметно оживился. Здесь, правда, и так царь никому скучать не давал, а тут и вовсе поскакали во все стороны нарочные офицеры, от Котлина-острова пошли малые суда, поспешая доставить секретные депеши в гавани, где стояли русские корабли. На площадях засвистели солдатские дудки, и офицеры, не щадя ни себя, ни солдат, муштровали новобранцев. Царь повелел приготовлений воинских не скрывать, но, напротив, выказывать, что армия и флот готовятся к походу.
Сидевшие в Петербурге дипломаты засуетились. Только и слышно было:
— Что?
— Почему?!
— Отчего такое? Русские в ответ улыбались.
Ветер рвал, нёс над городом летучие облака, ещё больше подчёркивая человеческую суету и торопливость. Даже и Нева, казалось, прибавила в своём течении, и волны, сшибаясь и кипя, били и били в набережные, и в их голосах отчётливо слышалось: «быстрее, быстрее», как ежели бы и они подчинились царёву приказу поторапливаться.
В меншиковском дворце, где ютилась Иностранная коллегия, было не протолкаться от иноземных посланников, и каждый из них норовил пройти на княжескую половину.
Александр Данилович принимал всех. Охотно угощал рюмкой водки и, роскошный, вальяжный, со звёздами на. груди, напускал такого туману, что иной из дипломатов, выйдя от князя и остановившись на крыльце, пучил глаза и тряс головой: «Что же я услышал-то? О чём шла речь?» А князь, стоя у камина, уже с другим вёл беседу. Похохатывал и велел слугам водки не жалеть, Дипломаты роились вокруг него, как пчёлы у сладкого.
В Берлин, Вену, Лондон, Париж шли тревожные письма, будоража высоких вельмож и правящих особ известиями о необычно спешных военных приготовлениях в Петербурге. Письма те читались в европейских столицах не без волнения. Ныне понимали: Россия сила грозная и бдить надо со вниманием, куда направит свои удары царь Пётр. Задал заботу, однако, Петербург. В новой же российской столице не смолкали солдатские дудки, и офицеры всё гоняли и гоняли роты на площадях. Царь Пётр дни проводил на судостроительных верфях, ломался в работе до седьмого пота. Напряжение росло, но как ни зорки были дипломаты, как ни въедливы в разговорах с русскими, однако выведать, что собирается предпринять царь, им так и не удавалось.
Из Швеции пришло известие, что там нервничают и такой-де тревожной зимы, как ныне, давно не знали. Королева Ульрика-Элеонора обложила подданных дополнительным налогом, и в сенат был подан запрос о его правомерности от вконец разорённых граждан.
Петру о том доложили.
Царь пососал трубочку, пустил дым к потолку, сказал:
— Хорошо. Очень хорошо.
Подошёл к окну. За летящим снегом были видны марширующие солдаты. Пронзительно свистели дудки.
— Велите офицерам, — сказал царь, — ещё и атаки проводить. С примкнутыми багинетами. Шуму будет поболее.
Так шли дни, всё туже и туже закручивая пружину ожидания. Вот тебе и дудка солдатская: жестяное тело, в нём дырочки нехитрые да и голос-то у неё так себе, не шибко мудреный, а, гляди-ка, на всю Европу заиграла, да и как ещё заиграла — короли заволновались.
Голос солдатской дудочки из Петербурга достиг и затерявшегося среди серых волн Балтики острова Сундшер.
В один из дней малый фрегат под королевским флагом доставил на остров барона Гилленкрока. Одетый во всё чёрное, как протестантский пастор, однако отличающийся отменным здоровьем, судя по цветущим краскам отнюдь не по-пасторски упитанного лица, барон энергично сбежал с трапа и уже через несколько минут приветствовал российских представителей. Широким жестом Гилленкрок указал на кресла. Слуга, утром подававший к столу чистую воду в графинах, принёс доброе французское вино. Видать, королева расщедрилась, и фрегат доставил на остров не только полнокровного барона, но и ещё кое-что в трюмах. Не без удовольствия потерев ладонь о ладонь, барон Гилленкрок взялся за бокал, ободряюще взглянув на русских гостей. Лилиенштедт, правда, не изменил брезгливого выражения унылого лица и в глазах его по-прежнему сквозила безнадёжность, тем не менее барон Гилленкрок с явным одушевлением начал разговор. Барона прежде иного интересовала всё та же петербургская дудочка. Он вскакивал с кресла, расхаживая по звонким каменным плитам пола, с несвойственной для его соотечественников порывистостью размахивал руками, складывал в любезную улыбку сочные губы, и сыпал, и сыпал слова, но всё сводилось к одному — дудочке. Он говорил, как несчастна его королева, о её искреннем и неизменном стремлении к миру — тут барон весьма низко поклонился в сторону Остермана и Брюса, — о чрезмерной тяжести, которую испытывают её слабые плечи под бременем различных государственных неурядиц. Барон остановился посреди палаты, раскинул руки.
— Но при всём при этом, — сказал он вдохновенно, — мир есть единственная мечта королевы.
И здесь Яков Вилимович Брюс — с невинными интонациями в голосе — задал вопрос:
— Всё, что мы услышали, барон, нас воодушевляет. Но не изволите ли объяснить, почему её королевское величество объявило новый военный налог?
Гилленкрок взглянул на Брюса, как смотрит раненый олень на охотника. Лилиенштедт вскинул голову, словно внезапно разбуженная старая лошадь, достал огромный полотняный платок и с трубными звуками стал прочищать нос.
Так и не дождавшись вразумительного ответа, книгочей и любитель истории Яков Вилимович Брюс, чуть прищурив глаз, продолжил уже более твёрдым голосом:
— Её величество королева Ульрика-Элеонора действует так, как ежели бы она располагала пятьюдесятью миллионами верных подданных. Но в Швеции, как известно, накануне войны проживало лишь около полутора миллионов. Победы же достохвального Карла унесли семьсот тысяч жизней. Страшно подумать, но её величество рискует остаться в Швеции в единственном числе.
У Гилленкрока заметно отвалилась челюсть, Лилиенштедт помаргивал младенчески голубыми глазами. «Да, за всё в жизни надо платить, — подумал барон, вспомнив свою беседу с королём Карлом накануне вторжения шведской армии в Россию, — и дороже всего стоит глупость».
Об этом разговоре в тот же день было отписано русскими посланниками в Петербург. Царю письмо прочитал Головкин. Пётр, о котором говорили, что он может и пулю на лету поймать, решил: «Время приспело, хватит на дудках играть, пора действовать».
Военные действия задержал ледоход. Льдами побило набережную, поднявшаяся вода пошла под земляные бастионы, окружавшие судовую верфь с Невы. Напугались маленько, но тут же подняли народ, подвезли камня, какой только смогли сыскать, и, загнав людей на валы, по живой очереди, бросая камень с рук на руки, стали заваливать прораны.
— Ну-ну, живей! — гремели голоса солдат, но подгонять никого не нужно было. Каждый понимал: не сделают дела — быть беде.
Пётр кинулся в самое пекло, туда, где ещё шаг ступи — и полетишь вниз головой в бурлящий поток под напирающие льды. Пудовые камни с шумом валились в прораны, вздымая фонтаны брызг, дробили льды, а вокруг в сто глоток орали:
— Поспешай! Поспешай!
И камни, казалось без помощи людских рук, поднимались на высокие валы и, перекатываясь через гребни, падали в Неву, укрощая разбушевавшуюся реку.
Воду сдержали.
Петров флот ждал теперь только способной к морской баталии погоды. Но Балтика бушевала. Северные бешеные ветры, пришедшие из Лапландии, вздымали гигантские валы, и они, сшибаясь, грохотали, как сотни пушек. По такой непогоде и мысли не было выйти из гаваней.
В эти дни царь Пётр часто бывал на острове Котлин. В зюйдвестке и гремевшем под ветром морском плаще выходил на берег и подолгу, вжимая в глазницу окуляр морской зрительной трубки, глядел в море.
У горизонта плясали волны.
Царь был возбуждён, морской ветер, казалось, пьянил его. Пётр сложил суставчатую трубу, наклонился к волне, зачерпнул полную горсть воды, бросил в лицо. Поднялся, капли блестели на его тёмной коже.
— Ах, — выдохнул, — красота, красота какая… Неделя пройдёт, и ветер уляжется. Обязательно уляжется.
Поймал взглядом летящую чайку, оглядел обложившие небо тучи. Он был знатоком морских примет, это знали, и ему верили.
Ветер и вправду начал стихать. По вечерам в разрывах туч объявлялась необыкновенно красного цвета луна, дорожка от неё, мерцая, протягивалась от горизонта до берега.
Луна и тревожила и веселила.
В Ревель, где стояли главные силы морской российской эскадры, срочно поскакал офицер с депешей. В ней говорилось: «…выйти в море числом, какое нужным сочтёте, при встрече противного флота принять бой». Конь под офицером, придавленный шпорами, пошёл волчьим скоком, стелясь над дорогой серой тенью. В ночь поскакал офицер, и ему предстояло загнать ещё не одного коня, пока он, меняя их на подставах, доведёт царёво слово до тех, кому оно предназначалось.
Суда вышли из гавани сразу по получении депеши.
Море, вспаханное недавними штормами, было ещё неспокойно, но суда, удачно выполнив сложный манёвр разворота, стали в кильватерный строй и пошли к шведским берегам. Ветер влёг в паруса мощно, устойчиво, суда шли с креном, оставляя за кормой пенные буруны.
Капитан флагманского судна, крепколицый помор Чекачев, выслуживший чин не дворянской родословной, но добрыми знаниями и морской удалью, поглядывал из-под руки на море. Солёные от ветра губы его были плотно сжаты. Волна била в борт с такой силой, что судно вздрагивало, как горячий конь, крепко удерживаемый удилами. Чекачев оборотился к стоявшему у руля матросу, зло, сквозь зубы, сказал:
— Не рыскай, держи курс!
Матрос, так что проступили под робой лопатки, навалился на рогатое рулевое колесо.
Гавань и берег за кормой уходили в туман.
«Хорошо, — подумал капитан, — хорошо. Туман море закроет. Подойдём, никто и не увидит. Только сторожко надо идти… Сторожко…» Перегнулся через фальшборт, крикнул на палубу:
— Вперёдсмотрящим, внимание! Сукины дети!
Ветер смял слова, отбросил в море. Капитан вытер мокрое от брызг лицо, залетавших при таком ходе и на мостик, вцепился в фальшборт. Глаза его сузились, из-под век колко глядели два чёрных зрачка.
Через три часа хода, раньше, чем ожидал Чекачев, за остриём летящего над волнами бушприта он разглядел две пляшущие в море тёмные точки. Секунду спустя от носа донёсся ломаемый ветром голос вперёдсмотрящего:
— Прямо по курсу…
Но капитан сам увидел — шведы!
Чекачев, повернув заросшую матерым волосом шею, оглянулся. За кормой суда шли в строгом кильватере. «Теперь всё зависит от манёвра, — мелькнуло в голове, — всё от манёвра».
— К команде готовьсь! — гаркнул он на палубу. Сорванная его голосом сотня пар крепких матросских башмаков загромыхала по многочисленным трапам.
— На суда дать семафор, — прокричал капитан, — делай, как я!
Подбородок Чекачева, и так выдававший немалую волю, выступил вперёд, словно свидетельствуя: с таким капитаном баловать ни-ни, такой шутить не станет.
Шведов теперь можно было разглядеть довольно. Капитан, летя глазами по морю, считал вымпелы: «Один, два, три, четыре… — В мыслях прошло: — Втрое против нас… А?.. Втрое…» На шведском флагмане, шедшем первым, Чекачев ясно различил жёлтое королевское знамя со вздыбленным львом. Но то, чтобы избежать баталии, в голове даже и не мелькнуло. А знал: швед злой и на море мастер великий. Морская душа в шведе ещё от стародавних норманнов, которые и вовсе на море равных себе не знали. «Только бы пушки волной не захлестнуло», — пролетело в мыслях, и с заботой о тех же пушках он решился на крайность: вывести строй кораблей по ветру выше шведов и, переложив паруса, с разворотом «все вдруг» ударить по противной эскадре.
— На грот и фок, — отдал команду капитан, — поднять все паруса!
По вантам бросились матросы. Висли над водой на многосаженной высоте, хватались обмерзающими на ветру руками за колючие от сырости канаты, таращили глаза, и из распахнутых ртов паром рвалось дыхание.
Судно, подняв паруса, село на корму и много прибавило в скорости. Волна перебрасывалась через форштевень[54], заливала палубу, кипела, пенилась, уходя в шпигаты.
Чекачев, напрягшись до того, что заломило пальцы, сжимавшие фальшборт, неотрывно глядел на шведов. Там, на судах, откидывали пушечные люки. «Пустое, — подумал капитан, — пустое…» Шведы не поняли его манёвра и готовились к пушечной дуэли, когда суда стоят друг против друга бортами и бьют чуть ли не в упор, сбивая мачты и калеча пушечную прислугу. В таком бою выигрывали тяжёлые, многопушечные суда, выдерживающие до сотки попаданий. Чекачев же задумал по-иному. Строй русских судов рвался вперёд. И тут капитан увидел, что и на шведском флагмане по вантам побежали матросы. Знать, шведы всё же разгадали его манёвр, но было уже поздно. Русские суда развернулись и, как нож, вошли в строй шведов…
В Ревель капитан Чекачев вернулся, приведя под конвоем три шведских судна, сдавшиеся при полных экипажах.
Тот же офицер, что прискакал недавно в Ревель с депешей от царя, привёз Петру в Петербург весть о выигранной морской баталии и три капитанских кортика в богатых золочёных ножнах, с королевскими львами, скалившими клыки.
Пётр, зажав в руке три этих кортика, восхищённо крутнув головой, сказал:
— Хороши… Ей-ей, хороши…
Швырнул их на стол. Гремя, кортики покатились по зелёному сукну. И что-то озорное, вовсе не царское, проглянуло в лице Петра из того времени, когда ещё неловким юношей, длинноногим, узкоплечим, с ломающимся баском в голосе, поднимал он паруса потешных корабликов на Переяславском озере, стремил навстречу ветру. Царь даже губу закусил, как тогда, и, прищурив глаз, посмотрел в другой раз на кортики.
В этот день в Петербурге неожиданно разъяснилось и в окно дворца било по-весеннему яркое солнце. Кортики играли позолотой в его лучах.
Но это озорное держалось в лице Петра минуту.
Царь согнал улыбку с губ, глаза его озаботились, он сказал Макарову, неизменно гнувшемуся за столом:
— Завтра поутру в Котлин. Всей эскадрой малых судов пойдём в Ревель…
Макаров моргнул, взялся за перо.
Наутро эскадра российских галер вышла в море. Голубая синь перед Котлином закрылась белыми парусами.
Как это редко бывает на Балтике, установившаяся ясная погода споспешествовала походу почти до самого Ревеля.
Пётр в раздуваемой ветром холщовой матросской робе почти не уходил с палубы. Лицо у него обветрилось, да и весь он, продутый морским сквозняком, стал легче в движениях, оживлённее, глаза были полны радости. Царь ставил с матросами паруса, шлёпая босыми ногами по промытому до желтизны дереву, драил палубу. Тут же, у мачты, дабы не спускаться в тесную каюту, велел поставить стол. Кабинет-секретарь приткнулся за ним боком. Всегда нездоровое лицо Макарова было бледнее обычного. Даже на малой волне с ним случалась морская болезнь. Царь Пётр сокрушённо поглядел на него и, скаля зубы, сделал из бечевы уду, закрепив вместо крючка загнутый гвоздь, и сам же, забросив уду за борт, выхватил из пенных волн здоровенного окуня. Извиваясь, окунь забился на палубе. Тут же, на столе, матросским ножом Пётр отхватил от него немалый кусок и, присыпав солью, протянул Макарову:
— Ешь, — сказал, — ешь. Тошноту как рукой снимет. Макаров, закрывая от дурноты глаза, отмахивался от царя. Но Пётр был неумолим:
— Ешь, говорю. Государевым словом приказываю! Макаров, кривя рот, мягкими руками взял кусок. Пётр повис над ним:
— Ешь, и всё тут!
Кабинет-секретарь, зная Петров характер, с омерзением откусил самую малость. Откусил и в другой раз. Пётр всё вис над ним.
— Да ешь, — давясь смехом, подзадорил Макарова стоявший тут же Головкин, — её и церковь дозволяет употреблять. Ешь!
Макаров, уже с отчаянием, набил полный рот. Лицо его начало розоветь.
— Вот так-то, — сказал довольный Пётр, — во всём учить вас надо. Первое средство — сырая рыба от морской болезни.
Макаров объел окуня до костей.
Но всё это было только баловством. Взбираясь на мачты, окуня выуживая, драя палубу с матросами, Пётр остро помнил о главном. И нет-нет, как это бывало у царя б минуты задумчивости, меж бровей пролегала у него глубокая морщина.
В Ревельский поход взял он с собой и Гаврилу Ивановича Головкина, и Петра Андреевича Толстого. Это было неслучайно. Слова Петра Андреевича на совете, когда сказал тот, что надо бы королеву Ульрику-Элеонору попугать гораздо, Пётр оценил, и поход был к тому и направлен. Царь решил: слов сказано достаточно. То, что малая эскадра российская шведов пощипала, было добрым началом, но отнюдь не главным действием задуманного Петром плана. Замыслил он много большее. И в том Гаврила Иванович Головкин и Пётр Андреевич Толстой должны были стать ему помощниками.
В последний день плавания погода изменилась.
За ночь намяв бока на жёстком рундуке в каюте, где едва-едва ноги можно было вытянуть, Толстой поутру не без оханья полез по трапу на палубу. Выглянул из люка, и лицо, как водой, омыло туманом. Ухватился рукой за край люка и, едва голову не расшибив, выполз на палубу.
За бортом, лопоча неразборчивое, плескала волна. Толстой, закинув кверху лицо, взглянул на мачты. Слабый ветер едва морщил парусину. Верхушек мачт не было видно. Толстой оборотился всем телом, и глаза его расширились от удивления. За рулевым колесом стоял Пётр. Лицо царя недовольно морщилось. Пётр Андреевич согнулся в поклоне.
— Здоров, — ответил Пётр, — продрал глаза? А здесь, видишь вон…
Он не закончил фразу. Колесо под руками у него заскрипело, Пётр перехватил рукояти, возвращая галеру на курс. Выругался зло и вдруг, оборотившись к Толстому, сказал:
— А ну, ёрой, становись к колесу. Поглядим, какой ты моряк.
Толстой опешил.
— Становись, становись! — И, вовсе удивив Толстого, Пётр напомнил: — Видел я твои дипломы италиянские… «Во познании ветров, — как по писаному начал царь, — как на буссоле, яко и на карте и в познании инструментов корабельных, дерев, парусов и верёвок есть искусный и до того способный…» А? Так или нет?
То, что у царя была хорошая память, Пётр Андреевич убеждался не раз, но чтобы вот так, с точностью воспроизвести текст, который видел-то всего раз, да и мельком, много-много лет назад, не ожидал.
— Становись, становись, — сказал Пётр хмуро, — тогда я экзамена тебе не учинил, так вот ныне экзамен будет.
С Петра Андреевича утреннюю развальцу как ветром сдуло. Расставив локти, боком он шагнул к колесу, ухватился за рукояти. Почувствовал, как волна шевелит рулевое перо, сопротивляется, пружиня, усилиям его рук. Увидел: впереди молоко тумана. По спине продрал холод опасности.
— Карту, карту мне надобно, государь, да компас!
— Ну уж ладно, — ответил Пётр, — команды я отдавать буду. Ты только галеру веди да смотри у меня — веди внимательно, а то линьков отведаешь.
Так, до самого Ревеля, Пётр Андреевич и вёл галеру. Взмок весь, за долгие-то годы отвык такую тяжесть ворочать. Через час хода сбросил камзол, засучил рукава рубахи, кольца с пальцев снял — врезались в тело до боли. Когда Толстой камзол снимал, Пётр промолчал, а вот когда тот стал с пальцев кольца стягивать, засмеялся.
— То-то, — сказал, — вот я и не одобряю мишуру эту.
Но толстовской ухваткой управляться с рулевым колесом остался доволен.
— Считай, — сказал, — экзамен выдержал!
И хлопнул по плечу так, что Пётр Андреевич присел. Да у Толстого и без того ноги дрожали, уходился крепко. В каюту чуть не на карачках приполз, но этого царь не видел. Головкин только сочувственно заохал:
— Ай-ай-ай…
Пётр Андреевич сел на рундук, вытянул ноги. И вот хотя и устал до изнеможения, а в душе пело звонкое, молодое, невозвратимое, и сочувствия головкинского он не принял.
В Ревеле эскадра не задержалась. По флоту был отдан приказ выйти в море, и двадцать могучих линейных кораблей, сотни галер и мелких судов двинулись к шведским берегам. Это уже кого хочешь могло напугать, не только нервную королеву Ульрику-Элеонору. Суда вышли в море, вытянулись в кильватер и дали пушечный залп. Небо над Балтикой, казалось, треснуло. Едкий пороховой дым понесло над волнами.
Когда пушечный грохот смолк, Пётр оборотился к дипломатам:
— А теперь ко мне в каюту, господа!
Ветер отбрасывал волосы царю за плечи. В море он никогда парика не носил и треуголку не надевал, но повязывал голову ярким платком, как научил его когда-то старый капитан, пират в прошлом, Юлиус Рее.
В просторной каюте горели свечи, и в их свете остро поблескивала медь деревянной обшивки переборок. За вырезанным в задней стенке, переплетённым медью же и свинцом оконце качалось море.
— Вот что, господа, — сказал Пётр, садясь за стол, — надобно королеве Ульрике-Элеоноре, — царь прикусил ус и с минуту жевал его, морща щёку, — отписать ультиматум, и покрепче.
— А по мне, — сказал вдруг раздражённо Гаврила Иванович Головкин, — хотя бы и к бабушке её можно послать.
Все лица оборотились к нему. И тон, каким это было сказано, да и сами слова были столь неожиданны для канцлера, что даже кабинет-секретарь Макаров, никогда не выказывающий удивления, глаза раскрыл широко. От сырой рыбы царёвой он ободрился, порозовел и даже, казалось, в щеках много прибавил, а теперь вот и улыбаться начал, хотя ранее на скучном его лице и тени весёлости не наблюдали.
— А что? — выпрямился Головкин. — Сколько кровь сосать можно?
Видать, ветер морской в голову ему шибко ударил, а может быть, пальба пушечная так вдохновила или бесчисленные паруса российские, расцветившие море, подействовали сильно, но вид у Гаврилы Ивановича был в сей миг весьма воинственный.
Царь поглядел на него, сказал:
— Не дури, знай меру. Письмо написали.
Царь, когда его известили, что письмо готово, спустился в каюту и при свече, шелестя листиками, сел читать.
— Так-так, — говорил, пробегая строчки глазами, — зело… зело… — И наконец подвинул листки к Макарову. — Перебели, — сказал, — пущай читает королева. Поглядим.
Петров флот подходил к Аландам. На камнях у острова закипали буруны, зло резали воздух чайки. Над тёмно-зелёным морем хищно отогнутые назад крылья чаек вспыхивали, как белые искры. Конусные кровли редких домишек на островах, казалось, царапали небо. Бросили якорь. Тяжёлое тело якоря ударило в воду, вскинув брызги. По флоту дали семафор: «Встать на якоря, ждать команды». С борта флагмана спустили шлюпку, в неё спрыгнул со штормтрапа офицер, и матросы налегли на вёсла. Мерными толчками шлюпка пошла к берегу.
Пётр, стоя на капитанском мостике флагмана в зелёном мундире с красными отворотами на рукавах, молча смотрел ей вслед. Лицо царя было сосредоточенно и жёстко. Задуманное им дело приближалось к развязке. Волна могуче вздымала тяжёлое флагманское судно, покачивала плавно. Мачты парили над головами стоявших на палубе, как православные кресты, принесённые к этим скалистым берегам российским самодержавием. Под кормой при каждом спаде волны глухо вздыхало: «У-у-х-х-х…» И долго-долго, будто испуская последний дух, шипело хрипло. Шлюпка уходила всё дальше и дальше. На мысу острова увидели человека в синем шведском офицерском мундире. Он стоял неподвижно и вдруг, сорвавшись с места, побежал как-то боком, словно его толкал злой ветер.
Пётр Андреевич, стоя рядом с царём, заметил, что руки Петровы, лёжа на фальшборте, нервно, беспокойно играют пальцами на сыром грубом пеньковом канате. И Толстой тут же вспомнил сорвавшийся чуть ли не в крик голос Гаврилы Ивановича, когда обсуждали письмо к королеве Ульрике-Элеоноре. И волнения царя Петра, и ни на что не похожий крик канцлера были ему понятны. Мир, мир был нужен, и сейчас, немедленно, в сей же день. Кровью умывалась Россия, и никакими словами, крестами, молитвами от этого нельзя было отгородиться. Вырвавшееся у старого Головкина «…к бабушке её можно послать» было как вопль отчаяния. Он-то, Гаврила Иванович, знал, что говорил. И не ветром морским голову ему закружило, не пушечной пальбой и победными парусами размахнувшегося по Балтике российского флота… Нет… Вовсе нет… Много видела Россия крови, страданий, лишений и молила — хватит! Вот что означали шевелившиеся на фальшборте пальцы Петровы и крик канцлера. Нужда в мире была крайняя. И вдруг Пётр взглянул на Толстого. В глазах царёвых, ещё минуту назад остро и жёстко всматривавшихся в морскую даль, Пётр Андреевич неожиданно различил растерянность. И даже губы Петра сложились в несвойственной для царя горестной гримасе. И тут, словно искра в сознании вспыхнула, Толстой понял, о чём в эту минуту подумал Пётр. Сына-то, царевича Алексея, он, царь, звал в Копенгаген для участия в морской баталии на Балтике… Для морской баталии, а что из того вышло… Губы Петра всё подрагивали, подрагивали… Толстой отвёл взгляд и о своём Иване подумал с болью. «И не обласкал его, — укорил себя, — да всё вот в заботах. Ну да Филимон с ним рядом. Филимон…»
К острову Сундшер Петров флот подошёл, когда барон Лилиенштедт с российскими представителями только-только сели за обеденный стол. Барон был, как всегда, нетороплив: заправил за воротник накрахмаленную, жёсткую салфетку, подобрал выглядывающие из рукавов кружева, звякнув стеклом, налил бокал воды.
В глубине дома раздались торопливые шаги.
Седая бровь барона дрогнула и поползла кверху.
Шведский офицер, умерив стук каблуков, подошёл к барону и склонился над его ухом. Удерживаемый старческой рукой Лилиенштедта нож упал на скатерть. Барон с минуту сидел неподвижно, затем, подняв руку, смял у горла салфетку, сорвал, швырнул на стол и, с грохотом отодвинув стул, поднялся.
Это было столь необычно, что Остерман в первое мгновение подумал, что в доме случился пожар и пылающая крыша вот-вот должна рухнуть.
Через минуты барон и русские представители были на причале. По всему горизонту белели паруса, их было даже трудно сосчитать. На мачтах различимо веяли белые, с андреевскими крестами российские флаги.
— О-о-о, — выдохнул барон.
Стоящие на причале увидели: качаясь на волнах, к берегу идёт шлюпка. И не успел барон собрать блёклые губы в обычную брюзгливо-презрительную складку, как шлюпка глухо стукнула бортом в причал, на берег вышагнул из неё офицер, в одно мгновение оглядел стоящих на пирсе людей и, вскинув руку к треуголке, прошёл к Брюсу. Мимо барона Лилиенштедта он прошёл так, как ежели того и не было на причале. Барон понял, что здесь он уже не хозяин, и причиной тому были даже не маячившие по горизонту российские корабли, но уверенность, с какой офицер в мундире Преображенского полка ступил на влажные, темно блестевшие от залетавших с моря брызг тяжёлые камни причала.
С удовольствием, как это бывает у юных, недавно поступивших на службу людей, розовея лицом, офицер сообщил, что на флагмане господ Брюса и Остермана ждёт царь. Отступил в сторону, округляя смелые глаза и указывая российским дипломатам путь к шлюпке.
Такая стремительность и вовсе сокрушила Лилиенштедта. У барона нервически задрожало лицо. Какой-то туман окутал его сознание: «Возражать? Настаивать? Возмущаться?» Нет, воля Лилиенштедта распалась, как звенья разорванной цепи. Он увидел перед собой лицо Остермана. Тот что-то говорил, любезно улыбаясь. Но барон был не в силах понять его. Остерман поклонился и пошёл к шлюпке. Брюс двинулся за ним… Офицер спрыгнул в шлюпку последним. Сильными руками оттолкнулся от причала, выкрикнул команду матросам. Вёсла упали на воду. Барон по-прежнему недвижимо стоял на пирсе. Ветер с моря бил ему в лицо. Глаза Лилиенштедта были налиты паническим ужасом. Он знал: чрезмерное честолюбие всегда наказуемо, но то что Карл так низко уронит шведскую корону — он не ждал.
Царь Пётр встретил Остермана и Брюса, сидя за столом в капитанской каюте. Справа от царя Гаврила Иванович Головкин, слева — Пётр Андреевич Толстой.
В каюте крепко пахло табаком.
Пётр сказал жёстко:
— Садитесь.
Остерман одним духом, низко клоня голову, шагнул к столу. Брюс сел степенно.
Пётр, поднеся к лицу обе руки, потёр указательными пальцами у переносицы. Сказал в ладони:
— Налей им по рюмке, Гаврила Иванович. Слышал, кормлением-то королева вас не баловала…
Гаврила Иванович налил из стоящего на краю стола оловянного штофа два стаканчика, подвинул дипломатам.
Пётр через пальцы смотрел, как приняли стаканчики Остерман с Брюсом, как выпили. Брюс по-московски хорошо крякнул, потянул носом.
Пётр наконец отнял руки от лица. Протянул сквозь зубы:
— Так… — И уже ясно, чётко спросил: — Ну, что скажете, господа? Насиделись вы здесь вволю… Лилиенштедт флот разглядел? Доволен?
Остерман — не подготовился к разговору, встреча с царём была так неожиданна, — мешая русские и немецкие слова, сбивчиво начал рассказывать о растерянности барона.
Пётр оживился, подобрел лицом, но всё же прервал Остермана:
— Врёшь небось сгоряча?
— Нет, нет, — замахал руками, запротестовал Остерман. В разговор вступил Яков Вилимович Брюс:
— Ну, ежели самую малость. Барон Лилиенштедт действительно растерялся.
Пётр оборотил лицо к Брюсу. Якова Вилимовича он выделял среди придворных и мнение его ценил.
— А как ты думаешь, — спросил царь Брюса, — королева напугается нашего флота?
— Королева? — переспросил Брюс, наклонил голову набок. — То дело большое, — сказал, — надо думать.
— Так вот и думай, — потянулся к нему через стол Пётр, — думай!
— Королева-то напугается, — сказал после молчания Брюс, — но вот как бы и других не напугать. — Он поднял лицо и взглянул в глаза Петра: — Об том след размыслить.
— Кого, кого имеешь в виду? Короля Георга?
— И его тоже, — сказал Брюс, — здесь всё надобно взвесить. Как бы вместе с королевой нам наших союзников не напугать.
— Союзников… — протянул Пётр, прикрыл глаза пальцами упёртой локтем в стол руки и повторил: — Союзников…
Много было в его голосе: и горечь, и разочарование, и обида.
Все смотрели на царя. А Пётр хотя вот и дважды сказал «союзники», но о них в сей миг не думал.
…Этой зимой в Москве случился пожар. Деревянная столица горела часто, но в этот раз запылала так, что выгорел, почитай, весь город. И посады выгорели. Ветер был сильный, да и загорелась Москва в середине ночи, пока очухались — половина города была в огне. Людей било летящими головнями, калечило раскатывающимися брёвнами изб.
Царь приехал в Москву на третий день после случившегося. Ветер завивал чёрный пепел в улицах. Вместо изб громоздились кучи обгорелых брёвен. Дорогу перебежала опалённая, с голой спиной, собака. Царь велел повернуть к Кремлю. А как въехали на взгорок к Василию Блаженному, Пётр увидел вороха узлов, коробьев, горы каких-то тряпок, море голов. Это были погорельцы. Царь вылез из возка у припорошённых чёрным снежком ступенек храма. К Петру потянулись руки. Поднялся вой. Царь привык, что жили и в Москве, и в других российских городах и весях в великой нужде, но здесь и у него в груди захолонуло.
Безумные бабьи глаза, оборванные мужичьи бороды, обожжённые лица, спёкшаяся кровь в волосах, рты, распятые в крике… Пётр попятился на ступеньку выше. За ним полезли на карачках, хватали за полы. Он отступил ещё…
И сейчас, сидя перед дипломатами, он видел эти оборванные бороды, распятые в крике рты. Пальцы, закрывавшие глаза, собрались в кулак, и Пётр вгвоздил его в стол. Звякнув, свалился со стола штоф, раскатились оловянные стаканчики. Царь вскочил со стула, пробежал по каюте, давя стаканчики каблуками ботфорт. Все молчали. Знали — в такую минуту Пётр может и зуботычиной наградить. С минуту было только и слышно прерывистое, с хрипами дыхание Петра. Но об увиденном в мыслях царь не сказал. Оборотился так, что заскрипело под каблуками, к Петру Андреевичу, крикнул:
— А ты об том, что он говорит, — ткнул пальцем в Брюса, — думал?
У Толстого жилка в лице не дрогнула. Строгим голосом Пётр Андреевич сказал, вставая:
— Думал, государь.
Пётр постоял, всё ещё трудно дыша, шагнул к столу.
— Ну, смотри, Толстой, — сказал, подвигая стул, — смотри. Сел, раздёрнул ворот камзола.
Все присутствующие в каюте передохнули с облегчением.
Было решено: не медля, направить к королеве Ульрике-Элеоноре Остермана и Брюса с ультиматумом, требующим скорейшего заключения мира, а дабы королева не тянула с ответом, поторопить её, высадив на берега Швеции десанты, хотя бы и малым числом войск.
— Что суетишься-то, Андрей Иванович, — говорил Брюс, не без иронии поглядывая на поправлявшего у зеркала парик Остермана, — букли твои королеве ни к чему.
— Нет-нет, — отвечал Андрей Иванович, мизинчиком, украшенным большим перстнем с бриллиантом, трогая чуть смятый у висков парик, — в нашем визите всё важно.
Яков Вилимович улыбнулся, но ничего не ответил — Остерман был человек опасный. На русской службе едва не в первые люди выбился, да заглядывал и ещё выше. Об интригах его Брюс знал, но смотрел на это спокойно. Сам он — выходец из шотландского королевского рода, всю жизнь проживший в России, — много знал, видел и таких, как этот немец с острым взглядом и жадными руками. Бывало, что высоко поднимались похожие на него ловцы чинов, но бывало, и падали. Всему приходило время. Яков Вилимович Брюс считал: в России ничего торопить нельзя, здесь всё должно в меру прийти, созреть, как крутобокое яблочко на доброй яблоне, которая вросла в землю так, что никому не ведомо, из каких глубин берёт она живительные соки. Знал он и то, что были на Руси порубщики, как были и люди, пытавшиеся приживить к этой яблоне различные веточки из чужих садов, однако меты от топоров заросли, хотя и видны на стволе жестокие следы, а веточки отпали. Но дерево стоит, и стоит крепко, матёро.
Остерман накинул плащ на хорошем меху и оборотился к Брюсу:
— Я готов. Ехали к королеве.
Над Стокгольмом стояло хмурое небо. Ветер рябил оловянную воду каналов, одетых в грубый камень. Колеса кареты глухо стучали по древним камням. Прохожих почти не было. Шведская столица была пустынной. Королевский род Вазы к тому немало приложил усилий. Миновали один мост, другой… В тесных улицах дома лепились один к другому серыми, неприветливыми громадами. Остерман был напряжён, Брюс — спокойно хладнокровен.
Северные бабы — народ крупный, на мощных ногах. Работать бабе много, трудно, и надо было, чтобы она могла и пахать, и вязанку дров взвалить на плечи, потяжелее. Такая баба придёт в кирху и стоит, как крепостная стена.
Но не такая была королева Ульрика-Элеонора. С братом Карлом сходство её ограничивалось рысьими глазами неопределённого цвета и удивительной для её соотечественниц мелкокостностью. Она была тоща и в отличие от брата — дерзкого до безрассудства — занудлива и плаксива. Правда, иногда на неё, как и на Карла, накатывали приступы неистовства.
Российских дипломатов она встретила в малой зале для приёмов, сидя на стуле с высокой спинкой, с которой скалили угрюмые морды воинственные шведские львы. В зале было холодно и неуютно. Плиты пола, знавшие рыцарские железные каблуки, отзывались на каждый шаг глухим ворчанием. Шпалеры на стенах были выполнены в невыразительных тонах, вызывавших скорее мучительный шум в голове, нежели высокий восторг от общения с королевской особой.
На приветствие российских дипломатов королева едва кивнула неестественно вздёрнутой кверху головой и позволила чуть растянуть губы в гримасе, которую с большим трудом можно было принять за улыбку. От шеи вверх по щекам Ульрики-Элеоноры проступили красные пятна.
Барон Лилиенштедт принял царское послание и объявил, что визит окончен. Шведы пообещали дать ответ в способное для того время.
Но прошёл и день, и другой, и третий…
Королева молчала.
В одну из ночей от причала шведской столицы, затерявшегося среди множества других, вышло в море малое рыбачье судно. Повидавший немало ветров парус, битые волнами борта, на палубе старые сети… Кто такое остановит, в чьей голове оно вызовет подозрения? Всякий скажет — пошли за треской, а рыбы сей и впрямь было в море как никогда. На что иное, но на тайные встречи, передачи записок, начертанных цифирью, Остерман был мастак. Судно взяло ветер, и стоящий у рулевого колеса человек с бородой, растущей из-под подбородка, направил его в море. Невысокая волна не мешала хорошему ходу. Медный фонарь на мачте качало, но капитан на то внимания не обращал. Жёсткие морщины на дублёном ветрами лице, крепкие руки на рулевом колесе выдавали в нём старого моряка, для которого такая качка была пустяком.
Часа через три над морем забрезжил рассвет.
Капитан, стоящий у руля на крепких, как кнехты, ногах, различил у горизонта многомачтовые суда. Волна была теперь злее и била в борт нешутейно. Летели брызги. Но капитан только плотнее вжимал голову в плечи, однако парусности не убавлял. Стоящие на якорях суда приближались. Капитан, разглядев на мачте адмиральский вымпел, прикинул на глаз расстояние и переложил рулевое колесо. Ударил каблуком в палубу, крикнул что-то неразборчивое. Тотчас из люка за его спиной выскочил проворный малый в такой же, как у капитана, надвинутой до самых глаз зюйдвестке и матросской куртке, бросился к мачте и, сняв фонарь, начал размахивать им на вытянутой руке.
На флагмане, у борта, появилась офицерская треуголка. Приметно было, что офицер внимательно разглядывает подходившее судёнышко. Малый всё размахивал и размахивал фонарём. Офицерская треуголка скрылась, и тотчас с борта упал штормтрап.
Гаврилу Ивановича Головкина разбудил глухой стук в двери каюты. Он недовольно заворочался. Спал крепко. Морские мили давались ему трудно. Непросто было служить царю Петру. Кем это было видано: знатнейшей фамилии дворянин московский чёрт-те где обретался, в неведомых морях, в тесной, как короб, каюте, на рундуке деревянном, на котором и растянуться-то по-доброму нельзя, раскинуться вольно? Как собака, свернёшься в клубок и спи… Да… Дожили… Стук повторился.
Гаврила Иванович сбросил ноги с рундука.
— Входи, — сказал сиплым ото сна голосом.
В каюту вступил офицер. Гаврила Иванович сощурился на него, но в темноте каюты лица было не разглядеть.
— Свечу, свечу вздуй, — всё тем же мятым голосом сказал Гаврила Иванович.
Офицер посунулся из каюты и, показалось Гавриле Ивановичу, из-за спины вытащил фонарь. Бойкие, ох, бойкие ныне нарождались люди. Надо было вставать. Гаврила Иванович потянул на себя беличий тулупчик.
— Ну… — поднял набравшие твёрдости глаза на офицера. Тот вытащил из-за отворота рукава пакет, положил перед фонарём. Гаврила Иванович оживился, разорвал пухлыми пальцами пакет, достал в четверть листа записку, приблизил к светившим дырчатым оконцам фонаря и увидел косо летящую по листу цифирь. Лицо его озаботилось.
— Так-так, — сказал, — так-так…
И его словно подменили: спина выпрямилась, плечи откинулись назад, рука, мгновение назад вялая, бескостная, властно легла на стол. В голосе прорезалась жёсткость:
— Шведа сюда, который записку доставил. Да разбудить действительного тайного советника Толстого и тоже ко мне.
Перед шведом Головкин положил кошель с золотыми, сказал:
— Господину Остерману скажи, что почту ждём от него через неделю. Всё.
Швед поклонился и вышел. От сапог капитана натекла лужа. Расплылась тёмным пятном. Головкин посмотрел на неё с неодобрением. Сопнул носом и, вздохнув, обратился к цифирной записке.
Королева и в этот раз не сказала ни «да», ни «нет». Царёв ультиматум, переданный Ульрике-Элеоноре Остерманом и Брюсом, ушёл в молчание шведского двора, словно в зыбучий песок.
В цифирной записке Остерман писал Головкину, что из разговоров с придворными Ульрики-Элеоноры одно только и можно заключить — шведы будут тянуть с ответом, елико возможно. Писал ещё и то, что королевой послан срочный курьер в Лондон. По возвращении его — да и то без уверенности — можно ждать королевской аудиенции, но что при сем случае Ульрикой-Элеонорой будет говорено, тоже не ясно.
Вот и получалось: напугаться может, и напугалась королева шведов, да только не очень. Слова ультиматума хотя и резкие, ан не убедили её. Строптивость оказала Ульрика-Элеонора. Строптивость…
У Петра, когда ему доложили о тайной записке Остермана, жила на шее надулась. Он отворотил лицо от сидевших перед ним дипломатов, закусил губу. «Курьера в Лондон, — подумал, — а там, глядишь, и в Амстердам пошлют, в Гаагу, и пойдёт одно за другим. Всех всполошат. Флот-де российский у ворот Стокгольма стоит… В европейской политике тысяча бед — повяжут, не вывернешься. Закудахчут, как куры в потревоженном курятнике. Нет, — решил, — замахнулись, так бить надо. Медлить нечего».
Пётр взглянул на дипломатов. Тихое лицо Головкина кисло в ожидании. У Толстого обнажились зубы. Этот всё уже понял — хитрый был, как бес.
— Но-но, — сказал Пётр, — скалиться рано… Меншикова нет, так ты, что ли, за скоморошество взялся?
У Петра Андреевича сей же миг погас блеск в глазах.
— Нет, — неожиданно громко сказал он, — о скоморошестве, государь, не мыслю. Стар для того. О России скорблю.
Таким тоном он никогда не говорил с царём.
У Петра от неожиданности кадык выскочил из-под тесного галстука. С минуту, а то и более он в упор смотрел на Толстого тёмными, с загорающимися бешенством в сузившихся зрачках глазами. Толстой сидел недвижимо. Царь сказал медленно, с угрозой:
— Ладно… Попробуем королеву покрепче. — И уже без зла Толстому: — А ты волчок, хищный волчок.
На стоящем на якорях флоте началась суета. На мачтах взвились сигнальные флаги, от флагмана полетели по волнам шлюпки, на палубах засвистели дудки, и боцманы, срывая глотки и вспоминая бога и чёрта, подняли экипажи на ноги. Капитаны получили царёв указ: идти к Стокгольму, малым флотом высадить десант севернее и южнее шведской столицы для промысла над врагом.
Пётр, заложив за спину руки, торчал на капитанском мостике флагмана, следя за приготовлениями флота. Все команды были отданы. Пётр услышал, как застонала якорная цепь флагмана, выбираемая воротом. Упала на воду, закричала, как мартовская кошка, чайка. Забила крыльями. Пётр оборотил лицо к капитану, сказал:
— С богом! — Перекрестился.
Флот грозной армадой пошёл к Стокгольму.
Пётр, водя зрительной трубкой по горизонту, увидел в море шведские корабли. Ветер выжал слезу из глаза. Пётр отвёл трубку в сторону, хлещущим под ветром полотняным платком согнал слезу и вновь поднёс трубку к лицу. Увидел: на кораблях перекладывали паруса. Усмешка сломала царёвы губы. «Уходят, — понял он, — уходят… Ну, Ульрика-Элеонора, сестра дорогая, бодрись ныне. Бодрись». Отдал команду, дабы тяжёлые суда пропустили галеры вперёд, а сами шли за ними и, ежели к тому нужда будет, прикрыли их пушечным огнём.
Накануне, когда царь на боте обходил суда, проверяя готовность к десанту, Пётр Андреевич увидел на одной из галер капитана Румянцева. «Так вот, — подумал, — куда он из Питербурха-то направлялся по команде». Удивился, что дороги их вновь пересеклись. И какая-то тревожная мысль ворохнулась в нём, но додумать её он не успел. Петра Андреевича позвал царь. Сейчас, стоя на капитанском мостике флагмана рядом с Петром, Толстой вновь вспомнил о Румянцеве.
…Румянцев, командуя ротой, шёл в сей миг к шведскому берегу на одной из передовых галер. И, радуясь, что участвует в деле, подставлял лицо под хлещущий ветер, ощущая в напряжённом перед боем теле прилив сил, необыкновенную бодрость. Держась рукой за борт, он оглянулся на солдат и сказал: «Не подведите, ребята, не подведите!»
Галера шла ходко, над головой гудел под ветром парус.
Берег объявился тёмной полосой у горизонта. И как только Румянцев увидел эту ещё неясную полоску и понял, что здесь-то и придётся принять бой, он в другой раз оглянулся.
Солдаты сидели молча, застыв в ожидании. На лицах было общее выражение — сосредоточенности и предельной углублённости, то выражение, которое всегда бывает на лицах людей, готовящихся к серьёзному испытанию. Солдаты, однако, не выказывали угрюмости или обречённости, как не выказывали и бойкости или весёлости, шутовства или ёрничества, но едино были наполнены решимостью к тяжёлому труду. И готовые было сорваться с уст Румянцева слова ободрения так и не были им произнесены. Он понял, что этих людей в сей миг ни торопить, ни ободрять нельзя. И даже более того — оскорбительно, как оскорбительно торопить стоящего перед святым крестом.
До берега было рукой подать. Румянцев разглядел торчавшую железным гвоздём в небо кирху за подступавшими к морю соснами, белевшими за медными стволами домишки. Но он искал другое — людей и вдруг увидел их. Синие мундиры рассыпались меж сосен редкой цепью. И тут же разглядел: в распадке дюн желтел лафет пушки. Над ней развевалось знамя со львом, который был всё так же горд и величествен, как и тогда, когда звал батальоны Карла на Полтаву. Солдаты заряжали пушку. Она выстрелила, но звука не было слышно. Его заглушило море. Только клуб белого дыма вскинулся над соснами. Румянцев медленно потянул из ножен шпагу и поставил ботфорт на борт галеры.
С хрустом, вскидываясь кверху, нос галеры врезался в мель. Румянцев, не оборачиваясь, прыгнул в воду. Не чувствуя холода, но ощущая лишь сопротивление воды, доходившей до груди, шагнул к берегу…
Царь Пётр следил за высадкой десанта с капитанского мостика флагмана. Он видел, как вышли вперёд галеры, подошли к берегу, как ссыпались с палуб в воду солдаты. Царь поднёс к лицу зрительную трубку. Но её стёкла позволяли лишь видеть отдельные лица с распахнутыми в крике ртами, вскидывающиеся ружья с вставленными в стволы багинетами, струящиеся дымки выстрелов. Пётр, нервничая, скалился. До боли вжимал трубку в глазницу. Каблук его ботфорта нетерпеливо стучал в палубу. За спиной царя Гаврила Иванович Головкин домашним голосом сказал:
— Не беспокойся, государь. Не тот ныне швед, не тот. Полез в карман, достал табакерку.
— Дело выиграно.
Добродушнейше запустил понюшку табака в нос. Сморщился и, преодолев желание чихнуть, добавил:
— А какие злые были люди шведы… Ай-яй-яй… Не приведи господь.
Глаза у канцлера заслезились, дряблые щёки собрались морщинами, нос пополз в гору. Гаврила Иванович чихнул и уткнулся в платок. Пётр хотел было возмутиться, округлил глаза — бой идёт, а тут чех напал, — но и у самого вдруг нос сморщился. Он засмеялся, забухал:
— Ха-ха-ха…
Подумал: «А оно ведь славно, славно… Бой идёт, а канцлер чихает… Не то было раньше. Вовсе не то». И опять заперхал:
— Ха-ха-ха…
Дело и впрямь было выиграно. Десант прорвал жиденькую цепочку оборонявших побережье солдат и пошёл в глубь шведской земли. Капитан Румянцев заколол шпагой командовавшего гарнизоном офицера, отбил у шведов пушку, взял знамя. Рота его прошла через прибрежный сосняк, захватила селение, кирху которого капитан увидел ещё с галеры. Из створчатых высоких дверей кирхи, с крестом в руках, со смиренным лицом, вышел навстречу Румянцеву пастор. Просил, обратя взор к небу, жителей поберечь, пощадить селение в страшную для него годину. Стоял весь в чёрном, с отрешённым лицом, рука, сжимавшая крест, дрожала.
— Хорошо, хорошо, — ответил ещё горячий от боя капитан, — небось не басурмане.
— В божьей обители, — сказал пастор, — с десяток солдат, но они уже не воины. Прошу господина офицера пощадить и их.
Солдаты выходили из кирхи по одному. Бросали ружья на каменные плиты, и бросали не как оружие, которое недавно убивало людей, но никому не нужные, нелепые, железные палки. Лица у солдат были серые испуганные. Да, шведы были ныне не те, что раньше, но, скорее, не те были русские. Вот это уже точно.
Солнце садилось. Над морем полз туман, закрывая берег.
* * *
Плотный туман закрывал и столицу шведов. Рыбаки боялись выходить в море из-за опасности сесть на подводные камни при столь плохой видимости. Даже днём жители Стокгольма не появлялись на улицах без фонарей, и столица шведов выглядела более чем странно. Тусклые пятна фонарей плавали в белёсом мареве, вызывая тревогу, ощущение одиночества и затерянности у бредущих с осторожностью по скользким камням стокгольмцев. Ясное небо, казалось, навсегда простилось с этой землёй.
Чувство одиночества и растерянности переживала в эти дни и королева шведов Ульрика-Элеонора. И хотя она не выходила из дворца, жалуясь на боли в груди, но и ей представлялось, что она бредёт в тумане. Придворные королевы обратили внимание, что у Ульрики-Элеоноры от крыльев носа к подбородку прорезались за последнее время горькие морщинки, значительно старившие лицо. Любезный супруг Ульрики-Элеоноры, которого шведы почему-то не торопились назвать своим королём, всячески пытался успокоить царствующую супругу, но это ему не удавалось. По этому поводу он высказал немало скорбных замечаний, уныло и печально прозвучавших под высокими сводами королевского замка. Вот так: и в королевских союзах бывают грустные дни.
Какую-то надежду на изменение столь мрачной обстановки в царствующем доме внёс прибывший в Стокгольм из Лондона лорд Картерет.
Лорд Картерет был ещё молодой человек, в каждом движении которого чувствовались свойственная британцам энергия и напор. Он прибыл в столицу шведов с большими полномочиями короля Георга. Первый же вечер, проведённый с лордом Картеретом, вдохнул в королеву надежды.
Едва касаясь тонкими, гибкими пальцами кипенно-белых кружев пышного воротника и блестя по-молодому глазами, лорд Картерет с решимостью заявил, что Англия, защищая интересы Швеции — стража Балтики от русских, — готова даже и на крайнюю меру против царя Петра. Кутавшая до того зябко в меха тощие плечи королева шведов после этих слов несколько порозовела. Картерет наклонился к её руке. Когда он выпрямился, глаза его заблестели ещё больше. Королева взглянула на гостя и отметила, что у лорда исключительно приятное лицо: твёрдое, с решительным, истинно британским, подбородком, но вместе с тем не лишённое аристократичности. У королевы смягчились появившиеся за последнее время горестные морщинки у рта. Лорд Картерет, мгновенно почувствовав изменение настроения Ульрики-Элеоноры, в другой раз припал к её руке.
Дальнейшим разговором Картерет ещё больше оживил королеву. С размахом широко мыслящего политика он нарисовал перед королевой шведов, без сомнения, вдохновляющую картину.
Будущее Европы представлялось лорду Картерету весьма перспективным для Швеции. Англия и его величество король Георг (упоминания Англии и его величества короля Георга бесконечно повторялись в бурной речи лорда) объединят усилия Франции, Австрии, Пруссии, Польши, Турции и, без всякого сомнения, защитят Швецию. Тут, правда, лорд — без нажима, без какого-либо подчёркивания — заметил, что Швеции придётся уступить королю Георгу, как курфюрсту Ганновера, Бремен и Верден.
— Но Швеция, — сказал улыбаясь лорд Картерет, — только выиграет от этого, так как его величество король Георг выплатит соответствующие компенсации, которые, конечно же, положительно скажутся на восстановлении столь тяжело пострадавшей от войны Швеции.
И опять названия столиц — Парижа, Вены, Берлина, Варшавы, Стамбула и неизменно объединяющего их Лондона — пролились из уст лорда.
Лицо Ка ртерета стало непреклонным:
— Невиданный союз держав поставит царя Петра на колени. Ульрика-Элеонора поднялась из кресла и, шурша шёлком юбок, подошла к окну. Можно было отметить, что походка королевы приобрела некоторую игривость. Лицо её пылало.
Супруг королевы и лорд Картерет смотрели в спину Ульрики-Элеоноры. И вдруг в наступившей тишине королева невнятно сказала:
— Я вижу звёзды.
— Что? — невольно приподнявшись в кресле, спросил Картерет.
У супруга королевы в лице объявилась странная гримаса. Королева оборотилась от окна и воскликнула отчётливо:
— Я вижу звёзды! — подняла руку, указывая на окно. Картерет и супруг королевы поспешили к ней. За влажными стёклами действительно сияли на расчистившемся небосводе яркие звёзды. Это было как чудо. Поднявшийся неожиданно ветер разогнал давно и плотно висевшие над столицей шведов мрачные тучи, и звёзды, словно омытые дождём, обновлённые, сияли, подобно рождественским игрушкам праздничной ёлки.
В это же время, когда над Стокгольмом столь неожиданно и счастливо разъяснилось небо, не менее ловкий, чем лорд Картерет, посланец Лондона объявился в Вене. Его принял вице-канцлер Германской империи граф Шенборн, которого так огорчил в своё время Пётр Андреевич Толстой.
Лондонский посланец, подобно лорду, посетившему Стокгольм, живой игрой ума нарисовал перед графом Шенборном соблазнительнейшую картину участия Австрии в дележе прибалтийских земель и сдерживании российского медведя. Вице-канцлер выслушал его со всем вниманием.
На том, однако, столь действенные шаги Лондона не пресеклись. Ещё один лондонский представитель побывал в Берлине. Прусского короля Фридриха-Вильгельма[55] Лондон поманил Штеттеном и прилегающими к нему землями. Это был лакомый кусок, перед которым суетному Фридриху-Вильгельму, отличавшемуся исключительной жадностью, было немыслимо устоять.
Успел Лондон и в переговорах в Варшаве, что, впрочем, было несложно, так как Август всегда был готов на любое предательство, и это было известно всей Европе. Успел Лондон и в Дании. Её соблазняли перспективами овладения Штральзундом, Шлезвигом и островом Рюген. Теперь, как казалось Лондону, всё устроилось.
Петербург между тем не проявлял очевидного беспокойства.
В письмах из европейских столиц к своим дипломатам на берега Невы чаще и чаще употреблялось слово — изоляция. Но можно было приметить, что со временем оно изменяло окраску. И ежели вначале слово это звучало с восторгом и торжеством — «изоляция!», то позже в него стал вкрадываться оттенок вопроса — «изоляция?», а дальше и вовсе появилась некая неопределённость и даже растерянность — «изоляция…».
Много было неясного в дипломатической переписке.
Российские же десанты продолжали зорить шведскую землю. А царь Пётр, вернувшись из морской экспедиции, с головой ушёл в строительство флота и даже дипломатов иностранных принимал на судовой верфи. В матросской куртке, разгорячённый работой, царь много шутил и всё с подковыркой, со смехом в глазах:
— Как братец мой Георг? — осведомлялся. — Как сестрица Ульрика-Элеонора? Все дружбу водят?
И много разного слышалось в этих вопросах дипломатам. По давней привычке Пётр похлопывал иностранных гостей по плечам, дружески поддавал пальцем под рёбра и говорил не тому, так иному:
— Может, топор возьмёшь да мне подсобишь? Ну-ну, что невесел?
Совал топор в руки.
Дипломаты смущались. Да и смутишься. Весь европейский мир против него сплачивается, а он шутки шутит. Как это понять? Иные, правда, из тех, что поумней, примечали: шутить-то шутит царь, но вот корабли, да и какие корабли, всё сходят и сходят со стапелей. А сколько их ещё сойдёт?
— То не игрушки, — говорили, — нет… Не забава для прогулок…
И тревожными глазами оглядывали качающиеся на волнах суда.
В ответных письмах дипломатов из Петербурга в европейские столицы стала пробиваться беспокойная нота. Но в Лондоне, вдохновителе изоляции России, пока торжествовали. Король Георг чувствовал себя героем, вершителем судеб мира. Ах, лавры власти! Кому они только не кружили голову. Ну да здесь удивляться нечему было. Забрался Георг на английский трон из не бог весть какого высокого кресла курфюрста ганноверского, и ширь перед ним объявилась… Слабая голова и пошла кругом. Такое часто бывало. А торжествовал-то он зря. И уж вовсе ни к чему обнадёживала себя Ульрика-Элеонора.
Иностранная коллегия российская восторги европейских царствующих домов по поводу заключённых меж собой союзов и договорённостей рассудила по-своему.
Гаврила Иванович Головкин, помяв мягкой ладошкой лицо, сказал:
— Вот князь Борис Иванович Куракин — светлая голова, дай бог ему здоровья, — Гаврила Иванович не спеша перекрестился, — пишет нам из Гааги, что союзы те никуда не годны. И цена им — грош.
Головкин из-под седых бровей оглядел сидящих за столом.
— Резонно, — сказал на то Пётр Андреевич Толстой, — пустое всё это!
Царь выжидательно кашлянул. Шафиров беспокойно заёрзал на стуле. Сидели в его доме. Напротив окон ветер раскачивал сосны. Петербург был всё ещё не обустроен, и хотя сделано было немало, но неосвоенность земли и тут и там была видна. За соснами, в ложбинке, торчали кочки, осока стояла по пояс, мотались на ветру метёлки камышей, как и тысячи лет назад, и дикая утка кричала надсадно. Знать, обеспокоил кто-то. Одним словом — болото проглядывало. Но правда, были кое-где тротуары, мостовая катила под колеса карет, Петропавловская крепость вздымала бастионы, но до столичного града — красы и гордости державной — надо было ещё тянуться и тянуться.
«Кря-кря!» — орала утка проклятая. Шафиров поднялся, с досадой захлопнул окно. Пётр Петрович — человек был с норовом.
Пётр Андреевич, не обращая внимания на хлопоты вице-канцлера, думал о своём и вдруг вспомнил, как он на пыльной площади Стамбула, в виду Айя-Софии, вёл разговор с французским послом Ферриолем. Француз был лукав и, восхищаясь целеустремлённостью ислама, хлопотал вовсе о другом, а Пётр Андреевич, вглядываясь в его лицо, вслушиваясь в интонации голоса, хотел прочесть тайный смысл его слов. Тогда, на стамбульской улице, для него важны были и слова, и интонации голоса, и быстрая смена выражений подвижного лица француза. Ныне словами, даже самыми ловкими, от Петра Андреевича трудно было заслонить истину. За манёврами короля Георга, за суетой его дипломатов он не видел ничего, что могло бы действительно угрожать России. Пустые то были хлопоты, хотя лорд Картерет обладал немалым даром убеждения, смел был и в любую погоду мог скакать по дорогам Дании, Голландии, Пруссии, плыть на кораблях в туманный Стокгольм или отправляться в иную сторону. Энергии ему было не занимать, но подлинных интересов стран и народов он не хотел учитывать в своих планах, которые всегда и неизменно и прежде всего разрешали интересы Англии и только Англии. Это было всё равно что заставлять французов Бургундии пить горький ячменный английский эль, которому они предпочитали лёгкое виноградное вино, или парижан есть кровавый английский стейк, в то время когда их любимым лакомством была пулярка. А потому на слова Гаврилы Ивановича Головкина о негодности многочисленных союзов, поспешно образующихся в Европе, Толстой и сказал весомое:
— Резонно! Пустое всё это!
Гаврила Иванович перекатил неспешные глаза в его сторону, покивал одобрительно головой.
Далее Иностранная коллегия — вот и на болоте сидели, и утка дикая за окном крякала — решение вынесла, которое прыткому Георгу спустя вовсе небольшое время пообщипало перья.
А порешили так: действиям английским не особо противиться, флот британский на Балтике, как военные, так и купеческие суда, не обижать. И ждать, ждать своего часа.
— Французской стороне, — сказал Гаврила Иванович, — противу нас иметь нечего. Границ у нас с ними нет, каких-либо иных противностей тоже не вижу. Вене воевать ни к чему — у них турки под боком. А что Август Великолепный петушится — то пущай его… Эко, как страшен еруслан-воин…
За столом засмеялись. И даже царь Пётр, сидевший закусив губу, улыбнулся.
Петру Андреевичу Толстому тогда же было указано царём ехать в Берлин. И дело ему предстояло тонкое.
Прусский король Фридрих-Вильгельм вёл переговоры о заключении мирного договора со Швецией. О том в Петербурге знали и понимали, что приостановить это не в силах, хотя Фридрих-Вильгельм был союзником Петра. Здесь рассудили так: коль нельзя приостановить переговоры — пусть оно и идёт, как сложилось, но вот вырвать у Фридриха-Вильгельма обещание, что он против России выступать не будет, следует обязательно.
Тонкость была в том, чтобы создать случай, когда при заключении мирного договора со Швецией одна из союзных сторон брала на себя обязательства с Россией военных или каких иных противных действий не иметь. Такая договорённость давала пример иным странам, заключающим под давлением Англии или её усилиями союзы со Швецией, отказываться в то же время от войны с Россией.
— Фридрих жаден, — сказал Пётр Толстому, — да трусоват. Он на солдатском плацу боек, а так, в делах межгосударственных, не шибко смел. Ты это помни. А слово его о том, что против России не пойдёт, нам надо. И очень. О том по всей Европе раззвонят, и многие задумаются. Езжай!
Пётр Андреевич выехал из Петербурга, не медля и дня. Стояла осень.
Толстой, горой привалившись в угол кареты, поглядывал в оконце. Падал лист.
Весной человек придёт в лес с тоской в сердце, а походит среди деревьев, поглядит на почки, вот-вот готовые брызнуть яркой молодой зеленью, — смотришь, глаза у него и повеселели. А то ещё иной прижмётся ухом к берёзовому стволу, а за корой, белой, влажной, — гуд. Соки журчат, как ручьи, прут вверх, к веткам. И в гуде том весеннем — радость. Улыбнётся человек непременно, и боль из сердца его уйдёт.
Лес осенний — другой. Стоит он, словно задумавшийся глубоко, молчаливый. Были песни, были слова, листвой весёлой на ветру говорённые, но всё сказано, всё спето, и падает лист, ложится на землю. И ежели ступишь на него, зашуршит он, как пожалуется: было, было, всё было — и жаркое солнце, и искристый дождь, и ласковый ветер, — да вот ушло… И затоскует человек. А у Петра Андреевича причины для душевной тревоги были, да вот ещё и лес печальный.
К оконцу кареты припал жёлтый лист и всё трепетал, трепетал…
Перед самым отъездом у Петра Андреевича состоялся трудный разговор с царём. Слов было говорено, правда, мало, но разве их много надо, дабы человека в беспокойство ввести? Бывает, что и одного достаточно.
Царю докладывали о тех, чья смелость при высадке десанта на шведскую землю была достойна наград. Среди других был назван капитан Румянцев. Пётр Андреевич при этом присутствовал. «Капитан Румянцев, — сказано было в реляции на имя царя, — знамя шведское захватил мужеством и отвагой воинской, командира гарнизона, оборонявшего берег, отважно шпагой поколол и достоин высокой награды». Пётр Андреевич, задержавшись в царёвом кабинете, когда все ушли, попросил царя капитана Румянцева среди прочих не выделять. Пётр удивлённо откинулся в кресле.
— Как, — спросил, — просишь отказать в награде?
— Да, — ответил Толстой и опустил голову.
Так стоял он долго. Пётр ждал. Наконец Пётр Андреевич поднял лицо, и царь заметил, что за минуту молчания оно изменилось: побледнело, стало строже, осунулось. Трудно подыскивая слова, Пётр Андреевич сказал:
— Капитан Румянцев — офицер зело достойный и мужество в десанте проявил. Однако о другом хочу сказать, государь. Румянцев вместе со мной твоего сына, царевича Алексея, из чужих земель привёз и тем… — Толстой проглотил комок, стоявший в горле, — к смерти его подвинул.
В палате наступила такая тишина, что, казалось, воздух звенел. Задыхаясь, что не случалось с ним никогда, Пётр Андреевич продолжил:
— И это не простится ни мне, ни ему никогда. То крест наш на всю оставшуюся жизнь. И я знаю это, но я старик, а он молод.
Пётр молчал.
— Да, — воскликнул Пётр Андреевич, запавшими глазами глядя на царя, — России это было нужно… Царевич Алексей был враг ей… Но так не все думают.
За спиной Петра звонко ударили часы: бом!
Пётр вздрогнул.
Бом, бом, бом! — били часы, и, пока гремели куранты, Пётр Андреевич думал, что страшные слова говорит, столь страшные, что неизвестно, чем разговор кончиться может. Но бояться он давно забыл и потому продолжил:
— Для капитана Румянцева лучшая награда — незаметность, ибо только это годы ему сбережёт.
И вдруг услышал: Тра-та-та… Тра-та-та…
В крышку стола ударил чугунным перстнем царёв палец, как было это много-много лет назад, когда Пётр принимал Толстого по возвращении из Италии. Пётр Андреевич в мгновение вспомнил, что прочёл тогда в этом стуке и вопрос, и раздумье, и усмешку, и в памяти встало, о чём был вопрос, отчего раздумье и по какой причине усмешка. Ныне в звуке этом была только горечь.
— А не рано ли ты, Толстой, — сказал царь, заламливая высокие брови, — меня хоронишь?
— Государь, — помедлив, ответил Пётр Андреевич, — жизнь и смерть в руце божьей… Что же касаемо капитана Румянцева — долгом считаю сего человека оберечь.
И долго они стояли друг против друга, уже не говоря ни слова. Так долго, что у Петра Андреевича тяжело забилось сердце. Царь прошёлся по палате — каблуки не стучали, но ступали неслышно, — сел за стол и взглядом позволил Петру Андреевичу выйти.
Позже Толстой узнал, что капитану Румянцеву была дана деревенька под Тверью, выделяющие же его среди прочих награды были отменены…
Вот такие невесёлые мысли беспокоили Петра Андреевича, а дорога, что ж дорога?.. Привычное было для него дело. Сколько он вёрст наездил? На много жизней хватило бы.
— Да-а-а, — вздыхал Толстой, — да-а-а… — и видел неслышно ступающие ботфорты царя, заломленные его брови. И, хотя в карете никого не было и никто услышать его не мог, повторил сказанное им в разговоре с Петром: — В руце божьей…
Пётр Андреевич тряхнул головой, словно отгоняя беспокойные воспоминания, посунулся вперёд на сиденье и, отлепив приставший к стеклу оконца жёлтый разлапистый лист, отбросил в сторону.
Трепеща и играя по ветру, лист скользнул вниз и пропал из глаз.
Это были трудные для России годы, когда для человека, считай, и часа не было оглянуться вокруг, посмотреть на пройденный путь и обдумать с неспешностью, как того только и заслуживает жизнь, происходящее. Время гнало вперёд каждого и всех вместе, гнало Россию. И время вызывало к жизни именно таких, как Толстой, не знавших даже личных забот, семьи и домашних привязанностей, как не знал их Пётр Андреевич. Он был весь в деле, и жизнь его составляло именно дело. Недаром в те годы это слово употреблялось так часто; от дела государева до сыскного дела. Толстой знал, что его сын служит и уже добился офицерского чина, но только знал умом, но чувство его тревожило или согревало не часто. На это Петра Андреевича не хватало. Так и сейчас Толстой, решительно отвернувшись от оконца, не позволил себе больше обращаться к воспоминаниям, но всё внимание сосредоточил на ожидавшем его деле.
Помимо встречи с Фридрихом-Вильгельмом Петру Андреевичу было поручено вручить королю Августу письмо царя Петра через русского представителя[56] в Польше князя Долгорукого. И в этом были свои сложности.
Король Август, несмотря на свои происки противу царя Петра и России, вновь почувствовал неустойчивость. Польский трон всегда был под ним нетвёрд, а ныне и в особенности престиж Августа в Польше сильно пошатнулся. Август, подвигаемый к тому Венским союзом, хотел было призвать панов к войне против России, но сейм Речи Посполитой воспротивился. В Варшаве в открытую заговорили о нежелательности иметь на польском троне столь лукавого и изменчивого короля. Немногочисленные сторонники Августа готовы были на саблях схватиться со своими противниками на заседании сейма, но их выбили вон, и королю было твердо заявлено, что Речь Посполитая войной против России не пойдёт. Август понял, что он проиграл в очередной раз и бросился к русскому представителю в Варшаве князю Долгорукому.
Со свойственной ему непоследовательностью Август Великолепный стал убеждать князя, что он всегда был искренен по отношению к царю Петру, имел самую сердечную к нему привязанность и жадно стремился к согласию.
Князь выслушал короля с каменным лицом, и то ли холодность Долгорукого, но скорее вздорный характер Августа, чрезмерное самолюбие и глупость толкнули короля на то, что он вдруг сказал:
— Если царь Пётр не поддержит меня в моих начинаниях, — король вскинул гордо голову и заметно расправил плечи, — я могу принести ему немало неприятностей.
Это было вовсе ни на что не похоже: он просил помощи и он же угрожал.
Князь молча откланялся.
Пётр Андреевич знал содержание письма, которое вёз в Варшаву. Каждая его строчка была пощёчиной Августу. Пётр, напоминая королю о его предательствах, писал: «Предлагая о возобновлении дружбы, не следовало возобновлять дел, напоминание о которых может быть только противно царскому величеству». Последние слова письма били Августа наотмашь. В письме было сказано, что царь «не привык позволять кому бы то ни было пугать себя угрозами». Пётр Андреевич легко себе представил, какое будет лицо у суетного Августа, когда он прочтёт эти строки. Для этого не надо было обладать даром большого провидца, да такое и не особенно интересовало Толстого — с королём Августом было ему всё ясно. Он же хотел полнее увидеть истинное положение, складывающееся в Польше. И князь Долгорукий в том ему помог.
В один из дней, по приезде в Варшаву, князь отвёз Толстого в имение великого гетмана князя Любомирского.
Вёрст за пять до имения великого гетмана возок русского представителя в Варшаве окружили всадники с факелами в руках и в таком торжественном сопровождении Пётр Андреевич и князь Долгорукий прибыли в имение князя Любомирского. Князь — высокий, крепкий, сухой старик, в собольей шубе и бобровой шапке, в польских красных высоких сапогах — встретил их на ступенях подъезда дворца, освещённых хитро придуманной лампой из множества зеркал, многократно увеличивающей светоносную силу зажжённых в ней свечей. Князя окружала многочисленная шляхта, толпящаяся у подъезда. Гордые лица, дедовские широкие перевязи, яркие плащи и синие, и красные, и необыкновенных оранжевых цветов. Князь Любомирский был одним из самых богатых и влиятельных людей Польши. Когда он шагнул навстречу вылезшему из возка Петру Андреевичу, шляхта троекратно прокричала:
— Виват! Виват! Виват!
Толстой не без иронии взглянул на сие бодрое воинство и проследовал за князем в палаты. Подумал: «Факелы, фонарь этот со свечами, плащишки яркие, дедовские сабли… Всё игрища, забавы… Весёлый народ, когда-то им о деле задуматься?»
Стол был накрыт с польской щедростью. Пётр Андреевич почти с неподдельным восторгом всплеснул ладонями.
— Ай-яй-яй! — воскликнул он. — Польская кухня всегда восхищала меня.
После десятой перемены блюд князь, не скрывая гнева, начал говорить о польских делах, о разорении, которое принёс стране Август.
Пётр Андреевич слушал его со всем вниманием, сокрушённо кивал головой, изображая лицом полное сочувствие. При всём этом он знал, что князь Любомирский присягал королю Августу, заверяя того в нерушимой верности, позже присягал с теми же заверениями Станиславу Лещинскому и в другой раз присягал королю Августу и всё с теми же жаркими словами о верности.
— Август, — говорил князь Любомирский, — это бич Польши. Он приведёт нас к тому, что в нас вцепится хищный германский орёл, и тогда уже ничто не спасёт многострадальную страну от раздела.
Увлечённый нежнейшим паштетом, Пётр Андреевич вытер салфеткой губы и, глядя ясными очами на князя, необыкновенно чётким голосом сказал:
— Вот такое будет всенепременно.
У Любомирского, казалось, слова застряли в горле. Он взял бокал вина, выпил, глаза его потемнели.
Сидя в возке, возвращавшемся в Варшаву, Пётр Андреевич долго смотрел на скачущих по дороге шляхтичей с факелами. Всадники были задорны, в них не чувствовалось усталости от бессонной, проведённой за пиршественным столом ночи. С гиком и присвистами они то обгоняли возок, то пропускали его вперёд и вновь, бодря коней, спешили следом. Лица были румяны, возбуждённы и полны радости жизни. Пётр Андреевич наконец отвёл от них глаза и сказал Долгорукому:
— Мира в Польше не будет долго. — Кивнул подбородком на скачущих шляхтичей: — Экие красавцы, да им бы ещё ума, хотя бы и порошинку… Но нет, нет, вона как скачут…
Горькая складка легла у губ Толстого.
В Варшаве он больше не задержался.
Экипаж Петра Андреевича катил к Потсдаму — резиденции прусского короля. И уже не польские пущи с чащами, беспорядочными завалами деревьев, густым подлеском, но ухоженные немецкие леса с однообразными просеками, мостками через реки и речушки, белёными часовенками на перекрёстках дорог открылись его взору. И словно поощряемый этой упорядоченностью, но скорее в силу более и более развивавшемуся в нём чувству не торопить события, но дать им прийти в нужную пору. Пётр Андреевич обдумывал предстоящий визит к Фридриху Вильгельму.
Толстой знал, что письмо царя Петра больше чем две недели назад передано королю Августу, и Пётр Андреевич с уверенностью полагал, что содержание послания царя уже известно не только гордому польскому суверену, но и его окружению. Толстой был достаточно опытным царедворцем, чтобы с определённостью сказать: резкие и недвусмысленные слова Петра в адрес польского короля теперь разнеслись далеко и, надо думать, достигли слуха Фридриха-Вильгельма. Королевские дворы для того и существовали, чтобы предавать своих высоких покровителей. Такое было в Лондоне, в Париже, и такое наверняка было в Варшаве. Придворный чувствует себя ущемлённым, ежели не подставит подножку суверену. Слишком низко и часто приходится ему кланяться королю, чтобы не вызвать тем непреодолимого желания выпрямиться хотя бы и в подлой интриге. И царь Пётр хлестал Августа по щекам не без расчёта на то, что звук пощёчин достигнет слуха Фридриха-Вильгельма. Прусскому королю необходимо было напомнить до того, как перед ним предстанет Толстой, о российской армии, стоящей у границ Пруссии. Такое было не лишне. Широко раскрывая рот на Штеттин, по мнению петербургских дипломатов, Фридрих-Вильгельм вдосталь должен был глотнуть страха за будущее, оставаясь без помощи России. Ему следовало сильно подпортить аппетит, прежде чем он сядет за шведский стол. Да и в Варшаве Пётр Андреевич сделал всё, дабы так оно и случилось. Он не скрыл содержание царёва письма от великого гетмана Любомирского и другим пересказал его содержание, пособляя при дворной почте. Видел улыбку Любомирского — злую и опасную, — видел, как туманились хмельным, глумливым счастьем вцепиться зубами в спину короля глаза придворных. И ему стало ясно: Августа они не пощадят.
В Потсдаме российскому дипломату отвели роскошные апартаменты, и по одному этому Пётр Андреевич понял: всё сделалось так, как и рассчитывали в Петербурге. Слова Петра до слуха Фридриха-Вильгельма дошли. Пётр Андреевич удовлетворённо улыбнулся и пустил сквозь зубы звук, который неизменно свидетельствовал о добром его настроении.
Из окна апартаментов российского дипломата открывался широкий вид на поля роз, которыми славился Загородный королевский дворец. Множество садовников отдавали силы этому чуду, и розовые королевские поля поражали и тех, кто видел роскошь Версаля и знаменитые сады испанских королей. Но сейчас, глубокой осенью, розы осыпали великолепный наряд, однако взору русского посланника не было суждено томиться и скучать, озирая картины увядания. Перед пространством полей открывался солдатский плац — главная страсть Фридриха-Вильгельма. Прусский монарх коллекционировал не только цветы, но ещё и необыкновенно рослых солдат. Люди Фридриха-Вильгельма рыскали по всей Европе и отыскивали гигантов. Золотом и вином они смущали наделённых высоким ростом молодых людей и вербовали их в особые роты прусского короля. В минуту слабости человек ставил подпись на их бумагах, а ежели не мог расписаться, чертил крест и становился собственностью короля на долгие-долгие годы. Перед окнами Петра Андреевича под грохот барабанов с утра до вечера маршировали роты исполинов. Казалось, что это были не живые люди, но одетые в железные кирасы неодушевлённые заводные болваны, способные выполнять только команды офицеров. Даже лица их были настолько похожи, что представлялось, будто в движущихся рядах один многократно повторенный человек. Нога взлетала вверх, ударяла подошвой ботфорта в плиты плаца, тут же взлетала другая и также мерно ударяла в камень. И так раз за разом, раз за разом… Это было настолько противоестественно, что у Петра Андреевича холодок прошёл по спине. Он отвернулся от окна.
Барабанный бой за окном гремел два дня, выказывая прусскую мощь. На третий день в апартаментах Петра Андреевича объявился министр иностранных дел Фридриха-Вильгельма. Приседая и кланяясь, он поприветствовал российского дипломата и любезно пригласил присесть на тонконогий, затейливый диванчик. У министра короля был характерный немецкий, с запавшими губами, узкогубый рот, прозрачные голубые глаза и пухлые ручки, постоянно находившиеся в движении. Глядя наполненными склеротической влагой, приветливыми до приторности глазами на русского гостя, он торопливо и сбивчиво заговорил о новых усилиях короля по укреплению армии.
— Солдаты короля, — говорил он, — достойны восхищения. Они способны на любой подвиг. Я думаю, — сказал министр, — сегодня нет армии, которая бы смогла противостоять этил солдатам.
Пётр Андреевич слушал рассеянно. Но это, видимо, не смущало прусского министра, и он продолжал, всё продолжал восхищаться увлечениями короля.
Пётр Андреевич неожиданно осведомился, сколько лет министру. Тот с удивлением глянул на гостя и развёл руками многочисленные перстни на его пальцах рассыпали голубые огни.
— Я это к тому, — сказал Пётр Андреевич вдруг, — что вам несомненно, грозят тяжкие испытания.
Брови министра от удивления взлетели кверху, глаза расширились.
— Да-да, — с прежним напором продолжил Толстой, — именно тяжкие испытания, ежели не сказать хуже…
Глаза министра расширились ещё больше. Руки затрепетали у горла. Когда-то вот так вот ошеломить человека Петру Андреевичу стоило больших усилий и требовало немалой подготовки. Сейчас он обескуражил напудренного, завитого, надушенного прусского министра без всякого труда. Выбить человека из седла в сабельной схватке — значило наполовину выиграть бой. То же означало и в дипломатическом споре — сбить противника с заранее продуманной позиции. Глаза прусского министра суматошно заметались.
— Штеттин, — продолжил Пётр Андреевич, — немалое приобретение для Пруссии.
Он поклонился министру.
— Я отдаю должное вашим дипломатическим успехам. Его величество король прусский, несомненно, будет доволен подарку. Как же! Вас ждут награды.
Пётр Андреевич качнулся вперёд и, значительно приблизившись к прусскому министру, сказал:
— Но подумали вы, что, приобретая Штеттин, навсегда рассорите вашего короля с царём Петром? Нет слов — солдаты его величества хороши, но сможет ли Пруссия противостоять своим врагам, оставшись без поддержки России?
Министр ежели не со страхом, то, во всяком случае, с растерянностью уставился на Петра Андреевича. Руки его бессознательно перебирали и перебирали кружева у ворота.
— Я полагаю, — продолжил Толстой, глядя на эти руки, выдающие душевное волнение министра, — не следует пояснять: в случае заключения Пруссией договора со Швецией Россия немедленно разорвёт дружеские связи с вашей страной.
— Но… — хватаясь как утопающий за соломинку, начал было министр, — договор между Пруссией и Швецией…
— Нет, — прервал его Пётр Андреевич, — нам трудно, точнее, невозможно будет говорить в таком разе.
— Но всё же…
Пётр Андреевич поднялся с диванчика и, пройдя к камину, остановился в решительной позе. Лицо его потемнело от гнева.
— Сообщите его величеству, — сказал он, — есть только одна возможность сохранить дружеские отношения между нашими странами.
Пётр Андреевич сомкнул губы и замер в молчании. Прусский министр подался вперёд, ожидая, что скажет Толстой. Но тот молчал. Пауза затягивалась, как затягивается петля на шее приговорённого к смерти. Глаза Петра Андреевича хотя и были устремлены на министра, но, казалось, не замечали его, обративши взгляд внутрь и озирая в эти долгие мгновения известные только ему — Толстому — политические горизонты.
Министр не выдержал и поторопил:
— Дружественные отношения между нашими странами…
— Да, — остановил его жестом Пётр Андреевич, — могут быть сохранены только в том случае, ежели при заключении союза со Швецией его величество Фридрих-Вильгельм даст торжественное обещание — и это будет закреплено на бумаге — не предпринимать никаких враждебных действий против России.
Последние слова Толстой отчеканил с твёрдостью. И голос, и взгляд Петра Андреевича сказали: это должно быть так, и только так!
Позже стало известно, что Фридрих-Вильгельм в те дни написал в своём дневнике: «Мой мир со Швецией заключён, но я не смею говорить об этом, потому что мне стыдно… Я болен и делаю это безответственно. Ежели я потеряю царя и попаду под ярмо Англии и германского императора, я привлеку к ответственности своих министров…»
В сомнениях прусский король не находил места, но всё же, несмотря на оказываемое на него давление и Англии и Австрии, оговорил при заключении договора, что он не выступит против России.
В конечном итоге всё, даже самое огромное, состоит из малых составляющих. Чащобный лес из деревьев, гора из железно-рудных, медных или каких-либо иных пород, общественное мнение из представлений по тому или иному вопросу отдельных людей. Так и европейская политика, как и всякая иная, шаг за шагом, событие за событием составлялась из интересов и разнообразных условий европейских народов, правящих дворов, разноречивых заявлений власть предержащих людей, из союзов, договоров, межгосударственных актов и множества иных причин и следствий. А ветры, менявшие эту политику, казалось возникавшие внезапно, вдруг, на самом деле не были ни внезапными, ни случайными, но всегда были закономерны, хотя эти закономерности не прослеживались людьми. Так, горный обвал, сокрушающий вековые деревья, гигантские скалы, начинается с движения малой песчинки, которая незаметно лежала в своей лунке, но в один из дней сдвинулась с места, толкнула рядом лежащую песчинку, та в свою очередь подвинула следующую, и вот уже возникла цепь движения, и с вершины горы грозно двинулся обвал. И возможно, роль такой песчинки, породившей, казалось, внезапные изменения в европейской политике, сыграло настойчиво и многократно повторенное прусским королём Фридрихом-Вильгельмом заявление о верности царю Петру. Об этом заговорили при одном и при другом правящем дворе, о силе России зашептались в дальних королевских покоях, в высоких кабинетах, за закрытыми дверями. Словно сквозняком потянуло по европейским переулкам, улицам, площадям, и под его напором задрожала, завибрировала, начала рваться и тут и там долго и тщательно сплетаемая паутина противороссийских союзов и договоров. «Северное умиротворение» — плод огромных усилий Англии, её настойчивых и ловких дипломатов, последовательно объехавших европейские столицы, — начало разваливаться столь стремительно, что это поистине напоминало горный обвал.
Лорд Картерет, недавно рисовавший перед шведской Ульрикой-Элеонорой радужные перспективы, неожиданно попросил королевской аудиенции и, войдя в покои Ульрики-Элеоноры с мрачным видом, заявил, что Швеции следует согласиться на заключение мира с Россией. Это было для королевы шведов столь обескураживающе, что у неё от бессилия и ярости брызнули слёзы.
Лорд Картерет низко поклонился и вышел.
Когда известие об этом дошло до Петербурга, Гаврила Иванович Головкин не выразил никакого удивления. Понюхал табачку, чихнул в своё удовольствие и, благодушно утеревшись преогромнейшим платком, сказал:
— А всё даже очень просто. Англичане-то дела свои на Балтике решили. Ульрика-Элеонора ныне им ни к чему.
Пётр Андреевич Толстой на реплику эту только согласно покивал головой.
Тогда же в Петербурге объявился французский посол в Швеции Кампредон. Он приехал мирить Россию и Швецию. Да, ныне многие были готовы предложить услуги в этом и, конечно примирив сии державы, урвать для себя хотя бы и малую кроху.
Гаврила Иванович для разговора с французским дипломатом собрал во дворце у вице-канцлера людей таких, чтобы за словом в карман не лезли. От француза всего можно было ждать, хотя, как понимали в Петербурге, шведам мир был нужен более, нежели России.
Кампредон — человек весьма любезный, улыбчивый — начал разговор с рассказа, как он, поспешая в Петербург, дабы мир учинить, утопил во время переправы лошадей вместе с каретой и багажом.
Гаврила Иванович слушал француза со скучливым лицом. Сидевшие рядом Толстой, Меншиков и Шафиров также помалкивали. Кампредон, посмеиваясь над дорожными приключениями, поглядывал на русских со вниманием. Ему хорошо был известен каждый из сидящих за столом, и француз не обольщался надеждой, что миссия его будет лёгкой. Гаврила Иванович гостя не торопил. Знал — рано или поздно Кампредон главное выскажет. Да ещё и так полагал: через всю Европу не скачут, дабы о дорожных пустяках рассказать. «Ну-ну, — думал, — давай, давай, что там ещё в коробе?» Складывал губы постно, словно говоря: «Мы подождём, у нас время есть, но вот есть ли оно у тебя?»
Меншиков крутил на пальце перстень и нет-нет да и вздымал матерые брови, взглядывал на француза с неудовольствием.
У Шафирова мощная зашеина наливалась кровью.
Пётр Андреевич хранил на лице ангельскую кротость.
Кампредон, поняв, что далее пустыми разговорами русских занимать нельзя, заговорил о любви регента французского к России.
В лице Гаврилы Ивановича проявился слабый интерес. Он поднял глаза на француза. Однако во взоре светилось нечто такое, что всё более и более смущало Кампредона. И всё же француз, хотя и несколько запинаясь, сказал, что усилиями регента Россия, конечно, получит по договору со Швецией Петербург, Ингрию и Нарву, но Лифляндию, Эстляндию и Выборг ей придётся вернуть. И здесь произошло то, чего Кампредон, при всей своей дипломатической опытности, никак не ожидал.
Пётр Андреевич сильно фыркнул в нос, толкнул животом стол так, что тот заметно подвинулся на тяжёлых ножках, и захохотал.
Все обратили к нему лица.
— «Усилиями регента»?.. — сквозь смех вырвалось у Толстого, и он заперхал горлом: — Ха-ха-ха… Усилиями регента…
Пётр Андреевич поднялся от стола и, вздев руки, шагнул к окну.
— Ха-ха-ха… — неудержимо рвалось из его разверстого рта. У Меншикова лицо сморщилось, брови подпрыгнули, и он захохотал вслед за Толстым. И даже Гаврила Иванович не удержался, забулькал дребезжащим смехом. Щёки у него затряслись. Шафиров ударил по ляжкам ладонями, и уже не только зашеина, но всё лицо у него залилось алым. Выпячивая губы, словно дуя на горячие угли, он заблеял дискантом:
— Благодетель, вот благодетель… — и тоже зашёлся смехом. — Раньше-то где был, раньше…
Кампредон с явной растерянностью смотрел на русских. Веки его то взлетали, то падали и опять взлетали. В сей миг он был до смешного похож на сову, которая вдруг оказалась на ярком солнце и, ничего не видя и не понимая, таращилась на ослепивший её свет.
— Ха-ха-ха, — продолжал неудержимо хохотать Толстой.
— Хи-хи-хи, — дребезжал надтреснутым голосом Гаврила Иванович.
Меншиков вдруг оборвал смех и сказал плачущим голосом:
— Лифляндию, Лифляндию хотя бы отдал-то… А? Лифляндию, — и вновь захохотал.
Кампредон, по-прежнему моргая слепой совой, поднялся от стола.
Гаврила Иванович подступил к нему, ухватил за пуговицу.
— Постой, — сказал, — куда же ты?
— Я буду просить, — начал было француз, — его величество принять меня…
И тут Гаврила Иванович, оборотясь к своим дипломатам, сказал строго:
— Помолчите! — И вновь обратился к Кампредону. — Напрасно, — сказал, — ежели ничего иного предложить его величеству не можешь, то напрасно.
Француз, однако, напросился к царю Петру. И начал разговор так:
— Ваше величество, я угадываю, как возрастёт ваша слава, когда вы, проявляя великодушие, вернёте Швеции Лифляндию, Эстляндию, Выборг и иные завоёванные земли.
Царь Пётр долго смотрел на холёное лицо Кампредона. Всегда быстрые, подвижные глаза царя на сей раз были до удивления неспешны, и казалось, стой сей миг перед ним не то что Кампредон, но и регент французский, король Георг, Ульрика-Элеонора или пушка выстрели за окном, они не сморгнут, не дрогнут, так как наполнявшая их мысль прилила из столь великих глубин, для которых внешние проявления не имели никакого значения.
Кампредон суетливо переступил с ноги на ногу, улыбнулся беспомощно, хотел было что-то сказать, но только шевельнул губами и вновь переступил лёгкими башмаками, словно стоял на горячем.
Ровным голосом царь Пётр сказал:
— Ради славы я охотно бы поступил так, как подсказывает господин посол, да вот только боюсь божьего гнева в случае, ежели отдам то, что стоит российскому народу стольких трудов, денег, пота и крови.
Вернувшись в Стокгольм, Кампредон заявил и шведам, и хлопотавшему при дворе Ульрики-Элеоноры английскому послу Картерету, что надо поскорее заключать мир.
— В войне ли или в мире, — сказал он, — но ежели царь Пётр проживёт ещё лет десять, его могущество сделается опасным даже для самых отдалённых держав. Хотя я малое время пробыл в Питербурхе, но достаточно могу судить, что царь Пётр осторожно поступает с нами единственно ради своих интересов и чтобы добиться своей цели, и как бы он ни принимал иностранцев — в дружеских ли сношениях, по делам ли торговли, — но они никогда не добьются от него никаких выгод, пока царь не убедится, что оные действия ему нужны.
30 августа 1721 года в финском городке Ништадте мир был подписан. Все требования русских были удовлетворены. Отныне Россия прочно стала на Балтике.
Небо над Москвой пылало в огнях фейерверка. С треском лопались ракеты, винтом взлетали хвостатые шутихи, взрывались огненными фонтанами гранаты. В широко распахнутых глазах запрокинутых к небу лиц отражались, истаивая, цветные звёзды. И били, били большие и малые колокола, крича медными языками:
— Победа! Победа! Победа!
Царь на празднование приехал в Москву. Столы накрывали в Грановитой палате в Кремле, затем царь пожелал объехать знатные московские дома и вот теперь многочисленной и шумной компанией прикатил в любимый старый дворец.
В Преображенском, расставленные по двору рядами, рявкали мортиры. Выбрасывали клубы дыма, откатывались, солдаты наваливались на пушчонки, с рук на руки перебрасывали картузы с порохом, совали без счёта в зевластые пушечные горла и торопились с зажжёнными фитилями.
Пушка рявкнула за окном так — артиллеристы в горячке перехватили с порохом, — что задребезжали стёкла. Пётр Андреевич шагнул к окну. Увидел: небо вспыхивало и искрилось от многочисленных ракет. И вдруг в памяти его встала огненная потеха, устроенная по случаю взятия у шведов малой крепостцы накануне его — Петра Андреевича — отъезда в Стамбул. И он словно вновь увидел Соборную площадь в Кремле, потешные колеса с ракетами и стоящих рядом с царём Александра Меншикова, Бориса Петровича Шереметева, генерала Адама Вейде, Аникиту Репнина… Он даже различил их лица, освещённые огнями фейерверка, но главным, что встало в памяти, были не лица сподвижников I Петровых и не огни ракет, а то, что никак нельзя было пощупать или по-иному осязаемо ощутить, однако властно царившее ка Соборной площади и объединявшее стоящих вкруг царя людей. Главным было связывающее их дело. «Может быть, — как подумал тогда Пётр Андреевич, — только начатое, трудное, от которого руки в мозолях и ссадинах, но всё одно — дело». А он в ту минуту хотя и был рядом с ними, но в деле не участвовал. И этот праздник был только их торжеством.
За столом закричали, вздымая чаши. Толстой оборотился от окна.
Царь Пётр ступил ботфортом на стул и легко, одним прыжком, вспрыгнул на стол и пошёл, пошёл в плясовой между бокалами и блюдами. Брызнуло и полетело по сторонам вдребезги, в пыль разлетающееся стекло. И Петру Андреевичу, непохоже на себя закричавшему «Виват! Виват!», показалось, что это не царь пляшет на столе, но он сам. Да это так и было. Его, его, Толстого, каблуки, что сходили по осклизлым ступеням Семибашенного замка, били сейчас в крепкую крышку стола, его руки, что удержали преступного царевича, взлетали кверху, и сияли его глаза, так как и победа и праздник были его же.
Эпилог
юня 15 дня 1727 года у причала Соловецкого острова ошвартовался фрегат, пришедший из Архангельска. Море было неспокойно. С фрегата спустили трап, и несколько солдат с примкнутыми к ружьям багинетами сбежали на причал и стали на мокрых камнях с настороженными лицами.
Случившиеся на причале монахи Соловецкого монастыря смотрели и на солдат, и на беспокойно прохаживающего у трапа офицера с удивлением.
У борта фрегата объявился другой офицер. Он что-то крикнул матросам, те тотчас откинули тяжёлую люковину трюма, и в следующую минуту выступили на палубу два человека. Их окружили, подвели к трапу, и стало видно, что эти двое скованы цепью.
Офицер зло крикнул в другой раз, и скованных цепью людей погнали вниз по трапу. Монахи приметили, что один из этих двух был тучен и по тому, как ступал, тупо ставя ноги, видать, стар, а другой много легче телом и, нужно думать, моложе.
На причале по команде офицера солдаты, вскинув ружья наперевес, обступили скованных цепью и повели к монастырю.
Всё делалось быстро, враз, как ежели бы и приход фрегата, и высадка неведомых арестантов должно было скрыть от лишних глаз.
Под охраной солдат скованных цепью офицер оставил во дворе монастыря, сам поднялся к игумену, архимандриту Варсонофию, и с предъявлением царского указа объявил, что государственного преступника, бывшего действительного тайного советника и кавалера графа Петра Толстого и его сына Ивана надлежит поместить в тюрьме монастыря и содержать под крепким караулом.
Услышав сии слова, архимандрит от изумления качнулся к окну и, будто желая убедиться, выглянул во двор. На чёрных монастырских камнях и вправду стояли солдаты с поблескивающими под дождём багинетами на ружьях и два арестанта. Ветер рвал волосы на непокрытых их головах.
Архимандрит Варсонофий перекрестился и трясущимися руками принял от офицера царскую бумагу. Побежал глазами по шатающимся строчкам: «…до церкви пущать за караулом же… и с тех же тюрем их никуда не выпущать, и между собой видетца не давать… писать не давать, и никого к ним не допущать, и тайно говорить не велеть… кормить брацкой пищей…»
Подняв глаза от бумаги, архимандрит сказал дрогнувшим голосом:
— Тюрьмы у нас тяжкие.
Офицер промолчал…
После смерти Петра Великого на российский трон претендовали два лица: Екатерина — супруга покойного царя и великий князь Пётр Алексеевич, сын царевича Алексея, внук Петра Великого. Всё решила гвардия. Её штыками и усилиями влиятельнейших вельмож Александра Даниловича Меншикова и Петра Андреевича Толстого на трон была возведена Екатерина. Меншикова и Толстого объединял страх за будущее. Они понимали, что воцарение на троне сына погибшего царевича Алексея грозит им не только опалой, но, возможно, и смертью. Пётр Андреевич Толстой был уже стар, ему пришло время думать о покое. Александр Данилович Меншиков же заглядывал в будущее с надеждой сохранить своё огромное, почти неограниченное влияние при дворе. Он замыслил породниться с наследником, женив его на своей дочери. Пётр Андреевич Толстой, крупнейшая фигура при дворе, был ему уже не нужен. Он стал помехой.
Однажды Пётр Андреевич, прогуливаясь по дворцовому саду, увидел идущих навстречу Меншикова и наследника. Они весело смеялись. Пётр Андреевич поклонился наследнику. Тот внезапно оборвал смех и взглянул на него столь выразительно холодно, что в этом взгляде старый Толстой прочёл свой приговор.
Как и предположил Толстой, в считанные дни Меншиков затеял следствие, которое, без сомнения, доказало причастность Петра Андреевича Толстого к противоправительственному заговору. Дальше были Соловки…
В каменном мешке Соловецкого монастыря Пётр Андреевич Толстой прожил немногим более полутора лет.
Раньше Петра Андреевича умер его сын Иван.
По весне 1729 года, когда сошёл снег и оттаяла земля, на кладбище Соловецкого монастыря старик в рваном полушубке обихаживал могилу. Обглаживал заступом.
Мимо шли двое: монах показывал кладбище молодому послушнику. У свежей могилы они остановились.
— А-а-а, — сказал монах, взглянув на старика у могилы, — Филимон?.. Ты здесь? Не уехал?
Старик с трудом выпрямился, посмотрел на монаха, ответил не вдруг:
— А куда мне?.. Я здесь лягу… Помолчали.
Монах перекрестился, и легко вскинул пальцы ко лбу послушник.
Пошли дальше.
— Дедушка, — неожиданно, от глупого молодого любопытства спросил послушник монаха, — кто здесь похоронен?
Монах ответил:
— Говорят, страшный преступник. — Передохнул и добавил: — Но я так думаю — человек.
И от могилы старик с лопатой вслед уходящим сказал же:
— Истинно… Человек.
Над островом заходили облака, собирался дождь.
ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА
1645 год
Родился Пётр Андреевич Толстой.
1682 год
15 мая — стрелецкий бунт в Москве. Толстой выступает на стороне Софьи, назначен стольником к царю Ивану.
1689 год
11 сентября — казнь Шакловитого, ссылка Софьи в Новодевичий монастырь. Опала П.А. Толстого.
1693 год
П.А. Толстой назначен воеводой в г. Устюг.
1695 — 1696 годы
П.А. Толстой участвует в Азовских походах, получает чин капитана гвардии.
1697 - 1700 годы
П.А. Толстой учится за границей морскому делу.
1702 год
П.А. Толстой назначен послом в Стамбул.
1710 год
Турция объявляет России войну. П.А. Толстой заключён в Семибашенный замок.
1711 год
П.А. Толстой заочно производится в сенаторы.
Июнь — июль — Прутский поход. Потеря Россией Азовского побережья.
1714 год
Освобождение П.А. Толстого, возвращение его в Москву. Назначается главой Коммерц-коллегии.
1716 год
Царевич Алексей укрывается у австрийского императора.
1717 год
Миссия П.А. Толстого по возвращению «блудного сына».
1718 год
Январь — царевич Алексей возвращается в Россию.
26 июня — смерть царевича Алексея.
П. А. Толстой назначается начальником Тайной экспедиции.
1724 год
П. А. Толстой возводится в графское достоинство.
1725 год
П. А. Толстой — член Верховного тайного совета.
1727 год
Июнь — П.А. Толстой сослан на Соловки после конфликта с Меншиковым.
1729 год
17 февраля — умер П. А. Толстой.
ОБ АВТОРЕ
ФЁДОРОВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ — автор многих известных исторических романов: «Борис Годунов», «Русская Америка», «Да не прощён будет» и других книг.
Его творчество отличает прекрасное знание исторических реалий, яркий образный язык, остросюжетность разрабатываемых исторических тем. Книги Юрия Фёдорова переведены на многие иностранные языки. Для настоящего издания автор значительно переработал свой исторический роман «Поручает Россия» о дипломате и государственном деятеле Петровской эпохи Петре Андреевиче Толстом.
Примечания
1
Царёв кабинет-секретарь...— Макаров Алексей Васильевич (1675 — 1750) — выходец из посадских людей, был кабинет-секретарём с 1710 г. Особо доверенное лицо императора, ему поручались дела, «о которых не доверялось знать Сенату». Позже, при Петре II, был президентом Камер-коллегии.
(обратно)2
...Дания вышла из войны... — В сентябре 1700 г. Карл XII внезапным ударом захватил Копенгаген и вынудил датского короля подписать мир.
(обратно)3
...король и саксонский курфюрст...— В 1697 г. саксонский курфюрст Фридрих Август I был избран на польский престол под именем Августа II.
(обратно)4
Форвертс! — вперёд (нем.).
(обратно)5
…всколыхнуло Москву... — Имеется в виду стрелецкий бунт 15 мая 1682 г. («хованщина»).
(обратно)6
Гольфа — залив.
(обратно)7
...взятие мызы Эрестофер, — В январе 1702 г. русские войска под командованием Б. П. Шереметева разбили восьмитысячный отряд шведского генерала Шлиппенбаха под Эрестофером в Эстляндии. Это была первая победа русских в Северной войне.
(обратно)8
Щелкаловы — братья, деятели конца XVI в.: Андрей Яковлевич (153?—1597) — думный дьяк с 1566 г., возвысится в период опричнины, руководил Разрядным, Поместным и др. приказами. Василий Яковлевич (153?—1611) — думный дьяк, с 1577 г. руководил Разрядным, с 1594 г.— Посольским приказами, дипломат. С 1601 г. в опале у Бориса Годунова. Лжедмитрий по воцарении сделал его окольничим.
(обратно)9
...президента посольских дел... — Головин Фёдор Алексеевич (1650 — 1706) — дипломат (подписал, в частности, Нерчинский договор с Китаем) и генерал-адмирал русского флота, с 1700 г. «ведал иностранные дела».
(обратно)10
...мир сотворил на тридцать лет...— Мир с Турцией был заключён Е. И. Украинцевым в июле 1700 г.
(обратно)11
...боялись страшного человека... — Ромодановский Фёдор Юрьевич (1640 — 1717) — «князь-кесарь», генералиссимус, занимая с 1686 г. пост начальника Преображенского приказа, прославился страшной жестокостью по отношению к подследственным.
(обратно)12
...помнит и братьев своих... — Нарышкины Афанасий и Иван Кирилловичи, младшие братья матери Петра I, стольники царя Фёдора Алексеевича, были убиты во время стрелецкого бунта 1682 г.
(обратно)13
Матвеев Артамон Сергеевич (1625 — 1682) — боярин, дипломат, управлял Малороссийским, затем Посольским приказами, убит во время стрелецкого бунта.
(обратно)14
Шереметев Борис Петрович (1652 — 1719) — первый русский фельдмаршал, прославился удачными боевыми действиями в Прибалтике, при Полтаве командовал центром русской армии. Дипломат, тайный советник.
(обратно)15
...знакомого... по Азовскому походу... — Вейде Адам Адамович (1667 — 1720) — русский военачальник, службу начинал в «потешных войсках». Участник обоих Азовских походов. Автор «Воинского устава» (1698 г.).
(обратно)16
Репнин Аникита Иванович (1668 — 1728) — стольник царя, поручик потешной роты в 1685 г., участник Азовских походов и сражения под Нарвой, генерал-фельдмаршал. За поражение под Головчином разжалован в солдаты, но за отличие под Лесной восстановлен в звании. Под Полтавой командовал центром армии, участвовал в Прутском походе, затем рижский губернатор.
(обратно)17
...сберегателя престола... — Голицын Василий Васильевич (1643 — 1714) — князь, боярин, был фаворитом царицы Софьи Алексеевны и фактическим главой её правительства. Неудачно командовал войсками во время Крымских походов.
(обратно)18
...стоявшего над стрельцами... — Шакловитый Фёдор Леонтьевич (163?—1689) — думный дьяк с 1682 г., начальник Стрелецкого приказа после казни И. А. Хованского, организовывал переворот в пользу Софьи в августе 1689 г.
(обратно)19
...недавних казней стрельцов... — Имеется в виду стрелецкий мятеж апреля — июня 1698 г. й казнь более чем семисот «бунтовщиков» в Москве в октябре того же года.
(обратно)20
...начиналось Валахское княжество... — За Днестром начиналось Молдавское княжество, восточной границей Валахии была река Серет. Оба княжества были в зависимости от Турции, но владениями последней не являлись. Собственно османскими землями была южная часть Бессарабии между Днестром и Дунаем (Буджак).
(обратно)21
...да польские красавицы. — По свидетельству современников, у короля Августа II было свыше семисот любовниц (и несколько сот детей).
(обратно)22
...высокородных эфенди... — Эфенди — господин (тур.).
(обратно)23
Зазвучали кеменча и ребаб, запел дюдюк. — Кеменча и ребаб — смычковые (соответственно 2 — 4- и 1 — 3-струнные) инструменты, распространённые на Кавказе, Ближнем и Среднем Востоке. Дюдюк (дудук) — духовой, преимущественно кавказский инструмент.
(обратно)24
...ковёр из Дамгана. — Дамган (Демгхан) — город в Северной Персии, в позднее средневековье — столица империи Сербедаров и центр искусств и торговли.
(обратно)25
...резанное великим мастером... — Имеется в виду Вит Ствош (Фейт Штос) — знаменитый архитектор и художник XV в. родом из Германии, работавший над украшением многих костёлов и замков Польши.
(обратно)26
Лещинский Станислав (1677—1766) — с 1699 г. воевода познаньский, в 1704 г. под нажимом Швеции избран на сейме королём (большинством шляхты не был признан), после поражений Карла XII в 1711 г. бежал за границу. Во Франции сблизился с королевской семьёй и выдал дочь за Людовика XIII, чем отчасти объясняется полонофильская направленность дальнейшей французской политики. В 1733 г. с помощью французской дипломатии вновь занял польский престол, но через три года опять потерял его. Эмигрировав во Францию, стал номинально принцем Лотарингии.
(обратно)27
...купол Айя-Софии... — После взятия османами в 1452 г. Константинополя главная церковь города— храм Святой Софии стал мечетью под именем Аия-Суфия.
(обратно)28
...пылала война...— В 1700 г. умер бездетный испанский король Карл II, на освободившийся престол путём различных интриг был посажен марионетка французского короля Людовика XIV — его юный внук Филипп. Это, а также претензии французов и на английскую корону вызвал войну 1701 — 1714 гг. «за испанское наследство», охватившую всю западную часть Европы.
(обратно)29
...ныне возглавившего... — Головкин Гаврила Иванович (1660—1734) — постельничий царевича Петра, с 1706 г. начальник Посольского приказа, государственный канцлер, затем сенатор, президент Коллегии иностранных дел.
(обратно)30
...у его кяхья... — т.е. у заместителя.
(обратно)31
...на соединение с главными... — В июле 1708 г., в то время, как Карл XII успешно воевал с войсками Репнина в Белоруссии, на помощь основным шведским силам из Риги вышел шестнадцатитысячный отряд генерала Левенгаупта с огромным обозом. После неудачи в бою с русскими у местечка Доброго Карл повёл свои силы на юг, и Левенгаупт не смог соединиться с ним на московском направлении. В результате войска Петра I подстерегли шведский обоз на реке Сож, у деревни Лесной, и 26 сентября нанесли врагу сокрушительное поражение.
(обратно)32
Пипер Карл (1647—1717) — шведский государственный деятель, дипломат, граф. Под Полтавой взят в плен и умер в Шлиссельбурге.
(обратно)33
Мерлушковые шапки — т.е. изготовленные из мерлушки — выделанной шкурки молодой овцы.
(обратно)34
...решающим для Дивана... — т.е. для турецкого правительства.
(обратно)35
...присели в книксене...— Книксен — производившийся согласно старинному этикету дамский поклон-приседание.
(обратно)36
Улемы — мусульманские богословы.
(обратно)37
...из серой падерги... — Падерга (надера) — ненастная погода с сильным ветром, дождём или снегом.
(обратно)38
Румянцев Александр Иванович (1679—1749) — капитан Преображенского полка с 1715 г., вместе с П. А. Толстым ездил на розыски царевича Алексея за границу, в 1724 г. назначен послом в Константинополь, с 1727 г. генерал-поручик, при Анне Иоанновне отправлен в ссылку, затем возвращён и сделан сначала казанским губернатором, затем правителем Малороссии, возведён в графское достоинство в 1744 г. Отец фельдмаршала П. А. Румянцева.
(обратно)39
Кикин Александр Васильевич (167?—1718) — царский денщик во время Азовских походов, был в составе «великого посольства», казнён по делу царевича Алексея вместе с епископом Досифеем и другими.
(обратно)40
...в рыжем яломке. — Ялома (яломок) — головной убор, напоминающий ермолку.
(обратно)41
Куракин Борис Иванович (1676 или 1678—1727) — князь, свояк Петра (первым браком был женат на сестре царицы Евдокии — Ксении), генерал-майор, действительный тайный советник. Известный дипломат.
Остерман Андрей Иванович (Генрих Иоганн Фридрих) (1686—1747) — действительный тайный советник, граф, после смерти Петра член Верховного тайного совета, адмирал.
(обратно)42
...друзья его... — Вяземский Никифор Кондратьевич (1664—1745) — царский дьяк и учитель царевича Алексея. Был привлечён по его делу и сослан в Архангельск, где и умер.
Лопухин Авраам (Абрам) Фёдорович (казнён 8 декабря 1718 г.) — брат первой жены Петра I, стольник, изучал корабельное дело за границей. Репрессирован по делу царевича Алексея. Его сын Василий (ум. в 1757 г.), впрочем, был в любимцах Петра и дослужился до генерал-аншефа. Что же касается свёкра Петра Лопухина-старшего, то он подвергся гонениям ещё в связи с заговором Цыклера в 1697 г. и был сослан на воеводство в Тотьму.
(обратно)43
…семилетнего Людовика...— Людовик XV — французский король в 1715 — 1774 гг., правил с пятилетнего возраста при регентстве герцога Орлеанского.
(обратно)44
Менувет...танцевать. — Менуэт — бальный танец XVII—XIX вв., первоначально французский.
(обратно)45
Кружало — питейное заведение, кабак (устар.).
(обратно)46
...знаменитую фаворитку...— Д’Обинье Франсуаза (1635 — 1719) — внучка известного вождя гугенотов, вышла замуж за поэта Скаррона. После смерти последнего воспитывала детей любовницы Людовика XIV мадам Монтескан. Король сам обратил внимание на воспитательницу, в 1675 г. возвёл её в маркизы де Ментенон, а в 1684 г. сочетался с ней тайным браком. Маркиза известна также как основательница и руководительница женской школы Сен-Сир.
(обратно)47
...стрельцам на копья...— В числе прочих во время первого стрелецкого мятежа 15 мая 1682 г. были убиты князь Григорий Григорьевич Ромодановский (предводитель Большого полка во время войны с Турцией) с сыном Андреем.
(обратно)48
Ягужинский Павел Иванович (1683 — 1736) — происходил из семьи литовского органиста, служившего в Немецкой слободе. Был денщиком Петра I, затем дослужился до генерал- прокурора Сената (с 1722 г.), прозван «оком государевым». Дипломат, в начале 1730-х гг. посол в Берлине, затем назначен кабинет-министром.
(обратно)49
Пётр-то им не потатчик — т.е. не потакающий, не делающий поблажек.
(обратно)50
Бутурлин Иван Иванович (1661 — 1734) — генерал-аншеф, после смерти Петра правитель Малороссии.
(обратно)51
...убит при штурме...— Карл XII погиб во время осады норвежской крепости Фредрикстен в 1718 г.
(обратно)52
...его унылая сестра...— Ульрика Элеонора (1688 — 1744) — сестра Карла XII, после его смерти в 1718 г. вступила на престол. Под давлением аристократии была вынуждена подписать новую конституцию, ограничивавшую монархическую власть в пользу сената. Не процарствовав и двух лет, в 1720 г. отдала престол своему мужу Фридриху.
(обратно)53
Брюс Яков Вадимович (1670 — 1735) — военачальник (при Полтаве командовал артиллерией), генерал-фельдмаршал с 1721 г. Граф (с 1721 г.), сенатор, президент Берг- и Мануфактур-коллегий. Географ, астроном.
(обратно)54
...перебрасывалась через форштевень...— форштевень (голл. voorsteven — «передний стояк») — брус по контуру носа судна, соединяющий обшивку и набор левого и правого бортов.
(обратно)55
Фридрих Вильгельм (1688—1740) — прусский король с 1713 г. При нём окончательно сложилась система государственного управления, названная «пруссачеством»: своеобразный гибрид бюрократии и милитаризма. Сам король имел прозвище «фельдфебеля на троне».
(обратно)56
...русского представителя...— В 1715 г. Пётр послал в Польшу «влиять себя для лучшего управления дел» генерала Василия Владимировича Долгорукого, усмирителя булавинского восстания и участника Полтавской битвы (командовал там запасной конницей). Позже Долгорукий сопровождал Петра во втором заграничном путешествии, а затем был сослан за сочувствие царевичу Алексею.
(обратно)
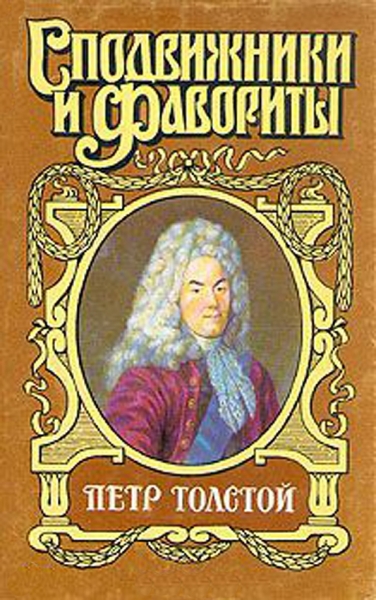

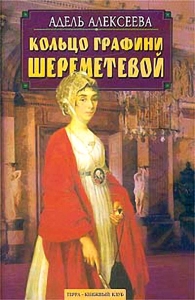
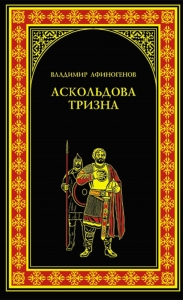




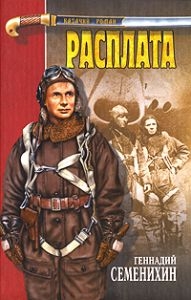
Комментарии к книге «Поручает Россия. Пётр Толстой», Юрий Иванович Федоров
Всего 0 комментариев