Кальман Миксат ЧЕРНЫЙ ГОРОД
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ГЛАВА ПЕРВАЯ, в которой содержатся сведения и подробности, весьма важные для читателя
Пал Гёргей был самым примечательным вице-губернатором Спеша во времена Тёкёли *. А времена были тяжелые, беспокойные. Вчера лабанцы хозяйничали, а завтра, глядишь, — куруцы нагрянут. * Заниматься политикой в ту пору было — все равно что танцевать с полным кувшином на голове. Но при каждом неосторожном движении танцора проливалась из кувшина не вода и не вино, а кровь человеческая. Впрочем, в ту пору кровь была, пожалуй, дешевле воды.
Однако власть есть власть, а человек, отведав однажды этого зелья, с каждым разом требует его себе все больше и больше. О, какая приятная штука — власть. До тех пор, разумеется, пока она у тебя в руках, а не ты носишь ярмо чужой власти.
Пал Гёргей был довольно состоятельным человеком, отпрыском знатного рода в Сепеше. Правда, Гёргей уже не пользовались таким почетом, как во времена Арпадов *. (Хоть Арпадам дай, господи, вечный покой, коли уж решил обречь ты державу их на вечное беспокойство.)
Время шло, шло потихоньку, а вместе с ним сошли с вершин высоких почестей и наши Гёргеи. А ведь когда-то родоначальники Гёргеев — Арнольд и его сыновья — носили титул саксонских графов и были самыми могущественными магнатами на границе с Польшей. Мы говорим о том самом графе Арнольде, что заманил саксонцев в тогда еще безлюдный Сепешский край. Приманил их не так, как гаммельнский крысолов завлек немцев в Трансильванию. Сепешский саксонец не дурак, его не проведешь и не заманишь какой-то дудочкой: ему подавай привилегии, гарантированные права. И саксонцы получили их. Разумеется, при этом и самому Арнольду кое-что перепало от щедрот его королевского величества Белы IV * — граф получил все земли в междуречье Дунаец — Попрад: Арпады были тороватыми королями и землю мерили не хольдами *, а прямо так, — от одной реки до другой.
Сыновья Арнольда тоже оказались бравыми молодцами, особенно один из них — граф Иорданский. Король Ласло IV * пожаловал ему деревеньку — Гёргё. С той поры его потомки и стали писаться Гёргеями.
Власть Гёргеев простиралась на огромную территорию, и не удивительно, что в те времена в Сепешском крае их род играл первую скрипку. Он дал немало маркграфов, а позднее Гёргеи из поколения в поколение восседали и в губернаторском кресле Сепеша. Одному лишь господу богу известно, как в те времена вертелась земля, — должно быть, на острие шпаги, — но только с каждым поколением род Гёргеев становился беднее и беднее и все чаще их оттесняли отпрыски других боярских родов. Могущественные Чаки, Сапояи, Турво мало-помалу затмили Гёргеев, лишили их былого ореола славы.
Дунаец и Попрад, как и прежде, текли в извечных своих берегах, но земля между этими реками уже не принадлежала Гёргеям. От всего их былого богатства осталась самая малость. Да и родословное их древо будто состарилось — почему-то перестало родить полководцев и государственных мужей. В лучшем случае давало вице-губернаторов да исправников. Правда, некая ворожея, стосемилетняя цыганка из Кепшарка, нагадала Михаю Гёргею, что его родословное древо, каким было, таким и осталось — целым и невредимым, однако сейчас оно пребывает в зимней спячке, и будет сон его длиться ровно двести лет. А пройдет двести лет — отдохнувшее древо снова раскинет свои ветви, да такие пышные, что затмит все другие фамилии не только в Венгрии, но и в тридевятом царстве-государстве…
Пал Гёргей, герой нашего повествования, числился всего лишь «состоятельным дворянином», хотя и был в родстве о семействами Берцевици, Екельфалуши, Марьяши и Дарваш — через сестру Каталину, вышедшую замуж за одного из Дарвашей в село Ошдян, Гёмёрского комитата *. Я сознательно упоминаю только его положение в обществе и умалчиваю об имении Гёргё с несколькими тысячами хольдов земли; хотя в этом имении у него была маленькая крепость с грозными бастионами, — но в описываемые мною времена о людях судили прежде всего по их знатности и уж во вторую очередь — по размерам их владений. В ту пору знатный человек мог с такой же легкостью стать собственником огромных поместий, как в наши дни человек, владеющий большими землями, легко делается знатным. С крупными магнатами, вроде Балашей или Чаки, людьми горячей крови, не раз случалось, что у них то миллион в кармане, то блоха на аркане: бывали времена, когда они имели по пять-шесть замков, а немного погодя глядишь — у них снова нет ничего, да и сами-то они скрываются где-нибудь в темной чаще, в хижине полевого сторожа, а то в камышах на болотах. Но все это, так сказать, игра, которую они всерьез не принимали. Король отнял, король обратно вернет, не зря же у магнатов гербы с короной! Набедокурил где-нибудь один отпрыск древнего аристократического рода, а другой или третий тем временем уже лижет королю пятки, улаживает дела своего провинившегося сородича.
Одним словом, не то плохо, что сократились родовые владения Гёргеев, пусть бы даже от них вообще ничего не осталось, плохо то, что Гёргеи выпали из колоды и уже не принадлежали к «знатным династическим родам». Как это случилось, теперь нет смысла доискиваться. В те времена действовал один закон: «Хорошо рубись и удачно женись!» Вероятнее всего, Гёргеи не совсем удачно женились. Рубились же они отлично, как о том свидетельствуют летописи. А кроме того, им не повезло еще и в политике: сначала они неудачно выбрали себе короля (Яноша Сапояи вместо Фердинанда) *, а затем и бога — перешли вдруг в лютеранство.
Изо всех Гёргеев Пал больше других унаследовал от своих предков: правда, не столько богатства, сколько спеси. Он был огромного роста, обладал необыкновенной физической силой, а от пронзительного взгляда его серых глаз веяло таким холодом, что казалось — не глаза, а две ледышки впились в тебя из-под мохнатых бровей. Привлекательной внешностью Пал Гёргей не отличался, черты лица имел самые топорные. Но стоило ему подняться на трибуну комитатского дворянского собрания, как это неказистое лицо озарялось таким светом вдохновения, что могло даже показаться красивым. Усы, щетиной торчавшие под его носом, были в меру густыми, а вот на бороду у природы, как видно, уже не хватило для него материала, всего-навсего она дала ему несколько рыжих волосков на весь подбородок. Лоб был крутой, выпуклый, а суровые морщины на нем говорили об упрямстве и беспощадности. Плотно сжатые губы не ведали улыбки и часто кривились от гнева. Словом, все лицо Гёргея можно было уподобить мрачной, безрадостной и холодной местности, освещаемой не лучами солнца, а вспышками молний.
Голова у Пала Гёргея была непомерной величины, — шляпы ему приходилось делать на заказ у господина Яноша Камляйтнера, знаменитого шляпника из города Лёче; но зато и умна же была эта большая голова! Пал Гёргей заправлял всем комитатом, по-своему всем распоряжался. И хоть ему было всего сорок два года, его уже трижды избирали на пост вице-губернатора. И всякий раз единогласно. Этой «единогласности» он, очевидно, придавал большое значение, потому что после каждого очередного избрания смело заявлял:
— Благородные соотечественники! Если среди вас имеется хоть один-единственный человек, который не согласен с моим избранием, пусть открыто скажет об этом, и, клянусь богом, я немедленно откажусь от столь почетного поста!
Разумеется, после подобного воззвания вице-губернатора в зале воцарялась гробовая тишина. Никто из «благородных соотечественников» не смел и рта раскрыть, хотя втайне каждый мечтал: авось кто-нибудь из его соседей отважится на такой подвиг. Сам же Пал Гёргей, вероятно, вполне искренне объяснял лестное для него единодушие сословий своей популярностью. Да и другие — тоже. Правда, иной депутат думал про себя: «Я, конечно, терпеть его не могу, но ведь другие-то его любят. Так зачем же мне, дураку, соваться? Чего доброго, еще прикончат меня!»
Популярность — явление необычное! Единственное где видимость равносильна действительности. А то, пожалуй, и ценнее действительности. Стоит человеку сделаться популярным, и он может подняться очень высоко, хотя бы на самом деле люди и ненавидели его.
И, наоборот, — тот, кто пользуется всеобщей, но тайной, никому не видной любовью, ничего не добьется. Действительность — крепкий фундамент, твердый как гранит, но тем не менее самые головокружительные взлеты совершаются на крыльях видимости.
Если говорить по совести, Пала Гёргея дружно не любили в Сепеше, но к его персоне так уж приросли наименования «любимый и уважаемый», что никто не решался отнять у него эти «титулы». В душе каждый считал его человеком бессердечным, тщеславным, капризным, подозрительным, заносчивым и ленивым. Но надо сказать, что эти дурные черты характера отчасти тоже были только видимостью. Так, например, жестокость или, если угодно, деспотизм вице-губернатора объяснялись его вспыльчивостью. Вспылит Гёргей — и тотчас становится зверем, а остынет — тут же пожалеет о том, что натворил, иногда даже постарается возместить нанесенный урон.
Рассказывали, например, как однажды во время очередного заседания комитатского собрания в Лёче он заболел. Ученый фельдшер, господин Андраш Пласник, принялся пичкать графа хиной, а лихорадка знай треплет беднягу, не поддается никаким лекарствам. Несколько дней больной провалялся в своем кабинете в комитатской управе, а затем снарядил слугу в Гёргё с приказом экономке прислать ему ночную сорочку. Гусар привез сорочку, Гёргей надел ее и вдруг видит: одной пуговицы недостает. Он рассвирепел, выпрыгнул из постели, наспех оделся, выбежал во двор, вскочил на гусарскую лошадь, нетерпеливо рывшую копытами землю, и ускакал.
— Куда, куда? — кричали ему вслед перепуганные чиновники управы.
— Ради бога! Что же вы делаете, ваше превосходительство! — в ужасе завопил фельдшер, попавшийся ему навстречу.
— Домой еду… На минутку, — дико вращая глазами, сиплым голосом крикнул Гёргей, — экономке пощечин надавать.
Полчаса скакал вице-губернатор по извилистому тракту в сторону Гёргё, а пока скакал, его гнев улегся, от волнения прошла лихорадка, и уже почти у околицы Гёргё граф, исцелившийся от хворобы, преспокойно повернул обратно.
Хорошо зная свои слабости, Гёргей держал под замком такие «средства административного воздействия», как колодки, скамью для порки и кандалы, а ключ от кладовой после очередной экзекуции по его приказу привязывали во дворе на верхушке какого-нибудь высоченного тополя. Когда появлялась нужда в ключе, вице-губернатор выходил на крыльцо с ружьем и палил по «мишени», пока выстрелом не сбивал ее с дерева. Стрельба отвлекала его, тем более что затягивалась иногда на целый час: в гневе руки у стрелка дрожали, к обычно он попадал в ключ лишь после того, как гнев его утихал, а значит, провинившихся вице-губернатор судил уже спокойнее, избегая скоропалительных приговоров.
Пал Гёргей, несомненно, стремился к справедливости, и поэтому нельзя его назвать дурным человеком. Нет, нет, просто он постоянно был в скверном расположении духа, как всякий, кто ожесточился от ударов судьбы. Что толку, что он считался сильнейшим человеком во всем комитате, когда ему не под силу были целых три дела: он не мог забывать горестей и обид, не мог есть и не мог спать. О, чего бы Гёргей только не отдал за то, чтобы хоть раз как следует выспаться! Вокруг своего замка, в том числе и на соседних крестьянских дворах, он начисто истребил все петушиное племя; заиграл на заре пастух в рожок — получай двадцать пять палок. Особенно строго взыскивалось с нарушителей послеобеденного барского сна, — за это поплатилось немало людей. Ведь послеобеденная дрема — самая сладкая. Ночной сон богом дан, а часы послеобеденного сна ты сам крадешь из служебного времени, если, разумеется, состоишь на службе. Потому он и слаще.
Всем живым существам под окнами барского дома полагалось ходить неслышно, на соседней мельнице, после того как с башни доносился выстрел мортиры, означавший конец барского обеда, прекращали помол: скрип мельничного колеса мог потревожить господский сон! И все в селе следили за тем, чтобы нигде не было ни малейшего шума, не заскрипел бы колодезный ворот, не звякнула бы цепь, не стукнули бы пестом о ступку: барин спит! Песни, громкий разговор строжайше запрещались. Старый садовник Михай Апро, когда ему по какому-нибудь неотложному делу нужно было пройти мимо барских окон, умел изловчиться: тяжелые сапоги с железными подковками он снимал и, если идти доводилось зимой, переобувался в валенки, а летом пробирался через запретную территорию просто босиком. Но вот случилось однажды, что к садовнику приехал погостить на каникулы внучек. Дед с бабкой обрадовались милому мальчугану, который, возможно, с годами и сам выйдет в господа: отец его, кондитер из Кешмарка, видя, что сынок здоровьем хил и слаб, решил учить его на священника. Добрые старички готовы были в лепешку разбиться для внука, каждую пылинку с него сдували. Однако, стоило им на один миг оставить дитя без присмотра, приключилась беда! (Ох, уж эти сорванцы, всегда придумают какую-нибудь опасную проказу!) Увидел школяр где-то на шкафу старую гармонику, вышел с ней на тенистый двор, уселся под липу, как раз под окнами барской опочивальни, и давай наигрывать старинную грустную песню.
Буда, Буда — сколько крови За тебя народ наш пролил!И длилась-то его забава не дольше минуты, — вся дворня сбежалась угомонить музыканта. Тетушка Апро — на что уж ветхая старушка — и то летела так, что только шуршали, развеваясь, ее накрахмаленные юбки. Подбежала, вырвала из рук мальчика гармошку: «Тише, ты, бесталанный! Сгинь, исчезни!» — и, укрыв внука своим передником, потащила его прочь через кустарник да бурьян, потому что слышала, как за ее спиной уже открывается окно (о, боже!) и резкий, властный голос вопрошает:
— Ну что здесь еще такое?
Ответом был только удалявшийся шорох кустарника. С искаженным от гнева лицом и налившимися кровью глазами Гёргей выскочил во двор, который садовник дядюшка Апро за долгие годы своих трудов поистине превратил в рай земной. Между великанами-деревьями он насадил дивных кустов, а из красивых цветов даже составил в то лето живой герб комитата Сепеш, в котором, как известно, сочетается фамильные гербы графов Турзо, Берцевици и Дравецких, а носорог взят из герба семейства Коротноки. По воскресным дням сепешские крестьяне за много верст съезжались посмотреть на такое чудо, только они объясняли его не искусством дядюшки Апро, а мудростью земли-матушки, — вот, мол, она посредством цветов дает знать людям: быть скоро кому-нибудь из наших, сепешских, королем. (И ведь предсказание это едва не сбылось! Но всем надеждам пришел конец: князь Тёкёли вместе со своей княгиней скитался где-то у турок, на Востоке.)
Дворовые как раз поливали водой герб из живых цветов, когда Пал Гёргей выскочил на террасу.
— А ну, привести ко мне этого гармониста! — завопил он. — Живым или мертвым! Немедленно!
А сам зубами скрежещет. Зубы у него были препротивного желтого цвета, поскольку он принадлежал к числу «табакуров» (как называли в то время людей, перенявших у турок новую мужскую забаву — курение табака).
Слуги, переглянувшись, замерли, словно окаменели. Старик Апро побледнел как полотно, а экономка тетушка Марьяк изо всех сил принялась начищать каким-то белым порошком железную вафельницу.
— Кто это играл? — грозно спросил вице-губернатор. Ответа не последовало, хотя все знали виновника: дворовые любили стариков Апро и не хотели их выдавать.
— Тетушка Марьяк, вы видели?
— Не видела, — отвечала экономка. — Разрази меня гром, не видела! — и при этом смело подняла голову.
— Ну ладно! Вот вы как заботитесь обо мне! — негодовал Гёргей. — Никто не видел?
Снова никакого ответа.
— И ты, Престон, не знаешь, кто играл? — спросил он своего доверенного слугу.
— Не знаю, ваше превосходительство.
— И ты, Матяш? (Так звали выездного кучера.)
— И я нет, — через силу выдавил Матяш.
— Ну, что ж, голубчики! Молодцы, ребята! — оскалив зубы, захохотал вице-губернатор леденящим кровь смехом. (Чем ласковее он говорил, тем безжалостнее бывал!) — Ну так слушайте, если через полчаса вы не найдете мне этого гармониста, я вас всех до одного велю выпороть. Dixi[1].
Громко чертыхаясь, Гёргей ушел с террасы, и слышно было, как он хлопал дверями, раздавал пинки собакам, бродившим и лежавшим по всем комнатам. Их жалобный визг раздавался теперь по всему двору. Слуги приуныли, зашептались, не зная, как поступить: выдать барину школяра или нет; старушка Апро ломала в отчаянье руки и причитала, что она не переживет этого дня и скорее бросится в колодец, чем позволит наказать своего внучка. «Господи, что скажет тогда моя бедная доченька!»
Заслышав причитания старухи, дядюшка Апро, человек слабохарактерный, совсем потерял голову и помчался в свою каморку искать, конечно, не голову, а четки — и, как подобает доброму католику, принялся перебирать их, уповая на господа бога, авось он поможет! И только экономка Марьяк подбоченилась и решительно заявила:
— Ну так вот! Не позволю я какому-то язычнику выпороть бедное слабое дитя! Не бойся, сынок, я тебя не дам в обиду! — заявила она и погладила по головке мальчика, который стоял подле нее и весь дрожал от страха. — Ступай себе на кухню, а дверь я запру на ключ. Так что до тебя и сам сатана на доберется. Я же тем временем улажу дело. Только смотри сиди смирно. Жди, пока гроза уляжется. В печке можешь взять остаток ватрушки и гусиную ножку. А я пошла. Ключ с собой забрала.
— Будьте совершенно спокойны, бабуся.
Экономка обежала для виду сад, а оттуда через калитку выбралась на луг, где сельские цыгане месили глину для кирпича-сырца. Старший из цыганят, Пети, был уже рослым парнишкой. Его-то и решила уговорить тетушка Марьяк взять всю вину на себя — это, мол, он играл на гармонике, а не школяр. Долго они рядились, пока Пети не согласился за четырехнедельного поросенка и за две белые булки отправиться с нею на господский двор. Толпившиеся во дворе слуги и старики Апро сразу поняли, что задумала экономка (знать, не только волос был долгим у этой бабы, а и ум тоже!), и приветливо встретили спасителя. Всячески успокаивая и подбадривая паренька, они повели его к барину. И только двуличный Престон постращал беднягу, шепнув ему на ухо: «Не хотел бы я, цыган, очутиться сейчас на твоем месте!»
Впрочем, Пети тоже чувствовал себя не очень хорошо на своем месте и уже подумывал, как бы вовремя улизнуть, но тетушка Марьяк, словно клещ, впилась в его воротник и, распахнув дверь барского кабинета, втолкнула туда молодого цыгана, торжествующе закричав: — Вот он — преступник!
Вице-губернатор возлежал на кушетке, покрытой медвежьей шкурой, и преспокойно покуривал трубку; бросив ленивый, усталый взгляд на вбежавших в кабинет людей, он зевнул и безразличным, скучающим голосом, сказал: «Хорошо ты играл, Пети. Выдайте ему за это, тетушка Марьяк, один золотой форинт и четыре аршина сукна…»
И много еще таких примеров можно привести, чтобы, показать, как трудно было постигнуть натуру Пала Гёргея. Не человек, а загадка. Но что бы он ни вытворял, люди на него не обижались. Какая-то удивительнейшая удача сопутствовала Гёргею, заигрывала с ним и так забавно отражала его пороки в потешных зеркалах, что порой даже его злодеяния казались красивыми поступками. Другого уже давно убили бы, а Гёргея многие даже брали под защиту: «Ах, оставьте его в покое! — говорили они. — Надо же понять человека! Понять его широкую душу! Гёргей никак не может забыть умершей жены, горюет, бедняга. При такой беде человека нельзя осуждать, он вспыльчив, печален, суров — но все это как раз и показывает, какое на самом деле доброе у него сердце…»
Впрочем, находились и злопыхатели (audiator et altera pas[2]), на ушко, по секрету, сообщавшие: время, мол, давным-давно исцелило в вице-губернаторском сердце печаль по умершей жене, оставив в нем только дурные качества; не такой уж он суровый отшельник, каким прикидывается: лишь только сумерки спустятся на гёргейский замок, по стенам барских покоев замелькают тени, в пустынных коридорах зашелестят женские юбки…
Те, кто лучше знал Пала Гёргея, разумеется, не верили подобным сплетням, зато другие, знавшие гёргейских молодушек еще лучше, наоборот, нимало не сомневались: ведь женщины из Гёргё всегда славились своей красотой да ветреностью, а мужчин в этих краях после войн Тёкёли уцелело немного.
В узком кругу высоконравственной фамилии Гёргеев подобные сплетни о «дикаре» вызывали заслуженное негодование, но весельчак Янош Гёргей отразил все нападки на младшего брата одной-единственной шуткой:
— Лично я не верю. Но если это и правда, тоже не беда. Вот уже десять лет, как умерла бедняжка Каролина. Человек он в конце концов, а не крест надгробный! Впрочем, и крест прямо не устоит целых десять лет, пошатнется. А вообще кому какое дело? Каждый приумножает число своих крепостных, как умеет.
За такую шуточку жена Яноша, Мария Яноки, отвесила мужу тумака, однако впредь ни она сама, ни остальные родичи не осуждали поведение ее шурина, потому что Янош считался оракулом всего гёргейского рода, — пусть он и не обладал такими дарованиями, как его младший брат, зато был патриотом, истинным куруцем и человеком благородной души, чистой, как свежевыпавший снег.
А Пал Гёргей, овдовев десять лет назад, и в самом деле постепенно одичал. Недаром его прозвали в семейном кругу — «дикарь»; Янош Гёргей не раз подтрунивал над ним: «Ты, братец, уж не с нашего ли герба соскочил?»[3]
Да, Пал Гёргей, когда-то такой веселый и уравновешенный, такой приятный собеседник, после смерти любимой подруги надломился. Говорили, что в глубине сердца он сохранил много доброты и других хороших чувств, но со смертью Каролины все это затянуло таким толстым слоем дурного, что хорошее никак не могло пробиться наружу. И Гёргей превратился в злого самодура, в настоящего тирана — одним словом, в «дикаря». Но прошло время, и люди, осуждавшие его за эту перемену, стали осуждать его за то, что он перестает быть дикарем. Ну не глупо ли устроен свет?
Что же касается покойной барыни, то она вполне заслуживала того, чтобы ее оплакивали. «Какую жемчужину зарываем мы в землю», — начал свое надгробное слово пастор Шамуэль Падолинци. А во время погребения он даже прослезился, хотя у него-то, между прочим, были все причины даже выругаться.
Каролина Екельфалуши еще в девушках славилась своей красотой, а молодицей стала еще краше! В хронике Порубского можно прочесть, что к семнадцати годам ее руки добивались девяносто шесть вздыхателей, но заносчивый отец девушки Дёрдь Екельфалуши ни за что не хотел выдать дочь за Криштофа Марьяши (хотя и самому отцу, и дочке по нраву был такой бравый и богатый кавалер), пока число женихов не дойдет до ста. Криштоф Марьяши прибегнул к хитрости и подговорил нескольких своих друзей: «Посватайтесь для виду, уважьте старика». Так, шутки ради, попросил ее руки заодно с другими и Пал Гёргей. А вышло из этого вот что: влюбились они с Каролиной друг в друга без памяти, о Криштофе Марьяши капризница больше и слышать не хотела (все женщины одинаковы!), и вскоре сыграли свадьбу. Сам Имре Тёкёли, открывая на свадьбе бал, прошелся по кругу с невестой, да так захмелел от ее близости, что разок-другой даже обнял красавицу. А это не понравилось жениху.
— Ну, чего ты ворчишь, Гёргей? — улыбаясь, спросил его князь на свадебном пиру. — Ведь у меня куда больше прав на нее, чем у тебя. Если я «Король Верхней Венгрии» (он тогда только что получил от турецкого султана этот титул), то кому же, как не мне, должна принадлежать «Королева Верхней Венгрии»?
Князь Тёкёли сказал это в шутку, но был в его словах, вероятно, и другой, глубокий смысл.
Еще не кончился медовый месяц, а князь уже несколько раз наведался в Гёргё. Приезжал тайком, в сопровождении одного-единственного оруженосца, словно простой рыцарь. Гёргея эти посещения задевали за живое. Однажды, когда он с депутацией находился у князя в Кешмарке, Тёкёли попросил его передать жене, что, мол, он на днях снова наведается в Гёргё в надежде на хороший ужин. Гёргей покраснел и совсем неучтиво заметил:
— В эти дни нас дома не будет.
Тёкёли нахмурился, а Миклош Берцевици со своим неуместным доброжелательством дернул Гёргея за доломан и вполголоса посоветовал:
— Побереги, братец, per amorem dei[4], голову!
В ответ на это молодой супруг отвел его руку и гордо воскликнул:
— Голова моя принадлежит его величеству, пусть он и бережет ее. А жена принадлежит мне — и я сам буду ее оберегать.
Ответ понравился князю, и он рассмеялся:
— Ну, коли не хочешь быть гостеприимным хозяином, так будь ты у меня желанным гостем.
И оставил Гёргея у себя отобедать, что в глазах господ делегатов было немалой честью. Зато сам Тёкёли с той поры больше ни разу не появлялся в Гёргё. Обиделся? Бог весть. Вернее всего, недосуг было.
Луч удачи, освещавший в те годы князю Тёкёли путь-дорогу, быстро померк. Потому что это был ложный луч. Посылало его не солнце, а глаза турецкого султана. Султан же часто отводил взгляд в сторону, когда этого совсем не следовало делать или когда на его глаза набегала тень гнева.
Славным войнам скоро пришел конец. Князь Тёкёли превратился в тихого человека и где-то в глуши Турции мирно предавался воспоминаниям о былых днях. А на его родине, в Венгрии, все вернулось в скверную, но привычную колею. Потянулись один за другим скучные, печальные годы. И только в гёргейском имении царило счастье и довольство. Каролина сделалась очаровательной хозяйкой дома, милой женой, и Палу Гёргею нечего было больше и желать для полноты счастья. Даже ревность, терзавшая поначалу его сердце, исчезла. Да и кто бы мог теперь отнять у счастливца его Каролину? Кто, если на это не отважился сам Тёкёли?
А между тем на нее уже наложила руку властительница куда могущественнее Тёкёли — сама Смерть. В 1689 году красавица Каролина Гёргей, подарив жизнь единственной дочери, навеки смежила очи, попросив перед кончиной слабым, едва слышным голосом только показать ей новорожденную и завещав окрестить девочку Розалией.
Несчастный муж впал в отчаяние. Он рыдал, рвал на себе одежду и бросался на людей, словно дикий зверь. О его неприличном поведении во время похорон вспоминали и много лет спустя. Когда его преподобие пастор Шамуэль Падолинци появился в доме, чтобы отпеть усопшую, Гёргей пришел в ярость.
— Кто этот человек? — словно очнувшись, вдруг вскричал он. — Что ему здесь нужно? Не дам унести Каролину. Нет! Нет! Убирайтесь вон!
— Шурин, ради бога! Ты в своем уме?! — уговаривал его Дарваш. — Не совестно тебе обращаться так со слугой господним?
— Как? Ты, значит, слуга божий! Очень кстати! У меня как раз есть кое-какие счеты с твоим хозяином! Не выпускать его! — ревел Гёргей в горячке. — Его-то мне и нужно! Коль не могу я добраться до того, кто отнял мою дорогую жену, так хоть слугу его поймаю! Вот как, беспощадный бог! — угрожающе потрясал руками Гёргей. — Значит, это твой слуга? Хорошо! Эй, гайдуки *, Престон, Слимачка, всыпьте ему двадцать четыре горячих!
Собравшиеся на похороны люди пришли в ужас. От таких кощунственных слов у них волосы встали дыбом, а священник, смиренно обрати взор к небу, промолвил:
— Прости, господи, его, грешного. Это душа его больная вопиет!
Родственники были очень смущены, но им так и не удалось утихомирить Гёргея, и, чтобы хоть как-то довести погребальный обряд до конца, они схватили бедного Пала и заперли его в погреб. Трое здоровяков-мужчин — Янош Гёргей, Криштоф Екельфалуши и Давид Хоранский — едва могли справиться с ним. Так и похоронили красавицу Каролину в отсутствие мужа.
ГЛАВА ВТОРАЯ Подозрение
Милость провидения проявляется иногда в самых малых делах. Вот и тут оно устроило так, что почти одновременно с Каролиной у Марии Яноки, жены Яноша Гёргея, тоже родилась дочка: малютку нарекли Борбалой, и было ей ко времени рождения Розалии шесть недель.
Добрая женщина решила, что, поскольку у нее много молока, она возьмет осиротевшую малютку к себе и вскормит ее грудью. Не оставлять же бедную сиротку на служанок! Тогдашние баре были еще несведущими людьми и полагали, что белое молоко кормилицы-крестьянки, всосанное господским ребенком, не может обернуться голубой дворянской кровью. Поэтому сразу же, как только Пал Гёргей пришел в себя и с ним можно было говорить, брат Янош и невестка уговорили его отдать дочку им, и вскоре крошку Розалию увезли в замок Топорц.
Пал Гёргей все горевал по жене, несколько недель почти не приходил в себя и даже ни разу не навестил дочурку, хотя экономка тетушка Марьяк беспрестанно стращала его, что девочке, может быть, не хватает молока. И вдруг из Топорца пришло печальное известие: маленькая дочка Яноша, Борбала, умерла. Слабое, позднее дитя-«последыш». (Ведь у Яноша к этому времени были уже и совсем взрослые дети!) Мать Борбалы — Мария Яноки не очень убивалась по маленькой покойнице. Когда младенец умирает вскоре после рождения, он еще не человек, — чужое, малознакомое существо. Ушло, и будто его и не было вовсе. И топорецкие Гёргей мало горевали по Борбале; стояла зима, все дороги замело, даже на похороны, почитай, никто из родичей не приехал. В глубоком трауре, но без особых почестей родители проводили крошечную Борбалу в ее последний путь — к фамильному склепу Гёргеев. Казалось, не произошло ничего особенного. Но вот когда на троицу Пал Гёргей наведался в Топорц (удивительно, что в ту пору его девочка уже могла смеяться!), ему показалось странным многое. Так, например, он тщетно пытался отыскать в личике своей дочурки хоть одну-единственную черточку сходства с Каролиной, а ведь он иногда часами разглядывал, изучал его. Дитя было очень красивое, очень милое и все же не походило на мать! Ох, совсем не походило! Порою глаза девочки напоминали взгляд горной серны, отличавший Каролину, но сходство, словно огонек, вспыхивало и тут же гасло… Да, может быть, вообще оно было лишь плодом воображения отца?
Девочка росла толстушкой и напоминала херувимчиков, которых богомазы малюют на потолках католических храмов; с ее губ не сходила улыбка, а при виде своего дядюшки, Яноша Гёргея, малютка принималась радостно махать ручонками, будто ангелочек крылышками, и просилась к нему на руки. Но когда невестка посадила девочку на руки к родному отцу, Рози испугалась, расплакалась. Где же тут, спрашивается, «голос крови»? Палом Гёргеем овладело странное беспокойство, он даже не мог дать ему названия. В голове зашумело, мысли закружились, завертелись, будто стаи воронья в мглистом небе. Сурово хмурились его брови, когда он видел, как Янош берет плачущего ребенка из колыбели и ласкает его, играет с ним, пока личико девочки не озарится улыбкой. Как не стыдно седовласому Яношу баюкать младенца на глазах у судейских стрекулистов, которые наверняка посмеиваются за его спиной: «Смотрите, совсем с ума спятил вице-губернатор, — на старости лет в няньки записался».
«Да хоть бы свое, родное дитя нянчил!» — продолжал рассуждать за «стрекулистов» Пал Гёргей. Но на самом деле это были собственные его мысли, назойливые, как мухи.
Почему Янош так сильно любит ребенка? Естественно ли это? Чужого ребенка! И кто? Серьезный человек, вице-губернатор? (В те годы Янош еще был сепешским вице-губернатором.) И невестка тоже — прямо-таки боготворит девочку. А про свою собственную, умершую дочку никогда и слова не обронит! Умерла, нету — только и всего! Пал Гёргей раз-другой заводил о ней разговор, но не заметил и тени печали у родителей покойной Борбалы. Значит, они горюют по ней не больше, чем по какой-нибудь канарейке. Янош даже сказал, что, если младенец не коснулся ножками земли, значит, он еще и не жил, не спускалась его душенька с неба на землю, — как, например, их Борбала, умершая еще в пеленках. И совсем другое дело, когда дитя уже умеет сидеть. Это уже барышня. «Правда ведь, наша маленькая маковка? Ты ведь уже барышня! А ну, улыбнись же и папочке своему!»
Но Розика не хотела улыбаться отцу, а упрямо тянула ручонки к дяде Яношу. Да оно и понятно: Пал Гёргей именно в это время превращался в «дикаря» — лицо у него стало темное, мрачное, бороденка нечесана, на глаза нависли космы волос. Не то что ребенок, а и взрослый испугался бы при виде его. Сын Яноша, семинарист из Кешмарка — хорошенький десятилетний Дюри, в это время тоже приехал погостить домой. Дядя Пал тотчас же подумал: «Вот у кого я кое-что могу разузнать!» И начал исподтишка расспрашивать мальчика:
— Значит, у вас, школяров, и на троицу каникулы? И когда вы только учитесь? Вижу, ты такой же прилежный ученик, как Пишта Шваби. Тот отпрашивается из школы всякий раз, когда дома его матушка гуся режет.
— Ну уж нет, дядя Пали! Я такой ученик, что ни о чем никого не люблю просить. Даже на каникулы домой не прошусь.
— О, я вижу, ты настоящий Гёргей! Ну, а кем ты собираешься стать?
— Солдатом! — гордо отвечал юный Гёргей.
— Но ведь солдат должен уметь подчиняться, братец!
— Вот и хорошо. Подчиняться я умею. А просить — нет Домой я приезжаю только по разрешению.
— Ну и сколько же раз ты в этом году бывал дома?
— На рождество, на пасху. И вот сейчас, на троицу.
— А когда твоя сестричка умерла?
— Тогда не был.
— Почему же?
— Не знал.
— Как? Тебе даже не написали?
— Нет.
— Так от кого те ты узнал?
— Отец сказал, но только позднее, когда приезжал в Кешмарк проведать меня!
— Очень горевал отец? Грустное было у него лицо?
— Может быть.
— Как так? Разве ты не видел?
— Я ему в лицо не заглядывал.
— А тебе очень было жаль сестричку?
Дюри задумался. Мальчика воспитывали строго и приучали никогда не лгать.
— Не знал я ее, — решительно сказал он наконец.
— Но ведь ты же видел ее на рождество?
— Видел, да только…
— Ну вот, выходит, ты все же знаешь, какая она была из себя? Ну, постарайся вспомнить! — понуждал мальчика Пал Гёргей.
— А никакая.
— Ну, что ты говоришь! — прикрикнул на него дядя.
— Да ведь, дядя Пал, маленькие ребятишки — это вам не котята. Котят, тех по масти можно отличать друг от друга: один пестрый, другой черный, третий дымчатый. И девчонок я тоже только по цвету юбочек различаю.
— Какой же ты, право, осел, братец! Уж не хочешь ли ты сказать, что Борбала походила на Розалию? Но если так, откуда же твоя матушка знала, какая девочка — ее собственная?
— Ей-то легко! Она-то знала, какого цвета бант пришила каждой на чепчик.
Разумеется, Пала Гёргея совсем не удовлетворили наивные речи мальчика — только растревожили душу. На третий день Гёргей, поцеловав девочку, сладко спавшую в колыбельке и простившись с братом и невесткой, отправился на четверике серых лошадей в Гёргё. Однако всю дорогу у него из головы не выходила мысль об удивительной нежности и доброте, с которой относились к нему родственники: как они старались развлекать его веселыми разговорами, как избегали всего, что могло хоть на миг разбередить его душевную рану. Но от всех этих дум в его сердце возникло болезненное подозрение, которое, вероятно, уже давно назревало, а теперь вдруг прорвалось. Что, если Розалия на самом деле — Борбала, а настоящей Розалии уже нет в живых?
О, боже! Возможно ли? Гёргей даже вскрикнул, но тут же принялся искать ответ: возможно ли?
Ну, а почему, собственно говоря, невозможно? Янош — человек благороднейшей души, самый примерный брат на всем белом свете. Он и к чужим-то добр, недаром вся округа зовет его «Patronus et pater lutheranorum»[5]. У Яноша — мягкое сердце, вот он и совершает замечательные поступки. И Мария — достойная его подруга, добрая, высокая натура. Мария необыкновенная женщина. Святая! «А теперь допустим, что Розалия умерла. Предположим! — рассуждал сам с собой Пал Гёргей. — Янош и его супруга приходят в отчаянье: что теперь будет с Палом? «Такой удар лишит его рассудка», — думают они. И пока они думали-гадали, как известить меня о случившемся несчастье, прикидывали возможные последствия, Марии — нет, вероятнее всего, Яношу пришла в голову спасительная мысль, и брат воскликнул: «Знаешь, милая Мария, что я придумал? Девочка все равно уже умерла, а вот Пала нам нужно спасти. Душа малютки улетела к родной матушке, зато душа Пала, если он об этом узнает, понесется вовсе не вслед любимой супруге, а скорее всего в царство вечного мрака — безумия. Лучше не говорить ему, что Розалия умерла. Скажем, будто умерла наша Борбала! Ведь мы-то с тобой от этого ничего не потеряем? Борбала останется, как была, живой. Мы сможем по-прежнему любить ее, любоваться ею, глядеть на нее. Только вместо Борбалы ее будут теперь звать Розалией. А может быть, мы когда-нибудь и скажем Палу об этом и возьмем дочь к себе. Время и не такие болезни излечивает. А теперь посмотрим, что выгадает Пал? Без этого обмана — он конченый, пропащий человек. А благодаря нашей невинной лжи он будет спасен для жизни, для политики, для родины; он снова обретет душевное равновесие, а может быть, еще будет и счастлив. У нас с тобой уже есть две дочери, пусть они взрослые и обе уже замужем — со временем и эта тоже выйдет замуж. Зато детишки наших старших дочек, как только научатся ходить, в нашем же с тобой саду станут резвиться. А бедняга Пал все будет один как перст». Представил себе Пал Гёргей этот разговор, и сразу ему стало понятно, почему Янош и его семейство так спокойно восприняли смерть «дочери» (конечно, не своя ведь) и почему, наоборот, они так любят оставшееся в живых «чужое» дитя (пожилые родители всегда с ума сходят по своим малым детям, куда больше, чем молодые), почему девочка не походит на Каролину и почему в малютке не заговорил загадочный «голос крови» и она знать не хочет отца.
Подозрение развивалось и росло, будто опухоль в мозгу; вначале оно лишь слегка тревожило Пала Гёргея, но постепенно лишило его покоя и сна. Недели две-три спустя он снова отправился в Топорц и с упорством, с азартом сыщика принялся все выпытывать, обхаживать слуг, следить за поведением брата и невестки, придумывая самые хитроумные способы, как узнать что-нибудь определенное; однако с каждым днем история делалась все запутаннее. Бывали минуты, когда он мог разумно объяснить самому себе всю ее подоплеку. «О, господи, какой же я глупец! Да ведь это добрые люди, они для того лелеют девочку, чтобы облегчить боль души моей. Об умершей Борбале они нарочно избегают упоминать, стараются отвлечь меня от печальных мыслей о смерти. Если они не подняли шума вокруг похорон своей дочери, что из этого? Откуда нам знать, много ли, мало ли они печалились на самом деле? Розалия не похожа на Каролину? Так ведь и молодая завязь тоже не походит на зрелое яблоко. А разве она не будет яблоком в конце лета? Нет, нет, глупости вбил я себе в голову!»
Но тщетны были старания Пала Гёргея отогнать терзавшие его призраки: они оставляли несчастного в покое лишь на краткий срок, в снова принимались за свое. Пробовал Пал Гёргей забыть свое горе за чужим: в качестве исправника исколесил все села своего комитата. Оставшееся время проводил на охоте, бродил по лесам и полям — порой до полного изнеможения. Но увы! Ничто не помогало. В конце концов он решил открыться кому-нибудь; если тот, кому он доверится, высмеет и опровергнет его сомнения, — может быть, легче станет. Пал Гёргей уже не верил, что сам он способен трезво судить о жизни, хотя обычно и он, так же как и другие, был высокого мнения о своей рассудительности. Он обладал от природы и умом и наблюдательностью, но знал, что чем умней человек, тем скорее он может оказаться жертвой какой-нибудь навязчивой мысли.
Итак, решено. Но с кем же поделиться своими подозрениями? Выбор его пал на экономку, тетушку Марьяк. Она верная служанка и к тому же видела маленькую Розалию с первых дней ее жизни, не раз помогала купать девочку, пока ее не увезли из дому в Топорц. В Гёргё экономка приехала в свое время, сопровождая Каролину, и поэтому какое-то безотчетное суеверное чувство побуждало его поделиться своими сомнениями с этой женщиной: тогда как бы незримые нити протянутся от него к самой Каролине.
Как-то раз, когда член суда Иштван Ролли отсутствовал и Пал Гёргей обедал один, он подозвал к себе хлопотавшую возле поставца с посудой экономку и спросил:
— А скажите, тетушка Марьяк, на кого похожа наша маленькая Розика?
— На кого же еще, как не на свою матушку? — ответила экономка, несколько удивившись вопросу. — Или нет?
— Я, по крайней мере, не смог обнаружить такого сходства, — со вздохом продолжал исправник.
Тетушка Марьяк пожала плечами.
— Никакого сходства! Никакого! — продолжал жаловаться Гёргей. — Ну, разве не странно?
— Странно? А что ж тут странного? Если и есть что-нибудь странное, то уж совсем не в Розе, нашем милом ангелочке, а в том, что всякий глаз на свой лад видит. Не правда ли?
— Правда, тетушка Марьяк. Но мне все это и в голову бы не пришло, если бы я не знал, что одна из двух малюток умерла. Впрочем, и еще многое другое.
— Другое? А что?
— Сами знаете: человеку всякое в голову лезет, когда он страдает бессонницей. Например, уж не подменили ли нам по ошибке девочку?
Экономка ухватилась за эту мысль подобно тому, как змея хватает пролетающего мимо крупного жука. За хорошую сплетню тетушка Марьяк готова была хоть жизнь отдать, хлебом ее не корми — дай только пронюхать о чем-нибудь грязненьком, а затем разболтать об этом. А провидение одарило ее удивительно простодушным и добрым лицом, глубоким, честным взглядом и таким тонким умением злословить, что просто невозможно было заподозрить ее в клевете или в злом умысле. Был у нее один излюбленный прием: никогда ничего не утверждать, только спрашивать. Спрашивать, ловко пряча в своих вопросах ядовитые шипы намеков.
— Как вы изволили выразиться, ваше превосходительство? Что, мол, подменили девочку? — переспросила экономка, вытаращив глаза от изумления. — О, боже, боже! Неужели наша Розика на самом деле уже давно подле своей матушки? Господи, отец наш небесный! — Тут Марьяк набожно перекрестилась. — Не введи нас во искушение! Как это так, «подменили»?
— Ну, этого я не утверждаю, — запротестовал Гёргей, — просто мне в голову пришло.
— В голову? — как бы думая вслух, забормотала экономка, доставая салфетки. — До чего ж умная голова у вашего превосходительства! Вот это я понимаю — голова! И почему мне такое никогда не приходит в голову? А ведь я окольно уже слышала о подобных случаях!
И тетушка Марьяк тут же рассказала барину сначала про некоего Остролуцкого, которого тоже подменили когда-то в старину, затем про одну девушку, фамилии которой она уже не помнила, знала только что девушка была графиней и что родители ее жили в Кашше. Вслед за этой историей были извлечены на свет и другие случаи подмены младенцев, хранившиеся до поры, до времени вместе со всяким прочим хламом, словно в сорочьем гнезде, в голове экономки.
— Но все эти истории кончались счастливо, — заявила она. — Какое-нибудь родимое пятнышко всегда помогало разобраться. А вот у нашего ангелочка, как на беду, не было на тельце ни единой, самой малюсенькой крапинки. Видно, только в старину дети рождались сплошь усыпанные родимыми пятнами.
— Опять вы говорите глупости, тетушка Марьяк!
— Глупости? — укоризненно воскликнула экономка. — Конечно, куда уж мне! Ведь я невежественная баба, вдова бедного скорняка. Как я могу сказать что-нибудь умное? Но если все, что вы сказали, правда, чего же вы от меня-то хотите? Ведь все равно я ничем помочь не могу! А если неправда, то почему же вы, ваше превосходительство, считаете, что я говорю глупости?
— Ну, ну, тетушка Марьяк! Вы уж и рассердились! — полушутя упрекнул ее Гёргей, хотя в душе был рад, что вывел экономку из себя.
— Вот тебе и на! Хорошенькое дело! Это я-то сержусь? Вот она благодарность за то, что я по доброте душевной ни словечка против господ из Топорца не вымолвила.
— Погоди! — сердито крикнул Гёргей. — Я ведь убежден, что если они и поступили так, то все равно из добрых побуждений!
— Конечно! — ухватилась Марьяк за его слова. — Вот именно из добрых! Из каких же еще, господи? Ведь родительская любовь на то их толкнула, — самое благочестивое, богоугодное чувство. И разве можно ожидать от господ из Топорца чего-нибудь иного, кроме добра и благородства? Девочка ой как должна быть благодарна отцу и матери, что они так заботятся о ней. Тем более что зла никому не причиняют: ведь им не пришлось ничего ни вымогать, ни отнимать силой или оружием. Достаточно было всего-навсего сказать: пусть отныне наша дочка назовется Розалией. Разве может это причинить кому-нибудь вред? Никому. А самой девочке — только польза, потому как ей достанется деревня Гёргё с замком, лугами, мельницей и лесами.
— Вздор! — вполголоса пробормотал Гёргей, обращаясь скорее к самому себе. — Гёргё все равно унаследовали бы дети моего брата, потому что у Дарвашей нет детей.
Этот довод сразил экономку. Смутившись, она принялась ворчать на шмеля, который влетел в окно и теперь с громким гудением кружил по комнате.
— Пошел вон, противный! Сбиваешь человека с панталыку. Даже ты обижаешь меня, хотя я сама никого и никогда пальцем не тронула. Вы говорите, ваше превосходительство, что их дети все равно были бы вашими наследниками? Возможно. Вам это лучше знать. А коли я говорю неладно, так потому, что плохо порядки знаю. Да и что может знать вдова простого скорняка? Мне ведь только одного хочется, чтобы все добро ваше досталось настоящей Розалии. Погодите, что ж это я говорю, будто имеются настоящая и не настоящая Розалия?! Без причины на свете ничего не случается, «на все причина должна быть», — говорит его преподобие, господин Падолинци. Борбала не может без причины сделаться Розалией. Что верно, то верно: имение Гёргё со временем, действительно, отошло бы Борбале и оказалось бы в хороших руках, если уж не могло попасть в еще более хорошие руки. Но вот получила бы или не получила Борбала и владения покойной барыни — Екельфалву и Деснице, это может быть известно одному только вам, ваше превосходительство. А коли вам известно, то вы и мне об этом скажите.
Экономка украдкой бросила на барина скромный, честный взгляд и увидела, как Гёргей покачнулся, словно от незримого удара.
— Убирайтесь вы ко всем чертям! — рявкнул он и так грохнул кулаком по столу, что в комнате сразу все пришло в движение: полетели на пол бокалы и тарелки, соскользнув со скатерти; вылетела из столовой и тетушка Марьяк, хоть и не к чертям, но все же подальше от барина, на кухню, оставив всех чертей ему самому.
Слова экономки разбудили в Гёргее новые подозрения. Да такие, что они и в голову ему прежде не могли прийти! Человек благородный сам не додумается до всяких мерзостей. А вот, поди ж ты, трезвый рассудок тетушки Марьяк подобрал ключ к загадке. Но можно ли заподозрить Яноша Гёргея и его домочадцев в такой низости? Конечно, нет! Янош Гёргей не пойдет на обман из корысти. Только ради какого-нибудь доброго дела он способен обмануть! Верно! Но что, если это «доброе дело» не только доброе, но и выгодное для Яноша и его близких? Разве они отказались бы совершить его только из-за того, что оно доброе и вместе с тем полезное для них? Не такие уж Мария и Янош Гёргей святые угодники. В конце концов каждому «своя рубашка ближе к телу»; подобные истории случаются в самых лучших семействах. Гёргей перебрал в памяти все знакомые ему знатные фамилии. Как они стали обладателями богатых имений? В каждом случае он нашел пусть маленькое, но все же темное пятнышко. Возможно, и сам император не без греха. Всегда из-под каждого, «законного основания» выглядывали коварные уловки и хитрости. Жажда стяжания таится на дне души у любого доброго венгра и может всплыть на поверхность в такой час, когда никто этого не ожидает. Пал Гёргей не поручился бы даже за своего брата Яноша.
И снова наперегонки понеслись черные мысли… Тетушка Марьяк не только не сняла тяжкий камень, сдавивший ему грудь (ради этого Гёргей и поделился с экономкой сомнениями), а наоборот, обрушила на него целую скалу.
Душу Гёргея снедало, точило, словно червь, беспокойство, поистине ставшее манией. Теперь все чаще наведывался он в Топорц, надеясь, что новые впечатления заслонят прежние. И чего он только не перепробовал, даже завел в топорецком замке собственного шпиона в лице Жужанны, дочери тетушки Марьяк: он приставил девушку в няньки к Розалии и дал ей секретные поручения. Но и эти меры не помогли Гёргею ни рассеять старые домыслы, ни обнаружить новые следы, подтверждающие его подозрения. Все оставалось, как было. Право же, время и то словно остановилось. И только ветры шумели над Кешмарком…
Но вот однажды в воздухе повеяло чем-то новым: из Трансильвании дошли слухи, что туда с турецким войском вторгся Имре Тёкёли и что маленькое княжество восторженно провозгласило его своим князем-правителем. Закипела кровь в жилах сепешских венгров, загорелись сердца. Эй, куруцы, по коням!
Достали с чердаков старые куруцкие седла, завертелись по дворам точила, востря заржавевшие сабли…
Янош Гёргей тоже не мешкал — набрал горсточку небогатых дворян, которых в Сепешском крае дразнили «пиковыми», и отправился навстречу Тёкёли. Комитатскому дворянскому собранию он написал, что слагает с себя обязанности вице-губернатора «ввиду более неотложных дел» (как он скромно, избегая громких фраз, назвал отъезд на поле брани) и вместо себя рекомендует собранию своего младшего брата — Пала Гёргея, который пусть тяжеловат на руку, но зато обладает великим умом, а ведь времена наступают тоже великие.
И, как мы уже знаем, Пала Гёргея единогласно избрали вице-губернатором. Новая должность, заботы по управлению комитатом на время отвлекли Пала от его горя. Суматошная жизнь комитатской управы с ее многочисленными собраниями и совещаниями, кипение страстей, жаркие политические споры — всё это оказалось действенным лекарством, которое приглушило тоску по жене и оттеснило на задний план навязчивую мысль о подмене дочери. Однако полностью душевное равновесие Гёргея не восстановилось. Червячок сомнения уцелел и непрестанно сверлил, грыз, точил. А иногда и сами события направляли мысли Пала Гёргея все в то же русло.
Решение Яноша Гёргея вступить в войско нового трансильванского князя-правителя сделало топорецкий замок довольно опасным местом. В Вене уже начинали искоса поглядывать на политическую возню в Кешмарке. Вполне возможно было, что сюда нагрянет какой-нибудь отряд лабанцев и первым делом постарается отомстить Яношу Гёргею за его «измену». Словом, обитатели топорецкого имения не могли чувствовать себя в безопасности. Как добрый родственник, новый вице-губернатор, предвидя такую угрозу, должен был бы, казалось, заблаговременно позаботиться о семье старшего брата и перевезти ее в какой-нибудь хорошо укрепленный город — например, в Лёче. Вместо этого Пал Гёргей задумал узнать наконец всю правду о маленькой Розалии, превзойдя при этом мудростью самого царя Соломона, и для этого решил отправить девочку в Ошдян к своей младшей сестре, Каталине Дарваш. Придумано все было очень ловко: вместе с сестрой Пал Гёргей приедет в Топорц и сославшись на предстоящие военные действия, убедит жену Яноша, что Ошдян (владелец которого, Дарваш, человек болезненный, стоял в стороне от всякой политики) окажется для Розалии более надежным убежищем, чем Топорц; после этого они попросят собрать девочку в дорогу, так как намереваются тотчас же увезти ее с собой. Поскольку они явятся в Топорц нежданно-негаданно, как снег на голову, невестка не сможет заранее обдумать, как ей вести себя, ее материнское сердце (если Мария действительно — мать девочки) не выдержит, она откажется отпустить Розалию и тем самым выдаст себя с головой. Если же она, наоборот, отдаст девочку без колебаний, значит, Розалия — не ее дитя, а дочь Каролины.
Задумано — сделано. Пал Гёргей списался с сестрой и договорился с нею обо всем; госпожа Дарваш (женщина воинственная, из тех, что за словом в карман не полезут, а в действиях своих весьма решительны) прибыла в Гёргё сразу же после сбора винограда, а оттуда вместе с братом и его экономкой отправилась в Топорц. Тетушка Марьяк ехала в Топорц с двоякой целью: взглянуть на дочку вице-губернатора, полагая, что, сравнив годовалую Розалию с прежним трехдневным младенцем, она состряпает для своего барина «отличное блюдо», которое можно будет подавать затем под любым соусом, какой ей заблагорассудится, а во-вторых, ей хотелось повидаться со своей собственной дочерью, Жужей.
Стояла дивная солнечная осень. Путешествовать в такую пору — одно удовольствие. А Каталине Дарваш, кроме всего прочего, эта поездка напомнила ее детские годы. Дорога, тянувшаяся в сторону Сепешских Карпат, то шла в гору, то спускалась в долину, то извивалась между лесами, рощами и водопадами. С горных вершин на путников хмуро косились старинные замки; в долинах, приникнув к земле, дремали деревеньки. Только мельницы, примостившиеся то тут, то там над серебристыми речками, подавали признаки жизни. На каменистых склонах холмов бродили отары белых овец — издали даже не разберешь: где валуны, где — валухи…
В Топорце очень обрадовались приезду гостей, но радость была непродолжительной, потому что госпожа Дарваш без долгих разговоров заявила, что приехала на смотрины, чем глубоко смутила хозяйку Топорца.
— Какие смотрины, милая Катика? У меня обе дочери замужем!
— А вот так, на смотрины! Только свататься мы не станем, а прямо сейчас же и увезем с собой невесту.
После этого вступления заговорил сам Пал Гёргей и более тактично рассказал невестке о своих намерениях и причинах, побуждающих его отправить малышку Розалию в Ошдян.
— Да я телом своим заслоню ее от любой напасти! — воскликнула Мария Гёргей, испуганно бросая взгляды то на деверя, то на золовку.
— Ах, невестушка, — улыбнулась Каталина Дарваш, — тело у тебя, конечно крепкое, но все же — не крепостная стена.
Мария Гёргей была женщиной красивой, высокой, могучего сложения.
— Да ведь я всем сердцем к ней прилепилась! Разве смогу я с ней разлучиться? Скорее умру! — простонала Мария, и слезы в два ручья хлынули у нее из глаз.
А у Пала Гёргея с каждым ее словом на лбу собиралось все больше гневных морщин.
— Так надо, Маришка, — проговорил он. — Пойми. Отцовское сердце тревожится.
— Вот так отцовское сердце! Отсылает единственную дочь за тридевять земель, откуда потом о ребенке не будет ни слуху ни духу! В Ошдян вы уж не заскочите на часок, если вам вдруг вздумается поцеловать девочку.
— Она останется там, пока будет идти война. А потом мы опять привезем Розику в Топорц.
— То-то и оно! Пока будет идти война! Муж мой на поле брани, сын — в Кешмарке. Одна у меня утеха — вот эта крошка.
— Чего доброго, вы еще скажете, невестка, что она единственная ваша защитница! — насмешливо заметил вице-губернатор. — Ну что за утеху нашли вы в этой малютке?
Тем временем Каталина Дарваш взяла девочку на руки и приподняла ее над головой.
— У-у, какая толстушка! Что бомба! — заметила она. — Жаль забирать ее отсюда. В хороших руках была. Но уж коли отец того желает, увезем ее. Не горюй так, Маришка. У меня она тоже голодать не будет.
Каталина Дарваш опустила малютку на медвежью шкуру, разостланную на полу посредине комнаты. Девочка была хорошенькая, пухленькая и ленивенькая. От груди ее уже отняли (в этот день ей как раз исполнился год), она что-то уже лепетала по-своему, но ходить еще не умела. (Видно, у девочек раньше начинает действовать язычок, а у мальчиков — ножки.) Маленькая Розалия даже и не пыталась ходить или ползать от одного стула до другого, а, встав где-нибудь на ножки, приказывала, словно крохотная принцесса, своей няне или госпоже Гёргей: «Несите меня туда, несите сюда!»
Теперь уже старая Марьяк присела подле крошки Розалии на корточки и всякими веселыми прибаутками — вроде «ехал грека через реку, видит грека: в реке рак» — старалась угодить девочке и приручить ее. От множества раскатистых «р» в скороговорке вместо слов слышался сплошной треск, и в конце концов это рассмешило Розу. А от ее улыбки, ей-богу, и комната словно светлее стала, и украшавшие ее дорогие, тонкой работы, ларцы и поставцы засияли, засверкали. Тетушка Марьяк превосходно умела говорить с малышами на их забавном детском языке.
— Ну, моя голубочка, помнишь ты еще меня? Нет, конечно? Ах ты, нехорошая девочка, вот я тебя отшлепаю! — и хлопнула разок-другой по медвежьей шкуре: пиф-паф (это тоже понравилось Розе). — А ведь меня ты первую увидела на белом свете, мой розовый бутончик. У меня у первой была ты на ручках, гуля-гуля, стрекозуля! Пролетал над нами аист, а я как закричу: «Стой, аист, погоди, дальше не лети! Не уноси ребеночка, это наше дитятко!» — да и выхватила тебя из аистова клюва. А ну, посмотри на меня получше, ведь это я — старая тетушка Марьяк. А вон стоит твой папочка, брильянт ты мой драгоценный! Да, да, твой родимый батюшка. А ну, взгляни на него, взгляни!
Девочка посмотрела, куда указывала тетушка Марьяк, но не нашла там ничего интересного, кроме чужого усатого дяди, и равнодушно отвернулась.
Пал Гёргей вздохнул.
— Каталина! — робким и непривычно взволнованным голосом спросил он сестру. — Скажи, — на кого похож ребенок?
Вопрос брата выбил из колеи госпожу Дарваш, собиравшуюся как раз спросить у невестки что-то весьма важное, и потому она недовольно буркнула:
— На кого? На кого? На всех детей, друг мой! Конечно, черты со временем меняются и детские личики становятся такими же, как у взрослых, а сейчас Розика похожа на любого человека, у которого есть два глаза, два уха и рот. На любого, кроме тебя. Ты, разумеется, ждешь, что я начну ее сравнивать с тобой? Но именно на тебя-то она и не похожа. И хорошо, что не похожа, иначе бы ей никогда не выйти замуж.
Суровое лицо Гёргея скривилось в деланной улыбке.
— Ну что ты, Каталинка! — возразил он, бросив на невестку быстрый, пронзительный взгляд. — Я потому спросил, что, по-моему, наша Розика — вылитая госпожа Маришка.
Вне всякого сомнения, то были коварные слова, хитро расставленная ловушка. Однако непредвиденный случай помешал Гёргею: дверь была не закрыта и как раз тут, держа в зубах трепыхавшуюся сойку, вошла в комнату подружка девочки — кошка. Сойка совсем невпопад закричала: «Не бойся, Матяш, не бойся, Матяш», — а кошка, услышав вдруг у себя под самым носом человеческий голос, от изумления остановилась.
— Птика, — пролепетала Розалия и, протянув ручонки, решительно потребовала: — Хочу птику. Дай! Дай!
Госпожа Гёргей, увидев сойку, вскричала:
— Боже мой! Да ведь это же Дюрина сойка! Ловите скорее кошку! — И вместе с тетушкой Марьяк бросилась к кошке.
— Дай! Дай! — приказывала девочка кошке. Но та, разумеется, и не собиралась расставаться с добычей, — ведь она зашла к Розе только так, по-приятельски, похвастать своей охотничьей удачей; увидев же, что люди собираются отнять у нее птицу, кошка помчалась с нею по всем комнатам и, найдя где-то открытое окно, выскочила во двор, не обращая внимание на пронзительные крики сойки, ободрявшей себя: «Не бойся, Матяш!» (чему птицу с таким трудом обучил на каникулах Дюри). Затем она взобралась на замковую башню, а там в полном уединении и спокойствии воспользовалась плодами своего долгого и терпеливого выжидания у птичьей клетки.
Эта маленькая драма в одно мгновение рассеяла напряженную атмосферу, в которой вице-губернатор рассчитывал докопаться до истины. Хозяйка дома подняла страшный переполох: кто из слуг оставил открытой клетку в комнате молодого барина? Виновных не находилось, и барыня изливала свое негодование на всю челядь. Под конец бедная так разволновалась, что упала без чувств, ее пришлось уложить в постель, а потом долго отпаивать целебными отварами и настойками.
Желая избавить заболевшую хозяйку от тяжелой минуты прощания с малюткой, Каталина Дарваш на другой день рано утром велела запрячь (по возможности незаметно) лошадей и, заботливо уложив еще спавшую Розалию на перинки и подушки, укутав ее одеялами, отправилась вместе с нянькой девочки к себе в Ошдян.
Немного погодя собрались в путь и вице-губернатор с тетушкой Марьяк. Экономка уселась, разумеется, рядом с кучером, на козлах, но по дороге оборачивалась к барину всякий раз, когда тот окликал ее. Говорить они могли о чем угодно, так как возница понимал только по-словацки, а тетушка Марьяк в совершенстве владела и венгерским.
— Странно все-таки, — заметил вице-губернатор, словно подводя итог событиям минувшего дня, — странно, что моя невестка так убивается из-за какой-то птахи!
— Из-за птахи? — ответила своим обычным вопросительным тоном тетушка Марьяк. — Вы, ваше превосходительство, думаете, что из-за птахи она убивается? Гм, н-да, конечно, из-за маленькой пташечки!
Гёргей погрузился в долгое молчание, мрачно рассматривая возникавшие по сторонам и быстро исчезавшие пейзажи и слушая шум елей; даже трубку курить перестал и, когда кучер или экономка пытались обратить на что-нибудь его внимание, отвечал лишь движениями своих круглых черных глаз. («Смотрите, какая высокая кукуруза уже вымахала здесь!» Или: «Вот это овцы так овцы. До чего ж хороши!») Только возле мельницы Дравецких Гёргей произнес несколько слов, но и они свидетельствовали о том, что бедняга все время думал об одном и том же:
— А скажите, тетушка Марьяк, вы заметили, как покраснела вчера моя невестка, когда я сказал, что девочка на нее походит?
— Покраснела? Нет, я не смотрела в ее сторону. А все из-за этой противной кошки! Значит, покраснела, говорите? — Экономка покачала головой и так широко развела руками, что чуть не выбила кнут у кучера. — Вот тебе на! А почему же она покраснела? Ну, почему? — И с напускной наивностью добавила: — Разве зазорно иметь сходство с таким ангелочком?
Она еще некоторое время ворчала что-то себе под нос, но стук колес и цоканье копыт четверки серых коней заглушили ее слова.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ Quieta non movere[6]
Вернувшись домой, Пал Гёргей очень скоро понял, что он не достиг поставленной цели. Напрасной оказалась вся его затея. «Лукавому на потеху», как говорит венгр, когда у него что-нибудь не получилось. А «лукавый» и в самом деле потешался над Гёргеем, никак не давал угаснуть тлеющим головням подозрения; если они порой и покрывались тоненьким слоем пепла, то совсем ненадолго — внизу, под пеплом, неизменно теплился злой огонек, и достаточно было одного дуновения, самой легкой струи дыхания, чтобы он вновь вспыхнул со всею силой.
Гёргей был от природы человеком замкнутым и теперь уже ни с кем не делился своими сомнениями, но в часы одиночества по-прежнему спорил сам в собою; в эти часы словно два Пала Гёргея сидели друг перед другом: один — рассудительный, второй — сомневающийся, — сидели и тихо беседовали между собой. «Не будь глупцом, Пал! — говорил Гёргей Рассудительный. — Ну отчего ты решил, что умерла именно твоя Розалия? Точно так же могла умереть и дочка Яноша. Это вполне вероятно. И если семейство Яноша говорит, что умерла Борбала, то почему же ты им не веришь? А что стал бы ты делать, если бы они сказали тебе, что умерла твоя Розалия, а не их Борбала? Стал бы, наоборот, думать, что Розалия осталась в живых?»
«Нет, не стал бы, — отвечал Гёргей Сомневающийся, — потому что тогда бы у них не было причин обманывать меня».
«Ну, хорошо, — возражал Гёргей Рассудительный. — Обладая некоторым воображением, можно предположить, что Янош действительно пошел на обман, — с благими целями, конечно. Но на чем основывается твое фантастическое подозрение? Только на том, что семья брата Яноша не очень горевала по умершей дочке? Но ведь если бы умерла твоя дочь, а им нужно было бы ввести тебя в заблуждение, они похоронили бы малютку с такими громкими воплями, что у тебя не осталось бы никаких подозрений!»
Да, по-видимому, правда все же на стороне Гёргея Рассудительного, и Гёргею Сомневающемуся пришлось уступить. На время в его душе установился мир. Но лишь на краткий срок. Спор этот все равно продолжался, и случалось, что в минуты слабости Гёргея Рассудительного верх одерживал Гёргей Сомневающийся: то ему удавалось доказать стремление Яноша прибрать к рукам наследство покойной Каролины, то привести какой-нибудь другой, вновь родившийся довод. И так все время. Многие месяцы и годы подряд душа Гёргея металась из стороны в сторону, будто конь по шахматной доске: с черной клетки на белую, с белой — на черную…
Уж лучше бы отыскалось какое-нибудь веское доказательство, что умерла именно Розалия, — Гёргей вскоре забыл бы девочку: сердце человеческое быстро сводит счеты с прошлым; но в этой жестокой игре чувствовалась рука дьявола, он беспрестанно раскачивал маятник сомнений, не давая Гёргею ни на миг покоя, которого он так жаждал. У топорецких Гёргеев была старая служанка — словачка Верона Гёрлина, досконально осведомленная обо всем, что происходило в барском доме. Уж если кто и мог знать правду о Розалии, то, конечно, она. И вот Пал Гёргей задумал переманить ее к себе на службу, а затем, поговорив с Вероной по душам, выпытать у нее все, что ей известно. Но переманить слугу в те времена было делом нелегким. Слуги тогда еще не гнались так, как нынче, за большим жалованием. Да и вряд ли Вероне жилось бы у Пала Гёргея лучше, чем в доме его старшего брата: в Топорце она как сыр в масле каталась. Значит, кроме всемогущей любви, других средств не оставалось. Почти всегда это средство оказывается наиболее действенным. Вероне, правда, было уже за пятьдесят, она давно овдовела, но ведь до сих пор так и не выяснено, в каком возрасте любовь перестает тревожить человека. И Пан Гёргей решил попытать счастья. У него был пожилой гайдук Престон, тоже вдовец. Гёргей пообещал Престону двух дойных коров и неделю отпуска, если тот женится на Вероне. Две дойные коровы! С таким приданым Верона сразу превратилась в «хорошую партию», и Престон воспользовался недельным отпуском для поездки в Топорц. Там гайдук привел себя после дороги в порядок, а затем, подкрутив усы и заткнув за пояс яркий вязаный платок, явился к Вероне и посватался. Верона сначала удивленно вытаращила глаза, затем, поплевав на руки, пригладила свои седеющие волосы (не дай бог — растрепались), после чего расплакалась и дала согласие. На праздник всех святых Престон перевез Верону вместе с ее сундучком в Гёргё.
Когда же Верона пообвыкла на новом месте, ее начала исподволь обрабатывать тетушка Марьяк. Однако все старания экономки оказались напрасными. Видно, действительно Верона ничего не знала, иначе пронырливая экономка обязательно допыталась бы. Но вице-губернатор не успокоился и сам вздумал добиться, чтобы у новоиспеченной госпожи Престон развязался язык: он решил сначала прибегнуть к доброму слову, а затем — к угрозам. Разумеется, к щекотливому вопросу он подбирался издали, с хитростью заправского мастера сыскного дела, чтобы допрашиваемая не догадалась, по какому поводу ведется следствие. Но и его усилия оказались тщетными. Верона, правда, смущалась, иногда даже казалось, будто она что-то знает, но все ее сообщения оказались чепухой, не стоившей двух дойных коров, подаренных Престону.
Гёргей уже отчаялся и готов был отказаться от попыток добраться до истины, как вдруг однажды вечером он почувствовал тошноту, которую тогдашняя медицина исцеляла растираниями. Верона, слывшая искусной лекаркой, принялась растирать барскую спину самым лучшим гусиным жиром, на совесть мять ее, выгоняя безбожную хворобу. Во время массажа врачевателю, как известно, полагается разговаривать с больным, чтобы время проходило незаметно. Ну, а для врача любой больной, даже вице-губернатор, — простой смертный, так что можно с ним и поболтать.
Болтала тетушка Престон без умолку, а лежавший ничком вице-губернатор только изредка бурчал: «Угу» или «Верно».
— Может, я уже надоела вашему превосходительству?
— Что правда, то правда, — отозвался Гёргей. — Рассказали бы лучше о чем-нибудь другом. Вы же знаете, о чем…
— О чем же? — глухо спросила Верона, нажимая суставом большого пальца на губернаторский позвоночник.
— Ну, о топорецком имении, о тамошней жизни.
— Так я же все время только об этом и толкую.
— Ладно, ладно, матушка! Знаете вы кое-что и почище, да говорить не хотите. Меня не проведешь!
— Ей-богу, ничего такого я не знаю.
— Не божитесь, тетушка Престон. Мне известно, что именно вы знаете!
— А если вам известно, ваше превосходительство, то, надо думать, не от меня.
— Как сказать, а вдруг от вас? Иногда смысл речей можно уловить не в словах, а между слов. Умный человек всякую недомолвку подметит. Не надо говорить: «Не от меня вы узнали». Бывает, что человек и во сне разговаривает.
Тут Верона с такой силой нажала на спину вице-губернатора, что у него кости захрустели. Но из этого ее непроизвольного движения он мог лишь понять, что сил у лекарки хоть отбавляй. Зато на следующий день вице-губернатор получил убедительное подтверждение тому, что Верона не случайно так больно стиснула его спину. Утром к нему в канцелярию явился с исцарапанной физиономией сам Престон.
— Что это о тобой? — удивился вице-губернатор. — С кошками, что ли, дрался?
Престон кисло улыбнулся.
— Третья корова лягнула, ваша милость.
— Какая еще третья корова?
— Моя супружница. Набросилась на меня ночью, исцарапала в кровь своими когтищами. Пристала ко мне, зачем я что-то такое выдал вашему превосходительству, о чем она во сне говорила. Но вы-то лучше меня знаете: неправда это!
— Как? — живо воскликнул Гёргей. — Разве она в самом деле говорит во сне?
— Не знаю, не обращал внимания.
— Ну и олух ты, Престон! Даже такого пустяка не можешь приметить!
Слуга пожал плечами.
— Вы же знаете, ваше превосходительство, что она мне, как бы это выразиться, только днем жена.
Ну, теперь Гёргею все было ясно: значит, Вероне действительно известна какая-то тайна. Да, разумеется, ей известно, что ребенка подменили. Что же иного могло быть в жизни Яноша и Марии, столь честных и открытых людей? А эту тайну приходится скрывать их верной служанке! Да, может статься, Верона и сама причастна к обману?
Гёргей сразу помрачнел и уж не рад был, что добился правды. Ну почему он не оставил всю эту историю в покое! Тогда хоть бы вера осталась, что есть и у него на свете кто-то родной. А теперь сразу весь мир опустел. Что ж, разочтемся сполна, выпьем чашу до дна! С горя ведь тоже можно разгуляться. И Гёргей велел прислать к нему Верону. Твердо посмотрев ей в глаза, он сказал:
— Тетушка Престон! Вам известна одна тайна, извольте немедленно рассказать ее мне.
— Ничего я не знаю, — решительно заявила Верона. Вице-губернатор погрозил ей пальцем.
— Смотрите, несчастная! Я ведь все знаю.
— А коли знаете, зачем же вы меня спрашиваете? — Хочу от вас самой услышать.
Верона дрожащими пальцами начала перебирать висевшие у нее на шее четки, но в словах ее нельзя было заметить и тени испуга.
— Не знаю я ничего. А если бы и знала, то скорее дала бы вырвать себе язык, чем согласилась бы сказать плохое о своих прежних господах. Велите забить меня в колодки или отрубить мне голову, но только рассказывать я вам все равно ничего не стану.
Гёргей пришел в страшный гнев из-за того, что ему так ничего и не удалось выпытать. Однако экономка Марьяк немного успокоила барина, пообещав, что она сама заставит упрямую женщину заговорить: «Вот увидите, как я умею допрашивать, лучше, чем весь ваш комитатский сыск, а может быть, даже и сам вице-губернатор».
На следующий день вечером Гёргей вместе с Престоном уехал в Лёче, — подошел очередной срок (раз в две недели) разобрать накопившиеся в управе дела, хотел также и подлечиться в городе, чтобы избавиться от мучительных болей в желудке.
Верона спала одна, ночью к ее постели подошел закутанный в белую простыню призрак, огромного, под потолок, роста. (Если это был человек, значит, на ходулях, а если дух, то, видно, на том свете частенько идут дожди, коли он так вымахал.) Верона вздрогнула, задрожала от страха и полезла под одеяло. А привидение забормотало:
— Верона, Верона, Верона! Облегчи свою грешную душу, признайся во всем барину. А не то конец тебе! Заберу я тебя с собой на тот свет. Но прежде, чем этому случиться, явлюсь я тебе еще дважды.
Наутро Верону начала бить лихорадка, и весь день ее врачевала жена садовника, тетушка Апро. К ужину бедняжке немного полегчало. Она окурила свою комнату дымом освященной вербной веточки, но чем ближе дело подходило к ночи, тем сильнее овладевал Вероной смертельный страх. Охальники-батраки подшучивали над нею, предлагали посторожить ночью у нее в комнате. Но как бы на это посмотрел Престон? И все же что-то надо было предпринять. Чтобы не ночевать одной, Верона за бутылку водки уговорила Гёргейского звонаря Йожефа Хамелика переночевать у нее в сенцах. Деду Хамелику было за семьдесят, и бес уже давно оставил его плоть в покое. Поздно вечером Хамелик пришел в дом к Вероне; он принес с собою железные вилы, а в качестве средства против призраков выпил заранее полученную бутылку водки. Верона вздула ночничок и вместе с Хамеликом, державшим наготове вилы, вошла в свой маленький домик, прилепившийся одной стеной к господским кладовым. Однако лишь только она очутилась в сенях, ночник погас, а с чердака донесся замогильный голос:
— Верона, Верона, Верона! Облегчи свою грешную душу, признайся во всем барину, а не то пропадешь. Еще один раз явлюсь я тебе, а потом заберу с собой!
Верона завизжала, дед бросил вилы и помчался что было духу наутек. Когда он опомнился, люди начали подсмеиваться над ним, но Хамелик объяснил, что для бесед с привидениями одной бутылки водки мало, — самое меньшее надо две бутылки. Век живи — век учись!
Верона кинулась в господский дом, на кухню к тетушке Марьяк, а там рухнула без чувств. Когда же на кухне появилась и сама экономка (в этот поздний час ей вздумалось приводить в порядок барский винный погреб), она нашла Верону лежащей возле печи в обмороке и принялась опрыскивать ее водой, словно увядшую травку. По доброте сердечной, тетушка Марьяк уложила несчастную в свою собственную постель, напоила отваром золототысячника и сделала вид, что не верит ни одному слову из рассказа Вероны о привидении.
— Ну, что вы, милочка! Разве можно так выдумывать? Ладно, завтра я сама пойду к вам ночевать. Покажу я этому призраку метлой дорогу на кладбище…
Однако Верона не пожелала ждать завтрашнего вечера, а сразу же поутру пешком отправилась в Лёче и отыскала в комитатской управе своего барина; тот в изумлении уставился на бледную как полотно и совершенно седую женщину: за два дня волосы у Вероны поседели, будто покрылись инеем.
— А вы чего здесь, матушка? Или что дома случилось? — спросил вице-губернатор.
— Пришла, ваше превосходительство, исповедоваться, открыть вам тайну, — ответила Верона и оглянулась: заперта ли дверь.
— Слушаю вас, — сказал вице-губернатор, а сердце его застучало громко-громко, словно молот. — Говорите же! Здесь вас никто не услышит.
— И муж мой тоже?
— И он не услышит. Я его услал в город. Он должен побывать местах в пяти, попросить для меня разных целебных трав, пиявок, отваров! Чувствую я себя хуже прежнего, а теперь даже и лекаря нет у нас в городе, — умер прошлой ночью.
На весь город Лёче имелся один-единственный лекарь, да и то не всегда. В ту пору лишь самые знатные господа приглашали к себе врачей, чаще всего из Вены. Дворяне пониже рангом обращались за помощью к комитатским дамам: через посыльных (в письме или на словах) сообщали симптомы своих недугов, а затем послушно пили полученные от врачевательниц лекарственные настойки и отвары. Результат лечения, как и в наши дни, бывал двояким: больные либо выздоравливали, либо умирали. В Лёче в этом отношении было еще проще. Гайдук мог быстро обежать все знаменитые дома, наведаться к госпоже Маукш, умевшей делать такие мази и бальзамы из ящериц, жуков и мышиных хвостов, что они мертвеца и то бы на ноги поставили, достаточно было бы натереть ему такой мазью грудь, около сердца, probatum est[7]. (Впрочем, говорят, что единственный человек, воскресший из мертвых после такого лечения, на самом деле просто находился в летаргическом сне.) Гайдуку Престону велено было заглянуть и в пансион ученой барышни, Матильды Клёстер, в который дворянская знать даже из дальних краев присылала своих дочерей обучаться деликатному обхождению и всяким наукам; в случае болезни воспитанниц мадемуазель Матильда сама лечила их настоями из различных трав; Престону велено было заглянуть и к госпоже Крамлер, племяннице известного львовского доктора, у которой была тьма рецептов, полученных от ее достопочтенного дядюшки, — наверное, и болезней-то столько не наберется; искушена была во врачевании и родная мать торговца скобяными товарами Стекловича, которая, несмотря на свои восемьдесят лет, была очень крепка, — должно быть, она знала какое-то средство против смерти.
— Итак, — нетерпеливо воскликнул вице-губернатор, когда увидел, что Верона молча стоит перед ним, смущенно теребя концы своего черного головного платка. — Я слушаю вас.
— Что уж там скрывать, оступилась бедная барыня, прости и помилуй ее, господи! Вы ведь и сами знаете, ваше Превосходительство.
— Конечно, — грустным голосом подтвердил вице-губернатор, — знаю. Но вы не смущайтесь, рассказывайте!
— Я всегда говорила (вы только не обижайтесь на мои слова) — достаточно женщине один только раз спознаться с мужчиной, и привыкнет она к нему, как мужик к табачному зелью… Отвыкать ей уже тяжело. Баба есть баба.
— Что вы там за чепуху мелете? — перебил ее Гёргей. — О ком вы говорите?
— О ком же еще, как не о ней, о дорогой моей барыне.
— Кто такая эта ваша «дорогая барыня»?
— Ее превосходительство, госпожа Гёргей, — в жестоком страхе и смущении пролепетала Верона.
Настал черед и Гёргею смутиться. Уж не свихнулась ли старая? Он посмотрел на Верону внимательно: под глазами, правда, синие круги, но и сами глаза тоже синие, чистые, честные.
— О каком мужчине вы говорите? Не понимаю!
— Да все о нем, о проклятом, о мельнике…
— О мельнике? Какое он-то имеет к этому делу отношение?
— Так ведь с ним же попутал бес мою барыню…
— Попутал? Что вы хотите этим сказать?
— Полюбовник он ее, прошу прощения.
У Гёргея лицо перекосилось от гнева, он яростно грохнул кулаком по столу.
— Чей любовник? Моей невестки? — взревел он, словно раненый тигр. — Да как ты смеешь, скотина, говорить такие гадости? — И Гёргей кинулся к Вероне, готовый ударить ее. — Пятьдесят горячих велю тебе всыпать!
Распахнув дверь, он хотел уже позвать гайдука или стражника, но ни в передней, ни в коридоре не было ни души. Прохладный ветер пахнул в лицо вице-губернатору и остудил его гнев. Ходившая ходуном грудь утихла, Гёргей, опомнившись, подумал, что в таком щепетильном деле можно сгоряча все испортить, тем более что Верона по природе, как видно, не болтушка: ведь и эту вот тайну буквально клещами пришлось вырывать у нее; а то, что сейчас она сама явилась с признанием, наверняка подстроила тетушка Марьяк. Нет, эту женщину нельзя обижать, она тут ни в чем не виновата; ишь как дрожит и мучается, — значит, не все еще рассказала! Конечно, рассказ ее скорее всего выдумка, да ведь голова у необразованных людей устроена по-особому, а следовательно, они по-особому видят то, что происходит в жизни: слова принимают за события, фантазию — за действительность.
— Ну, не дурак ли я? — окончательно успокоившись, сказал сам себе Гёргей. — Разъярился из-за такой чепухи! Смешно! Просто немыслимо! Скорее звезды падут в грязь, чем жена Яноша. Какая глупость! Но в этих слухах надо разобраться, узнать, откуда они идут, а не просто приглушить их. Наверняка какое-нибудь смешное недоразумение, над которым мы когда-нибудь от души похохочем.
И вот Гёргей вернулся к себе в кабинет, даже радуясь в глубине души, что тайна эта известна именно Вероне, а не кому-нибудь другому.
— Ну, напугал я вас, матушка? — уже миролюбиво возобновил он прерванный разговор; при желании Пал Гёргей умел быть на редкость ласковым и приветливым. — Ладно, не бойтесь. Ничего вам не будет: рассказывайте смело все, что знаете. Вы же сами видите, меня возмутил этот случай. И как только могла такая хорошая, добрая женщина…
Тетушка Престон ломала руки.
— То-то и оно, ваша милость! Да я скорее поверила бы в то, что господь наш, Иисус Христос (да славится имя его во веки веков, аминь!) не вознесся на небо, чем в то, что моя госпожа согрешила…
— Да еще в таком возрасте, в таком возрасте, Верона! — добавил Гёргей, желая показать, что он уже смирился с несчастьем. — Сколько лет-то моей невестке?
— Не старая еще — в прошлом году сорок миновало. Возраст еще ничего не значит. А только ведь я ее за святую почитала. И не доведись мне собственными своими глазами увидеть, я бы душу вынула у всякого, кто про нее дурное сказать бы осмелился.
Гёргей вскочил с кресла.
— Увидеть? — воскликнул он возмущенно. Но лишь на мгновение сверкнули в его глазах зеленые огоньки гнева: он снова опустился в кресло, уронил на подлокотники руки и закрыл глаза. — Хорошо, хорошо. Рассказывайте все, как было, ничего не упускайте. Я не буду больше перебивать. (Эти последние слова он проговорил скорее самому себе.)
— А так, ваша милость, что как барин на войну ушел, я спала в одной комнате с барыней. Одна она боялась ночевать. А вернее, с того дня, как вы изволили свою дочку увезти. Ведь до того Розика спала в ее комнате, да и Жужа Марьяк тут же укладывалась. Очень убивалась барыня и по мужу и по малютке.
— И по малютке? — поднял голову Гёргей и широко раскрыл глаза.
— Конечно.
— А почему? — рявкнул Гёргей, пронзая Верону взглядом.
— Потому, что любила она маленькую Розалию очень.
— А как вы думаете — почему? Ведь это не ее дитя?
— Так уж заведено у больших господ. Им делать нечего, вот они и любят чужих детей. Это у нас, бедноты, и на своих-то ребятишек времени не хватает.
Глупый ответ простой женщины окончательно убедил вице-губернатора в том, что от нее ровным счетом ничего не узнать о Розалии.
— Продолжайте, тетушка Престон. Говорите смело!
— Так вот я и говорю: очень уж горевала барыня. Иногда и сама писала барину, и ответы от него тоже получала. Но потом письма стали приходить все реже, и вздыхать барыня стала пореже — знать, привыкла к своему одиночеству. А под осень, как вернулась она из Ошдяна, когда Розалию ездила проведать…
— Как, она ездила в Ошдян? — тревожно спросил. Гёргей. — Подозрительно! (Это он пробормотал себе под нос.)
— Ездила. А как вернулась, зачастила на мельницу. С этого все и пошло. Я уж и не помню, зачем она отправилась на мельницу в первый-то раз. Может статься, из-за плотины, — мельник нам в то лето покою не давал, все требовал, чтобы барыня плотину починить велела. Словом, наведалась она на мельницу. А мельник, сказывали тогда, нового подручного себе нанял. Вот и повстречалась наша барыня с тем подручным. О чем они с ним говорили, не ведаю. (Про то одному богу известно да им двоим.) А только барыня на другой и на третий день ходила на мельницу и всякий раз наряжалась — как и мы, простые бабы, наряжаемся, когда нас бес в ребро толкнет. Сколько времени, все это тянулось — не знаю. Только однажды, как холода ударили, говорит мне моя голубушка: «Знаешь, Верона, спать я из-за тебя не могу, больно уж ты храпишь. Стели теперь себе в другой комнате». Ну, мне это дело сразу не понравилось: я сроду не храпела и не храплю. Спросите хоть Престона. И потом как же это? — Прежде, когда ребеночек плакал, она, вишь, могла спать спокойно, а теперь глаз не смыкает, потому что я, дескать, храплю. Ну, ладно, думаю, поглядим, что из этого всего получится. А получилось вот что: как дворня заснула, прокрался тот подручный мельника на барский двор, а барыня-то (ну, видно, весь свет скоро перевернется!), святая-то наша, встала с постели и, как была в одной нижней юбке, вышла в холодные сенцы да и впустила его к себе. Боже милостивый, уж хоть бы кто порядочный был, а то ведь деревенщина, никчемный человечишка!..
По лбу Гёргея заструился пот, в сердце заклокотала гордость дворянина, но он подавил в себе порыв негодования и скрестил на груди руки, словно одной удерживал другую.
— От кого вам все это известно? — с мрачным видом спросил он Верону.
— Прислуга шепталась между собой. Сперва я сомневалась. Видели люди, что поутру, в тумане, какой-то человек прошмыгнул из замка, будто тень. Ну, а потом догадались, что это подручный с мельницы к барыне ходит.
— Выдумки! Вранье! — прохрипел вице-губернатор.
— И я так же сказала, ваше превосходительство! — отвечала Верона с печалью в голосе. — И поклялась себе: докопаюсь, узнаю правду. Один раз вечером лущили мы в большой горнице кукурузу, в той самой, из которой дверь в барынину спальню ведет. Так уж у нас заведено испокон веку: праздник это настоящий. И лущим мы всегда кукурузу не в приказчичьем доме, а в господском. Бывало, соберутся нам помогать и деревенские, не только наши крепостные, а и господ Бузамери крестьяне, особливо молодежь. Случалось, к нам заглядывал даже сам барин, ежели дома находился. На ужин обыкновенно барашка резали, варили кукурузу, пекли коржи с маком. Веселье, песни. Работа, бывало, так и горит в руках: до полуночи завсегда управлялись. Потом уносили из гостиной початки, красные отдельно (они против антонова огня хороши), и целую копну шелухи вытаскивали. А там — откуда ни возьмись — пастух с волынкой, и пошли танцевать, часов до двух ночи плясали. Ну, а в этом году, как только ночной сторож прогудел в свой рожок девять часов, входит барыня на кухню, где уже варилась кукуруза и баранина, и говорит: так, мол, и так, голова у меня разболелась, хочу отдохнуть, а потому в господском доме ночному ужину нынче не бывать, несите, говорит, все угощенье во флигель к приказчику, а я, говорит, сейчас же прикажу работникам, чтобы кончали лущить кукурузу, и пришлю их туда же. Так и сделала: работников отослала, свет в горницах и в гостиной погасила. Народ собрался в приказчичьем доме. А меня любопытство разбирает. Думаю, будь что будет! Пробралась незаметно в гостиную, зарылась в кучу початков по самую макушку. Тут скоро стихло все в замке, только сверчок где-то в стене верещит. Слушаю я, слушаю — нигде ни шороха. И вдруг (этак через полчаса) тявкнули собаки разок-другой, будто кто-то свой по двору прошел, а потом — как свистнет! Тут уж и барыня выходит из своей опочивальни, идет через гостиную, ключом скрипнула: дверь наружную отпирает. А я сижу в початках кукурузных — сердце у меня от страха совсем биться перестало. Ой, господи, провалюсь я от стыда сквозь землю, если правдой окажется, что другие-то дворовые болтали. Луна заглянула через окно — будто молока белого в растопленный вар плеснули. Дверь скрипнула, и входит в залу мужчина в широкополой шляпе, сапоги тяжелые. А барыня ему шепчет: «Осторожнее, милый, не споткнись. Тут везде кукуруза набросана». Знать, она его при этих словах за руку взяла да и провела в свою опочивальню. Но все равно несколько початков он раздавил сапожищами своими, пока шел. Тут уж и я выбралась из копны и прибежала в дом к приказчику. Дрожу как осиновый листочек, а сама бледная-пребледная, все даже перепугались, как меня увидели…
По мере того как Верона рассказывала, по ее лицу заметно было, что она рада освободиться наконец-то от бремени тягостной и опасной тайны. И вот наступило мучительное молчание. Верона ждала, что скажет Гёргей, но он не произносил ни слова, сидел в кресле неподвижно, словно окаменел. И лицо у него было какое-то пепельно-серое. Верона робко взглянула на него, и ей даже показалось, что он умер. Но нет, кадык шевелится, значит, жив еще! Так прошло минуты три-четыре. Верона кашлянула, чтобы напомнить о своем присутствии, но барин и после этого не обратил на нее никакого внимания. О, как далеко отсюда были сейчас его думы! Он размышлял над такими загадками, которых не разрешил еще ни один из смертных. Из какого же вещества вылепил творец женщину? Неужели для этого не нашлось у него ничего, кроме сапожного клея? Кто до нее дотронется, так она вся, до последней частицы своего существа, к тому и прилипнет! Неужели и его Каролина оказалась бы такой же?
Гёргей тяжело вздохнул и уронил лохматую голову на грудь. Выходит, бог так и не создал на свете ничего безупречно чистого, если и на солнце, самом ярком светиле, есть пятна, а в прозрачной воде родников полно всяких противных тварей? Самая белая лилия и та бросает черную тень…
— Мне можно идти? — спросила в конце концов Верона. Гёргей вздрогнул, только теперь заметив, что она еще здесь. Он утвердительно кивнул головой, однако в дверях снова остановил ее.
— Погодите, тетушка Престон, хочу еще кое о чем вас спросить. Как часто это бывало?
— Да каждую вторую ночь раздавался на дворе проклятый свист.
— Хорошо, голубушка, ступайте. Но об этом ни звука! Понятно?
Гёргей уже не сомневался. По природе он относился к числу людей легковерных, а тут еще ему вспомнилось, что произошло вчера в трактире «Сарацинский король», где обычно собирались чиновники комитатской управы. За ужином, во время беседы о политике, коснулись Яноша Гёргея и его отъезда на войну. Петер Маршалко начал было что-то рассказывать: «Странные слухи дошли до нас…» — а подвыпивший старший писарь Даниэль Ревицкий возьми да и ляпни: «Из Топорца?» Чиновники растерянно переглянулись, как это бывает, когда кто-нибудь скажет неуместное слово, и Маршалко поспешил замять разговор: «Да нет же! Из Трансильвании. Слух вдет, что там уже все закончилось». Тогда вице-губернатор так и не понял, в чем дело, но теперь ему все стало ясно. Значит, господа комитатские чиновники уже прослышали о похождениях его невестки? Нет, дальше так оставлять нельзя! Надо положить конец! Хотя бы ради чести бедного брата Яноша.
Лишь только возвратился Престон, нагруженный множеством банок и склянок, получив наставления к каждому целебному снадобью, вице-губернатор тотчас же приказал ему позвать двух самых ловких копейщиков[8] — Андраша Гёбёйо и Гергея Сабо, и отдал им следующее распоряжение: немедленно отправиться в Топорц, ночью тайком подобраться к имению Яноша Гёргея, куда с некоторых пор со злым умыслом наведывается новый подручный топорецкого мельника; этого малого схватить и, но возможности без лишнего шума, доставить к нему, вице-губернатору.
Все это случилось в среду поутру, а в пятницу вечером, когда Гёргей уже раздевался перед сном, Престон доложил:
— Копейщики какого-то арестанта из Топорца привезли. Что им передать?
— Скажи, что мне сейчас недосуг. Завтра утром я с ним потолкую.
Немного погодя Престон вернулся и доложил, что копейщики спрашивают, не передать ли арестанта коменданту крепости.
— Ни в коем случае! Сначала я сам с ним побеседую. Это мой личный узник. Заприте его пока в какую-нибудь пустую камеру.
Престон возвратился еще раз.
— Копейщики велели передать, — доложил он, — что у ихнего арестанта вторые сутки маковой росинки во рту не было. А везли, мол, его сюда на такой тряской телеге, что и сытый человек проголодался бы…
Гёргей, уже успевший раздеться и забраться под одеяло, раздраженно бросил:
— Скажи этим самым копейщикам, чтобы они поменьше велели тебе «передавать» вице-губернатору. За кого они, мерзавцы, меня принимают? У меня можно слезно просить, а они, видите ли, «велят передать». Пусть-ка они еще хоть раз попробуют «велеть», так я тоже «велю»… всыпать им батогов. А сукиному сыну, арестанту, не грех и попоститься!
Так был разрешен и этот вопрос. На следующий день вице-губернатора ожидала тьма дел: с самого утра толклись в его приемной со своими жалобами и печалями просители и депутации; кроме того, вице-губернатору пришлось заседать на нескольких совещаниях, участвовать в переговорах, так что под конец голова у него гудела, как пчелиный улей, и он совсем забыл о своем узнике. Поскольку это было в субботу, то под вечер он помчался в Гёргё — заняться хоть в воскресенье своими собственными хозяйственными делами; в Гёргё его ждали прасолы из Львова, приехавшие покупать откормленных на мясо волов. А к утру в понедельник занепогодило: повалил снег, подул ветер, да такой, что деревья с корнем выворачивало. Хороший хозяин собаку на двор в такую метель не выгонит. Целый день Гёргей просидел в своем кабинете. Вот из окна посмотреть — другое дело: можно залюбоваться красотами природы; все вокруг побелело: и деревья, и крыши домов, и горы — насколько может охватить глаз. Только где-то далеко-далеко, нарушая величественное однообразие снежной белизны, на дороге зачернелась какая-то точка. Впрочем, с каждой минутой она становилась все больше, делалась похожей сперва на ворону, потом на сундук, пока наконец не превратилась в коляску, запряженную четверкой карих лошадей, с трудом тащившихся по глубокому, до самых ступиц, снегу. Путник, как видно, ехал издалека, иначе взял бы он по такой погоде не коляску, а сани: ведь природа разостлала сейчас мягкий пушистый ковер для полозьев, а но для колес.
Поравнявшись с церковью, возница громко щелкнул кнутом в свернул в аллею, что вела к господскому дому.
— Гости приехали! — недовольным голосом сообщила Марьяк, раскладывавшая на теплом крылечке айву, чтобы она распространяла по всему барскому кабинету свой дивный аромат. — И как только людям охота в этакую непогоду по гостям таскаться?
Тем временем коляска подкатила к крыльцу. Теперь уж и у Гёргея зашевелилось любопытство; он подошел к окну и увидел, как из коляски, откинув полость из волчьего меха, выбирается дама, крест-накрест закутанная в огромную шаль, как она полою темно-зеленого пальто на меху нечаянно сдернула с сиденья на снег кирпичи и бутылки, вероятно служившие ей в дороге грелками. У тепло закутанной гостьи на виду оставались только глаза да покрасневший на морозе нос — так что узнать, кто пожаловал, было пока еще невозможно. Лишь когда Престон, помогавший даме сбросить с себя в передней многочисленные теплые одежды, обменялся с нею несколькими словами, тетушка Марьяк, расслышав голос гостьи, вскрикнула: «Провалиться мне на этом месте, если к нам не топорецкая барыня пожаловала!» — и бросилась ей навстречу.
У Гёргея же, напротив, плотно сжались губы, вздулись на лбу жилы. И вместо того чтобы поспешить навстречу гостье, как того требовало приличие, он пересел к столу и принялся что-то писать или, по крайней мере, делал вид, что пишет.
А в комнату и в самом деле уже входила госпожа Гёргей. Вице-губернатор ясно слышал ее шаги и шелест юбок, однако продолжал писать, взволнованный, разгневанный; он не обернулся бы ни за что на свете, а потому не мог и заметить ни испуга на лице невестки, ни ее подавленного вида, ни того, что она едва держится на ногах.
Гостья на минуту остановилась посреди комнаты, изумленная таким приемом, а затем заговорила тихим, хрипловатым голосом, пытаясь обратить на себя внимание вице-губернатора, погруженного в работу:
— Это я, деверь!
Однако вице-губернатор не пожелал обернуться и продолжал усердно писать; лишь небрежно, резким и полным презрения голосом, он бросил через плечо:
— Что вам угодно?
Вполне возможно, что госпожа Гёргей и не заметила этого холодного, оскорбительного тона, как, вероятно, не заметит булавочного укола человек, у которого сердце разрывается от иной, мучительной боли. Силы покинули ее, и она рухнула на стул, едва успев сообщить убийственную весть;
— Схватили моего мужа, брата вашего превосходительства! Вице-губернатор швырнул на стол перо и с горькой насмешкой воскликнул:
— И вы, разумеется, горюете!
— О, боже! — сквозь рыдания проговорила несчастная. — Конец ему теперь. Сошлют на каторгу или казнят!
Вице-губернатор побледнел.
— Кто схватил его? — спросил он взволнованно.
— Наверное, лабанцы.
— И где он сейчас?
— Не знаю, куда его увезли!
— Где и когда схватили? В пути или еще где?
— Дома, — отвечала невестка губернатора и громко заплакала.
Гёргей с изумлением уставился на нее.
— Как? Разве Янош был дома? Я ничего не знал.
— Потому что мы вынуждены были скрывать это. Янош, переодетый в крестьянскую одежду, скрывался на топорецкой мельнице.
При этих словах Гёргей, бледный как смерть, вдруг побагровел, будто вареный рак, глаза его вмиг утратили гневное выражение, со лба как ветром сдуло мрачную тучу; он посмотрел на дрожавшую женщину взглядом, в котором было и участие, и сожаление, и стыд, бросился вдруг перед нею на колени, схватил край ее черного фартучка и, поднося его к губам, поцеловал.
— Что вы делаете, сударь? — перепугалась Мария Яноки и вскочила со стула.
— Молю вас о прощении, которого я, впрочем, недостоин! Он поднялся, отряхнул пыль с колен и оживленно продолжая:
— Мария, милая моя невестка, не горюй больше ни минуты! Яноша схватил не император, а человек, который возвратит его тебе.
Госпожа Гёргей тяжело вздохнула и посмотрела на деверя, веря и не веря его словам.
— О, господи, кто он — этот человек?
— Я, — отвечал вице-губернатор, — я велел схватить его!
Женщина разочарованно опустила голову. Вот новое несчастье случилось! Бог лишил беднягу рассудка, да еще в такую минуту, когда помощь всесильного родича была бы ей так нужна. Марии Гёргей и прежде бросалось в глаза, что вице-губернатор странно ведет себя, теперь же у нее не оставалось больше ни капли сомнения.
Но Гёргей, словно прочитав на лице невестки эти мысли, поспешил ее успокоить.
— Вы, вероятно, думаете, что я сошел с ума? Но нет, я не сумасшедший, я просто — злодей. Не знаю, простите ли вы меня когда-нибудь. Мне насплетничали, что сударыня-невестушка по ночам принимает у себя в опочивальне какого-то парня с мельницы. Это взбесило меня, и я приказал изловить негодяя. Подло с моей стороны было поверить гнусному навету. Дайте мне за это пощечину, я заслужил ее. Вот моя щека, бейте!
О, вот когда нужно было посмотреть на Марию Яноки, чтобы убедиться, что не только на небе могут рождаться солнечные лучи, но и в женских глазах под жемчужинами слез! Вот уже пробивается сквозь эти горькие слезы лучезарная улыбка — Мария Гёргей и плакала и смеялась одновременно.
— Ну, вот еще! Не хватало, чтобы я вас ударила! Ведь правду говорили люди-то, — заговорила Мария Гёргей. Зардевшись и озорно улыбаясь уголками рта, она стала миловиднее, чем иная молоденькая девушка. — Чего греха таить, впускала я к себе в спальню по ночам Яноша, как крестьянки-молодушки впускают возлюбленных. Ведь нам нужно было так много сказать друг другу. Не подумайте чего другого, — скромно потупила она глаза. — До того ли нам теперь? Мы и так уж необдуманно поступали. Сама теперь вижу. Слава богу, что все обошлось! Ведь его могли опознать. Хотя, по правде говоря, он уж и бороду отрастил, а усы, наоборот, сбрил. Впрочем, вы же сами видели, как он преобразился?
— Нет, еще не видал.
По лицу Марии промелькнула тень.
— Как же так? Не видели? Так где же он тогда?
Мария Гёргей беспокойно вперила в него взгляд, но вице-губернатор ни слова не мог произнести в ответ, так как вдруг оцепенел от страха и только судорожно хватал ртом воздух. Лишь в эту минуту он вспомнил, что не разрешил отвести арестованного к коменданту, а ведь тот поместил бы его вместе с остальными заключенными и, значит, позаботился бы о его пропитании. Чего доброго, Янош уже и с голоду успел умереть!
— Ради бога, что с вами! Почему вы не отвечаете?
Женское чутье подсказало госпоже Гёргей, что с ее супругом случилось что-то недоброе. А вице-губернатор подбежал к двери и, распахнув ее, закричал:
— Быстрее запрягайте четверку самых лучших коней — Марьяк, шубу, валенки! Скорей, скорей!
— Я умру от тревоги, деверь, если вы мне не объясните, — умоляла его госпожа Гёргей дрожащим голосом! Но вице-губернатор вместо ответа по-крестьянски отер рукавом пот со лба и глухим, сдавленным голосом спросил:
— Сколько времени может прожить человек, не пивши и не евши?
— Не знаю, — едва слышно ответила Мария Гёргей.
— Может быть, Марьяк знает? Эй, тетушка Марьяк! Подите сюда! Сколько дней может прожить человек без еды и питья?
— Никогда не пробовала, — отвечала экономка. — Но думаю, смотря какой человек! Католик выдержит и неделю, — ведь он привык поститься. А вот за лютеран не могу поручиться. Помню, когда моего покойного муженька, царство ему небесное, трепала лихоманка…
— Перестаньте болтать! Идите лучше поторопите кучера! Госпожа Гёргей в отчаянье ухватила деверя за руку:
— Что с моим мужем?
— Все в руках божьих! — упавшим голосом ответил Пал Гёргей.
— Да что же случилось? — крикнула Мария.
— Я забыл о нем, — с виноватым видом признался вице-губернатор. — Привезли его в город ночью, я велел запереть его в отдельную камеру и даже не распорядился, чтобы его покормили. Думал, утром пристыжу, припугну и вышлю за пределы комитата.
— И вы боитесь, — подхватила Мария, — что с ним беда случилась? А может быть, он уже…
Вице-губернатор замахал рукой.
— Ну, что вы, что вы!.. Упаси господь! — Но и он сам, сильный, здоровый человек, задрожал как в лихорадке. — Не может этого быть! Ни о чем подобном я и не думаю, милая невестушка. Честью клянусь! Ну что с ним может случиться? Ничего. Правда, у него с пятницы, а вернее, даже с четверга, во рту крошки хлеба не было. Вот, наверное, проголодался-то? Приготовьте ему здесь сытный ужин, я же поскачу в город и вызволю его из темницы. Да вы только не волнуйтесь, невестка!
— Нет, я тоже поеду с вами. Обязательно поеду.
— Как вам будет угодно. Только, честное слово, нет никаких причин для беспокойства. Никаких причин. Я бы и сам не поехал, да у меня голова разболелась. Прямо раскалывается. Проедусь в санках до Лёче, проветрюсь чуточку.
Они обменялись недоверчивым взглядом.
— Нет, я все-таки поеду с вами, чего вам одному скучать в дороге?
Тем временем к крыльцу подъехали санки, зазвенели бубенцы на сбруе нетерпеливых коней, словно много-много маленьких колоколов зазвонили вдруг за упокой чьей-то души.
Вечерело. Сизый туман опустился на укрытую снежным саваном землю. Ветер стих, но снежинки все еще плыли в воздухе, будто белые мухи в мутной водице.
Гёргей подсадил невестку на сиденье, медвежьей полостью укрыл ей ноги.
— Коли уж и в самом деле вам дома не сидится, поедемте! Тетушка Марьяк, мы скоро вернемся, состряпайте ужин посытнее. На три персоны. Смотрите не забудьте, тетушка Марьяк: на три персоны!
Он прыгнул в сани и, усевшись рядом с невесткой, крикнул кучеру:
— Гони, Матей! В Лёче! Не жалей лошадей! Загонишь — не беда!
Матей, послушный приказу, гнал так, что сани стрелой неслись по белым снегам. По обеим сторонам дороги мелькали леса и рощи, сверкавшие алмазами. Из конских ноздрей вырывались клубы пара.
Гёргей уже пожалел, что отдал кучеру такой приказ, — чего доброго, испугается бедная женщина. Она ведь и без того ни жива ни мертва от страха. И он решил на всякий случай пояснить свое распоряжение:
— Хочу пораньше поспеть в Лёче. Забыл у коменданта свой перочинный ножичек. А коменданта по воскресеньям всегда куда-нибудь зовут на ужин. Если не застану его, не смогу выручить свой ножик. Сегодня целый день был без ножа, ну прямо как без рук — перо нечем очинить…
Все это он произнес небрежным тоном, точно, помимо перочинного ножичка, у него и в помине не было никаких забот. Мария Гёргей тоже собралась с силами и стала уверять деверя, будто и она поехала в Лёче больше потому, что терпеть не может пустой трескотни тетушки Марьяк. О Яноше они больше и не заводили разговора, словно его и на свете не существовало.
Деверя и невестку связывала самая теплая дружба, и теперь они стремились успокоить друг друга, прилагая к этому героические усилия, совершенно, впрочем, напрасные, потому что каждый из них знал, как мучается другой.
Они болтали о всякой всячине, подобно скучающим в дороге путникам, старающимся развлечь друг друга; даже погоду не забыли поругать — зима, мол, обещает быть суровой! Гёргею послышалось, что где-то вдали воют волки, и тогда госпожа Гёргей заметила:
— Повезло нашему бедному государю Тёкёли, что его еще до холодов победили лабанцы. Теперь он хоть может спокойно отсиживаться в Турции, там-то, говорят, зимы помягче.
Между тем Пал Гёргей еще ничего не знал о судьбе Тёкёли — в те времена известия передавались не по телеграфным проводам, а по устному телеграфу. Новости привозили проезжие. Пока кузнец подковывал лошадей, путники рассказывали все, что они слышали дорогой интересного — порою из десятых уст. При такой скорости сообщения быстро теряли свою ценность. Очень часто вести и совсем не доходили до Сепеша. Во-первых, в Сепеш редко заглядывали проезжие из Трансильвании. А если и заглядывали, то не каждому нужно было чинить повозку или ковать лошадь, а значит, не стоило ему и в кузницу идти. Если иной путник и заглянет в кузницу, то все равно правды от него не жди. И наконец, если бы он даже и сказал правду, никто ему не поверил бы: разве узнаешь, какие из тысячи тысяч бродящих по свету противоречивых слухов о ходе войны соответствуют действительности? Идет война или она уже закончилась — это можно было угадать только по ценам на овес да на лошадей. А багровый горизонт — бесспорный признак войны, только когда она совсем рядом. Ведь две-три горящие трансильванские деревни не могут окрасить в багрянец небосвод так сильно, чтобы зарево было видно из Сепеша!
Но сейчас Гёргея не тронула даже и горестная весть о поражении, и он лишь машинально задал своей спутнице несколько вопросов: «Как? Неужели Тёкёли разбит? Значит, опять все было понапрасну? Свет надежды вспыхивает ярким пламенем на алтаре свободы, а догорает погребальной свечой у ее гроба. Впрочем, Тёкёли, несомненно, разбит, иначе как бы мог Янош вдруг очутиться дома…»
И снова их разговор вернулся к Яношу, хотя они оба все время старались не говорить о нем.
Мария Гёргей рассказала, что Трансильвания утихла: стоило там появиться императорским войскам, как приверженцы Тёкёли один за другим покинули его. Трансильванское дворянство получило полное прощение, так как оно якобы действовало под влиянием воцарившегося в крае недовольства, которое «умел разжечь Тёкёли. Зато зачинщиков восстания, собравшихся под знамена Тёкёли из Венгрии, объявили бунтовщиками, в списках разыскиваемых числится теперь и Янош Гёргей. Оттого-то ему и пришлось переодеться в крестьянскую одежду и под видом обозника добираться до Ошдяна, где он месяца два скрывался у Дарвашей. Дарваш — свояк Марии, пользующийся покровительством наместника Пала Эстерхази, отправился в Буду, чтобы выпросить помилование Яношу, да еще и по сей день обивает там пороги. Хоть бы господь бог помог ему! Каталина известила Марию, что Янош находится у них в Ошдяне. Осенью Мария поехала туда и уговорила мужа перебраться на топорецкую мельницу, где она подготовила ему место у мельника Петера Галла, верного человека, умеющего держать язык за зубами. А тем временем Дарваш выхлопочет для Янеша скрепленную печатью императорскую грамоту о помиловании.
Матей обернулся с козел.
— Заезжать во двор?
Они были уже возле здания комитатской управы.
— Заезжай. Кто знает, сколько нам придется здесь пробыть! — сказал Гёргей и невольно вздохнул.
Сани проскрежетали полозьями по избитой брусчатке, часовой у ворот салютовал, как положено, — саблей наголо.
Вице-губернатор окликнул его по имени: «Власинко! Сбегай за комендантом. Пусть немедленно прибудет сюда ко мне», — сам же, выпрыгнув из санок, помог невестке сойти.
— Крепитесь, Маришка, — пожимая руку, шепнул он ей своим хрипловатым, но приятным, когда он хотел, приветливым голосом.
Мария не ответила. Фонарь, висевший под сводом ворот, бросал на ее лицо тусклый свет. Она была бледна и смотрела на Гёргея каким-то странным, печальным взглядом.
— Вы вся дрожите! — заметил вице-губернатор, почувствовав, как трепещет ее рука.
— Озябла, — пролепетала Мария. — Холодно.
— Сейчас придет комендант.
Но возвратившийся Власинко доложил, что коменданта управы нет дома.
— Найти, хоть из-под земли достать! Эй, стража! Позвать немедленно двух-трех стражников.
Стражники-гусары и тюремщик тотчас явились на зов.
— Разыщите в городе коменданта, — раздраженным тоном приказал вице-губернатор. — Живой или мертвый, но чтобы сейчас же был здесь. Ну, раз-два, мигом! А ты, Власинко, найди мне поскорее старшего надзирателя с ключами от всех камер.
В огромном здании управы поднялась суматоха. Захлопали двери, во дворе и на этажах вспыхнули и замелькали огни: по всему дому засновали люди с зажженными фонарями. Пронесся слух, что нежданно-негаданно прискакал вице-губернатор и, как видно, не в духе. Сама госпожа Гродковская, жена коменданта, вышла во двор как была, в хрустящем накрахмаленном переднике, с засученными рукавами, раскрасневшаяся у жаркой печи. Увидев грозного начальника ее супруга, она затараторила пронзительным голосом:
— Ой, ей-богу, не знаю, куда он запропастился! В один миг исчез. И вчера также к ужину не пришел. Мне это сразу не понравилось: что-то он недоброе замыслил; больно уж плутовская рожа у него была. Ведь прежде-то он всегда говорил мне, куда идет. Вчера вечером прибыл гонец, искали, искали моего Гродковского по всему городу — да так и не нашли. А как он домой заявился, я его давай допрашивать: где ты был? Не признается. Я ему: «Гродковский, говори начистоту! Если даже женщина тут замешана, прощу!» А он только что-то себе в бороду бормочет. Тут уж мне пришлось на него прикрикнуть: «Гродковский, сукин ты сын, смотри чтобы такого больше не повторялось!» А он, вишь, опять улетучился, как дым! И я от злости не знаю, что мне делать. Одно ясно: свернул он с пути истинного. Право слово, сударь, кончится это дело плохо: обрежу я кое-кому косы! Но для начала, ваше превосходительство, не мешало бы, чтобы и вы его немножко пристыдили. Для того я и излила вам свое горе!..
Госпожа Гродковская все говорила и говорила, но тут появился старший надзиратель с фонарем и ключами. Вице-губернатор еще издали закричал ему:
— Ну, что с заключенными, Балтазар?
— Ничего особенного, ваше превосходительство!
— Как? Совсем ничего? Очень хорошо. — Вице-губернатор облегченно вздохнул. — Все идет по-старому, не так ли?
— Будут какие-нибудь распоряжения?
— Здесь у вас сидит один новенький. Я хочу его немедленно видеть.
Балтазар задумался. A у нас сейчас нет новичков, ваше превосходительство. Когда он должен был поступить?
— В пятницу вечером.
— Ничего о нем не слышал. Господин комендант ничего мне не говорил.
Гёргей взволнованно начал застегивать свою меховую бекешу.
— Он наверняка тут. Вспомните получше!
— Не может быть, ваше превосходительство. Мне-то уж как не знать? Моя жена варит еду для арестантов.
— Осел! — перебил его вышедший из себя Гёргей и приказал: — Пришлите сюда Гергея Сабо.
— Его послали ловить разбойников. В Фаркашфалве церковь ограбили.
— А Гёбёйо где?
— При задержании злоумышленника в Топорце простыл, заболел воспалением легких и сейчас при смерти. Его вчера соборовали.
— Ага! Вот он знает. Быстрее бегите к нему, спросите, куда заперли арестованного, которого они с Гергеем Сабо привезли сюда в пятницу. Не давайте ему умереть, пока не скажет!
Балтазар помчался во весь дух, быстрее иной гончей, несмотря на то, что был обременен брюшком, которое он отрастил, хотя и жил на арестантских харчах (а может быть, именно поэтому).
Госпожа Гёргей, услышав все это, едва устояла на ногах. Пав окончательно духом, она прижалась головой к колонне, крепко ухватившись за перила крыльца. Чаша переполнилась. И смиренный голубь порой начинает клевать обидчика.
— Безбожные язычники! — вскричала госпожа Гёргей. — Что же у вас здесь творится? Живодер и тот знает, в какую клетку он запер пойманную собаку. Какой позор! Комитатская управа здесь или бандитский притон?
Гёргей прикусил губу. Если бы сейчас на него рухнуло здание управы, ему, пожалуй, было бы не так тяжело, как вытерпеть град этих упреков, и он надвинул на уши свою смушковую шапку, чтобы больше не слышать Марию: ведь женщины по мере того как их покидают физические и душевные силы становятся все смелее в своих речах.
Многое готов был снести Гёргей, но не такие укоры. Он предпочел удалиться в глубину двора и шагал взад и вперед под хлопьями снегопада, ожидая возвращения тюремщика.
На его счастье, запыхавшийся Балтазар вскоре вернулся и доложил, что арестованного из Топорца заперли на втором этаже в пустовавшую камеру рядом с архивом, где в старину держали орудия пыток.
— Наконец-то! — с облегчением вздохнул вице-губернатор. Однако теперь предстояло еще найти ключ от этой камеры. Балтазар помчался к жене коменданта, у которой в большой корзине хранились ключи от всех пустовавших камер и помещений. К каждому из ключей была привязана деревянная табличка, а на ней номер и назначение комнаты. Роясь среди ключей, тюремщик успел рассказать комендантше, что застал Андраша Гёбёйо без сознания и совсем уже при смерти. Когда он задал ему вопрос, жена Андраша даже посоветовала: «Догоняйте его на том свете». — «Э, нет, — возразил я, — не во мне дело, господин вице-губернатор приказал». Только я вымолвил эти слова, смерть сразу выпустила Андраша Гёбёйо из своих когтей. Открыл Андраш глаза и все как есть толком рассказал. «Ей-богу, теперь, он уже не умрет, потому как смерть, заслышав имя господина вице-губернатора, сама со страху через трубу улетела», — заключил тюремщик свой рассказ.
Госпожа Гёргей тем временем попросила деверя приготовить для нее питьевой воды и щепотку соли.
— А это еще зачем? — удивился вице-губернатор. — Пойди, Власинко, принеси кружку воды и пригоршню соли.
— Чтобы под руками все это было, — жалобно проговорила невестка. — Ведь, если он жив (тут она уже не выдержала и расплакалась)… самое лучшее дать ему сначала попить немножко соленой воды, а затем — слабого вина.
— Не плачьте, Мария! Возьмите себя в руки. Ведь эти люди не должны знать, о ком идет речь.
Власинко вернулся с водой и солью, а Балтазар с сообщением, что ключа на месте нет.
— Тогда ломайте дверь! Пришлите сюда несколько человек поздоровее. Пусть захватят с собой топор, лом! — приказал вице-губернатор, а сам, поддерживая невестку под руку, пошел вверх по лестницам. Балтазар с кружкой воды в руке и фонарем побежал впереди них.
Гулко отдавались шаги, гудели под ногами кирпичи, которыми был выложен пол в коридорах. По стенам и потолку поползли гигантские тени пришельцев. Когда процессия миновала квартиру комитатского секретаря и свернула в поперечный коридор, над их головами заметались омерзительные летучие мыши. В кладовых и шкафах, выстроившихся по обеим стенам коридора, резвились мыши, из всех этих вместилищ, где хранились старинные рукописи и документы о тяжбах и преступлениях давным-давно умерших людей, тянуло затхлым и плесенью. В одном из шкафов жалобно мяукала кошка. Несчастная забралась, вероятно, через открытую дверцу поохотиться на мышей, а сильный ветер, поднявшийся к вечеру, захлопнул дверцу, и она не смогла выбраться на волю.
— Где-то кошечка застряла! — промолвила госпожа Гёргей. Ее мягкое сердечко оставалось жалостливым даже в такую тяжкую минуту.
Но Пал Гёргей, ничего не отвечая, следовал за тюремщиком, который уже дожидался их у последней двери.
— Вот здесь! — негромко проговорил тюремщик. — Это точно.
Все трое остановились. Остальные еще были внизу, собирали инструменты. Наступила глубокая, прямо гробовая, тишина. Гёргей слышал, как стучит его сердце. Он так спешил сюда, а теперь, в решительный миг, побледнел и не вмел сделать последний шаг, готов был убежать прочь! Что-то ждет их там, за дверью?
— Как ты думаешь, Балтазар, очень крепка дверь-то? — прозвучал несмелый и такой жалобный голос, словно спрашивал ребенок, а не вице-губернатор Сепеша.
— Дубовая, — просто отвечал тюремщик. Он поставил фонарь на пол. Кружку с водой приняла от него госпожа Гёргей.
— А ну, попробуем! — сам себе сказал Балтазар, поплевал в ладони и могучим плечом навалился на дверь.
Госпожа Гёргей и вице-губернатор с замиранием сердца следили за попытками силача, ожидая его выводов (Балтазар по скрипу двери думал определить ее прочность). Но вместо скрипа они услышали только крик «ой», да увидели балтазаровы ноги, мелькнувшие в воздухе, — он влетел в комнату и во всю длину растянулся на полу, ибо дверь мгновенно, и без всякого сопротивления, распахнулась.
В глубине комнаты брезжил слабый свет. Приветливо гудел огонь в печурке. На ближнем к двери конце стола весело — поблескивала фляжка с вином, рядом с нею лежал витой калач и початый окорок. На другом конце сидели друг против друга двое мужчин и играли, по всей видимости, в кости или в «мельницу»; потревоженные неожиданным шумом, они недовольно вскочили… Одного из них вице-губернатор узнал без труда: комендант Гродковский. Другого же, здоровенного, как бык, тотчас же признала госпожа Гёргей. Это был ее законный супруг, Янош Гёргей.
Однако он настолько изменил свою внешность, что вице-губернатор изумился, увидев, как его невестка подбегает к какому-то незнакомому мужчине и бросается ему на шею.
— Значит, не умер! Жив?
— Ну, конечно!
Янош Гёргей весело обнял свою подругу жизни, на радостях даже слегка приподнял ее в воздух, а затем обвел всех живым взглядом, в котором так и сквозила ирония.
— Да нет, как же мне умереть! Перебиваюсь вот на горьком хлебе каторжника, — шутливо пожаловался он, взяв со стола лежавшую на листе бумаги жирную пышку, сунул ее в рот, быстро разжевал и запил вином из фляжки.
— Чего только не способен вынести человек! — заметил он. — Но как же ты очутилась здесь, голубка моя? Не так уж ты молода, чтобы бегать за мужем по следу. Вот не дают покоя человеку!
Вице-губернатор, стоявший в течение всего этого диалога позади, лишь теперь узнал по голосу старшего брата и в тот же миг снова обрел душевное равновесие, а вместе с ним и свою начальственную важность.
— Вставай, Балтазар, и убирайся прочь! Я ведь уже сказал тебе, что ты осел! Вздумал вышибить дверь плечом, вместо того чтобы попросту отворить ее. Ведь она была не заперта! Жаль, что ты не сломал себе парочку ребер! Был бы впредь умнее.
Только после того, как тюремщик исчез из камеры, вице-губернатор выступил вперед, в освещенное слабым светом пространство.
— Добрый вечер, братец!
Можете себе представить, сколько было радости после таких страхов, сколько объяснений, извинений.
Вернее, пока что один только комендант объяснил свое вмешательство. Третьего дня вечером, когда господин вице-губернатор уже уехал в Гёргё, его позвал к себе тяжело захворавший гайдук и попросил послать за священником. Он, Гродковский, решил сначала сам поговорить с гайдуком, поскольку погода мерзкая, а священник живет далеко. Спрашивает он больного: «Может, тебе, сынок, вместо попа, бутылочку старого винца прислать?» А тот только головой покачал, — значит, у бедняги действительно разум уже помутился. Ну, что же, если требуешь попа, будет тебе поп! Но в одной из своих тайн гайдук пожелал исповедаться еще до прихода священника ему, Гродковскому, и рассказал, что прошлой ночью они с дружком привезли в Лёче арестанта и по приказу вице-губернатора заперли его в старую камеру с орудиями пыток; арестант, мол, два дня ничего не ел, и он, Гёбёйо, не может унести эту тайну с собой, на тот свет…
— Правильно поступили, Гродковский! — похвалил коменданта вице-губернатор. — Я упустил, а вы наверстали. Теперь мой черед исправлять и ваше упущение, но, боюсь, мне это не удастся. — Гёргей рассмеялся, может быть, впервые за много дней. — Речь идет о вашей супруге. Очень она гневается на вас за ваше таинственное отсутствие, ведь вас дома не было ни вчера, ни сегодня. Так что уж сами подумайте, как вам исправить дело.
Это шутливое замечание явилось вместе с тем и вежливым намеком на то, что семейство Гёргеев хотело бы остаться в своем кругу, без посторонних.
Итак Гродковский удалился, а тогда последовали такие веселые и светлые минуты, какие жизнь редко дарит человеку. Честное слово, иногда стоит попасть в беду ради того, чтобы, выбравшись из нее, испытать подобную радость. Все трое наперебой говорили, спрашивали, отвечали, возмущались и хохотали.
— Так за что, ты говоришь, велел меня схватить, негодник? Пал рассказывал, а Янош просто живот надорвал от хохота.
— Ай-ай-ай, деверь! Вот ты как думаешь обо мне! — поддразнивала Гёргея невестка, а Янош, плутовато подмигивая, приговаривал:
— Да мало ли что бывает с ветреными молодушками! Хе-хе-хе!
Они перебрасывались шутками, но то были стрелы, смазанные медом, которые могут только щекотать, а не ранить.
Право же, они покинули тюремную камеру нехотя и до конца дней своих все трое вспоминали о ней, как о самом милом уголке. Вице-губернатор почел благоразумным, чтобы Янош до получения амнистии поселился в Гёргё: там его меньше, чем где бы то ни было, станут разыскивать императорские ищейки, — им и в голову не придет, что Янош способен совершить такую неосторожность: прятаться в доме своего родного брата. В критические моменты верх хитрости — отказ от всякой хитрости.
Из опасения что ужин тетушки Марьяк перепреет на огне, пора было собираться домой. Однако кучер Матей, известный своей болтливостью, не годился для поездки с Яношем. Куда нужнее кучера был его овчинный тулуп: бекеша подручного мельника, в которую одет был арестант Янош Гёргей, вряд ли могла защитить его от крепкого мороза.
Поэтому вице-губернатор, желая убить разом двух зайцев, сам спустился к воротам, очистил путь, разогнав глазевшую челядь, и заодно отдал приказ стоявшему на часах Власинко:
— Проводи моего кучера к коменданту. Пусть хозяйка накормит его ужином и определит на ночлег. А утром комендант, даст ему какого-нибудь коня из верховых гусарских, и Матей доберется до Гёргё.
Теперь чета Гёргеев могла без свидетелей сесть в сани, а вице-губернатор, закутавшись в овчинный тулуп, взобрался на козлы править лошадьми.
Матею пришлось по душе распоряжение барина насчет ужина, одного он только не мог понять (и что за чертовщину они там задумали?) — почему у него отняли тулуп. Но позже он пожалел обо всей этой затее: никакого ужина он не получил, ибо из квартиры коменданта все время доносились воинственные звуки: звенели горшки и тарелки, будто кто их швырял на пол, трещала мебель, словно в комнате шла потасовка, и лишь иногда, среди адского шума можно было разобрать пронзительный женский голос: «Ну, погоди, Гродковский! Дознаюсь я, где ты шляешься. Отчего твоя одежда женской помадой пахнет? У-у, бродяга! И не оправдывайся, не ссылайся на вице-губернатора, он такой же плут, как и ты! Делами был занят? Тогда скажи, что это за дела? Ух, ей-богу, выцарапаю бесстыжие твои глаза!»
— Если хочешь, братец Матей, сам иди туда! — сказал Власинко кучеру. — А я ни за какие сокровища не полезу в это тигриное логово.
Матей тоже не посмел войти в квартиру Гродковских; шагая взад и вперед перед дверью, он дрожал от холода и жалел то самого себя, то бедного коменданта Гродковского.
А я, дорогой читатель, считаю беду, случившуюся с Матеем, самым обычным делом: в какую бы историю ни впутались большие господа, шишки все равно сыплются на простой люд. Вот и теперь судьбою была назначена голодовка Яношу Гёргею, а упреки за это — Палу Гёргею. На деле поголодать пришлось кучеру Матею, а терпеть укоры — Гродковскому. Так всегда было, да, вероятно, так и будет.
Пожалел Матея часовой Власинко. Сменившись с поста, он пригласил его с собой в трактир «Серебряный олень», где за несколько грошей трактирщик угостил их превосходным холодцом и подал доброго вина. После этого кучер окончательно примирился бы со своей судьбою, если бы не тулуп. И зачем понадобился господам его мохнатый тулуп?
— Не ломай понапрасну голову, малый! — назидал его Власинко. — Нет в господских головах такого окошечка, чтобы мы в него заглянуть могли.
Куда хуже оказалась участь Гродковского! Почти до полуночи в его доме длилась баталия, а затем, едва буря улеглась, то есть остановился язык его благоверной, и бедняга комендант смог, наконец, приклонить на подушку голову, во двор комитатской управы влетел всадник и принялся барабанить в двери комендантской квартиры.
Комендантша проснулась и снова принялась за свое, Михай же Гродковский сунул ноги в валенки, разбудил служанку и послал ее спросить: кто там стучит и чего ему надо?
— Письмо из Гёргё! — отвечал голос за дверью. Служанка принесла письмо, написанное незнакомой рукой на имя «благородного и славного господина Гродковского» с пометкой «весьма срочно».
Комендант поспешил вскрыть пакет и при свете ночника на кухне прочел:
«Милостивый государь, господин комендант Гродковский! Приношу самое искреннее извинение за то, что потревожила вас, но я знаю вас как доброго христианина, сердобольного даже к неразумной твари, а потому обращаюсь к вам с покорнейшей просьбой: потрудитесь, пожалуйста, выпустить на свободу кошку, неизвестно каким образом и когда угодившую в один из шкафов в том коридоре, который вел к темнице моего мужа; бедное животное, создание божие, само выйти не сможет и обречено на голодную смерть.
Писано сего дня, 21 ноября, в Гёргё. Да хранит Вас господь.
Мария Яноки-Гёргей.»— Черт бы побрал эту кошку! — рассвирепел Гродковский, на тысячи клочков разрывая письмо, в котором стояло неосторожное выражение «темница моего мужа». Однако после этого он все же оделся и поднялся на второй этаж выпустить злополучную кошку, думая по пути: какие только глупости могут прийти в голову женщине! И, право, черт их разберет, какая хуже: ядовитая змея — вроде его собственной жены, или голубка с мягким сердцем — вроде госпожи Марии Гёргей.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ, в которой автор мимоходом затрагивает кое-какие политические вопросы
Император Леопольд * не принадлежал к числу литературно одаренных людей, однако изгнал он Тёкёли из Трансильвании с помощью литературного стиля. Одной-единственной прокламации, написанной весьма красиво и в дружественном духе, оказалось достаточно, чтобы приверженцы Тёкёли покинули этого короля куруцев. Старая история! Крысы убежали с идущего ко дну корабля. Убежали потому, что дальнейшая борьба не сулила им ничего хорошего, а императорская прокламация обещала прощение всем, в чьем деле «нет каких-либо отягчающих обстоятельств».
Зато Яношу Гёргею не очень понравился стиль прокламации, тем более что Караффа * еще летом (уже и тогда у куруцев дела были плохи) передал через одного пленного, чтобы Янош Гёргей получше разглядывал свою голову в зеркале, а то скоро ему придется с нею расстаться. Из таких намеков Янош Гёргей понял, что в его деле имеются «отягчающие обстоятельства», а поэтому еще до окончательного развала армии повстанцев он, переодевшись обозником, бежал к себе домой. По дороге Гёргей узнал, что действительно его внесли в список «подлежащих удалению». А это означало, что либо его отправят «в места, не столь отдаленные», либо в такие далекие, что, хотя попы и восхваляют их, христиане стремятся попасть туда как можно позднее, и притом без помощи императора.
Пал Гёргей пришел в ужас, поняв, какими последствиями, начиная смертью от голода, грозил его необдуманный поступок старшему брату, если бы беднягу Яноша, например, опознал кто-нибудь, когда копейщики везли его из Топорца или проболтался бы Гродковский. В душе его словно что-то надломилось, (ломанные кости поручают врачевать костоправу, за исцелением душевных надломов обращаются к господу богу. Так и Гёргей-младший впал вдруг в набожность. «Почему так все случилось? — вопрошал он себя и сам же отвечал: — Потому, что я был малодушен, поверил подозрению, счел его неопровержимым! А судьба вмешалась и так повернула все мои действия, что они едва не привели к страшному исходу. Уж нет ли тут сознательной цели, небесного промысла, который собственной рукой направляет наши судьбы? Уж не знамение ли это? Провидение говорит мне: "Смотри, Гёргей, гонишься ты за призраком, а видишь, к чему это приводит? Избавься от подозрения, преследующего тебя!"».
«Перст божий!» — решил Пал. Вернувшись в Гёргё, он разместил гостей в пустовавшей части дома, решив, что отныне дозволит входить туда одной только экономке Марьяк; сам же он направился в комнату жены, где со дня ее кончины все сохранялось в неприкосновенности, и, встав перед портретом молодой красивой женщины, торжественно, но не вслух, а лишь мысленно произнес следующие слова: «Видишь, Каролина, что сталось со мной? Я очень несчастен. Не знаю, с тобою ли сейчас наша дочурка или она здесь, на земле. Но я и не хочу этого знать, буду думать, что она со мной, и воспитаю ее. Верю, со мной она! Стократ повторю: верю! А ты не сердись на меня за мои сомнения. На твоих глазах вырываю я их из души своей, будто занозу из тела. Клянусь богом!»
И ему стало легче. Совсем переменился Пал Гёргей. Чувствуя, как он был несправедлив к семейству брата, он теперь мечтал совершить какой-нибудь благородный поступок, которым ему удастся искупить свою вину. (Природная доброта не заглохла в нем.) Ему даже хотелось, например, чтобы императорские ищейки все-таки явились в Гёргё, а он, Пал Гёргей, разогнал бы жандармов и переправил бы Яноша через границу, в Польшу. Словом, спас бы брата, пусть даже ценой собственной жизни!
Увы, такого подвига и не понадобилось, потому что не успели Янош и его супруга пробыть у Пала Гёргея и трех дней (какие великолепные обеды стряпала в эти дни тетушка Марьяк!), как прискакал гонец от Дарваша: не застав Марии в Топорце, он привез в Гёргё грамоту с императорской печатью о помиловании Яноша.
Мария ликовала, а Янош Гёргей сначала несколько раз перечитал грамоту — нет ли тут какой-нибудь reservatio meatalis[9] — и весьма флегматично отнесся к дарованной ему свободе.
— А ты даже не радуешься! — упрекала мужа Мария.
— Да, конечно, счастье! — грустно отозвался Янош. — Я напоминаю человека, которому, переломали все ребра и выбросили на лужайку. А он, найдя в траве клевер с четырьмя листочками, радостно восклицает: «Ах, какое счастье!»
— Лучше помилование, чем суд и расправа.
— Не знаю я теперь, кто я такой! — задумчиво возразил Янош Гёргей. — До сих пор я был беглым куруцем, но зато знал, кто я. В конце концов и затравленный волк знает, кто он. А вот кто теперь я?
— Ну и кто же ты теперь?
— Считается, что я свободный венгерский дворянин. Но, право, не знаю, кто я на самом деле, и боюсь, что не смогу смириться с этим. Прежнее мое положение было, по крайней мере, истинным, а нынешнее…
— Так что же ты собираешься делать? — полюбопытствовал Пал.
— Пока ничего. Вернее, пока я хочу вот скинуть с себя эту-бекешу подручного мельника. Найдется у тебя какое-нибудь платье для меня?
— Нет; этого я не позволю тебе сделать! — запротестовала госпожа Гёргей. — Ты вернешься со мною в Топорц в таком виде, как сейчас. Пусть все дворовые посмотрят, что за мельник ходил ко мне по ночам.
— Мария права. А потому никакого платья я тебе не дам. Зато дам совет: не впутывайся ты больше в подобные дела, ведь сколько веревочке не виться, а кончику быть.
— Вы чистую правду говорите, деверь! Словно в моем сердце читаете.
— Стойкости недостает нынешнему поколению, — продолжал Пал. — Начинать с ним великие дела можно, а довести их до конца нельзя. Потому и тщетны все ваши усилия.
— Я и сам это вижу, — сказал со вздохом Янош, и каждое его слово было проникнуто горечью. — Но за меня не бойтесь: я перебесился и успокоился. Теперь и шестеркой волов не вытянуть меня со двора.
— Э, нет! — запротестовал вице-губернатор. — Погоди, сейчас я отвечу.
С этими словами Пал Гёргей удалился в кабинет, а возвратись четверть часа спустя, протянул Яношу исписанный лист бумаги. Янош, держа письмо далеко от глаз (должно быть, у него зрение начало слабеть), пробежал первые строки.
— Так ведь бумага адресована не мне, а губернатору графу Чаки! О чем ты пишешь?
— Заявляю о своей отставке с поста вице-губернатора. Ты вернулся, и я возвращаю тебе твою должность. Я только временно замещал тебя.
Янош Гёргей прочитал заявление до конца, а затем разорвал его на несколько частей.
— Спасибо, брат, но я больше не собираюсь вмешиваться в дела нынешнего мира. Не хватало еще, чтобы я помогал императору выколачивать налоги, закрывать лютеранские церкви и тому подобное. Нет, лучше уж я поселюсь в Топорце и буду вести тихую жизнь. Точка.
Мария нежно склонила голову на его плечо.
— Да благословит господь твое намерение, милый мой супруг. Аминь! — благодарно и ласково промолвила она.
— И что же ты собираешься делать в Топорце? — допытывался у брата Пал Гёргей.
— Сажать деревья.
— На это уйдет один день в году.
— Уничтожать на них гусениц.
— Еще несколько дней. А остальные триста? Чем ты заполнишь их?
— Буду ждать, — задумчиво проговорил Янош, — пока подрастет мальчик.
— О, мальчик наш быстро растет! — вставила Мария Гёргей. — Я совсем забыла сказать тебе, что как раз в пятницу, когда тебя схватили, я получила от него письмо.
— Письмо? — удивился Янош Гёргей. — О каком мальчике ты говоришь?
— О каком же еще — о нашем Дюри, конечно! Пишет, что оба костюма ему уже малы. Я думаю, не купить ли нам в Лёче несколько локтей сукна для мальчика. Оно здесь кстати и дешевле, чем у нас в Кешмарке.
— Ах, да! Конечно, — сообразил Янош, и в голосе его зазвучали нотки отцовской нежности. — Ты все о Дюри думаешь. А я, глупец, даже и не вспомнил о нем.
— О каком же еще мальчике ты упомянул? Глаза Яноша засверкали.
— О приемном сыне Тёкёли, о маленьком Ракоци! *
Незаметно для брата Пал Гёргей переглянулся с невесткой и сквозь зубы процедил:
— Неисправим!
Янош Гёргей, хоть и не сознавался в этом, рад был императорской грамоте о помиловании. Недаром же он вдруг заторопился домой. Сразу же там нашлось у него множество неотложных дел, и Пал Гёргей только головой покачивал: «А что, если бы тебе пришлось отсиживаться у меня всю зиму?»
Марии тоже хотелось поскорее отправиться домой, и вдвоем супруги придумали такую тьму предлогов, что удержать ни того, ни другого было просто невозможно, — сразу же после обеда они укатили.
Когда Янош с женой уже сидели в санках, Пал Гёргей еще раз повторил свое предложение:
— Подумай, брат, и если появится у тебя желание снова сесть в вице-губернаторское кресло, — только знак подай.
— Ах, к черту эти твои планы! — сердито отмахнулся Янош, чтобы за напускным гневом скрыть, как его растрогала заботливость брата. — Вице-губернаторское кресло я сам тебе отдал, можешь его не возвращать. А уж если хочешь сделать нам что-нибудь по-настоящему приятное, верни то, что ты у нас отнял.
— Что именно?
— Нашу маленькую Розалию. Но об этом мы еще поговорим.
— Вашу Розалию? — пробормотал Пал, нахмурив лоб, и сердце его болезненно сжалось.
Санки тронулись, выехали за ворота, а Пал Гёргей, словно окаменев, все еще стоял посреди двора, держа в руках шапку, которую снял, чтобы помахать ею вслед уезжающим, да так и забыл снова надеть, несмотря на лютый холод.
— Значит, все-таки… — проговорил он и тут же схватился за голову, вспомнив слова своего обета: «…вырываю я из души своей сомнение, как занозу из тела». Но удастся ли ему вырвать занозу из души — из больной души, — с такой же легкостью, как из здорового тела?..
После этого дня братья лишь изредка встречались друг с другом. Янош Гёргей не ездил даже на заседания комитатского дворянского собрания, а свой интерес к политике удовлетворял, не выходя за ворота дома. Газет, правда, тогда еще не было, зато были соседи из окрестных поместий. Они-то и привозили политические новости.
Увы, радостного в этих новостях было немного! С падением будайской крепости силы турецкого полумесяца ослабели. Христиане в Венгрии ликовали. Глупцы! Ведь для их страны, самой несчастной изо всех стран на свете, единственной опорой был враг. (Это может случиться лишь с нами, венграми!) Прогнав турок из Буды, наши предки испугались:
— Что же теперь с нами будет, без турок-то?
До сих пор Вена заигрывала с венграми, потому что боялась, как бы они не ухватились за полы турецкого кафтана, а турки всегда были готовы насолить немцам. Э, что ни говорите, но турки были нужны нам для политики, как хозяйке соль — для стряпни.
Но если бы только в турках дело (хотя, как я уже сказал, турок был нужен для дома!), а то ведь едва Янош Гёргей пригрелся в родном гнезде, как пошли слухи, что император не утвердил сына Апафи владетельным князем * и якобы сказал при этом: «К чему Трансильвании эти игрушки?»
Значит, не будет больше «малой родины», где прежде венгр всегда мог найти приют, если на «большой родине» ему вдруг приходилось туго, * и откуда он всегда мог затем нанести немцу ответный удар. Навязав нам на шею австрийских императоров, господь бог как бы в противовес им сажал беспокойных маленьких князьков на трансильванский трон. А теперь вот их больше не будет. О, император Леопольд знал, что делает! А вот что будем теперь делать мы, венгры, никто не знает.
Наиболее горячие головы (в особенности дворяне вокруг Кешмарка) надеялись: взойдет еще звезда Тёкёли. Но, увы! Счастливая звезда — не восковая свеча, погаснет — снова ее не зажжешь. Да и сам Тёкёли — выжатый лимон, никому он больше не нужен.
Воюющие стороны заключили Карловицкий мир, поделили между собою, что могли, а о Тёкёли в мирном договоре не обмолвились ни словом. Всесильный Маврокордато, к которому Тёкёли, напомнив о своих заслугах в прошлом, обратился с просьбой поддержать его претензии перед великими державами, ответил:
— Прошлое не ворошите, будущее поручите богу, а сами лучше подумайте о настоящем.
Ответ австрийского дипломата облетел все дворянские гнезда — и те, что лепились под драночными кровлями, и те, что защищены были крепостными стенами, и нигде Маврокордато не поминали добрым словом. Вот уж, должно быть, икалось бедняге!
— Сказано это князю Тёкёли, — говорили огорченные дворяне, — но адресовано всем венграм!
Так изо дня в день все глубже погрязала Венгрия в трясине беспомощности. Была у нее конституция *, но никто с ней больше не считался. Был наместник — посредник между венгерским народом и императором, но он предпочитал молчать — и в тех случаях когда ему следовало обратиться к народу, и когда надлежало воззвать к императору. Было Государственное собрание, но сидевшие в Вене правители ни о чем его не спрашивали и поступали, как хотели. Бедное Государственное собрание! Подобно кукле, оно могло говорить только, когда его заводили.
В Вене кардинал Колонич уже изложил свою программу; «Сделать Венгрию сначала подневольной, затем нищей и наконец — католической». * Однако правители в Вене не были педантами и не слишком строго соблюдали очередность в выполнении пунктов этой программы. Прежде всего они стали обращать венгров-протестантов в католиков, а затем уже в нищих и в рабов.
Хуже всех пришлось протестантам. Было чем возмущаться и Яношу Гёргею. Как к главному покровителю лютеранства, к нему, что ни день, стекались жалобы: то там, то здесь у лютеран отнимали храмы. Однако и католикам было не слаще: правда, отнятые у лютеран церкви передали им, но ведь во главе епархий, монастырей, церковных судов и самых богатых приходов были поставлены не венгры, а иноземцы. Будто стая воронья, с карканьем кружились вокруг Бурга * выскочки-попы, подопечные иезуитов, ожидающие теплых местечек в Венгрии. Войско, не получавшее достаточного жалования, позабыв всякую дисциплину, разбилось на банды, и те бродили по стране, грабили народ. Солдаты лишь отчасти придерживались программы Колонича: они делали нищими всех венгров подряд, невзирая на их вероисповедание. Императорский двор, не спрашивая согласия Государственного собрания, придумывал и вводил все новые и новые налоги с комитатов и дворян. Тут уж и наместник не выдержал, — заговорил, но наместнику быстро заткнули рот, пожаловав ему герцогский титул. На суды тоже оказывали давление сверху: судьям намекали, что двору будет приятно, если суд, разбирая тяжбы, станет делать некоторую разницу между сторонами, в зависимости от их политической позиции и религиозных верований. И вот протестанты, даже будучи правыми, могли выиграть процесс, только хорошо заплатив судье. (А если плата была очень высокой, то они могли выиграть тяжбу и не будучи правыми.) Но затем пришлось и католикам, если они хотели добиться правды, давать судьям взятки.
Словом, все сильнее и сильнее тучи заволакивали небо над Венгрией. Тучи, тучи, сплошные тучи. Обычно тучи рождают молнии. Эти же тучи проливали лишь слезы народные. Простой народ и мелкое дворянство были охвачены недовольством; только аристократия делала вид, что ей все безразлично.
А власти становились все наглее: отдали в залог некоему немецкому ордену Ясс-Кунский край, заложили городу Грацу владения Франгепанов на Адриатике. Тут уж и аристократы зашевелились. Безобразие! Имения, оставшиеся без хозяев, положено, мол, делить среди остальных магнатов, а не закладывать их за долги! Разве это благородно? Раньше, если предки его императорского величества и рубили магнатам головы, выгоды от этого получали остальные аристократы, а не императорская фамилия. Нет, этого дальше терпеть нельзя!
Можно было бы еще долго перечислять подобные обиды, но мы доведем наш перечень лишь до того времени, когда, наконец, рассердились и венгерские магнаты. (А до той поры многие из них спали и видели, как они удят рыбку, сидя на собственном берегу Адриатики, где-нибудь у Карнеро.)
Словом, чаша переполнилась, еще капля — и она прольется. В тех краях, о которых мы повествуем, оракулом горячих голов был Янош Гёргей. Но пока что он скорее удерживал их, чем толкал на выступления.
— Погодите, потерпите! Мальчику еще только шестнадцать лет.
При каждой новой обиде Янош Гёргей принимался подсчитывать:
«Теперь ему уже семнадцатый пошел… Вот и восемнадцать минуло… Погодите, потерпите».
И что бы ни случилось на грешной земле, каждый венгр обращал теперь свой полный любви и упования взор к Вене, как правоверный мусульманин — к Мекке. Из Вены шли тучи, но оттуда — ждали люди — сверкнет и молния, подобно тому как мессия должен прийти на землю из ада.
О, как мечтали о нем в красивых дворянских особняках с колоннадой вокруг крыльца. Каков он, интересно, сейчас? Наверное, уже большой! Черные у него глаза или голубые? Взрослые, солидные люди — председатели судов — не раз до хрипоты спорили об этом. На кого похож: на мать или на отца? Хорошо, если бы на мать! Что, интересно, поделывает он в этот час? Наверное, скачет на горячем коне по венскому лесу в шапке, украшенной соколиными перьями, в накидке из золотой парчи, в желтых сафьяновых сапожках. Скачет юноша, а все думы его — о родине.
А старые князь и княгиня? Ох, уж эти старики! Доходят весточки и от них, из-за дальних морей, из Никомедии, где они коротают свой век. Туда и птица-то не долетит, а все же как-то доходят вести: князя Тёкёли мучит подагра, княгиня уже поседела, но все еще хороша собой. Люди, которым когда-то и в десяти замках было тесно, уместились в небольшом домике в Джидек Майдане и спокойно живут там. Джидек Майдан (тогда это название известно было любому венгерскому дворянину лучше, чем название соседнего села) означает по-турецки «Цветущее поле»… Возможно, что так оно и есть, только цветы там все азиатские, и нет среди них ни венгерской герани, ни розмарина.
Надеются ли они еще? О, конечно! Наверняка ждут не дождутся, когда подрастет их сын. Ведь сказал же князь одному заезжему лублойскому виноторговцу, что серебряную свадьбу он собирается отпраздновать в Мункаче. («Ну, в день этой свадьбы напьюсь и я порядком!» — грозились все сепешские старики.)
К сожалению, все эти надежды рухнули с появлением в Сепешском краю герцога Михая Апафи, которого как-то черт принес туда поохотиться. Вернее, принес его не черт, а Шамуэль Ролли, соперничавший с Петером Луженским. Однажды Луженский пригласил к себе на охоту какого-то графа (ради которого гостям надлежало являться к обеду и ужину только в черных костюмах). Тщеславный Шамуэль Ролли, желая превзойти Луженского, подцепил себе в Вене герцога. (Пусть, думал он, теперь Луженский лопнет от зависти.) Герцог же оказался не кем иным, как сыном старого Михая Апафи, из которого так и не получился «Михай Апафи II», потому что император вызвал его к себе в Вену, пожаловал титул герцога и успешно воспитал из него шалопая. Бедной Трансильвании не довелось лицезреть отца этого герцога в трезвом виде, но обычно он бывал «вполпьяна», как говорил Тёкёли, то есть начинал пить с полудня и невменяем был лишь половину дня, зато сынок его пьянствовал в полную меру и напивался в стельку уже с утра. Да и в нравственном отношении он был существом вполне разложившимся.
Недели две герцог Апафи болтался в доме Ролли и надоел всем вконец. Но именно он и приехавшие с ним венские забулдыги и привезли в Сепеш слух, что опекун Ракоци, кардинал Колонич, готовит его в попы. Одновременно стали известны и некоторые другие подробности о склонностях, привычках и поведении юноши: они-то и поколебали надежды куруцев на молодого Ракоци.
Только Янош Гёргей не отступал ни на волос от своей веры.
— Чего не может быть, того не может быть. Отец у него — Ференц Ракоци, отчим — Имре Тёкёли, мать — Илона Зрини. Не может быть, чтобы на отличных лозах не родилось доброго винограда. Природа не могла допустить подобной нелепости.
— Я этого не утверждаю, братец, — оправдывался Адам Сентивани, — но разве не случалось вам пробовать вина, испорченного плохой бочкой? Когда вино отдает бочкой, пить его уже не хочется.
Янош Гёргей недовольно повертел головой:
— Гм!.. Так говорите, «плохой бочкой»?
— А вы что же, считаете Вену столь чистым сосудом, что там не может испортиться хорошее виноградное сусло?
— Но, но! — задумчиво проговорил Гёргей. Кто знает, что он хотел сказать этим своим «но-но». Одно было ясно, что упорный куруц все еще не думал сдаваться. Следующей весной Габору Шемшеи подвернулся случай по делам наведаться в Вену. А Шемшеи и Янош Гёргей были единомышленники, старые друзья и соратники. В Вене с помощью знатной родни Шемшеи как-то ухитрился добраться до молодого Ракоци; он хотел бросить на князя пристальный взгляд, остроту которого оттачивала затаенная мечта, взгляд человека, знающего, чего он ищет в юноше. Возвращаясь из Вены, Шемшеи проезжал через Топорц ночью, но не утерпел, постучался в окно гёргейского дома, и, когда Янош высунул голову посмотреть, кто и почему стучится, Шемшеи грустно сказал:
— Видел парня. Беседовал. Правду сказывали — не годится. Но Яношу Гёргею и этого оказалось недостаточно. Упрямство его не знало границ. Трудно было вбить что-нибудь новое в его толстый череп. Гневно скрежеща зубами при каждой новой обиде, он продолжал утешать себя:
— Не беда. Мальчику уже двадцатый год, В марте пойдет двадцать первый…
Копились обиды, но и годы шли своей чередой. По мере того как росло в стране недовольство, подрастал и Ференц Ракоци.
ГЛАВА ПЯТАЯ Саксонская хитрость
С того дня, как Галилей заявил, что Земля вертится, ее можно, и не впадая в поэтическую фантазию, считать живым существом. По крайней мере, это соответствует всеобщему закону: все, что движется, — живет. Земля и в самом деле живет, напоминая некоего многогорбого верблюда, на теле которого копошатся тысячи паразитов — людей, животных, червей. Впечатление, будто Земля не живет, обманчиво! Разве могло бы мертвое тело порождать жизнь? Нет, Земля живет: меняет свою форму, свой облик, потеет, вздрагивает во время землетрясений, погружается в спячку зимой, рычит чревом вулканов, питается сама и питает, как любая мать, свои чада; все, что роняют на Землю животные и растения, — ее корм, и, наоборот, все, что она исторгает из своих недр, — их корм. Отдых приносит ей новые силы, как всякому живому существу, а постоянный труд ослабляет. И все же мы никак не можем привыкнуть к мысли, что наша планета — живет. Лишь в одном отличается она от остальных живых существ: нет у нее супруга, не размножается она, а в печальном одиночестве вращается вокруг Солнца.
Однако потому и ценят ее, что она одна-единственная. Зато и любит каждый человек даже самую малую ее частичку (и чем больше у него этих частичек, тем сильнее он любит Землю). Отдельные (нередко преогромные) куски великой матушки-Земли люди, создания алчные и корыстолюбивые, записывают на свое имя; а вот животные — те пользуются всей землей сообща и, надо сказать, отлично уживаются на ней. Люди даже в своей любви к земле какие-то сумасшедшие. Медведь любит лес, серна — скалистые горы, дикая утка — болота, речки, журавль и дрофа — равнину, а ненасытный человек не хочет удовлетвориться какой-нибудь одной частью земли, он требует себе все и определяет цену отторгнутым кускам тела — своей святой матери в соответствии с установившейся модой, которая, в свою очередь, зиждется на корысти и жадности.
Для этого стоит только посмотреть, как селились в Венгрии наши предки. Вначале они выбрали себе горбы, то есть горы, чтобы возвести на них надежные замки. Затем взор их упал на долины, где зеленели тучные пастбища и струились реки, богатые рыбой. Еще позднее началось поклонение золотому пшеничному колосу, и волна стяжательства захлестнула Алфёльд — эту страну обетованную с молочными реками в кисельных берегах. Но оказалось, что есть вещи и подороже золотых колосьев. Ценно все, что земля дает человеку добровольно: пшеница, рожь и многое другое, но еще ценнее то, что она прячет, скрывает в своих недрах и что приходится отнимать у нее силой: например, каменный уголь. И тогда человеческая алчность устремляется в горную часть Венгрии. Так и мечется она из конца в конец страны, никогда не ведая покоя.
В давнюю же пору дело обстояло так, что Алфёльдская равнина еще никого особенно не интересовала. Плодородная земля Воеводины и Бекешского края еще не тревожила сладких снов земледельцев и помещиков. Алфёльд в большей своей части был болотистой местностью с опасными для человеческой жизни испарениями. Приезжие из чужих краев гибли от этих испарений. Не зря чужестранцы-путешественники в своих заметках называли Алфёльд — «Ворота погоста». От иноземных армий, проходивших через этот край, к концу пути оставалась только одна треть. Да противник и не решался вступать в его пределы. Болотные миазмы были великой силой, позволявшей венгерским королям охранять рубежи страны небольшими отрядами солдат. Итальянский ученый Ла Каттори по праву очевидца писал: «Трудно завоевать эту страну, потому что всякий, кому дорога жизнь, должен воздерживаться от проникновения в глубь ее территории. Удивительно, что сами венгры не погибают там, дыша тлетворным воздухом, однако и они держат чеснок под языком, пока не минуют опасные места».
Вот почему тогдашний земледелец, говоря о хороших угодьях, приводил в качестве примера не торонтальские, а римасомбатские земли, где за одно лето снимали по три укоса трав и где на берегах Римы вырастали кочаны капусты в ушат величиной. Затем шли жирные черноземы Нитры; о виноградниках Токая слагались и расходились по всей стране целые легенды; славился своими дынями Хевеш. Но все это не шло ни в какое сравнение с землями, лежавшими вокруг города Лёче. Ведь именно здесь родился самый вкусный и самый крупный в мире горох. На небольшом наделе земли лёченский саксонец мог нажить себе целое состояние. Вот это земля! Достаточно было иметь ее хотя бы столько, сколько хороший ходок обойдет за полдня. Да, пожалуй, хватило бы и того, что осилит и плохой ходок.
Горох был в те времена всемогущим владыкой, первым среди полезных растений. Для бедного жителя Верхней Венгрии он все равно что для китайца рис. Не уродились виноград или пшеница, их можно заменить чем-нибудь другим — сливовой водкой, хлебушком из овсяной муки, а вот без гороха бедному человеку на этом свете и жизнь не в жизнь. Нынче, разумеется, все это уже не так, потому что время одолело и такого властелина, как горох. Нашелся еще сильнее богатырь — картофель и оттеснил горох в разряд обычных огородных и полевых растений. И горох, и гречиху!
И не удивительно, что в пору наибольшего могущества царя-гороха в Лёче свирепствовал земельный голод. Бюргера, у которого не было близ города собственных пашен, не ставили ни в грош, пусть даже у него сундуки ломились от серебра и золота. И вся политика городских властей с давних времен строилась по одному правилу: приобрести для Лёче как можно больше земли, раздвигать границы его владений как только можно. И даже как нельзя! Бюргеры мечтали об этом из поколения в поколение, во сне и наяву. Но приобрести новые земли было нелегко, потому что все полезные угодья вокруг города принадлежали помещикам. У них можно было бы кое-что получить, но для этого надо было пойти к ним в услужение, а это ниже достоинства гордых лёченских горожан, раздобывавших у королей много всяких привилегий. Недаром тогдашний бургомистр малорослый Карой Крамлер однажды на совещании в ратуше (как видно, Король-Солнце заразил своим хвастовством всю Европу) сказал следующие слова, весьма точно выражавшие лёченское самодовольство: «Если говорить о высоком положении, то сразу же за венецианскими дворянами идут граждане Лёче». Открою вам по секрету, что сепешские дворяне очень обиделись на Крамлера за эти слова, и вице-губернатор Пал Гёргей на очередном заседании комитатского собрания так ответил на дерзкий выпад: «Надулась жаба, чтобы ростом стать с вола, да лопнула».
Маленький чайник быстрее закипает; бургомистр Лёче разгневался и через городского гайдука передал письмо вице-губернатору: «Волом не бывать ни жабе, ни псу, сидишь ты под сливой, а мнишь, что — в лесу». Пал Гёргей, очевидно, понял намек, потому что, как говорит летопись, велел растянуть гайдука, принесшего послание, прямо во дворе управы и влепить ему двадцать четыре батога. Два почтенных мужа постоянно грызлись между собой, словно кошка с собакой, — так проводили они уходящий семнадцатый век и встретили первый день нового, восемнадцатого столетия. Но поскольку знаменитый век оставил после себя для наступившего много и других неурядиц, то этой пустячной свары никто и не заметил. Люди одинаково хорошо веселились в новогодний вечер как в городе Лёче, так и в имении вице-губернатора в Гёргё, словно мир был устроен наилучшим образом и не было ни в чем недостатка, кроме того, что за столом не хватило пунша.
Проснувшись на следующее утро (разумеется, проснуться нужно было только тем, кто лег спать), люди вместо вчерашней неприглядной картины увидели заново побеленный, красивый мир: как видно, всю новогоднюю ночь шел снег. Поэтому жители города Лёче, счастливо избежавшие опасности, как бы первым встреченным в новом году человеком не оказалась женщина, прослушали утреннюю проповедь пастора Падолинци (надо отдать ему должное, в тот день он говорил особенно красиво), закусили после обедни, как положено, жареным поросенком, а потом самые заядлые охотники не могли устоять перед соблазном «проветриться», то есть побродить за городом с ружьем. Ну как им было не воспользоваться свежей порошей, неожиданно отдававшей в их руки диких обитателей леса!
Особенно плохо приходится в эту пору зайчишкам. Вот, право, удивительная несправедливость судьбы! Провидение сознательно одело косых в серые шубки — под цвет земли, чтобы, приникнув к ней, они сделались совсем незаметными. Это так называемая мимикрия. Божье указание природе, специально для защиты зайцев. А что делает природа? Вместо того чтобы окрасить землю под цвет их шубок, она вдруг перемалевывает все белилами. И бедняга-заяц становится отличной мишенью. Разве это милосердно? Справедливо? Вот и выходит, что божьи законы нарушаются не только здесь, на нашей грешной земле, ими пренебрегают и на небесах Да если бы еще природа сменила только одеяние земли, а то ведь, где бы ни пробежал бедный косой, на снегу остается кружево его следов, и охотник может преспокойно пуститься ему вдогонку. Будто шнурок протянулся по белой пелене, а на кончике шнурка обязательно привязан зайчик.
Вице-губернатор Пал Гёргей не любил шумных гонов: охота привлекала его не столько добычей, сколько возможностью побродить, побыть наедине с природой. Общение с нею освежало Гёргея, успокаивало. Он любил природу, как верующий — церковь, а то, пожалуй, даже сильнее: как влюбленный — женщину. Ему нравилось быть с нею наедине, потому что лишь с глазу на глаз природа открывает взору человека всю свою красу… Сразу же после полудня Пал Гёргей натянул на ноги свои юфтевые сапоги и один отправился в поле. Точнее, не один, — в сопровождении двух своих гайдуков, Престона и Пишты Ковача. Каждый нес по ружью: Ковач-заряженное пулей, на крупного зверя (Сепешский край изобиловал и волками, и дикими кабанами), Престон нес дробовик — вдруг представится случай подстрелить зайца или куропатку. А в общем-то два ружья брали на охоту для того, чтобы вице-губернатор мог при необходимости и дважды кряду стрелять по дичи (двуствольное ружье тогда еще не было изобретено). Ружья Гёргея были новейшей по тем временам конструкции, с кремневым курком. Горящий фитиль уже не употребляли, и порох воспламенялся от искры, высекаемой кремнем при ударе по стальному кресалу. Компанию довершала легавая собака Фитька, любимица Гёргея.
Охотники прошли сначала по проселочной дороге на Гаричи, а затем возле хижины углежогов повернули вдоль опушки леса Нагорье и Язарец в сторону лёченской границы. Следов было много, но дичи почему-то не попадалось. Можно было без труда различить, где пробежал зайчишка, где — волк, где — олень. А в одном месте Престон, показав на чьи-то крупные следы, клялся и божился, что они принадлежат медведю. Но идти по медвежьему следу не имело смысла, потому что он вел на гору Тарлык, а туда сейчас, когда все тропы завалило снегом, нечего было и думать взобраться.
Слуги болтали между собой, а Фитька с безразличным видом трусила рядом с хозяином, давая тем самым понять, что пока она никакого зверя вблизи не чует.
Гёргей даже посетовал:
— Кажется, сегодня и пальнуть ни разу не придется. А ведь сегодня Новый год! Чего доброго, целый год не видать мне охотничьей удачи.
Не успел он договорить, как на опушке леса Нагорье мелькнул стройный силуэт благородной добычи — олень с великолепными, развесистыми рогами. Фитька кинулась вперед, затем остановилась и, обернувшись, бросила призывный взгляд на хозяина, словно своими умными карими глазами хотела подать ему знак. Олень, еще недосягаемый для выстрела, стрелой пролетел в сторону Клокоча, небольшой рощицы, торчавшей посреди нолей, словно бородавка на гладком лике земли. Красивые молодые деревья, плотной стеной теснившиеся друг подле друга, могли служить хорошим убежищем для фазанов, но не для оленя. Где ему, бедному, здесь развернуться с его ветвистой короной!
Гёргей быстро поменялся оружием с Ковачом и заспешил в сторону Клокоча. Держа ружье на изготовку, он углубился в лесную чащу и, рукой отводя ветви, роняющие иней, нетерпеливо заспешил по следу зверя. Вдруг впереди него грянули одновременно два выстрела, а затем тишину вспугнули людские голоса.
Гёргей вздрогнул: что это могло быть? Но продолжал идти по следам, которые вскоре вновь вывели его на опушку рощицы; на этот раз уже с противоположной ее стороны. Здесь он увидел охотничью компанию лёченских бюргеров, которые со своими загонщиками только что свернули с торной дороги, чтобы отсюда, от рубежа своих владений, начать травлю.
— Смотрите, смотрите, они уже убили нашего оленя! — воскликнул Престон.
— Слепая удача! — заметил вице-губернатор. — Не успели еще по-настоящему и начать охоту, а уже уложили такого зверюгу! Эх, жалко рогов!
Благородное животное лежало бездыханным на расстоянии выстрела от свекловичных полей Гёргея, на берегу все того же ручья Дурст, но только уже на лёченской земле. Распорядители охоты были как раз заняты расстановкой загонщиков, и неожиданный трофей привел их всех в замешательство: и загонщики и стрелки, позабыв о всяком порядке и дисциплине, бросились к умирающему животному, размахивая руками и восторженно крича. Никто на свете не умеет так радоваться удачному выстрелу, как Sonntagsjager[10].
Они находились так близко от Гёргея, что он без труда мог различать каждого. Вон тот маленький тщедушный человечек в выдровой шапке и куртке моравского сукна — сам Крамлер, лёченский бургомистр; узкоплечий господин с развевающейся бородой — городской нотариус Шебештен Трюк; толстяк в зеленом пальто — квартирмейстер (Viertelmeister) Матяш Бревер; тот, что тянет сейчас «согревающее» из своей фляжки, — аптекарь Йожеф Гиглеш; пятый — тот, что присел на корточки а пытается поднять оленя, — ювелир Лёринц Грефф; высокий, богатырского сложения мужчина в синей куртке — городской сенатор Андраш Нусткорб.
Узнав бургомистра, на которого он все еще был сердит, Гёргей собирался уже повернуть назад, как вдруг Фитька выгнала со льда замерзшего ручья Дурст большущего зайца и, забыв о своих обязанностях собаки-следопыта, которой положено лишь вынюхивать дичь, но отнюдь не заниматься кровавой работой палача, помчалась за ним через ручей на лёченскую территорию.
Гёргей сердито свистнул собаке, но она и ухом не повела, а по какому-то роковому наитию продолжала бежать навстречу своей печальной участи: в следующее мгновение грянул выстрел бургомистра, бедная Фитька перевернулась в воздухе и с жалобным визгом свалилась мертвой. Зайца же уложил следующим выстрелом квартирмейстер.
Пал Гёргей сначала побледнел как смерть, затем лицо его сделалось багровым, словно к нему прилила вся кровь. Он пробежал немного, остановился на берегу ручья, сдернул с плеча ружье и прицелился в лёченского бургомистра.
— Собаку за собаку! — задрожав всем телом, выкрикнул он и выстрелил.
Бургомистр, охнув, упал на снег. Что было потом, Гёргей не видел; повернувшись, он полными достоинства твердыми шагами направился домой. По дороге он не вымолвил ни слова, только шел быстрее обычного; два гайдука, молча следовавшие за барином, едва поспевали за ним. Поднялся небольшой ветерок. Из леса Нагорье донесся таинственный шум, ручей Дурст снова возник перед ними близ села Гёргё, и сухой тростник у правого берега зябко зашелестел на ветру; кроваво-красный шар солнца, стоявшего над левым берегом, прямо на глазах у них быстро опускался вниз, к горизонту. Лицо Гёргея с каждой минутой становилось все мрачнее. Когда уже входили через ворота во двор усадьбы, Гёргей сказал, повернувшись к Ковачу:
— Возьми коня да съезди, узнай: что там с бургомистром. Потом доложишь мне.
А с бургомистром города Лёче произошло вот что: пуля Гёргея (как это явствует из протокола) прошла у него между третьим и четвертым ребром; загонщики и охотники тотчас же бросились к нему, но, вместо того чтобы остановить кровь и побыстрее перевязать рану, господа бюргеры (честное слово, о столь необычных случаях мне не доводилось больше читать ни в одной летописи), позабыв о всяком христианском сострадании, принялись совещаться. Только запальчивый Бревер не участвовал в переговорах, так как был занят другим делом — науськивал загонщиков на вице-губернатора:
— А ну, ребята! Догоните негодяя! Хватайте его!
— Не глупите! — остановил его Нусткорб. — Вы подумали, чем все это кончится для города, если мы осмелимся на комитатской территории схватить вице-губернатора?
Они поговорили еще несколько минут, а затем втроем подхватили на руки раненого бургомистра, благородного господина Кароя Крамлера, и потащили его по направлению к полям Гёргея. Андраш Нусткорб поддерживал бургомистру голову, Йожеф Гиглеш подпирал ему спину, а Лёринц Грефф — держал за ноги. Бедный бургомистр тщетно умолял не трогать его, положить на землю и дать ему спокойно умереть, не мучить перед смертью, те знай себе бежали изо всей мочи, задыхаясь, обливаясь потом, и тащили раненого через свекловичные поля к рощице Клокоч. Кровь окропляла землю, красной нитью отмечая на белом снегу путь, который они только что прошли.
По-видимому, это причиняло бедному бургомистру страшные страдания. Особенно громко он кричал, когда носильщики неосторожно встряхивали его на ухабах. А затем у него хлынула кровь уже и изо рта. Однако и это не остановило бравых саксонцев, — наоборот, они припустили еще быстрее, обогнули рощу и, описывая правильный четырехугольник, устремились к тракту. Тело бургомистра к этому времени уже начало холодеть, кровотечение утихало. Бедняга закатил глаза и едва дышал.
— Надавите на него слегка, господин Гиглеш! — посоветовал сенатор.
— Я вам не палач! — возмутился аптекарь. — Что мог, я уже сделал ради нашего города. А вы требуете от меня совсем уж бесчеловечного поступка.
— Э-э, нельзя так относиться к делу. Мы с вами мужчины. Господин Крамлер жил ради города, и, если теперь и умрет за него, разве это не будет для него наилучшей кончиной? Да мы просто обязаны помочь ему умереть геройски, — высказал свою точку зрения Андраш Нусткорб и, склонившись к умирающему, надавил на рану: из нее снова пошла кровь, хотя теперь на снегу оставалась уже не сплошная красная нить, а лишь прерывистая, пунктирная линия, отметившая их удивительный путь.
Но вскоре и капель крови не стало. Лёченский бургомистр скончался.
— Умер! — вздохнул господин Нусткорб, с сожалением поглядывая то на покойника, то на снег. — Окончил свой земной путь господин Крамлер. Можно опустить на землю.
Он почтительно снял с себя шапку и с непокрытой головой склонился над бездыханным телом бургомистра.
— Да воссияет над тобой вечный свет! — набожно произнес он. — Жаль только, маловато крови в тебе было!
Тут сенатор подозвал к себе загонщиков и послал одного из них, сторожа городских ворот Кадулика, в город за санями, чтобы на них отвезти тело бургомистра домой. После этого Нусткорб, обратившись к остальным с достоинством, подобающим сенатору города Лёче, проговорил:
— Граждане города Лёче, присутствующие здесь, обращаю ваше внимание и прошу вымерять шагами границы территории, которую окропила кровь нашего бургомистра. А может быть господин Бревер, у вас найдется в кармане складной аршин? Мне думается, изрядный кусок получился. Не меньше ланеуса[11]. Но если и нет ланеуса — что же делать, больше не вышло! Маловато крови было в покойном. Слишком мало.
— А ведь сколько красного вина пил, бедняга! — сорвалось с языка у Шебештена Трюка.
— Маловато дала ему природа тела, — продолжал сенатор. — Маловато, зато ума было много. Жаль только, что перед смертью не превратился его ум в кровь. А мы, со своей стороны, сделали все, что могли. С гордо поднятыми головами можем мы теперь доставить его останки в город. Все, что нужно было сделать, сделано. Ваша обязанность теперь, до официального осмотра места происшествия, хорошенько все запомнить, чтобы в случае необходимости вы могли под присягой показать, сколько земли отмерено кровью. А то, чего доброго, пойдет дождь, да и снег может замести следы. А ведь эта земля — отныне принадлежит городу Лёче, она приобретена кровлю. Не мешало бы вам, господин Трюк, сейчас же составить небольшой протокол и занести в него хотя бы фамилии присутствовавших.
Как ни жестоко, невероятно и глупо все это было, господин Нусткорб произнес свою речь с совершенно серьезным видом. Еще удивительнее, что Лёче и поныне владеет территорией, захваченной у Гёргея таким способом. Однако если мы мысленно перенесемся в те далекие времена, нам придется признать правоту Нусткорба, знатока законов и прав города Лёче: этот сенатор, патриот-фанатик своего города, не остановился ни перед чем, когда появилась возможность упрочить могущество его родного вольного города Лёче. Почет и уважение острому и быстрому уму Нусткорба! А привилегия крови однажды действительно была пожалована городу Лёче — еще в годы правления короля Кароя Роберта *, после подавления бунта Мате Чака *, когда границы Лёче еще только определялись и у города было куда меньше пахотных угодий, чем нынче. Тогдашний лёченский бургомистр Иов, сын Петера, не согласился с установленной границей и обратился с нижайшим прошением в Вышеград * к королю, в котором писал, что «городу отвели земли только до четырех межевых камней, тогда как полагалось довести границу до Маровской дороги, где лёченцы держали оборону, за которой уже начиналась территория комитата; в решающем сражении он, бургомистр, во главе городских жандармов преследовал войска Мате Чака до этого самого рубежа и возле Маровской дороги был ранен; тогда королевские солдаты Гёргей Требел, Миклош Хайн и Тамаш Целлербек, помогавшие в этом бою горожанам, а также другие свидетели обратили внимание, что под бургомистром на земле, — как раз у развилки Маровского проселка, — лужа крови», и так далее.
Его королевское величество, как видно, милостиво принял лёченскую депутацию, потому что, прочитав их прошение, он собственноручно начертал такую резолюцию: «Effusio sangvinis judicis Lewchoviae terrae acquisitions vigorem obtineat». (Кровь лёчевского бургомистра дает городу право на политую ею землю.)
На основе такого решения территория, принадлежавшая городу, была увеличена, и резолюцию короля (как знать, не пригодится ли она еще когда-нибудь, — во всяком случае, не помешает) правители Лёче включили в перечень прав и привилегий, данных городу Иштваном. Перечень этот подтверждался каждым из его преемников на троне. Короли либо подписывали, не читая резолюции, либо находили ее бессмысленной чепухой, которую без опаски можно было подписать.[12]
ГЛАВА ШЕСТАЯ Город Лёче в трауре
Быстрее молнии пронеслась по городу Лёче весть о знаменитой охоте, о которой потомки вспоминали так: «Были убиты — один олень, одна собака, один заяц и один бургомистр». Сторож городских ворот Кадулик, прибежавший в Лёче за санями, переполошил весь город, пока разыскивал по кабакам вилликуса? *
— Умер наш бургомистр! Убил его вице-губернатор. Закатилось солнышко наше ясное! Плачьте, жители Лёче!
Народ заволновался, встревожился. Изо всех домов повалили испуганные, побледневшие обыватели, столпились перед зданием городской ратуши.
Что случилось?! Убили бургомистра? Где? Кто? Когда? За что? Еще ни одного епископа не слушали жители Лёче с таким вниманием, как сторожа Кадулика, совсем никчемного человека. А у него, кстати, и времени-то не было на долгие разговоры: высунув язык, он бегал от трактира к трактиру, пока не отыскал вилликуса Криштофа Унглада в «Жаворонке», где тот сидел за кружкой вина и вел серьезный диспут с комендантом комитатской управы господином Гродковским. Услышав от сторожа роковую весть, сообщенную скороговоркой, вилликус закричал:
— Ты пьян, Кадулик! — и вскочил, чтобы отвесить ему оплеуху, однако, размахнувшись, потерял равновесие и хлопнулся на пол, из чего все поняли, что пьян был он сам.
Тем временем на улице толпились люди в полной растерянности, не зная, что делать. В ратуше собрались перепуганные сенаторы и патриции в нарядной праздничной одежде. Под аркадами ратуши началась давка, шустрого мальчишку, ученика слесаря, едва не растоптали. Одни побежали за стражей, другие — в основном молодежь — хлынули через ворота за городскую стену. Какой-то молодой человек вскочил на коня и, с большим трудом пробираясь сквозь толпу, выкрикивал знакомым:
— Сейчас я вам привезу самые точные сведения.
Это был красивый, стройный юноша, истинный саксонец с длинными белокурыми кудрями, выбивавшимися из-под куньей шапки с красной кистью, в темно-зеленом ваммесе[13] с клетчатыми, затканными серебром рукавами, в узких, без отделки сутажом рейтузах и в желтых сапогах с короткими голенищами. Одеяние его дополнял накинутый на плечи поверх ваммеса немецкий коричневый кафтан на лисьем меху.
— Молодой Фабрициус! — зашептались в толпе.
— Красиво сидит на коне! — говорили другие, глядя ему вслед, когда он, выбравшись из толпы, погнал вперед своего серого скакуна.
Многие не верили слуху. Какой-нибудь прощелыга, думали они, решил подурачить город. Кто же это посмеет поднять руку на бургомистра города Лёче? Не может быть! Но нет, смотрите, действительно, одни сани уже подъезжают к воротам — в них сидят сенаторы Госновитцер и Брюнек, а за ними; в других санях, с зажженными факелами в руках несутся гайдуки городской управы. Боже, значит, правда!
На сторожевой башне загремел барабан, запела труба, что означало: солнце зашло, ворота вольного города Лёче запираются.
Одной кучке зевак удалось изловить Кадулика, и все вдруг захотели услышать его рассказ. Вокруг сторожа началась невообразимая давка. Из дома Турзо на улицу мигом вытащили стол, взгромоздили на него Кадулика: пусть говорит! Но Кадулик к этому времени уже так охрип, что и родная мать не разобрала бы ни слова из его речи. Он только знаками сообщал, что бургомистру крышка, показал, куда ударила пуля и откуда она прилетела (кулаком погрозил в сторону комитатской управы).
Не спеша спускался вечерний сумрак. Над землей поплыл легкий туман, с горы Шайбен подул холодный ветер, пронизывающий до костей. Но толпа не думала расходиться. Повсюду шли толки, возникали слухи один другого фантастичнее и страшнее, они держали людей в неослабевающем напряжении.
Осветились окна ратуши, где в неурочный час собрались сенаторы и патриции, но и среди них ни один не знал что-нибудь определенное.
Но вот снова послышался конский топот. Это возвращался молодой Фабрициус. Быстро же он успел обернуться! Впрочем, чего же удивляться: он скакал напрямик, держа направление на городскую колокольню, и срезал большой угол, потому что тракт долго петляет по долине между горами Шайбен и Тарлык. Все, кто был на улицах, оживились, зашевелились, и как только всадник, прискакавший на взмыленной лошади, остановился, возле него тотчас вобралась толпа.
— Ну, что там? Говорите!
— Слух правильный, — крикнул Фабрициус звонким, далеко слышным голосом. — Бургомистр города Лёче убит.
Глухой ропот прокатился по толпе. Выкрики людей слились с завыванием ветра, и лишь немногие слова можно было разобрать в этом зловещем гуле:
— Славно же начинается Новый год!
— Позор городу!
— Кто убил его? Как все было? Расскажите!
— Собака вице-губернатора Гёргея забежала на лёченскую землю. Бургомистр подстрелил ее, а Гёргей в ответ застрелил бургомистра.
Раздались крики:
— И что же сталось с вице-губернатором?
— Негодяй укрылся у себя в Гёргё, — возмущенно бросил молодой Фабрициус.
Ураганом взметнулось негодование толпы:
— Позор! Стыд! У наших ведь тоже были ружья! Кто был с Крамлером? Назовите, Фабрициус, этих трусов…
Однако юноша, как видно, не собирался вдаваться в подробности.
— Дорогу! Дорогу! — крикнул он и, тронув коленями коня, принялся пробираться дальше, к зданию ратуши. Однако чья-то рука схватила его лошадь под уздцы.
— В чем дело? — удивленно воскликнул Фабрициус. — А ну, отпусти удила!
— Сначала я потолкую с тобой, желторотый птенец! Молодой человек, державший лошадь за узду, вероятно, такой же «желторотый», как и Фабрициус, был в венгерской бекеше с петлицами из шнуров, в чалме, украшенной орлиными перьями, и с саблей за поясом. Глаза его сверкали гневом. Фабрициус никогда не встречал этого молодого человека, но ясно было, что он принадлежал к дворянскому сословию.
— Что вам угодно? — спросил его Фабрициус по-венгерски. (До сих пор их разговор шел на немецком языке.) … — Если вы дворянин, я требую удовлетворения. Вы назвали вице-губернатора Гёргея негодяем. Этого я не потерплю.
— Ах, не потерпите? Да кто вы такой?
— Я Дёрдь Гёргей.
— Тс-с! — быстро перебил его Фабрициус. — Не произносите своего имени так громко. Теперь это опасно. Что же касается меня, то я Фабрициус, сын лёченского бюргера. Но хотя я не дворянин, мы, если вам угодно, можем скрестить клинки. Куда и когда я должен прибыть?
— В рощу за городским садом, завтра утром.
— В котором часу?
— В седьмом.
— Я буду ждать вас.
С этими словами Фабрициус приподнял шляпу и тронул лошадь. Впрочем, далеко продвинуться он не смог, дорогу ему преградила плотная стена горожан, осаждавших здание комитатской управы.
— Смерть Гёргею! — сотрясали воздух яростные возгласы, с пронзительным звоном падали разбитые стекла окон.
Комендант Гродковский распорядился запереть ворота, выкатить на балкон два небольших орудия, так называемых «хакена», и направить их для устрашения на толпу. К пушкам встал гайдук Балтазар — в доспехах, в заржавелом шлеме.
— Кому хочется поорать и побезобразничать, пусть отправляется орать домой! — пригрозил он толпе с балкона. — Не то будет худо. Город поплатится за ущерб, причиненный управе.
— Долой Гёргея!
— Вице-губернатора Гёргея сейчас здесь нет, — объяснил Балтазар. — А будь здесь он, не было бы здесь вас.
В ответ снизу полетели в него камни, но Балтазар, закованный в латы, извлеченные из комитатского арсенала, только посмеивался над осаждавшими.
Как раз в это время на балконе ратуши появился седовласый Амбруш Мостель, самый старый из сенаторов.
Картина получилась довольно жуткая: между двух пылающих факелов как призрак возник седовласый старец — словно Барбаросса надумал, наконец, сдержать свое обещание, о котором немцы вспоминают всякий раз, когда им приходится туго; правда, рыжая борода Барбароссы за много веков успела поседеть, хотя так и не достигла длины, предписываемой легендой.
Колокольчик бургомистра оказался запрятанным где-то в ящике, поэтому Мостель вынес на балкон пустой стакан и, как это принято у саксонцев, когда они распивают магарыч, постучал по стакану лезвием складного ножа. И хоть этот звук в сравнении с ревом толпы был подобен комариному писку в синагоге, он тем не менее возымел действие.
— Старый Мостель хочет говорить. Тише! Послушаем старого Мостеля!
Установилась глубокая тишина, только флюгер верещал на башне ратуши. Старый сенатор говорил таким сонным, слабым голосом, что его не расслышать бы и в небольшой комнате. Однако собравшиеся внизу люди передавали его слова друг другу, а если не понимали их, заменяли своими — по собственному усмотрению.
— Дети мои! Разойдитесь с миром по домам. Правда, прошел слух, что городу нашему нанесено оскорбление. Но мы пока еще ничего не знаем, не ведаем, как велика обида и при каких обстоятельствах нам нанесли ее. Ежели что-то и в самом деле случилось, возмездие поручите осуществить нам, вашим старейшинам. Поверьте, мы, сенаторы Лёче, еще в состоянии постоять за честь города. А поэтому, черт бы вас всех побрал, когда случилась беда, не добавляйте к ней еще и вторую, ступайте-ка лучше с богом по домам и пойте псалмы. Если вы сейчас же не разойдетесь, а будете и дальше болтаться здесь, я, ей-богу, сам спущусь вниз и отделаю вас вот этой тростью, и будет вам не только больно, но и стыдно. Спокойной ночи, дети мои!
Только уверенный в своей силе властитель мог говорить с народом так величаво, как этот дряхлый Мостель; закончив свою речь, он преспокойно повернулся, re bene gesta[14], и возвратился в зал совещаний, ни на миг не сомневаясь, что люди, теснившиеся внизу, послушаются его. И, действительно, бурлящая толпа рассеялась без единого слова протеста, — исчезла, будто ее метлой вымели.
В зале совещаний собрались уже почти все сенаторы; опираясь на две клюки, приплелся даже страдавший подагрой Антал Бибера. Зал был не натоплен, и сенаторы, не садясь и не снимая подбитых мехом кафтанов, шагали взад и вперед, качая головами, сокрушались о случившемся и с нетерпением ожидали, пока помещение нагреется, а также поступят более достоверные известия.
Молодой Фабрициус велел гайдуку, растапливавшему в коридоре печи, передать сенаторам, что он прибыл сейчас с места происшествия и просит разрешения войти в сенаторский зал.
— Конечно! Конечно! — воскликнули в один голос четверо сенаторов, а нетерпеливый Иштван Гулик хотел было даже броситься навстречу юноше, но Мостель остановил его.
— Сенатор не должен ни пугаться, ни удивляться, ни проявлять нетерпения, — произнес он с важностью. — Земля может вертеться, как ей угодно, сенатору же положено совершать лишь достойные его ранга движения. А посему оставайтесь, господин Гулик, на своем месте. Придет этот молодой человек и без вас. Зачем вы побежите ему навстречу? Хотите на руках внести его сюда?
Фабрициус вошел и подробно доложил об всем, что он увидел. Патриции молча выслушали рассказ, однако лица их становились все бледнее — насколько, конечно, можно было это разглядеть при слабом свете сальных свечей.
— Какой удар! — запричитал Михай Палфалви. — Недаром же мне сегодня ночью приснилось, будто на месте ратуши образовалось болото и я ловлю в нем раков.
Бибера нервно хлопнул клюкой по столу.
— Сам убью этого негодяя, если никто другой не решится!
— Не спешите, сударь, давать легкомысленные обещания, — одернул и его Мостель. — Тем паче при посторонних! — Повернувшись затем к Фабрициусу, он добавил: — Ты, сынок, можешь, быть свободен… А вам, господин Палфалви, хорошо бы теперь отправиться в город да встретить повозку с телом покойного и распорядиться, чтобы его доставили сюда.
— Сюда? Зачем? — вспылил Янош Крипеи. — Здесь же совет заседать будет!
— Именно поэтому. Нынешнее заседание проведем praesente cadavere, возле тела убитого. Надо будет открыть галерею для зрителей.
— Заседания совета — тайные, — возразил Гулик.
— В обычных случаях! — отпарировал Мостель, чувствовалось, что этот старец, захвативший в свои руки кормило власти, полон молодой энергии. — Но нынешний случай — особенный! Убийство бургомистра — это для каждого жителя города гибель близкого человека. И каждый гражданин Лёче имеет право прийти и проститься со своим близким.
Сенаторы дружно закивали головами: Мостель знает свое дело, ничего не скажешь.
Итак, двери на галерею были отворены, и слух об этом с быстротою пожара разнесся по городу. Началась давка, гайдукам с трудом удавалось поддерживать порядок. Сбежались все, кто мог. Донат Маукш, на которого остальные сенаторы теперь посматривали подозрительно, поскольку он был единственным дворянином в городском совете и втайне, может быть, держал сторону вице-губернатора, распорядился, чтобы отвести от себя такое подозрение, «не пускать на галерею ни дворян, ни беременных женщин». Впрочем, распоряжение это было излишним, на галерею уже набилась такая тьма зевак, что яблоку негде было упасть. Сенатор Бибера, в обязанность которого входило стоять на страже нравственности, недовольно нахмурился, видя, как в толчее оказались вместе и мужчины и женщины, что неизбежно должно было породить в них греховные мысли и лишить их духовной чистоты, а ведь Бибера с помощью статей и параграфов «Полицейского уложения» старался привить гражданам Лёче добродетельность, посвятив этой миссии половину своей жизни. Зрелище, представшее перед блюстителем целомудрия, ужасало его: бедные молодицы и девушки из низших сословий (если только стоило их жалеть), стиснутые со всех сторон, оказывались либо в объятиях мужчин, либо у них на коленях, и даже если бы и захотели (в чем я сомневаюсь), все равно уже не смогли бы выбраться оттуда. Нет, распоряжение господина Мостеля, право же, было необдуманно, так как сводило на нет торжественность, подобающую такому заседанию: в толпе то и дело раздавались женские крики и визг, означавшие, что бесстыдники мужчины, позабыв приличия, тискали своих соседок и щипали их за мягкие места; иные же красавицы, по причине своей испорченности, нисколько не протестовали и молча переносили подобное нахальство.
Господам сенаторам надоело делать замечания публике, допущенной на галерею.
— Тише! Как вам не стыдно хихикать в такую минуту? Кто еще раз нарушит порядок, пойдет на двое суток под арест!
После этой угрозы установилась наконец тишина. Скорее, пожалуй, потому, что в это время в зале совещаний уже начали развертываться события. Сперва появился вилликус (быстро же успел протрезвиться, голубчик!) и, сняв со стола председателя зеленое сукно, утащил его куда-то. Немного погодя в зал, запыхавшись, влетел сенатор Палфалви и объявил:
— Привезли!
Двое стражей распахнули двери, снаружи хлынул поток холодного воздуха, и в зал проследовали гигант Нусткорб, в громадных охотничьих сапогах, в забрызганном грязью и кровью платье, Шебештен Трюк, Давид Госновитцер и Мате Брюнек — румяные, обветренные на морозе, в противоположность своим бледнолицым коллегам, закоренелым домоседам.
Взоры собравшихся устремились на двери. Оттуда доносился тяжелый топот ног. Теперь и зеваки на галерее приумолкли, — казалось, муха пролетит, и то услышишь. А когда четыре гайдука внесли в зал тело бургомистра, укрытое с головой зеленым сукном (тем самым, что вилликус снял со стола), многие содрогнулись.
— Сюда! — показал господин Мостель на стол, стоявший позади председательского кресла. Гайдуки положили покойника на стол.
— Можете идти.
Сенаторы сидели безмолвные, подавленные. Те, у кого нервы были послабее, отворачивались. Сквозняк, ворвавшийся в зал через распахнутые двери, погасил несколько свечей. Шебештен Трюк поспешил зажечь их снова. Наступила гнетущая тишина. Только на галерее завязался негромкий разговор о том, какой все-таки хороший человек был покойный и какая счастливица его жена: успела умереть раньше супруга, еще летом. Интересно, велико ли наследство?.. Кому же оно достанется? Ведь у бургомистра нет ни детей, ни родичей. Наверное, все городской казне отойдет.
Старик Амбруш Мостель приблизился к умершему; приподняв покров, он мгновение смотрел на бургомистра, а затем, снова укрыв, вернулся к длинному столу и сел на председательское место, сделав и остальным знак: «Садитесь и вы»; сенаторы послушно разместились на резных стульях в готическом стиле. В нижнем конце стола занял место Шебештен Трюк. Поставив перед собой огромную деревянную чернильницу и прочие письменные принадлежности, он протянул было руку за белым гусиным пером, но тут же передумал и выбрал черное.
Поднялся Амбруш Мостель. Дождавшись, пока Давид Госновитцер откашляется, он дребезжащим голосом начал:
— Мудрые и рассудительные господа, его благородие сенат города Лёче! Вот мы и снова собрались все вместе, но все лишь по количеству, потому что душа нашего бургомистра, вдохновлявшего каждого из нас, уже вознеслась на небо вследствие несчастного происшествия.
— Не мудрите, сударь! — перебил Мостеля нежданный его противник Мате Брюнек. — Говорите лучше: убили его.
— Как мне лучше сказать, я и без вас знаю. И то, что я скажу, должно быть столь же точно, как святое слово в Писании, — с важностью возразил Мостель. — Сейчас я вижу лишь то, что лёченский бургомистр телом присутствует здесь, но души его уже нет с нами. И вот, в соответствии с нашими законами, я, как старейший из вас, открываю вместо него сегодняшнее заседание. А каким образом глава сего почтенного собрания лишился жизни, расскажет нам очевидец всего происшедшего, господин сенатор Андраш Нусткорб, которому я и предоставляю слово.
— Говорите, Нусткорб! Слушаем!
Нусткорб встал и со всеми подробностями изложил историю трагического происшествия, начав с того, что еще в канун рождества можно было заметить некоторые трения между главой города и предводителем комитатских сословий. Правда, там, на охоте, бургомистр в спешке, когда он целился в зайца, которого в тот миг почти настигла собака вице-губернатора, выстрелил в нее и, значит, первым начал ссору.
— Ну, а потом? — перебил его Донат Маукш.
— После этого господин бургомистр на наших глазах со стоном повалился на землю. Мы, естественно, кинулись к нему, хоть и не догадывались о выстреле вице-губернатора. Лишь через несколько мгновений мы сообразили, что стрелял Гёргей. Кто-то из нас предложил броситься за ним в погоню, убить его.
— Это было бы самым разумным! — заметил Антал Бибера. — По крайней мере, мы были бы теперь в расчете с комитатом.
Нусткорб покачал головой.
— Не были бы мы ни в расчете, ни самыми разумными людьми. В расчете мы не были бы потому, что, убив вице-губернатора, мы только положили бы начало вражде между городом и комитатом, исход же ее был бы печальным для города. Разумным же этот поступок не был бы потому, что всегда считалось неразумным отвечать преступлением на чье-то противозаконное, преступное действие. Кроме того…
— Убийство преступника, застигнутого на месте преступления, — справедливое возмездие! — гневно бросил Михай Палфалви, и его слова покрыл гул одобрения всех сидевших за столом, а затем и публики на галерее.
— …Кроме того, — не обращая внимания на реплику, продолжал Нусткорб, — наши ружья были заряжены дробью, и, пока бы мы их перезарядили, Гёргей успел бы уйти далеко и был бы недосягаем для ружейного выстрела.
— Гм! — пробормотал Бибера, сбрасывая с плеч свой кафтан на лисьем меху: в зале становилось тепло. — Вот это уже причина. Так и надо было сказать с самого начала!
У Давида Госновитцера внезапно начался приступ жестокого кашля, бедняга задыхался, лицо его налилось кровью, тем не менее он помахал рукой, давая знать, что хочет сказать свое слово. Однако заговорить он смог лишь после того, как Шебештен Трюк легонько похлопал его по тощей спине.
— Почтенный сенат! Я не за то хочу упрекнуть нашего коллегу господина сенатора Нусткорба, что он пощадил человеческую жизнь и не убил вице-губернатора Гёргея: город Лёче достаточно силен, чтобы расправиться когда угодно и с кем угодно, пусть злодей даже будет ростом до небес. Но вот не может город Лёче, — как не может этого сделать и никто на земле, — вернуть жизнь человеку, а ведь Нусткорб не только не оказал помощь раненому, но, наоборот по своему легкомыслию, оставил его истекать кровью…
Сенаторы, восседавшие за длинным столом, беспокойно заерзали, начали переглядываться: что все это могло означать?
— Дорогой я успел только перекинуться словом кое с кем из загонщиков, которых мы взяли с собой в сани, — продолжал Госновитцер. — Недостаток времени и туповатость этих людей не позволили мне собрать вполне обоснованные сведения. Но уже и сейчас мне ясно, что в обращении с тяжелораненым бургомистром были допущены действия, оскорбительные для человеческого достоинства и, уж во всяком случае, недопустимые для христианина; при одном упоминании о них у меня волосы встают дыбом. Вместо того, чтобы перевязать раны и остановить кровотечение, находившиеся там сограждане наши схватили господина бургомистра и (не знаю, насколько верно то, что мне сообщили), как безумные, начали бегать с ним по полю, пока не выпустили из него всю кровь до последней капли, иными словами, пока умышленно не умертвили его…
Тут на Госновитцера снова напал кашель (но на этот раз Трюк не поспешил к нему на помощь — «пусть задыхается»), сенаторы же сидели будто громом пораженные удивительным известием. Брошенное их коллегой обвинение было неожиданным и непостижимым, а положение — весьма напряженным. На галерее уже нарастал шум, подобный вою урагана, летящего над пшеничной нивой.
— Я ничего не понимаю, — нарушил тягостное молчание председательствующий старец, обратив свои красивые голубые глаза в сторону Нусткорба, который с равнодушным видом развалился на стуле.
— О, зато я вполне понимаю: лиса хочет поскорее полакомиться виноградом, — вставил Брюнек с многозначительным видом.
— Что скажете вы, господин Нусткорб? — спросил Мостель. — Объясните нам!
— Жду, пока Госновитцер прокашляется, — просто отвечал Нусткорб. — Вдруг он еще что-нибудь захочет добавить.
— Правда это или нет? Отвечайте! — возмутился Донат Маукш и грохнул кулаком по столу.
Это был первый гневный жест. Но он дал волю сдерживаемым до тех пор страстям, подобно тому как от одной искры вспыхивает щепотка сухого пороха. Все зашумели, заговорили разом. Десятки рук замелькали в воздухе, — люди словно молотили что-то невидимыми цепами. Среди этого вавилонского столпотворения можно было разобрать только отдельные выкрики:
— Да ведь это самое настоящее убийство!
— Давайте допросим его хорошенько!
— Ого! Занятные дела выплывают.
Тем временем страдавший от астмы Госновитцер жадно, будто сом, которого бросили обратно в воду, несколько раз глотнул воздуху; цвет лица у него стал обычным, глаза, вылезшие было на лоб, вернулись на положенное им место, голос окреп, и, возвысив его, Госновитцер заявил:
— За все, что там произошло, я возлагаю ответственность на господина Андраша Нусткорба, единственного сенатора, присутствовавшего при сем.
— Шебештен Трюк тоже там был, — заметил чей-то голос. Шебештен Трюк, мертвенно-бледный, втянул голову в плечи и, весь дрожа от страха, заныл: я, дескать, болен, у меня лихорадка, уже и на охоте я скверно чувствовал себя, оставьте меня в покое, я лучше домой пойду, отлежусь.
И только на губах Нусткорба среди всего этого змеиного шипенья играла презрительная, самоуверенная усмешка.
— Вы все сказали, господин Госновитцер? — тоном спросил он.
— Мне думается, да, — сухо отвечал обвинитель.
— Тогда попрошу слова и я.
— Правда или нет? — добивался своего Донат Маукш. — о чем вас спрашивают!
— Правильно! Не давайте ему много разглагольствовать! — поддержал его Мате Брюнек, любитель общественных скандалов. — Нусткорб всегда из воды сухим вылезет.
Сенатор Мостель нахмурил лоб.
— Ну вы, сударь, зарапортовались! И как вам не стыдно лишать слова человека, которого здесь обвиняют? Хороша была бы справедливость, скажу я вам!
Брюнеку от этих слов действительно стало стыдно, он даже спрятал голову в свои волосатые лапищи. И все же, когда Нусткорб поднялся со своего кресла, с галереи зашикали. Однако достаточно было одного-единственного взгляда Мостеля, чтобы воцарилась тишина. О, этот старец правил здесь, словно Нептун в водной стихии.
— Почтенный сенат! — начал Нусткорб. — Кто-то из моих коллег сейчас (не заметил я — кто именно) бросил обвинение, будто я — лиса, надеявшаяся благодаря смерти бургомистра поближе подобраться к винограду. Ну что ж, я согласен. Буду лисой. Но не та лиса страшна, которая заведомо является лисой и ходит в лисьей шкуре. Самая опасная лиса, почтенный сенат, это та, которая с виду кажется невинным агнцем, а на самом деле хитрее всех лис на свете.
— Непонятно! — буркнул Крипеи.
Зато на галерее все поняли: Нусткорб намекает на Давида Госновитцера, — ведь после Нусткорба он — первый кандидат на должность бургомистра, потому он и усердствует, норовит очернить своего соперника.
— Что же до обвинений сенатора Госновитцера…
— Правда или — нет? — снова повторил Донат Маукш.
— Ну, хорошо, правда! — отвечал Нусткорб и упрямо, как человек бесстрашный, вскинул голову. — Когда пуля вице-губернатора сразила бургомистра и я увидел проступившую на его кафтане кровь, мне вдруг вспомнилась давно забытая саксонская привилегия. Будто чья-то невидимая рука пустила мне в голову вместо пули эту мысль. Мне казалось, что в этот миг само провидение направляет мою волю, и я, действительно, почтенные господа сенаторы, распорядился поднять раненого бургомистра на руки, чтобы его кровью отмерить кусок соседних, принадлежащих Гёргею земель, величиной примерно в один ланеус. Поступил я так, как сенатор города Лёче, обязанный блюсти его интересы.
— Волосы дыбом встают! — бросил Палфалви, на лысой голове которого не было, кстати сказать, ни единого волоска — хоть на коньках по ней катайся.
— Язычник! — прошипел Крипеи, нервно барабаня по столу длинными пальцами, на которых блестели красивые перстни. Он был золотых дел мастер и при каждом удобном случае надевал новые и новые кольца: собственные пальцы служили ему витриной для выставки его изделий.
Мнение большинства все явственнее оборачивалось против Нусткорба. На лицах сенаторов было написано нескрываемое удивление и негодование. Все смотрели на него изумленно и гневно. Да и на галерее тоже нарастал гул недовольства. Донат Маукш шепнул Мате Брюнеку на ухо, из которого, словно хвостик крохотной белочки, выглядывал пучок рыжих волосков:
— Мне кажется, я вижу уже не один, а целых два трупа.
— Но-но, не торопись! — возразил Мате Брюнек.
— Вспомните, ведь забытая многими саксонская привилегия, — звучным голосом продолжал обвиняемый сенатор, — привилегия, относящаяся ко времени короля Кароя-Роберта, ясно говорит: «Политая кровью лёченского бургомистра земля принадлежит городу».
Сенатор Бибера беспокойно пошевелился, поднял опущенную темноволосую голову, и на смуглом его лице появилось какое-то странное выражение.
— Правильно, — подтвердил Донат Маукш, знаток старинных грамот, ибо он в качестве городского архивариуса провел среди них всю свою жизнь. — Такая привилегия существует. Подтверждена впоследствии и королем Матяшем. *
— Совершенно верно, подтверждена, — воспользовался Нусткорб для своей защиты замечанием господина Маукша. — Мало того, подтвердил ее и Лайош Второй *, когда лёченская депутация во главе с вашим предком, господин Крипеи, отвезла в подарок королеве два сундука кружев…
Крипеи сделал глубокий вдох и зарделся, словно красная девица, — видно было, что реплика Нусткорба пришлась ему по душе. (Ну, теперь этому простаку заткнули рот!) А господин Маукш не удержался от удивленного возгласа:
— Два сундука кружев? Черт побери! Да откуда Нусткорб все это знает?
— Не удивительно, что я вспомнил о старинной нашей привилегии и подумал о том, что за много столетий в первый и, может быть, в последний раз предоставляется возможность применить наше древнее право, прежде чем оно бесследно канет в даль времен. Ведь и моря высыхают, а люди забывают даже, в каком месте когда-то плескались эти моря, так что уж там говорить о посулах королей… Поверьте мне, господа, я вдруг ощутил, что меня увлекает какая-то непреодолимая сила…
— Боже, до чего красиво он умеет говорить! — донесся чей-то голос с галереи, где установилась такая тишина, что слышно было, как сапожник Петраш скребет у себя в затылке.
— …С одной стороны меня влекло желание воспользоваться привилегией, подтвердить, прежде чем оно вконец устареет, наше редкостное, дарованное королями право, подобного которому нет ни у одного европейского города. С другой же стороны — меня сжигала жажда приобретения, стремление присоединить к знаменитым гороховым полям города Лёче великолепный кусок тучной земли, отрезанный к тому же от земель виновного!..
Бибера закивал головой и зажмурил свои маленькие глазки в знак того, что он прекращает дальнейшую борьбу, а Брюнек зашептал на ухо Маукшу. «Бьюсь об заклад на четыре штофа вина, что Бибера рассчитывает получить новую землю себе в аренду!» — «С него станется!» — отвечал Донат Маукш. Галерея же начала так бурно выражать свое одобрение Нусткорбу, что старый Мостель рассердился и строго предупредил:
— Можете слушать, а языкам воли не давайте!
— Да вам все равно не есть того гороха! — добавил Давид Госновитцер, обращаясь к галерее, а тогда председательствующий хлопнул своей выдровой шапкой по столу и завопил:
— Господин Госновитцер, дайте и вы передышку вашему остроумию! Потерпите, пока сенатор Нусткорб изложит свои доводы. Не рубите своими замечаниями его речь на куски. Продолжайте, сударь!
— Кроме этих двух соображений, были еще две причины, побудившие нас поступить именно так: рана господина бургомистра казалась нам смертельной, а раненый как будто и сам не имел ничего против наших действий.
— Об этом надо было его спросить! — тоненьким голоском скопца проговорил Янош Макулич, единственный католик среди сенаторов, обычно отмалчивавшийся в этом скопище лютеран.
— Я бы спросил, но бургомистр уже не мог ответить. Да и к чему спрашивать, если покойный при жизни не раз об этом говорил. Вспомните, как он закончил свою последнюю речь: «За приумножение богатства города я готов отдать последнюю каплю крови».
— Последнюю каплю — это верно, но без нескольких предпоследних литров! — насмешливо бросил Госновитцер, чем сразу вновь склонил на свою сторону колеблющееся мнение публики.
Нусткорб досадливо махнул рукой, словно отгонял от себя назойливую муху.
— …Покойный бургомистр был настоящим мужчиной, — звучным голосом с невозмутимостью льва возразил Нусткорб. — Господин Крамлер не бросал слова на ветер. Поэтому было бы несправедливым…
— Я предупреждал вас, господа, не давайте ему говорить! — уже без всякой злобы, даже со смехом, заметил Мате Брюнек.
— Да, было бы несправедливым, — повторил Нусткорб, — принижать его достоинства. Это был настоящий мужчина, не любивший бросать слова на ветер. Хозяин своему слову. Труженик, послуживший городу даже своей смертью, своею кровью, пролитой на заснеженном поле, и такая кончина была прекрасным завершением его славного жизненного пути. С тех пор как стоит город Лёче, еще ни один его бургомистр не умирал более красивой смертью. Разве что Леонид * да еще Миклош Зрини * могут соперничать с ним в царстве вечной славы, куда возносится теперь — а может быть, уже и вознеслась — его душа. Я признаю, что известная ответственность за все происшедшее падает и на меня. Но все, что я сделал, исходило из чистых побуждений. Если меня положено наказать за это, я готов, из любви к своему городу, понести любую кару, принять любой приговор, вынесенный отцами города. Судите же меня, господа!
С этими словами он отшвырнул в сторону стул и стремительным шагом направился к выходу, чтобы там, за дверьми, дождаться решения сенаторов. На галерее прозвучало несколько несмелых выкриков «ура». Какая-то богато одетая дама выхватила вдруг из своих белокурых волос чудесную алую розу (и где она только раздобыла ее в самый разгар зимы!) и бросила ее Нусткорбу, а тот с обворожительной улыбкой ловко подхватил цветок — значит, он вовсе не был взволнован, если даже в такую опасную для себя минуту сохранил непринужденность и полное самообладание. («Вот кому бы стать бургомистром», — зашептали на галерее.)
Старый Мостель тут же закричал ему вслед:
— Нусткорб, это что еще такое? Куда вы, сударь? Сейчас же вернитесь!
Нусткорб послушно возвратился к столу. Проходя мимо мертвого бургомистра, он на мгновение остановился и положил алый цветок ему на грудь. («Черт побери! — дивился Донат Маукш, — И как только он не боится приближаться к убитому?») Возвратясь к сенаторскому столу, Нусткорб не сел на свое место, а остановился перед Мостелем и, словно обвиняемый, понурил голову.
— Благородный и мудрый сенат! — тихим голосом заговорил Мостель. — Жизнь научила меня, что, когда люди попадают в беду, самая великая глупость перед лицом всеобщей опасности — это вцепиться друг другу в волосы. А ведь именно таков случай с господином Нусткорбом: в его действиях, конечно, есть некоторые прегрешения против законов божьих, но зато есть и определенные заслуги по законам нашего города. Этого, надеюсь, никто не станет отрицать?
— Правильно! — загалдели сенаторы. (Ничего не скажешь, отлично варит голова у старикана!)
— Мы можем ради этих заслуг забыть о нарушениях. Неужели за нарушениями мы не захотим разглядеть заслуг? Так что тут, собственно говоря, и обсуждать нечего. Верно?
— Так! Верно! — подхватили сенаторы, привыкшие, подобно стаду овец, плестись за вожаком.
— Кроме того, не следует забывать и о том, что мы с вами представители города Лёче, а не господа бога, — ведь как бы мы, жалкие черви земные, ни были набожны, не осмелимся же мы утверждать такое! И какие бы чувства ни испытывали мы, находясь в храме божьем или молясь господу дома, но, собравшись здесь вместе, мы должны почитать себя только представителями города. Так уж пусть господин Нусткорб сам улаживает перед богом свои дела. Господь всемогущ, и, будь на то его воля, он может покарать своим гневом Нусткорба, когда ему только заблагорассудится, не спрашивая на то согласия ни господина Госновитцера, ни Маукша. Что же касается нас, то мы, как представители нашего города, видим только заслуги господина Нусткорба; упрекнуть его мы если и можем, то лишь в том, что он защищал интересы нашего города несколько более усердно, чем следовало. Разве станет кто-нибудь утверждать, что я не прав?
Красивые голубые глаза Мостеля сделались сразу колючими, когда он обвел взглядом все сенатское застолье. Ни один из членов сената не пошевелился, не промолвил ни слова. И только Госновитцер, вскочив со своего места, саркастически захохотал.
— Какая чепуха! — крикнул он. — Только в лёченском сенате могут выдумывать подобную чушь. Теперь-то хоть будем знать, кого нам выбирать бургомистрами! Чахоточных больных, чтобы они в соответствии с привилегией, данной Кароем-Робертом, обхаркали для нас своей кровью все соседние земли. Ха-ха-ха! Наконец-то найден отменнейший способ сделать Лёче величиной с Лондон, а нашу городскую черту отодвинуть до самых ворот города Кашша! Ха-ха-ха!
Тут на Госновитцера снова напал приступ астматического кашля, с которым он долго не мог справиться. Тем временем старик Мостель, плутовато подмигнув гревшемуся возле печи вилликусу, шепнул ему на ухо:
— Принеси-ка, сынок Криштоф, сюда «городскую курицу»! Не прошло и полминуты, как на столе появилась «городская курица» — самая хищная изо всех пернатых и непернатых тварей, наводившая на жителей Лёче неописуемый страх, — при ее появлении умолкал любой смелый и вспыльчивый человек. Разумеется, это была никакая не курица, а самая обыкновенная черная шкатулка, запиравшаяся на три висячих замка, с узкой щелкой в крышке. Правильнее всего было бы назвать ее копилкой, куда собирались штрафы, а именовалась шкатулка «курицей» потому, что она усердно и добросовестно несла золотые яички на благо родного города.
Госновитцер мгновенно присмирел, подобно тому как собака бросает кость, увидев намордник; он забыл даже, о чем начал говорить, и в полном замешательстве, уставившись на страшную шкатулку, хриплым голосом пробормотал:
— Это что же? Мне?
Мостель ничего не ответил, только головой кивнул.
— Но за что?
— За то, милый Госновитцер, — ласково пояснил председательствующий, — что вы недостойно вели себя: оскорбили городской сенат и своей издевательской шуточкой о чахоточных бургомистрах помогли нашим противникам найти аргумент для предстоящего судебного процесса о гороховых полях. За все это извольте-ка подарить нашей курочке два желтеньких цыпленочка.
— Много! — весь побагровев, сказал Госновитцер, человек чрезвычайно жадный, готовый за лишний пятак хоть в Краков гнать козу на продажу. — Я не настолько богат!
— Вы же знаете, что у нас в Лёче сенат, определяя размер штрафа за оскорбление словом, исходит не из того, как велико богатство виновника, а из того, как велик его проступок.
Конечно, у членов сената сердца были не каменные, всегда можно было поторговаться из-за размеров штрафа, и довольно часто случалось, что штрафы в «твердой монете» (то есть в золоте, серебре и прочих металлах) заменялись жидкой пеней — вином. Вот и на этот раз в перепалку поспешил вмешаться сенатор Крипеи:
— Может быть, достаточно будет, если Госновитцер поставит сенату два штофа вина?
В лёченской ратуше во все времена было принято «вспрыскивать» только что вынесенные приговоры. In vino Veritas.[15] У богини правосудия Фемиды только глаза завязаны, а рот и горло сей богини фантазия наших предков оставила свободными. Да и в конце концов было бы несправедливо, чтобы «курица» все штрафы поглощала единолично.
Мостель, правда, указал рукой на труп, лежавший за его спиною.
— В такой горестный час? Это несовместимо с достоинством сената и должным уважением…
Но тут на выручку Крипеи поспешил Бибера:
— Не понимаю! Всем известно, что венгр пьет с горя. А разве мы не венгры? (Разумеется, ни один из отцов города, даже сенатор Палфалви, носивший венгерскую фамилию, не знал ни слова по-венгерски, и только Янош Гулик немного говорил на ломаном венгерском языке.)
— Венгры. Конечно, венгры! — отвечал Мостель. — Это видно хотя бы из того, что мы готовы пожрать друг друга. Ну так вот, за свою венгерскую храбрость господин Госновитцер пусть поплатится двумя золотыми. Dixi.
Выхода нет, пришлось раскошелиться, и господин сенатор, роняя крупные, как горошины, капли пота, наскреб в своих карманах горсть серебряной мелочи — ровно на один золотой талер. Сказав, что остальное он «принесет потом» (вторая венгерская черта характера), Госновитцер с недовольным ворчанием сел на свое место.
— А теперь — мир! — удовлетворенно провозгласил старец, потянув из табакерки. — И давайте покончим с гороховыми полями. Завтра же надо произвести официальный осмотр места происшествия. Все прочие необходимые шаги пусть от имени городского сената предпримет господин Нусткорб. Не знаю, куда и в какой форме нам нужно обратиться с этим иском: к государственному казначею или к наместнику короля? Но уж если у господина Нусткорба зачесались руки, пусть он этим делом и займется.
Нусткорб наклонил голову в знак того, что он подчиняется приказу.
— Ну, пора уже перейти к самому срочному делу, ради которого мы, собственно, и собрались: надо обсудить, какие почести мы должны оказать нашему любимому бургомистру. Я предлагаю, почтенный сенат, считать кончину господина Крамлера нашей общей утратой и похоронить его за счет городской казны. (Всеобщее одобрение.) На всех общественных зданиях города вывесить черные флаги. Пусть тело покойного до похорон, то есть в течение трех дней, лежит в большом зале ратуши, а возле него в почетном карауле днем и ночью будут стоять четыре гайдука с обнаженными саблями и горящими факелами. Все эти три дня через каждые три часа пусть звонят все колокола нашего города. Кроме того, я предлагаю похоронить покойного бургомистра возле кафедрального собора, — там, где спят вечным сном другие великие люди города Лёче.
— Принято!
— Надгробную плиту — из белого или серого мрамора — со скульптурным изображением покойного мы закажем (тоже за счет городской казны) знаменитому резчику Йожефу Томишу из Кешмарка и установим ее в нише, в стене собора. Тратиться так тратиться! Отдадим распоряжение, чтобы во время похорон все лавки в городе были закрыты, а городские ворота заперты, дабы проезжие не громыхали своими телегами и, вообще, чтобы вся жизнь в городе замерла! Вот какие меры я считаю необходимыми.
— А я считаю, — скромным голоском, словно его подменили, предложил Госновитцер, — что для зала совещаний мы должны заказать портрет усопшего.
— Конечно! Само собою разумеется! — слышалось со всех сторон.
— Итак, я объявляю все это как решение сената! — заявил Мостель, поднимаясь со своего места. — И поскольку все вопросы настоящего заседания исчерпаны…
Однако в этот миг господин Бибера, ухватив председателя за полу кафтана, запротестовал:
— Как то есть — «исчерпаны»? Нет, погодите, сударь! Самого важного мы не сделали: нужно утолить гнев народный. Для мертвого мы так или иначе много сделать не сможем: он покоен и без наших почестей. А вот спокойствие живых — важное дело! Речь идет о чести города, об оскорблении, нанесенном ему. Это мы не можем откладывать ни на час.
— Успеется, — отмахнулся Мостель. — Утро вечера мудренее. Гнев — плохой советчик!
Тут Бибера поднялся с кресла и, вместо реплики, как хотел вначале, произнес целую речь, да еще с таким пафосом, что сердца всех слушателей забились от волнения.
— Ни на час откладывать нельзя. Как отомстить — вот что нужно решить немедленно. Все остальное — потом! Человек, получивший пощечину, первым делом дает сдачи и уж затем бежит домой делать примочку на вспухшую щеку. Лица граждан города Лёче горят от стыда. Так оставить это нельзя. (Возгласы «ура» — с галереи.) Больше того, для покойного наибольшее удовлетворение за обиду не цветы, которые мы возложим на его гроб, не дым факелов или блеск обнаженных гайдуцких сабель, не колокольный звон в церквах, а наше решение отомстить за его смерть, и мы должны принять такое решение именно сегодня, когда он присутствует на заседании, если уже не душой, то хотя бы телом.
Мостель, пожав плечами, возразил:
— Все это не так просто, как вы думаете. Я даже представить себе не могу, что мы могли бы сделать так вот сразу. Не в промедлении кроется опасность, а в поспешности. По-моему, нужно подождать. Kommt Zeit, Kommt Rat.[16] Но если вы, господа, знаете какое-нибудь чудодейственное средство, способное успокоить наших сограждан, я готов поставить на голосование вопрос: сейчас мы будем заниматься этим делом или позднее.
— Сейчас! Сейчас! — закричали все сидевшие вокруг стола; лишь Макулич и Гулик проголосовали против — первый потому, что он был против всего, что предлагали лютеране, а второй просто хотел поскорее кончить заседание: его молодая, хорошенькая жена, сидевшая на галерее, у всех на глазах, позабыв обо всем на свете, шепталась с красавцем Миклошем Бломом, известным волокитой, которого за разрушение чужого семейного счастья уже изгнали из двух соседних городов — Белы и Кешмарка. Гулик был ревнивцем, и можно догадаться, какие адские муки он испытывал, будучи прикованным к сенатскому столу, тем более что озорные шутники то и дело подпускали шпильки по его адресу: «Искры сыплются на вашу крышу, дорогой Гулик», или: «Чует кот, где сало».
— Хорошо, — сдался Мостель. — Большинство членов сената хочет немедленно определить способ мести. Я вынужден уступить. Однако при обсуждении такого вопроса свидетели нежелательны. Прошу сидящих на галерее покинуть ратушу. Вам же, господа сенаторы, я напоминаю о присяге, которую вы принесли: все, о чем мы будем здесь говорить, вы должны сохранить в глубочайшей тайне, если только мы не постановим предать наше решение гласности. Помните, что тот, кто нарушит присягу, — предатель, заслуживающий отсечения головы или пожизненного изгнания из города.
На галерее публика зашевелилась и двинулась к выходу. Разумеется, дело не обошлось без толчков, криков и перебранки, когда кому-нибудь наступали на мозоль. Наконец галерея опустела, и вилликус тщательно обследовал ее: не спрятался ли кто под лавкой, после чего он и сам покинул зал, пригрозив двум сторожам у дверей:
— Если кто-нибудь из вас вздумает подслушивать у замочной скважины, завтра же вечером на площади палач обрубит прохвосту оба уха.
После всех этих мер предосторожности он уже со спокойной душой мог отправиться в винный погребок под зданием ратуши. В те времена под ратушей каждого города был погребок, где сенаторы могли утолять жажду во время заседаний. На сей раз погребок оказался битком набит посетителями; даже знатнейшие горожане — «рингбюргеры» не посчитали за стыд дождаться здесь решения сената, сидя за кружкой пива. Появление вилликуса, — а тем более его рассказ обо всем происшедшем в зале: об обвинениях Госновитцера, о самозащите Нусткорба, о порядке предстоящих похорон бургомистра — вызвало бурный интерес:
— Значит, закончилось заседание?
— Ну, что вы! Только сейчас начнется. Сначала мне приказали удалить публику с галереи, а потом я и сам удалился. До сих пор шло чрезвычайное заседание. А очередное — только сейчас начнется. Когда я выходил, сенаторы как раз облачались в свои мантии[17].
— И что же теперь?
— Будут решать, что делать с Гёргеем.
— А что они могут ему сделать?
— Про то одному богу известно, — отвечал вилликус, устремив взор в небо, или, точнее, в потолок винного погребка.
— На больших господ не так-то легко найти управу. Там, наверху, сенаторы уже вертел мастерят, а жаркое еще в лесу, на воле бегает.
Подобные же вопросы и замечания слышались и на площади, перед ратушей, где снова собралась огромная толпа. Приказ Мостеля разойтись возымел действие лишь на короткое время, подобно тому как порошок хины действует лишь на один приступ лихорадки. Да и разве могли люди усидеть дома в такой исторический час? Пастор Шамуэль Рафанидес приказал открыть двери кафедрального собора, зажечь свечи (уже наступил вечер), и множество народа из простых горожан заполнило храм. После того как прозвучал псалом «Бог — наша крепость», пастор разразился громоподобной проповедью о Содоме и Гоморре, коих постигла в свое время суровая небесная кара, и о том, что все, случившееся ныне, надо считать напоминанием всевышнего городу Лёче, наказанием господним за гордыню, обуявшую души богатых горожан, ибо они, позабыв о всякой скромности и простом приличии, приносят жертвы на алтарях дьявола и, стремясь породниться с аристократами, продают дщерей своих, словно товар, на ярмарках тщеславия ж, отвратившись от лика божьего, простирают руки свои к пустым, греховным радостям.
Тех, кому во время заседания посчастливилось быть на галерее, горожане, находившиеся на площади, засыпали вопросами: «Что там произошло?», «О чем продолжают совещаться сенаторы?», «Когда состоятся похороны?», «Что порешили насчет Гёргея? Все еще ничего?»
— Эх, черт их всех побери! — храбрился Тамаш Бобешт, в свое время один из видных офицеров в армии Тёкёли. — Я хоть и старый человек, но, клянусь богом, сам готов сесть на коня, поскакать в Гёргё, схватить этого вице-губернатора и, заковав его в кандалы, привезти сюда, не будь он…
— Не будь он кем?
— Лютеранином. На лютеранина у меня, конечно, рука не поднимется.
Освещенные окна городской ратуши разжигали страсти. Сотни любопытных глаз были теперь устремлены туда. Иногда на стене зала, противоположной окнам, мелькала тень. Значит, кто-то из сенаторов поднялся. Может быть, они уже выходят? А может, они там ссорятся друг с другом? Вот и прыгают! В гневе человек, будь он хоть сто раз сенатор, вскочит со своего места.
Наступила ночь, но совсем не темная: светила луна, отливал синевой снег. Дорогу занесло, но вдоль домов снег был разметен, а возле домов с балконами даже было очень приятно прогуляться. Разумеется, все описания блестящих дворцов города Лёче, которые ныне преподносят нам авторы исторических романов, — плод их богатой фантазии. Во времена Тёкёли в городе не было никаких дворцов, если не считать дома Турзо, да здания ратуши, да комитатской управы. Остальные дома были совсем небольшими — всего в три окна по фасаду — и строились в готическом стиле. Ни у кого не нашлось бы достаточно большого земельного участка, чтобы выстроить дом в четыре окна; да это и не удивительно: в городе, обнесенном крепостными стенами, каждая пядь земли — великая ценность, и нельзя же ее тратить на удовлетворение барских прихотей. Городу-крепости важно иметь не великолепные чертоги с роскошными садами, а как можно больше людей, способных защищать его амбразуры. Ко времени нашей истории домишки в Лёче были деревянными, лишь та часть здания, которая выходила на улицу, строилась иной раз из камня. Во всем городе не насчитывалось и тридцати каменных домов. Да и кому нужны были здесь большие дома? Господа в городе тогда еще не жили, их туда просто не пускали. Единственное исключение из этого правила было сделано в 1660 году для семейства Марьяши, потому что ему город был чем-то особенно обязан. Нижние этажи лёченских домов были заняты лавками, мастерскими, а под арками глубоких и просторных сводчатых ворот приезжие купцы в дни ярмарок раскладывали свои товары. В каждом доме наверху находилось всего три помещения: «штубе» — гостиная с окнами на улицу, «циммер» — жилая комната, выходившая во двор, и «каммер» — спальня. Семейств с домами в четыре комнаты в городе не было вовсе. В 1662 году, когда Габор Бетлен * возвращался домой из полевого лагеря под Венгерским Бродом и остановился проездом на ночлег в Лёче, для него и его свиты пришлось освободить три примыкавших друг к другу дома, а в общих стенах между домами прорубить ходы. В том же году комиссары императора Фердинанда II — арадский епископ и хранитель короны Янош Бибер и Петер Реваи — везли в Вену отнятую у Бетлена реликвию — корону святого Иштвана, остановившись в Лёче, они выбрали для ночлега самое лучшее в городе здание — дом, принадлежавший Вайсенбергерам; епископу, правда, досталась приличная комната, а вот Реваи с короной пришлось удовольствоваться маленькой «камерой».
И все же эти бюргерские домики были очень милы. Из трех окон, по крайней мере, хоть в одном можно было увидеть горшок с геранью и красивую женскую или девичью головку — разумеется, только в дневное время.
Но сейчас во всех окнах города было темно. Население высыпало на улицу. Конечно, понемногу люди начинали свыкаться с трагической смертью своего бургомистра, и им просто было интересно побродить по улице, где собрался весь город, встретиться, с кем нужно. Не прошло и получаса, а люди уже сбились в кружки. Как говорится: рыбак рыбака видит издалека! К семейству, где были молодые девушки, спешили их знакомые молодые люди, и начиналась беззаботная болтовня; мамаша встретила своих старых приятельниц: опять обмен мнениями и новостями. Старые холостяки глаз не сводят с молодушек, хотя, конечно, не все кавалеры такие нахалы, как вертопрах Блом, который при виде хорошенькой женщины потихоньку толкнет локтем идущего рядом с ним приятеля и отпустит шуточку: «Ах, я погиб!» — или, помотав напомаженной, завитой головой, жалобным голосом воскликнет: «Ой, не могу!»
А бедные женщины, слыша его возгласы, краснели до корней волос. Честное слово, будь городской сенат сообразительней, он давно бы изгнал из Лёче этого повесу.
Впрочем, в такой день не только шалопаи, вроде Блома, находили милые их душе развлечения. Подмастерья, например, затеяли игру в снежки, кожевники, Извечно враждующие с медниками и жестянщиками, устроили неподалеку от башни Менхарда ожесточенную потасовку. Вон уже и квартальные спешат за стражниками и гайдуками, чтобы схватить бессовестных подмастерьев и мастеровых, не постеснявшихся затеять драку в такой горестный для всех миг. Впрочем, горестным он уже не был. Все успели забыть о случившейся беде. Недаром миг и называется «мигом». Прошел миг, и обыватели уже веселятся: повсюду слышится непринужденная болтовня, радостные возгласы, звонкий смех, словно на улицы высыпала публика с какого-нибудь маскарада.
И только освещенные окна ратуши нет-нет да и напоминали людям, ради чего они, собственно, сюда собрались: узнать, что решили в ратуше. Слухи рождались, будто грибы после дождя. Сколько голов, столько выдумок. Каждый считал своим долгом сообщить какую-нибудь новость. Один говорит, что сенат наберет несколько сот солдат-наемников и с их помощью обложит губернаторскую берлогу — Гёргё, чтобы выкурить из нее самого «медведя». Этому охотнее всего верят горожане из низших сословий. «Наемные солдаты? — думают про себя молодушки. — Что ж, это было бы совсем не плохо!»
Но знатные бюргеры презрительно смеются: глупая болтовня! Кто же из простолюдинов может знать, о чем в ратуше совещаются, когда заседание идет при закрытых дверях.
Но их возражения опровергает неожиданное появление на улице господина Гулика. «Как вы здесь очутились, сударь, ведь остальные-то еще заседают?»
Господин Гулик лепечет что-то в свое оправдание, что ему, мол, вдруг стало плохо и он вынужден покинуть заседание. Мгновенно его окружают плотным кольцом. Красивейшие, знатнейшие женщины, сгорая от любопытства, спешат протиснуться к нему.
— Что случилось?
— Не видели моей жены? — спрашивает их вместо ответа Гулик.
— Здесь где-то прогуливается вместе с Госновитцерами. Но скажите же, наконец, что вы там решили?
— Рад бы сказать, да рот на замке. — Гулик прикладывает палец к губам.
— Но хоть что-нибудь можете вы нам сказать? — умоляют его женщины. — Не будьте же таким упрямым, господин сенатор! По вашему лицу видно, что в сенате приняли какое-то страшное решение.
— Да, конечно, кому-кому, а уж женщинам-то оно не понравится! — убежденно и мрачно проговорил Гулик.
— Ах, оставьте! — кричат женщины. — Вам-то откуда знать, что нравится женщинам, а что не нравится! Лучше скажите, когда будут хоронить бургомистра?
— Завтра после обеда и еще когда-нибудь, — загадочно произносит Гулик и шагает прочь.
— Что это он: с ума сошел, что ли? — пробормотала какая-то женщина, мне думается, озорная госпожа Тэёке. — Странные какие-то у него ответы! — И она недовольно посмотрела вслед сенатору, повстречавшему в эту минуту Миклоша Блома.
А у господина Гулика будто тяжелый камень с души свалился, стоило ему только увидеть, что грозный сердцеед, которого он заподозрил в ухаживании за его женой, прогуливается не с нею, а в обществе своего племянника, некоего барона Коппена.
— Ты не видел моей жены?
— Ох, не могу! — по привычке пробормотал Блом и, спохватившись, поправился: — Нет, не видел. С той самой минуты, как господа сенаторы изволили вышвырнуть нас с галереи…
— А куда это ты теперь так спешишь? — уже совсем приветливо спросил господин Гулик.
— Домой, спать. Завтра надо подняться чуть свет. Дело чести. Предстоит пустить кой-кому немножко крови. Да-с… Немножко голубой крови…
— Да что ты говоришь? Кто, с кем и почему?
— Как же, стану я докладывать о таком деле властям! Пошли, Конрад!
Тем временем в толпе пронесся новый слух: говорили, что сенат срочно вызвал к себе вилликуса, все еще горевавшего по усопшему бургомистру в погребке под ратушей, и приказал ему немедленно прислать к ратуше сенатскую упряжку. Что это еще за чертовщина?
Немного погодя четверка гнедых (собственность городского сената) уже нетерпеливо била копытами перед зданием ратуши. Затем, закутанный в большой тулуп, с крыльца спустился вилликус и уселся в сани. Скорее к нему! Может быть, хоть от него удастся что-нибудь узнать!
— Куда? Куда вы? — сразу в десять голосов засыпали его вопросами зеваки.
— В Рисдорф, — недовольно буркнул тот. — За доктором Крикнером.
В Рисдорфе жила графиня Чаки, вечно больная дама, державшая собственного домашнего врача. (У господ хватает денег на любые глупости.)
— Такая спешка? На ночь глядя? Для кого же это?
— Для бургомистра, — загадочно отвечал вилликус. — А спешка потому, что, ежели доктора нет дома, мне придется разыскивать его повсюду, где бы он ни был. Таков приказ сената.
— Но ведь бургомистр умер! Обратно-то душу в него не вдохнет ваш доктор?
Вилликус пожал плечами.
— Какое мне дело, что доктор будет делать. Ну, пошел!
Странное распоряжение сената породило сотни самых различных толков. Непостижимо! Любопытство толпы достигло предела. Может быть, собираются произвести вскрытие умершего? Зачем? И так известно, отчего он скончался. «А может быть, бургомистр ожил?» — предположил кто-то. «Чепуха! Ведь из него выпустили всю кровь, до последней капли». Теперь только и было разговоров что об этом. В толпе, особенно среди простолюдинов, пошли гулять всякие суеверные слухи, но вдруг на башне ратуши ударили в малый колокол.
— О, «пивной час»! Так рано? Как летит время!
Звон маленького вездесущего «пивного колокола» раздавался в Лёче ровно в девять часов вечера и означал, что посетители пивных и кабаков должны покинуть эти заведения. После «пивного колокола» можно было брать напитки только «на вынос», то есть домой. Но и то не позже следующего колокола, после чего уже приступала к работе «городская курица». Впрочем, штрафу подвергались и те, кто просто болтался на улице после урочного часа. Разрешалось ходить по городу только по неотложному делу, да и то с зажженным фонарем в руке. Ходить же без фонаря даже в лунную, самую светлую ночь городским сенатом строго-настрого запрещалось. Глупое правило, но ведь города жили работой, а рабочему люду нужно было перед работой хорошо выспаться. И вот отцы города заботились даже о продолжительности сна ремесленников. Но зато уж видеть во сне этот ремесленник мог все, что угодно.
Саксонские города были приучены к строгой дисциплине, и уже через четверть часа после «пивного колокола» улицы словно вымерли. Гайдуки побежали из ратуши за фонарями, чтобы сенаторы, вынеся решение, могли возвратиться домой, как положено, при огне. (А вот какое решение они приняли, город узнает только утром.) Одно за другим засветились окна в домах, но тоже ненадолго: после десяти часов вечера двухэтажные домики обычно смежали свои зеницы и погружались в глубокий сон. На величественном небесном куполе, прикрывающем землю, загорелись тысячи искристых, улыбчивых звездочек, а на землю спустилась глубокая тишина, куда более торжественная и строгая, чем, скажем, в лесу, потому что в лесу всегда трещат ветви, или в деревнях, потому что там лают собаки. В Лёче же нет ни деревьев, ни собак. Здесь даже и собак заменил почтенный сенат — нет, не лаем, конечно (боже меня упаси сказать что-нибудь подобное!), а тем, что он сам с помощью «Полицейского уложения», тринадцати городских башен и запертых крепостных ворот надежно охранял дома и имущество своих граждан.
Хотя саксонцы и не любили сажать в своих городах деревья (это и не удивительно: ведь они и пришли-то в Сепеш во главе со своим вождем Арнольдом, предком Гёргея, затем, чтобы корчевать, уничтожать здесь леса), город Лёче имел за пределами своих стен отличный парк, изобиловавший экзотическими и декоративными деревьями, кустарниками и дорожками, содержавшимися в отличном порядке. В летнюю пору парк был излюбленным местом отдыха, куда по воскресеньям выбирался на гулянье весь город; здесь влюблялись и говорили друг другу нежные слова, сидя на скамейках под старыми деревьями, на коре которых вырезаны тысячи и тысячи инициалов в память о милых именах и полных очарования мгновениях. Посередине парка стоял чисто выбеленный домик садовника и трактир с намалеванным на фронтоне гербом города: на трех холмах — два серебряных льва, держащие в лапах двойной крест. Город Лёче владел богатыми виноградниками в токайских горах, а поэтому летом в этом трактире подавались изумительные вина, от которых человек становится львом (если, конечно, не превращается в свинью).
Патриции города охотно наведывались сюда и в будни, цеха ремесленников проводили здесь свои празднества, а молодежь — праздники весны. Зато зимой жизнь здесь замирала.
Садовник и трактирщик перебирались под защиту городских стен, чтобы не угодить в зубы волкам. На чердаках или в сарае при трактире иногда устраивались на ночлег преследуемые властями разбойники…
Именно в парке и назначил Дёрдь Гёргей свою встречу с молодым Фабрициусом.
Насколько ясной и светлой была ночь, настолько туманным, хмурым и мутным было утро, словно они поменялись ролями.
Первым прибыл на место в сопровождении своих секундантов Фабрициус, приехав в расписных санках Миклоша Блома на паре с колокольцами.
Секундантами его были все тот же Блом и барон Коппен, рыжебородый молодой человек, носивший черное бархатное платье чужеземного покроя и белокурый, завитой парик с локонами до плеч. Наружностью он походил на француза, на самом же деле был саксонцем из Дрездена, сыном сказочно богатой женщины, сестры старого Блома, жившего в Лейбице, — в свое время она вышла замуж и уехала с мужем на древнюю родину своих предков — в Саксонию.
Молодой Коппен приехал в Венгрию впервые — навестить родичей; одну неделю он провел в Лёче у своего двоюродного брата Миклоша. Барон оказался заносчивым и хвастливым повесой, свысока относившимся к своим родственникам из мещанского сословия.
Туман рассеивался очень медленно, и Фабрициус недовольно ворчал:
— Как же тут драться, когда и конца сабли не видно? Это не туман, а прямо какой-то кисель!
Они потоптались на снегу, нетерпеливо поджидая противника.
— А что, если он и вовсе не явится? — ухмыльнулся барон.
— Не может этого быть, — вспылил Фабрициус. — Гёргей — дворянин!
— Эх, скажу я тебе! — пренебрежительно махнув рукой, прогнусавил барон. — Не всяк тот рыцарь, кто носит шпоры. У петуха тоже есть шпоры, однако он не рыцарь! Дворянская грамота сама по себе никого не сделает человеком чести.
— Нет, милый друг, — возразил Блом, — про венгерского дворянина можно сказать все что угодно, но чтобы он уклонился от поединка, — такого позора еще не бывало с того дня, как бог сотворил мир! (Блом любил выражаться гиперболически.)
— Узость кругозора, господа, узость кругозора! Лягушонку и палка, лежащая поперек дорожки, кажется высокой крепостной стеной. Ну кто такие эти ваши венгерские дворяне? Бывают они в обществе? Читают книги? Изощряют свой вкус музыкой, искусством? Мужланы — они, с тем лишь отличием, что в сундуке у них хранится дворянская грамота. Сидят в своих жалких, грязных поместьях, пьянствуют да куражатся над горсточкой несчастных крепостных. Проматывают все, что получают от государства, а сами ничего не дают ему взамен. В особенности хороши ваши захудалые сепешские дворяне, с их тощими овсяными полями. Удивляюсь, что вы с таким почтением относитесь к ним. Ведь если бы у них были хоть какие-то там привилегии!
— Привилегии? Но, уж конечно, у венгров не меньше привилегий, чем у ваших саксонских дворян, — ведь у вас и государство-то такое крохотное, что его блоха перепрыгнет.
Конрад Коппен пришел в ярость.
— Ну, уж извините! — запальчиво воскликнул он. — В роду баронов Коппенов, например, женщины имеют право садиться на придворных приемах сразу же, как только села сама герцогиня, и сидя отвечать на вопросы герцога, даже если он продолжает стоять.
— Представляю, как от этого жиреют баронессы фон Коппен. Еще какие у вас привилегии?
— Начнем хотя бы с того, что сепешский дворянин вообще не может попасть к герцогу.
— Что? — весь покраснев, воскликнул Фабрициус. — Ошибаетесь, уважаемый барон! Из сепешских дворян двое даже были сами королями Венгрии: Янош Сапояи и Имре Тёкёли.
Барон заставил себя улыбнуться.
— Хороши же вы, бюргеры! С таким восторгом говорите о дворянах, когда вашего бургомистра убивает один из этих одичавших господ!
— Это совсем другое дело. За убийство Гёргей поплатится.
— Не думаю. Если уж и сегодня у вас такое расположение духа…
— Раз я говорю, можете мне поверить! — с жаром подтвердил Фабрициус. — Однако вот и они.
Дёрдь Гёргей прибыл в сопровождении двух секундантов. Противники приветствовали друг друга, их секунданты представились и обменялись рукопожатиями: Карой Мечери — барон Коппен, Ференц Марьяши-младший — Миклош Блом.
— С погодой вот нам не повезло!
— Идемте, господа, в сарай. Там, по крайней мере, не нужно будет стоять на снегу.
Обе стороны привезли с собой сабли. Секунданты выбрали наиболее острые.
— Первым делом нужно решить, — начал Миклош Блом, — будем ли мы драться по саксонским правилам или по венгерским?
— Выбор принадлежит вызванному на дуэль, — высказал свое мнение Карой Мечери. Фабрициус с равнодушным видом пожал плечами.
— Мне совершенно безразлично. Уступаю право выбора своему противнику.
— Пусть будет по саксонским правилам, — с легким поклоном отвечал Дёрдь Гёргей.
Саксонские правила поединка были наиболее благоразумными, и хотя во многом походили на современные, не знали тех излишних формальностей, которыми страдают нынешние дуэльные кодексы. Противники выходили и дрались до первой или до последней крови. Доктора с собой они не брали (докторов в те времена было меньше, чем поединков), протокола не писали. Словом, на тогдашних дуэлях лились не чернила, а кровь. Саксонская дуэль считалась более благородной, потому что давала дуэлянту возможность, если он в душе уже осознал свою вину, уступить победу противнику, от этого не страдал его собственный престиж, самолюбие или здоровье, тогда как при иных обычаях боязнь прослыть трусом и страх быть неправильно понятым в обществе не позволяли дуэлянту извиниться перед несправедливо оскорбленным противником, которого в душе он, быть может, уже успел пожалеть, а заставляли рубить, колоть его. И хотя дело можно было бы уладить простым извинением, на это у обидчика не хватает храбрости. Итак, или убивай противника, или дай ему убить себя.
Саксонский поединок протекал совсем иначе. Миклош Блом отломил от старого дуплистого дерева длинный прямой прут, а в дупло бросил три пятака. (Такова была бы величина штрафа за сломанную ветку, если бы об этом проведал вилликус; Блом любил пустить пыль в глаза и похвастаться своим богатством.) Сломанным прутом он смерил рост Фабрициуса, как вызванного на дуэль (парень был не из малорослых), отрезал от прута лишнее и с помощью своей мерки нарисовал на земле два одинаковых круга — один против другого.
— Вот, можете начинать!
Противники встали каждый в свой круг и начали бой, приняв к сведению, что первый из них, кто выйдет в азарте наступления или под натиском противника за черту круга, будет считаться побежденным, но этого будет достаточно для восстановления его чести как перед богом, так и перед людьми.
Словом, кто не желал кровопролития, мог стремительно броситься на противника, «в азарте» выскочить за круг, и поединок тотчас же прекращался; побежденный для виду бранился (не очень сильно), но в глазах общества и впредь оставался «отважным рыцарем».
Однако и у саксонского способа дуэли были свои недостатки: явное преимущество фехтовальщика с длинными руками, разрешение наносить любые, даже противоречащие правилам удары, за исключением колющих, — одним словом, «руби, не щади». Финты, обманные удары и прочие уловки не только допускались, но даже рекомендовались.
Раз, два, три! — и схватка началась.
Сабли, сверкнув, скрестились, высекая искры, и тотчас же стало очевидно, что бывший дрезденский студент Фабрициус прошел в свое время хорошую школу фехтования, настолько уверенно и даже элегантно отражал он удары противника. Гёргей же, обучавшийся сабельной рубке у отца, дрался на венгерский манер, поворачивая руку только в запястье. Но именно это и сбило с толку Фабрициуса, дравшегося по классическим правилам, тем более что он привык к немецкому остроконечному и на конце обоюдоострому эспадрону, и кривая венгерская сабля заставляла его все время напрягаться. Однако это не лишило его присутствия духа (что очень важно в любом состязании), напротив, он совершенно хладнокровно решил, что ему лучше не атаковать, а ограничиться обороной, пока он не освоится с тонкостями непривычной для него манеры фехтования противника. И вот он только парировал удары и пятился назад.
Гёргей же начал поединок как своего рода забаву: во-первых, молодой Фабрициус был ему симпатичен, а во-вторых, он вообще считал, что бюргеру больше пристало держать в руке сапожный нож или рубанок, чем клинок, и решил не обижать парня, а кончить бой какой-нибудь безобидной царапиной. Но, как говорится, аппетит приходит во время еды, звон упругой стали опьянил юношу, глаза его начали метать искры, словно схлестнувшиеся сабли. Вид отступающего противника раздразнил Гёргея, а подчеркнуто небрежная защита Фабрициуса вызвала злость, и вот уже горячая кровь вскипела — проснулся лев, дремлющий до поры до времени в каждом отпрыске рода Гёргеев. В азарте боя Дёрдь забыл, что перед ним не семиглавый змей, а всего-навсего дрезденский студент Фабрициус! В воображении он уже казался себе Георгием Победоносцем и, позабыв о своем намерении быть милосердным, нанес сокрушительный удар. Хорошо, что Фабрициус вовремя заметил опасность, отскочил влево и слегка вперед, успев парировать удар, и в тот же миг ответил ударом, от которого теперь уж Гёргею пришлось попятиться и отступить влево.
В этот миг Мечери бросился вперед и швырнул на землю между ними свою саблю:
— Стоп! Господин Фабрициус вышел из круга.
— Точно так же, как и господин Гёргей, — поспешил заявить барон Коппен.
Выяснилось, что оба участника дуэли почти одновременно вышли из очерченного для каждого из них круга. Значит, нет ни победителя, ни побежденного. По саксонским правилам поединок следовало начинать сначала.
— Пусть они прежде отдышатся.
— Нет! От имени легких я протестую, — возразил Блом в свойственной ему шутовской манере. — На каком основании мы лишили бы легкие их священного права на победу? Почему легкие не могут решить исход поединка? Стоит кому-нибудь совершить героический поступок, как все восклицают: «У него львиное сердце». Выходит, сердце может сделать человека героем? Посмотрим же, способны ли на это легкие!
Перед таким доводом пришлось капитулировать. Противники снова встали на свои места, и поединок продолжался. Теперь Гёргею приходилось туго: Фабрициус наступал хладнокровно, уверенно, с бесстрастным выражением лица, меж тем как Гёргей раскраснелся, тяжело дышал, а по его высокому крутому лбу ручьями струился пот. Он был сам огонь, сама быстрота, но, как видно, все это мало помогало, когда пришлось иметь дело с фехтовальщиком, прошедшим отличную школу, и он все дальше отступал назад. Можно было ставить десять против одного, что победит Фабрициус. Однако у Фабрициуса уже утих гнев: он понимал, что вчера в городе Гёргей и не мог поступить иначе, а потому решил закончить схватку бескровно, применив прием Грибе, который удается в девяносто восьми случаях из ста и позволяет выбить из рук противника саблю (что по саксонским правилам тоже означает победу). Пусть уж секунданты поиздеваются над неудачником: «Следовало бы приклепать тебе саблю к ладони».
Прием Грибе состоит в том, что саблю направляют в грудь противнику, и тот, естественно, готовится парировать удар; в это мгновение нападающий делает молниеносный поворот руки в запястье, сабля описывает полукруг вниз, с огромной силой, уже снизу, ударяет по вражескому клинку и неизменно выбивает его. Однако Гёргей так крепко сжимал рукоять, что сабля не вырвалась у него из руки, а только взлетела вверх к голове Фабрициуса (инстинктивно, желая удержать ее, Гёргей вытянул руку вперед), и сабля, уже падая вниз, на лету отсекла Фабрициусу кусочек левого уха, а затем ударилась ему в плечо, но не поранила его, так как застряла в плотной ткани камзола.
Сам Фабрициус и не заметил усекновения своего уха, зато от взгляда Марьяши, практиканта при секретаре комитатской управы, не ускользнули проступившие на мочке уха красные капли, и он громко закричал:
— Кровь!
Оба противника опустили сабли и принялись внимательно осматривать друг друга в поисках крови.
— Ухо у господина Фабрициуса кровоточит.
— Неужели? — удивленно воскликнул тот.
— И даже небольшого кусочка его не хватает. Фабрициус схватился пальцами за ухо и сразу почувствовал боль, а по ладони его побежала кровь.
— Сожалею, что нанес вам столь неприятную рану, — шагнув к нему, сказал Гёргей. Фабрициус с улыбкой протянул противнику руку, тот охотно ее пожал.
— Не беда! — весело воскликнул студент. — Есть же в городе Хромой Фабрициус, отец мой — Одноглазый Фабрициус (он потерял правый глаз на войне, сражаясь в войсках Тёкёли), а теперь к ним прибавится еще Корноухий Фабрициус.
— Не горюй, — утешил его Блом, — может, до свадьбы еще отрастет твое ухо, — как хвост у саламандры!
Тем временем Мечери отковырнул комочек штукатурки со стены садового домика, растер его между пальцами в порошок и посыпал им рану Фабрициуса, чтобы остановить кровотечение. В те времена люди не бегали из-за каждой царапинки к доктору. Зато к правилам дуэли относилось и такое обыкновение: примирившиеся противники обязательно показывались вместе на людях. Поэтому Гёргей сел в сани к Блому, рядом с Фабрициусом, и они поехали в город.
По дороге, как водится в таких случаях, разговор вертелся вокруг поединка: обсуждали приемы мулинэ, прима и квинтовой удар, а барон Коппен даже выразил снисходительное удивление, что Фабрициус так мужественно и терпеливо переносит боль.
— Все-таки крепка наша саксонская порода: ведь вот уже сколько веков живут саксонцы на чужбине, а до сих пор не изнежились! — заметил он.
— Ну что ты, кузен! — возмутился Блом. — Не делай себя посмешищем хотя бы перед господином Гёргеем! Да разве это называется болью? Знаешь, что мне довелось видеть несколько лет назад, когда я был еще мальчишкой вроде тебя? На опушке плесницкого леса Караффа велел тогда посадить на кол нескольких пленных куруцев. Представь себе: они сидели на кольях и с безразличным видом покуривали трубки. Провалиться мне на месте, если это неправда! Так разве можем мы здесь изнежиться?
Гёргей, не знавший Блома, вопросительно посмотрел на Фабрициуса, а тот, поняв его изумленный взгляд, пояснил ему по-венгерски:
— Провалиться мне, если это правда! Но вообще он хороший малый, его даже лгуном не назовешь. Просто он чуточку похож на увеличительное стекло.
В городе участники дуэли сошли у здания комитатской управы. Обменявшись со всеми рукопожатием, Гёргей сказал на прощание Фабрициусу:
— Ну, будем отныне друзьями. — Голос его был при этом мягок, а взгляд карих глаз таким теплым! Словно охваченный недобрым предчувствием, он, помрачнев, добавил: — Хотел бы я, чтобы господь бог позволил нам быть друзьями!
— Хороший парень! — похвалил его Блом, когда Гёргей скрылся в воротах комитатской управы.
— Да, — подтвердил Фабрициус. — Я рад, — что познакомился с ним.
И только Коппен ехидно засмеялся:
— Добавь: «Счастлив, что он отрубил мне половинку уха».
— Опять ты ничего не понимаешь, милый мой, — возразил Блом. — Для Фабрициуса сие обрубленное ухо значит куда больше, чем все школьные аттестаты и даже университетский диплом, которые он получил или получит в дальнейшем: теперь он взрослый мужчина!
— Не понимаю.
— Конечно, не понимаешь и никогда не поймешь, потому что ты — немец. Легче океан перекрасить в другой цвет, чем тебе это втолковать. Однако, слышите: бьет барабан! Идемте-ка побыстрее!
Со стороны главной площади действительно доносился треск барабана. Прохожие на улицах прибавляли шагу, а двигавшиеся в другом направлении поворачивали обратно и спешили на площадь. Купцы, ремесленники в зеленых передниках и мягких шапочках повыскакивали из своих лавчонок и выстроились в дверях. Еще бы, ведь сегодня должны были объявить не о какой-нибудь распродаже с торгов или о новых правилах поведения горожан! Сегодня город Лёче стоял на пороге великих событий! И хотя на улице было морозно, окна домишек вокруг площади начали распахиваться одно за другим. А в окне второго этажа дома Тэёке показалась даже миловидная головка озорницы-хозяйки: ее улыбающееся личико в утреннем, накрахмаленном чепце казалось свежей розочкой в белом бумажном кульке.
Услышав, что стукнуло окно, Блом взглянул вверх и сдернул с головы шапку. Ответом ему были улыбка и кокетливый кивок.
— Ой, не могу! — жалобно пробормотал неисправимый холостяк, рассчитывая вызвать зависть в обоих молодых студентах, — этого ему хотелось куда больше, чем на самом деле завоевать сердце красавицы. Миклош Блом относился к породе таких «сердцеедов», для которых куда интереснее выдуманное любовное приключение, если о нем можно поговорить, чем три действительно пережитых романа, о которых нельзя и словом обмолвиться. Больше того, он совсем и не был покорителем сердец. Женщины не доверяют хвастунам, и потому любовных интриг у Блома вообще не бывало, а славу опасного волокиты он стяжал одним только хвастовством да своими странными возгласами. И удовольствие ему доставляла не сама благосклонность женщин, а страх мужей да зависть приятелей.
Тем временем городской глашатай перестал бить в барабан и в наступившей тишине зычным голосом принялся читать окружавшей его толпе текст постановления:
— «Волею господней, именем городского сената доводится до сведения всех, кого это касается.
1) Скорбя по усопшему нашему бургомистру, приказываем: исключить из календаря этого года масленицу, а следовательно, не устраивать никаких шумных сборищ и цеховых пиршеств; запрещаем играть на инструментах, служащих веселью, — на скрипках, сопелках, цимбалах, гитаре или гармонике, как дома так и в любых других местах; запрещение распространяется на всех граждан Лёче, кроме городского трубача, каковому дозволяется упражняться для совершенствования своего мастерства.
2) Не позднее чем через восемь дней все патриции, дворяне и принадлежащие к другим сословиям граждане Лёче, в том числе их жены и дочери, — словом, все, кроме слуг, должны приобрести себе черную одежду и лишь в таковой появляться во храмах божьих, на общественных собраниях, на рынке, на улицах города и в других публичных местах, равно как и в городском парке — до тех пор, пока благородный город Лёче не получит удовлетворения за жестокую и горестную кончину своего бывшего бургомистра, дабы траурный вид обитателей нашего города, одетых во все черное, постоянно напоминал каждому, что он еще в долгу перед своим собственным достоинством, гордостью и честью. Нарушившие приказ о ношении траура будут наказаны штрафом в размере от десяти до пятидесяти талеров.
Третье и последнее извещение.
Настоящим доводится до сведения всех граждан, что похороны господина бургомистра состоятся завтра в четыре часа дня. Вынос тела — из помещения городской ратуши.
Правая же рука усопшего, отделенная от тела и забальзамированная, будет помещена в стеклянный ящик и выставлена в зале ратуши, чтобы напоминать нам о том, что покойный все еще не отомщен. Памятуя о древних наших обычаях, мы предпочитаем предать его прах земле пока без одной руки, чем с обеими пустыми руками. Как только по милости божьей нам удастся наконец совершить возмездие, состоится второе погребение бургомистра, и тогда рука умершего будет положена рядом с его телом».
Закончив чтение, глашатай направился со своим барабаном на следующую улицу, а госпожа Тэёке сердито захлопнула окошко, — теперь уж и она начала понимать смысл вчерашних загадочных слов господина Гулика. Зато Фабрициус одобрительно закивал головой:
— Вот, право, замечательное постановление вынес сенат. Блом, напротив, вскипел:
— Это что же! Теперь и из третьего по счету города меня выживают? А, впрочем, отсюда уж я и сам убегу. Боже мой, до чего же скучно будет жить в таком черном городе! Пойдем, что ли, укладываться в дорогу, милый Конрад! Да только куда теперь?
— Может быть, в город Белу? Хотелось бы мне взглянуть на знаменитых польских красавиц! — предложил барон.
— Нет, милый мой, не могу. И не проси! — печальным голосом отвечал Блом. — Поедем-ка лучше к моему отцу, в Лейбиц.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ Девичья рассада
Напоминающее вендетту распоряжение сенаторов имело целью поднять патриотизм лёченцев и авторитет сената. Однако оно наносило удар по карману горожан, потому что сковывало торговлю и сокращало возросший было приток гостей из других городов.
Впервые городской сенат не посчитался с материальными интересами своих граждан, ведь в другое время он, наоборот, все подчинял именно этой задаче. Может быть, как раз поэтому город Лёче и достиг такого расцвета, тогда как вся остальная Венгрия в это же самое время впала в нищету.
— Так, значит, город Лёче жирел за счет государства? — воскликнет сварливая зависть. — О нет! Лёче жил и богател за свой собственный счет. Только богатство его находилось в руках местных властей. Дело в том, что у наших предков уже и в те времена были такие власти, которые старались отобрать у человека все, что он не успевал истратить на самого себя. (Отсюда и пошла поговорка: «Только то и твое, что съешь».) Но власти сепешских саксонских городов не только ничего не забирали у своих граждан, а даже не позволяли им самим растрачивать и проматывать нажитое. В сепешских городах всегда действовали разумные, осмотрительные законы, и граждане всегда тщательно их соблюдали! У нас же, венгров, если и бывали порой хорошие законы, то мы все равно не считались с ними.
Для того чтобы подчиняться лёченским законам, нужно было иметь добродушный нрав и привычку к строгому послушанию, потому что лёченские законы очень глубоко вторгались в личную жизнь граждан. Саксонец еще до появления на свет попадал под опеку «Городского уложения», «Полицейского уложения», всяких статей и параграфов, которые до конца жизни определяли его путь, направляли буквально каждый его шаг по нашей планете и заставляли быть трезвым, бережливым и в конце концов — богатым.
Испытывать на себе заботу этих законов гражданин Лёче начинал еще в утробе матери и тем более — после своего появления на свет. Стоило только маленькому саксонцу родиться, как закон предписывал, сколько человек, помимо крестных отца и матери, родители новорожденного имели право пригласить на крестины, в зависимости от своей зажиточности, как и какими кушаньями могли потчевать гостей, и все это только для того, чтобы не допустить мотовства. А поскольку и сепешские саксонцы — тоже люди (в большинстве своем — хорошие, добрые люди), то и в них иногда просыпался бесенок и лукавство и они стремились обойти закон. Лёченцы не приглашали гостей в количестве большем, чем разрешает закон, а звали на крестины человек двадцать — тридцать восприемников и столько же восприемниц. Ах, так? И сенат, словно коршун на добычу, набросился на нарушителей закона. Разбив граждан на имущественные классы, городской сенат Лёче строго-настрого определил, сколько пар «крестных родителей» (самое большее две-три пары) можно было семье каждого разряда приглашать на крестины. Это разграничение в дальнейшем и послужило причиной распространившегося в Лёче недуга — погони за «кумовством». «Семья с одной парой кумовьев», если она была тщеславной, старалась перейти в число «двухкумных». А семейства, имевшие право на три пары «крестных», считались аристократическими. В те времена право иметь три пары кумовьев куда точнее определяло материальное положение семьи, чем ныне иная «поземельная книга». Даже богатство Кенделя из Белы мерили в Кешмарке или Лёче тем, что он «хоть сотню кумовьев мог бы пригласить на пир».
Такое определение было своего рода знаком отличия. Ей-богу, если бы короли вдруг перестали развращать сознание своих подданных титулами и почетными званиями, люди сами нашли бы для себя духовный яд.
Итак, в Лёче было все заранее расписано — от крестин до похорон: и порядок обучения в школе, и такса за венчание, и траты на свадебный пир; господа сенаторы предусмотрели даже вознаграждение музыкантам.[18] Но вот играть в карты, в кости, а также содержать богатые выездные упряжки вовсе запрещалось.
И бюргеры со скуки трудились да копили деньги. Ведь на что было их истратить саксонскому бюргеру? Любовницу завести он не мог: если бы об этом узнали власти, обоих прелюбодеев немедленно изгнали бы из города. Но если бы кто-нибудь и завел себе любовницу, сумев сохранить это в величайшей тайне, все равно ее содержание стоило бы ему гроши: гражданам Лёче запрещалось носить драгоценные камни — бриллианты, восточные жемчуга, смарагды и красивые красные рубины. Среди дозволенных к ношению камней самыми дорогими были аметист и чешский гранат. Ожерелий лёченские красавицы и знать не знали. В лучшем случае носили на шее дешевенькие, открывающиеся медальоны — сердечки из серебра или золота. Роскошные наряды тоже запрещались полицией.[19] Женщины из бедных слоев имели право одеваться в моравское сукно, ситец, турецкую фланель, персидскую кисею. У девушек почиталось роскошью украсить передничек, в котором они ходили по воскресеньям в церковь, вышивкой — обозначив изящными готическими буквами свое имя — «Элизабет Цаблер» или «Катерина Фрибель» (вообще говоря, не такая уж плохая мода с точки зрения молодых парней, стоявших в церкви у входа и высматривавших себе невесту). Для девушек-служанок правила отводили сортов пять самых дешевых тканей: кумач, плис, бумазею и бязь,[20] поэтому кокетки предпочитали поступать в услужение в семейства, жившие за городской чертой. Жены и дочери промышленников, ремесленников и купцов, державших двух и более подручных или приказчиков, могли уже, словно павы, прогуливаться в тонких английских, голландских сукнах и тафте, если были заражены микробом тщеславия. Весьма милые юбочки делались из тонкой шерсти, шелка и сатина. Что же до генуэзского бархата и других шелков, то они составляли привилегию жен патрициев, им же разрешалось носить и золотую парчу («хотя честная женщина или барышня, разумеется, не станет так наряжаться»), зато брюссельские и прочие дорогие кружева строго-настрого запрещались. Девушкам не позволялось носить на голове никаких иных украшений, кроме обруча, «ибо косы их, — замечало «Уложение», — и без того величайшее украшение». Платья разрешалось делать с глубоким вырезом (поскольку это денег не стоило), однако лёченские красавицы не очень-то пользовались этим правом, так как были обычно плоскогрудыми.
При таких условиях лёченцам вполне можно было по-своему перевернуть легкомысленную венгерскую поговорку: «Живем бедно, но хорошо», и сказать: «Живем богато, но плохо».
И все же нельзя не удивляться отцам города, как ловко они умели управлять, а еще больше дивиться гражданам, как они приучились подчиняться. По сути дела, это было весьма мудрое, разумное управление. Лёченский бургомистр с его сенаторами и квартальными, словно венецианский дож в миниатюре, проводил железную политику, беспощадно пресекавшую всякую роскошь, так как отлично понимал, что роскошь — это роковая язва, что подражание образу жизни, который вели, например, господа дворяне и помещики, погубило бы их город, ибо весь его авторитет и привилегии основывались на богатстве и бережливости граждан.
Вот в грубых чертах те рамки, в которых расцвели в XVI веке саксонские города Верхней Венгрии, где было столько богачей, прятавших в своих подвалах набитые золотом и серебром сундуки и торговавших в дальних чужих краях вином и кожами, владевших огромными богатствами, которые они постоянно наживали, тогда как господа дворяне вели войны — то в союзе с турками против австрийцев, то под знаменами австрийских императоров против турок!
Причин великого обогащения саксонских городов было много и помимо их удивительных законов и «Уложений»: ведь городское население было трудолюбивым, бережливым, развивало у себя всяческие полезные ремесла, производило товары, занималось торговлей. Все это, конечно, важные источники богатств, и на них указывают все историки, причем им кажется, что они заглядывают в глубь веков, а на самом деле эти ученые мужи повторяют избитые истины. То обстоятельство, что в этих городах были умные законы (и еще не было там евреев), несомненно, было благоприятным для их обогащения, равно как и кипевшая в них ключом торговля. Но все же, если заниматься только обычными ремеслами, уж очень больших богатств не скопишь. Пришлось бы довольствоваться, можно сказать, «мелкой рыбешкой». Добытые ценности и общеизвестные способы их приобретения вызывали во все времена лишь драку среди стяжателей: хоть и много гроздьев на виноградной лозе, но не меньше и лис, желающих полакомиться ими. Однако, на счастье добытчиков, во все времена появлялись все новые ценности и новые способы их приобретения. Изобретать их и умело ими овладевать — вот что составляло задачу так называемых «удачников».
В старину, когда саксонские города Сепеша были еще совсем бедными, за одну ловко срубленную вражескую голову храбреца одаривали: он получал в награду четыре, а то пять деревень, при условии, что его боевой подвиг был совершен на глазах правителя; в наши же дни, когда сепешские города снова обеднели, вы можете быстро разбогатеть, проведя железную дорогу или получив выгодную концессию у правительства (но теперь уже при том условии, что власти, наоборот, закроют глаза на ваши подвиги).
В описываемую же мною пору в Венгрии была открыта, так сказать, новая ценность: турецкие пленные. Люди военного сословия, постоянно сражаясь с турками, иногда пригоняли домой целые полчища пленников, в особенности до восстания Тёкёли (позднее пленные турки повывелись, подобно диким кабанам в наших лесах), и в каждом мало-мальски приличном имении всегда держали пленных турок, — их наличие даже считалось признаком богатства хозяина, как, скажем, оленьи рога на стенах в столовой замка или медвежьи шкуры на полу гостиной.
Все это были трофеи. Воинственный хозяин дома, рассказывая, как попали к нему в руки Омар или Хасан, хвастался ими перед своими гостями точно так же, как ныне охотники хвастаются добытыми оленьими рогами. Да, пожалуй, и больше, потому что пленные рабы служили доказательством личной храбрости, боевой доблести благородного рыцаря. Такой трофей дороже, чем оленьи рога. Правда, убитого оленя можно было зажарить и съесть, а пленный турок, наоборот, сам требовал еды — и немало; работать же, как венгерский крепостной, он не мог: в лучшем случае достанет воды из колодца, покачает ребенка в люльке, поможет прополоть огород.
Поэтому венгерскому барину очень скоро надоедали пленные турки, в особенности если их скапливалось слишком много, и он начинал ворчать:
— И на кой черт я кормлю всю эту свору дармоедов? Одного-другого турка хозяину еще удавалось сплавить в «подарок»: где — шурину, где — куме. Но что было делать с остальными, он не знал. А тут еще и мягкосердечная барыня, жалея несчастных, со вздохами поглядывавших в сторону Мекки, то и дело пилила мужа:
— Давай отпустим их по домам. Вот увидишь: поступим мы по-христиански — и господь бог вознаградит нас за доброе дело!
И вот когда такие настроения начинали преобладать в доме воителя, к нему заявлялись приказчики господина Кенделя из Белы (или приезжал самолично Михай Блом из Лёче) и предлагали за турецких пленных звонкие золотые талеры, а если помещик попадался посговорчивее, то и серебряные. Господа вначале стеснялись вступать в такие сделки, но потом пришли к мысли, что будет надежнее получить выкуп за пленных с Кенделя или с Блома, чем послушаться барыни и, поступив «по-христиански», доверить все это дело господу богу. В конце концов установились определенные формы таких сделок, и господа военные уже находили, что подобный доход не порочит их дворянского звания.[21]
Разумеется, дело было некрасивое, но лишь в той его части, которую брали на себя Кендель или Блом. Поведение же помещика оставалось вполне comme il faut[22]. Ведь господа дворяне сами денег с пленных не брали, они просто избавлялись от дармоедов. Конечно, при этом они принимали плату от работорговцев, но почему бы им отказываться от нее, если покупатели любезно предлагают деньги, и деньги у них есть, а у дворян их никогда нет? Какая тут несправедливость по отношению к пленным? Никакой. Просто пленные от Пала переходят в руки Петера, то есть господа Кендель, Блом или, скажем, братья Шпитцы из Кешмарка берутся доставить рабов прямехонько на родину, в Турцию. И, разумеется, дворяне не рядились, не торговались, сколько стоит такой-то из невольников. Они ведь не торговцы «живым товаром», они были рыцари, воины и совершали сделку оптом, одним-единственным рыцарским словом.
Жадные работорговцы, разумеется, поступали с пленными как хотели. Но это уже было их дело, пусть они и отвечают за свое богомерзкое занятие. Скупленных за бесценок пленных они сгоняли со всей страны в одно место, к себе «на склад». Причем «склад» Кенделя находился попеременно то в Лёче, то в Беле, в зависимости от того, где это было выгоднее для всей его коммерции, — ведь Кендель торговал не только невольниками, но и вином, а Михай Блом скупал и продавал свиней. Кроме того, у обоих купцов был побочный промысел: они давали деньги в рост.
Для торговли невольниками существовали специальные конторы с многочисленными служащими и агентами. И нет на всем белом свете такой пиявки, которая сумела бы высосать из человека больше крови, чем эти почтенные коммерсанты. Первым делом их конторы производили сортировку пленных, составляли на каждого «справку» с подробной биографией, собирая для нее сведения о прошлой жизни невольника: откуда родом, каково материальное положение родителей или родственников; эти важные данные пересылались в Стамбул, в общую для всех трех фирм контору. Пока стамбульская контора наводила справки, верны ли собранные у пленных сведения или в чем-то их надо изменить, владельцы отдавали своих рабов внаем местным жителям — на постройку домов или на другие работы, чтобы невольники времени даром не теряли, а зарабатывали денежки для своих новых хозяев. Словом, все было продумано, все шло как по писаному.
Из Стамбула приходили уже проверенные сведения с важными дополнениями, и тогда рабов окончательно сортировали и каждому из них назначался размер выкупа. Когда поступал выкуп, агенты везли пленных на Восток, а вместе с ними вывозили и вина господина Кенделя; на обратном же пути гнали для господина Блома стада свиней из Сербии.
Видите, как просто, проще, чем расплести женскую косу, — она ведь состоит из тысяч и тысяч волосков.
Вот так и сколачивались крупные состояния, — их история полна подобных примеров. Медные свои гроши бедняки добывают тяжелым трудом, в поте лица своего, а золото богачей — это плод ловкости и изворотливости.
Как бы то ни было, деньги в конечном счете утекали в города, и господа дворяне ни в чем другом не испытывали такой острой нужды, как в деньгах. Удивительно, до чего же мало денег было у дворян! Они могли получить их лишь в обмен на шерсть или на волов. Но волов и овец у помещиков, как правило, реквизировали различные бродившие по стране вооруженные отряды. Разумеется, при этом помещику выдавалась бумажка о том, что он не получил ни гроша за свой скот. Были, правда, у дворян и леса, но в те времена Венгрия еще не научилась сводить и продавать лес; были у них земли, но тогда не существовало ипотечных банков, дававших деньги под залог земель. Напрасны бывали попытки помещика извлекать доходы из своих имений. Когда-то господин Гузман купил село Стоянфалва в Сепеше за восемнадцать марок, а сто лет спустя, когда население деревни вымерло от чумы, тогдашняя владелица, некая благородная девица, продала это же самое село за пару желтых сапог.[23] Оставалось одно: прибегать к займам у ростовщиков; но кто вступал на этот путь, мог распроститься с имением: заимодавцам порою за бесценок доставались огромные владения.
Одним словом, денег у дворян никогда не было. (Потому-то и приходилось Балашам и Бебекам чеканить собственные деньги из медных колоколов!) Не было денег у самих императоров, не было их и в казне. Недаром же в один прекрасный день император вынужден был отдать пекарю Харрукерну целый комитат Бекеш для погашения своего долга в несколько тысяч форинтов.
Но ведь где-то должны были быть деньги? Мы уже сказали, что они утекали в города. «Помчимся-ка и мы за ними следом! — решили дворяне. — Ищи там, где есть».
И отпрыски знатных дворянских родов стали охотиться за дочерьми сепешских, в особенности — лёченских бюргеров. Охоту начали шарошские дворяне: у них лучше других был развит нюх на деньги. Их примеру последовали господа дворяне из комитатов Гёмёр и Ноград. Охотники двигались затем дальше и дальше, перебрались через Дунай. Мишка Безереди как раз из-за Дуная привез себе жену, урожденную Нину Корб. (Старик Корб отсчитал высокородному зятю пятьдесят тысяч золотых приданого.) Имре Бабарци получил за Иоганной Гаврин дом в Вене.
Число приезжих в Лёче возрастало. Зимой в городе скапливалось теперь множество помещичьих экипажей и приехавших в этих экипажах женихов — молодых красивых баричей, сопровождаемых многочисленной прислугой — кучерами, гусарами.
И как заботливо провидение в таких случаях! Одна и та же таинственная сила природы заставляет петухов кукарекать в предрассветный час, а небосвод алеть, обращая ночь в день; два самостоятельных явления, а говорят они об одном и том же. Этим же чудом можно, вероятно, объяснить и то, что в трезвых, рассудительных головах лёченских бюргеров зародилась весьма неумная мысль: выдавать своих дочерей за дворян. Желание мещан породниться со знатью стало неудержимым, они просто трепетали от нетерпения. А мамаши? «Ах, как приятно, — думали они, — породниться с благородными господами! Как замечательно, что мои внуки будут именоваться: не просто Тоот, а Тоот из Проны, Тоот-Пронские или Екельфалуши!» Даже юноши-саксонцы не имели ничего против этой моды: ведь благодаря ей они становились родичами венгерских аристократов.
А из этого обоюдного желания вскоре возникла удивительная форма сводничества. В городе Лёче не было гостиниц. Ни одной. Но зато почти на каждых воротах красовался бант из древесных стружек, означавший, что в этом доме вас и пивом угостят и примут на ночлег: испокон веков такое гостеприимство было доходной статьей всех бюргеров. Для этой цели они держали про запас одну комнатушку в задней части дома, а кое-кто даже сдавал внаймы конюшню купцам, стекавшимся в Лёче на ярмарку (в другое время приезжие подолгу в городе не заживались). Ну кто бы мог подумать, что когда-нибудь наступит для Лёче пора брачных треволнений!
Да если бы в городе даже и нашлись гостиницы, в которых могли бы останавливаться знатные господа, это еще не решало дела: ведь женихам-дворянам нужно было каким-то образом приблизиться к богатым невестам, ради которых они, собственно, и приезжали в город. Публичных балов в те времена еще не давали. Правда, в Лёче часто устраивались цеховые пирушки, празднества по поводу избрания ремесленных старшин и другие торжества, но в них дочери богатых патрициев не участвовали. Патриции собирались в семейном кругу на именины, свадьбы и для прочих невинных забав, но эти празднества были наглухо закрыты для посторонних. А между тем из девушек и юношей, принадлежавших к различным сословиям, супружеская пара могла составиться только при том условии, что они вращались бы в одном обществе хотя бы несколько лет.
Пришел час найти место, где подобные желания могли бы воплотиться в действительность. Родилось сводничество. Конечно, не в той отвратительной форме, каким мы знаем его в паши дни. Пока еще оно выступало деликатно, благородно, в напудренном парике, под грациозные звуки менуэта. Некоей старой деве Матильде Клёстер, особе образованной, добродетельной и весьма строгих правил, бравшей и прежде на воспитание маленьких девочек, однажды пришла в голову мысль (и не удивительно, что она ей пришла) снять в аренду три смежных дома, сломать разделявшие их стены, нанять отличную прислугу: лакеев, горничных, повара и кухарок, а затем за хорошую плату принимать к себе на зимнее время бюргерских дочек, которые уже заневестились, и обучать их в своем пансионе деликатному обращению, светским манерам — словом, всяким безделицам, украшающим благородных барышень.
Выдумка пришлась по нраву обеим заинтересованным сторонам. Может быть, вначале люди еще и не предполагали, чем эта затея кончится, не думали, что пансион мадемуазель Клёстер превратится в ярмарку богатых невест, а просто действовали, повинуясь слепому инстинкту. Но как бы то ни было, теперь благородные баричи без особого труда могли знакомиться со всем девичьим выводком и узнавать, какое приданое обещано за той или другой красавицей. И если дело удавалось сладить (а сводница все заботы по сватовству брала на себя), молодые супруги, разумеется, не смели отказать ей в сравнительно небольшой, заранее известной денежной награде.
Старая дева, дочь полковника императорской армии, мадемуазель Матильда Клёстер происходила по женской линии из рода Лошонци и, следовательно, состояла в родстве со многими знатными венгерскими семействами; она переписывалась не меньше чем с дюжиной старых барынь и охотно сообщала им самые свежие лёченские сплетни — в обмен на свежий свиной ливер, за что и пользовалась у них большой популярностью. Неплохой рекламой для учебного заведения мадемуазель Клёстер послужило то обстоятельство (о котором она сама растрезвонила всему свету), что дочери двух богатейших людей Сепеша — Мария Кендель и Клара Блом, младшая сестра Миклоша Блома, обе — девушки на выданье, поступили в этот пансион. О, какая крупная дичь! Теперь жди, город Лёче, в эту зиму и веселой масленицы, и больших доходов! Надо полагать, в город теперь соберется множество мотов — молодых барчуков, и все товары в лавках пойдут втридорога.
Бломы, проживавшие в Лейбице, и бельские Кендели являлись внуками тех самых купцов, которые в свое время разбогатели на торговле пленными турками. Отцы их были даже компаньонами, но сыновья стали конкурентами, хотя богатство обоих негоциантов имело одно общее происхождение. Но как велики были их капиталы, этого не знала ни одна душа на свете. Даже приблизительно! Перед состояниями таких размеров бессильна сама таблица умножения, и лишь людская молва играет тут цифрами, умножая их и рассказывая о них легенды! Сепешский край любопытствовал, какое приданое назначат за своими дочками два богача-скупердяя. Господин Блом еще ранней осенью отдал в пансион мадемуазель Клёстер свою Клару (хорошенькую девчурку, с блестящими, черными, как угольки, глазами). Кендель же прибыл в Лёче с дочерью лишь в начале ноября, когда к городу вел уже хорошо укатанный санный путь. К этому времени лёченцы вовсю обсуждали вопрос о приданом Клары Блом, но старик Кендель, слывший большим чудаком, не поинтересовался городскими толками и прямо с дороги повез свою Марику (девушку более стройную, чем Клара) к мадемуазель Клёстер, внес вперед плату за весь срок обучения в пансионе и предъявил требование, чтобы его дочь получила воспитание ничуть не хуже, чем любая барышня из графского рода Чаки. «Потому что, кто знает…» — заметил при этом старик, прищурив свои маленькие серые глазки, и многозначительно оборвал фразу на полуслове, уверенный в том, что человека с толстой мошной каждый должен понимать с полуслова. Мадемуазель Клёстер в знак того, что она действительно поняла богача, угодливо закивала головой, но задала деликатный вопрос:
— Какое же приданое господин Кендель согласен дать за Марикой, в случае если…
Будучи особой благородной и весьма учтивой, она, разумеется, тоже не докончила фразы.
— Гм… — проговорил Кендель. — А сколько пообещал дать Блом?
— Как? Разве вы не слышали, что говорят в городе?
— А что, уже все знают?
— Разумеется! — небрежно обронила мадемуазель. — Приданое для того и назначают, чтобы о нем знали все.
— Нет, я еще не успел ни с кем поговорить.
Тут мадемуазель Клёстер достала большой фолиант, в котором на каждую воспитанницу у нее был отведен отдельный лист, и прочитала вслух:
— Клара Блом получит в качестве приданого четыре дома: два в Кашше, один в Буде и один в Эперьеше, а также, согласно старому саксонскому обычаю, две коровы.
— Только и всего? — пренебрежительно бросил Кендель. — Так вы говорите: приданое для того и назначают, чтобы о нем все знали? Гм, ну пусть тогда все знают, что я даю за Марикой восемь домов, из них два — в Вене. Запишите.
И, гордый сознанием совершенного сейчас подвига, Кендель отправился к себе домой, в Белу. На этот раз он дал своему сопернику Блому хороший щелчок по носу.
Дома, однако, супруга Кенделя решила, что нужно хорошенько насладиться всеобщим восторженным изумлением по поводу богатого приданого Марики, и уже на следующую неделю уговорила мужа провести несколько дней в Лёче, тем более что там в это время находился и их сын Миклош. Какой же был смысл давать за Марикой такое состояние, если отец и мать будут сидеть у себя в Беле и не услышат ни одного слова восхищения? Ведь единственной наградой за ту великую жертву, которую родители невесты приносят в виде приданого, назначенного дочери, служит зависть остальных отцов и матерей. И вот супруги Кендель отправились в Лёче. О, если бы они знали, какое их там ждет разочарование! Город был уже полон слухами о том, что позавчера в Лёче приезжал Блом и, услышав, сколько Кендель посулил дать за дочерью, увеличил приданое своей Клары до шестнадцати городских домов и вдобавок дает две коровы, как это водится у саксонцев.
Короче говоря, заносчивые Кендели были встречены в Лёче не восторженным изумлением, а ироническими улыбками да усмешками:
— Слышали новость? Блом-то как расщедрился, черт побери! И кто бы мог подумать? Вот молодец!
От такой вести Кенделю кровь ударила в голову, а его супруга залилась слезами: «Не перенести мне позора, Гашпар. Делай со мной что хочешь, не перенести!»
— Разбойник! — рявкнул Кендель. — Разорить меня задумал! — Он швырнул свою шапку на стол в трактире и закричал: — Ой, боюсь, наделаю я глупостей!
Его знакомые, находившиеся в трактире, — Госновитцер, Донат Маукш и еще несколько человек, — всячески пытались успокоить его:
— Оставьте, сударь! Блом — упрямый человек. Он нам уже сказал, что это еще не последнее его слово, если дело пойдет на спор.
Однако подобные уговоры только распалили гнев маленького щуплого Кенделя.
— Ах так? Не последнее слово? Кто это сказал? Он? Ах, даже не он, а его сынок? Ну погодите, клянусь богом, это будет наипоследнейшее его слово. Сейчас вот наложу на его рот такую печать, что после этого он ни звука выдавить из себя не сможет!
С этими словами Кендель схватил шапку и, оставив в трактире жену и приятелей, помчался в дом Бобешта, к мадемуазель Клёстер, которая в эту самую минуту показывала своим воспитанницам, с какой грацией должна девица сделать реверанс, протягивая руку коленопреклоненному кавалеру, как бы помогая ему подняться с земли. Одна из девушек, изображая кавалера, стояла преклонив одно колено, и как раз тут господин Кендель распахнул дверь.
— Ради бога! — испуганно воскликнула мадемуазель, увидев его искаженное гневом лицо. — Что-нибудь случилось?
— Вам это лучше меня известно! — буркнул старик, тяжело дыша. — Негодяй Блом хочет пустить меня по миру и дает за своей дочкой теперь уже шестнадцать домов. Правда это или нет?
— Весьма похвальное намерение с его стороны, — строго заметила хозяйка пансиона, и по ее тощему морщинистому лицу было ясно видно, что столь деликатный вопрос должен обсуждаться другим тоном и в другом месте. — Разве я могу чем-нибудь воспрепятствовать этому?
— Зато я могу, и я это сделаю! — угрожающе завопил Кендель, задыхаясь и так размахивая руками, словно он кому-то наносил удары шестопером. — Запишите, мадемуазель, что Гашпар Кендель против шестнадцати бломовских домов обещает дать за своей дочерью шестнадцать городов.
Тут карие глаза мадемуазель Клёстер округлились и сделались такими большими, как самые крупные сливы из Дураццо.
— Шестнадцать городов? — изумленно повторила она и вперила свой взор в глаза Кенделя. — Разве это возможно?
— Шестнадцать сепешских городов! — добавил Кендель, с трудом переводя дыхание.
— А можете вы это сделать?
Кендель усмехнулся.
— Если Кендель сказал, то это уж как в Священном писании, а то и вернее!
После этого он поцеловал подбежавшую к нему Марику и, пообещав дочке, что после обеда ее навестит и матушка, удалился медленной, полной достоинства поступью. Мадемуазель Клёстер даже спустилась по лестнице, соблаговолив проводить могущественного богача. На последней ступеньке Кендель уже окончательно пришел в себя и, прощаясь с хозяйкой пансиона, сказал:
— Этот Блом совершенно вывел меня из терпения. В особенности своими «двумя коровами». Хорошо, что я хоть душу отвел, а то уж чувствую: вот сейчас хватит меня кондрашка. Искренне сожалею, ежели я сгоряча чем-нибудь обидел его телочку, то есть дочку. Я ведь человек добрый. Ох уж это мне бломовское хвастовство! Да еще и коров сюда приплел! Погоди, погоди, уж я от тебя не отстану. Запишите, пожалуйста, что, помимо шестнадцати городов, я обещаю за дочкой еще и старого осла. Пусть мой будущий зять сам догадается, что сей осел означает.
И, весело захохотав, Кендель с довольным видом зашагал по двору, а затем он хохотал и на улице — хохотал всю дорогу и, колотя себя в грудь, приговаривал:
— Осел — это я сам, я — старый Гашпар Кендель! Ха-ха-ха!
Прохожие удивленно оборачивались и смотрели ему вслед, уж не спятил ли богач Кендель? Однако о сумасшествии тут не могло быть и речи: беспокойный хвастун в том же месяце укатил из Лёче в легкой тележке и направился в Краков, к польскому двору, а затем, успешно завершив там свои дела, поехал в Вену, где его должником была сама имперская казна, и попросил аудиенции у императора, лично знавшего чудаковатого банкира из Верхней Венгрии. В верноподданническом письме, которое он подтвердил затем и устно, Кендель предложил австрийскому императору выкупить на свои деньги шестнадцать сепешских городов, заложенных в свое время польским королям.[24] Но зато он Кендель, подарит эти города своей дочери в качестве приданого. Дочь Кенделя, разумеется, будет обладать по отношению к выкупленным городам точно такими же правами, какими по сих пор пользовались польские короли, с той лишь разницей, что города эти войдут в состав Венгрии и именно этой стране, а не Польше будут поставлять своих солдат. (Маленькой Марике солдаты совсем не нужны!)
Императору понравилась выдумка Кенделя, и ее уже начали пропагандировать в Вене. Накануне рождественских праздников губернатор Сепеша сообщил своим дворянам и прочим сословиям о предложении Кенделя, однако совершенно неожиданно оно натолкнулось на резкий отпор внутри Сепешского комитата, и сразу же стало ясно, что из всей этой затеи ничего не получится. Почему? Одному богу известно. Ведь до сих пор все венгры твердили, что нужно как можно скорее воссоединить с Венгрией некогда отторгнутые от нее территории. Вероятно, сословиям показалось обидным сделать это в пользу Кенделя. Но как бы там ни было, а заложенные Польше города должны быть благодарны Кенделю за его попытку, потому что с той поры жителям их жилось на чужбине гораздо лучше, чем гражданам остальных сепешских городов, пребывавших в лоне австрийской «матери-родины». Да и по сей день жизнь протекает в них, пожалуй, больше на венгерский лад, нежели у их собратьев, оставшихся в пределах собственно Венгрии. Польское правительство, например, ввело в школах этих шестнадцати городов обязательное преподавание венгерского языка[25], тогда как в городах венгерского Сепеша венгерский язык никогда не преподавался. Вот как обстояли дела в Лёче накануне веселой, сверкающей огнями масленицы. За окнами, уставленными горшками с пеларгонией, да и вообще повсюду, люди в мечтах уже видели себя на празднике, как вдруг поутру на улицах, на площади и в переулках загремел проклятый барабан глашатая и развеял розовые облака мечтаний. Ясное синее небо в один миг покрылось черными тучами.
Строгие распоряжения городского сената вызвали всеобщее недовольство. Рассказывают, что с мадемуазель Матильдой Клёстер случился сердечный припадок и она смогла только промолвить: «Что же теперь с нами будет?»
Купцы и ремесленники резко критиковали сенат: — Так нельзя! Бургомистра убили, это верно. Но зачем же вслед за ним убивать и весь город? Именно теперь, когда Лёче так хорошо и быстро начал развиваться! Вчера у нас был только один покойник — бургомистр, а теперь умрет целый город. Господам сенаторам, видите ли, хочется отомстить. А там хоть трава не расти! Глупо это!
Донат Маукш шагал по направлению к площади и тащил за руку свое непослушное чадо, которое упиралось, как бычок по дороге на бойню, и никак не желало идти в школу; возмущенные купцы, завидев сенатора, выскочили из своих лавок, окружили его и стали упрекать и допытываться: зачем властям понадобилось омрачать жизнь в городе на неопределенно долгое время? Какие обстоятельства заставили их принять такое решение?
Господин Маукш замялся, поскреб в затылке и, потирая лоб, глубокомысленно изрек:
— Не стану я говорить ни так, ни эдак, а иначе вы можете подумать, что я сказал так для того, чтобы не сказать эдак!
Объяснение сенатора никого не удовлетворило, зато пошло на пользу его сынишке. Заметив затруднительное положение отца, он выдернул свою ручонку из его лапищи, помчался по извилистой улице и спрятался в такой закоулок, что там и днем с огнем не отыскали бы озорника.
Впрочем, среди горожан, обсуждавших неудачные распоряжения сената, кое-кто склонен был видеть в них не только стремление отомстить вице-губернатору Гёргею, но еще и какую-то особо глубокую мудрость.
Городские власти и прежде-то не слишком восторгались тем, что венгерская знать ездит в Лёче «ловить золотых рыбок» (причем молодые рыбаки норовили выудить самых крупных), однако в этом занятии еще не было ничего предосудительного; напротив, влиятельные господа считали весьма полезным и добрым делом «слияние сепешских саксонцев с венгерской нацией», и потому городской сенат не мог открыто и прямо восстать против такого слияния. Теперь же господа сенаторы обрадовались случаю и решили хотя бы косвенно помешать новым обычаям, превратив Лёче в траурно-черный город, где не будет ни музыки, ни веселья и никакой жизни и куда поэтому и в голову никому не взбредет ездить за цветами, коль скоро и цветы-то здесь растут лишь для украшения погребального катафалка.
…Нет, видно, ума достаточно у лёченского сената. Хватит хоть на три государства!
ГЛАВА ВОСЬМАЯ Vitam et sanquinam pro vicecomite nostro[26]
Дворяне, проживавшие в те времена в вольных городах, чувствовали себя там не очень удобно, подобно альпийским серебристым елям, которые не приживаются среди вязов, в лиственных наших лесах. В городах дворяне не пользовались никакими привилегиями по сравнению с остальными горожанами: законы города в равной степени распространялись на всех, а значит, и на них; одним словом, в городе господствовали бюргеры, и уж одно это было не по нраву дворянам.
Поэтому они предпочитали селиться за городской чертой, вне крепостных стен, — там их, правда, подстерегало больше опасностей, но зато больше было и свободы. И боевые приключения на каждом шагу. От великого безделья магнаты всегда придумывали какое-нибудь дело, для которого требовалась сабля мелкопоместных дворян. Вот почему они и предпочитали жить по деревням, под сенью семи сливовых деревьев *, среди крестьян, — там даже захудалые помещики могли чувствовать себя господами. Если, помимо мелкоты, жили в деревне и крупные магнаты, вроде Пала Гёргея, оскудевших дворян это не только не стесняло, но, наоборот, воодушевляло, как бы подтверждая их мнение, что и магнат и они равноправные члены дворянского сословия, украшение святой короны, подобно тому как любая жемчужина считается драгоценностью, будь она величиною с орех или — с просяное зернышко!
В Гёргё, например, еще не исчезла память о таких дворянских родах, как Бибоки, Фехеры, Валлаи, хотя им уже принадлежали лишь маленькие клочки земли. Дома этих обедневших дворян мало чем отличались от крестьянских, разве только тем, что имели террасу при входе: ведь дворянину полагалось сидеть на террасе, покуривая трубку, — это был главный его отличительный признак.
Дом Бибоков стоял как раз напротив южной башни гёргейского замка. Разумеется, в час опасности, когда заговорили бы крепостные пушки, они снесли бы жилище Бибоков с первых же выстрелов, не уцелел бы ни единый кирпич. Глупо было строиться на таком месте, — об этом говорю не только я, говорили это Бибокам и другие. Но у старого Винце Бибока на все был один ответ: он молча показывал на свой герб — коронованную белку, взбирающуюся на дерево, — и девиз на гербе: «В нужный час и я буду там», то есть за крепостными стенами замка. В этом девизе нашла изящное выражение вечная преданность рода Бибоков вельможному роду Гёргеев, и вместе с гербом и перстнем-печаткой эта верность переходила у Бибоков из поколения в поколение.
В тот день, когда в лёченской ратуше установили на помосте гроб с телом бургомистра, на барском дворе Бибоков двое подростков возились с небольшой, но строптивой вороной лошадкой, которую они во что бы то ни стало хотели объездить под седло. Старый Винце Бибок пообещал кобылку тому из своих сыновей, которому удастся поскорее ее укротить. Но Горка (так звали лошадку) оказалась упрямым существом: при всякой попытке сесть на нее верхом она принималась кусаться, лягаться, вставать на дыбы, а если и эти уловки не помогали — валилась вместе с седоком навзничь. Молодые Бибоки перепробовали все, но неизменно вылетали из седла, — и только потому, что на земле уже лежал мягкий, как перина, снег, все это походило на веселую забаву. У двора Бибоков, за воротами, украшенными небольшим шпилем, собралось уже немало зевак: мужчин, старух, ребятишек, и зрители с явным удовольствием глазели на потешные усилия молодых наездников. Бух! Опять полетел Мишка. А ну, теперь Йожи пусть попробует! Эй, осторожней! Гляди, она сейчас в конюшню затащит!
Толпившиеся у ворот ротозеи, разумеется, делали и другие умные замечания, рассуждали между собой.
— Наверное, опять война будет, — говорил один крестьянин.
— Да ты в уме? Ишь что говорит!
— Раз Бибоки коня объезжают, это неспроста.
— Откуда же Бибоки могут знать: будет война или нет?
— Откуда? — ворча, захлопывал крышку своей трубки старый батрак. — Дворяне, они кровью войну чуют, как вот, скажем, мои кости — непогоду.
— Ну, ежели война начнется, как только один из этих парнишек объездит кобылку, то нам еще далеко до войны.
— Норовистая скотинка — это верно. А с виду смирная! На водопой к колоде, так хоть на ниточке веди — не вырвется!
В это время, свернув с большака и пройдя узким переулком мимо сельской кузницы, к воротам подошел необычного вида странник. Одет он был в какое-то подобие женского цветастого жакета, подпоясанного кушачком. Лохматые длинные волосы, выбиваясь из-под потертой барашковой шапки, свешивались почти до спины. Через плечо на лямке была перекинута полосатая дорожная сума; один сапог уже «просил каши», и подметка держалась лишь благодаря шнурку, которым она была привязана к головке.
Незнакомцу можно было дать лет пятьдесят. Это был высокий, сильный мужчина, отличавшийся необыкновенной волосатостью: буйная шевелюра, пышные густые усы, борода, лохматые брови, а сквозь косматые заросли на лице проглядывали черные, острые, как у гиены, глаза. По лбу наискось до правого уха тянулся красный шрам. Подвешенная на обычной бечевке широкая сабля с медной рукоятью болталась на ходу и все время ударяла то об одну, то о другую ногу путника. Не обратив никакого внимания на зевак, неизвестный отворил калитку и вошел во двор Бибоков.
— Здравствуйте, дорогие мои младшие братцы! — сказал он подросткам, даже не подумав притронуться к шапке на своей голове.
Один из молодых Бибоков, в сотый раз поправляя на лошадке сбившееся набок седло, сердито взглянул на пришельца, удивившись обращению «мои младшие братцы», и, видя, что незнакомец уже поднялся на крыльцо и собирается, не дожидаясь ответа, проследовать в сени, через которые из кухни плыли соблазнительные ароматы томившихся в печи яств, заорал:
— Эй, вы?! Вам чего?
Пришелец рассмеялся и, подчеркивая каждое слово, с театральным пафосом ответил:
— Ничего мне не надо, младшие мои братцы, дети моей супруги, хочу только взглянуть на нашего папашу: жив ли он еще!
Старший подросток, почуяв недоброе в таком странном ответе, бросил и седло и лошадь и помчался следом за незнакомцем в дом, а стоявшие у ворот зеваки принялись судачить, ломая голову над удивительным ответом странника.
— Как он сказал? «Мои младшие братцы?» Может, это старший сын Бибока от его первой жены? (Помнится, одно время что-то говорили про него в деревне!)
Но ведь незнакомец сказал еще другое: «Дети моей жены»? Вот и пойди тут разберись!
Любопытные потоптались у ворот еще немного, ожидая, когда странник выйдет из дома. Вдруг что-нибудь случится? Может, это даже бродячий солдат, а то и шпион жульническим способом проник в чужой дом? Впрочем, за старого Бибока бояться нечего: он в два счета вытурит кнутом из своего дома любого проходимца!
Однако зеваки ждали понапрасну: странник так и не вышел. А немного погодя и младший сын Бибока Йожи, привязав лошадь в конюшне, тоже ушел в дом.
Из дома же во двор выбежал Мишка Бибок, держа в руке зеленый кувшин и ключи от винного погреба. Ага, значит, все-таки кто-то «свой» прибыл? Хозяин-то за вином послал сына.
Появление странного незнакомца сделалось для зевак еще более загадочным: ведь в селах не так-то уж часто случается что-нибудь примечательное. И, расходясь по домам, люди еще долго качали недоуменно головой, пока им не повстречалась возле дома Матяша Крамачко самая старая в Гёргё женщина, бабка Войка. Они рассказали ей обо всем, что увидели и услышали сейчас, и старуха сразу угадала и тотчас разъяснила односельчанам страшную суть происшествия.
— Боже правый! — всплеснув руками, воскликнула она. — Так ведь это же, должно быть, Жига Бибок, которого убили на войне, когда Тёкёли пошел против австрияков.
— Если убили, значит, не Жига.
— Убить-то убили, а видно, он воскрес, — вывернулась старуха Войка. — Чего вы меня с толку сбиваете? Сколько раз бывало, что люди домой с войны не приходили. В плен попадали. Дома их уже мертвыми считают, а они, смотришь, все-таки возвращаются. Говорю вам, это Жига. Он женат был, а в жену его, пока она напрасно ждала мужа с войны, влюбился ее свекор, старый Бибок. Ведь и старый козел молодую капустку любит! А молодушка Бибок в ту пору была ой какая красотка!
Отец нынешнего вице-губернатора, тоже бабник порядочный, все расхваливал ее, королевой называл. Ну так вот, в эту «королеву» и влюбился старый Бибок. А раз очевидцы подтвердили, что его сын Жига пал на поле брани, старик честь честью, по закону обвенчался со своей бывшей снохой. У них родилось двое сыновей, а теперь вот пропавший Жига Бибок объявился. (Провалиться мне на месте, если это — не он!) Правильно он сказал мальчишкам: «Милые мои младшие братцы, дети моей жены! Жив ли наш папаша!» Боже правый! Какие страшные дела теперь будут! Значит, объявился Жига. Домой вернулся! Ох, ох!
Всплеснув руками, старуха, причитая, повернулась и заспешила никуда больше, как на двор к Бибокам. А в это самое время экономка Гёргея тетушка Марьяк (сам господь направляет стопы своих избранников) как раз закончила стряпню и вздумала отнести гостинцев жене кузнеца, своей куме, — та была на сносях, того и гляди, родит. Накрыв белоснежной салфеткой тарелку, она шествовала с нею по улице, а навстречу ей семенила старуха Войка. Две знаменитые сплетницы столкнулись носом к носу.
— Знаете, что случилось? — едва успев перевести дух, спросила Войка и тут же сама ответила: — Вернулся к госпоже Бибок муж ее первый, Жига!
Не сразу поняв суть дела, тетушка Марьяк вопросительно посмотрела на старуху.
— Да вы что! Неужто в толк не возьмете? — возмутилась та. — Два живых законных мужа у нее теперь в доме!
Еще бы не понять тетушке Марьяк, великому знатоку в подобных делах! Она просто хотела посмаковать новость, так сказать, по капле впитать ее, а не проглотить одним духом.
— Два живых мужа, говорите? Стало быть, она теперь мачеха своему первому мужу? Сыну своего второго мужа, ее бывшего свекра? Страсти какие! Как же это возможно? Видел его кто-нибудь?
— Видел не видел, а я-то уж точно знаю. И сейчас еще погляжу на него — я как раз прямехонько туда иду. Ох, боюсь, умру от любопытства, если вдруг да не дадут мне увидеть его.
Тетушка Марьяк уж не знала, что делать. В руках у нее была тарелка с пончиками: так почему бы, собственно, не отнести гостинцев госпоже Бибок? Кума-кузнечиха может и до обеда подождать!
— Мы словно сговорились с вами, — воскликнула тетушка Марьяк. — Ведь и я как раз туда же иду, несу вот пончиков барыньке. Бедняжка, как же ей быть теперь! В прошлом году госпожа Бибок на рождество прислала нашему барину гостинец — несколько гроздьев свежего винограда, — и как она только умудряется сохранять виноград до самого рождества? А теперь вот и я решила: «Долг платежом красен». Редкостного у нас, правда, в доме ничего нет, отнесу, думаю, хоть пончиков. Ведь как в пословице говорится: «Не дорог подарок, дорога любовь».
И они уже вдвоем, подобрав юбки (потому что стекавшая из хлевов на улицу навозная жижа растопила в одном месте снег и там образовалась лужа) направились к дому Бибоков. По дороге старуха Войка успела сообщить своей спутнице все подробности происшествия, а в сенях у Бибоков предупредила ее:
— Притворимся, будто мы как есть ничего не знаем!
— А разве мы знаем что-нибудь? — удивилась тетушка Марьяк. — Ничего мы с вами и не знаем. Просто поговорили друг с другом немножко — только и всего.
Пройдя в самую дальнюю комнату (зимой Бибоки топили только ее), они увидели поистине примечательное зрелище: расстегнув свою пеструю жакетку, незнакомец восседал за столом и выуживал из каши куски гусиной печенки. Ел он с завидным аппетитом, так что со лба его катился пот. Каждая черточка угловатого лица нежданного гостя выражала удовольствие, а красная полоса, тянувшаяся ото рта вниз по бороде, свидетельствовала, что перед этим он ел какое-то кушанье с томатной подливкой. Рядом с гостем, слева и справа от него, сидели молодые Бибоки, а напротив — седой, как лунь, старый Винце Бибок. Старик не ел. Уставившись взглядом в тарелку, он барабанил одним пальцем по столу, покрытому скатертью. Госпожа Бибок, ни жива ни мертва от страха, вытирала посуду возле поставца. Она заметно побледнела, осунулась, словно из могилы встала. Между тем она была еще хорошенькой женщиной, хотя, как уверяют люди, цветок, подвязанный к гнилой подпорке, быстро вянет.
В комнате царило тягостное молчание. Все сидели повесив носы. Даже пес мрачно лежал под столом, не притрагиваясь к гусиным косточкам. Ну, а когда в дом заявилась еще две незваные гостьи, хозяйке и вовсе стало не по себе. Однако делать нечего, ей пришлось, скрепя сердце, говорить с ними, хотя от стыда она готова была сквозь землю провалиться. Войка пришла попросить решето до завтра, а тетушка Марьяк «по поручению вице-губернатора» передала хозяюшке гостинцы.
— Большое вам спасибо, — поблагодарила женщина и, машинально переложив стряпню тетушки Марьяк на свою тарелку, тут же поставила ее на стол.
— Не стоит благодарности. Пустяк такой! А у вас, сударыня, гости? — попробовала завязать разговор тетушка Марьяк, бросив с улыбкой вопрошающий взгляд на незнакомца. Однако хозяйка дома не сказала в ответ ни слова. Да и по лицу ее видно было, что она не рада посетительницам.
«Крепкий орешек», — подумала про себя тетушка Марьяк, однако решила не сдаваться. Теперь она обратилась уже к хозяину.
— Его превосходительство велел передать вам сердечный привет.
Старик пробормотал что-то невнятное. Помощь пришла с той стороны, откуда Марьяк ее и не ожидала. Незнакомец отхлебнул вина из стоявшей перед ним глиняной обливной кружки и, устремив на тетушку Марьяк взгляд своих воспаленных, будто кровью налившихся, глаз, заметил:
— Ну, не хотел бы я очутиться сейчас на его месте!
— Это вы про господина вице-губернатора?
— Да, про вице-губернатора Гёргея.
— Ах, что вы это! Побывать на его месте совсем неплохо.
— В другое время — да! А сейчас очень уж на него лёченские немцы зубы точат. Я как раз оттуда, из Лёче. Они там приняли такое решение, что теперь я за вице-губернаторскую голову и гроша ломаного не дал бы.
— Боже мой! — перепугалась экономка. — Неужели они так там разгневались на него? Из-за чего же?
— Вы разве не знаете, что приключилось на Новый год во время охоты? — удивился незнакомец и снова отхлебнул из кружки, а затем, пододвинув ее к хозяину, весело добавил:
— Выпейте и вы, отец, черт вас побери! Будь что будет. Стоит ли горевать из-за того, что я — жив?
Экономка уже загорелась любопытством и ухватилась за новую тему разговора, как ни интересна была для нее первая.
— Знаю, как же не знать! Но то, что вы, сударь, говорите…
— Я говорю только, что он разъярил их.
— Пошутил немножко, — попробовала экономка смягчить выражение пришельца.
— Ничего себе шуточка: пристрелил бургомистра!
— Так ведь ему все равно уже было шестьдесят четыре года. Не два же века жить.
Пришелец громко захохотал.
— Ох, какая вы добрая, бабуся. Добрее господа бога, — сказал он и трижды приложился к кружке; хозяин же к ней так и не притронулся. — Очень вы милосердная — прощаете грешникам.
— О, я истая христианка, сударь! В церковь мне, правда, ходить недосуг: обед надо варить. Его превосходительство, господин вице-губернатор, ничьей иной стряпни не ест. Но я все равно перед сном, загасив свечу и раздевшись, всякий раз читаю вечернюю молитву. Душа у меня, сударь, как белая голубка. Разве я одобряю злые деяния? Один у меня грех — если это в самом деле грех: я за своего барина жизнь готова отдать. И если лёченские немцы точат на него зубы, я сто раз готова подставить свою голову на место его. А что, они и в самом деле точат зубы? Чего же они хотят?
— А вот это я уж самому господину вице-губернатору скажу, — ответил Жигмонд Бибок (ведь это был действительно он). — После обеда схожу поговорить с ним: у меня есть дело к нему. Не собирается он после обеда никуда уезжать?
— Думается, дома будет барин.
Дальше продолжать разговор тетушка Марьяк не могла, попрощалась и заспешила домой, не забыв, однако, выйдя на крыльцо, на чем свет стоит откостерить вернувшегося домой бродягу Бибока:
— До чего же мерзостный человек! И по виду-то как есть разбойник, из тех, что в горах скрываются. Мне довелось однажды увидеть знаменитого Яношика *. Так даже у него лицо куда приятнее было, чем у Жиги. Скажите, пожалуйста, еще «бабусей» называет, бессовестный! А сам, между прочим, куда старше меня. Ох, бедняжка Бибок! Бедняжка Бибок!
Расставшись со старухой Войкой, гёргейская экономка во весь дух помчалась домой — поскорее сообщить своему барину об удивительном событии и о тех дурных вестях, которые Жига Бибок принес из города Лёче. Однако с дурными вестями экономка опоздала: пока она ходила к Бибокам, в замок верхом на лошади прискакал Дёрдь Гёргей, обстоятельно рассказал дяде обо всем, что произошло накануне в Лёче, и сообщил о решениях городского сената, алчущего крови.
Вице-губернатор сидел бледный как полотно, и взгляд его, да, впрочем, и весь его облик, был вялый, утомленный. Однако, выслушав племянника, Гёргей слегка оживился.
— Как ты думаешь, братец, они действительно на жизнь мою покушаются; спросил он спокойным голосом.
— Этого я не могу сказать… Вряд ли они отважатся поднять руку на вице-губернатора Сепешского края. Но ездить в Лёче я вам не советовал бы… Саксонца обычно трудно свести с ума, но, если уж он свихнулся, с ним шутки плохи!
— Пожалуй, ты прав, — согласился вице-губернатор. — В пасть к волку сам, по своей воле, я не полезу, — нет, нет. Для этого мне прежде самому нужно свихнуться. Так пусть уж лучше господа бюргеры безумствуют.
— Разумнее всего, дядюшка, уехать вам сейчас куда-нибудь на полгодика. Поживите у наших, в Топорце. А там, глядишь, лёченцы успокоятся — и у них пройдет гнев.
— Бежать? Ну нет, этого я никогда не сделаю. Во-первых, я не могу оставить свое имение без присмотра. Тут без меня все растащат, все уничтожат. А во-вторых, не забывай, что я — Гёргей.
— И вы не боитесь оставаться здесь?
— Этого я не утверждаю. Врать не стану — боюсь! Только не города Лёче. Стены Гёргё достаточно крепки, а если я еще подучу своих крепостных да возьму к себе на службу нескольких бравых солдат-наемников, — я против кого угодно буду в силах обороняться. Боюсь я…
— Императора?
— Нет — палача! Того палача, что сидит во мне, — он еще со времен Каина карал всякого, кто совершал грех, подобный моему. Со вчерашнего дня я в его власти и уже чувствую его топор, занесенный надо мною. С первого же часа меня отбило от еды, я лишился покоя и сна. А то малое, что он еще оставил на мою долю в этом мире, немногого стоит.
— Вы слишком мрачно смотрите на вещи, дядюшка.
— Вверяю себя судьбе, — смиренно отвечал вице-губернатор. — Знал я: именно такой конец ждет меня из-за моей безмерной горячности. Я боролся против нее всеми силами, но, как видишь, безуспешно.
Пал Гёргей действительно со вчерашнего дня был в подавленном настроении: после того как посланный в Лёче гайдук привез известие о смерти бургомистра, его охватило мучительное беспокойство. Откуда-то из стен дома вдруг начали окликать его таинственные голоса. В углах комнаты ему повсюду мерещился призрак покойного Крамлера. Ночью, стоило ему только закрыть глаза, как появился мертвый бургомистр и уселся на край его ложа. Вице-губернатору пришлось встать одеться, зажечь везде свечи и шагать по комнате до глубокой ночи, раздумывая над тем, что ждет его теперь. Уж под утро он сел к столу и принялся писать письма: одно в Вену — Карою Дежефи, секретарю имперской канцелярии, другое — в Будапешт, Михаю Юсту. В письмах он рассказал историю своей вражды с лёченским бургомистром, описал ее трагический исход и просил своих высоких покровителей и земляков доложить (одного — императору, а другого — наместнику) о происшедшем, но в такой форме, чтобы его проступок не рассматривали как уголовное преступление.
«Не будь у меня сиротки-дочери, я не побоялся бы принять и смерть за содеянное — заканчивал он свои послания. — Но теперь я вынужден просить Ваше превосходительство похлопотать за меня. Довольно с меня и того, что я казнюсь перед господом богом, царем нашим небесным, так пусть же мирская власть — его величество император и его высочество наместник — не увеличивают тяжких моих мучений. Я еще, может быть, пригожусь им, — ведь надо помнить, какие ныне времена.
P. S. Бургомистр Крамлер не был дворянином».
Утром спозаранку Престон отправился с обоими письмами в дорогу, и уж одно это принесло Гёргею некоторое облегчение. Он надеялся, что таким образом удастся уладить хотя бы юридическую сторону дела. Но он не предполагал, что город Лёче так остро воспримет случившееся.
«Пусть поищут кого потрусливее. Меня им не запугать!» — думал он, твердо убежденный, что дальше резких речей в городской ратуше или, на худой конец, депутации к губернатору дело не пойдет; а кончится все это тем, что после долгих препирательств он, вице-губернатор Гёргей, выразит на заседании Комитатского дворянского собрания сожаление (надо же погладить по шерстке заносчивых мещан) и, чтобы утолить бюргерскую алчность, пожертвует сотню форинтов на городскую больницу или на какие-нибудь другие добрые дела. После таких мер гнев оскорбленных горожан обычно улетучивался.
Однако решение города не снимать траура и не предавать земле забальзамированную руку бургомистра Крамлера до тех пор, пока его смерть не будет отомщена, повергло Гёргея в изумление. Вся эта «черная магия» произвела впечатление даже на него. Таинственность обладает великой силой. Гёргей, конечно, скрыл от Дюри, что он принял угрозы лёченцев всерьез, но, видно было, как они озадачили его. Заложив руки за спину, вице-губернатор шагал по комнате взад и вперед; в глазах его все ярче горел огонь энергии. Новая опасность, пришедшая нежданно-негаданно, не подействовала на него угнетающе, наоборот, оживила его, дала пищу душе: теперь нужно было обдумать, как защититься от возможного нападения врагов. Все это хоть рассеет его немного. Лучше уж сражаться с живыми саксонцами, чем с призраками их мертвецов!
— А какие у них планы, ты не знаешь?
— Не знаю, дядя Пал. Саксонцы умеют держать язык за зубами. А если бы они и были разговорчивы, нам, комитатским, они все равно не скажут, что у них задумано. Мы, дворяне из комитатской управы, узнаем лишь то, что бюргеры считают нужным довести до нашего сведения.
— Хорошо бы кое-что поподробнее разнюхать! Поговори по душам с Гродковским. Это верный мне человек, и ухаживает он за женой Палфалви. Ну, чего ты вздрогнул? «И ты, Брут?» Да?
— Ну что вы, дядя Пал!
— Покраснел, мошенник! Но я верю тебе. Так вот, передай Гродковскому от моего имени, что я сделаю его исправником, если он через свою возлюбленную разузнает: что там и как. Палфалви у своей жены под башмаком, и уж она найдет способ вытянуть из него даже самые великие сенатские секреты. Да и сам по себе Палфалви — человек болтливый. А как только Гродковский узнает что-нибудь, немедленно с конным нарочным днем или ночью дай мне знать.
— Разумеется!
— Ну, а теперь пойди покажись тетушке Марьяк. Увидит, что ты здесь, и, наверно, приготовит к обеду что-нибудь из твоих любимых кушаний!
Оставшись наедине с собой, Гёргей еще раз перебрал в памяти все совершившееся и обдумал, что надо предпринять. Вполне возможно, размышлял он, что лёченцы попытаются напасть на Гёргейский замок, поджечь его и огнем выкурить оттуда хозяина. У города есть своя артиллерия и регулярная, обученная военному делу стража, хорошо владеющая оружием. Чего доброго, они когда-нибудь ночью нагрянут сюда!
Пока он так говорил сам с собой, в кабинет вернулся Дюри.
— Ну вот, дядя Пал! Есть здесь люди, которые получше меня знают, что делается в Лёче.
— Где? Кто? — нетерпеливо вскричал вице-губернатор.
— Тетушка Марьяк только что разговаривала с каким-то прибывшим из Лёче человеком.
— Право, это не женщина, а золото! — заметил Гёргей. — Зови ее немедленно сюда.
— Я уже сказал ей, но сейчас она не может прийти — что-то месит на кухне, да к тому же еще и заправка для супа у нее сегодня не получается.
— Черт бы побрал все ее заправки!
Немного погодя экономка все же явилась и сообщила Гёргею, что вернулся Жигмонд Бибок, которого до сих пор в селе все считали погибшим. А прошлую ночь Бибок провел в Лёче и набрался там всяких страшных слухов.
— Говорит: «Ломаного гроша я не дал бы теперь за голову его превосходительства». А, в общем, после обеда Бибок сам явится сюда и доложит вам все, что ему известно. Придется вам, барин, еще повозиться с ним! — закончила свой рассказ экономка. — Уж и не знаю, как вы рассудите их. Тут ведь одну жену надо разделить меж двух мужей, а один-то из них приходится другому — отцом. Не помню я, чтобы вам, ваше превосходительство, приходилось разбирать в суде такое дело.
— Я знал этого Жигу Бибока еще в ту пору, как был мальчишкой, — заметил вице-губернатор. — Уже и тогда он был хватом, дошлый малый. Сколотил себе из всякого сброда отряд наемников и воевал с ними то на стороне Тёкёли, то за императора, — смотря по тому, кто больше платил. Странно, что через столько лет он все же вернулся сюда. «Но очень кстати! — уже про себя подумал Гёргей. — Мне сейчас именно такой человек и нужен!» А каков он с виду? В силе еще?
— Здоров как бык. А рожа вся исполосована шрамами. Довелось, поди, бродяге, и на виселице побывать.
— Пошлите к нему гайдука. Велите сказать, чтобы тотчас же после обеда Жига пришел ко мне. А сами начинайте накрывать на стол.
Вскоре поспел обед. На этот раз Гёргей, дядя и племянник, сидели за столом только вдвоем: судейским чиновникам накрыли отдельно, в большой столовой. Сидя напротив племянника за бутылочкой токайского, отгоняющего все заботы, Гёргей повеселел. Он говорил о чем угодно, кроме «того случая», словно уже и позабыл о нем; рассказал, например, что на пасху собирается поехать в Ошдян, проведать свою дочку Розалию.
— Ведь она теперь уже совсем большая! А какие письма мне пишет! Я тебе прочту одно после обеда. — Тут Пал Гёргей умолк, словно перебирая в памяти содержание писем, но вдруг лицо его помрачнело, и он спросил Дюри:
— А что ты посоветуешь мне насчет «того дела»?
— Насчет какого дела?
— Ну, эта чертовщина… Смертоубийство.
Дюри улыбнулся.
— О, господи! Да мне ли давать советы умнейшему во всем крае человеку?
— Чужую беду, братец, руками разведу, а к своей — ума не приложу! Ну, что скажешь-то?
— А я и в своих и в чужих делах, дядя Пал, могу только руками разводить.
— Неважно, все равно скажи, как бы ты поступил на моем месте?
— Сказать?
— Да, прошу тебя.
— Прежде всего, будь я на вашем месте, я отказался бы от должности вице-губернатора.
Пал Гёргей сделал беспокойное движение.
— Ну, как видно, ты прав, — в том смысле прав, что, пожалуй, тебе лучше руками разводить, чем советы давать! Какой же дурак согласится снять с себя самую надежную свою броню именно в тот час, когда в его грудь нацелено больше всего стрел?
Юный Дёрдь Гёргей густо покраснел, обидевшись, что дядя жестоко высмеял его.
— А я так понимаю, — оправдывался он, — что должность вице-губернатора — не броня, а только пышное одеяние, и, кстати сказать, оно принадлежит, по сути дела, не тому человеку, который в нее облачен, а тем, кто дал ему этот наряд на три года — поносить, покрасоваться. Ну, а когда возникает опасность, что нацеленные стрелы, чего доброго, продырявят это роскошное, на время полученное платье, не лучше ли загодя снять его с себя?
Пал Гёргей выронил из руки вилку. Рассуждения племянника ошеломили его. Он был человеком впечатлительным и потому тут же протянул юноше руку:
— Ты благородный человек! И мыслишь ты, как подобает благородному юноше! Ты меня убедил! Решено: я немедленно подаю в отставку.
Подчиняясь внезапному душевному порыву, Гёргей, даже не закончив трапезы, поспешил в ту столовую, где, громко о чем-то споря, обедали судейские чиновники и практиканты — шесть молодых баричей-бездельников. Вином их угощал пожилой писарь Муки Мортон, сидевший в самом конце стола.
Вице-губернатор лишь изредка обедал в этом веселом обществе. Обычно он сидел за трапезой в полном одиночестве.
Войдя в столовую, Гёргей отдал чиновникам распоряжение: через три дня созвать заседание дворянского собрания, назначив его в Гёргё; приглашения разослать с тремя гонцами во все концы комитата. Затем, тронув за плечо старого писаря, Гёргей сказал ему:
— А с вами, Мортон, я хотел бы кое о чем посоветоваться.
— Слушаюсь, ваше превосходительство.
— Зайдите ко мне в кабинет.
Старый писарь, побледнев, поспешно встал из-за стола. Еще никогда не случалось, чтобы вице-губернатор с ним «советовался».
— Не сейчас! Сперва закончите обед!
Старый Муки Мортон был способным человеком, однако ему, наверное, на роду было написано состариться в писарях при сепешских вице-губернаторах. В его на редкость крупной голове было больше ума, чем у всех членов епископского совета в городе Рожнё вместе взятых, тем более что тогдашняя административная наука зиждилась в основном на умении красиво писать. Мортон отличался феноменальной памятью и повергал ею всех в изумление; кроме того, он был преданным, надежным человеком, не пьянствовал, не играл в карты, но отличался одним свойством, мешавшим ему продвигаться по службе, — сам он и не догадывался об этой помехе, иначе бы в один миг избавился от нее. Все дело в том, что Мортон обладал красивейшим почерком, и слух об этом прошел за тридевять земель. Рассказывали даже, что наместник императора, к которому часто поступали письменные «препозиции» или доклады сепешского вице-губернатора, подолгу носил эти документы при себе и всем показывал: вот, мол, какого совершенства может достичь человеческая рука даже в таком немудреном деле, как каллиграфия. Буквы Муки Мортона, казалось, жили, смеялись и блистали на красивой, плотной диошдёрской бумаге. Словом, без писаря с таким почерком сепешский вице-губернатор не мог обойтись. Ведь теперь уже буквально весь мир знал, что нет в Венгрии документов, перебеленных красивее, чем те, которые подписывает сепешский вице-губернатор, как нет на свете баклаг лучше тех, что делают в Римасомбате, нет собора красивее, чем в Кашше, колокольни выше, чем у храма Святого Стефана в Вене, и ветчины, вкуснее мишкольцкой. Так разве мог после всего этого Сепеш расстаться с Мортоном? Вот и было ему суждено по гроб жизни служить в писарях, хотя по своему уму он мог бы выйти даже в советники! Впрочем, в желающих стать советниками никогда нет недостатка, а вот другого такого мастера каллиграфии не нашлось бы во всей Венгрии. «Право уж, и не знаю, — думал каждый, — что будет, если у писаря Мортона начнет дрожать рука?»
Едва успев вытереть губы после трапезы, Мортон робко постучался в дверь губернаторского кабинета. Пал Гёргей был с ним на «ты» еще с той поры, когда и сам служил в управе простым писарем, и с глазу на глаз (когда это не могло повредить престижу вице-губернатора) он по-прежнему обращался к старику на «ты».
— Тебе никогда не доводилось слышать о некоем Жигмонде Бибоке? — спросил Гёргей Мортона.
— Как же не доводилось! — воскликнул писарь. — Это здешний гёргейский дворянин, сын старого Винце Бибока.
— Что же с ним произошло?
— Погиб в одной из битв князя Тёкёли против турок.
— Ты это точно знаешь?
— Точно не знаю, потому что там, где он погиб, я не был. Зато совершенно точно знаю, что наша канцелярия посылала ответ его жене, она у нас запрашивала о муже, — это было в ту пору, когда вице-губернатором состоял его превосходительство Янош Гёргей.
— Да что ты говоришь! Но теперь ты, уж конечно, не помнишь, кто такая была его жена?
— Как же не помнить? Ведь я сам переписывал начисто ответ этой женщине. Краковянка одна. Как вот только звали ее? Ах, да! Вспомнил! Ванда Ясенская.
— Эх, если бы нам найти теперь этот документ!
— По всей вероятности, документ находится в комитатском архиве. Я хорошо помню, что запрос поступил от краковского бургомистра. До сих пор еще его печать стоит у меня перед глазами.
— А давно это было?
— Лет шестнадцать — семнадцать тому назад, если не больше. Я тогда находился при вице-губернаторе в Топорце, мы оттуда направили запрос здешнему исправнику, и он попросту ответил нам, что Жигмонд Бибок умер, а жена его вышла замуж вторично.
— Гм! Может быть, я сам и был в то время здешним исправником.
— Помнится, мне тогда бросилась в глаза такая странность, — продолжал старый писарь, — зачем жене разыскивать своего мужа, если она знает, что он умер, или как она может не знать, что он умер, если сама уже успела выйти замуж за другого? Потому мне и запомнился этот случай.
— А ты никогда не напоминал мне о нем? — спросил вице-губернатор.
— Напоминал один раз. Сразу же, как только прибыл сюда и познакомился с бывшей женой Жигмонда Бибока. Тогда я задавал вам этот вопрос.
— Вероятно, поэтому и вертится у меня в голове какое-то туманное воспоминание, будто я уже слышал как-то раз от тебя об этом прохвосте Жигмонде Бибоке. Но если все это так, то…
— То мы имеем дело с самым обычным двоеженством, — договорил вместо него Мортон. — Это я сразу понял. Да только какой был бы смысл начинать процесс против мертвеца. Поэтому мы взяли и ответили краковскому бургомистру, что разыскиваемый ими человек — умер.
— Ну и неправильно ответили. Как я слышал, Жигмонд Бибок — жив.
— Жив? Не может быть!
— И не только жив, а сегодня собственной персоной заявился к нам в село. Больше того, если меня не обманывает слух, он уже здесь.
В эту самую минуту в кабинет вошел слуга и доложил, что прибыл Винце Бибок с супругой и просит принять их.
— Вдвоем?
— Нет, с ними еще какой-то человек.
— Мне, может, лучше уйти? — спросил у Гёргея писарь.
— Погоди. Вот о чем я хотел тебя предупредить, Мортон: раз уж ты до сих пор о двоеженстве Бибока молчал, молчи и дальше. У меня есть некоторые виды на этого человека. А ты, после того как в управе закончат рассылку приглашений, поезжай в Лёче и разыщи в архиве то краковское письмо, если оно еще сохранилось.
Мортон ушел. А в передней сначала послышалось покашливание, потом робкий стук в дверь, и на оклик Гёргея: «Кто там? Войдите», — порог переступили дрожащие ноги седовласого Бибока, обутого в темно-серые валяные сапоги, облаченного в овчинную бекешу, с красно-бело-зеленым вязаным платком вокруг тонкой морщинистой шеи. Следом за старцем вошла жена двух мужей, с головой закутанная в полосатую красную шаль, так что из-под шали выглядывали лишь глаза да кончик носа. В руке она держала тоненький платочек, прижимая его попеременно то к носу, то к глазам. Шествие замыкал Жигмонд — все в том же странном наряде, в котором он появился в селе. Только саблю он на этот раз оставил дома. Жигмонд Бибок ступал с независимым видом, словно чувствовал себя своим человеком в этом красивом кабинете, украшенном старинными картинами, и словно такие покои ему не в диковинку. Подойдя к письменному столу, за которым сидел Гёргей, Бибок-младший горделиво шагнул вперед и протянул вице-губернатору руку, представившись:
— Ego sum Sigismundus Bibok.[27]
Увы, у вице-губернатора в эту минуту обе руки оказались занятыми: на одну он облокотился, подперев ладонью голову, а в другой держал трубку с длинным чубуком.
Холодный прием несколько смутил Жигу Бибока. Он молча уставился на вице-губернатора. Крупная голова и суровое, неприветливое лицо Гёргея производили величественное впечатление, — он был живым воплощением власти.
У Винце Бибока дрожали мелкой дрожью колени, и вице-губернатор, заметив это, сказал:
— Садитесь, дядюшка Бибок. И вы, сударыня, тоже! — что одновременно означало: а господин Бибок-младший пусть постоит.
Старика забил сильный кашель, и, задыхаясь, он рухнул в кресло. Затем наступила глубокая, томительная пауза. Вице-губернатор сидел, молча поглядывая то на одного, то на другого из посетителей.
— Так в чем же дело? — спросил он наконец.
При этих словах Жигмонд Бибок откинул назад голову и по-латыни, как это и приличествовало дворянину, начал было излагать свою жалобу. Однако Гёргей сразу же прервал его:
— На мельнице, сударь, пшеничку стариков всегда первой берут в помол. Расскажите-ка сначала вы, господин Винце Бибок, что вас привело ко мне.
Старец собрался с силами, одернул бекешу, чтобы она сидела получше, отер рукавом рот и жалобным, слабым, как жужжание осы, голосом, но так же, как и его сын, по-латыни, принялся описывать, какой неожиданный и страшный удар обрушился на ладью его мирной жизни, уже приближавшуюся к своей последней гавани.
— А что случилось? — спросил вице-губернатор.
— Да вот сын мой вернулся, — жалобно простонал старец. — Сын, которого я считал погибшим. Жену его, как вы, ваше превосходительство знаете, я после известия о смерти Жиги взял себе перед богом и людьми в законные супруги, и она родила мне для блага родины и во славу дворянства двоих сыновей.
— Гм. Плохо дело! — пробормотал вице-губернатор. — Однако тут речь идет и о вашей супруге, господин Бибок, так отчего же вам не говорить по-венгерски? Прежде всего отвечайте: почему вы с этим делом обратились ко мне?
— Да потому, ваше превосходительство, что хотим просить вас установить порядок между нами, — пролепетал уже по-венгерски Бибок-отец, умоляюще сложив руки.
— И потому, что мы знаем, — сладким голосом вставил Бибок-сын, — вашу мудрость, господин вице-губернатор, и совершенство во всех отношениях!
— Нельзя нам оставаться под одним кровом, пока вы не рассудите, кто из нас прав, кто виноват, — приглаживая растрепанные, белые, как снег, волосы, продолжал старый Винце, окончательно переходя на венгерский, а вместе с этим с торжественной речи на простонародную.
Вице-губернатору стало вдруг жалко этого трясущегося старика, потемневшее лицо которого выражало отчаяние, и он решил приоткрыть перед ним маленькую, хитрую лазейку.
— Значит, этот человек — ваш сын? — спросил он, кивнув на Жигмонда Бибока. — А так ли это на самом деле? Вглядитесь в него получше.
— Не отказываться же мне от родной крови? — отвечал старец.
— Это ваш первый муж, сударыня? — спросил вице-губернатор женщину. — Узнаете вы его?
— Узнаю, — сдавленным, хриплым голосом, не поднимая глаз, отвечала та. Пал Гёргей, недовольно теребя ус, повернулся к Жигмонду Бибоку:
— Так где же вы пропадали столько лет? Почему все это время не подавали никаких признаков жизни?
Этого только и надо было Бибоку-младшему для того, чтобы унестись в цветистое царство воспоминаний о былых днях, приключениях, переживаниях, геройских подвигах, рассказов о том, как в эперьешской битве он пал во славу родины, сражаясь под знаменами Тёкёли. Из гёргейских дворян многие были очевидцами его кончины; рядом с ним рубился Фриц Валлаи, Карой Фехер, Габор Чемицкий из Фаркашфалвы, — и нет ничего удивительного, что, возвратись домой, они рассказали о его смерти. Да его и в самом деле похоронили бы вместе с убитыми, если б один из австрийцев, убиравших по приказу начальства трупы с поля битвы, не польстился на Жигмондовы сапоги (дивной работы лёченского мастера Микучки) и не попытался бы, прежде чем взвалить труп на тачку и отвезти его к братской могиле, стянуть эти сапоги с ног мертвеца. От жгучей боли Жига застонал, и могильщики увидели, что он еще жив. Так Бибок угодил в австрийский лазарет, а оттуда — в войско лабанцев, где ему пришлось отслужить несколько лет, пока однажды не представился случай бежать в Польшу. В это время Тёкёли снова вторгся со своей армией в Трансильванию; при вести о новой войне Жигмонд Бибок сколотил из польских дворян и крепких крестьянских парней отряд и с ним после долгих злоключений пробился в Трансильванию. Однако, на свое несчастье, вместо куруцев, Бибок снова угодил в руки к Гайстеру и несколько лет отсидел в каземате Ольмюцкой крепости, откуда он не мог послать весточку на родину — разве что с крылатыми птицами, да и то, если бы в птиц могли обратиться кишевшие в темнице крысы, пролететь сквозь тюремные решетки на волю и, взмахнув крыльями, унестись в Гёргё.
Все это Бибок-младший рассказывал длинно, пространно, со всевозможными лирическими отступлениями; однако вице-губернатор слушал его повествование лишь краем уха, зная, сколько вранья в подобных рассказах. Гёргей больше раздумывал над существом дела, и, когда Жига закончил свое curriculum vitae[28], он положил на стол трубку и тихо, доброжелательным тоном сказал троим посетителям, с нетерпением ожидавшим его ответа:
— Случай сам по себе очень прост. Из рассказа господина Жигмонда Бибока я вижу, что в поступках ваших нет ничего наказуемого: все вы действовали из чистых побуждений, значит, никто из вас ни в чем не виновен. Dixit.
— Так-то оно так, — возразил «капитан» Бибок, — по вот отец хочет, чтобы вы рассудили, чья же она теперь жена? Да и все мы об этом просим.
Вице-губернатор покачал головой.
— Нет, в этом я вам не судья! Браки заключаются на небесах, а я — всего-навсего земной человек. Я вице-губернатор Сепеша, но на небесах я — никто. Может быть, слуги Господни согласится что-нибудь тут изменить? Да и то по какой-либо другой, а не по этой причине. Закон в данном случае ясен: женщина — супруга того, кто с ней первый был повенчан.
— Ну, что я говорил? — торжествующе воскликнул Жига Бибок.
У старого Бибока на глаза навернулись слезы.
— Не отнимай у меня Жужу, сынок! Ты уже отвык от нее, — жалобно захныкал он. — Не уходи, Жужа, не покидай меня. Как я буду без тебя? О, ваше превосходительство, взываю к вашему доброму сердцу, не позволяйте сыну отнять у меня Жужу! Лучше уж я все, что у меня есть, отдам. На коленях умоляю, ваше превосходительство, пощадите мои честные седины, мою беспомощную старость, примите в расчет, что Бибоки всегда были верными вассалами Гёргеев! — ломая руки, запричитал старец. — Господи, куда же мне еще идти с жалобой?
Вице-губернатора все больше трогало горе Бибока-старшего.
— Успокойтесь, сударь, но поймите: закон есть закон!
— Ах, какой же этой закон, — вырвалось у старика, — раз вы, сильные мира сего, сделали богиней справедливости какое-то слепое чудовище! Ваш закон говорит, что эта женщина принадлежит моему сыну, хотя соединяет их только запись, сделанная попом в церковной книге, а ведь мне-то Жужа родила двух сыновей, вся ее жизнь со мной срослась! Если она останется со мною, сын мой, правда, лишится жены, но он мужчина в полном расцвете сил и легко найдет себе другую. А вот если ее присудят ему, то не только я лишусь жены, но и дети мои лишатся матери! Да и жить мне осталось немного: я уже стою на краю могилы. После моей смерти Жужа так или иначе ему же останется. Значит, у него есть хотя бы надежда, а у меня и ее нету!
— Да, но ведь и я люблю свою жену, отец, — с наглым видом возразил Жига. — Мое сердце тоже не камень. Я покорный сын, но, право же, с ума сойду, не зная, что мне делать!
— Ты всегда был ласковым ребенком, — сказал старик Бибок и заплакал, как дитя. — Жигушка, старший мой сыночек, возьми у меня что хочешь, только оставь мне Жужу!
А любимая женщина, за которую шла эта ожесточенная борьба, стояла в губернаторском кабинете ни жива ни мертва и дрожала как осиновый лист, устремив взор на пол, на котором играли солнечные зайчики.
— Вероятно, вы могли бы и полюбовно разрешить ваш спор? — заметил вице-губернатор. — Но это я вам говорю не как вице-губернатор, а просто как Пал Гёргей. Совсем не обязательно все рассказывать попам. Случай ваш — необычный, значит, и мерить его обычной меркой нельзя. Живите, как вам заблагорассудится. Какое кому дело? Все зависит от вашего решения, сударыня. А как раз от вас-то я и не слышал еще ни слова. Говорите же, мы слушаем!
Бледное лицо женщины зарделось, и она еще больше прежнего закутала его платком.
— Велите, ваше превосходительство, — запинаясь, проговорила она, — велите вывести меня во двор да отрубить мне голову. Так лучше будет. Сразу оба Бибока станут вдовцами.
— Глупая бабья болтовня! — рассердился Гёргей. — Вы лучше скажите от чистого сердца, кого бы вы сами выбрали себе супругом, если бы закон, допустим, разрешил вам это? Ну почему же вы молчите?
Женщина, все еще колеблясь, подняла на губернатора глаза, горящие лихорадочным огнем, и прошептала:
— Не смею!
— Вот как? Ну что же, вы правы. Идемте со мной в другую комнату и скажите мне всю правду, как на духу…
Гёргей провел госпожу Бибок в соседнюю комнату и с большим трудом, но все же добился от нее искреннего признания:
— Я уже привыкла к моему нынешнему мужу, состарилась с ним, да и перед сыновьями мне стыдно будет возвратиться к первому мужу…
Вице-губернатор, хоть ему и пришлось по нраву решение госпожи Бибок, не мог скрыть своего удивления:
— Вот уж никогда бы не поверил. Значит, старичок еще?..
Однако женщина возмущенно замахала рукой, словно желала прогнать греховную мысль, сквозившую в словах вице-губернатора.
— Не хочу я больше быть женщиной! — воскликнула она, вся вспыхнув, и яркий румянец вернул ей в эту минуту былую красоту. — Останусь я, если можно, вместе с отцом моих детей.
У Гёргея на сердце сразу потеплело, — таким благородным и чистым был образ женщины, стоявшей перед ним. По крайней мере, ему так казалось.
— Хорошо. Как-нибудь попробуем все уладить, — подбодрил он госпожу Бибок с несвойственной ему мягкостью, а затем, отослав ее в кабинет, позвал к себе обоих Бибоков.
Вице-губернатор Гёргей обладал необыкновенным даром убеждать людей, умел выражать свои мысли ясно, понятно, просто, а к тому же его окружал ореол славы, он считался мудрым человеком, «самой светлой головой» во всем комитате, и ему верили. А вера и убежденность значат намного больше будничной действительности.
— Мои благородные сограждане! — начал Гёргей дружелюбным тоном. — Коли уж приключилась у вас такая беда, я дам вам один совет: не хнычьте и не выносите сор из избы. Смиритесь с судьбой. Видно, так уж она вам судила, и спорить с нею бесполезно, потому что у нее крепкий кулак. Госпожа Бибок созналась мне, что она мечтает о покое и охотнее всего осталась бы жить со своим нынешним мужем. Так что договаривайтесь сейчас же, немедленно. А после этого у меня будет с вами, капитан Бибок, еще и отдельный разговор.
«Капитан» Бибок тяжело вздохнул и устремил глаза в небо.
— А ведь как я люблю эту женщину!
— Но ты слышал: она хочет со мной остаться? — по-ребячески хвастливым голосом воскликнул старик, и глаза его радостно заблестели.
— Все равно она — моя законная жена! — заспорил «капитан», стукнув себя кулаком в грудь.
— Ну, это не совсем так, — вмешался Гёргей. — Госпожа Бибок, если пожелает, может возбудить против вас бракоразводный процесс. Если она выдвинет правильные доводы, ей, вероятна, удастся его выиграть. Ведь вы и сами не утверждали, будто все то время, пока были на свободе, жили в монастыре. Госпожа Бибок сможет, например, доказать, что где-нибудь под Львовом или Краковом, куда вы бежали из плена, у вас есть… — Тут вице-губернатор устремил загадочно-хитрый взгляд на Бибока-младшего.
Жига вздрогнул и заговорил куда более миролюбивым тоном:
— Пусть отец сам скажет, чего он хочет.
— Я ведь уже сказал, сынок: хочу, чтобы Жужа осталась со мной.
— Но ради нее я сюда вернулся! — горестно воскликнул Бибок-младший.
— Бог воздаст тебе, дорогой сынок, — за то, что ты не лишаешь своего бедного отца единственной опоры, — елейным голосом отвечал старик.
— Бог воздаст, бог воздаст! Хорошо вам говорить, папаша! Да только словами сыт не будешь. Вы же видите, как я пришел! С пустым карманом, в жалких лохмотьях.
— Так чего же ты хочешь, скажи?
— Я считаю, что, если уж вы всей душой привязаны к Жуже, бог с вами, — переходите с нею в малый дом, я не возражаю!
У старика мгновенно испортилось настроение, и он с упреком повернулся к сыну:
— Эх, Жига, Жига, ты, что же, по старым саксонским обычаям хочешь со мной поступить?
У сепешских саксонцев было обыкновение строить в своих усадьбах по два дома. На склоне лет хозяин обычно передавал бразды правления в хозяйстве или в ремесле сыну, а сам перебирался в маленький дом. По-видимому, Жига именно это и имел в виду. Он хотел, чтобы отец уступил ему роль хозяина, а сам переселился в садовый домик, который когда-то выстроил для своей любовницы, рыжеволосой красавицы Агнеш Кадар, их дед Габор Бибок, весельчак и волокита, служивший во времена благоденствия семейства Бибок помощником исправника. Красотка Кадар приезжала к нему сюда из Лёче на летний отдых.
Винце Бибоку предложение сына пришлось не по вкусу. Старик возмутился, и они поссорились бы, если бы вице-губернатор не вернул спорщиков на путь переговоров.
— Вы, дядя Бибок, тоже не должны требовать себе всего. Мягкая булка да горячая печь — вот о чем вам теперь надо думать. Кстати сказать, не забудьте выговорить себе эти условия. Я понимаю, приятнее жить в большом доме, чем в маленьком, но коли уж сын ваш согласен пойти на жертвы, то и вам не годится жадничать. Передайте ему имение, а себе и двум другим вашим сыновьям потребуйте содержание — натурой и деньгами. А после вашей смерти господин Жига разделит имущество со своими младшими братьями. Винце Бибок поскреб в затылке.
— Нельзя же так, ваше превосходительство, был я хозяином, а стану ничем. Мне с этим не свыкнуться.
Жига Бибок ухмыльнулся.
— Вы ведь будете супругом Жужи! Разве этого мало?
— Понятно, немало. Я люблю ее, жить без нее не могу, а все-таки…
— А все-таки не дам за нее ни гроша? — насмешливо вставил «капитан». — Что ж, ладно! — Он пожал плечами и сделал вид, будто направляется к выходу. — Бедная моя Жужа, вижу я, как тебя ценят! Нет, я тебя здесь не оставлю! Возьму с собою. Свет не клином сошелся, проживем и мы где-нибудь.
Старик расчувствовался, на глазах его вновь показались слезы, а на лбу крупными бусинками проступили капельки пота.
— Значит, не договорились? — коротко спросил вице-губернатор, теряя терпение. — Ну, можете идти.
Пришлось старому Бибоку сдаться. Протянув сыну руку, он сказал:
— Бог с тобой, Жига, будь ты хозяином!
Поладив, отец и сын вернулись в кабинет вице-губернатора, где с замирающим сердцем их ждала Жужа; увидев обоих своих мужей, она несколько раз окинула быстрым взглядом одного и другого. И отец и сын были веселы. Жига шутливо, на рыцарский манер, поклонился своей бывшей жене.
— Договорились, мамочка!
Из этих слов Жуже стало ясно, кому она досталась. Однако ей хотелось знать все условия соглашения; но вице-губернатор распорядился иначе:
— Вы, молодушка, можете теперь идти домой. Все будет, как вы пожелали. Вот только изготовим соглашение в письменном виде.
Пока чиновники писали контракт, вице-губернатор расспросил капитана Бибока о том, что делается в Лёче. И тут он узнал, как сенатор Нусткорб пометил кровью бургомистра кусок гёргейских полей, решив на основании «саксонских привилегий» оттягать его в пользу Лёче, как «землю, приобретенную кровью».
«Уступлю им», — подумал про себя вице-губернатор.
Жига оказался толковым малым: он даже объяснил, на основе какого королевского постановления Нусткорб предъявляет свои претензии. Он пояснил, что находился вчера от начала до конца заседания сената на галерее и постарался все-все запомнить; своим острым глазом он сразу же нашел зернышко раздоров, из которого может вырасти целое дерево. Жига Бибок всегда оказывается там, где нужно: вот и сегодня, возвращаясь домой, он шел через поля Гёргея, а туда как раз в это время пожаловала сенатская комиссия из Лёче — столбить поле, «приобретенное кровью». Тут Бибок слово в слово передал Гёргею рассказ Нусткорба о его шутовской затее с захватом земли, о том, как господа саксонцы втроем волокли своего раненого бургомистра по полю, как они выжимали у него из раны кровь, пока бедняга не отдал богу душу.
— Может быть, без их помощи и не умер бы бургомистр? — с явным облегчением воскликнул вице-губернатор.
— Очень даже возможно, — подтвердил Бибок. — Ведь и городской сенат вначале так полагал, пока его не переубедил Нусткорб. Уж очень этот Нусткорб красно говорит да ловко играет на бюргерской жадности.
Лицо вице-губернатора сделалось приветливей, и он уже почти веселым голосом предложил Бибоку сесть.
— Садитесь, капитан, закуривайте. Вы, наверно, курите трубку? А, скажите откровенно, как, по-вашему, обстоит дело. Человек вы бывалый, разбираетесь во всяких делах и в мыслях людей.
«Капитан» Бибок, по нахальству своему, не заставил себя долго упрашивать: он вынул из подставки трубку с длинным чубуком, высек кресалом искру на трут, уселся в кресло, широко расставив ноги, принялся сопеть трубкой, помахивать ею и, пока отсыревший табак не разгорелся, не произнес ни слова.
— Странно! — изрек он наконец и стрельнул слюной сквозь зубы. — Петух, ежели его покачать, засыпает, а огонь в тлеющей головне, наоборот, просыпается.
— Я вас не об этом спрашивал! — нетерпеливо заметил вице-губернатор, которого коробила развязность гостя.
— А я как раз об этом, ваше превосходительство. Ей-ей, не могу разобраться: чего в лёченских саксонцах больше — петушиного задора или настоящего огня?
— Да, да, конечно, — буркнул вице-губернатор, не без удивления взглянув на собеседника.
— Тут могут быть два решения: оставить лёченцев в покое, не трогать их, если они просто петушатся, или, наоборот, привести все в боевую готовность по правилу: «Хочешь мира, — готовься к войне», если в них настоящий огонь; а то ведь в этой лёченской истории все наоборот.
— Капитан! А вы, как я вижу, неглупый человек!
Бибок прищурил левый глаз, который из-за повреждения лицевого нерва был намного меньше правого, да, кстати сказать, отличался от него и цветом.
— Кое-что понимаем, — скромничая, повел Жига плечами и пустил кверху такой клуб дыма, будто задымила поповская печная труба.
— Вот я и хочу знать ваше мнение об этом случае!
— Я считаю, что тут настоящий огонь. Дело опасное. Все зависит от того, кто станет теперь новым лёченским бургомистром. Надо постараться, чтобы в освободившееся кресло сел какой-нибудь добродушный олух.
— Гм. Мысль недурна, — вслух раздумывал вице-губернатор, с интересом прислушиваясь к речам возвратившегося на родину авантюриста.
— Если бургомистром изберут Госновитцера, будьте готовы, ваше превосходительство, к самым отчаянным покушениям: по его роже видно, что он кровожадный, беспощадный пес. Если же победит Нусткорб, то знайте: этот алчен, хитер, энергичен и способен убрать вас с дороги не в открытой борьбе, а с помощью наемного убийцы или отравителя — это для Лёче и дешевле, и менее рискованно. Лучше всего, если бы бургомистром выбрали Мостеля: он человек добрый, уравновешенный, умный и готов на уступки…
Вице-губернатор задумался. Может быть, на выборы и следовало бы оказать влияние через губернатора, графа Чаки или через комитатского казначея. Вслух же он сказал:
— А не думаете вы, что они попытаются с войском напасть на Гёргё? Не слышали чего-нибудь подобного?
«Капитан» Бибок пожал плечами.
— Ничего такого я не слышал, но все возможно: очень уж они разъярились.
— А знаете, капитан, что я думаю?
— Если вы, ваше превосходительство, скажете, буду знать.
— Есть у меня несколько орудий и немало здоровяков среди крепостных. Вот я и решил на всякий случай укрепиться здесь, хотя бы временно, пока дело не будет так или иначе улажено. И как только я услышал про ваше возвращение, то сразу же подумал о вас. Не согласились бы вы составить из беглых солдат и бездельничающих дворян — а ими полна округа — наемный отряд человек в двадцать — тридцать, которые, дав присягу, поступили бы под вашим командованием ко мне на службу? А за зиму вы обучили бы военному делу и моих крепостных.
— Отчего же не согласиться? — воскликнул «капитан», захмелев от радости. — Ведь это мое ремесло!
— Значит, вы считаете такую меру разумной?
— Да вы, ваше превосходительство, будете за мной как за каменной стеной.
— По крайней мере, мы сможем дать отпор, если они нападут.
— Нападут? Да я сожру все это Лёче с потрохами.
— А какие будут ваши условия, капитан? — продолжал вице-губернатор. — Ведь как говорится: «Clara pacta boni amici»[29].
— Обычное жалованье. Мы же знаем, что имеем дело со щедрым человеком, с Гёргеем. Что касается меня самого, то я попросил бы немножко повысить меня в чине. Чтобы я был отныне уже не капитаном, а полковником.
— Как вам будет угодно, милый мой. Считайте этот вопрос решенным.
— Кроме того, я хотел бы получить хорошее обмундирование. Хотя и говорится: «По одежке встречают, а по уму провожают», — но, знаете ли, солдата по мундиру и встречают и провожают.
— У меня на складе сохранилось много всякого обмундирования еще со времен старых гёргейских бандерий. Выбирайте для себя любой мундир, а солдатам закажите сшить одежду в том же духе. Если хотите, мой кастелян сейчас отведет вас на склад.
— Было бы неплохо. Надо прямо сказать, вернулся я домой далеко не в княжеских одеждах, даже деревенские собаки лают на мой наряд, словно им никогда не доводилось видеть образованного человека.
— Ну, так по рукам?
— По рукам! А уж раз я ваш мундир на себя надену, это для меня равносильно присяге. Хотя я могу и присягнуть на верность вам. Чей мундир ношу, тому и служу — тому принадлежат дни мои и ночи, кровь моя и жизнь, пока мундир на моих плечах.
Гёргей позвонил, велел прислать к нему кастеляна, Шамуэля Валкани, и вскоре тот почтительно переступил порог кабинета.
— Проводите господина полковника на склад амуниции, пусть он выберет себе обмундирование.
Склад, или арсенал, как его все называли, помещался в задней части господского замка, к которому каждый новый владелец что-нибудь да пристраивал, и в итоге из всего этого получился невообразимый архитектурный винегрет: имелись здесь, например, такие пристройки, в которых было очень мудрено попасть на второй этаж: сначала спустись в подвал, затем по многочисленным подземным переходам доберись до середины здания, там взберись на чердак, пройди его весь, от начала до конца, и уж оттуда сойди вниз.
Таким же сложным был и путь в арсенал, которым кастелян вел Бибока (а может быть, он нарочно путал следы?). «Подозрительная внешность у этого полковника, — думал он. — Интересно, в армии какого короля он служил?»
Арсенал состоял из двух просторных комнат, где в большом беспорядке были сброшены, так сказать, останки четырехсотлетней венгерской истории: старинные седла, луки, заржавевшие пики, аркебузы, одежда, сабли, ружья, палаши, оковы, всевозможные средства пыток давно минувших лет. Лежало в этом складе и платье воителей былых бандерий, в котором они в старину являлись на свадьбы или другие торжества своих сюзеренов — магнатов Гёргеев; хранилось здесь и несколько трофейных знамен. Наиболее ценные вещи — как сообщил кастелян Валкани — находились в Топорце у Яноша Гёргея, поскольку он был старшим в роду. Однако и в Гёргё сберегались дорогие вещи, с которых сейчас Валкани не спускал глаз: стремена из чистого серебра, усыпанная рубинами булава саксонского графа Гёргея, жившего во времена королей Арпадов, чепраки, расшитые серебряной чешуей, уздечки с серебряным набором. Была здесь даже подкова червонного золота, сверкавшая в свое время на копыте скакуна Михая Гёргея, когда тот ездил на свадьбу Яноша Сапояи с Изабеллой, принцессой Польской. У лошади, как известно, четыре копыта (ах, как жаль, что только четыре!), значит, и золотых подков выковали столько же, но остальные три исчезли. Одну взяла себе госпожа Дарваш, другую — Янош Гёргей, а четвертая, говорят, еще в день свадьбы слетела с конского копыта. Вот уж действительно привалило счастье тому, кто нашел эту подкову!
Но Валкани не очень-то позволил разгуляться в арсенале господину «полковнику», хотя у Жиги прямо голова закружилась от волшебного зрелища, которое казалось ему сущим раем, где вместо райских яблок пленяли взор седла, пороховницы, расшитые перевязи и дамасские клинки.
Амуниция воинов бандерий хранилась тут на вешалках или же в сундуках, пересыпанная камфарой и покрытая листьями табака, чтобы уберечь ее от мышей и моли. Кастелян начал открывать сундуки, один за другим, и всякий раз приговаривал: «Пожалуйста, выбирайте, господин полковник».
Были здесь одежды всех времен и покроев: а-ля Бочкаи, а-ля Бетлен, — барашковые шапки с суконным верхом, расшитые шнурами доломаны, волчьи шкуры, которые в качестве украшения носили когда-то, закинув их за спину; кафтаны, алые, как цветы мака, плащи жандармов славного воина Мартона Гёргея, уже и в те далекие времена понявшего то, что лишь в XX веке постигли короли: лиловый цвет с синим отливом не отличить на определенном расстоянии от голубизны воздуха, и войско, одетое в сукно такого оттенка, становится совершенно невидимым, сколько бы ни напрягали зрения самые остроглазые дозорные на сторожевых башнях.
Лишь после долгих раздумий и колебаний Жигмонд Бибок выбрал себе костюм. Этой разборчивостью он оказался похож на своего современника французского короля, прозванного «Король-Солнце». (Слух о его привередливости дошел даже и до гёргейского кастеляна — ведь августейший щеголь иногда до полудня не мог решить, какой кафтан ему надеть, если камердинер утром подавал ему их несколько.)
В конце концов «полковник» остановил свой выбор на черном, как перья скворца, доломане из тонкого моравского сукна, бекеше на лисьем меху и красных узких штанах, расшитых спереди от пояса до самых колен желтым шнурком. Пожелав немедленно облачиться в новый наряд, он попросил кастеляна на минутку оставить его одного. Но господин Валкани счел эту просьбу хитрой уловкой и откровенно заявил:
— Простите, господин полковник, не могу. Если желаете, переодевайтесь при мне.
— Черт побери! — возмутился Бибок. — За кого вы меня принимаете? Как смеете вы так со мною говорить? Счастье ваше, что я оставил свою саблю дома.
Кастелян не ответил ни слова на этот взрыв благородного негодования, только снял со стены две одинаково острых сабли и протянул одну из них «полковнику».
— Вот, если вам угодно. Я ведь тоже когда-то был солдатом.
Однако Бибок презрительно отмахнулся:
— Не дурите! Не хочу я начинать с такого кровопролития свою службу у его превосходительства.
И, отказавшись от поединка, он принялся стаскивать с себя свои лохмотья, небрежно разбрасывая их во все стороны. Однако Валкани, пристально следивший за тем, чтобы они случайно не очутились вместе с хранившейся в арсенале одеждой, концом пики собрал в кучу сброшенное тряпье, а затем поддел его на острие пики и затолкал в топку печи. («Не в запахе дело, — объяснял он позднее, — ведь запах горелой одежды мне еще противнее, и не в том, что это рубище ни гроша не стоит, а просто я опасался, что в нем сидят кое-какие жители».) Жига быстро переоделся, — только желтые сапоги со шпорами ссохлись и заставили его помучиться, но, наконец, под аккомпанемент обычных в этих случаях возгласов: «А чтобы вашему прежнему хозяину провалиться в преисподнюю, если он туда еще не попал», он натянул эти сапоги на ноги.
Набросив на плечи бекешу, Бибок выпятил грудь и, самодовольно покачивая станом, уже примирительным тоном спросил:
— Ну, как? Красив?
— Совсем другим человеком стали! — равнодушно подтвердил кастелян. — Теперь вас и родной отец не узнает!
— Я думаю! — горделиво отвечал Бибок. — Вот только хорошо бы соскоблить с моего котелка лишний мох. Нет ли у вас, милейший, кого-нибудь, кто мог бы слегка подстричь мне волосы и бороду.
— Есть, конечно. Старый Йошка!
— Будьте добры, как только мы выберемся из этого лабиринта, позовите мне вашего цирюльника.
— Он — не цирюльник, он — чабан.
— А где же он обучился своему ремеслу?
— Как где? Так ведь он же всю жизнь стрижет баранов.
— А вы, приятель, как я посмотрю, ехидный и наглый дядя!
Очутившись в ладно скроенной одежде, Бибок, по-видимому, почувствовал себя юным повесой и даже назвал «дядей» кастеляна, который был гораздо моложе его: грубоватый тон господина Валкани задевал Бибока, но вместе с тем напоминая, что с этим человеком ему не следует ссориться.
Когда они спустились вниз, кастелян провел Бибока в каморку чабана, где старый Йошка, вооружившись овечьими ножницами, без лишних слов приступил к исполнению своих обязанностей.
— Помни, с кем имеешь дело! — грозно предупредил чабана «полковник». — Если порежешь или подстрижешь лесенкой, считай себя покойником!
Перепуганный чабан стриг Бибока осторожнее, чем самого дорогого тонкорунного барана, но зато и работа удалась на славу. Закончив стрижку, старик взглянул на преображенную голову Бибока и пришел в восхищение:
— Вот как славно получилось!
«Полковник» тоже остался доволен и принялся шарить в карманах своего нового одеяния в надежде, что кто-нибудь из прежних владельцев костюма забыл в нем хоть один медный пятак и можно будет дать на чай чабану. Но в карманах ничего не нашлось, это явно вывело Бибока из себя, и, будто досадуя на свою забывчивость, он воскликнул:
— Ну, так и есть! Всю мелочь я забыл в своей старой одежде! Ладно, придется ограничиться одним «спасибо».
— Из «спасиба» шубы не сошьешь, — недовольно проворчал чабан.
Когда Жигмонд Бибок возвратился в кабинет вице-губернатора, его и в самом деле не узнал родной отец, уже державший в руках заготовленный договор и нетерпеливо поджидавший сына. При виде нарядного, бравого военного с бряцающей саблей на боку, подслеповатый старик почтительно поднялся, приняв гостя за «какую-то важную шишку», а когда тот обратился к нему голосом Жиги с вопросом: «Ну как, отец, готов договор?» — старый Бибок принялся испуганно оглядываться по сторонам: откуда мог исходить сыновний голос, если в комнате нет ни души, кроме него, Винце Бибока, да чужого блестящего рыцаря? И беднягу охватил суеверный страх. В конце концов все выяснилось, и оба Бибока уже приготовились заключить в присутствии вице-губернатора полюбовную сделку, подписав договор о передаче имения Бибоку-младшему и выплате семье Бибока-старшего пожизненной ренты, но вдруг Гёргей разорвал текст договора, так как оказалось, что старик продиктовал писцу, а тот с его слов записал, что Жигмонд Бибок отказывается от всяких претензий на свою бывшую жену, урожденную Жужанну Флатт, в настоящее время жену Винце Бибока.
— Не позволю вносить в договор ничего, что противоречит закону и нравственности, — заявил вице-губернатор. — Разве женщина — вещь, которая может быть предметом купли и продажи? Нет, такое (весьма подвижное!) «недвижимое» ни продать, ни сдавать в аренду нельзя.
Пришлось Бибокам ждать, пока писаря переделают договор, чтобы в нем ни словом не упоминалось о жене. Для чего же даны человеку веки и ресницы, если не для того, чтобы он мог при желании открыть или, напротив, закрыть глаза? Volenti non fit injuria.[30] Если Жигмонду Бибоку не нужна жена, а этой жене не нужен Жигмонд Бибок и, наоборот, Винце Бибок и Жужанна Бибок не могут жить друг без друга, зачем же мучить троих людей только ради того, чтобы принести жертву ненасытному Молоху — закону?
В старину венгерские магнаты по-своему понимали правосудие. В поисках справедливости они листали не кодексы, но страницы жизни тех, кто к ним обращался за правосудием. Не было в те времена еще и прокуроров. Государственная мудрость тогда еще не сошла с ума и не начала плодить ученых законников, которые вместо того чтобы устранять, на благо государства, недоразумения, недоговоренность и споры между людьми, поддерживают их, углубляют и увеличивают. В те дни все было иначе. В судейских креслах сидели тогда настоящие патриархи, мудрецы, взвешивавшие все обстоятельства дела, властители, а не жалкие рабы статей и параграфов! Законы тогда были несовершенными, примитивными, зато их блюстители — здравомыслящими, авторитетными людьми. Так для чего же им было всегда и во всех случаях преклоняться перед несовершенными законами? Прежде судьи были лучше законов, и, значит, они сами (а не тень его королевского величества) судили, рядили на своем родном языке и по своему собственному разумению. С тех пор законы, как видно, сделались лучше судей, и все переменилось.
Но в описываемый мною день вице-губернатор Гёргей был убежден, что совершил богоугодное деяние, оградив беспомощного старика и милую женщину от посягательств негодяя. Ведь для него было несомненно, что Жигмонд Бибок прошел огонь, воду и медные трубы и, как губка, впитал в себя все дурное, встречавшееся на его пути. Вместе с тем Гёргей радовался, что нашел применение этому опустившемуся, беспутному бродяге, который мог натворить бед в селе, а вместо этого будет теперь командовать отрядом солдат-наемников. Умелое руководство в том и состоит, чтобы направить все, в том числе и злые силы, на полезные дела. Даже саранча, этот бич божий, собранная в мешки и высушенная на солнце, превращается в отличное лакомство для домашней птицы, — иными словами, саранча из пожирателя пищи сама становится пищей.
Однако Пал Гёргей ошибался, полагая, что можно раз и навсегда уладить дело, в котором главную роль играет женщина. Правда, первый день прошел благополучно. «Полковник» Бибок нанес визиты господам Фехерам и Валлаи. Он шествовал по улице с важным, горделивым видом. Говорят, он даже спросил у одного старого крестьянина, Габора Керцеля, где находится поповское подворье, так как собирался навестить его преподобие, на что старик Керцель почтительно ответил:
— Там же, где и раньше. Да вы, наверное, и сами помните еще, господин Жига.
— Очень нужно мне помнить всякий курятник! — заносчиво возразил «полковник».
В селе теперь было о чем посудачить. Что-то будет? И как? Вот путаница! Одни утверждали, что Жига Бибок вернулся домой бродягой-оборванцем, другие же клялись всеми святыми, будто он прибыл в богатейшем наряде, что тебе король — сплошь позументы да вышивки. «Богомерзкое страшилище, вся рожа исполосована шрамами!» — говорили одни; а другие не могли нахвалиться: «Стройный, как тополь, человек, на мужественном лице следы рыцарских ран!» Вот и разберись тут: кто прав, кто нет. А ведь и те и другие говорили правду, — все зависело от того, когда они повстречали Бибока. В обоих же видах довелось лицезреть Бибока только его жене. А к вечеру все местные дворяне заявились к ним в дом с ответным визитом: надо ж посмотреть, что у них там делается. Одним словом, у Бибоков началось столпотворение. Старый Винце был весел и счастлив. Всех приходивших оставлял ужинать и то и дело повторял: «Без вести пропал мой сын, да вот вернулся! Выпьем же за его возвращение». (Этому тосту люди удивлялись еще больше.) Жужанне Бибок пришлось немало похлопотать, стряпая ужин. А за ужином (по крайней мере, так клятвенно утверждает госпожа Фехер) Жигмонд Бибок все время жал под столом ножку юной Эстер Валлаи, вдове Пала Перле. Вдовушка молча терпела, а может быть, даже отвечала ему тем же; в конце концов, отведав доброго вина, компания совсем развеселилась, и одного из младших сыновей старого Бибока послали на гёргейский двор за старым чабаном Йошкой, попросить, чтобы он немедленно пожаловал на гулянку со своей волынкой. Пошло тут веселье да танцы, и только рассвет положил пиршеству конец, а Жигмонд Бибок чуть до смерти не закружил молодую вдовушку Валлаи, не забыв, впрочем, пройтись разок по кругу и с бывшей своей женой. Странно как-то было все это. В особенности, когда он отплясывал с женой. Младшие сыновья Винце Бибока смотрели на Жигу, словно тигрята, приготовившиеся к прыжку. А старый Винце хохотал и хлопал в ладоши, в такт волынке. Сразу видно было: старик захмелел и уже не понимает, что делает.
Тетушка Марьяк чуть свет собрала все эти подробности и, не успев даже разобраться в них сама, принялась сообщать их хозяину за завтраком, как вдруг слуга, принесший барину свежей воды, доложил, что в передней дожидается господина вице-губернатора госпожа Бибок.
— С кем она? — удивленно спросил вице-губернатор.
— Одна.
— Пусть войдет.
Вошла госпожа Бибок. Но теперь ее было не узнать — совсем другая женщина: нарядно одетая, шуршавшая множеством накрахмаленных юбок, в темно-синем ментике с филигранной серебряной застежкой на груди и воротником из медвежьего меха. Голову госпожи Бибок украшал рогатый чепец с вышитыми подвесками около ушей. Одним словом, от вчерашнего надломленного горем несчастного создания не осталось и следа; она держалась прямо, ступала упругой походкой, молодо поскрипывая сафьяновыми сапожками и плавно покачивая бедрами; скромное личико, еще вчера скрывавшееся под огромной шалью, горело румянцем («Черт побери, — подумал Гёргей, — уже не накрасилась ли она?»), а в глазах, вместо выражения печали и скорби, светилась какая-то задумчивая мечтательность.
— Что хорошего скажете, сударыня? — приветливо спросил вице-губернатор, украдкой разглядывая гостью и находя, что она ничуть не похожа на ту страдалицу, какой он видел ее вчера.
— Ой, ничего хорошего, ваше превосходительство, ничего хорошего. Пропала я, вконец погибаю!
— Ну, что вы! Наоборот, вы воспрянули духом. Со вчерашнего дня, но крайней мере, на десять лет помолодели.
— Это только так кажется. Наверное, потому, что лицо у меня от гнева пылает, — нервно отвечала женщина, кусая прижатый к губам кружевной платочек, словно горячий конь — удила.
— На кого же вы так разгневаны?
— На всех! На бога, на людей, на самое себя и даже на вас, ваше превосходительство.
На вице-губернатора чуть ли не кокетливо смотрели голубые, беспокойные глаза умной женщины, близкой к истерике, озаряя ее слегка скуластое и тем не менее миловидное, привлекательное лицо.
— Не понимаю… о чем вы? — пробормотал в замешательстве вице-губернатор, удивленный ее странным взглядом и смелыми словами, неожиданными в устах этой вчера еще безутешно плакавшей мадонны.
— Обокрали меня, обманули, лишили меня счастья, мужа лишили… Вот я и пришла вам сказать: не бывать этому! — В голосе женщины звучала жгучая обида, протест и с трудом сдерживаемая страсть.
Гёргей покачал головой.
— Ай-яй-яй, сударыня! Чего вы только не наговорили! Ведь вы же сами умоляли меня вчера спасти вас от мужа? Я имею в виду Жигмонда Бибока.
— Откуда же мне было знать, что этот бессердечный пес в первый же вечер выкажет свое нутро? Что на мой позор он спутается с Эстер Валлаи? Вы же сами знаете ее, ваше превосходительство. Хороша вдовица! Нет в ней ни капельки стыда. Если бы вы только видели, ваше превосходительство, как она увивалась вокруг Жиги, как льнула к нему! Вытаращила на него свои совиные глаза, а я на все это смотри и не смей оттаскать ее за волосы. Но ведь если хорошенько приглядеться, у нее тоже не одну седую прядь найдешь…
Госпожа Бибок заскрежетала зубами и принялась яростно дергать обеими руками, словно вырывала волосы из косы своей соперницы.
— Нет, я больше не могу так. Лопнуть готова от злости!
— Странные существа вы, женщины! Вчера, когда вы считали Жигмонда Бибока верным супругом, он был вам не нужен? А стоило ему приударить за другой, и он вам тотчас же понадобился! Вот и разберись тут с вами!
Но госпожа Бибок в знак возражения так решительно замотала головой, что зазвенели, забренчали все медные побрякушки на ее чепце.
— Уже и вчера, поверьте мне, ваше превосходительство, до краев была полна моя чаша горечью. Только этой последней капельки и не хватало, чтобы она пролилась. Не могу я жить, будто батрачка, в маленьком домишке, без собственной земли. Да я вчера больше слез пролила, чем святая Магдалина у гроба господня! Кончилась моя радость, как только мне сказали, какие в договоре условия. Улетела радость, словно птица вспугнутая!
Гёргей пожал плечами.
— Тут уж я ничего не могу поделать.
— Ваше превосходительство, вы все можете, ведь ваша власть превыше всего.
— Не вижу никакой возможности, милая моя.
— Зато я вижу. Вызовите к себе Бибоков и скажите им свой приговор, что жена — я то есть — переходит к тому, чья земля. А раз земля сейчас по договору отдана Жиге…
Вице-губернатор улыбнулся и перебил госпожу Бибок:
— Милая моя, ведь женщина — не здание какое-нибудь, чтобы ее вместе с землей передавать. Как же я могу вынести такое решение?
— Но я выходила замуж не за батрака и не за нищего, — возразила Жужа пренебрежительным тоном и гордо подбоченилась. — Я за дворянина, за помещика выходила! И за ним хочу оставаться!
— Вы вышли замуж просто за Жигмонда Бибока. А у него, строго говоря, не было в то время имения: оно принадлежало его отцу.
— Но тогда он был у Винце Бибока единственным сыном, — огрызнулась Жужа. — А теперь их целых три на какой-то жалкий клочок земли!
— Верно, — решил подразнить ее вице-губернатор, которого начинала уже забавлять эта запутанная история. — Однако не забывайте, что двух других вы сами произвели на свет! Двух других, которые, по сути, должны быть вам деверями!
— Что ж теперь говорить, как все это получилось, — с некоторым смущением ответила Жужа Бибок, потупив голову. — Все по воле божьей делается. Не я тому причиной. Но я не такая дура, чтобы отказаться от того мужа, к которому отходит имение.
— А остаться с ним вам как раз и невозможно, — рассмеялся вице-губернатор. — Даже если бы у меня было право вынести такой приговор, что вы переходите к мужу вместе с имением, я не знаю, в чьи бы руки вы еще угодили. Сейчас имение у Жигмонда Бибока, но если вы пожелаете «отойти» к нему, — что, разумеется, в вашей воле, — тогда имение тотчас же заберет себе старый Винце. Пожелаете вы остаться у Винце, Жигмонд потребует вас, как свою законную жену, себе.
— Что написано пером, того не вырубишь топором, — защищала свою точку зрения Жужа Бибок. — А в бумаге написано, что отец передал имение Жигмонду.
— Верно, но с условием, что вы, сударыня, останетесь у Винце.
— Об этом в договоре ничего не сказано, — нагло бросила женщина.
Ее замечание покоробило Гёргея.
— Но я-то знаю об этом. Знаю и весьма удивляюсь, что вы, сударыня, готовы не только бросить беспомощного старца, но и отнять у него все состояние! Как я, однако, обманулся в вас! Вчера вы показались мне совсем иной. А вы, видно, женщина корыстная. Так вот, отправляйтесь к себе домой и сами разбирайтесь со своими двумя мужьями! Как любая другая женщина, очутись она на вашем месте. Поступайте, как хотите. Я больше в ваши дела не желаю вмешиваться.
Жужа Бибок побледнела, хотела что-то сказать, но Гёргей жестом остановил ее и резким, не терпящим возражений тоном, приказал:
— Ступайте! С богом!
Тетушка Марьяк все это время подслушивала у замочной скважины, но из всего разговора ей только удалось уловить и передать затем для всеобщего сведения, что вице-губернатор был раздражен, а Жужа Бибок вышла из кабинета с заплаканными глазами. Но даже эти скудные сведения явились настоящим лакомством для обитателей Гёргё: их будничную жизнь взбудоражило столь удивительное и нежданное событие, как дело Бибоков. На памяти их еще никогда не было такой веселой зимы в Гёргё. А что еще им предстояло!
Полковник Бибок быстро отыскал для своей «дворянской гвардии» нескольких бездельников, которые, облачившись в военную форму, пробудили в сердцах гёргейских молодушек и девиц великие страсти. Взял в «армию» Бибок и обоих своих сводных братьев и тотчас произвел их в подпоручики. Словом, жизнь села Гёргё шла теперь бурно; по вечерам молодые витязи заглядывали на посиделки, подсаживались к девицам, усердно прявшим пряжу, и с готовностью поднимали веретенце, когда его роняла то та, то другая красотка. А ведь нередко бывает так: начинается с упавшего веретена, кончается же падением самой пряхи.
По воскресеньям на военные учения собирали и гёргейских крепостных мужиков. Вот уж когда было потехи! Учения проходили на замковом дворе, где только и слышалось: «Seno — slama, seno — slama»[31], — потому что в отряде Бибока команду подавали на словацком языке. Любопытные, в особенности женщины, стекались поглядеть на это зрелище не только из Гёргё, но и с окрестных хуторов: Брашника, Одорицы, Пишароца.
Но этим не кончились гёргейские забавы, о которых немало судачили в Лёче самодовольные саксонские бюргеры, прослышав о военных приготовлениях вице-губернатора. Ага, значит, боится господин Гёргей! Окружил себя наемниками!
А Гёргей теперь уж и на охоту ездил не иначе, как под охраной вооруженных солдат. Узнав об этом, саксонцы усмехались и говорили: «Ничего, все равно попадется к нам в руки. Комитатская-то управа находится в Лёче. Управа за ним не поедет. Рано или поздно, а придется ему сюда пожаловать».
Приближалось назначенное на двадцатое января комитатское собрание, и в Гёргё стали съезжаться дворяне Сепешского комитата — кто в карете, кто верхом, а иные (как, например, старый Адам Тарноци) потянулись в повозках, запряженных волами. Прибыли Дравецкие, Колачковские, Екельфалуши, Кишши из Фелшеорослани и трое братьев Абхортиш — молодцы саженного роста (славная, видно, была матушка, коли родила трех таких богатырей!), Луженские, Матяшовские, Имре Мариашши в своем новом венском экипаже, Иов Андреанский на четверке вороных — да разве всех перечислишь! Маленькое село буквально гудело, словно пчелиный улей, от множества приезжих: сами-то господа останавливались, разумеется, в замке, но их гайдукам и кучерам не было места в барских хоромах; лошадей определяли по крестьянским конюшням, а кучера и слуги рассеялись по всему селу, получая от Гёргея только провиант: в полдень и по вечерам прямо под открытым небом на поляне за гумном жарили для них на вертеле целую воловью тушу. Там же деревенские старухи варили гречневую кашу с бараниной, а из барского погреба к каждой трапезе выкатывали бочонок вина. Вот уж где «полковник» Бибок, которому поручили поддерживать порядок среди приезжей прислуги, чувствовал себя в своей стихии!
Дороги в те времена были отвратительные; тем, кто отваживался ехать по ним, нужно было преодолевать много препятствий, а потому со времен Ракошпалотского государственного собрания вошло в обычай день-другой дожидаться, пока подъедут задержавшиеся в пути. Скучать ожидавшим не приходилось, карты и вино в Гёргё имелись: Палу Гёргею при разделе наследства досталось три больших виноградника на Хедьалье, а карты водились в каждом дворянском доме. Правда, карточных колод не хватило, пришлось отправить нарочного в Лёче к Дюри Гёргею, чтобы он прислал оттуда еще несколько «Teufels Gebetbuch»[32]. «Фербли» в те дни еще не придумали, зато «фараон» и «баккара» были уже хорошо известны. Люди посолиднев играли в «бириби» или «пасседи», сепешское же дворянство предпочитало «тридцать одно» и «креп». Неисправимый картежник Шваби каждое лето отправлялся в Италию и оттуда привозил кучу выигранных талеров и какую-нибудь новую карточную игру. И где он только запропастился на этот раз?
На следующий день приехал Шваби, приехали и все остальные, кого дожидались — за исключением Яноша Гёргея. Но зато пожаловал такой гость, которого совсем не ждали: в крестьянском тулупе, на обшарпанной телеге, прикатил никем не званый господин Кендель, которому только накануне заседания дворянского собрания, в начале прошлого месяца, было пожаловано звание дворянина — как бы в утешение за то, что его затея выкупить у Польши сепешские города провалилась, натолкнувшись на сопротивление дворян.
Венгерское дворянство как сословие никогда не замыкалось в себе. Поэтому-то наша родина все еще и существует, а вовсе не по милости божьей, как утверждают иные поэты. Хорошо придумали наши деды (да упокоит господь их души), установили за правило: где бы ни появился человек, сильный умом или богатством, его надо тотчас же принять в дворянское сословие, впустить его в эту крепость, созданную государственным устройством. Вне ее стен оставались лишь существа слабые, бессильные. И старая знать не злилась, обнаружив вдруг в своих рядах новоиспеченного дворянина, как не испытывает недовольства паук, проглотивший жирную муху.
Однако маленького, тщедушного Кенделя издавна и дружно ненавидели во всем комитате: одни — за темное происхождение его богатства, другие — за странности характера. Поэтому пожалование Кенделю дворянства многие рассматривали как своего рода пощечину, которую австрийский император дал сепешскому дворянству.
Словом, неожиданный приезд господина Кенделя несколько испортил гостям настроение. Хозяин дома оправдывался перед наиболее близкими ему людьми: он, мол, не приглашал ростовщика, но раз уж Кендель здесь, то он — гость наравне со всеми, и весьма нежелательно, чтобы кто-нибудь из дворян оскорбил его.
Кстати, Кендель и сам не скрывал, что явился незваным, и в дом он вошел с подобострастным видом.
— Приглашения я, правда, не получил, но подумал, что хоть я и недавний дворянин, но все же имею право принять участие в совещании, созванном вашим превосходительством, — пояснил он.
Гёргей отвечал ему вежливыми извинениями:
— О, конечно! Разумеется! Это ошибка моих писарей. Они, как видно, рассылали приглашения по старому списку. Добро пожаловать!
— Да, я поспешил, — отвешивая глубокие поклоны, тараторил Кендель. — Ведь мне за шестьдесят, давно уже перевалило за шестьдесят. А дворянское звание для меня что новый складной ножик, подаренный малому ребенку. Никак не могу дождаться часа, чтобы вырезать им что-нибудь такое.
— Ну, тут не очень-то много работы для вашего нового ножа найдется, — улыбнулся вице-губернатор.
Кроме этого замечания, Гёргей пока еще не обмолвился ни словом о причине необычного и по месту и по времени созыва дворянского собрания, — гости напрасно допытывались у него об этом.
Вначале папаша Кендель был всем в тягость: хоть бы сел в карты, что ли, перекинуться, дав господам дворянам возможность сделать небольшое кровопускание его кошельку. Но не тут-то было. «Что подумают люди, — заявил Кендель, — если я, финансист, который состоит в деловых отношениях с настоящими королями, начну швырять деньги на королей бумажных?»
Заносчивый ответ ростовщика еще больше восстановил против него господ аристократов, однако немного погодя, когда кое-кто уже успел проиграть всю свою наличность и жаждал срочно занять у кого-нибудь денег, Кендель сделался вдруг популярнейшим человеком. И все ласково называли его «дядюшкой Гашпаром».
Следует признать, что лоскуток собачьей кожи, превращенный в пергамент, уже и за две недели совершил чудо — сделал кровь Кенделя «голубой» * и превратил знаменитого скрягу-ростовщика в беспечного мота: без всяких векселей и гарантий он то и дело по чьей-нибудь просьбе, высказанной ему по секрету, «на ушко», выбегал во двор к своей телеге, отпирал покрытый рядном сундучок (служивший одновременно и козлами) и доставал из лежавшей в нем полосатой торбы необходимую сумму. Выбегать ему приходилось так часто, что молодой Марьяши даже решился посоветовать ему:
— Дядюшка Кендель, а не лучше ли вам приказать принести сюда ваш сундучок?
— А и верно, гораздо лучше! — рассмеялся господин Кендель. — И мне и вам! Ладно, давайте пошлем кого-нибудь за ним!
«Полковник» Бибок мигом доставил с помощью своих солдат сундучок в залу, и он был водружен на длинный зеленый стол, тянувшийся через всю комнату, по самой ее середине. Игроки удивлялись и не понимали, почему Кендель нашел, что будет «гораздо лучше», если сундучок принесут в дом. Только к вечеру им стало это понятно. Вскоре после ужина Кенделя стало клонить ко сну, и он, отцепив со связки, гремевшей у него в кармане, ключ от сундучка, вставил его в замок.
— Я, пожалуй, пойду прилягу. Человек я уже старый, и, не дай бог, кто-нибудь потревожит мой сон. Этого я не люблю. Оставлю-ка я вам этот ключик. Если кому из господ понадобятся деньги, пусть возьмут сами. Только не забудьте записывать на бумажке, кто сколько взял. Чтобы потом кому-нибудь не вздумалось возвратить больше, чем он одолжил. И смотрите же: не смейте будить меня. Ведь с тех пор, как я при шпаге, я спросонья могу ранить человека или даже сразить его насмерть.
Это подтрунивание Кенделя над самим собой вызвало у всех улыбку, а благородный жест, которым он доверил обществу ключ от денежного сундука, сразу же изменил мнение о нем в лучшую сторону. Вот тебе и маленький Кендель! Оказывается, он замечательный человек! Ну как тут не полюбить его? Ласло Колачковский, сведущий в естествознании, сказал, что привить благородные качества как растениям, так и людям можно, но это явление божественно-волшебное, и объяснить его столь же трудно, как, например, превращение уродливой, гадкой гусеницы в изумительно красивого мотылька.
Сражение за карточными столами шло до самого утра, а на другой день после завтрака началась мена лошадьми. Величайшее удовольствие — испытать, какие достоинства кроются в той или иной лошадке, насколько подходит она к остальным твоим выездным лошадям — по масти, по статям и крови. И в конце концов выбрать самую подходящую! Счастливцы, выигравшие в карты (куда же лучше истратить деньги, как не на лошадей?), приехав на паре, возвращались домой четвериком, а если четверик уже имелся — меняли его на более дорогой. Проигравшийся мог скрыть проигрыш от жены: променять своих коней на других, а дома сказать, что новая упряжка куда лучше прежней и поэтому пришлось за нее приплатить. Гости торговались, пробовали коней, гоняли наперегонки и, словно цыгане, старались одурачить друг друга, — так всегда делается при мене лошадьми. Честнейшие люди, отроду не повинные во лжи или пустословии, вдруг начинали превозносить собственных коней до небес, а чужих чернить в смачных выражениях, не уступая в этом заправским барышникам.
— Вот конь, что огонь! Только говорить не умеет.
— Все знает, кроме кнута.
— Овса не ест, а устали не ведает.
— Не идет — танцует.
— Осанка, что у благородной барышни!
— Спокойный, смирный, хоть ребенку в руки поводья дай.
Так хозяева восхваляли надоевших им лошадей, стараясь сбыть их с рук. О конях же, которых им хотелось приобрести, они отзывались презрительно:
— Ну, у этого мерина столько же пороков, сколько ему лет.
— Припадает на одну ногу.
— Да он кривой на левый глаз. Видит хуже, чем моя бабушка.
— Голову-то как держит! Будто не лошадь, а осел.
Запрягали, выпрягали, перепрягали, что уже само по себе восхитительное зрелище для прирожденных лошадников, а ведь в Венгрии издревле царил культ лошади. И кто знает, сколько продолжался бы еще этот импровизированный конский базар и всякие его чудачества, если бы хозяин не провозгласил наконец: «Ну, а теперь займемся политикой!» — и тотчас же лошадники и картежники превратились в серьезных людей, депутатов комитатского дворянского собрания.
Гёргей все еще дожидался своего старшего брата. Но поскольку Янош не приехал и на третий день, вице-губернатор решил не откладывать совещание на послеобеденный час, а произнести свою речь «на свежую голову», пока все были трезвыми. Из большого зала вынесли карточные столики, заменив их скамейками, и он преобразился в «зал совещаний». Длинный, покрытый зеленым сукном стол оставили на прежнем месте. Вокруг него расположились представители «четвероконных фамилий» *. После того как все остальные депутаты разместились на скамейках, Гёргей в краткой вступительной речи приветствовал господ дворян, приехавших к нему, несмотря на непогоду и холод, сказал, что он встретил их, как своих дорогих гостей, однако теперь просит всех считать, что тут, на нейтральной, так сказать, территории, происходит совещание, и посему собравшиеся уже не являются его гостями, а он, Гёргей, хозяином дома.
— Что за чертовщина! — изумленно воскликнул один из Абхортишей. — На это мы не согласны.
— Хо, хо! — проворчал Ференц Мойоки.
— Да нет же, только на полчаса, пока будет идти совещание, — объявил вице-губернатор, и все засмеялись.
— Ну тогда другое дело!
Одновременно Гёргей предложил Петеру Луженскому занять место председателя.
— А почему не вице-губернатор? — заволновались некоторые. — Ведь вы — глава дворянства в нашем комитате.
Разъяснение вице-губернатора, хоть оно и было дано с улыбкой, прозвучало зловеще:
— Верно. Но лучше будет приступить к делу именно так, потому что сменить вовремя главу важнее, чем обменять коня. Вот мы и произведем меновую. Занимайте, сударь, председательское место! Вы, как мне известно, самый старый среди нас.
Восьмидесятилетний старик Луженский тряхнул своей красивой головой с белоснежными сединами.
— Не стар я еще, — весело возразил он, — просто дольше вас всех живу на этой негодной планете! Но уж если вы приказываете, господин вице-губернатор, повинуюсь. С этими словами председатель собрания уселся в почетное кресло, спинку которого украшали две пики с позолоченными наконечниками. Но каким же венгром был бы Петер Луженский, если б, заняв председательское место, он не произнес речи, а кто же больше имел права называться венгром, чем этот старец, носивший на своем теле шрамы от двадцати боевых ран?
Итак, Петер Луженский произнес речь по случаю открытия совещания:
— Уважаемые благородные господа! Хранители рубежей христианской Европы! В дни войн Тёкёли я сражался под одним стягом с неверными, которые были, кстати сказать, бравыми вояками, жаль, что ныне такие уже перевелись. И был у меня среди них один хороший приятель, Хамен-бек, которого я любил, как родного брата. Разговорились мы как-то раз с ним, он мне и говорит: «Вы, венгры, и другие христиане считаете себя умнее нас, мусульман, а на самом деле вы глупейшие на свете люди». — «Почему?» — спрашиваю я. «А потому, — отвечает турок, — что, когда вы хотите оказать кому-нибудь особую честь, вы сажаете его на пиршествах рядом с самыми уродливыми, самыми старыми женщинами, хотя человеку приятнее всего сидеть подле самой красивой и самой юной одалиски». (Веселое оживление в зале.) Вижу, прав был Хамен-бек, чьи слова пришли мне сейчас на ум, когда я на себе испытал другое наше странное обыкновение: сажать на председательское место для ведения серьезных совещаний самых беспомощных, уже скудоумных старцев. (Громкие голоса протеста.) Я не знаю, каков будет предмет нынешнего совещания, но полагаю, что у господина вице-губернатора были весьма серьезные причины на то, чтобы созвать его, раз он заставил нас вылезти из наших берлог в такую мерзкую погоду и тащиться сюда по нашим непролазным дорогам. И хоть я считаю свою персону малоподходящей для обязанностей председателя, все же повинуюсь национальному венгерскому обычаю и сажусь сейчас в сие кресло, доставшееся мне не по заслугам, а по возрасту…
Депутаты в один голос крикнули: «Виват!» Писарь внес в зал саблю вице-губернатора и небольшую деревянную шкатулку. Гёргей поставил шкатулку перед собой на зеленый стол, саблю же не пожелал прицепить к поясу, а отослал обратно.
Затем он поднялся и спокойным голосом изложил по порядку весь ход событий: как из маленького зернышка недовольства выросли крупные разногласия между комитатом и заносчивым городским сенатом Лёче, как постепенно разногласия переросли в лютую ненависть между дворянами и горожанами. Гёргей красочно описал свои собственные нелады с лёченским бургомистром, рассказал, как тот в первый день нового года довел его, Гёргея, до неистовства и толкнул на поступок, достойный сожаления.
— О нем вы, господа, вероятно, уже слышали?
— Знаем! Слышали! — отвечали с мест.
— Я не хочу оправдываться в этом поступке перед вами, — продолжал вице-губернатор, — потому что в нем вы мне не судьи. Богу вверяю я свое дело, перед ним мне легче защищаться, ибо сам господь наделил меня таким вспыльчивым характером. Я просто рассказываю вам всю правду и хочу сделать из того, что произошло, свои выводы. Город Лёче, как это и нужно было ожидать, не только не остался равнодушен к несчастью, о котором я и сам искренне сожалею, но, напротив, принял все это так близко к сердцу, что гнев его перешел все границы. Вместо того чтобы обратиться с жалобой в высшие инстанции, город присвоил себе права судьи. Я совершил преступление в порыве гнева, они же нарочно в течение долгого времени разжигают свой гнев. Городской сенат, обуреваемый замыслами мщения, восстановил мрачные, наводящие ужас обычаи древних германцев: он приказал отсечь у мертвого бургомистра кисть правой руки и похоронить его без таковой. И пока Лёче не покончит со мною, эта отрубленная и набальзамированная рука, выставленная напоказ всему городу, должна постоянно напоминать людям, что она еще пуста, еще не отняла у меня жизни и ее мертвые пальцы не могут подать истлевающему под землею телу знак, что месть свершилась.
Речь Гёргея с каждым словом становилась все вдохновеннее, взор его горел лихорадочным огнем, лицо побледнело. По залу прокатилась волна тревоги. Давид Хоранский выкрикнул с места:
— Да что они, эти саксонцы, думают? Неужто мы их испугаемся!
— И как настойчив в своих замыслах городской сенат, — продолжал вице-губернатор, — видно из его решения, которое призывает к мести всех жителей Лёче и обязывает их ходить в трауре…
— Настоящий «черный город»! Как в сказке! — пробормотал Иов Киш. — Я вчера ехал через Лёче. Они как раз выбирали себе нового бургомистра. Так, представьте себе, люди на улицах все, как один, в черных кафтанах.
— Ничего, слезет с них эта черная краска! — отозвался Шваби. — Не так страшен черт, как его малюют.
Шандор Абхортиш, погрозив своим могучим кулачищем, заявил:
— Мы из этого «черного города» легко можем сделать багровый, если, конечно, в жилах саксонцев течет кровь, а не вода.
Председательствующий недовольно покачал головой, требуя тишины:
— Ну, ну! Давайте все-таки выслушаем до конца господина вице-губернатора. К чему эти возгласы? Он и сам умный человек и скажет все, что сочтет нужным.
Пристыженные крикуны умолкли, и Гёргей продолжал свою речь.
— В таких условиях, почтенное собрание, нетрудно предположить, что меня (я даже уверен в этом) рано или поздно постигнет внезапная кончина.
— Ну, это мы еще посмотрим! — послышался резкий выкрик.
— Именно эта мысль, — продолжал Гёргей, посмотрев в сторону крикнувшего, — именно эта мысль и явилась самой веской причиной, заставившей меня принять некоторые решения. Ведь если город Лёче выместит на мне оскорбление, нанесенное ему убийством бургомистра, — а по всей вероятности, он сделает это, — то и наш комитат не захочет остаться в долгу и в свою очередь отомстит городу за гибель своего вице-губернатора. И вот я спрашиваю почтенное собрание: куда же все это приведет, если так будет продолжаться и дальше? А ведь большой пожар погасить труднее, чем малый. На этот счет у нас, Гёргеев, уже есть запечатленный в семейных хрониках печальный опыт вражды, которая во времена Арпадов разгорелась между Берцевици и Гёргеями, — кончилась она тем, что оба рода едва не вымерли. А ведь то была борьба всего лишь двух родов! Что же произойдет, если вражда вспыхнет между целым комитатом и могущественным городом? Будто еще мало нашей многострадальной стране руин и пожарищ! Нет, в подобных случаях человек не вправе терять рассудок. Мы должны попытаться спасти все, что еще можно спасти. И я в первую очередь хочу оградить комитат от жестокой распри, постараться, чтобы его судьба никоим образом не была связана с моей собственной участью. А потому я слагаю с себя обязанности вице-губернатора и вверяю печать комитата в руки председательствующего сегодня господина Петера Луженского…
В зале началось неописуемое смятение. Многие вскочили. У одних лица выражали гнев, у других — возмущение, сострадание, тревогу, раздумье. Луженский оттолкнул от себя шкатулку с комитатской печатью. Дворянство загудело, словно цимбалы под ударом тяжелого камня.
— Не бывать этому!
— Еще чего не хватало!
— Возьмите назад отставку!
Словно раненый тигр, вскочил со своего места Имре Дравецкий, человек неразговорчивый, но пользовавшийся большим уважением, и, когда зал немного утих, заявил:
— Я не согласен с господином вице-губернатором! Да если бы и согласился с ним мой рассудок дворянина, не может с ним согласиться сердце дворянина. Его превосходительство поступил безрассудно, не отрицаю. Но ведь он пришел в ярый гнев, защищая наши интересы. Из-за нас с вами, господа, так взметнулась волна возмущения в его душе! До роковой вспышки его довели наши с вами обиды. Не будь он нашим предводителем, может быть, рука его никогда и не коснулась бы ружейного курка. А теперь, когда опрометчивое деяние совершено и когда Гёргею угрожает опасность, он, видите ли, хочет, чтобы мы не защищали его. Нет, почтенные господа! Так дело не пойдет. Если господин вице-губернатор проявляет благородство и хочет отойти в сторону, чтобы не обременять нас своими заботами, так будем же и мы благородными людьми и не покинем его! Подумайте, господа дворяне, и вы, ваше превосходительство, какой позор падет на наши головы, если мы бросим в беде своего предводителя! Да неужели мы согласимся отсечь себе голову только потому, что она, видите ли, не нравится лёченцам. Будь что будет, но я не принимаю отставку господина вице-губернатора, а если вы, благородные мои земляки, согласитесь принять ее, клянусь богом, я немедленно переселюсь из Сепешского комитата в какое-нибудь другое место, увезу отсюда даже прах своих предков, потому что они в гробу перевернутся, если я оставлю их здесь после всего этого!
Громкое «ура» покрыло последние слова Дравецкого.
— Да здравствует Дравецкий!
— Да здравствует Гёргей!
— Отдадим и кровь и жизнь за нашего вице-губернатора! — вскричал Моноки, и снова грянуло «ура», как это уж повелось на подобных сборищах.
Суровые черты лица Гёргея заметно смягчились, он часто-часто заморгал, пытаясь «держать навернувшиеся на глаза слезы.»
— Спасибо вам за вашу верность, — медленно проговорил Гёргей глухим и даже дрожащим голосом. — Я вечно буду гордиться вашей преданностью. Однако прошу вас отказаться от такого решения — оно невыполнимо. Увы, я не могу больше управлять комитатом: для этого мне пришлось бы жить или хотя бы приезжать в Лёче, где находится комитатская управа, а всякий здравомыслящий человек понимает, что мне появиться там невозможно, — разве только что под охраной войска. Но для этого понадобилось бы особое разрешение короля, ну и… разумеется, понадобилось бы войско.
Зал разочарованно молчал. Всесильные мужи комитата сидевшие вокруг зеленого стола, растерянно переглядывались, вероятно думая одно и то же: Гёргей прав, в Лёче разъяренные бюргеры схватят да изобьют его, беднягу, а то, чего доброго, эти наглецы еще и в тюрьму его бросят, и тогда дворянству для восстановления своей чести придется собрать ополчение, в порошок стереть город, да еще и солью посыпать то место, где он когда-то стоял; дело, разумеется, не обойдется без вмешательства короля, и пойдет тут такая война, что одному богу ведомо, как можно будет ее унять.
В томительной тишине, когда у всех в голове вертелась эта мысль, с четвертой от конца зала скамьи поднялся маленький Кендель. Никто и не увидел бы его за широкими спинами депутатов, но сосед, Ференц Ланци из Гродца, подтолкнув щуплого богача в бок, посоветовал ему: «Если вы намерены что-нибудь сказать, взбирайтесь на скамейку!»
Последовав разумному совету, Кендель проворно влез на скамью, пригладил свою козлиную бородку и, размахивая барашковой шапкой, словно отгоняя мух, заявил:
— Почтенные благородные земляки! Надоел мне длинный разговор. У меня дома уже давно прозвонили полдень, пора бы и к обеду приступать…
Ропот изумления и возмущения не смутил Кенделя, — только вылетали из головы заранее обдуманные, отшлифованные обороты, и речь свою он уже продолжал в простецких выражениях, переведенных с немецкого и польского языков.
— Да вы погодите… Нечего смеяться-то надо мной! Я не есть старый оратор, я есть только молодой дворянин, новый метла, который хорошо метет. Я выдумывай хорошо, а рассказать плохо, вы выдумывай плохо, а расскажет хорошо. Вот где зарытая собака. Предлагаю: кончайте спор, его благородие оставайся вице-губернатор, мы ходил обедать. Я, Гашпар Кендель де Паста эт Алшокенд, — тут он с плебейским гонором ударил себя кулаком в грудь, — строю за свой счет здесь, в Гёргё, новый комитатский управа, как одна капля воды похожий на тот, другой, и на вечный времена дарю его комитату. Dixi, punctual.[33]
Нет, Кендель больше не был посмешищем! Великое дело — красноречие, но и деньги — не пустяк! У денег, так же, как у власти или ума, свой блеск, свое сияние. И вот уже полдюжины депутатов подскочили к Кенделю, подхватили старика себе на плечи и принялись носить его по залу. А он отбивался ногами и руками и, обливаясь от страха потом, кричал:
— Я еще не привыкал ездить на такой рысак! Отпускай меня. Хи-хи-хи! Ой-ой! Щекотания боюсь.
Только один-единственный голос протеста прозвучал в зале:
— Какая чушь! Чего это ради мы должны убраться из Лёче со своей управой? Ну, уж дудки! Пусть бюргеры убираются из своего «черного города», если наша управа им не нравится.
Тонкий голосишко этот, может быть, и не услышал бы никто, если он не принадлежал молодому Палочаи, ведь молодой Палочаи носил титул барона.
Барона Палочаи разозлило, что Кендель, какой-то барышник из Белы, в один миг завоевал себе почет и уважение сепешского дворянства.
По счастью, в дворянском собрании участвовал Дёрдь Марьяши: завидуя, что сам он не барон, Марьяши частенько сбивал спесь с заносчивых титулованных аристократов. Поднявшись со своего места, он поспешил дать отпор недовольному Палочаи:
— Не знаю, да и знать не хочу, кто сейчас бросил такое постыдное замечание. Но подумайте, сколько в нем неблагодарности, — ведь доблестный муж выразил в простых словах свою готовность на большие жертвы и заслуживает за это не упрека, а похвалы! (Возгласы: «Да здравствует Кендель!») Правда, едва ли нам стоит принимать великодушную помощь господина Кенделя в том виде, как он ее предлагает. К чему нам здесь строить комитатскую управу на какое-то короткое время? Даже моря со временем испаряются — не то что гнев лёченцев! Однако предложение господина Кенделя натолкнуло меня на хорошую мысль: зачем нам что-то строить, если уже имеется давно построенный и столь гостеприимный замок. Давайте так решим: заседания комитатского дворянского собрания — отныне и на неопределенное время будут происходить здесь, в Гёргё. А почему — думается, так же ясно, как дважды два — четыре, да и таких примеров у нас в истории, увы, немало! Ведь сколько лет подряд Пештский комитат проводил свои сословные собрания в Нограде, в городе Фюлек.
— Верно! Правильно! Принимаем!
— Кто согласен, прошу поднять руку! — поставил на голосование это предложение Петер Луженский.
Будто вспорхнувшая птичья стая, дружно взметнулись в воздух руки депутатов. И только Пал Гёргей продолжал нервно постукивать пальцами по зеленому столу.
— Послушаем Гёргея! Пусть он сам скажет!
Гёргей поднялся, покорно потупил голову и глухим, словно доносившимся из подземелья, голосом заговорил:
— Я должен принять на себя все испытания, назначенные мне от бога, а значит, и то, что определил комитат. Остаюсь на своем посту.
Наконец-то великое слово произнесено! Ответом на него было громовое «ура», от которого, как видно, дрогнули стены, ибо в тот самый миг, когда Гёргей вымолвил слово «остаюсь» и раздались крики одобрения, со стены сорвался огромный, в сажень величиной, портрет Эржебет Палашти, матери вице-губернатора, которую живописец изобразил в зеленом бархатном платье и в зеленой шапочке со страусовыми перьями, и грохнулся тяжелой рамой об пол.
— Дурной знак! — шепнул Давид Хоранский на ухо Балажу Екельфалуши. — Тетушка Эржи недовольна. Она любила Пала, баловала его пуще всех своих детей.
Гёргей и сам побледнел, взглянув на портрет, и дрожащим голосом добавил:
— Остаюсь, но хочу, чтобы о нынешнем заседании был составлен протокол, который подпишут все присутствующие. Остаюсь, но только при условии, что среди вас нет ни одной души, желающей моей отставки.
Он окинул собрание орлиным взглядом, но там не нашлось ни единого человека, которому жизнь надоела.
— Нет, все согласны! — закричали в ответ.
Как знать? Может быть, все-таки не согласна была одна душа, уже давно простившаяся с телом, но все еще витавшая в этом зале, где решалась судьба ее сына. Душа, которая и шепнула стене: «Вытолкни гвоздь», а гвоздю: «Урони портрет, где изображена та, что была когда-то мною: помогите мне предостеречь сына».
Так была, ко всеобщему удовольствию, разрешена самая главная часть неприятного дела. Остальные меры предосторожности и дальнейшую тактику решили обсудить позднее, за торжественным обедом.
Обед поспел. Поварихи, кухарки и приставленные прислуживать за столом гайдуки под шумливое командование экономки Марьяк сновали туда и сюда, но все не подавали обед: прежде нужно было хорошенько проветрить большую залу, а затем уж накрывать на стол. Впрочем, сделали все это быстро; казалось, не прошло и пяти минут, тем более, что в это время примчался комендант Гродковский со свежими новостями: самой примечательной из них было сообщение, что после упорной борьбы за бургомистерское кресло между Госновитцером и Нусткорбом, продолжавшейся вчера в Лёче до позднего часа, победил Андраш Нусткорб, получивший перевес в семь голосов, а после своего избрания он произнес довольно миролюбивую речь, в которой не было и намека на то, что он готовится мстить Гёргею.
Все это привело господ дворян в хорошее настроение; повеселел даже мрачный и хмурый вице-губернатор; садясь во главе стола между бароном Палочаи и Петером Луженским, он шутливо сказал прислуживавшему гайдуку, когда подали вкусный суп из гусиных потрохов:
— Раньше всех предложи супу господину Кенделю! Ведь он проголодался больше нас всех, и голод подсказал ему замечательную мысль, благодаря которой и я не лишился куска хлеба.
Господин Кендель засиял, с благодарностью взирая на столь необычную награду, как тарелка супу, а затем даже глаза зажмурил от удовольствия, словно его опрыскали розовой водой.
Вице-губернатор пребывал в веселом расположении духа до самого вечера и весьма сердечно распрощался со своими гостями. Одним из последних уезжал Кендель, испросивший у вице-губернатора милостивого разрешения построить в Гёргё хоть что-нибудь «для доброго дела», а иначе люди будут считать его болтуном. «Дайте мне, — говорил он, — какой-нибудь участок неподалеку от замка, и я выстрою на нем роскошную гостиницу — с каретными сараями и конюшнями — для удобства уважаемых господ дворян, когда они станут приезжать на свои собрания или на выборы вице-губернатора — ведь всем-то в замке им не поместиться. Да и зачем пускать всех в замок, в особенности очень уж мелкие "жемчужины святой короны", которые не лучше мужиков — и ходят в постолах? Ведь если их поселить в замке, знатным господам магнатам будет не по себе. Да и сами магнаты предпочтут останавливаться в гостинице, где они могут повеселиться, как им вздумается, в особенности когда и вина и служаночки хороши».
Гёргей отговаривался обычными в подобных случаях словами: на короткое время, мол, всем найдется место в замке, а он не может принять такого дорогого подарка ни от кого, да и зачем господину Кенделю тратиться без пользы.
— Так ведь я полагал, ваше превосходительство, что гостиница будет принадлежать мне! А уж я сдам ее в аренду какому-нибудь надежному человеку, и в его трактире почтенные господа дворяне как сыр в масле будут кататься. Если вам гостиница ни к чему, то сделайте это хотя бы ради меня.
Вице-губернатор пожал плечами.
— Ну уж коли вы во что бы то ни стало хотите выбросить свои деньги на ветер, — стройте!
Опустел дом, но хозяин по-прежнему оставался приветливым и разговорчивым; вечер он с явным удовольствием провел за кубком вина в обществе Гродковского, которого уговорил остаться переночевать в Гёргё (ну, и попадет же коменданту от его супруги!), а затем, уже в довольно поздний час, по пути в свою опочивальню, встретил на террасе Бибока, производившего смену часовых, вооруженных пиками и ружьями, и пригласил его к себе в спальню, чтобы во время раздевания, пока слуга Престон стягивает с него сапоги и чешет ему пятки (в одном из зимних походов Гёргей обморозил себе ноги, и с той поры подошвы у него ужасно чесались), обсудить с «полковником» меры обороны. Когда Престон ушел, они условились с Бибоком, что, как только дороги снова станут проезжими, «полковник» доставит от Яноша Гёргея три имеющиеся в Топорце пушки. И тут Гёргей спросил:
— А есть у вас люди, которых можно обучить стрельбе из пушек?
— Есть. Двое моих младших братьев. Ловкие, толковые ребята.
— Бибоки — прирожденные солдаты.
— Я думаю! — коротко и горделиво ответил Бибок.
— А как дела в семье? — полюбопытствовал, вице-губернатор.
— Мир.
— Удивляюсь. После всего, что произошло… — пробормотал Гёргей. — Искренне удивляюсь.
— Весь секрет в том, что…
— Да, в чем же?
— В том, что старик сам больше ничего не может, но ничего и не подозревает, а Жужа ни о чем больше не тоскует, но и ни о чем не болтает.
— Черт побери! — покачал головой Гёргей с иронической улыбкой. — А сами-то вы, полковник, как?
— А я им обоим прихожу на помощь и не скучаю… — пояснил Бибок.
— Словом, вы, полковник, само совершенство, — сладко позёвывая, закончил разговор Гёргей. — Кажется, сегодня я, наконец, буду спать. Только пусть часовые ходят по коридору да хорошенько постукивают копьями о каменный пол.
Так и было приказано часовым. Постукивание копий успокаивало издерганные нервы Гёргея, а стоило этим звукам прекратиться, как он сразу же просыпался в испуге от неожиданно наступившей тишины.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ В судьбе маленькой Розалии происходят перемены
Тихо и однообразно текли дни, один за другим, разве что мороз то крепчал, то отпускал. Да только никто не мерил температуру в те времена. Масленица в Лёче прошла скучно. Женщины роптали. Господин Нусткорб занял бургомистерское кресло, и поскольку многие в городе упрекали его за миролюбивую политику, он для успокоения недовольных возбудил в государственном казначействе дело о прирезке к городским угодьям участка земли, окропленного кровью Крамлера. Гёргея вызывали в суд, но он предпочел не явиться и in contumatiam[34] проиграть тяжбу. «Злому псу брось кусок мяса!» — думал он.
Тяжбу он действительно проиграл, и город торжественно вступил во владение землей, так хитроумно отнятой у Гёргея; но случаю этого в городском погребке состоялось великое пиршество. Однако прирезанные пахотные угодья показались победителям слишком малой добычей и только распалила у них жажду мости. Уступчивость Гёргея не оправдала себя, и на пиру в погребке подстрекатели произносили речи, разжигавшие и восхвалявшие чувство мести. Там же, в погребке, родилась мысль посадить молодого Фабрициуса в сенатское кресло, освободившееся после избрания Нусткорба бургомистром, того самого Фабрициуса, которому Дюри Гёргей отсек на дуэли кусочек уха. Фабрициус! Вот из кого вырастет будущий бургомистр Лёче! У него смелости хоть отбавляй! (Понимай так, что у господина Нусткорба смелости нет!) Уж он-то не задумается пролить свою кровь за честь города.
Молодой Фабрициус, пока еще обучавшийся в дальних краях всяким наукам, может быть, потому и сделался героем, что не мозолил городу глаза. Сторонники его глубоко сожалели, что он не достиг положенного для избрания возраста: ему еще не было двадцати четырех лет. Но в городе уже немало толковали о том, что надо отправить в Вену, к императору Леопольду, делегацию да испросить у него признание «их Фабрициуса» совершеннолетним, а затем послать юноше приказ немедленно возвратиться домой.
Так, загадывая вперед, люди незаметно для себя проводили зиму, потом пришел прекрасный солнечный май и стащил с гор и долин тяжелую белую шубу, под которой они спали всю зиму, а взамен ее дал кому что положено: горам — серые потрепанные кафтаны, долинам — ярко-зеленые наряды. Зашумели молодой листвой леса, и побежали своим извечным путем, нигде не останавливаясь на отдых, серебристые реки и ручьи. Все, все нарядилось в яркие цвета, и только лёченские бюргеры остались, как были, в черном…
Окрестности города оживились, потому что гороховые поля и в этом году зацвели алым цветом. Однако ничего другого красного в городе не было и в помине: сенат не потерпел бы. Квартальные ретиво следили за этим и без разговора срывали с головы у всех приехавших на рынок крестьянок красные платки: — Вы что же, безбожницы, не знаете, что в нашем городе траур?
Зато в Гёргё война между вице-губернатором и Лёче привела к шумной, бурлящей весельем жизни. Сюда слетались теперь целыми стаями гости, приезжали на суд истцы и ответчики, жаловали важные господа на свои совещания. Каждый день в Гёргё бывало что-нибудь примечательное!
В конце июня, в один из красивых звездных и лунных вечеров, на гёргейской двор прикатила легонькая бричка, а в ней — двое господ, одетых по-городскому. Следом за бричкой тянулись три тяжелые ломовые телеги, нагруженные огромными сундуками, не меньше тех коробов, в которых мастеровой люд возит на ярмарки свои изделия.
Гёргей еще не ложился спать: сидя в кабинете, он читал что-то из своих любимых древних авторов. Бибок же веселился в шинке под наскоро сколоченным навесом: как раз в этот день гостиницу господина Кенделя подвели под крышу, и плотники с каменщиками, украсив стропила мальвой и букетами цветущей акации, распивали по этому поводу магарыч. Разумеется, главнокомандующий вице-губернаторской «армии» не мог пропустить такое торжество. Для пирушки выбили дно у бочонка с вином, играл волынщик. Крестьяночки — девицы и молодицы — стояли у изгороди и ждали, когда их пригласят танцевать. Кое-кто из веселых плотников, правда, уже прошелся круг-другой по пыльному комитатскому тракту, но настоящего веселья нечего было ждать: гуляли-то в основном каменщики — народ кривоногий, выросший на козьем молоке, на жареной печенке да простокваше, — где уж им было ухаживать за молодушками! К тому же приходилось прерывать танцы всякий раз, как по тракту проезжала какая-нибудь подвода; остановились танцоры и в ту минуту, когда появилась бричка в сопровождении трех ломовых телег.
Заметив, что бричка и телеги заворачивают на господский двор, Бибок встревожился и, поставив на стол свою кружку, помчался вслед за приезжими. Вот дьявол! Кого это принесло в поздний час? И что это везут в таких огромных сундуках? Не дай бог, если хитрые лёченцы задумали провезти таким способом своих солдат в губернаторский замок! В голове «полковника» мелькнуло, что в какой-то сказочной стране уже был такой случай, когда в брюхе коня в крепость тайком провезли солдат. Но только в той истории не то конь, не то солдаты были деревянными, — черт их разберет.
Из экипажа проворно выскочил пожилой мужчина плотного сложения, с лихо закрученными усами и военной выправкой.
— Хозяин дома? — еще издали повелительным тоном спросил он у спешившего к нему Бибока.
Тот ответил вопросом на вопрос:
— А вы кто будете?
— А?
— Я спрашиваю: кто вы такие, господа? — пояснил Бибок.
— Тебе что за дело? Гости — и баста! Веди нас к барину. Но Бибок не привык так легко сдаваться.
— Что вы гости, я вполне допускаю. Но я — дворянин, а посему нечего мне «тыкать». Точка! К барину же я вас не пущу, пока вы не покажете, что у вас на телегах в этих ящиках. Эй, солдаты! — крикнул он своим воякам, дремавшим на террасе. — Принесите-ка сюда фонари!
Усатый вздрогнул при этих словах, и тут в разговор вступил второй приезжий. Голос у него был более звучный и приветливый.
— А вы, сударь, кто такой, — позвольте узнать?
— Я — полковник Бибок. Хотя вопросы задавать здесь должен я, а не вы.
В этот миг приезжий выхватил из брички ружье, словно имя Бибока и его чин произвели на него неприятное впечатление. Это показалось «полковнику» совсем уж подозрительным, и он заговорил еще строже:
— Ну? Скажете вы, кто вы такие?
— Мы — друзья хозяина, — отвечал второй, поигрывая карабином.
— Доложите барину, — сказал усатый, — что к нему приехал самый умный его дружок.
— Вы со мною шуточки не шутите! — сердито прикрикнул на них Бибок. — Я этого не люблю. Или скажите, кто вы такие, если вы с добрыми намерениями, или отправляйтесь восвояси туда, откуда приехали.
— Так я же вам сказал, — весело рассмеялся усатый. — Вызовите сюда хозяина, господина Пала Гёргея, он нас признает.
— Я не сделаю и шага, пока вы не покажете мне, что у вас в сундуках.
В это время тетушка Марьяк высунула из окна свою взлохмаченную голову.
— Эх, господин Бибок! — напустилась на него бойкая экономка. — Вы, чего доброго, еще выгоните со двора родного брата его превосходительства? А я вас, барин, сразу по голосу узнала, целую ручку. Я сейчас, сейчас, ваше превосходительство! Вот только платок на плечи накину. Эй, Жужи, Марча, Анча, где вы? Господин Бибок, крикните им, они где-нибудь там, бесстыдницы, точат лясы с солдатами. Пусть поскорее растапливают печь. Ведь вы, господа, еще не ужинали? Как так: ужин не нужен? Это мы еще посмотрим. Я знаю, как надо принимать таких дорогих гостей. Вот обрадуется его превосходительство!..
Тем временем солдаты принесли фонари, а Бибок попросил у прибывших прощения, он, дескать, не знал, с какими знатными гостями имеет честь говорить. Однако же встретил он их, как того требовали его обязанности, — ведь ему вверена охрана жизни вице-губернатора в эти опасные времена, и, право же, приезжие господа сами виноваты: зачем не сказали, кто они такие.
— Я же просил вас, — рассмеялся усатый, — передать барину, что к нему приехал самый умный его дружок. Я не кто иной, как Тамаш Эсе *.
В ту пору имя это было уже широко известным, и Бибок, сорвав с головы шапку и щелкнув каблуками, воскликнул:
— Милости просим, сударь!
— Я не назвал своего имени, потому что принял вас за одного из императорских полковников. А для них мое имя что для быка красная тряпка.
Вице-губернатор обрадовался гостям: давно не бывал у него старший брат и знаменитый куруц Эсе, весельчак и шутник, о котором говорили, что он «человека либо головы лишит, либо до смерти рассмешит». Однако же Пала Гёргея несколько удивило это неожиданное посещение. Что заставило «топорецкого отшельника» приехать вдруг сюда, да еще с таким спутником? Господин Тамаш всегда что-нибудь замышляет.
Янош Гёргей отвечал на расспросы уклончиво, сказал, что просто соскучился, давно не видел младшего брата, вот и решил погостить у него денька три, потолковать, отвести душу. Относительно сундуков Эсе сам поспешил объяснить, что он везет приданое одной знакомой вдовы, которая собирается вторично выйти замуж. На вопрос — откуда же едут желанные гости, хозяин получил довольно путаный ответ, но и это ничуть не помешало всеобщему веселью; даже такие горестные слова, как: «Reerudescimt inclytae gentis Hungarae vulnera»,[35] * зазвучавшие после четвертого-пятого кубка, не пробудили в нем никаких сомнений.
Произнося торжественные латинские слова, Эсе стучал кулаком по столу; Янош Гёргей молча смотрел на своего спутника, и в глазах у него светился какой-то молодой восторг.
Вице-губернатор холодно и рассудительно выразил свое мнение, которое оба гостя назвали «бессовестным»:
— За весь народ плакать — слез не хватит.
Гости пробыли в Гёргё лишь два дня, хотя им был оказан самый радушный прием. Тамаш Эсе уверял, что завернул сюда случайно, уступив настояниям Яноша, однако эти два дня из окрестных сел в Гёргё, словно по уговору, приезжали многие дворяне и спрашивали одни — Тамаша Эсе, другие — Яноша Гёргея. Среди таких посетителей был и молодой Фери Петроци, и Балаж Сюди, и Фаркаш Хорват, из соседних деревень и многие другие. Гости вице-губернатора вели с ними беседы при закрытых дверях.
От внимательного взора хозяина не ускользнуло это обстоятельство, и он спросил брата:
— Откуда они узнали, что ты здесь, у меня? Янош, пожав плечами, отшутился:
— Наверное, сорока на хвосте весть принесла. — При этом он загадочно улыбнулся и прищелкнул пальцами, что еще с детства было у него признаком отличного расположения духа. Когда разговор заходил о его собственных делах, Янош отвечал кратко и уклончиво. Зато сам он с большим интересом расспрашивал о личном войске брата, созданном в связи с лёченскими событиями: как велик отряд, хорошо ли обучен и что за человек этот «полковник» Бибок?
— Ловкий, прожженный авантюрист, прохвост, но, как мне кажется, не струсит и перед самим чертом, — отвечал вице-губернатор.
— А где он получил чин полковника?
— Я пожаловал ему.
— Признаться, я здорово струхнул, когда он нам отрекомендовался. В темноте я не разглядел его мундира и уж было подумал, что у тебя здесь расположился какой-нибудь императорский отряд.
— А что тебе бояться императорского отряда?
— Да просто так. Не люблю встречаться с врагом, когда не готов к отпору.
— Но ведь у нас сейчас мир с императором?
— Ты думаешь? Послушай, а Бибок — надежный человек?
— Я про него кое-что знаю и в любую минуту могу заставить его ходить по струнке.
— Какое-нибудь преступление? — спросил Янош. Вице-губернатор решил слегка приукрасить дело, чтобы на него самого не пала тень столь странного союза. Поэтому он сказал:
— История с женщиной.
— Ах, женщина? Гм, женщина! Ох, эти женщины! Они замешаны во всех мировых событиях.
Надо сказать, что некоторые обстоятельства этого нежданного свидания удивляли вице-губернатора: внезапное решение Яноша навестить брата еще можно было объяснить, равно как и то, что он приехал не один, а со своим старым другом, однокашником Тамашем Эсе. Удивительным было другое: ведь приехали-то они не со стороны Топорца! Значит, заезжали еще куда-то, но оба умалчивали об этом. А вот и другая странность: все время, пока Янош гостил в Гёргё, его навещали какие-то незнакомцы, с которыми он вел переговоры, но о чем — не рассказывал. Стало быть, друзья снова что-то замышляли! А немного погодя Янош загадал брату загадку потруднее: Пал Гёргей, желая сделать Яношу приятное, предложил отправить в Лёче конного нарочного за Дюри, однако родной отец Дюри вместо благодарности недовольно заворчал:
— Пусть корпит над своими книгами.
— А ты когда его в последний раз видел?
— На пасху он домой приезжал.
— Так, значит, не надо вызывать его сюда?
— Не хочу я, чтобы Тамаш его видел.
И вице-губернатор понял, что его брат и Тамаш Эсе опять затеяли игру в политику. «Ну что ж, в конце концов политика — безобидная забава, — думал он. — Два неисправимых взрослых ребенка! Никак не могут забыть свои детские грезы и бегут вдогонку за своими былыми надеждами и мечтаниями, словно колеса экипажа за горячими рысаками, но никогда не догонят их. Ну что ж, пусть тешатся! Никому их затея теперь уже не повредит. Вероятно, даже им самим».
Пронырливый «полковник» не мог предаваться таким рассуждениям — он был просто человеком любопытным, и его не оставляла в покое мысль: что же может находиться в огромных сундуках? Днем он слышал от кого-то, что на телегах везут приданое некоей вдовы, собирающейся замуж. Так что «полковник» ничего и не подозревал. Да и почему, собственно, он должен был что-то подозревать? Однако чужое приданое вполне может разжечь любопытство. Что там такое? Вдруг какие-нибудь ценности: золото, например, или хотя бы серебро, дорогие ожерелья, блюда и кубки? Человеку с тонкой душой художника — одно удовольствие полюбоваться на такие сокровища.
И вот к вечеру стараниями Бибока возницы-словаки, присматривавшие за телегами, напились в стельку, и тогда «полковник» тайком забрался в каретный сарай, зажег маленькую коптилку и с помощью всевозможных воровских отмычек, припасенных им еще засветло, очень ловко, не хуже заправского взломщика, отпер один из сундуков. Взяв в руку мигающий светильник, он беззаботно наклонился над сундуком, да так неосторожно, что пропил туда немножко масла. Но он тут же отдернул светильник, а у самого на голове волосы встали дыбом: сундук до краев был набит порохом.
Теперь уж и Бибок начал догадываться, кто такая «вдова», приданое которой везут два благородных господина, в прошлом известные куруцы. Не знал он только одного, — кто же новый избранник «вдовы», решивший связать с ней свою судьбу. «Но раз уж я ввязался в такую историю, — думал Бибок, — не мешало бы мне и об этом разузнать». Он снова честь по чести запер сундук на замок, отправился к себе, лег спать и наутро проснулся бодр и весел. В этот день хозяйка дома, жена старого Бибока, с утра занялась стиркой и сейчас повсюду развешивала белье: на плетень, на колья, на кусты во дворе и в саду. «Полковник» подкрался и ущипнул ее за подбородок.
— Как изволили почивать, маменька? Женщина покраснела.
— Не дури. Увидят!
— Не беда, маменька! Пусть смотрят.
— Почему не подал знак ночью, когда вернулся? — упрекнула его госпожа Бибок.
— Устал очень.
— У тебя всегда один ответ: «Устал». Может, полковников, будто дровосеков, целый день заставляют топором махать?
— А я и в самом деле на большое дерево топором замахнулся! Знаешь, о чем я тебя попрошу? Дай мне какую-нибудь рваную одежонку. Зачем — не спрашивай, все равно не скажу, а к вечеру я тебе принесу ее обратно! Какой-нибудь кафтан подлиннее — лучше всего!
— Опять за старое принялся?
— Ну что ты! Не смеши людей!
— Поклянись, что не вздумал погулять с чужой женкой.
— Нужны они мне! Хватит с меня хоть и наполовину, да своей.
— Молчи, пока по губам не шлепнула.
Госпожа Бибок убежала в малый домик; вскоре она возвратилась с узелком в руках, и «полковник» унес его с собою в замок. Там он припрятал узелок в саду, в кустах сирени, а затем отправился во двор муштровать солдат, пригласив на военный парад гостей.
Гостям, в особенности господину Тамашу, понравилась «игра в солдатики», да и Янош Гёргей тоже весьма одобрил выучку солдат. Удивительно только, что такой заносчивый парень и заядлый хвастун, как «полковник» Бибок, услышав вполне заслуженную похвалу, вдруг застеснялся и очень скромно ответил:
— Многое еще оставляет желать лучшего.
— Да что вы, сударь! Солдаты прекрасно подготовлены! Ничего им больше не надо, — уверял Тамаш Эсе. — Только благословение Божие да побольше немцев, которых они могли бы разок-другой рубануть! Ну, да за этим дело не станет. Недолго ждать осталось.
И, загадочно переглянувшись с Яношем Гёргеем, он засмеялся.
Слова похвалы разбудили в Бибоке мирно дремавшего льва — его тщеславие. А проснувшись, лев больше уже не хотел засыпать. Господам приезжим пришлось до самого обеда смотреть, как благородные воины владеют саблей, для чего наспех было устроено несколько парных схваток, а затем были показаны успехи солдат в вольной борьбе, и это действительно было захватывающим зрелищем. Фехтование — тонкое мастерство, в котором, правда, важную роль играет случайность: иногда противник сам угодит под твой клинок, а иногда, наоборот, твой собственный и совершенно правильный удар принесет тебе гибель. Но в вольной борьбе все зависит только от физической силы и ловкости борца.
Тамаша Эсе даже в жар бросило, когда он увидел, как борются гёргейские солдаты-добровольцы, он бил в ладоши и осыпал борцов похвалами.
— Молодец! Ломай, жми его! Вот силища! А ну, не поддавайся! Выше хватай, разиня! Ну, видишь? Вот так! Молодчина парень!
А когда состязания закончились, он спросил Бибока:
— Ну, который из них борется лучше всех?
— Вон тот рябой, — показал «полковник» на коренастого Пали Шолтеса.
— Подойди ко мне, сынок.
Пал в Шолтес шагнул к усатому старику, надеясь получить от него серебряную, а может быть, и золотую монету, но тот и не собирался рыться в своих карманах, а начал вдруг стаскивать с себя доломан.
Оба Гёргея дружно закричали на него!
— Ты что, Томи? С ума сошел?
— Как увижу — борются, не могу удержаться! Таков уж у меня нрав!
Кинув доломан Престону, Эсе крикнул коренастому рябому парню:
— А ну, выходи на круг, малец! Посмотрим, на что ты годен. Не жалей меня, говорю тебе! Только за усы не хватай! Если положишь на обе лопатки, ставлю бочонок вина.
Парень вопросительно взглянул на вице-губернатора, а тот подмигнул: ладно, круши, не давай пощады. Тут Шолтес насмешливо подбоченился, словно давая понять, что для предстоящей схватки ему и одной руки будет достаточно, подскочил к Тамашу Эсе, ухватил его за плечо, намереваясь оторвать от земли и ловким движением бросить на землю. Но Эсе только ухмыльнулся, и Пали Шолтес понял, что таким способом он и с места не сдвинет противника, подобно тому как старое дерево не сразу вырвешь из земли. Тамаш Эсе даже не покачнулся, только выпятил грудь да напряг руки. Тогда Пали обхватил его у самых подмышек, а в борьбе это самый опасный прием, но усатый один-единственный раз ударил и даже не ударил, а просто нажал ему кулаком на лопатку, и Шолтес мгновенно разжал руки, почувствовав такую резкую, пронизывающую боль, как будто его насквозь проткнули длинным, острым ножом. И тут господин Тамаш перешел в наступление: мигом схватил здоровяка-парня в охапку и, словно спрут сотней щупальцев, оплелся вокруг него: руки вокруг рук, ноги вокруг ног; два тела слились воедино и заметались, извиваясь, сгибаясь из стороны в сторону — впрочем, без всякого видимого результата, потому что ни тот, ни другой борец не мог бросить противника наземь.
Зрители следили за борьбой, затаив дыхание. Тетушка Марьяк, выбежавшая из кухни, ломала в отчаянии руки и причитала:
— О господи! Сейчас его благородие, господина Эсе, удар хватит! Шолтеса-то мне ни капельки не жаль, — как он, нахал, посмел драться с таким знатным барином?
Оба борца и в самом деле раскраснелись, как кумач, и Палу Гёргею пришлось вмешаться:
— Довольно! По крайней мере, отдохните.
По этому приказу парень выпустил из рук старого барина и, тяжело дыша, будто усталый гусак, стыдливо признался:
— Ваше благородие, да вы прямо из железа кованы. Добросердечный Эсе сжалился над Шолтесом и утешил его:
— Не всегда, сынок, тот сильнее, кто бьет, а тот, кто крепче на ногах стоит. Ну, ладно, давай заключим мир, потому что я все-таки не железный. Устал. Признаюсь, изрядно ты меня помял. Будем считать, что победил ты, а посему ставлю вам бочонок вина. Почем отдашь мне один бочонок? — повернулся Эсе к хозяину.
— Вином я не торгую. Но в Гёргё желание гостя — закон, так что вино для вас будет, — отвечал хозяин и отдал распоряжение приказчику выкатить «войску» бочонок вина. И начался тут пир. Однако герой дня, господин Бибок, не принял в нем участия. Он сослался на головную боль, но причина была совсем в другом: пока приезжие господа обедали, к ним приехали два новых посетителя, обедневшие дворяне: Иштван Пири из Колчо и Янош Лискаи — искатель приключений из Долян, который жил невенчанный с одной пожилой женщиной; кстати сказать, это он, разбойник, воскресил из мертвых Пишту Карои[36].
Господин Бибок, надев рваную одежонку, которую он накануне спрятал в кустах сирени, прокрался в коридор, соединявший между собой комнаты для гостей, и забрался в черную от копоти печную топку. Печь была огромная, потому что она обогревала сразу две смежных комнаты. Бибок достал из кармана стамеску и выковырял из двух противоположных стенок печи по одному кирпичу, чтобы можно было разобрать каждое слово, в какой бы из этих двух комнат гости барина ни вели свои разговоры с приехавшими дворянами. Через два эти отверстия в печь проходило достаточно воздуха, и Бибок не мог бы в ней задохнуться. Но комнаты для гостей не отапливались со времен Комитатского собрания, происходившего в январе, и в печке поселилась собака со щенятами. Щенки были еще слепыми и приняли Бибока за свою мамашу. Однако если бы собака в это время вернулась, она подняла бы неистовый лай, и гости наверняка догадались бы, что в печи кто-то спрятался. Только ради важной и, может быть, прибыльной тайны Бибок решил пойти на риск. Дело было опасным, да и ждать пришлось довольно долго. Черт бы побрал эту Марьяк с ее бесконечным обедом! Но вот, наконец, топ-топ: идут! Бибок вздохнул с облегчением, вставил вынутые кирпичи на место, оставив лишь небольшие, незаметные щели. Один из прибывших дворян прошел в комнату, а другой все прогуливался по коридору, проходя, как отчетливо слышал Бибок, возле самой печи.
Может быть, в комнате разговаривали очень тихо, а может, стенка печи приглушала голоса, только разобрать, что говорилось, и даже — кто говорил — было невозможно. Поняв, что он ничего не добился, Бибок хотел уже выбраться из своего укрытия, и не сделал этого только потому, что второй дворянин все еще бродил по коридору. Но вот Тамаш Эсе заговорил громче, и теперь можно было разобрать каждое его слово:
— Я, Иштван Пири…
По-видимому, он зачитывал текст присяги, которую вслед за ним повторял другой, приглушенный голос:
— «Я, Иштван Пири, клянусь истинным богом, что признаю Ференца Ракоци своим повелителем и останусь верен ему до последнего дня своей жизни, повинуясь днем и ночью всякому его приказу. Клянусь, что никогда я не покину знамени, которое он поднял за свободу нашей венгерской родины, никогда не продам своей души немцу и не поддамся искушениям какого-нибудь дьявола. Да поможет мне единый, истинный бог!»
О, теперь «полковник» Бибок знал все, что ему нужно было, и когда с наступлением сумерек, гости, несмотря на уговоры хозяина остаться еще на денек, стали собираться в дорогу, он едва сдерживал распиравшее его желание закричать во весь голос: «А я все слышал и все знаю!» Желание это было так велико, что, казалось, вот-вот вырвутся у него эти опасные слова. Не в силах владеть собой, Бибок скрылся в саду, чтобы не встретиться с кем-нибудь, и, будто помешанный, начал бегать взад и вперед по дорожкам между кустами смородины и крыжовника; к счастью, ему не повстречались ни садовник, ни кто-нибудь из слуг, занимавшихся прополкой, иначе он, увидев их, выпалил бы все, что знал. Он завидовал зеленой листве, которая шелестела так таинственно, словно деревья что-то шептали друг другу, а он, человек, действительно владеющий тайной, не может шепнуть о ней даже листве. Мало-помалу эта томительная потребность утихла — пришло желание поразмыслить. «Тайна чего-то стоит, — думал он. — И наверняка немало. Но только до той поры, пока я не поделился ею с кем-нибудь. Значит, надо держать язык за зубами. Но если я совсем никому не открою тайны, рано или поздно она сама собой откроется, продолжал рассуждать Бибок. — Люди возят порох не для того, чтобы лапшу им посыпать. Стало быть, о тайне нужно сказать. Но кому? Отцу — бесполезно. Общей нашей жене — тем более. Тайна эта может быть бесценной, но только для одного-единственного на свете человека. А он далеко отсюда, да и попасть к нему нелегко. Потому что человек этот — австрийский император! Уж он-то дал бы Бибоку за нее целый мешок золота, замок, а может быть, и генеральский чин. Настоящего генерала!»
Жарко стало большущей голове Бибока от таких мыслей, словно горшку в печи, когда его лижут со всех сторон языки пламени. Закипели в ней различные планы.
Эти мысли продолжали терзать Бибока и вечером, когда он сменял часовых. Обычно он делал это перед тем, как вице-губернатору лечь спать. Бибок являлся с коротким рапортом, докладывал, что ворота, как положено, заперты, что на башне стоит дозорный, «ничего такого» не замечено. Не обнаружили ничего примечательного и патрулировавшие по селу «гвардейцы» вице-губернатора. Бибок и на этот раз отдал привычный рапорт, что вокруг Гёргё все спокойно, но под конец все же не удержался и добавил: «Да если и было что подозрительное, то теперь эта опасность уже далеко отсюда». Слова эти вырвались у Бибока против его воли, а вице-губернатор уже насторожился и устремил на него изумленный, испытующий взгляд.
— Что вы там квакаете? — ворчливо спросил он.
Бибок смутился, попытался найти путь к отступлению, но ничего не придумал и в конце концов выпалил:
— Как вы полагаете, ваше превосходительство, что было у господина Эсе в его огромных сундуках?
— Он же сказал: приданое какой-то вдовы.
— Возможно. Только у этой вдовицы есть уже один законный супруг.
— Как? Ты ее знаешь?
— Была у нас в свое время с нею любовь.
— Бибок, Бибок. Перестань, бессовестный!
— Ей-богу, ваше превосходительство! И, как видно, я снова угожу в ее объятия, да, чего доброго, и вы, ваше превосходительство, тоже…
— Бибок, да вы основательно наклюкались! — улыбнулся вице-губернатор. — Я с самого начала подумал, что бочонка на ваше войско многовато будет. Ну, а хороша, по крайней мере, та женщина?
— Для нас с вами — наверняка. Сама великая красавица Венгрия!
— Как? Уж не хочешь ли ты сказать?..
— Совершенно верно, — ее приданое они и везли! Я ведь заглянул в сундуки. Полным-полны порохом да ружьями!
Вице-губернатор, снимавший в это время сапоги, с испуга поддел ногой саксонский прибор, изобретенный для этой операции, и тот отлетел в дальний угол опочивальни.
— Не может быть! — закричал Гёргей. — И кому же они везут это «приданое»?
— Ференцу Ракоци, сыну княгини Тёкёли.
— Что ты говоришь? Откуда ты это можешь знать?
— Я слышал, как они приводили к присяге тех людей, что вчера и сегодня приезжали к ним.
Гёргей, весь побагровев, вскочил на ноги.
— Приводили к присяге? Здесь, у меня? Почему же вы не доложили мне тотчас же?
— Потому что я не шпион. Пока это могло явиться доносом, я молчал. А сейчас — это только донесение, вот я и не таюсь перед вами.
— Ну и глупо, что молчали! — немного спокойнее заметил вице-губернатор, — А впрочем, может быть, вы и правы! Однако сейчас — все по коням и догнать! Они еще не могли далеко уехать!
Но Бибок только в затылке поскреб.
— Сегодня же суббота! Все мои ребята разбрелись по деревне, кто куда.
Жители Гёргё строго блюли добрую славу своих дочерей, — только раз в неделю, в субботний вечер, парням дозволялось наведываться в те дома, где имелись девицы; но уж в тот вечер парень мог оставаться с девушкой до рассвета, они тихим шепотом прогоняли скуку и сон, сидя рядышком на краю кровати, что уже само по себе немалое искушение, когда старики мирно похрапывают.
— Ничего, соберутся! Велите затрубить в трубу или ударить в колокол на башне!
Довольно оказалось и трубы. Самые ленивые собаки на крестьянских дворах проснулись и принялись лаять. А, заслышав лай, шептавшиеся парочки обратили внимание на необычные красноречивые звуки, которые часовой на башне исторгал в ночной тишине из своей трубы:
Вставай, солдат, Надевай доломан, Надевай саблю, И карабин, и карабин! Найдется и ему место. А если возможно, Захвати и фляжку с водкой! Потому что фляжка в бою, Что тебе капитан!..Бибок знал, как поддерживать дисциплину. Быстро одевшись, Гёргей вышел на крыльцо, желая проверить, все ли в порядке. К его удовольствию, «гвардейцы» собрались быстро. Раньше всех прибежали двое молодых Бибоков, за что Гёргей самолично похвалил их; затем с сапогами под мышкой примчался Пишта Фориш (откуда — так и не смогли у него допытаться), а здоровяк Гёргей Голуб еще издали заорал:
— Hie sum, domine colonellus![37]
И вот уже ожил, наполнился народом замковый двор. Только мертвецки пьяный Йожи Хантош возлежал подле овина на старой шубе, его так и не удалось привести в чувство.
— Седлать лошадей! — раздалась команда Бибока.
Зажглись фонари, замелькали их огни меж фыркающих коней, будто маленькие звездочки заплясали у коновязей. Вывели Гунара, верховую лошадь Бибока. И только тут «полковнику» пришло в голову: а что же ему, собственно говоря, следует делать?
— Ваше высокопревосходительство, а ведь я еще и не знаю, каков приказ!
— Разве я не сказал? — удивился Гёргей. — Видите, как взволновал меня этот случай. Весьма серьезная история! И действовать нужно осмотрительно. Будьте осторожны! Скачите им вслед, пока не догоните. У развилок дорог спрашивайте, в сомнительных случаях лучше разделитесь на две части. Но приказ сообщите обоим отрядам. К рассвету, думаю, вы настигнете уехавших. Брата моего арестуйте и привезите сюда, только смотрите, чтобы ничего с ним не случилось! Возьмите для него прямо отсюда заседланную лошадь, мою верховую, Сову.
— А с господином Эсе и его ломовыми телегами как поступить? — спросил Бибок.
— Никак! Относительно господина Эсе не будет никаких распоряжений. Пусть себе едет с богом навстречу своей судьбе. Понятно?
— Понятно. Чего же тут не понять? — протянул Бибок, но по недоуменному его тону легко было догадаться, что он не уловил смысл этого приказа хозяина.
— Видите ли, Бибок, судьба еще допускает, чтобы люди вносили в ее решения небольшие поправки. Но если попытаешься захватить вожжи в свои руки, чего доброго, лопнет у нее терпение.
— Словом, вы, ваше высокоблагородие, не хотите вмешиваться в это деле?
— Совершенно верно. Угадали.
— Только вы не все предусмотрели, ваше превосходительство. Не таков человек Янош, Гёргей, чтобы ему можно было сказать: «Прошу вас, поедемте со мною домой», — и он тут же протянет ручки, чтобы я их связал. Вот если бы вы дали письменный приказ доставить Яноша Гёргея живым или мертвым, за это бы я взялся. А вы хотите, чтобы вам господина Яноша Гёргея живым доставили, — это очень уж мудреное дело. Даже мышь и ту живой не поймаешь, ежели ты не кошка. Я, например, видел у господина Яноша Гёргея ружье. Да и сабля, наверное, где-нибудь в возу запрятана. А если он меня атакует, то я за себя не ручаюсь. Кто на меня руку поднимет, может считать себя покойником, даже если он в шелковой сорочке родился. Так что, ваше превосходительство, дайте мне в письменной форме приказ об аресте — пусть ваш братец самолично его прочитает.
— Может быть, вы и правы, — согласился вице-губернатор и, вернувшись к себе в кабинет, написал приказ об аресте брата. А когда он снова вышел на крыльцо, весь отряд был уже на конях. Гёргей еще раз подозвал к себе Бибока.
— Вот вам приказ, полковник. Действуйте умно, а главное — держите язык за зубами. Чтобы ни одна живая душа не знала, о чем мы сейчас с вами говорили.
Затем Гёргей достал мешочек серебряных талеров и, передав его Бибоку, добавил:
— Для того чтобы вести войну — нужны деньги. Когда вернетесь, отчитаетесь за все.
Над холмом, из-за овина Валдай, показался серп месяца, закукарекали петухи, вдали на болоте раздался гулкий крик выпи, нарушивший ночную тишину. Скрипнули в петлях арочные дубовые ворота замка, и конники ускакали.
У Гёргея стало легче на душе, он возвратился к себе в опочивальню, но едва начал раздеваться, как ворота снова заскрипели и под окнами послышался конский топот.
— Престон, выйди взглянуть, что там такое…
Престон долго не возвращался. Это вывело Гёргея из терпения, и он уже собирался послать за ним одного из стражей, когда наконец старый слуга приковылял сам.
— Ползаешь, как улитка! — накинулся на него Гёргей. — Ну что там!?
— Нарочный из Ошдяна. Сердце Гёргея забилось.
— С чем прислан? — нетерпеливо спросил он.
— Письмо привез, — уклончиво отвечал Престон.
— Так давай же его сюда, — нервно бросил вице-губернатор.
— Письмо я не принес: его прежде нужно дымом окурить.
— А где сам нарочный?
— И его тоже нужно окурить.
— Сразу все не можешь сказать? Умная твоя башка! Почему нарочного-то нужно окуривать?
— Потому… ну… как его… потому что в Ошдяне… эта самая… чума…
Смертельная бледность залила лицо вице-губернатора.
— И потому как барыня, сестрица ваша, госпожа Дарваш, уже скончалась от чумного мора, царство ей небесное…
Гёргей, огромный, могучего сложения человек, едва не упал, будто бык от удара обухом, у него вырвался стон, из глаз покатились слезы.
На минуту душа сурового вице-губернатора смягчилась. В его памяти промелькнули картины детства: Катаринка, совсем еще маленькая девочка, вместе с ним бегает по лугу за бабочками; вспомнилось, как они с помощью ослика разыграли сцену в духе супругов Добози *: мальчик посадил сестренку на ослика позади себя, — в точности так, как видел на картине, вставил ослику в ухо тлеющий трут, и тогда тот пустился сломя голову вскачь, вплоть до самого Дурста, а там, стряхнув с себя ребятишек, бросился в ручей и начал кататься в нем, норовя окунуть в воду подпаленное ухо. (Люди, считающие ослов — ослами, сами великие ослы!) Вспомнилось, как плакала потом бедная Каталинка, как они сушили на солнце ее промокшие до нитки юбочки, боясь возвращаться домой. Боже, какой же дивной красоты была малютка! Он, как сейчас, видел ее спящей под ивой на берегу ручья в мокрой, прилипшей к тельцу сорочке. И вот нет ее больше, нет! Но еще сильнее, чем боль утраты, в сердце Гёргея всколыхнулась волна беспокойства: что с Розалией?
— Письмо! Дай немедленно письмо! — крикнул Гёргей.
Престон помчался вниз, но на лестнице столкнулся с тетушкой Марьяк, которая, ухватив письмо щипцами и держа его на отлете, несла в господскую опочивальню.
— А, Престон, вот хорошо-то, что я вас встретила! Пойдите разбудите кого-нибудь из писарей, — распорядилась она. — Пусть придут прочитать барину письмо. Не можем же мы отдать такое письмо барину прямо в руки. Только вот которого из писарей? Может быть, Дравецкого? Нет, не надо. Дравецкий — богатый юноша. Разбудите лучше этого чахлого Палежнаи, он все равно чахоточный, кровью харкает. Нет, голубчик, его тоже нельзя. По нему мать будет убиваться. Разбудите лучше Фери Бано, он прошлый раз за обедом сказал, будто я не умею слоеные пироги печь! Вот теперь мы посмотрим: умеет ли он читать…
Однако все ее распоряжения оказались излишними: едва она отворила дверь в спальню вице-губернатора и просунула в щель щипцы, Гёргей схватил в руки письмо, не дав экономке опомниться, и сам прочел его:
«Милый шурин!
Когда я пишу это письмо, нашу бедную Каталину господь бог неисповедимой волей своей уже призвал к себе, послав на вас страшный мор, имя коего чума. Я сам уже чувствую ее приближение. Топот лошадей святого Михая * уже отдается в моих ушах. Я распорядился, чтобы меня похоронили рядом с моей милой Катой. С тем же самым нарочным, что привезет тебе это письмо, я отослал в Рожнё в церковный совет свое завещание, в котором упоминается и Розалия. Жаль, не дожили мы до ее свадьбы. Моровую язву завез к нам торговец оружием из Смирны: он проездом в Красногорку ночевал у нас в Ошдяне, у нас и умер. При первой же вести о болезни мы отослали Розалию к лесничему — жена его была когда-то самой первой нянькой Розалии, Жужа Марьяк (теперь она по мужу Жужа Варга) любит Розалию пуще всего на свете. Живут они с мужем в глубине Сабадкинского леса, а уж там чистейший воздух, что по нынешним временам великое счастье. Лес принадлежит некоему турецкому паше, осевшему в наших краях, — по правде сказать, он лишь время от времени наезжает туда, чтобы насладиться жизнью в кругу своих многочисленных жен. Не удивляйся, шурин, что я без стеснения говорю об этом и, не завидуя ничьему счастью и радостям любви, равнодушно отношусь к своей собственной беде. Наступает час, когда я предстану перед творцом небесным, и чем он ближе, тем меньше желаний и печалей обуревает меня. Вернее — уже и нет их больше. В последний путь не готовлюсь, потому что знаю: и без того прибуду; не тороплюсь, потому что не опоздаю; не огорчаюсь разлукою с Катой, потому что скоро мы вновь соединимся с нею. Приезжай за своей доченькой, — ты найдешь ее у лесничего Варги, человека честного, истинного христианина, хотя он и зарабатывает хлеб свой на службе у турецкого паши. В Ошдян не заезжай — опасно. На наши похороны все равно опоздаешь: нас быстренько похоронят. Не будет нам торжественного погребения с надгробным словом, хоть и знаю, какую красивую проповедь приготовил наш пастор Даниэль Поханка, которого я за свой счет учил в иностранных духовных академиях и из батрацкого сына вывел в священники. Может быть, бог где-нибудь записал мне этот добрый поступок, но тут, на земле, мне уже ничто не поможет. Если хочешь, оставь Розалию и дальше жить у лесничего, потому что там ей меньше грозят опасности, чем где бы то ни было, а уж тем более у вас в Гёргё. Близится большая война. На днях я получил письмо от шурина Яноша, в котором он под строжайшим секретом предложил мне вооружиться и в условленном месте присоединиться к его отряду, ибо князь Ракоци с войском уже направляется в Венгрию и в конце этой недели будет ждать их на польской границе возле Лавочне. Я не смог ответить шурину, потому что он, по-видимому, уже в пути, но, если ты встретишься с ним где-нибудь, скажи ему, пусть на этот раз они делают все умнее, чем до сих пор, а я уже не смогу быть с ними: меня уже призвал самый главный полководец, собирающий свою армию на вечный отдых.
Вспоминайте обо мне, милый шурин. Смогу ли я вспоминать вас, не знаю.
Писано июня 9-го дня, 1703 года, в Ошдяне.
Дарваш.P. S. В погребе у меня стоят двести тридцать четыре бочонка вина, выпить которое я уже не успею; из них двадцать бочек крепкого красного вина с моего виноградника, в Отрокоче, посаженного в свое время еще королем Матяшем, остальное — белое столовое. Если будешь продавать вино, смотри, не продай, оставь себе те три бочонка, на которых бедная Каталина написала мелом слово «Attends»[38] — в них токайское урожая 1663 года, того самого знаменитого года, когда знойное лето длилось до дня всех святых.* Но мне этого вина уж, как видно, не пить. Аминь».
Гёргей прочел это письмо, написанное без всякой горечи, пожалуй, даже веселым тоном, — предсмертное письмо, в котором Дарваш словно подтрунивал над смертью, и у него немного полегчало на душе. Так умеют умирать только венгры.
Первой мыслью Гёргея было отправиться в Ошдян — сейчас же, под покровом ночи. Но тут же он подумал: «А как же Янош? Ведь его к утру привезут мои наемники! Яноша я не могу доверить никому, да и сбежит он снова, если оставить его здесь. Нет, Яноша я заберу с собой, по крайней мере, хоть брата уберегу от смерти».
Приняв такое решение, вице-губернатор больше уж не ложился и, раскурив трубку, стал ждать рассвета. Нежданные и такие сложные события не испугали его. Пожалуй, наоборот, сделали мысль острее: он чувствовал себя в своей стихии, птицей-буревестником среди туч, громов и молний. Итак, он дождется Яноша и сразу же отправится в Сабадкинский лес за своей дочкой, захватив с собою экономку Марьяк. Да, но где поместить Розалию? Не оставлять же ее в лесу. (Что за смешная мысль родилась у шурина!) Девочке уже четырнадцать лет, скоро и замуж выдавать. Наступила пора, завершающие два года, когда на воспитание девушек наводят последний глянец. За эти два года она должна стать барышней. Теперь или никогда. В Топорц он дочь не отправит. Против Топорца по-прежнему восставала его душа, все еще не вырвавшаяся из когтей подозрения. Да в Топорце девочка и не будет в безопасности. Топорц — первое село, которое сожгут лабанцы; не надо быть пророком, чтобы предвидеть такой исход. Привезти Розалию домой, в Гёргё? Только этого не хватало! Все равно что под нож подвести. Но что же ему с ней делать?
И вдруг в голове Гёргея родился отчаянный план, подсказанный ему известной в то время новеллой немецкого писателя о том, как принцесса Хлодвиг спаслась от своих преследователей, поселившись в доме лондонского палача, где ее никто и не подумал искать. Вот Гёргею и пришло в голову: памятуя об угрозе надвигающейся войны, поместить девочку в какой-нибудь хорошо укрепленный город, например в Лёче, хотя жители Лёче готовы в ложке воды утопить ее отца. Прекрасная мысль! Ведь это же просто, как дважды два — четыре, нужно только обдумать все заранее. В Лёче Розалия будет недосягаема. Там безопасно и удобно, так как в городе есть пансион для благородных девиц, который содержит Матильда Клёстер, и, как старик Луженский сказал однажды: ей отдают девочку-подростка, а получают придворную даму.
Подробности плана были для Гёргея еще не ясны. А ведь подробности — самое трудное дело. Замысел нужно осуществить в глубочайшей тайне. Только в тайне. И Гёргей отказался от первоначального своего намерения взять с собой экономку Марьяк. Даже Матильда Клёстер не должна подозревать, что она воспитывает дочь Пала Гёргея.
Он обдумывал свой план до утра. Уже выглянула из-за горизонта золотая тарелка солнца, а от Бибока и его отряда ни слуху ни духу! Гёргей забеспокоился. После завтрака он сам поднялся на сторожевую башню и долго осматривал оттуда окрестность. Нигде не было видно ни отряда, ни даже пыльного облака на дороге. Куда же они все запропастились? Вот беда! Наконец около полудня на взмыленной, запаленной лошади прискакал Пали Шолтес. Гёргей поспешил ему навстречу.
— А где остальные? — крикнул он еще издали. Шолтес ничего не ответил и с коня не сошел, только кивер снял, чтобы отереть ладонью струившийся по лицу пот.
— Едут? — переспросил вице-губернатор.
— Уехали! — коротко отвечал солдат.
— Не понимаю, братец.
— Там остались. Как поговорили с ними господин Эсе да брат вашего превосходительства, которого мы должны были схватить, так все наши ребята и прилипли к ним, будто шмели к меду. Очень уж красно оба барина говорили. Одним словом, приняли ребята присягу и ушли все до единого к Ракоци.
Вице-губернатор понурил голову и тихо проговорил:
— Ну что ж, видно, такова воля божья.
(Тетушка Марьяк, отличавшаяся тонким слухом, уверяла, что барин при этом заскрежетал зубами.)
— И Бибок тоже? — спросил вице-губернатор.
— А разве он не вернулся? — удивился всадник. — В село Стоянце, у развилки дорог, полковник разделил наш отряд на две части, и сказал: встретимся в долине Долгицы. Командиром назначил младшего Бибока. Мы-то встретились, а вот полковник куда-то запропал. Сказывали, что он от Брагловинского леса назад, в Гёргё, повернул, потому как занедужилось ему.
Глаза вице-губернатора гневно засверкали, но он подавил готовое сорваться с языка ругательство.
— Н-да, хороши дела! Ну, ладно, хоть ты-то вернулся.
Однако всадник покачал головой.
— Никак нет, ваше высокопревосходительство, я тоже вот вернулся! (И в самом деле парень, по-видимому, и не собирался сойти с коня.) Я только известие привез вам от господина Эсе. Потому как брат вашего превосходительства сказали: «Из приличия надо бы сообщить моему брату, что вы здесь остаетесь. Кто возьмется?» — «Я возьмусь», — ответил я и поскакал сюда передать на словах, что так, мол, и так: господа Тамаш Эсе и Янош Гёргей шлют поклон и очень сожалеют, что не могут вернуть лошадей. Лошади-то ваши, а души-то у людей венгерские, но люди не хотят идти пешком, говорят: «Куруц не собака на своих ногах бегать». Поэтому господа Эсе и Гёргей не могут ничего поделать и просят ваше превосходительство немного погодить, пока они возвратятся и разочтутся ужо с вами за лошадей…
Выпалив все это, всадник отдал честь, пришпорил коня и ускакал со двора.
Гёргей, охваченный скорее изумлением, чем гневом, смотрел молча вслед всаднику, пока тот не скрылся за облаком пыли, поднявшейся над дорогой, где-то возле недостроенной кенделевской гостиницы. «Ну, ничего не поделаешь, раз уж все так обернулось. В моей груди ведь тоже бьется венгерское сердце».
И, как человек умный, Гёргей быстро прикинул: солдат и лошадей у него забрали — это для пользы общего дела; то, что их забрали против воли Гёргея, должно оправдать его в глазах императора, и, наконец, то, что он, узнав о случившемся, не выразил недовольства, зачтется ему при дворе князя Ракоци.
— Тетушка Марьяк, — сказал он экономке, — соберите меня в дорогу! Еду на похороны. А пока заложат бричку, пошлите кого-нибудь к Бибокам: интересно, вернулся полковник или он замыслил какую-то подлость…
— Не вернулся, барин, не вернулся! Только что была здесь его жена, спрашивала про него, где он. Я еще сказала ей: «Кому это он понадобился?» А она покраснела, как рак вареный… Верно вы сказали, ваше превосходительство: он замыслил подлость! Ах, негодяй, чтобы вариться ему в котле адовом! Если только черти не выбросят из преисподней такого подлеца.
— За что же вы так сердиты на него?
— Да как же не сердиться? Вы не смотрите, что я простая женщина, вдова бедного скорняка, — я все понимаю! Кто, как не он, сманил наших солдатиков? Ведь пока его солдатня никому не нужна была, — они здесь сидели, даром хлеб жрали, будто саранча. А теперь, когда вашему превосходительству в дороге хорошая охрана понадобится, нет больше нашего войска!
— Не нужно оно мне.
— А если дорогой нападут на вас разбойники или эти безбожники — лёченцы?
— Все под богом ходим, тетушка Марьяк.
— Верно, ваше превосходительство, только очень уж многих людей должна защищать рука божья. Не лишним было бы вашему превосходительству прихватить с собой парочку конников — из тех, что еще остались.
Однако Гёргей не внял совету тетушки Марьяк («Ну, погодите, пожалеете!» — ворчала она) и не взял с собою не только охраны, но даже и кучера. Вместо кучера, на козлах дребезжащей тележки, запряженной парой лошадок, сидел верный Престон в простой крестьянской рубахе. Поди догадайся, что позади возницы пристроился на охапке соломы и преспокойно покуривает трубку не кто иной, как сам могущественный вице-губернатор Сепеша.
Дорога была совсем не скучная, беда только, что долгая. Хотя слуги императора обирали Венгрию каждый год, до конца разорить ее они все же не смогли: каждый год ее богатства возрождались вновь. Приходил веселый, смеющийся красавец май и приносил снова все, что по осени забирали немцы. Так и этой весной все вокруг радовало взор: в долинах зеленели, густые травы, на склонах гор паслись отары тучных белых овец, а по мере того как тележка все дальше катилась по дороге, перед путниками открывалась настоящая страна сокровищ. Поля овса и гречихи сменились буйными клеверами, за ними пошли ржаные нивы, поля, засеянные маком, красиво пестревшие яркими цветами и, наконец, уже в комитате Гёмёр, заколыхалось море колосящейся пшеницы. Дорога здесь прихотливо вьется меж причудливых утесов, то взбираясь вверх, то спускаясь вниз, проходит по темным дубравам, по чудесной красы долинам. Все время путника сопровождают говорливые ручьи: выскочат ему навстречу где-нибудь на опушке леса и, словно щенята, бегут сбоку повозки, пока им не надоест. С горных утесов угрюмо смотрят вниз хмурые старинные замки. А вокруг них витают призраки — славные герои сказаний, сложенных в старину. То там, то сям виднеются мечети, превращающиеся постепенно в развалины, — словно напоминание о том, что чужеземного бога аллаха венграм удалось изгнать отсюда, но храмы его они оставили в покое. Зато на колокольнях чисто выбеленных христианских церквей вместо креста кое-где водружен петух, а на других церквях — наоборот, петуха опять крестом заменили! * И всем становится понятно, что своего христианского бога венгры оставили в покое, но постоянно спорят между собой из-за его обитателей: кальвинисты и католики дерутся из-за них, причем те и другие убеждены, что они ведут свои свары в угоду богу, а ведь бог-то у них один и тот же.
Попадались по дороге и постоялые дворы, где можно было покормить лошадей и где хозяин и путники немало могли порассказать друг другу о том, что творится на белом свете. Вот так и тянется время от одной корчмы до другой. Побывает в них проезжий — и будто газету прочтет величиной с простыню, узнает о нуждах человечества, о его печалях и заботах.
А жизнь в стране была тогда беспокойная, люди нетерпеливо ждали чего-то или кого-то…
…Да вон уже цокают копыта «его» коня у Верецкого перевала!
Пара лошадок бежала рысцой всю ночь, а затем еще полдня. Только под вечер открылась наконец взору красивая Хонтская долина, а в ней на берегу светлой Римы, торопливо бегущей от Кленоца, — город Римасомбат (или как называли его крестьяне — Бать, а в старину он был селом и назывался Иштванфалу). В сиянии закатного света на колокольнях двух его церквей сверкали стальные петухи, питавшиеся в те годы человеческой-кровью, а не пшеничным охвостьем.
Позднее село Иштванфалу превратилось в город Римасомбат. Впрочем, повсюду, стоило где-нибудь появиться замку феодала (здесь это был замок Сабадка), как вокруг него вырастал город. Ведь замок был крупным потребителем, нуждавшимся в изделиях всякого рода, а значат, в труде ремесленников. И ремесленники тянулись к нему, словно овцы к соли. Особенно, если замок принадлежал богатому магнату, любившему роскошь. Кстати, и богатство барина в те времена мерили не нынешней меркой (велика ли его конюшня, да сколько балов задает он в год, у кого из парижских или венских портных заказывает свои туалеты его супруга), а спрашивали, велик ли город, выросший вокруг его замка. Так, например, замок богатого дворянского рода Хомоннаи положил начало городу Хомонна; Эстерхази — городам Кишмартон, Папа и Тата; родовой замок Кароев — городу Надькарой и так далее.
Но Римасомбату повезло, пожалуй, больше, чем следовало: замок Сабадка, а поэтому и город Римасомбат принадлежали очень знатному роду — Ракоци. А семейство это было такое беспокойное, что никак не могло ужиться на одном месте.
Но в те времена город Римасомбат внешне мало чем отличался от большой деревни: низенькие, в два окна, домишки под камышовыми или соломенными кровлями, и в этих лачугах уже и тогда в страшной тесноте трудились многочисленные кожевники, сукновалы, красильщики, гончары и прочий мастеровой люд. Правда, об их ремеслах в то время узнавали не по виду — тогда в городах еще не было ни вывесок, ни надписей, ни витрин, — а по запаху. Пока Гёргей с Престоном ехали по Римасомбату, их повсюду сопровождали запахи: то терпкий запах дубильного раствора — значит, поблизости живет кожевник, то дразнящий чесночный запах колбас и холодца — стало быть, миновали дом мясника, а когда Гёргей воскликнул: «Ради бога, Престон, погоняй, не то я задохнусь!» — было ясно как день, что повозка приблизилась ко двору, где льют сальные свечи, и тут, уж и правда, покрепче зажимай нос. Оттуда выберешься на улицу, где из распахнутых окон несет клейстером (признак того, что здесь трудится сапожник со своими подмастерьями), и испытываешь необыкновенное облегчение.
Так было по всему городу, из конца в конец: разные запахи — разные ремесла.
На большом прямоугольнике рыночной площади, среди гор пшеничных булок, огнем пылали дары лета — ягоды черешни. Ну конечно, природа — добрая мать, и в первую очередь она одаривает детвору. Гёргей сошел с тележки, чтобы захватить в подарок для Розалии немножко черешни. А тут, к счастью, пока торговка отвешивала ему ягоды, он заметил неподалеку и лавку прянишника. Конечно, надо и туда заглянуть. Там-то уж вдосталь подарков для Розалии. Изо всех ремесел — ремесло прянишника самое изобретательное. И находится оно под покровительством самого Амура, а не Меркурия. Изделия кондитеров — сплошная любовь, воплощенное кокетство, прянишник вовсе и не ремесленник, а поэт. Оба они, поэт — стихами, а кондитер — своими пряниками вызывают улыбки и румянец на девичьих лицах. Иной пряник — это, так сказать, способ разжевать и в рот положить кавалеру догадку о том, как понравиться красавицам, как привлечь их внимание или подшутить над ними. Например, медовый пряник в виде сердечка — прозрачный намек; гусар, посыпанный миндалем, — пророчество; пряник, изображающий спеленутого младенца или колыбельку, — сущее озорство. Но если пряники покупает девушке ее отец, то какой бы формы они ни были, это только лакомство, и ничего больше.
И Гёргей, накупив множество всяких сластей, отправился дальше, в Ошдян.
За сабадкинским мостом, перед корчмой «Три белки», стояла кучка людей, вооруженных копьями и железными вилами.
— А ну, стой! — закричали они, наставив вилы в грудь лошадям. — Вам куда?
— В Ошдян, — отвечал Гёргей, выпуская большущее облако дыма из своей пенковой трубки.
Ответ его, по-видимому, удивил того копейщика, что вел переговоры.
— Разве вы не знаете, что в Ошдяне черная смерть?
— Знаю, еще бы не знать.
— Гм… И все равно хотите туда ехать? Или уж больно важное у вас дело? К кому же вы едете?
— К Дарвашам, — просто отвечал Гёргей.
Из корчмы вышел пожилой седеющий человек с длинными волосами, прикрывавшими уши. Он чем-то напоминал хищную птицу. Не расслышав ответа, он с нескрываемым любопытством крикнул копейщику:
— А? Что он сказал? Куда едет?
— До Дарвашей, — отвечал копейщик (по его говору можно было догадаться, что он из города Бати) и, тут же повернувшись к Гёргею, с усмешкой на рябом лице заметил: — Ежели вы до Дарвашей, то вам не сюда.
— А куда же?
— А вон туда, — отвечал рябой, показав пальцем на небо.
— Как? Неужели? — испуганно воскликнул Гёргей.
— Так точно. На тот свет отправились господа.
— И барин тоже? — побледнев, пролепетал Гёргей.
— Вместе они теперь на том свете угольками торгуют. Вчера барыню закопали, а сегодня и самого. Но вы не беспокойтесь, если бы они даже и живы были, мы все равно бы вас к ним не пропустили. Ни одна живая душа не проберется туда помимо нашей воли. Мы — чумная застава, — заявил копейщик, выпятив грудь и стукнув о землю древком копья. — Держим черный мор взаперти за этими вот воротами.
Боль сжала сердце Гёргея, он выронил изо рта трубку и молча вперил взгляд в сразу опустевшую для него даль.
— Поворачивайте назад! — заторопил копейщик. — Чего стоите? Приказ есть приказ! По-другому не будет.
Престон, обернувшись к хозяину, вопросительно посмотрел на него:
— Поворачивать?
Гёргей вздрогнул, словно пробудившись от сна.
— Зачем же? Трогай, Престон. Если в Ошдян нельзя, не поедем туда. Но у меня и в Сабадкинском лесу есть дело. Пропустите нас, добрый человек!
— Нельзя, и все тут! — заупрямился караульный. — Не могу я вас пропустить.
— А кто вы такой?
— Кто есть, тот и есть, — заносчиво отвечал рябой копейщик. — Служебное лицо, вот я кто. Старший надзиратель в городской тюрьме — Келемен Пыжера! Господин бургомистр запретил пропускать из Ошдяна или в Ошдян кого бы то ни было, а не то уволят меня, да еще палками накажут. — Да, не приказано пропускать, пускай черный мор сам по себе заглохнет. Другого лекарства против него все равно нет.
— Да я и не собираюсь ехать в Ошдян, а только в Сабадкинский лес.
— Ха, так всякий может сказать!
— Мне вы можете поверить, я тоже «служебное лицо» и не стану врать в таком важном деле.
Келемен Пыжера скривил рот в недоверчивой усмешке.
— Ха, это всякий может сказать, что он — служебное лицо. А кто вы такой?
Гёргей замялся: не повредит ли его плану, если он раскроет свое инкогнито.
— Сепешский вице-губернатор! — невольно сорвалось с языка у Престона.
— Ну, это всякий может сказать, да только не всякий этому поверит! — воскликнул Пыжера, с подозрением осматривая бедноватый экипаж.
Тогда Гёргей сунул руку в карман и, поманив к себе Пыжеру, сунул ему в руку блестящий серебряный талер.
— Я-то вам верю, вы меня убедили, — нимало не смутившись, добавил рябой и отсалютовал ему копьем. — А все ж таки не советовал бы я вам, ваше превосходительство, ехать в Сабадкинский лес или еще дальше. Мы-то можем пропустить: ежели человек обязательно хочет помереть, это уж его дело! А ежели вам только к лесничему, то, может, вы и не помрете. Но в том-то и беда…
— Как так? — удивился вице-губернатор.
— А так, что, который человек умрет, этот на месте останется. Он уж не занесет в наш город чумы. А вот того, кто не умрет, застава обратно в Бать не пропустит, будь он даже сам король. Не можем же мы черную смерть напустить на наш народ. Значит, все дело в том, собираетесь ли вы, ваше превосходительство, ехать обратно или — нет?
— Гм, вы правы, — отвечал Гёргей. — А нельзя ли придумать какой-нибудь способ, чтобы мне все же можно было возвратиться?
Рябой копейщик почесал затылок.
— Есть один такой способ, — нехотя промямлил он, — ежели, к примеру, вы, ваше превосходительство, ехали бы к лесничему Варге.
— Да? А ведь я как раз и еду к лесничему Варге. Вы знаете его?
— Еще бы не знать!
— Говорят: хороший человек? — решил прощупать почву Гёргей.
— Верно говорят. Он и сегодня опять девять кегель сбил в Сабадкинской корчме.
— Так какой же способ?
— А вот, ежели бы два служебных лица проводили вас, ваше превосходительство, до господина Варги, а потом — обратно и под присягой подтвердили бы, что вы дальше его дома не ездили, тогда бы мы со спокойной душой пропустили вас и обратно.
Гёргею понравилось разумное предложение, и он вступил в переговоры с Пыжерой.
— Правильно! — заметил он. — Значит, все же можно туда проехать?
— Туда — легко, обратно — трудно. Мы вот только сегодня утром пропустили одного верхового. К слову сказать, он назвался человеком вашего превосходительства, едет, говорит, в Буду, а назад возвращаться не собирается. Как уж он там от Ошдяна дальше пробирался — его дело. По ту сторону Ошдяна точно такая же застава стоит. Власти наши так порешили, что, как только у черной смерти кончится провиант, она сама по себе прекратится.
— Вы говорите, верховой проехал туда?
— Да, военный один.
— И сказал, что он — мой человек?
— Да, хвастал, что он на службе у сепешского вице-губернатора состоит, и даже грозился всех нас саблей зарубить, ежели мы его не пропустим. А еще сказал, что он везет самому наместнику в Буду такую весть, что наместник велит весь наш город спалить, ежели гонец по нашей вине с опозданием к нему прибудет. Ну, господин бургомистр проверил его бумаги и велел пропустить.
— Каков из себя был этот военный?
Пыжера описал внешность и одежду всадника, но лучше всего ему запомнился конь, потому что конь этот шел иноходью и у него была звездочка на лбу.
— Гунар! — воскликнул Престон.
— Ах, висельник Бибок! — пробормотал Гёргей, тотчас же догадавшийся, какую тайну вез «полковник» на продажу в Буду, узнав из подслушанного разговора, что наместник сейчас находится в Буде. Гёргея мог вывести из себя какой-нибудь пустяк и могло совсем не взволновать самое серьезное дело, если он в это время был чем-то занят (например, стриг бы себе ногти), ничто, даже пожар в доме, не заставил бы его прервать свое занятие. Поэтому он и сейчас вернулся к основной своей заботе:
— А скажите, господин надзиратель, как мне получить двух служебных лиц в сопровождающие?
— Их мог бы выделить вам сам господин бургомистр, да только их благородие сейчас отсутствуют.
— А кто у вас теперь бургомистром?
— Их благородие господин Даниэль Катай.
— Даниэль Катай? Так ведь это же мой знакомый! Высокий, белокурый, на левую ногу прихрамывает?
— Зато ходит прямо.
— Прежде он был судебным заседателем в комитате Гёмёр?
— Он самый.
— Я встречался с ним года четыре назад, когда мы межевали комитатские границы.
— Ну, коли вы, ваше превосходительство, так хорошо знаете его, вам можно и домой к нему заехать.
— А где он живет?
— В Римавском порядке.
— Не хочется назад возвращаться. Я, признаться, суеверный человек. Может быть, написать ему? Как вы полагаете?
— Можно и написать, — согласился Пыжера. — Ежели кто грамоте обучен, отчего же не написать. Мне, например, легче съездить, чем письмо написать. А ведь когда-то и я знал грамоте и почерк у меня был красивый, да вот отяжелела рука. Здесь, в корчме, найдутся чернила, пишите на здоровье, а господин смотритель — он здесь с конем — отошлет ваше письмо с каким-нибудь нарочным к бургомистру.
Гёргей слез с тележки, и, пока Престон насыпал в торбы лошадям овса, вице-губернатор, зайдя в корчму, начал готовиться к составлению письма, что, разумеется, было связано с немалыми трудностями. Прежде всего нужно было раздобыть бумагу. Помог хозяин корчмы «Три белки», пузатый и неповоротливый господин Келенце, в насмешку прозванный завсегдатаями его заведения Четвертой белкой. Из уважения к знатному гостю он пошел на великую жертву: вырвал чистый лист из Библии, который вместе с другим таким же листом был вклеен в священную книгу для записи имен и дней рождения или кончины детей господина Келенца, а также названий планет, под которыми они появились на свет; поскольку один из двух вклеенных листов был уже до конца исписан, то, вырывая второй лист, Келенце бросал, можно сказать, вызов судьбе: отныне его чада не имели больше права ни рождаться, ни умирать. Но за обиду, нанесенную тем Келенце, которым отныне не суждено было родиться, были вознаграждены подросшие маленькие Келенце, которым отец приказал изловить на дворе гуся, вырвать у него перо и с помощью ножичка господина тюремного смотрителя очистить перо, чтобы можно было писать. Охота на гуся доставила детворе превеликое удовольствие; с радостным визгом, под громкий гогот пернатых обитателей двора, ребятишки изловили старого гусака; после некоторого сопротивления он расстался с самым длинным из своих перьев, а господин Гёргей уже без всяких препон мог начертать на бумаге следующее послание:
«Я, Пал Гёргей, вице-губернатор Сепеша, находясь здесь проездом, имею дело к господину Варге, сабадкинскому лесничему. Однако я не могу попасть к нему ввиду приказа властей вашего благородного города, сделанного в связи с черной смертью. Но жилище вышеупомянутого господина Варги находится вне чумной местности — ни моя поездка к нему в Сабадкинский лес, ни возвращение оттуда не подвергнут ваш город опасности, — и я надеюсь, что вы, господин бургомистр, не оставите меня в безвыходном положении, в каковом я сейчас оказался, ибо сие не пристало вам ни как христианину, ни как дворянину, и позволите мне, завершив дела, милосердием божьим и вашей милостью, возвратиться домой.
Да ниспошлет вам бог всяких благ и долгих лет жизни, господин бургомистр.
Писано в сабадкинской корчме, где я и ожидаю ответа, июня 1703 года, в среду». — И так далее.
Закончив письмо и посыпав его известкой, соскобленной для этой цели со стены, Гёргей свернул его трубочкой, пальцем примял края и, кое-как запечатав, передал Пыжере, а тот, подойдя к компании горожан, распивавших вино в другом углу корчмы, спросил: «Кто возьмется отвезти в город письмо сепешского вице-губернатора?»
— Как? — вскочил из-за стола тот самый седеющий человек с птичьим лицом, что выглядывал из корчмы, когда Гёргей подъехал к заставе. — Сепешский вице-губернатор? Славный, знаменитый Гёргей, тот, что застрелил лёченского бургомистра? Да я сам отвезу в город его письмо! Как не уважить человека за большие его заслуги! — восторженно воскликнул смотритель. — Я на своем веку застрелил восемь медведей и тринадцать вепрей. Но всех их я отдал бы за удовольствие подстрелить хотя бы одного лёченского саксонца, клянусь честью! Где письмо? Давайте сюда!
Пыжера передал письмо пьяному, едва державшемуся на ногах почитателю Гёргея, однако, когда его взгромоздили на коня, он словно прирос к седлу и стрелой полетел в сторону города Бати.
— Видно, землячок крепко не любит саксонцев! — заметил Матяш Келенце, любовно поглаживая ладонью свой объемистый живот.
— Еще бы! — осклабился Пыжера. — В молодости он был подручным у одного мясника в Лёче. А потом городской сенат приказал отрезать ему одно ухо и выгнать с позором из города. За распутство.
— Ах, старый кот! — возмутился корчмарь. — Так вот почему он теперь все толкует о нравственности, вот почему зачесывает волосы на уши.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ «Хилил-паша» и дальнейшее развитие событий
Бургомистр, господин Катай, находился в это время в городской ратуше и разбирал тяжбы. Было среди прочих и уголовное дело об одной неблагодарной женщине, достойной примерного наказания.
Жена почтенного медника Иштвана Переда — Борбала залезла на рассвете, когда еще город спал, в чужой огород на берегу Римы (скажем прямо, в огород мясника Добоша) и надергала себе из гряды корзину молодого лука. О проступке Борбалы Перец дознались, и бургомистр определил ей наказание: забить молодицу на один день в колодки. Она горько плакала, грозилась, что, не пережив такого позора, утопится в Риме, и мягкосердечный муж ее, Иштван Перец, в конце концов сжалился над ней: стал просить бургомистра позволить ему самому отбыть наказание за жену. Бургомистр был человек строгий, гордый, любил во всем порядок и по воскресеньям красивым басом пел псалмы, но все же не устоял перед мольбами мужа и в виде исключения разрешил ему отсидеть целый день в колодках вместо своей благоверной, за что весь город стал поносить жену и смеяться над мужем.
Но вот миновало две недели, и жена медника из-за какого-то пустяка поссорилась с мужем. Слово за слово, упрек за упреком, и она в гневе возьми да и крикни мужу: «Молчал бы уж ты, колодник!» — да еще и ударила его по голове крынкой, так что разбила бедняге голову в кровь. Все это видел и слышал бургомистр: двор Перецев рядом с бургомистерским. Вызвал он через гайдука злую женщину к себе да и приговорил ее к наказанию: шесть розог за разбитую голову господина Переца и еще двенадцать за упрек мужу в том, что он ради нее же принял на себя позор. А кроме того, было постановлено увековечить этот необычный случай в городской хронике, чтобы о нем рассказывали из поколения в поколение в назидание всем глупым мужьям и молодым людям, собирающимся жениться.
Господин бургомистр как раз диктовал свое решение писцу, делая это с превеликим удовольствием, так как обладал дарованием рассказчика, а тут к нему явился посланец с запиской Гёргея в руках.
Прочитав записку, господин Катай тотчас поручил последить за экзекуцией своему заместителю господину Иожефу Путноки, хотя и сам, будучи человеком холостым, находил приятность в подобных зрелищах и, случалось даже, прощал наказуемую, если той своими женскими прелестями или же слезами удавалось тронуть его сердце.
Итак, бургомистр иной раз прощал людям их слабости. Зато уж всецело был во власти своих собственных слабостей. Одной из них было его подобострастие перед знатью (недаром же он очень быстро продвинулся по службе).
Приказав немедленно заложить лошадей, он помчался к вице-губернатору Гёргею, нетерпеливо ожидавшему ответа: ведь уже солнце успело зайти, и из темной чащи Сабадкинского леса начали надвигаться сумерки.
Бургомистр с полуслова понял суть дела и, сказав господину Гёргею несколько лестных слов о том, что он помолодел и вид имеет отличный, пояснил ему на своем удивительном языке старых приказных, как лучше всего проехать к сабадкинскому лесничему:
— Располагаем в подобных случаях, согласно указаниям нашего вице-губернатора господина Миклоша Палашти, всей полнотой власти. Ежели проезжающему необходимо попасть в сказочный замок, в лесу находящийся, мы полномочны пропустить его туда, занеся в протокол его имя, звание и точный час проезда и дав сему проезжающему наказ: получить у господина паши скрепленное его подписью и печатью подтверждение, в какой час обратившаяся к нему особа выехала обратно. Если после всего этого станет очевидным, что указанное лицо нигде, кроме как в замке паши, не находилось, оно может быть пропущено обратно. Посему покорнейше прошу, ваше превосходительство, — заключил бургомистр, — не нарушать сих условий, ибо пред лицом смерти все мы равны. Это, прошу прощения, не мое собственное суждение, поскольку взято оно из Священного писания, и ежели мы еще не подлежим смерти, то все же в любой миг стоим на ее пороге.
— А кто, собственно говоря, этот паша? — спросил Гёргей.
— Наш Хилил-паша, — просто отвечал господин Катай.
— Но ведь турок уже давно изгнали из комитата Хонт?
— Верно, отовсюду выгнали. Только у нас один-единственный и остался, — не без гордости отвечал бургомистр.
— А как же он уцелел? — удивился Гёргей.
— Он, прошу покорнейше, не «уцелел». Он не так давно приехал сюда, один, без войска и стал помещиком, как и другие иноземные богатые господа, кои приобретают здесь большие именья. Ему, к примеру, принадлежит Сабадкинский лес, купленный им у Балашей. Любит турок эти места. А в лесу своем он выстроил дивной красоты замок и обнес его высокой каменной стеной. Там он держит своих жен — да простит его бог — целых восемь красавиц.
— А это не служит дурным примером простому народу?
— Что вы! Такие примеры не заразительны. В наших краях человеку порою и одной-то жены много. Вот как раз сегодня произошел такой поучительный случай, но я и рассказывать о нем вам не стану, а то и вы возненавидите всю женскую породу. А кроме того, у нас здесь все очень любят нашего пашу. Такой славный, маленький человечек. Денег у него куры не клюют, и тратит он их не хуже щедрого кутилы-офицера. Купцы, ювелиры, ремесленники тем только здесь и живут, что поставляют свои изделия его женам, потому что сам-то он больше ночами наезжает — бог весть откуда. Да и то проведет в замке несколько дней и снова исчезнет, опять же ночью — бог весть куда. Но женам его хорошо живется. Много денег тратят они на шелка, на сукна, на всякие безделушки. А сам паша — добрейший человек. Если у кого дом сгорит, он лесу даст. Бедному люду разрешает валежник собирать по всему огромному лесу; господину Варге, лесничему, дал наказ, чтобы позволял людям кормить желудями свиней в его дубравах — хотя свиньи и нечистые животные согласно Магомету (черт бы побрал его учение), и вообще паша с готовностью открывает кошелек, с какой бы просьбой мы к нему ни обратились. Вот и сейчас он для нашего реформатского прихода за свой счет заказал в Бестерце большой колокол.
— Знать, добрый человек. Но известно ли ему о приказе вашего вице-губернатора?
— О конечно! Господин вице-губернатор всякий раз, как приезжает сюда, обязательно навещает Хилил-пашу, если тот пребывает в замке. Вот и теперь, четыре дня тому назад, он был у паши, и они уж наверняка обсудили все эти дела.
Пока Престон снимал с конских голов опустевшие торбы для овса, господин Катай набросал на клочке бумаги записку о том, что податель ее около восьми часов вечера миновал сабадкинскую корчму в направлении Ошдяна, заявив, что конечным пунктом его поездки будет лесной замок, каковое заявление должно быть подтверждено подписью и печатью его милости Хилил-паши.
— И на том спасибо! — поблагодарил Гёргей, по-приятельски хлопнув ладонью по ладони бургомистра. — Представится случай, постараюсь отблагодарить вас.
Уже взобравшись в тележку, он задал бургомистру еще один вопрос:
— Тут, на заставе, сказывали: шурин мой, Дарваш, умер. Как вы получаете такие вести?
— А мы утром выставляем живую цепочку: на каждые пятьдесят сажен по человеку, — и так через весь лес, — до самого Ошдяна. К опушке леса приходит лошонцкий ученый лекарь Йожеф Макулик (видать, дьявольски смелый парень, коль не боится оставаться там все это время!) и кричит новости ближайшему из людей в цепочке; тот передает следующему — и так до самой сабадкинской заставы. Точно так же нам передают и распоряжения из комитата. Да вот сегодня утром лекарь почему-то не вышел на условленное место. Знать, и его час пробил!
— Ну, спасибо. С богом! Будьте здоровы, господин бургомистр!
— И вы тоже, ваше превосходительство, возвращайтесь милостью божьей в полном здравии!
Пожелав друг другу всех благ, они расстались. Повозка Гёргея наконец двинулась по лесной дороге под деревьями, уже встречавшими ночь тихим шелестом листвы. Пожалуй, можно было бы назвать лес угрюмым, потому что веселый щебет и пение птиц смолкли, только дятел все еще стучал то там, то сям, да с легким шорохом перепрыгивали с ветки на ветку белки. Но среди трав, папоротников и кустов еще копошились и трещали кузнечики. Вот где-то неподалеку загудел колокол. Что это? Уж не к ужину ли звонят в замке Хилил-паши? Но ведь замок, согласно описанию, должен находиться слева от дороги, а колокол звонит справа! А может быть, это в Ошдяне служат панихиду по усопшим? Да вот и ветер сквозь бесконечную сетку древесных ветвей как будто донес запах ладана, запах смерти. Гёргей даже вздрогнул от этой мысли.
— Какой печальный закат, Престон! Какой унылый!
Но вот волны торжественного колокольного звона стали доноситься уже откуда-то слева: динь-дон, динь-дон.
— Ах, черт! — воскликнул Престон. — Какой-нибудь плутище-филин шутит над нами.
— Что ты говоришь?
— Филины до того ловко подражают колокольному звону, что и не отличишь. Один раз я изведал на своей шкуре такие их шутки. Еще мальчишкой был! Как-то ночью сбились мы в Задунайщине с дороги. Вдруг слышим колокол и решили: пойдем прямо на него, доберемся до какой-нибудь деревни. И в такую чащобу забрались в Баконьских лесах, что потом двое суток, не пивши, не евши, оттуда выбирались. Вот уж где леса так леса!
Но и Сабадкинский лес мало чем уступит Баконю. От Сабадки до Ошдяна он тянулся по гладкой, словно стол, равнине. Нетронутая земля, никогда, может быть, и не знавшая плуга, девственный край, над которым еще не совершила насилия воля человека, требующая: «Уроди мне это, вырасти мне то». А здесь земля родит, что ей самой вздумается. Издревле зеленеют на ней травы высотой до пояса, вьюны, плющи и прочие ползучие растения, перекидывая свои непроходимые сплетения, тесно соединяют друг с другом вековые исполинские деревья, горделиво взметнувшие в небо густолиственные кроны. Знаменитый Яношик, словацкий разбойник, как раз в этом лесу отмерял бродячим студентам на платье сукно, отнятое у проезжих купцов: от одного бука — до другого. Вот какая была у него мера!
Вечерний сумрак постепенно все сливает воедино, очертаний отдельных предметов уже не разберешь. Вот серое пятно при дороге — пепелище давно угасшего костра. Обуглившаяся кора на стволе огромного дерева — след ударившей в него молнии; зеленоватые искрящиеся звездочки на кустарниках — светлячки; сверкающие серебряные холсты, разостланные на лесной поляне, — струящийся с гор ручей. Фр-p! Это что? Ах, это стадо оленей, пришедшее к ручью на водопой, испугалось стука колес и, ломая ветвистыми рогами сучья, с гулким топотом уносится в чащу леса. Потревоженные шумом, далеко окрест взлетают птицы; филин перестает звонить в свой колокол; спрятавшаяся в ветвях дерева белка открывает черные бусинки глаз; жалобно вереща, поднимается в воздух самка кобчика, но, увидев зорким материнским оком, что опасности нет, неторопливо опускается обратно в свое гнездо. И только жук, приникший к тонким, длинным стебелькам овсюга, равнодушно покачивается в своей колышущейся колыбельке.
— Далеко еще до хутора, Престон? Ты-то хоть знаешь дорогу?
— Видать, недалече: кобчик завсегда поближе к курятникам гнездится. Значит, где-то тут и хутор. Сказывали, надо сворачивать у белого столба, что в память о каком-то убитом турецком беке поставлен. Я, понятно, в точности не знаю. Но ежели столб и вправду белый, мы его обязательно заметим. Да вон, как будто собаки лают.
Наконец невдалеке, словно большой призрак, замаячил во мгле белый обелиск. Престон свернул с мощеной дороги, и вскоре перед ними, указывая путь, засверкали, как сияющие глаза, два освещенных окна. После изнурительного дневного зноя приятно было ехать под сенью темных древесных ветвей. Гёргей снял с головы шляпу, чтобы свежий ветерок охладил его разгоряченную голову, а сам, не отрываясь, смотрел на два окна, отбрасывающие во тьму свет, и думал: «Там сидит моя маленькая Розалия — вяжет или, может быть, читает подле ночника». Теперь, когда всего две-три минуты езды отделяли Гёргея от дочери, его вдруг охватило лихорадочное беспокойство, сердце застучало громко-громко. Из-за деревьев на дорогу принялись вдруг выпрыгивать причудливые тени, среди них и покойный лёченский бургомистр с ружьем в руках, которое он, казалось, уже наводил на освещенное окно.
«Нет, нет!» — чуть не закричал Гёргей, и ему сделалось вдруг так страшно и так холодно, что он начал даже застегивать на пуговицы свою куртку.
— Прохладно, Престон. Не находишь? А я вот зябну.
— Что вы! Я, наоборот, весь взмок от пота! — возразил Престон. — Ну, балуй! Н-но! Кажется, ваше превосходительство, так оно и есть: дом лесничего.
— Ближе не подъезжайте, наткнетесь на проволоку. Здесь все деревья проволокой опутаны, — предупредил их из темноты чей-то звучный голос. — А как вы здесь оказались? Наверное, заблудились?
— Нет, — отвечал Гёргей. — Нам нужен господин лесничий Варга.
— Это я, — отвечал тот же голос. — Вы откуда едете — с гор или снизу?
— С гор, — сказал Гёргей, спрыгнув с тележки.
— А как вы проехали Сабадку?
— По разрешению бургомистра.
— Гм, — отозвался лесничий, — сейчас я посвечу вам. Но прежде разрешите задать вам несколько вопросов. Нужда ломает не только железо закона, но и правила гостеприимства. Страшная зараза, свирепствующая в Ошдяне, вынуждает нас к великой осторожности.
— Пожалуйста, спрашивайте, сударь!
— Что вам здесь угодно? Привезли что-нибудь?
— Наоборот, хотим увезти.
— Что именно?
— Девушку, — отвечал Гёргей.
— Тогда вы ошиблись, не туда попали. Девушки уже нет у меня в доме.
У Гёргея болезненно сжалось сердце.
— Где же она? — спросил он сдавленным голосом.
— Служит в городе Бать, у Яноша Шоша.
— Мы не ту девушку ищем. Тут какая-то ошибка, — возразил Гёргей.
— Других девушек на выданье у меня нет. Моя собственная дочь еще в люльке качается. По правде говоря, есть и еще одна, но она подросток. К тому же она гостья в моем доме: не думаю, чтобы вы именно ее искали.
— А вдруг? — сказал Гёргей.
— Ну, тогда можете возвращаться восвояси. Я дал слово, что и от ветерка ее уберегу, не то чтобы чья-нибудь рука ее коснулась. А уж если я сказал, так оно и будет!
— Даже отцовская рука? — спросил Гёргей растроганно.
— Уж не его ли превосходительство, господин вице-губернатор?
— Да, это я. Отец Розалии.
— Ну, тогда другое дело. Добро пожаловать! Эй, Жужи! Принеси поскорее фонарь, дорогая!
Некоторое время спустя в дверях, освещенных слабым светом фонаря, мелькнула стройная женская фигура. Лесничий принял из рук женщины фонарь и пошел с ним навстречу гостям, чтобы показать, как пролезть под проволокой, натянутой между деревьями; никто из посторонних не мог бы приблизиться к дому в темноте, не наткнувшись на проволоку, — один конец ее был прикреплен к дверной ручке дома и предупредил бы его обитателей о появлении чужого, даже если б они спали.
— Так вот мы и живем, ваше превосходительство! Пролазьте вот здесь. Видно, чем-то прогневили мы бога!
Гёргей горячо пожал руку лесничему.
— Здорова ли моя дочурка?
— Слава богу, крепка, как орешек, и умна, как философ. Жужи, где же ты? Посмотри-ка, Жужи! Узнаешь, кто к нам пожаловал?
— Боже, господин вице-губернатор! Прямо глазам не верится. Ой, как вы постарели-то, ваше превосходительство!
— Тс, ты, глупая! Как можно говорить такие слова? — прикрикнул на нее муж, впрочем без всякого гнева. — Иди-ка лучше позаботься о кучере, о лошадях, а главное — приготовь ужин. Пожалуйста, проходите, ваше превосходительство. Вот сюда, налево, покорнейше прошу.
Дверь не потребовалось отворять: она и так стояла настежь; нужно было только откинуть в сторону простыню, преграждавшую доступ в дом мухам и разным лесным козявкам. Хозяйка, разумеется, и не подумала отправляться на кухню, забыв о всяких правилах приличия, она первой влетела в комнату, чтобы поскорее сообщить барышне Розалии радостную весть.
На столе в комнате стоял стакан, наполненный растительным маслом, и на поверхности плавал, словно крошечное суденышко, деревянный кружочек с укрепленным посередине горящим фитилем; он-то и распространял вокруг слабый, мерцающий свет. Возле кровати покачивалась колыбелька, а в ней спал ребенок; крохотный ангелочек забавно причмокивал губками, как бы говоря о том, что в эту минуту он пребывает на седьмом небе, взлетев туда, правда, не на крылышках, но с помощью доброй феи Сна, и грезит о теплой материнской груди.
Подле колыбели сидела Розалия Гёргей и мурлыкала себе под нос какую-то песенку. Достаточно было взглянуть на ее выглядывавшую из-под перкалевой юбочки ножку, мерно покачивающую колыбель, чтобы увидеть, что уже скоро настанет пора, когда эта девочка будет очаровывать мужские взоры. Тем паче, что под стать ножкам было и миловидное личико, красивый ротик да еще и большие глаза, цвета лесных фиалок. И что за странность: ни одной классически правильной черты не найдешь в ее лице, а вместе с тем оно просто очаровательно; лоб чуточку низковат, но линии его благородны. Невозможно, пожалуй, сказать, что именно в юной Розалии действительно красивого, а все-таки видишь: хороша, удивительно хороша собой. Впрочем, угадай мы, в чем ее прелесть, — вероятно, сразу же наше безотчетное восхищение исчезло бы, уступив место прозаическим «обоснованным восторгам». Зато уж про ее носик можно было без колебаний сказать, что он вздернутый и притом самый милый, пленительный носик.
Хозяйка дома Жужа, крадучись, подобралась к Розалии сзади и ладонями закрыла ее глаза. В двух широких ладонях уместилось все лицо девочки, и для нее все вдруг погрузилось в полный мрак.
— Жужи! — засмеялась Роза. — Да я же по запаху догадалась, что это ты: ты только что чеснок крошила.
— А ты не меня угадывай, а угадай, кто к нам приехал, — весело поддразнивала девушку молодая жена лесничего.
— Разве кто-нибудь приехал?
— А ты и не слышала, как застучали колеса да залаяла собака?
В это время Гёргей уже вошел в комнату, но ему пришлось набраться терпения, чтобы не испортить забавной игры, затеянной хозяйкой.
— Неужели твое сердечко не чувствует, кто здесь? — продолжала допытываться Варга.
— Ты говоришь: собака лаяла? Может быть, тетя Каталина прислала к нам Вистулу?
— Ах, ну что ты, право, говоришь! Разве собака Вистула заслуживает того, чтобы из-за нее билось твое сердечко? Нет, душечка, кто-то такой приехал, кому ты больше всего на свете обрадуешься. Ну, подумай, кого ты любишь больше всех?
— Ах! Отпусти меня. Угадала. Тетя Мария приехала из Топорца.
Будто острый нож вонзили в сердце Гёргею. Ему хотелось прервать чудачество, но ни ноги, ни язык не повиновались ему.
— Нет, нет! — смеялась госпожа Варга и, поддразнивая, добавила: — А ведь совсем нетрудно угадать. Ты подумай только, загляни в свое сердечко!
Розалия задумалась. У Гёргея же напряглась каждая жилка. Потупив голову, он ждал, как увядшая былинка ждет благодатного дождя.
— Нет, не могу угадать, — отвечала Розалия с отчаяньем в голосе, тряхнув светлыми волосами. Высвободив лицо из Жужиных рук и увидев перед собой отца, она, изумленная, бросилась к нему.
— Ах, это вы, папочка! Как же вы здесь очутились, куда и птицы-то не залетают?
Гёргея смутило это веселое, непринужденное обращение, в котором не было ни восторга, ни радости, но не было и черствости тоже. Роза поцеловала ему руку, а Гёргей наклонился и чмокнул девочку в губы. Впрочем, не так-то уж сильно пришлось ему для этого наклоняться. За то время, пока он ее не видел, Роза вытянулась вверх, словно молодое деревце. Гёргей скользнул взором по ее милому личику, стройной фигуре и, увы, заметил, как девочка быстро вытерла губы, словно хотела стереть след его поцелуя — хотя, может быть, отец просто уколол ее усами. Но Гёргея это ее движение еще больше обидело. С горестным вздохом он отвернулся от дочери и спросил Варгу:
— Скажите, господин лесничий, могу я сейчас же переговорить с пашой?
— Сейчас? С пашой? А нельзя разговор отложить до утра? — удивленно спросил Варга.
— Нет, сабадкинская чумная застава пропустит меня обратно только при том условии, что я привезу скрепленную печатью паши записку, — когда я прибыл сюда и когда отбыл.
— Понятно! Ну так и оставайтесь у нас, ваше превосходительство, до тех пор, пока не кончится чума, — предложил гостеприимный хозяин. — Клянусь, скучно вам здесь не будет. Как раз сегодня мои лесники приметили медведя. Затравим его.
— Я и сам, как затравленный медведь, — пробормотал вице-губернатор. — Нет, утром мне уже домой надо ехать.
Лесничий поскреб в затылке. Это был приветливый, славный, сильный и прямой человек, с решительным, открытым взглядом, не очень разговорчивый, как многие люди, живущие в лесу. Если хочешь беседовать с лесом, умей молчать.
— Трудно сейчас к паше попасть, трудно! Однако надо попробовать.
Варга попросил у гостя разрешения переодеться, прежде чем отправиться к паше. Он прошел в комнату по другую сторону сеней, а Гёргей остался с дочерью и Жужей, которая тотчас же засыпала гостя вопросами: «Что нового в Гёргё? Живы ли еще тот-то и тот-то? Не вышли еще замуж дочери Плавеца? И неужели матушка так ничего ей и не передала?»
— Нет, ничего. Но тут уж я сам виноват, — постарался Гёргей оправдать экономку. — Я ведь не сказал еж, что еду за Розалией.
— За Розалией? — сразу же опечалившись, воскликнула Жужа. — Уж не собираетесь ли вы увезти ее с собой?
— Собираюсь.
Роза, снова усевшаяся подле спавшего младенца и разглядывавшая его крохотное пухленькое личико, спрятанное в подушках, вскинула голову.
— Вы шутите, папочка? — спросила она и так плутовски подмигнула отцу, что прогнала у него из сердца всю горечь, подобно тому как одна-единственная улыбка солнца прогоняет туман с вершины старой горы.
— Нет, нет, я не могу оставить тебя здесь, — уже более веселым голосом пояснил Гёргей. — Ты теперь большая девочка, и пора думать о твоем будущем.
Розалия спрыгнула со стула, подхватила свою юбочку двумя пальцами и закружилась перед отцом, словно юла — грациозно, горделиво и весело, как избалованное дитя.
— Ах, папочка, где же ваши глаза? Ведь я еще совсем маленькая! Если позволите я лучше останусь в Ошдяне.
— Гм, в Ошдяне….
Гёргей вовремя удержался, чтобы не сказать вертевшиеся у него на языке горестные слова. Он не решался опечалить девочку грустной вестью.
— Что тебе делать дальше в Ошдяне? — возразил он. — И вообще, раз я так хочу, надо слушаться.
— А я не хочу, — упрямо возразила девочка и шутливо топнула ножкой.
Вице-губернатор, от души забавляясь задором и детским упрямством Розалии, поддразнивал ее:
— Твое «хочу» и мое «хочу» — которое же из них сильнее, как ты думаешь? — спрашивал он.
— Ваше! — поспешила заверить девочка, в притворной покорности склоняя головку, так что волосы ее, уже расплетенные на ночь, с шелестом упали до полу, золотистым пологом закрыв ей лицо. — Ваше «хочу» — приказ! Но что из этого? Приказ только тогда грозен, когда человек его боится. А вот я почему-то ни капельки не боюсь ни приказов ваших, ни вас, папочка.
Она отбросила с лица волну своих золотых волос и сосредоточенно наморщила лоб, словно погрузившаяся в раздумье старушка.
— Вероятно, потому, душенька, что ты любишь меня? — нежным, тихим голосом высказал предположение вице-губернатор. — Ну, подойди же ко мне.
Девочка подошла, но строптиво покачивала головой.
— Нет, не поэтому.
— Или ты не любишь меня?
— Я уважаю вас.
— А почему не любишь?
— Не знаю, — прошептала она задумчиво и печально.
— А за что уважаешь меня — знаешь?
— Знала. Потому что в заповеди сказано: «Чти отца своего».
— Значит, заповеди дня тебя все же — приказ?
— Потому что они от бога, а его я боюсь.
— Но и любишь его тоже.
— Нет, что вы!
Жужа Варга поспешила закрыть ей рот ладонью:
— Ах ты, маленькая еретичка! Разве так можно говорить! Роза скорчила гримасу, отчего на ее склоненном лице сразу появились очаровательные ямочки.
— Жужа, да убери ты свою ладонь! Я же тебе сказала: она пахнет чесноком.
Сердце Гёргея приятно согревала наивная, непринужденная болтовня ребенка. Только теперь он понял смысл оброненных Варгой слов, что, мол, девочка — маленький философ.
Взяв дочь за руку, теплую, мягкую, словно пушистый птенчик, Гёргей привлек ее к себе.
— А ну, иди ко мне, еретичка, — приговаривал он, гладя дочку по голове и любуясь золотым водопадом ее волос. — Объясни мне, барышня, почему ты не любишь боженьку?
— Потому что боженька сам меня не любит, — отвечала девочка упрямо.
— Откуда это тебе известно?
— Да если бы он меня любил, так не отнял бы у меня мою маму.
Чувствуя, что на глаза его навернулись слезы, Гёргей отвернулся. Поднявшись со стула, он прошелся взад и вперед по комнате, выглянул в раскрытое окно (словно вслушивался, о чем шумит лес), а затем остановился перед девочкой и посмотрел на нее теплым, долгим взглядом, будто старался запомнить каждую из мгновенных перемен в ее выразительном лице, которые он читал, как печальную, полную таинственности книгу.
— Вот видишь, как мало я занимался твоим воспитанием. В мыслях у тебя никакого порядка! Бедная Катарина была доброй женщиной, но… Впрочем, что это я говорю? На чем я остановился? Да, на том, что тетя Катарина уделяла мало внимания твоему развитию, вот ты и выросла такая колючая, будто дикий шиповник: никто не подрезает его ветвей, никому нет до него дела. Ну-ну, ты губки не надувай, ведь так оно и есть на самом деле! Кое в чем ты еще совсем дитя несмышленое, а кое в чем, наоборот, умудрилась раньше времени состариться. Одним словом, дикарка! А я хочу, чтобы ты была воспитана, как настоящая барышня. У тебя, например, совершенно нет ни духовной опоры, ни ясной цели. И болтаешь ты невесть что! Подумай сама. Вот ты говоришь: «Не люблю бога потому, что он меня не любит». Но ведь это возмутительно, что ты так дерзко говоришь о создателе, ведь его деяния человеческому уму понять не дано! Не только твоему детскому умишку, но и высоким мыслям мудрецов! Бог дал человеку всего лишь частицу своего разума, такую малую, чтобы она никому не была во вред. Одному — столовую ложку из целого моря мудрости, другому — чайную ложечку. Ну, что это ты вдруг позевывать принялась? Смотри нашлепаю!
— Не извольте, сударь, сердиться на нее, — поспешила вмешаться Жужа Варга. — Что, например, до меня, то я очень люблю, когда Розика позевывает и видны ее чудные белые зубки.
Гёргей только усмехнулся и, не давая себя отвлечь в сторону, продолжал начатый разговор:
— Допустим на миг, что ты права, — хотя на самом деле это не так, — ты не любишь бога за то, что он якобы не любит тебя. Но и тогда в твоих рассуждениях нет ни капли смысла, — ведь меня вот ты тоже не любишь, а я-то люблю тебя. Ну, отвечай, маленький чертенок!
— Если бы, папочка, вы любили меня, — отвечала девочка, мгновенно перестраивая весь разговор на детский лад, — вы привезли бы мне гостинцев.
— Так ведь я же привез. Как же! — вспомнил вдруг Гёргей и крикнул в окно: — Эй, Престон, принеси сюда сверток с гостинцами.
А господин Варга все не возвращался, и Гёргей уже с беспокойством начал поглядывать на дверь. Вот, правда, за нею послышались шаги, но это пришел старик Престон и принес сверток. Розалия, сгорая от нетерпения, сразу же принялась его развязывать.
Впрочем, она тотчас же разочарованно отодвинула сверток в сторону.
— Ах, какой вы смешной, папочка! — по-детски, покачала она головкой, — ведь не настолько уж я мала, чтобы мне в подарок пряники привозить.
— А чего бы ты хотела?
Девочка капризно передернула плечами:
— Ну, шелку, лент… Ну, еще что-нибудь такое…
Впрочем, проказница тут же, из милого озорства, навесила на каждое ухо по две кроваво-красные черешни и затрясла своей красивой головкой, чтобы эти серьги раскачивались.
— Э, дружок Розалия! — воскликнул вице-губернатор с притворным возмущением, — такого уговору не было, маленькая лисичка. Когда мне нужно, чтобы ты была взрослой, ты притворяешься несмышленышем, а когда тебе это выгодно, ты заявляешь: я уже большая!
— Не браните бедняжку! — снова принялась оправдывать девочку хозяйка. — Не сердитесь на нее, ваше превосходительство. Ведь и роза может считаться бутоном, пока она еще не совсем распустилась. Однако и бутон может уже называть себя розочкой, когда раскрылись первые его лепестки.
К сожалению, у Гёргея не было времени вдуматься в столь поэтический образ, потому что из-за двери донесся голос хозяина.
— Вот и я. Если вашему превосходительству угодно, можно нам и отправляться.
Гёргей надел шляпу, шагнул через порог в сени и сразу отпрянул, увидев перед собой в отсветах огня, пылающего в очаге, какого-то незнакомого мужчину в белом турецком тюрбане и кафтане коричневого цвета. Он уже поднес было руку к шляпе, чтобы поздороваться с незнакомцем, однако «турок», рассмеявшись, сказал:
— Да ведь это же я, Янош Варга!
— Вы, сударь? Вот уж не подумал бы! А к чему этот маскарад?
— К тому, ваше превосходительство, что паша с моей помощью таким способом надувает пророка Магомета, разумеется, если пророк Магомет поддается на обман. Видите ли, Коран запретил мусульманам приближать к себе «неверных». Вот мой хозяин и думает, что, если я буду входить в его замок в турецком наряде, Магомет не учует христианского духа и не узнает, что я кальвинист.
— Не может быть] — заметил Гёргей. — Почему же турки в таком случае терпят христианских девушек в своих гаремах?
— Женщина у них не считается человеком.
Выйдя из дому, лесничий и Гёргей направились по торной дороге дальше в лес, прошли по ней до старого дуплистого дерева, из которого доносилось тихое гудение (вероятно, в нем устроили свой улей дикие пчелы), а затем повернули налево. Разумеется, всю дорогу разговор шел о паше.
— Набожный, верно, человек, — заметил Гёргей, — коли соблюдает Коран даже в таких мелочах?
— Ну, безгрешным его назвать нельзя: винцо он тоже попивает, — сказал лесничий. — Скорее можно сказать, что он со странностями. Но зато нрава он веселого, не заносчив. Не чета нашей венгерской знати.
— Давно ли вы состоите у него на службе?
— Четвертый год пошел.
— Говорят, он только изредка сюда наезжает?
— Раза два в год, да и то на короткое время.
— А где он живет постоянно? Варга пожал плечами:
— Кто его знает.
— Но разве ему не присылают никогда писем или каких-нибудь сообщений?
— Нет.
— И сам он тоже сюда не пишет?
— И он не пишет.
— Как же это возможно? Ведь может случиться, что кому-то понадобится срочно известить его о чем-либо.
— Я и сам как-то спросил его об этом, а он сразу одернул меня: «Не к чему, сынок, спрашивать лишнее! Когда человек засыпает, душа покидает бренное его тело, а к утру либо сама возвращается в него, либо вообще не возвращается. Но никогда тело не спрашивает, где она все это время витала. Так вот, если хозяин покидает свой приют, зачем спрашивать его, вернется ли он обратно? Аллах не требует этого. Вот ты говоришь: «Хочу сообщить вам». А к чему? Если это хорошая весть, подожди до того часа, когда мы снова увидимся, чтобы нам порадоваться вместе; а если весть дурная, не спеши сообщать ее, и это будет человеку во благо, ибо хоть на короткое время он все же мог отойти от тяжких забот».
— Завидую такой философии, — задумчиво сказал Гёргей. — Только в голове турецкого паши может она родиться. А все же странно, что ни кучер, ни слуга этого паши до сих пор не проболтались.
— Он приезжает всегда один, на маленькой тележке, обычно по ночам, и, как видно, сам правит лошадьми, потому что никого из слуг при нем не бывает. И уезжает тоже ночью. Я же узнаю, здесь он или нет, по флажку на минарете.
— Все это и в самом деле похоже на тайну, — заметил вице-губернатор, загоревшись любопытством. — А пока паша здесь, он, разумеется, носа не высовывает из своего замка?
— Ну что вы! Он любит гулять в лесу, иногда и ко мне заходит. Вот в этот приезд почти каждый день нас навещал. Нынче вечером сел перед домом, попросил мою жену принести ему кружку молока, разговаривал да шутил с барышней Розалией.
— Значит, он и по-венгерски говорит?
— Говорит, но как-то на турецкий лад. А со мной объясняется по-немецки.
— Так зачем мы разговариваем так громко? Вдруг он сидит где-нибудь под деревом и слушает, как мы перемываем ему косточки.
— Этого опасаться нечего, сейчас он наверняка дома: в такие теплые вечера, как только взойдет луна, его одалиски идут в сад и купаются в пруду, а он на них смотрит. Самое любимое его развлечение!
— Черт побери! — прищелкнул языком Гёргей, совсем развеселившись.
— Но вот в чем беда: в такие минуты он никого и ничего знать не желает, и я, право, не уверен, что нам удастся поговорить с ним. Во всяком случае, совершенно ясно, что мы ему будем помехой. Ну, да все равно. Волков бояться — в лес не ходить!
— А сколько лет вашему паше?
— Старый, беззубый козел.
За разговором они и не заметили, как очутились возле высокой и толстой белой стены, — надежно укрывавшей от чужих глаз и парк и «Дворец услад». Увидеть их можно была, лишь взобравшись на верхушку самого гигантского из соседних деревьев. Говорили, что в Римасомбате нашлось немало озорных парней, которые не побоялись взобраться на вершину стоявшего поблизости бука, чтобы взглянуть на прогуливающихся по парку одалисок. Лет сто назад турецкий паша велел бы за это отрубить смельчакам головы, теперь же Хилил-паша приказал лишь срубить бессовестное дерево.
Под стать стене были и огромные железные ворота, такие тяжелые, что, пожалуй, и сам Ботонд * не разбил бы их своей секирой. У ворот на толстой цепи висел большущий молоток. Только он и мог произвести звук, способный проникнуть с этого света в потусторонний турецкий рай. Лесничий Варга трижды ударил молотком в ворота, однако и на этот страшный грохот никто не явился. Тогда он вынул из кармана свисток и подул в него. Из крохотного отверстия свистка вырвался удивительно резкий звук с переливами — от шипения змеи и свиста дрозда до рева быка; он словно пронзил и завесу деревьев, и каменные стены.
— Что это такое? — с досадой вскрикнул Гёргей и невольно заткнул себе уши.
— Да попросту сказать — сигнал. Уж на него-то непременно кто-нибудь выглянет и, может быть, впустит нас. А может быть, и нет.
— Мне тоже нужно заходить во дворец?
— Не знаю. Возможно, паша на слово поверит мне и подпишет бумагу.
Им не пришлось ждать и полминуты: одна из железных пластин, которыми были обиты ворота, со скрежетом сдвинулась, и в образовавшееся оконце высунулась чья-то голова в турецком тюрбане.
— Это ты, Варга-эффенди? — спросил писклявый голое евнуха. — Чего тебе?
— Мне с его благородием, Хилил-пашой, поговорить надо. Пойди, добрый Юсуф, попроси его принять меня.
— Смотри, Варга-эффенди, если хозяин отругает меня, — твоя вина. Я скажу, что ты мне угрожал.
— Ладно, ладно, Юсуф, иди. Вот увидишь, не случится никакой беды.
Юсуф задвинул оконце железным заслоном и, шаркая башмаками, удалился.
— Кто это был? — спросил Гёргей, которого заинтересовала вся эта восточная романтика. Ему даже почудилось, что из-за стены на него пахнуло ароматом амбры.
— Евнух, ваше превосходительство.
— Неужели настоящий евнух?
— Самый настоящий!
— Тысяча чертей! — удивленно воскликнул вице-губернатор. — Хотел бы я посмотреть, что там во дворце.
— Как знать, вдруг вас и впустят.
Впрочем, мы с тобой, читатель, можем и без разрешения паши перенестись мысленно в любые уголки дворца и парка, запретные для посторонних. Прежде всего нас поверг бы в изумление сам дворец — строение необыкновенной красоты — с небольшим балконом, красивыми выступами, просторной залой под величественным куполом и стройным минаретом над левым углом здания. Дворец не был освещен, если не считать небольшого светильника на крыльце, горевшего таинственным лиловым огнем. Ясный месяц мог свободно искриться на белых стенах всеми оттенками своего сияния, и дворец казался волшебным чертогом, воздвигнутым джиннами Аладдина из огромных сверкающих кристаллов каменной соли. Но еще красивее замка в фантастическом свете луны, любимого небесного светила турок, был сад, разбитый позади дворца. Вдыхая легкие дуновения теплого ветерка, пышная растительность источала опьяняющие ароматы. Цветы и кудрявые кустарники слились в темные волны, льнувшие к подножью деревьев-великанов, между которыми были подвешены гамаки и качели. На одних качелях сидела стройная молодая женщина в белоснежном, облегающем ее стан одеянии, и чудилось, что она — не земное существо, а белое облачко, принявшее облик женщины, что она парит, плывет в ночном небе. Время от времени евнух подталкивал качели, и они, взлетая вверх, белой молнией проносились над темным ковром зелени, устилавшим землю.
А вон там, чуть поодаль, сквозь сетку ветвей, виднеется что-то синее, словно отломившийся и упавший вниз кусок неба со звездами, что-то сверкающее, будто зеркало, вставленное в раму из сабельных клинков. Но нет, это обман зрения: это не зеркало, а пруд, и острые сабли вокруг него — остроконечные камыши, звезды же на темной синеве — белые цветы кувшинок. А что там еще за белые силуэты колышутся, раскачиваются из стороны в сторону?
Смертный, раскрой пошире глаза, а еще лучше — смежи их покрепче, иначе потеряешь и сон и покой, — перед тобою знаменитые одалиски Хилил-паши сбрасывают с себя покровы, собираясь купаться.
На берегу пруда мерцает маленькая искорка. Где искорка, там — чубук паши, а где чубук — там ищи и самого пашу, любующегося пленительным зрелищем; вот он удобно раскинулся в мягком кресле под зелеными кущами, закинул одна на другую ноги, обутые в желтые домашние туфли, повесил тюрбан на сломанную ветку, а рукавом белого халата то и дело утирает влажный от испарины лоб; равнодушным взглядом — больше по привычке — он смотрит на пруд своими маленькими тусклыми глазками и готов сомкнуть тяжелые припухшие веки: думы его в этот миг далеко-далеко отсюда.
Что поделаешь, так уж устроен человек: рано или поздно ему все надоедает. Даже рай и тот лишь вначале, очень короткий срок, кажется раем, а затем становится самым обычным садом и даже просто лесом. У Хилила-паши со временем появились новые желания, и это не удивительно. С возрастом растет и требовательность. Пожилого и умного человека ни одно на свете увлечение не может захватить надолго, как какого-нибудь взбалмошного юнца. Человек в летах имеет право выбирать. Он становится философом, ищет не наслаждения, но возможности сравнивать, приобретать опыт, познавать. Он не может тратить время на что попало, потому что времени-то у него осталось слишком мало.
Увидел Хилил-паша девочку-подростка у своего лесничего — невинное дитя, еще ничего не ведающее, и потому чрезвычайно-соблазнительное для человека, познавшего все. Он поговорил с нею раза два, и с тех пор ее образ так и стоит у старца перед глазами. И вот Хилил-паша придумывает один за другим планы, как завладеть девочкой. Для этого нужно прежде всего узнать: кто она такая? Хочешь сорвать цветок, не забудь сначала осмотреть стебель, на котором тот цветок растет. Ведь если стебель слишком высок, трудно дотянуться до цветка старому человеку. А если дивный цветок благоухает у самой земли? Наклониться может и старец. Конечно, все необходимые сведения мог бы сообщить Варга, даже мог бы подать совет и оказать хозяину помощь, не будь этот лесничий чересчур честным и неотесанным мужланом. Вот Хилил-паша и курил трубку да обдумывал: как бы ему ловко и осторожно расспросить Варгу. Выведать что-нибудь у Варги — дело нелегкое; лесничий, пожалуй, почуяв недоброе, отошлет девочку прочь. Нет, лучше действовать через жену Варги. Может статься, родители этой юной Розалии — люди бедные и легковерные. Что, если предложить им выучить девочку, пообещать сделать ее, скажем, певицей? Ведь богатые покровители так обычно и поступают. Или, может быть, взять ее к себе в услужение, назначив большое жалованье? Золото и серебро — лучше всяких сводников! Правда, девочка совсем еще ребенок, едва ли ей минуло четырнадцать лет, но кому же не известно, что старых людей именно юность и приводят в восхищение? Помнится, когда он сам был подростком, его привлекали зрелые женщины в тридцать лет или те, которые себя за таких выдавали, — то есть тридцатипятилетние; теперь же, когда он вступил в весьма почтенный возраст, святой закон природы остроумно возмещает ему потерянные радости: бывало, он пренебрегал молодыми своими сверстницами, а теперь, отворачиваясь от нынешних своих ровесниц (боже упаси от них!), стремится к отроковицам. Отличное возмещение, и всякий разумный человек охотно покоряется этому закону природы.
Вот как рассуждал честный, праведный Хилил-паша — и, по всей вероятности, дивился мудрости аллаха, устроившего все так разумно, чтобы ничто в природе не пропадало без пользы (в том числе и влечение к юности), и только в возрастах любви аллах допустил кое-какие странности. Но вдруг пашу потревожил евнух и доложил, что за воротами раздался свисток Варги-эффенди.
— Чего он хочет? — зарычал паша.
— Предстать пред твоим светлым ликом, господин, и притом немедленно. Грозил мне всеми карами на свете, если я не доложу тебе.
— Пойди расспроси его, в чем дело. Немного погодя евнух возвратился.
— Я спросил Варгу-эффенди. Он говорит, что привел к тебе приезжего, которого чумная застава не пропустит обратно в Сабадку, если твое пресветлое высочество не подтвердит подписью и печатью, что он прибыл к лесничему, от него никуда не уезжал и от него же возвращается обратно, — иными словами, что он не был в Ошдяне.
— Иди скажи ему: мне сейчас недосуг подписывать бумаги. Варга собирает бродяг со всего света, а потом надоедает мне с ними.
— Варга-эффенди говорит, что его гость — отец той самой девочки, которой я вчера по твоему приказу носил цветы и финики.
— Ах, так? — воскликнул паша и проворно вскочил со своего кресла. — Иди же впусти этого пришельца и проводи его в Голубой зал.
Евнух подобострастно склонился до земли.
— Слушаюсь, господин. А Варгу-эффенди тоже пропустить?
— Нет, нет. Пусть подождет за воротами. Варгу пропустишь только в том случае, если чужой человек побоится войти в замой один.
Евнух поспешно удалился. А Хилил-паша привел в порядок свое одеяние, запахнул халат, расправил его складки, надел на голову тюрбан и, не спеша вытряхнув в чашечку тюльпана пепел из своей трубки, немного прогулялся по усыпанной гравием дорожке, — скорее всего он обдумывал план, как ему уломать чужака. Но вот он покинул сад, приблизился ко входу во дворец, шаркая туфлями, поднялся по лестнице и открыл дверь в Голубой зал, где его уже ожидал пришелец, рассматривая картины, висевшие на стене.
— Салям алейкум! Добро пожаловать в мой дом, — проговорил паша, скрестив на груди руки.
Гёргей, застигнутый врасплох, обернулся и начал произносить свое заранее придуманное приветствие:
— Да умножит аллах твое счастье, достопочтенный Хилил-паша, да будет…
И вдруг слова застряли у него в горле, он бросил взгляд на пашу, тот испуганно попятился, а у Гёргея невольно вырвался возглас:
— Ба! Папаша Кендель, а вы-то что тут делаете? Папаша Кендель (а это был действительно он) побледнел, узнав в своем госте сепешского вице-губернатора. Вот роковая случайность! Ну, чем он мог прогневить дьявола, притащившего сейчас сюда этого Гёргея? Кендель был убежден, что всегда поступает в угоду дьяволу. О горе! Так, значит, Гёргей и есть отец той прелестной девочки! Вот оно возмездие за безбожно-грешные планы! Кенделя мучили уже не только стыд и досаду что его инкогнито раскрыто, но и суеверный страх, овладевши им: перед ним в этот миг стоял не грозный вице-губернатор, а сама мстительная судьба в облике отца девочки.
Но так как Кендель не провалился в первый же миг сквозь землю (чего он искренне желал), то в следующую минуту у него не оставалось иного выхода, как попытаться обратить досадное происшествие в шутку.
— Хе-хе-хе! — засмеялся он. — Вот так штука! А говорят, нет мне на земле счастья! Как бы не так. Ни с кем не поменяюсь судьбой. Садитесь, прошу вас. Какой великий честь для моя бедная дом. Какая редкая счастье! (Надо сказать, что из Кенделя получился бы плохой актер, потому что, говоря «редкой счастье», он состроил такую кислую мину, словно укусил большой кусок лимона.) Я готов выскочить из моей шкура от радость! (Тут Кендель принялся и в самом деле прыгать и плясать, словно расшалившийся ребенок.) Вы спрашивал, Ваше превосходительство, что я здесь делать? Ничего. Просто отдыхать. Я много поработал, теперь не мешает и отдохнуть. Ведь и за меня тоже умер Христос…
Гёргей улыбнулся и не удержался, чтобы не подтрунить над стариком:
— О да, Иисус, конечно, умер и за вас, сударь. Но, как я вижу, вы и у Магомета не забыли отхватить свою долю!
— А что может делать мой бедный голова? — плачущим голосом принялся оправдываться Кендель, но тут же, к его чести надо сказать, густо покраснел, да так, что не только щеки, но и шея его приняли кирпичный оттенок. — Все от деловых неудач. О, эти дурные дела, боже мой! Людям нельзя больше верить, — все сплошь испорченные.
— Какие же у вас неудачи?
— Всему виноват белградский паша! Много мои деньги осели у прохвоста. Я дафал ему взаймы, он не платил. Потом слышу — султан переводит его в Анатолию. Уже в дорогу собирается паша, и не тумает говорить бедному Кенделю: «Прощай». Приехал к нему за теньгами, а он велел мне всыпать на каждый пятка твадцать горячих. Вот какой бессовестная! Прафта, тогда я еще не был дворянином, но пятки мои все равно полели, как у какого-нибудь крафа. Но мы не стали так остафлять, затали паше баню. Я подмазал великого визиря. Пятки у Кенделя, прафта такие же, как у фсех, зато руки тлинные, претлинные. Великий визирь приказал белградскому паше: «Уплатить Кенделю толг». А чем? Не было у паши ничего, только гарем, да евнухи, да всякие восточные покрывала. Фсе добро и пошло с молотка. Пришлось мне купить самому все движимое и недвижимое: дворец, рабов, одалисок, ковры и трубки. А вы чего же, ваше превосходительство, не закурите? Шесть бочек одного табаку мне досталось. Ведь эти ослы табак тержат в бочках, а вино пьют маленькими чашечками, с наперсток.
— Однако, что там ни говори, а вы, сударь, порядочная шельма! — от всего сердца засмеялся Гёргей.
Красное лицо Кенделя тоже округлилось от смеха.
— Хе-хе-хе! Ха-ха-ха! Что потелаешь! Поневоле согрешишь. Все осталось у меня на шее. Кому продать? Никому не надо. Куда убрать? Никуда не умещается. Вот и привез я все это добро в лесочек, чтобы оно никому глаза не мозолило, потому что я — человек строгих правил. Что бы вы там, ваше превосходительство, обо мне ни думали, но я не люплю траснить людей. С тех пор и храню здесь свой товары, так сказать, на складе.
Ценность их с каштым день падает, — ведь время оставляет неискладимые следы на лицах красавиц, да и климат здесь неподходящая — в особенности зимой; самая красивая моя одалиска грузинка, с рождества кашляет и, к осени, наверное, увянет как листы на дереве. А дома на мой овцы падеж напал. Да и наша боженька не дремала. Только на прошлой неделе сгорела мой хутор в Путцдорфе: конюшни и жилье для батраков. Вы себе и представить не можете, ваше превосходительство, сколько забота и неприятность меня одолевает. Лучше всего, когда у человека нет ничего за душой. А когда есть, у хороший дельный человек всегда забота! В крови у него забота. Здесь свирепствует Аллах, там — Иегова: он позаботился о своих евреях-сапожниках и сделал из моих овец дешевый кожа для сапог. Вот я и приезжай сюда, чтобы хоть одним глаз взглянуть на свой добро.
— Все это прекрасно, но что скажет госпожа Кендель? Услышав такие слова, папаша Кендель вздрогнул, будто прикоснулся к холодному телу змеи, но затем, взяв себя в руки возразил:
— Ах, что понимает женщина в таких делах? Как свинья в апельсинах! Даже и не могу представить себе, что бы она сказал. Не знает она ничего: умный человек не все докладывает своей жене.
— Ну, а если я расскажу ей?
Господин Кендель обиделся и подозрительным, беспокойным взглядом впился в лицо Гёргея.
— А чем бы вы доказали своя слова, господин вице-губернатор? Тем, что встретили меня в лесу под этим вот мирным кровом?
— В наряде турецкого паши, — продолжал Гёргей.
— Верно. Берегу своя христианское платье! Что тут плохого? Могу же я как-то пользоваться приобретенным добром?
— Да, да, и притом посреди гарема, который, по-вашему, тоже «приобретенное добро» и который вы тоже…
Кендель протестующе воздел к небу руки, а волосы его поднялись дыбом.
— Ой, лучше и не говорите! Не пугайте меня, мой добрый покровитель. Ведь я всегда был вашим преданным, покорным и старательным слугой! Не терзайте меня! Вы, наверное, не знаете, какой у меня жена. Подумайте, ваше превосходительство, о муках преисподней и о том, что когда-нибудь вы и сами женитесь (чего я вам, конечно, не желаю!). Так знайте же, что даже ад и котлы кипящей смолы, в которой черти будут нас вываривать (хотя на ваше превосходительство, вероятно, даже черти не посмеют поднять руку), ничто в сравнении с теми муками какие испытывает человек, угодивший на язык моей жене. Нет спасения несчастному!
Гёргей так и покатился со смеху и присел на тахту, покрытую дорогим персидским ковром с вытканными по нему изречениями из Корана.
— Да я просто пошутил! Разве я стану выдавать вас, сударь? Однако я рад, что провидение открыло мне вашу тайну, потому что и я теперь решусь доверить вам свою. У нас с вами будет вроде студенческой меновой: я стану хранить вашу тайну, а вы мою! Это единственно верный способ. Но вы присаживайтесь, папаша Кендель, вот сюда, напротив. Только прежде дайте и мне трубку с длинным чубуком.
Лицо Кенделя просветлело, он с проворством белки помчался к окну отдать распоряжение, и тотчас в залу явился евнух с двумя трубками, а следом за ним и другой, — с угольками в жаровне, политыми благовониями.
Когда же оба — и хозяин и гость — закурили, папаша Кендель, показав на раскрытое окно, спросил вкрадчиво:
— Не желаете, ваше превосходительство, взглянуть?
— А зачем? Я и отсюда вижу: небо звездное, дождь не скоро соберется.
— Да, но эта ночь и такая дивный воздух, такой очаровательный сияние луны и… малютки плещутся там в пруду! — Кендель плутовски подмигнул левым глазом. — Есть среди них парочка совсем недурных.
— Ах, старый сластолюбец!
— Уверяю вас, не пожалеете, ваше превосходительство! — осклабился Кендель, хитро поглядывая на вице-губернатора.
— Не искушай, сатана, изыди! — шутливо погрозил пальцем Гёргей, но тут же его лицо приняло серьезное выражение, и он пояснил: — Сейчас я, господин Кендель, отец, и мне чужды все другие чувства.
— Ах, пустое. Я тоже — отец, у меня тоже есть дочь, и я ее люблю, но год так долог, что человеку надоедает все время быть отцом, да и жизнь наша такой короткий, не успеешь изведать всех радостей. А кроме того, отцом человек остается и после своей смерти, а вот с радостями простись, когда смерть постучится и скажет: «Идем!»
Однако Кенделю, несмотря на все его красноречие, не удалось отвлечь гостя от его замыслов и соблазнить на какую-нибудь проделку, которая сделала бы Гёргея соучастником его похождений. «Жаль, — думал старый плут, — это надежнее, чем "обмен тайнами". А, впрочем, может быть, не плохо будет и тайнами обменяться».
— Ну и крепкий же вы орешек, ваше превосходительство! Вы спрашивает: «Есть ли в табачке опиум?» Немного есть. Так приятнее. Говорят же: один глаз видеть хорошо, а несколько глаз — еще лютче. Но от опиума один глаз видеть лютче, чем много-много глаз. От опиума увидишь такое, чего и нет вовсе. Может быть, скамеечку поставить вам под ноги? Вот так. А теперь я слушаю вас, ваше превосходительство.
— Речь идет о моей дочери, господин Кендель, — начал Гёргей. — Я хотел бы всецело вверить ее вашим заботам, как если бы она совсем не была моей дочерью.
Папаша Кендель затрепетал. Сон ему снится или происходит удивительное чудо? Неужели этот необыкновенный человек, читая в сокровеннейших тайниках чужой души, держит его, Кенделя, над огнем, словно барашка на вертеле, и, пропитав беднягу едким соусом иронии, возьмет да и проглотит его?
— Не понимаю, — зябко поеживаясь, пролепетал старик и потупил глаза.
— А между тем причина проста. Вы же хорошо знаете, сударь, что мой дом в Гёргё — мрачная, безрадостная медвежья берлога. Поэтому я и отдал девочку на воспитание к своей сестре, госпоже Дарваш, в Ошдян. Но вот вчера супругов Дарвашей скосила чума, сегодня их уже и похоронили. И теперь мне нужно куда-то отправить мою девочку, которую при первых же сообщениях о чуме отвезли сюда, в Сабадкинский лес к жене вашего лесничего, госпоже Варга, ее бывшей няньке. Взять ее домой я не могу: там она не научится ничему, что понадобится молодой барышне в жизни, да и опасно это, — ведь город Лёче может при первом удобном случае неожиданно напасть на мое имение и разграбить его. Единственно, куда я мог бы отвезти ее (и вице-губернатор нахмурился), — это в Топорц, имение моего брата Яноша. Жена его благонравная, добрая женщина и очень любит девочку (здесь Гёргей глубоко вздохнул и на мгновенье умолк, словно у него стеснилось в груди дыхание). Но Топорц еще более опасное место, чем Гёргё. Вам я, так и быть, открою и еще одну тайну, тем более, что она скоро станет всем известна. Мой брат Янош вновь восстал против императора.
Господин Кендель оживился, взмахнул рукой и с такой силой стиснул зубами янтарный мундштук, что чуть не сломал их.
— Восстал? Не пройдет и двух недель, как вся Венгрия возьмется за оружие!
Папаша Кендель вскочил и принялся бегать по залу, забрасывая своего гостя множеством беспорядочных вопросов: «От кого? Что? Когда? Кто?» — что должно было означать: от кого Гёргей слышал? Что именно? Когда? Кто возглавляет восстание? И так далее.
— Князь Ференц Ракоци идет с армией из Польши через Верецкий перевал, а Тамаш Эсе вместе с моим братом уже поехали ему навстречу с небольшим отрядом, чтобы присоединиться к повстанцам.
— Это вы в точности знаете? — выпалил Кендель.
— Так же точно знаю, как то, что сухая солома загорится, если к ней поднести горящий факел. Но что с вами? Сидите же спокойно?
— Ну да! Так вот и буду я сидеть! — возмутился Кендель, сразу же забыв о вежливости и всяких правилах приличия. — Что я, белена ел, что ли? Сидеть, будто гриб в траве, когда я могу ходить по пояс в золоте! У меня уже ноги чешутся, бегать просятся, Ich mub gehen[39]. Каждый минут — тысяча монет. Нет, я уже бегу, запрягаю, скупаю через своих людей по всей стране волов и овес, пока еще ни одна душа ничего не знает о войне. Ой-ой! Значит, все-таки пришел молодой Ракоци! Добро пожаловать! О, бедная моя император, бедная император. Сколько теперь у него волос вылезет…
Улыбаясь во весь рот, он уже думал об огромных военных расходах императора и хотел немедленно помчаться запрягать лошадей, однако Гёргей удержал его.
— О, нет, дружище Кендель! Не так прытко! Сначала помогите мне, — строго сказал он, — а там уж можете действовать, как вам заблагорассудится. Но пока что вы не сделаете отсюда ни шагу. Садитесь!
Все это было сказано таким властным тоном, что Кендель невольно подчинился. Рухнув на диван, он старался вслушиваться в слова Гёргея, но губы его то и дело дергались от нетерпения.
— Я остановился на том, что мне и в Топорц тоже нельзя отправить девочку. Да, нельзя, — потому что войска императора, по всей вероятности, спалят имение брата. Какой-нибудь лабанцкий генерал сразу же это проделает — и пришлет победную реляцию в Вену: «Взял и уничтожил замок мятежника Яноша Гёргея, а семью его захватил в плен». Хотя Топорц — самый обыкновенный жилой дом, в донесении он превратится в замок. При столь плачевных видах на будущее, как вы думаете, Кендель, какое решение я принял?
— Ни о чем я сейчас не думай! — с дерзостью отчаявшегося и готового на все человека проворчал Кендель. Однако он тут же спохватился, вспомнив, с кем разговаривает, и попытался загладить свою грубость, весьма учтиво сказав: — Откуда же мне знать, какой мысль родится в столь умная голова, как у вашего превосходительства?
— Я решил отправить девочку в город Лёче и поместить в пансион Матильды Клёстер.
— Не может быть! — изумленно воскликнул господин Кендель.
— Да, я так решил, потому что крепость есть крепость. Когда идет война, здоровый воздух нужно искать не в сосновом лесу, а в укрепленном городе, обнесенном прочными стенами.
— Гм. Мой дочь тоже там, в Лёче, но я для бюргеров — ничто. Меня они просто презирают. А вот ваше превосходительство — враг, на который они очень сердита. Как же быть с этим?
— Бюргеры и не будут знать, чья она дочь.
— Не полагайтесь на это! Саксонца не обманешь. У саксонца сто ушей, сто носов, сто глаз и два ума! Он все знает.
Гёргей угрожающе поднял кверху палец.
— Тогда и госпожа Кендель узнает: кто такой Хилил-паша. Зуб за зуб, господин Кендель! Ведь моя тайна, если только я сам не открою ее, может раскрыться только через вас.
— Да пусть лучше разрежут меня на кусочки! Хотя я предпочитай быть в один кусок…
— Ну, тогда и я буду нем, как могила.
— Вы только, пожалуйста, диктовать, что я должен делать. Все, что под силу человеку, Кендель сделай. А уж что Кендель сделал — это будет чистая работа, сам царь Соломон не находить в ней ни сучка, ни задоринка.
— Отлично. Итак, вы отвезете девочку к Матильде Клёстер и поместите мою Розалию в пансион под именем… ну скажем — Розалия Отрокочи.
— Угу! Начинай понимать.
— Два раза в год вы будете вносить за нее плату и снабжать всем необходимым. Издержки я, разумеется, буду вам возмещать. Если же мадемуазель Клёстер пожелала бы получить более подробные сведения…
— Как соврать — это уж поручите мне! Оставьте и на мою толю хоть какой-то удовольствий. Долгий путь, скушный путь — заслуживает награда. Вопрос: когда отправляться? Сейчас же?
— Может быть, лучше завтра утром?
— Плохо. Мне бы поскорее уже овес закупать! Ну да ладно. Утром так утром. Вернее, чуть свет, пока еще никто не просыпаться. Я так всекта делай.
Но тут Кендель хлопнул себя ладонью по лбу:
— Беда, большой беда приходил мне на ум.
— Овес?
— Не овес, а змея подколодный! Моя жена! Ведь барышня Гёргей узнает меня, что я — Хилил-паша. Я лично с нею расковаривал. Барышня будет говорить моей точери, а моя точь моей жене, и приходил мой конец!
Гёргей задумался.
— Может быть, лучше поручить лесничему Варге отвезти Розалию в пансион? Он, на мой взгляд, честный, хороший человек. Прежде чем прийти сюда, я уже думал о нем.
— Варга не годится, — покачал головой Кендель. — Люди они, верно, честные, но в такой деле нужна осторожность. Можно доверит его только дворянину!
— А если так сделать… — продолжал Гёргей вслух обдумывать свой план. — Вы доставите Розалию в Лёче, но не сами отведете ее в пансион мадемуазель Клёстер, а поручите это вашему доверенному. Тогда Розалия могла бы говорить в пансионе о Хилил-паше, но тайну эту знали бы по-прежнему только мы с вами, потому что любые разговоры о Хилил-паше еще не дали бы в руки вашего доверенного ключа к моей тайне.
— Конечно, но у меня в Лёче нет доверенного.
— А вы не знаете некоего Петера Салюциуса, который поселился в Лёче этой зимой? Он так называемый «стряпчий». Такие люди уже давно есть в Буде, в Кашше, в Пожони. За хорошую плату они берутся вести в судах тяжбы, хлопочут и по другим делам. Салюциус уже бывал и у меня в Гёргё от имени вызванных в суд ответчиков.
— Как же, знаю я этого стрекулиста! — воскликнул папаша Кендель. — Я ему как-то раз поручил взыскать долг с красильщика Конрада Крумхольца. Сто двадцать восемь форинтов золотом. Скажу прямо, плачевный вид имели — нет, не Крумхольцевы ткани, — а мои требования к нему. Вот я и говорю Салюциусу: дело сомнительное, но попробуй, приятель, прижать красильщика покрепче, выручка пополам. Вдруг должник мой испугается и отдаст. Я и все бумаги передал Салюциусу в руки, и договор с ним заключил насчет половины выручки. На троицын день встречаю его на рынке, спрашиваю: «Ну, как, Салюциус, сделал что-нибудь?» — а он, наглец этакий, отвечает: «Сделал все, что мог. Свою половину долга взыскал, но с вашей ничего не выходит. Попробуйте сами с него получить». Нет, с таким прохвостом я не хочу иметь никакого дела! Зато есть у меня в Горафалве, ваше превосходительство, родная сестра — Анна. Вдова. К ней-то я и отвезу барышню и скажу: «Оденься, сестричка, покрасивее и поедем со мной в Лёче. Отдашь вот эту девочку, Розалию Отрокочи, — правильно я сказал? — в пансион Матильды Клёстер и заплатишь, что за нее там потребуют. Сестра Анчурка терпеть не может моей жены и вот уже пятнадцать лет с ней не разговаривает. Так что она уж ничего не выболтает. Ну, как? Хорошо будет?»
Гёргей схватил Кенделя за руку и крепко потряс ее.
— Вот это, действительно, хорошо! А вдобавок я предупрежу Розалию, какие опасности нам будут угрожать, если она проговорится. Дочка у меня умная. Уверяю вас, она все поймет. А вы, сударь, окажете мне такую услугу, что я вовек того не забуду. Если бы я только когда-нибудь смог отблагодарить вас…
— Отблагодарить меня вы можете хоть сейчас, если пожелаете.
— Я? Чем же? Что могу я дать вам, человеку, у которого есть решительно все?
— Нет, кое-чего у меня нет, а я об этом давно мечтаю.
— Что же это такое? — с любопытством спросил Гёргей.
— Будем друг с другом на «ты», — сказал Кендель тихо, с чувством. — Можете вы это для меня сделать?
У Гёргея мелькнула на губах пренебрежительная усмешка, в глазах вспыхнуло негодование, но тотчас же, преодолев и свою гордость, и презрение, он протянул Кенделю руку.
— Почему же не могу? — сказал он, впрочем, без всякого восторга, пожалуй, даже грустным тоном, — Ради своего ребенка человек пойдет на любые жертвы.
Заметим, что «жертву» он принес без большой готовности. Это, однако, ничуть не испортило Кенделю настроения. Он всегда стремился к успеху, а какой ценой покупался, каким путем приходил этот успех, — ему было безразлично, как безразлично растению — помогает ли ему развиваться оранжерейное тепло или жаркие лучи солнца, сияющего в вольных просторах. Кендель тотчас же воспользовался предоставленным ему правом. Хлопнув Гёргея по плечу, он воскликнул:
— Ну, будь здоров, вице-губернатор! Какой ты хитрая, сутарь! Однако, натеюсь, теперь ты, трушочек, останешься у меня на ушин. Очень скромный ушин! — И без лишних слов он бросился Гёргею на шею, обнял и двумя звучными поцелуями запечатлел столь примечательное событие.
Гёргей испуганно попятился и поспешил отказаться:
— Нет, остаться не могу. Супруги Варги — хорошие, добрые люди. Хозяйка уже готовит ужин, и я не хочу их обидеть. Да и с дочерью нужно переговорить, объяснить ей как и что.
— Ах, чепуха! Оставайся. Закатим-ка мы лютче с тобой такой веселый пир, что и эстергомский архиепископ позавидует! — Кендель плутовато прищурил свои рысьи глазки. — Их тоже позовем, братец.
— Кого «их»?
— Одалисок, трушочек! Они станцуют для нас танец баядер! Вот увидишь, какой это прелесть!
Но Гёргей не поддался искушениям, а протянул Кенделю на подпись пропуск для чумной заставы и, договорившись с «Хилил-пашой» о некоторых других делах, покинул «Дворец услад», сунув в руку евнуху, охранявшему ворота, блестящий серебряный талер.
Выпуская его за ворота, благодарный евнух пожелал ему:
— Да совершишь ты, милостью аллаха, свой путь к вратам рая на спине верблюда!
Дорогой лесничий разъяснил Гёргею это непонятное пожелание. По верованиям турок, путь в рай длится много дней. По обочинам дороги стоят тенистые плодовые деревья, но прекрасные, сочные плоды растут высоко от земли — только тот, кто едет на верблюде, может их достать, а путника, идущего пешком, измучит голод. Вот почему турки даже в рай не хотят отправляться пешком.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ Розалия Отрокочи вырастает и становится невестой
Готовился к отъезду Гёргей со многими предосторожностями; поднялся чуть свет и услал Престона с тележкой к сабадкинской корчме, оказав, что хочет пройтись пешком: «Разомну немножко ноги». После легкого завтрака, состоявшего из тминного супа и вареного окорока, он ваял под руку Розалию, трогательно распрощавшуюся с супругами Варга, и отец с дочерью двинулись по тропинке, выводившей к тракту.
Щебетали тысячи пташек, сверкала роса на траве, багряные лучи восходящего солнца уже проникали сквозь темную листву деревьев.
Вдруг уходивших окрикнул Варга.
— Погодите! — крикнул он и побежал им вслед. Была у него в доме редкая и ценная вещь: камень, величиною с грушу, на котором природа прожилками самородного золота нарисовала фигуру женщины — с помощью воображения ее можно было принять за деву Марию с младенцем на руках; в бытность свою в Шелмецбане, где Варга обучался лесоводству, он купил этот камень за несколько грошей у одного золотоискателя. Камень как зеницу ока берегли в доме лесничего, но теперь Варге вдруг пришло в голову, что, может быть, девочке доставит удовольствие эта находка, и он решил подарить ее Розалии. В Гёртё наверняка нет такой диковинки. Вот и будет Роза всегда помнить семейство Варга, где все искренне любили ее.
Пока лесничий вручал Розе подарок, жена его, стоя на крыльце, махала им мокрым от слез платком, и когда девочка, остановившись, повернула к ней свое миловидное личико, Жужика Варга принялась издали кричать ей:
— Напиши, душечка, да поскорее. Не беда, что я не умею читать… Мой Варга шибко грамотный, он прочтет.
Она повторила это раза четыре, но в лесу, где деревья приглушают человеческие голоса смутным шумом своей листвы, слов нельзя было разобрать.
Но вот путники расстались, наконец, с Варгами и двинулись дальше. Дойдя до белого обелиска, они остановились. Гёргей присел на подножие памятника, а Роза принялась собирать полевые цветы: ромашки, колокольчики, васильки, и нашла даже белый гриб, прежде чем подкатила запряженная парой лошадей тележка Кенделя; на козлах сидел сам хозяин в потрепанной парусиновой куртке и грошовой соломенной шляпе.
Возле обелиска Кендель остановился:
— Доброе утро, доброе утро, дружок вице-губернатор! Как исфолил спать? Не тумал, что ты уже стесь, тумаль еще спишь. Ну садись. Взбирайся и ты, доченька.
Кендель резво спрыгнул с рессорной тележки, взял девочку за талию и, воскликнув: «Гоп-ля!» — подсадил ее на сиденье. Он чувствовал нежное тепло юного тела, биение сердца Розалии, аромат ее шелковистых волос, но от мыслишек, еще вчера вертевшихся в его голове, не осталось и следа. Теперь он питал к этой девушке только нежность, дочь знатного господина, которую вверили ему, не могла быть для него предметом вожделений. Самый закоренелый пьяница, стоя у алтаря перед чашей со святыми дарами, не испытывает желания выпить, каким бы ароматным и соблазнительным ни было налитое в чашу вино.
Гёргей уселся в тележке рядом с дочерью и повел с ней разговор о разных пустяках. Розалия была уже обо всем предупреждена и теперь вела себя как взрослая девушка, вступающая в жизнь. Едва только вдали показалась корчма, вице-губернатор сошел с тележки и простился с дочерью и господином Кенделем.
— Кто знает, когда я тебя еще увижу, Розика! Но мысленно я всегда буду с тобой. Куда бы ни забросила меня судьба, пусть даже на тот свет, я буду всегда оберегать тебя! Пусть сердце твое будет добрым, дитя мое, но воля твердой. А теперь дай мне на прощание вот этот цветок.
Из глаз Розалии покатились слезы. Она протянула ему пучок полевых цветов, прижала к себе голову отца и прошептала ему на ухо:
— Знаешь, о чем я думала? Отвези, папочка, эти цветы на могилу того человека, которого ты застрелил и из-за которого теперь и тебе и мне надо скрываться и скитаться. Мне кажется, тогда он простит тебя, и все снова будет хорошо. А тебе я дам вот этот хорошенький грибок.
Гёргей, не в силах ответить, молча взял у нее цветы и гриб а направился к корчме, где его ждал Престон.
В Сабадке они предъявили бумажку, подписанную Хилил-пашой, и их беспрепятственно пропустили через чумную заставу.
— А теперь гони, Престон! Не жалей лошадок!
Не успели они доехать до окраинных домиков Римасомбата, как их обогнала тележка Кенделя.
— Провалиться мне, — обернувшись, бросил своему седоку Престон, — если это не господин Кендель!
— Да? — прикинулся удивленным Гёргей. — У тебя отличное зрение, Престон! А кто же это рядом с ним?
— Кажется, его жена.
— Гм… И впрямь у тебя отличное зрение.
Кендель был прирожденным дельцом. Он не поленился бы наклониться за ломаным грошом, валяющимся под ногами, хотя с удивительной легкостью разбрасывал вокруг себя тысячи форинтов. Дела свои он вел с широким размахом. Даже его мотовство оборачивалось для него доходной статьей. Он удивительно ловко умел загребать огромные суммы и при этом казаться простоватым, но деньги как будто чуял даже под землей, — так овцы инстинктом или по вкусу травы сбиваются в кучу именно на том месте пастбища, где в почве залегает соль, и начинают жадно лизать землю. Господин Кендель провел всего несколько часов в Римасомбате, но за это время успел перекупить у торговцев весь овес (ведь если куруц не ходит пешком, то конного куруца и лабанец может догнать только верхом на коне!), у торговцев скотом он скупил волов и заключил с ними контракты на будущее время, а затем помчался в следующий город. Так, совершая сделки по пути, он уже почти добрался со своей красивой спутницей до сестры, как вдруг в роще Лесковой на расстоянии двух выстрелов от овечьей кошары наперерез ему из густых зарослей выскочили два страхолюдных словака — в лаптях, грязные, в широкополых шляпах, украшенных ожерельем из ракушек, с пистолетами и ножами, заткнутыми за наборные пояса, надетые прямо на голое тело.
— Стой! Стой! — угрожающе завопили они.
Один из них схватил под уздцы коренника, а другой быстро обрезал постромки и ременные гужи. Папаша Кендель, не потеряв присутствия духа, попробовал договориться с разбойниками добром.
— Что вам нужно, ребятки? Уж не собираетесь ли вы ограбить меня? Я бедный человек, у меня нет ничего… Я везу вот эту больную девочку, — из Ошдяна везу, хочу спасти ее от чумы. Что ты делаешь, парень! А ну, убери нож. Зачем причинять людям лишний ущерб: резать сбрую? Ну, есть у тебя, душа, сынок? Ведь я и не думаю убегать. Стою. Давай поговорим по-хорошему. Столкуемся. — Повернувшись затем к смертельно-бледной Розалии, дрожавшей от страха на заднем сиденье тележки, Кендель по-венгерски сказал ей: — Не нато пояться, барышня, — а по-словацки, чтобы разбойники слышали, добавил: — Не бойся. Они не станут обижать нас. Они добрые люди. — Затем он снова обратился к грабителям: — Денег у меня немного, форинта четыре наберется, не больше, я готов разделить их с вами, я же понимаю — вам надо. Ну как? Ладно? Или и мне достать пистолет?
— Молчи, старый хрыч, и не шевелись, если хочешь жить! — заорал на него один из грабителей. — Не видишь, что ли, нам кони твои нужны?
— О, боже! Смилуйтесь, не оставляйте нас так, посреди дороги, — пожалейте старика и больного ребенка! Не отнимайте лошадей, сынок! Лучше уж убейте. Ведь и вы же люди, и вас носила мать под своим сердцем.
— Не болтай! Говорить ты, видно, мастер! Не твое дело, кто нас носил под сердцем, — нам важно, чтобы эти две клячи пронесли нас на своей спине: за нами гонятся жандармы, — отвечал разбойник, — тот, что был пониже ростом. — Он вскочил на пристяжную, его сообщник — на коренника, и, не слушая причитаний и угроз Кенделя, они ускакали вниз по лесистому склону горы.
Кендель кипел от гнева и обиды, ругался, рвал на голове волосы, а затем, спрыгнув с тележки, попытался сдвинуть с места большущий камень, чтобы пустить его вниз по склону и убить им хотя бы одного из бандитов. Но камень и не подумал пошевелиться, и старик мог только беспомощно скрежетать зубами.
Розалия, видя, что нападавшие умчались, осмелела, страх уступил место любопытству:
— Дяденька, это кто был? Разбойники?
— Конечно, разбойники, чтоб им ворон глаза выклевал!
— Настоящие разбойники?
— Еще какие! Наверное, из шайки знаменитого Шафраника. Ай-ай!
— Но ведь они же не убили нас!
— Неважно. Они угнали наших лошадей.
— Чтобы убить их?
— Какое мне дело, на что им мои кони! — сердито отвечал старик на столь наивный вопрос. — Плохо, что они их угнали… Как нам теперь быть?
Действительно, было не очень-то приятно очутиться в лесной глуши, в десятке верст от ближайших селений, когда солнце вот-вот скроется за лесом. Господин Кендель беспокойно посмотрел на восток, на запад. В лесу царила торжественная тишина. Даже топота угнанных лошадей не было больше слышно. В небе плыла, надвигалась черная туча, грохотали раскаты грома, и уже молнии чертили свои мгновенные огненные зигзаги. Собиралась гроза.
— Все, все против нас! — ворчал Кендель. — Даже бог и тот…
— Может быть, помолимся ему? — спросила девочка, молитвенно складывая ручки. Вместо ответа Кендель сам впрягся в тележку, но не в силах был сдвинуть ее с места.
— Нет, не могу. Стар уж я для такой работы, — вздохнул он сдаваясь.
— Ну, тогда пойдемте пешком? — предложила Розалия. — Я люблю ходить пешком.
— Нельзя! — прохрипел Кендель. — В тележке лежат мои золотые и серебряные коровки и те контракты, что я заключил по дороге. Экая досада! На бумаге у меня чуть ли не тысяча волов, а на деле ни одного годовалого бычка, который мог бы тащить тележку. Нет, нет, то, что лежит в сундучке, я не могу, ни унести на себе, ни здесь оставить! Одна надежда, что за разбойниками и в самом деле гонятся жандармы. Не зря же они, ускакали, даже и не подумав заглянуть в мой сундучок. Давай лучше подождем немножко, и, вместо того чтобы молиться, вы, барышня, лучше покричите погромче, позовите на помощь. Может, жандармы услышат и приедут на голос. Я и сам покричал бы, да только я уж вконец охрип.
— Караул! На помощь! — вняв просьбе старика, закричала Розалия, но голос ее нимало не нарушил лесного спокойствия: даже дрозд и тот продолжал насвистывать как ни в чем не бывало.
Они прислушивались, но ниоткуда не доносилось ни шороха, ни малейшего движения.
— Сюда бы мою горластую Мофику! — сказал самому себе Кендель. — А так бесполезно.
— У вас нет при себе пистолета? — спросила Розалия.
— Есть. Как не быть?
— Ну, тогда выстрелите. Может быть, он сильно грохнет.
— Гм, конечно! Только я больше для острастки ношу с собой пистолет и еще никогда из него не стрелял. Хоть и стыдно в этом признаться, а я не умею стрелять. Боюсь.
— Как? Вы боитесь выстрелить? — воскликнула Розалия и засмеялась, в первый раз с той минуты, как они выехали. — Давайте мне, я выстрелю!
Господин Кендель достал из сундучка пистолет и, держа его подальше от себя, протянул девушке.
— Только, ради бога, осторожнее, не пораньте себя! Что я тогда скажу вашему папеньке, моему хорошему другу? О, если бы он только знал, в какой мы беду угодили, в какую опасность!
Розалия смело взяла в руки пистолет с серебряной рукояткой, украшенной чеканной арабской вязью, привстала на тележке и выстрелила в направлении трех деревьев, выросших рядышком. Раздался громкий выстрел, и пуля вонзилась в среднее из трех деревьев.
Посмотрев, куда попала пуля, Кендель и Розалия только теперь заметили, что в стволе среднего дерева сделано углубление, а в нем укреплен образок — лик девы Марии, а чуть пониже — лампадка. Простой народ так обозначает места, где когда-то произошло какое-нибудь несчастье. Возле этого дерева лет десять тому назад кто-то из мести убил одного горбуна, богатого овчара, а в знак того, что это было сделано не с целью ограбления, убийцы положили найденные при овчаре шестьдесят серебряных талеров ему на горб. Позднее родственники убитого повесили на этом месте образок и в день всех святых зажигали под ним лампадку. Кендель вспомнил теперь об этом случае и невольно направился к дереву. Приблизившись, он покачал головой.
— Черт побери! — выругался он. — В образок угодила ваша пуля. Прямо в сердце богоматери!
Розалия устремила на образок взгляд, полный ужаса, словно совершила страшное преступление.
— Какое несчастье! — пролепетала она, задрожав всем телом. — Ведь это дурной знак.
— Пусть! Я человек не суеверный. Недаром же, милочка, умные люди говорят: — «Пуля-дура, куда летит — не видит». Больше того, ваша пуля напомнила мне, что несчастье-то произошло с овчаром, и я сразу вспомнил, что тут неподалеку находится овчарня Сирмаи. А где овчарня, там и чабан. А у чабана если уж не кони, то хоть ослы имеются. Так вот, я пойду сейчас к той овчарне, — до нее рукой подать, — да и куплю у чабана ослов. Или, на худой конец, позову кого-нибудь на помощь! Вы пока оставайтесь здесь и присматривайте за тележкой. Если начнется гроза, от повозки не уходите, под деревья не прячьтесь, — молния может в дерево ударить.
Оживившись от спасительной мысли, старик с проворством молодого человека стал карабкаться вверх по склону горы, но изредка останавливался, чтобы откашляться, потому что страдал одышкой. Дорогой он выломал себе в орешнике посох и, оглянувшись на свою осиротевшую тележку, увидел, что Розалия уже не сидит на его сундучке, а, став на колени перед образком богородицы, молится. Заходящее солнце, нимало не заботясь о том, что в другой половине неба мчатся черные тучи (должно быть, и на небе нет единодушия), окружило золотым венцом голову девочки. Издали Кендель своими слабеющими, старческими глазами не мог разобрать; где в этом ореоле — золотистые волосы девочки, а где — солнечные лучи.
— Молись, молись, дурашка! — насмешливо пробормотал старик. — Сначала оскорбила деву Марию, навлекла на себя ее гнев, а теперь молишься ей! Да если она и простит тебе, что от того толку?
Но девочка верила в доброту матери божьей. Голубые глаза ее были с мольбой устремлены на доброе лицо девы Марии и на младенца, улыбавшегося на руках у матери.
— Матушка-заступница, дева Мария, прости мой грех, прости, что моя пуля ранила пречистое твое тело. Не хотела я этого. Не наказывай меня, потому что я и без того несчастная. Нет у меня матушки, а батюшка тоже несчастный. Я знаю, ты сидишь подле престола господнего, и бог с тобою советуется, когда определяет нашу судьбу. Я знаю, что твой сыночек, как подрос, умер ради нас, людей. Скорбь твоя была так велика, что весь мир принял ее к сердцу, значит, и твое сердце должно быть таким же великим, чтобы для нас для всех нашлось в нем местечко, в том числе и для меня, бедной сиротинки. Прими же меня в свое сердце, дева Мария, прости мой грех, а если ты не можешь, попроси господа. Он всеведущий, пусть он заглянет в мою душу и скажет тебе, что я хорошая! Попроси его, пожалуйста, и окажи мне милость и спаси меня, выведи из темного леса, мне в нем так страшно. Пошли нам помощь, пресвятая богоматерь — Безмолвно повторяла Розалия про себя эти слова, а может быть, только думала так, но вдруг все запело вокруг, будто церковные служки зазвонили в свои колокольчики: как-то раз девочке довелось побывать в ошдянском костеле, и там она видела, как церковные служки суетились подле алтаря, помогая священнику.
Розалия встрепенулась, стала оглядываться по сторонам, но Кенделя не было видно нигде. Кто знает, где-то он ходит теперь. А звон колокольцев — это не сон! Динь-динь, дин-динь! — доносилось все отчетливее, все яснее. И вдруг над гребнем косогора показались две черные конские головы, а за ними — повозка с рогожным верхом, похожая на те колымаги, в каких коробейники из Сепеша и поныне ездят по задунайским комитатам с кружевами да всякими тканями. Повозки эти назывались тогда «молиторисами» и были известны по всей Венгрии. Кроме них, разве только торговцы постным маслом да воском, торговцы птицей из комитата Ваш да гончары из Кёрмёцбани делали такие огромные концы через всю страну. Люди средних сословий пользовались молиторисами для дальних поездок. Господин Молиторис рассылал свои повозки до самого Белграда, Буды и Вены, собирая путников по дороге, и группировал их затем по направлениям. Осенью фирма «Молиторис» доставляла студентов в университеты, а летом развозила их по домам, на каникулы. Большим предприятием был «Молиторис»! Маршруты его дилижансов вырабатывались заранее, словно рейсы морских кораблей. Ежедневно из Лёче отправлялись в различных направлениях четыре такие повозки, и им совершенно точно предписывалось, где кормить лошадей, где останавливаться на ночлег; каждый экипаж должен был неукоснительно соблюдать расписание чтобы пассажиры, которые подсаживались по дороге, могли точно знать, когда ждать прибытия повозки. Седоков, возвращающихся домой, фирма «Молиторис» даже снабжала деньгами на дорожные расходы, и только уж дома путник расплачивался. Лёченский городской сенат строго следил за деятельностью этого транспортного предприятия и предписывал, сколько пассажиров можно взять в нагруженную повозку и сколько — в обратный путь, когда она шла почти порожняком. В крайнем случае разрешалось брать на одного пассажира больше, чем их могло вместиться в молиторисе, а поскольку забота городского сената распространялась также и на лошадей, в правилах предусматривалось, что в таких случаях пассажиры обязаны поочередно идти пешком рядом с повозкой, но какое именно расстояние — это уж предоставлялось решать самим путникам. (Вероятно, хотели наглядно доказать, что свобода делает граждан, счастливыми!)
По-видимому, на сей раз имел место именно такой случай — рядом с возком, обтянутым рогожей, шагал приземистый человек в поношенном господском платье и с зеленой веточкой на шляпе. Вниз, под гору, притомившиеся на подъеме кони стали проворнее перебирать ногами, возок покатился быстрее, колокольцы веселее зазвенели на хомутах лошадей, и тогда пеший путник немного приотстал. Это, однако, нимало не опечалило его, и он даже затянул песню, которую лесное эхо безуспешно попыталось повторять за ним:
Сепеш, Сепеш, край мой милый, Целый век ты знаменит…Появление повозки казалось для Розалии просто чудом. «Это дева Мария ниспослала мне помощь! — подумала она. — А вдруг видение исчезнет, растает!»
Девочка закрыла глаза, но звон колокольцев и цокот конских копыт не смолкли. Может быть, это все же не сон? Но вот все умолкло, кончилось…
Розалия открыла глаза. Крытый возок молиториса стоял рядом с ее тележкой, а из-под рогожного навеса сперва выглянул, в затем спрыгнул на дорогу стройный, белокурый юноша.
— Что случилось, барышня? — спросил он звонким голосом.
Сердечко Розалии забилось, горло сдавило, и она едва смогла вымолвить в ответ:
— На нас напали разбойники.
— Я так и подумал! Вон сбрую-то как порезали! А лошадей угнали? — Юноша беспокойно оглянулся по сторонам. — Что сталось с вашими близкими? Неужели вы тут совсем одна, бедняжка?
— Со мною здесь друг моего отца. Он ушел на ближнюю овчарню достать лошадей.
— А кучер?
— Кучера не было, он сам правил лошадьми.
Молодой человек окинул девушку взглядом с ног до головы, в от него не ускользнули ни изящество ее одежды, ни благородная осанка.
— Друг вашего отца?.. Так кто же вы сами?
Розалия замялась и покраснела до корней голос. Впервые в жизни она должна была солгать.
— Не бойтесь меня! Я сочувствую вам и хочу помочь.
— Меня зовут Розалия Отрокочи, — сдавленным голосом прошептала девушка и поклонилась — чопорно, торжественно, как ее учила тетя Катарина.
— А мое имя — Фабрициус, — отрекомендовался с поклоном юноша.
Тем временем уже и все остальные пассажиры молиториса повыпрыгивали из возка.
В молиторисе ехало веселое, хотя и довольно пестрое общество, наслаждавшееся путешествием больше, чем нынешние пассажиры скорых и курьерских поездов. Кучер Тропке, в тысячный раз проделывавший этот путь, рассказывал седокам обо всем интересном, что встречалось тут: если где-нибудь в стороне от дороги стояло огромное дерево, у Тропко уж обязательно была связана с ним какая-нибудь занятная история. При виде древних замков, служивших теперь убежищем только совам, ему непременно вспоминались красочные легенды. Вон на том дереве, например, повесился знаменитый Пали Сумрик, а на этом лугу встретились в кровавом поединке Габор Андраши и Петер Балаша, — оба они были влюблены в жену путнокского старосты, и один из них должен был умереть. А вон там, в рощице, лет пятьдесят назад мальчишка-пастушонок собирал грибы. Грибов он, правда, не набрал, но зато нашел в земле железное кольцо. А как стал тянуть за кольцо да раскапывать землю вокруг, оказалось, что это не кольцо, а ушко от котла, а котел доверху полон золота. Мальчишка тот положил основание дворянскому роду Серенчи *, ныне его сын занимает пост вице-губернатора в Торне!
За долгую дорогу пассажиры, сидевшие в тесном возке, привыкали друг к другу и становились как бы одной семьей, — иногда плохой, сварливой, но все же семьей, и случавшиеся между ними ссоры были своего рода развлечением, спасали путешественников от скуки.
Но если Тропко оказался знатоком романтических достопримечательностей, то кондуктор Клебе, правая рука самого господина Молиториса, блистал географическими познаниями, — он знал, в какую долину сбегает вот эта речка и чем знамениты окрестные селения: Жаложань — отличным минеральным источником, от одной кружки этой воды человек пьянеет и пускается в пляс; в Левени девушки так хороши собой, что турецкий султан каждые четыре года посылает туда своего агента покупать у родителей за баснословные деньги жен для султанского гарема. Дядюшка Клебе успел побывать повсюду и знал о каждой маленькой речке, откуда и куда она течет и что в ней водится: в этой — раки, в той — форель, а ниже по течению — карпы. Знал он и такую речку (где-то возле Майцы), на дне которой лежит золотой песок, но немец, — черт бы его побрал (хоти Клебе был немец, тем не менее он говорил именно так!), — да, немец запретил мыть золото из речного песка, а сам теперь ищет, где в берегах речки залегает золотоносная жила.
Внезапная остановка молиториса заставила его пассажиров перейти от интересных теоретических рассуждений к житейским делам.
— Что это? Что здесь произошло? — заговорили они все разом. — Кого-то ограбили!
Веснушчатая, но очень стройная, миловидная горничная, нанявшаяся в услужение к графам Чаки и ехавшая теперь к ним в поместье, взвизгнула и, теряя сознание, постаралась упасть в объятия медника-подмастерья. Путники растормошили даже бродячего часовщика, который, приведя в движение все часы чёмёрского замка, вот уже целый день лежал в повозке без движения и спал беспробудным сном:
— Вставайте, господин Киндронаи! Грабители напали. Киндронаи вскакивает и хватает под мышку свой деревянный ящичек с инструментами.
Толстая пожилая женщина, раньше других выпрыгнувшая из повозки, испуганно всплескивает руками и кричит:
— Господи, уже второй случай. Где разбойники?
На нее, однако, никто не обращает внимания, хотя там, откуда эта дама ехала, она была весьма важной особой, — ведь это знаменитая ученая повитуха, госпожа Вильнер, ездившая к роженице в феледское имение.
На Розалию обрушилась сразу целая лавина вопросов, а она все удивлялась, видя, как из рогожной конуры, подобно зерну из решета, сыплются и сыплются люди. Один красивый господин, купец из Корпоны, услышав о разбойниках, выхватил из кармана пистолет, а подмастерье-медник, малый крепкий и смелый, принялся засучивать рукава, обнажая здоровенные, мускулистые ручищи.
— Где они? Куда побежали? Не грозились вернуться? Эх, сотни форинтов не пожалел бы, только бы воротились!
— Сколько их было, девочка?
— Двое, — отвечала Розалия.
— Только-то? — разочарованно сказал медник. — Ну, значит, не посмеют вернуться! Можете, папаша, спрятать ваш пистолет.
— Пойдемте лучше спать, — предложил часовщик.
— Ступайте спите себе на здоровье. Какая от вас помощь! Здесь только мы двое в счет.
(Он имел в виду себя и вооруженного пистолетом купца.) Хвастовство медника рассердило приземистого мужчину, того самого, что давеча шагал, напевая, рядом с повозкой. А был это не кто иной, как псаломщик Даниэль Моличка из села Рожнё. Он ехал в Лёче на пробу голосов — в городе недавно скончался псаломщик от какого-то воспаления. Рассказывая об этом, Моличка из уважения к своему предшественнику молчал, что бедный псаломщик умер не от воспаления легких, почек или мозговых оболочек, а воспалилось в нем все нутро от самой обычной водки-сливянки.
— Ну, ну, землячки, полегче на поворотах. Я ведь тоже не робкого десятка! — запротестовал Моличка. — И потом, откуда вам известно: вдруг именно у меня-то и есть средство против разбойников? Понадежнее вашего, сударь, пистолета или твоего, парень, кулака!
— Уж не ваш ли красный нос? — язвительно полюбопытствовал медник. — Только ведь разбойники не быки, они не кидаются на красное!
— Псалом «Господи, ты твердыня наша» — вот мое верное оружие! Как запою его, так в целой Венгрии не найдется ни одного разбойника, который посмел бы поднять на нас руку. Probatum est.
Красавец купец ухмыльнулся, а Клебе и дородная повитуха стали допытываться у Розалии: «В какую сторону убежали разбойники?», «Что забрали с собой?», «Как были одеты?», «Молодые или старые?», «Давно ли ушел ваш дядюшка?» и «Какие у него надежды достать лошадей?»
— Дядюшка сказал, что попытается купить лошадей или ослов. Он рассчитывает, что у чабанов чаще всего бывают ослы.
— Значит, у вашего дядюшки есть деньги? Деньги, стало быть, у вас не отняли?
— Нет. Хотя дядюшка сам предлагал им деньги.
— Как? Разбойникам предлагали денег, а они отказались?
— Странно!
— Да, дядюшка сказал, что у него есть четыре форинта.
— Четыре форинта! — воскликнул бродячий часовщик. — Это, конечно, мало. Разбойники были, как видно, люди с достоинством. За такие гроши даже я не возьмусь чинить старые часы.
— А я вот диву даюсь, как это они вас, милочка, не похитили? — небрежно заметила дородная повитуха, разглядывая Розалию. — Разбойники охочи до таких миленьких девочек! Впрочем, на вкус и цвет товарища нет. Когда я была в вашем возрасте…
В этот момент к повитухе подскочил возмущенный Фабрициус:
— Госпожа Вильнер! Как вам не стыдно! Разве вы не видите, что перед вами девушка из благородной семьи?
— Я знаю только, что ее бросили посреди дороги, — огрызнулась повитуха. — И что в мое время юные студенты не были такими заносчивыми, как вы, господин Фабрициус! А цыплята назывались цыплятами. Верно, и я была таким же вот цыпленком, когда в Лёче, на площади, как раз перед домом Тэёке, среди бела дня меня подхватил к себе на седло один капитан лабанцев и помчался! К счастью (а может быть, к несчастью — кто знает?), мой покойный отец успел поднять тревогу. Городские гайдуки вскочили на коней и бросились за нами в погоню. Одному богу известно, что было бы со мной, если бы гайдуки не настигли того офицера. А он, видя, что погоня все ближе, горячо поцеловал меня в уста, потом еще раз в щеку и с глубоким вздохом (как сейчас слышу этот вздох!) опустил меня, несчастный, на землю. И зря вы, душечка, ухмыляетесь, — повитуха воинственно повернулась к горничной графов Чаки, — потому что все так и было, как я рассказываю! Только уж на моем лице не сыскать было ни единой веснушки.
Клебе, контролер молиториса, недовольно пожевывал ус.
— Если у вашего дядюшки всего-навсего четыре форинта, трудновато ему будет купить себе осла. Плохи ваши дела, скажу прямо.
— Как же быть? — задумчиво проговорил медник. — Жаль мне эту славную девчурку.
— Давайте сложимся в их пользу, — предложил красивый купец. — Я даю от себя один талер.
— Не думаю, что складчина им поможет, — вмешался Фабрициус. — Когда надвигается гроза, а путник попал в густой лес, то ему безразлично, четыре у него форинта в кармане или больше. Мы — христиане, и у нас нет иного выхода, как взять несчастных с собой, по крайней мере, до ближайшей деревни, где они могут найти себе приют.
— Я возражаю! — грубо выкрикнул псаломщик. — Повозка и без того битком набита, даже numerus clauses[40] превышено. Нечего нам изображать из себя добряков, молодой человек! И так все время кому-нибудь приходится плестись пешком. Какой же дурак будет теперь еще и из-за этой девчонки путешествовать на своих на двоих?
— Хорошо, этим дураком буду я, — отвечал Фабрициус.
— Гм, — пробормотала госпожа Вильнер. — Видать, понравилась кошечка.
Розалия подняла на Фабрициуса полный благодарности взгляд и лишь тогда увидела, что он очень красив. На сердце у нее стало удивительно тепло. Теперь ей не страшен был никто на свете.
Все посмотрели на Клебе, но тот только пожал плечами.
— Порядок есть порядок! Если все пожелают…
— Давайте проголосуем! — настаивал добрый купец.
— Я — против! — упорствовал псаломщик.
— Будьте же благоразумны, — урезонивал его купец, протягивая ему кисет с табаком. — Нужно и о душе своей подумать.
С возмущением оттолкнув кисет, псаломщик заявил:
— Ничем нельзя меня подкупить. Если уж я к чему приложу…
Тогда купец достал свою фляжку, прикрепленную ремнем к борту возка, и протянул ее псаломщику.
— Вот лучше к чему приложитесь! Сразу почерпнете из нее любовь к ближнему.
Псаломщик улыбнулся и, чтобы убедиться, можно пи что-нибудь почерпнуть из фляжки, встряхнул ее разок-другой. Внутри заплескалось.
— Есть! — воскликнул он и, приникнув губами к горлышку, не отрывался от него до тех пор, пока не опорожнил всю флягу. Сколько глотков нектара христианской любви набралось в ней, можно было только догадываться по движению его кадыка.
— Ну, что теперь скажете? — спросил купец.
— Скажу, что хорошо.
— Да я не о вине! Я насчет девушки. Поможем ей?
— Я и говорю: хорошо!
Папаша Клебе, заправившись щепоткой нюхательного табачка, пустился рассуждать вслух:
— Девочка, пожалуй, уместилась бы в возке, и я готов взять ее. Но, увы, это невозможно. И, значит, спор ваш — пустая болтовня! Девочке нельзя уехать отсюда, пока не вернулся ее дядюшка! А его мы, и в самом деле, не можем взять с собой. А если бы даже и могли, все равно его здесь нет… — Клебе опять зарядил нос щепоткой табака и стал от этого еще сообразительнее. — Дядюшку пришлось бы дожидаться бог знает сколько времени. А какой в этом смысл, когда надвигается гроза и всякое живое существо спешит найти себе хоть какое-нибудь пристанище? Но если бы мы и могли взять с собой ее дядюшку, окажись он здесь, а над нашей головой не собирались бы тучи, то все равно — разве согласился бы он бросить на дороге свою тележку? Нет! Значит, ничего мы не можем для них сделать. Душа моя скорбит и сострадает, но разум говорит ей: «Молчи!»
— Правильно! Поехали! — крикнула повитуха кучеру Тропко.
Рассуждения Клебе быстро переубедили путешественников. Теперь уже и медник, и купец говорили: «Что правда, то правда. Молиторис тут ничего не может поделать…»
— По местам! — приказал Клебе. Розалия взглянула на Фабрициуса.
— Подумайте еще, дядя Клебе, — сказал студент смиренным голосом. — Прошу вас!
— Я уже все обдумал. Трогаемся. Садитесь.
Кучер взмахнул кнутом. В этот миг несколько тяжелых дождевых капель упали на рогожную кровлю возка.
Тогда Фабрициус вскинул голову и уже резким, строгим тоном произнес:
— В таком случае я приказываю вам, Клебе: стойте здесь с вашим экипажем и ждите, пока не получите от меня другого указания! Понятно?
Пассажиры переглянулись. Боже! Неужели студент рехнулся? Не иначе как эта маленькая коварная колдунья успела лишить его рассудка!
Папаша Клебе рассмеялся.
— Кошке своей приказывай, а не мне! — проворчал он, сокрушенно покачав головой. — Вы только посмотрите на него, люди добрые!
Однако Фабрициус достал из кармана бумагу и протянул ее Клебе.
— Прочтите, сударь.
Старик Клебе заглянул в грамоту, пробежал ее своими серыми глазками, быстро перевернул на другую сторону, а затем принялся читать сначала, уже более внимательно. Прочтя, он аккуратно сложил бумагу трубочкой, возвратил ее Фабрициусу и, приподняв шляпу, торжественно произнес:
— Слушаюсь и повинуюсь! Ваш покорный слуга по гроб жизни!
А грамота гласила вот что: «Именем императора предъявитель сего Антал Фабрициус, избранный сенатором города Лёче, объявляется совершеннолетним и может немедленно приступить к исполнению своих обязанностей. Всем гражданам предлагается подчиняться распоряжениям сенатора Фабрициуса».
И псаломщик, и ученая повитуха с удивлением взирали на укрощенного господина Клебе, до сих пор державшего себя в молиторисе настоящим диктатором.
— Уж не чародей ли этот господин Фабрициус? — насмешливо заметила госпожа Вильнер. — Больно быстро вы сложили перед ним оружие!
Но папаша Клебе все еще не мог опомниться от изумления!
— Если бы чародей, так это бы еще полбеды. Чародей повелевает ветрами да тучами, а этот юноша — целым городом. Перед вами ни больше, ни меньше как его благородие господин Фабрициус, сенатор города Лёче!
— Кто это мог вам сказать такую несусветную чепуху? — расхохоталась повитуха.
— Не кто иной, как его величество император Римской империи Леопольд.
Госпожа Вильнер побледнела, испуганно вперила взгляд в глаза псаломщика, которые словно хотели сказать: «Вот когда мы с вами, сударыня, промахнулись!»
Новость привела всех в волнение: на лице Розалии отобразилось своего рода торжество, медник разинул рот от изумления, — так поразило его удивительное свойство государственной власти, которая несколькими строчками грамоты может наделить тщедушного человечка такой огромной силой, что он способен сокрушить вся и всех.
А папаша Клебе самодовольно потирал рукой свой двойной подбородок, словно теребил какую-нибудь ткань, желая определить ее качество.
— Гм, гм! — произнес он в заключение. — Странно, что вы, господин сенатор, вот уж третий день едете с нами и до сих пор даже и не намекнули, кто вы такой. А ведь знай мы это, мы бы избавили вас от многих неприятностей!
Фабрициус скромно улыбнулся.
— Не было в этом необходимости, папаша Клебе. За проезд я уплатил наравне со всеми — значит, и прав у меня не больше, чем у остальных. Да и не желаю я для себя особых удобств. Какое дело «Молиторису» сенатор я или нет? Но когда я увидел, что пассажиры молиториса, которых по многим основаниям можно считать лёченцами, а также и сама ваша фирма собираются бесчеловечно обойтись с людьми, нуждающимися в помощи, я без всякого колебания вступился за честь своего города и стукнул оземь своим новеньким сенаторским жезлом. Мы должны дождаться, пока вернется сопровождающий барышню родственник. Этого требует приличие.
— Как вам будет угодно, господин сенатор!
— Кстати, вон он и сам. Взгляните, барышня, это — он?
— Да, он, — подтвердила Розалия. — И, как видно, ничего он не добился.
Господин Клебе спрыгнул с повозки и приложил ладонь козырьком ко лбу.
— Быть мне кошкой, если это не Гашпар Кендель или сам сатана в его обличье!
И Кендель тоже узнал господина Клебе.
— Эгей, хе! — еще издали закричал он. — Старик Клебе! Ну, хоть разок будет и мне от тебя польза, старина!
Запыхавшийся, раскрасневшийся Кендель, размахивая своим посохом, сбежал по склону холма. Купец смущенно спросил:
— Уж не знаменитый ли это господин Кендель из города Белы?
— Он самый!
Купец захохотал так, что живот у него заколыхался от смеха, а глаза наполнились слезами.
— А я-то собирался для него шапку по кругу пустить! Это для богатейшего-то человека в целом мире! Теперь если у нас в Корпоне прослышат о моем милосердии, то даже грудные младенцы будут смеяться надо мной. Я для него подаяние собрать хотел! Смотрите не проговоритесь ему, не то я со стыда убегу в лес и спрячусь.
Папаша Кендель подошел и по-приятельски пожал руку Клебе.
— Вот, милый мой, ограбили меня! Проклятые разбойники угнали двух моих коняшек. Что прикажешь делать? А тут еще девочка, дорогая сестричка, у меня на шее. Над головой туча, и ночь уже близится. Хуже не придумаешь! Одна надежда была — на осла. Ведь так говорится: «Коль нету под рукой коня, сойдет и ослик для меня». И как же я обрадовался, увидев тебя. Скажи на милость, — говорю я себе, — мой старый друг Клебе!
— Вот спасибо, — обиженно заметил Клебе, — так, значит, это я и есть тот самый «ослик», который «сойдет», коль у тебя «нету под рукой коня»!
— Ну, что ты! Нет, нет! Клянусь честью. Ей-богу! Это я у чабана хотел осла раздобыть, но оказалось, что разбойники и чабана не забыли — навестили беднягу и жену умчали у него! Вернее, она сама умчалась следом за разбойниками. Везет же людям! И он, осел, еще недоволен! Погоди, от радости я все перепутал. Значит, пошел я к чабану, чтобы купить у него осла, думаю: «Коль нет коня, сойдет и ослик для меня», пусть хоть осел тянет мою тележку. А у чабана-то осла не оказалось. Вот я и обрадовался, что встретил тебя. Если тебе когда-нибудь приходилось видеть благодарного человека, то это…
— Не меня, вон кого благодари, — довольно холодно возразил господин Клебе и указал на Фабрициуса, уже вступившего в разговор с Розалией.
— Ах! Глядите-ка, да это ты, Фабрициус-младший? Здравствуй, братец. Вот это здорово! Домой возвращаешься? Понятно. Кончилось учение. Vivant vacationes![41] Каким ты, черт тебя побери, большим стал! — И, снова повернувшись к Клебе, спросил: — Ну, так как же мы теперь?
Однако Клебе ждал распоряжений Фабрициуса.
— Первый вопрос, — сказал Фабрициус, — не согласитесь ли вы, дядюшка Кендель, оставить здесь свою тележку, пока мы из ближайшего села не пришлем за ней лошадей?
— Скорее кости свои оставлю здесь, чем тележку! — возмутился господин Кендель. — И как ты только мог это придумать?
— А что, если мы прицепим маленькую тележку к большой?
— Верно! Вот это умно. Так, по крайней мере, могут разместиться все пассажиры.
— Но что станется с лошадьми? Им-то будет куда тяжелее! А дорога теперь пойдет все время в гору!
— У меня в тележке найдется немножко овса, — весело сообщил Кендель. — Овес прибавит лошадям силенок. А если мы окажемся слишком тяжелы для них — пойдем пешочком.
— Даже если мы все пойдем пешком, то в гору лошади едва ли вытянут две телеги, даже порожние, — с беспокойством в голосе возразил Клебе. — Коняшкам уже по четырнадцати годков, а гнедой еще и на ноги слаб…
Клебе, Фабрициус и в особенности корпонский купец, старавшийся подольститься к богачу Кенделю, сообщили ему, перейдя на венгерский язык, что пассажиры не очень-то горят желанием идти пешком и потому нужно обходиться с ними осторожнее, не доводить дело до открытого бунта: ведь они уплатили за проезд в повозке, и правила предусматривают, что в пути можно заставить идти пешком рядом с повозкой не больше одного из пассажиров.
Однако Кендель пренебрежительно прищелкнул пальцами и отвечал им тоже по-венгерски:
— Чепуха! Ви не уметь управлять чернью. Если ей что-то не нравился, надо придумывай другое, что еще больше не будет ей понравится. И тогда она будет примириться с первым. Например, сейчас ей не нравился, если ходить пешком должны четверо. А мы тогда будем говорить, что на крутой подъем надо будет еще толкать телега, и тогда всем нравиться просто ходить пешком, но не толкать телега в гору…
В словах Кенделя было много мудрости, никто не стал возражать ему, и все уладилось как-то само собой: маленькую тележку прицепили к молиторису, Розалию господин Кендель усадил на заднее сиденье, а сам поместился впереди на своем заветном сундучке и даже взял в руки кнут, словно собирался погонять лошадей. Корпонский купец предлагал Кенделю свое, собственное место под рогожным навесом: ведь столь знаменитый муж должен беречь себя от прихотей погоды; господин же Клебе приглашал в свою повозку Розалию. Однако ни Кендель, ни Розалия не пожелали воспользоваться любезными предложениями, и в конце концов колымага молиториса, натужно скрипя, словно тяжелая баржа, за которой тянется еще и плот на буксире, тронулась с места. Лошади напряглись, у обеих желваками вздулись мускулы — бедняги словно показывали, что лишний груз отнюдь не веселит их. Между тем в западной стороне небосвода загромыхало, будто покатилась пустая бочка по чердаку, — небожители гневались. Но дождь все еще едва накрапывал. Пассажиры молиториса один за другим заняли свои насиженные местечки, и только Фабрициус упорно продолжал идти рядом с кенделевской тележкой, держась за борт. Вначале дорога проходила по ровному месту, а кое-где даже слегка спускалась под уклон, все шло гладко, и Фабрициус, быстроногий, как молодой олень, все не сбавлял шагу, да еще и болтал на ходу с папашей Кенделем, который обстоятельно расспрашивал его: где он успел побывать, в каких университетах и чему учился.
— Я ведь твоего отца знавал, братец! Хороший был человек. Жаль, что рано умер. Ладно еще оставил после себя неплохое состояние. Такого умницу, как он, мне больше не доводилось встречать. Ведь он, понимаешь, наизусть знал весь календарь и титулы всех до единого дворянских родов, названия всех тел небесных: Марса, Юпитера и, как его там, Буяна, что ли? Сначала я удивлялся: и откуда он только мог, сидя здесь на земле, узнать, как они называются? Погоди, какая кличка была у второго пса того кривого пекаря, что жил в доме напротив вас? Кастор? Ну, правильно. Значит, и ту звезду звали не Буяном, а Кастором. Я, между прочим, всегда это путал, когда еще в школу ходил. А учил меня грамоте твой папаша. Он все на свете знал, даже такое, что одному богу положено знать: когда, например, бывает затмение солнца, полнолуние, отчего случается гроза, град — словом, такое, что совершается по господней воле. А то еще нарисует, как были расположены на небе планеты в ту самую минуту, когда у него сын — ты, значит, — на свет появился. Или возьмет да и весь небосвод изобразит, — я сам видел у него. Зато уж на поле при всей своей учености не мог отличить горох от овса. Кстати — овес! Не слышали вы где-нибудь по дороге, что овес продается?
Фабрициус покачал головой, а Кендель продолжал болтать:
— Я так до сих пор и не расспросил тебя о твоем учении: где ты был, чему учился? В университете, говоришь, в Падуе? А до этого в Гейдельберге и других немецких городах? И к какому же делу у тебя больше всего лежит душа? К политике? Хорошо, но только вот что я скажу тебе: это все ваши венгерские да лютеранские глупости! Лезете вы, черт вас побери, туда, куда вас не просят. Важные венгерские господа, например, даже в Англию ради этой самой политики ездят. А там, оказывается, все женщины — плоские, как вобла сушеная.
— Тише, тише, дядя Кендель!
Господин Кендель хлопнул себя ладонью по губам.
— Ой, и в самом деле! Совсем забыл, кто у меня за спиной-то сидит. Но что правда, то правда. Стоило ли ездить туда? Смотреть, да еще чему-то учиться! Ну какой из того прок, что ты, например, познакомился с иноземцами, узнал, как у них все в государстве заведено? Какое тебе до этого дело? Ездил ты на поклонение и в те места, где когда-то учил Мартин Лютер, да где он запустил в черта своей чернильницей… Черти оттуда, конечно, убежали, а какой толк, что вместо них ты побывал там? Лучше бы ехали вы, венгерские студенты, в Вену, если уж собираетесь заняться политикой. Вот где стоят чернильницы, из которых нынче напускают нечистую силу на нашу Венгрию. И не катайтесь вы понапрасну в Берлин да в Болонью! Никчемная это, глупая мода! Не пройдет, и полвека, как вся молодежь хлынет в Вену, вот где теперь будет решаться судьба вашей страны: там ее стряпают, эту судьбу, на императорской кухне. А вы смотрите внимательно да примечайте — чья рука замешивает, варит и печет, по чьей ручище надо ударять.
— Пожалуй, вы правы, дядюшка!
— На мой всглят, эти ваши заграничный поездки такой же глупый затея, как если бы кому-нибудь понадобилось залатать рваный кафтан, а он вместо того пошел бы к соседке посмотреть, как она отглаживает утюгом наволочки на подушка.
— Верно, — рассеянно заметил Фабрициус, — но образованному человеку все же надо иметь широкий кругозор.
— Всего не узнаешь, — упорствовал Кендель.
— Как сказать, — принялся доказывать Фабрициус. — Все, конечно, познать невозможно. Да и не нужно. Достаточно узнать, чего именно не знают и не могут знать люди, и ты уже почти образованный человек.
— Что ты там болтаешь, парень?
— Я утверждаю, что и на земле, и под землей, и вообще под сводом небесным есть много загадочного и странного. Все это можно рассматривать как единую воображаемую сферу. Отдельные ее части уже доступны Познанию, других лишь слегка коснулась Догадка, третьи же — нетронутые просторы, которых еще не достиг человеческий Разум. Вот и все: знайте хотя бы границы этих трех пределов — и больше ничего не нужно. В этом вся суть высокой образованности.
Папаша Кендель не нашелся что ответить, да теперь было и не до философских рассуждений: лошади переехали вброд через какую-то речушку и потянули обе повозки вверх, на берег, да такой крутой, что даже возница спрыгнул с козел и начал уговаривать всех седоков последовать его примеру:
— Слазьте! Слазьте! Лошадям не под силу. Эй, Павушка, н-но! Поднатужься, Жучок! Сжальтесь же над бедной животиной!
Большинство пассажиров молиториса безропотно вылезли из возка: и купец, и веснушчатая горничная, и медник. Однако медник вдруг осмелел и позволил себе заметить:
— Господин Кендель тоже мог бы сойти с тележки! Ведь это по его милости мы все пешком топаем!
— Что вы там сказали? — навострил уши Кендель.
— Сказал, что и вы, сударь, могли бы сойти!
— А кто вы такой? — заносчиво бросил богач.
— Михай Брам, честный медник.
— Ну и нахал! Объясните ему, — тоном владетельного князя заметил Кендель, набивая свою трубку, — что я — дворянин и даже королю обязан служить верхом на коне. Розалия, малютка! Ну, Куда же ты?
Однако Розалия с проворством белки уже спрыгнула с тележки, только юбочки ее зашелестели, словно крылья птицы, спорхнувшей с ветки.
— Я пойду пешком вместо дядюшки. Ведь это так весело! — воскликнула она.
— Весело-то весело, да ваши башмачки тотчас же промокнут, — возразил Фабрициус, — потому что дождь уже успел намочить траву.
Дорога, по которой они ехали, не была торным трактом и угадывалась лишь по едва заметным колеям, заросшим гусиной травкой, хвощом и папоротником.
Рядом с повозкой приходилось идти теперь поодиночке, гуськом: дорога была очень узкая. Поэтому Фабрициус пропустил вперед Розалию, желая если уж не говорить с ней, то хотя бы видеть ее. Ах, какое это было милое создание: легкая поступь, стройный, гибкий стан, небрежно наброшенный на плечи и развевающийся на ветру красный шарф, яркий, будто мак. Вообще говоря, идти было довольно трудно. Путь то и дело преграждали либо наклонившееся к дороге кривое дерево, либо торчащие во все стороны ветки шиповника, или же плеть ежевики; коварные растения цеплялись за прохожих то сверху, то снизу; вот ветка шиповника впилась девушке в косу, побеги еще какого-то колючего куста ухватили вдруг ее за юбки и никак не хотели выпускать. А ведь со стороны могло показаться, что Розалия девушка неловкая, и от этой мысли она каждый раз густо краснела.
Разумеется, борьба с подобными препятствиями доставляла хлопоты и Фабрициусу, но благодаря им молодые люди перестали дичиться, и когда еще одна ветка шиповника запуталась в девичьей косе, юноша даже позволил себе подтрунить над своей спутницей:
— Беда! Ради бога, остерегайтесь, как бы колючки не угодили вам в глаза. Ох, придется теперь отрезать либо косу, либо розу! Которую из двух прикажете?
— Ах, полноте! Я и без того зла на себя за свою неловкость. Распутайте, пожалуйста, как-нибудь.
Но веточка шиповника с единственным распустившимся на ней цветком была так хороша в ее косах, венком обвитых вокруг головы, что Фабрициусу не хотелось снимать ее (хотя распутывать для этого пряди светлых волос было бы приятной заботой), он осторожно отрезал веточку от куста перочинным ножом, и она осталась вплетенной в косу, словно украшение со своими ярко-зелеными листочками, колючими шипами и бледно-розовыми лепестками. И как этот убор был к лицу Розалии! Фабрициус пожирал веточку глазами, и пока она мелькала перед ним, раскачиваясь в воздухе и ероша золотые волосы девушки, в груди его нарастало желание попросить цветок на память. С каждым шагом это желание все больше овладевало им.
«Розочка должна принадлежать мне! В косах я ее не оставлю! Дома положу в какую-нибудь книгу, вместе с матушкиной лавандой, и засушу. Только пусть прежде веточка пропитается ароматом ее волос!»
Рассуждая так про себя, он шагал вслед за Розалией, пока не случилось новое происшествие. Тут-тук! — приговаривали вначале на дороге маленькие башмачки. Но мало-помалу на мокрой траве и мягкой земле звук переменился — башмачки шепелявили теперь: шлеп-шлеп — и вдруг совсем умолкли. Розалия разом остановилась и испуганно попятилась.
— Что случилось? Почему вы остановились? — спросил Фабрициус.
Розалия подняла на него глаза, и в них был ужас.
— Разве вы не видите? — прошептала девушка, дрожа всем телом и указывая рукой на что-то страшное.
Фабрициус расхохотался.
— Жаба не пускает? Сейчас я прогоню ее. — Он дотронулся прутиком до жабы, и та запрыгала прочь, шлепая по траве лапами.
Тут уж и Розалия принялась смеяться над своим испугом, но на Фабрициуса она все равно смотрела теперь как на героя, спасшего ее от чудовища, которое было в ее воображении не чем иным, как ведьмой, обернувшейся жабой. Сказки всегда так начинаются!
— Ай-ай-ай, какая же вы, право, трусиха! — пожурил девушку Фабрициус.
— Да, вы не видели, как странно она смотрела на меня! — смущенно оправдывалась Розалия.
— Я это к тому говорю, — дружелюбным тоном пояснил Фабрициус, — что из вас-то уж никак не получилось бы храброй солдатки, то есть солдатской жены.
— Ну и что же? — задорно бросила она. — Разве вы солдат?
Сказала и тут же покраснела, как пион, сообразив, что она сказала глупость: «Не беда, что я не смогу быть женой солдата, — ведь вы, Фабрициус, не солдат».
А Фабрициус уже ухватился за ее обмолвку.
— Для меня это тем более удивительно, что лицо у вас такое смелое! Да разве не вы стреляли из пистолета перед тем, как мы встретились? Я сам слышал выстрел.
— Ах, вы уже все знаете?
— Дядя Кендель мне рассказал.
— Как! Дядю зовут Кенделем? — с детским любопытством спросила Розалия.
Фабрициус, изумленный этими словами, уставился на девушку. (Какая жалость, что он не мог при этом видеть ее лица!)
— А разве вы этого не знали? — с явным удивлением в голосе переспросил юноша.
Розалия смутилась и ничего не ответила, только ускорила шаг, чтобы юноша, чего доброго, не догнал ее. Она была умной девушкой и привыкла строго осуждать свои промахи, однако делала это лишь после того, как они были совершены. И частенько бывало уже поздно, слишком поздно поправить ошибку. Вот и теперь Фабрициус мгновенно заподозрил в ее ответе что-то неладное. Какую-то тайну. «Как же все-таки попала эта девочка к Кенделю, или, вернее, откуда Кендель взял эту девочку, не знающую даже его имени? — думал он. — И куда они направляются сейчас? Кто отдал ее Кенделю на попечение? С какой целью? Надо обязательно все это выяснить!»
Фабрициус перебрал в уме несколько самых различных предположений, но ни одно, казалось, не соответствовало действительности. Вероятнее всего, девочка до сих пор где-нибудь воспитывалась, и теперь Кендель везет ее к родителям. Но как же она решилась поехать с чужим человеком, не зная, кто он такой? Возможно, Кендель и в самом деле друг ее родителей. А почему же она спрашивает: «Разве его зовут Кенделем?» — Сама она назвалась Розалией Отрокочи. Отрокочи!.. Звучит, как любая другая венгерская дворянская фамилия, хотя Фабрициус никогда такой не слышал в этой части Венгрии. «Ах, наверное, какая-нибудь зауряднейшая история! — подумал он. — Правильнее всего будет расспросить самого Кенделя».
И как только Розалия ушла вперед, Фабрициус, наоборот, начал отставать и вскоре снова присоединился к Кенделю.
— Дядя Кендель, откуда у вас эта девочка? — спросил он, стараясь говорить безразличным тоном. Старик хитро прищурил глаза.
— А что, хороша? Настоящая жемчужина! Понравилась тебе?
— Не смею отрицать, очень мила. Потому я и спрашиваю: где вы ее взяли?
Кендель, пожав плечами, отшутился:
— Скажи, король дает отчет, как он крепости берет?
— Но вы-то ведь не король!
— Упаси меня бог, братец. У папаши Кенделя свое ремесло, и он весьма им доволен. Может быть, и король доволен своим — не знаю.
— Все это верно, но ведь вас не убудет, если вы скажете, кто эта барышня и куда вы ее везете?
Столь прямой вопрос заставил папашу Кенделя бросить шутки и заговорить серьезным тоном:
— Много есть на свете таких вещей, сынок, о которых людям лучше не знать. Вот и эта история из их числа. Одного не стану от тебя скрывать: сей розанчик не про нашу с тобой честь. Растет он высоко, на крутом, гордом утесе. Тебе туда не взобраться. Так что и думать о нем забудь.
Фабрициус помахал тростью в воздухе.
— Die Gedanken sind Frei[42], — промолвил он задумчиво.
Итак, юноша утвердился в своем предположении, что за всем этим кроется какая-то тайна. «Вероятнее всего, — думал он, — тут политика замешана. Вот, например, есть у Имре Тёкёли приемная дочь — Юлия Ракоци. Ее держали где-то в заточении. Что, если ее оттуда выкрали, и вот… Нет, нет, — Юлия Ракоци должна быть гораздо старше Розалии».
Погрузившись в свои мысли, Фабрициус рассеянно слушал болтовню господина Клебе, который время от времени сходил с козел и шел пешком, потому что лошадь Пава совсем сдала — то и дело останавливалась и ржала, требуя отправить ее на конюшню и одновременно напоминая о приближающейся грозе. Господин Клебе припомнил страшный случай из своей жизни, подходивший к настроению пассажиров, и рассказал, как тридцать лет тому назад он шел через лес в этом самом месте один как перст и без всякого оружия — только нож складной был при нем.
— Вдруг из чащи (Клебе шевельнул мохнатыми бровями, указав взглядом на темные заросли), да, из чащи вышел медведь, большущий, черный, глаза сверкают. Вот когда я перепугался. Чудище этакое и прет прямо на меня. Сердце у меня замерло, а медведь все ближе! Остановился почесаться, зевнул, да как глянет на меня! Тут у меня сердце уж совсем зашлось. Бросился я наутек. А зверюга за мной по пятам. Слышу, топочет за моей спиной, хрипит и дышит горячо, прямо мне в затылок, а оглянуться я не смею. Бегу себя не помня. И вдруг вижу — медведь мимо меня пролетел!
— Ну, а что потом было? — содрогаясь, спрашивали слушатели.
— Ничего! Убежал медведь. Не стал меня есть, — простодушно ответил Клебе.
— Но вы-то, господин Клебе, вы-то сами как?
— И я не стал его есть.
— Ну-у! — разочарованно воскликнули слушатели, недовольные обыденной развязкой истории.
— Что ж тут такого? Повстречались мы с ним, а причинять друг другу вреда не пожелали, — закончил свой рассказ Клебе.
Фабрициус снова догнал Розалию, и подоспел он вовремя. Горные родники и стремительные ручьи, вздувшиеся после дождя, словно серебристые змейки, уже спешили вниз по склону горы, перекатывая в своих струях разноцветные камешки. В одном месте ручейки размыли дорогу, и там образовалась огромная лужа. Не решаясь ни перейти, ни перепрыгнуть через нее, Розалия остановилась и с надеждой посмотрела на Фабрициуса. О, разве есть на свете что-нибудь более трогательное, чем такое милое, слепое доверие? У Фабрициуса сердце затрепетало от радости.
«Ах ты, дорогое мое дитя, сладкая куколка!» — рождались в его душе самые ласковые слова. Он заулыбался, в глазах его запрыгали озорные огоньки. Быстро наклонившись, он обхватил тоненький стан Розалии и вместе с нею перепрыгнул через лужу, чувствуя, как сердце девушки бьется у него на ладони и, будто кусок огненной лавы, обжигает ее.
— Ой! — вскрикнула Розалия.
— Студент! Смотри, стукну тебя по лапам! — пригрозил Кендель, выколачивая свою трубку о борт тележки.
— Вы рассердились на меня? — спросил Фабрициус Розалию.
— Нет, я только испугалась, вдруг со мной что-нибудь случится… — пролепетала девушка.
— Что же могло с вами случиться?
— Моя тетушка всегда говорила… всегда говорила, — смущенно объясняла Розалия, — что молодые люди не должны прикасаться к девушкам, иначе девушки испортятся. Такая у тетушки была поговорка.
— Гм!.. А кто ваша тетушка?
— Она очень умная женщина.
— Да, но как ее зовут?
— Этого я не могу сказать. — Розалия покачала головой, а голос ее сразу сделался печальным.
— Не можете сказать? Странно. Почему же?
— Потому что я пообещала отцу. Поклялась ему…
— Все равно вы когда-нибудь нарушите эту клятву.
— Нет, я сдержу ее. Сдержу клятву, — твердо возразила Розалия, словно не два слова, а два тяжелых камня уронила на землю.
— Ну тогда с вами и беседовать-то нельзя! Вы все равно не можете отвечать на вопросы, — насмешливо заметил Фабрициус.
— О, нет, мое обещание касается только некоторых вещей. Да и то молчать о них я должна лишь до тех пор, пока отец не освободит меня от клятвы.
— Но ведь разговор — что клубок ниток, в нем может оказаться сразу несколько концов, и трудно угадать: за какую нитку можно, а за какую нельзя потянуть.
— Я не уверена, что вы правы.
— Есть у меня, например, совсем невинный, простой вопрос, — хитрил молодой сенатор. — Вот мы сейчас и проверим: можете ли вы на него ответить.
— Смотря какой вопрос, — недовольно заметила девушка.
— Знает ваш папа о том, что вы сейчас путешествуете с Кенделем?
— Это делается по его приказу.
— Отлично. Тогда другой невинный вопрос. Мог бы я узнать, куда вы сейчас направляетесь?
— Конечно, могли бы. Только я вам этого не скажу.
— И откуда вы едете — тоже не скажете?
— Нет.
Минуты две они шагали молча. Все остальные путники тоже приутихли. Только колокольцы на хомутах лошадей позванивали, да из-под навеса повозки доносилось сладкое похрапывание бродячего часовщика.
Меж тем дорога постепенно стала шире, и Фабрициус уже мог шагать рядом с Розалией.
— Непонятна мне вся эта история! — снова начал он.
— А вы лучше сорвали бы для меня вон ту альпийскую фиалку!
Фабрициус выполнил ее желание, однако отказываться от интригующей темы не собирался.
— Мне совершенно ясно, что ваш обет молчания относится ко всему, что касается ваших семейных дел, а вернее, даже какого-то определенного в них обстоятельства, которое вы должны скрывать. По крайней мере, сейчас. Не так ли?
Розалия молча кивнула своей красивой головкой.
— И я вполне могу представить себе это, — продолжал юный сенатор. — Но я умею уважать чужие тайны…
Розалия покачала головой, и с цветка шиповника в ее волосах упало два лепестка.
— Что-то не очень заметно, чтобы вы уважали чужие тайны.
— Незаметно потому, что во всем вашем поведении нет логики, — запальчиво возразил Фабрициус. — А я, как и любой человек науки, во всем ищу логичности.
Розалия испуганно подняла на юношу взор, почувствовав в его голосе раздражение. Она не понимала, почему он рассердился. Разве могла бедняжка знать, что в его расспросах таится то крохотное зернышко симпатии, из которого со временем вырастает любовь? Сначала зернышко дает чуть заметные ростки, а потом они поднимаются высоко, разрастаются буйно.
— Не понимаю, — пробормотала она.
— И я вас не понимаю, барышня! На самые безобидные вопросы: кто вы, куда и откуда едете — вам, видите ли, нельзя отвечать. Вы просто не желаете, чтобы я узнал, кто вы такая.
— А разве я не вправе не желать этого? — спросила Розалия и горделиво, словно принцесса, вскинула голову. (Ах, что за прелесть ее шейка!)
— Разумеется, у вас есть на это право, — соглашался юноша. — И все же в вашем поведении есть нечто оскорбительное для меня, а я совсем этого не заслужил.
— Оскорбительное для вас? Для человека, защитившего меня на глазах у всех пассажиров? До чего же, видно, дурные у меня манеры!
— Розалия Отрокочи! — произнес Фабрициус с жаром, чуть ли не декламируя. — Чем же объяснить, что вначале вы сказали мне самое важное о себе — ваше имя, а когда поближе узнали меня, вдруг обдали меня холодом?.. Запорошили снегом все дорожки, ведущие к вам?
Розалия пришла в замешательство. Слова Фабрициуса достигли цели, подобно метко пущенной стреле. Девушка густо покраснела, даже ушки у нее стали красные, лицо пылало. Ложь? Она уличена во лжи! Говорят, у лжи короткие ноги? Но неужели настолько короткие? Кто бы мог подумать! Что же теперь может она сказать бедному молодому человеку? Сознаться, что она обманула его, назвавшись Розалией Отрокочи, а в остальном сказала правду?.. Но ведь тогда она выдаст свою тайну?
Девушка помолчала с минуту, а затем, подняв на Фабрициуса милые свои глаза, печальным голосом спросила:
— Скажите, почему вам так хочется причинить мне боль?
— Причинить боль? Вам?
— Тогда не расспрашивайте. Иначе я могу по неосторожности сказать что-нибудь такое, о чем нельзя говорить, и буду навек несчастна. Почему же вы хотите мне зла?
Фабрициуса тронула ее мольба. За время короткой прогулки пешком перед ним раскрылся характер этой дочери Евы.
Она была подобна прекрасному, еще не распустившемуся бутону, в котором уже было все, чему положено расцвести, но уцелело и то, чему еще предстояло исчезнуть. Словно наивная несмышленая девочка, она повторяла любимую поговорку своей тетушки: «Молодым людям нельзя трогать девушек, а то девушки испортятся», но с каким достоинством взрослого человека, хранящего верность своему обещанию, она говорит: «Дал слово — держись». Сколько благородства звучало в ее вопросе: «Разве я не вправе?» Но яснее всех прочих черт проявилась в словах Розалии трогательная женская слабость: «Не расспрашивайте меня ни о чем, если не хотите сделать меня несчастной».
И Фабрициус сжалился над нею — по доброте сердечной, а может быть, из тщеславия, истолковав ответ девушки как полную ее капитуляцию! Значит, он победил? И, насладившись своей победой, юноша великодушно выпустил красивую рыбку из своих сетей.
Неизвестно, как протекал бы их разговор дальше, если бы Клебе, тяжело отдуваясь, не воскликнул в эту минуту:
— Gott sei Dank![43] Наконец-то мы на вершине горы. Господа, тех, кто устал, прошу в повозку.
Внизу, у подножья горы, взору открывалась редкостная по своей суровой красоте панорама. Там лежала травникская котловина с ее изумрудно-зелеными лугами и синей речкой Русска, которая стремительно мчалась вниз, а на бегу удивительно легко вертела колеса водяных мельниц, построенных на ее берегах. Но, как видно, провидение только и ждало, чтобы молиторис вскарабкался на гору, — в тот же самый миг, словно по его невидимому знаку, налетел порывистый ветер, встряхнул деревья и, пригнав новое стадо туч, закрыл ими все небо. Вот прячется за тучу, убоясь божьего гнева, усталое солнце, а вместе с ним исчезают с небосклона и беленькие барашки-облачка, будто взмах незримого бича загнал все их стадо в одну большую черную кошару. Сумрак опускается в долину, все предметы становятся мрачными и таинственными. Ветер, разбушевавшись, достигает силы урагана, он хватает деревья за вихры и крутит их, вертит, будто штопор ввертывает в землю, а затем сгибает до земли; кажется, что деревья вот-вот, гневно рыча, бросятся друг на друга, а пока со страшным треском и шумом хлещут друг друга по лицу ветвями. Речка Русска вздыбилась и, вся в мыле, скачет меж трепещущих прибрежных кустов. Словно обезумев, небо бешено атакует землю своими снарядами, приготовленными для зимы: падают сверкающие алмазы — ледяные градины величиной с лесной орех.
Все живое замирает от страха: звери спешат укрыться в своих логовах, филин прячется в дупле, мотылек приникает к нижней стороне плотного древесного листа, застигнутая в пути пчела прячется в чашечку цветка. Путники молиториса озадачены; где же им укрыться от непогоды?
— Вон видите — мельница! Давайте завернем туда, — предлагает господин Клебе.
До мельницы удалось добраться с большим трудом. Подслеповатая кляча Пава не видит, что творится вокруг. Зато коренник, испугавшись разгневанной стихии, дрожит всем телом, прядает ушами, ржет, встает на дыбы и не хочет тянуть повозку. Кучеру приходится вести его под уздцы. Наконец добрались до мельницы, ветхого строения под соломенной кровлей, через которую во все сто дыр валил такой густой дым, будто жилище мельника охватил пожар. На самом же деле в доме все благополучно: просто там шла стряпня — жарили, варили и парили всякую снедь, распространявшую самые соблазнительные запахи. Бродячий часовщик еще издали учуял их и, радостно прищелкнув языком, вскричал: «Кажется, провидение забросило нас в хорошее место». Медник сразу же приметил позади мельницы небольшой огород, где красовались цветущие подсолнухи и уже осыпавшиеся мальвы.
— В доме есть девицы! — определил он.
Когда же повозка вкатилась во двор, навстречу ей из сеней выскочила старуха в белом переднике с поварешкой в руке и весело, словно долгожданным гостям, закричала:
— Добро пожаловать! Милости просим! Слезайте скорее. Все давно готово, его преподобие уже здесь, сейчас будем ужин подавать.
Однако, увидев, что выпрыгивающим из первой повозки несть числа, да еще и из прицепленной позади тележки выбирается девушка с каким-то стариком, старуха перепугалась и, закричав: «Боже, что за саранча налетела!» — убежала в дом.
Все дело было в том, что мельника Дёрдя Дюрдика после двенадцатилетнего перерыва жена вновь осчастливила чадом, да еще мужского пола, и желанный этот наследник как раз в то утро пожаловал на свет. До сих пор у четы Дюрдиков рождались только дочери, и теперь отец себя не помнил от радости: отныне будет и у него продолжатель рода. Однако женщины, приехавшие с зерном на мельницу, нашли, что новорожденный очень слаб, и советовали не медлить с крестинами: не пройдет и нескольких часов, как бог призовет младенца к себе, к своим ангелочкам. А если ребеночек умрет некрещеным, ему, как безымянному, придется потом много сотен лет плутать в чистилище.
Дёрдь Дюрдик не отличался большой набожностью, но был напичкан всякими суевериями. И вот, ругая бога на чем свет стоит за то, что вседержитель именно его сына решил призвать к себе в ангелочки (хотя повсюду столько детворы, которую бедняки родители не могут, а то и не хотят кормить), все же в интересах своего чада согласился окрестить его немедленно. И, приготовляясь к крестинам, приказал: женщинам стряпать всякие яства, а двум своим подручным поскакать на конях — одному за патером в село Старовац, а другому — в Модрашку за крестными родителями. (Восприемниками заранее избраны были тамошний мясник и его жена.) Священник успел прибыть до грозы и уже целый час дожидался крестин, но мясник с женой, хоть и передали с конным нарочным, что выезжают немедленно, где-то застряли, и, очевидно, ждать их было бесполезно, потому что после ливня речка Русска обычно срывает все мосты и делает непроезжей и без того скверную дорогу из Модрашки.
На это злополучное обстоятельство мельник и сетовал, сидя с патером за чаркой вина в первой комнате, где его старшие дочки уже спешили накрыть на стол; тут как раз в дом ввалились проезжие с молиториса, извинившись перед хозяином, что страшная непогода заставила их искать убежище под его кровлей.
— Пожалуйста, пожалуйста! — весело закричал хозяин. — Как нельзя кстати! Дал бог чадо, даст и крестных. Верно ведь? Видно, любит меня бог, коли так обо мне печется! Верно? А если любит, то не обидит и дитя! Правильно я говорю, святой отец?
Патер неопределенно мотнул головой: может быть, и так; а Дюрдик окинул взглядом гостей и тотчас же остановил свой выбор на самых красивых и самых молодых приезжих: на Фабрициусе, юноше благородной внешности, и на Розалии. Он объяснил, что будет весьма признателен, если господа согласятся стать восприемниками самого младшего в семействе Дюрдиков, который ждет не дождется, когда его окрестят и нарекут Балинтом.
— Только что же это? — воскликнул мельник. — На моей бедной кумушке нитки сухой нет! Магдаленка, — позвал он дочку, — дай барышне что-нибудь из твоего платья, пока ее собственное будет сушиться.
К Розалии подошла голубоглазая худенькая девушка с круглым миловидным личиком и отвела ее в светелку, где и произошло задуманное хозяином преображение.
Не прошло и двух-трех минут, как девушки возвратились и вошли в комнату, держась за руки. Увидев однажды друг дружку без одежды, доверивши одна другой великую тайну — свою наготу, — девушки становятся приятельницами.
Розалия, одетая теперь наполовину крестьянкой, наполовину мещаночкой, была удивительно мила в этом новом своем наряде.
— Вот краля! — воскликнул корпонский купец. Что ж тут удивительного? Разве лилия, господский цветок, потеряет свою красу, если расцветет среди листьев герани, чисто крестьянского цветка? Правда, домотканая шерстяная юбка была немного коротка Розалии, а сапожки едва не сваливались с ног, мешая ей двигаться свободно, но даже в ее поневоле осторожной поступи было столько прелести! Безрукавка оказалась узковатой в плечах и туго натянулась на груди, что только прибавило фигуре очарования (думается, излишне объяснять — почему). Зато у пояса эта безрукавка была, напротив, просторна, как будто намеренно подчеркивая тоненькую, осиную талию девушки.
Патер своими маленькими заплывшими глазками, всегда обращенными к небу, как он уверял, все же разглядел, что сафьяновые сапожки не по ноге Розалии, и дал совет:
— Utcunque[44] надо бы положить в сапоги немножко соломы. Но в общем, ты и в этом наряде хороша, дочь моя, потому что господь сотворил тебя красивой. О, если бы глупые дщери Евы поняли наконец, что никакое платье, даже самого дурного покроя, не может скрыть истинную красоту! Право же, за свой век женщина может загубить целые горы шелков и кружев, но скольких женщин погубили эти шелка и кружева! Однако не пора ли нам начинать крестины! Давайте же сюда нашего агнца, терпеливо ожидающего у врат священного сада. Внесите ребенка! Крестные родители, подойдите поближе. Какого вероисповедания вы, молодой человек?
— Лютеранского, — с достоинством сообщил Фабрициус.
— А вы, дщерь моя?
Фабрициус, явно волнуясь, смотрел на Розалию.
— Лютеранского, — отвечал за девушку Кендель. Лицо Фабрициуса сразу же просветлело.
— Какая жалость! — разочарованно воскликнул преподобный отец, — при столь великой телесной прелести у вас обоих заблудшие души! Господин Дюрдик, придется вам выбирать других крестных родителей!
— Чего ты сияешь, малый, словно молодой месяц? — бросил Фабрициусу Кендель.
— Ну так что же? Найдутся среди вас католики? — недовольно спросил мельник.
— На молиторисе все что угодно найдется, — хвастливо заявил господин Клебе. — Вот, например, госпожа Вильнер — ученая дама из Лёче. Она еще совсем недавно помогла увидеть свет божий отпрыску знатного рода баронов Няри, что живут в комитате Гёмёр. Ведь вы у Няри служили, сударыня, не так ли?
Госпожа Вильнер сделала книксен, кивнула головой, а затем подтвердила и словами:
— Да, я как раз от них возвращаюсь.
— Вот это удача! — обрадованно закричал Дюрдик. — Значит, вы — повитуха? Ученая повитуха? Ну, не иначе как само небо забросило вас сюда. Это и слепому ясно. Взгляните, сударыня, на самого младшего из Дюрдиков, взгляните! Пойдемте вместе со мною за ним. Вот только покончим с выбором крестного отца.
— Хотите, я буду вашим кумом? — предложил бродячий часовщик.
— А кто вы такой?
— Я — часовщик. Чиню часы по всему Сепешу, Гёмёру и даже в комитате Киш-Хонт. Зовут меня Йонаш Киндронаи.
Дюрдик проворно подскочил к нему и хлопнул ладонью по его ладони.
— Неважно мне, кто ты, землячок, беру тебя в кумовья. Перед богом мы, католики, все равны. Баста!
Принесли завернутого в пеленки Дюрдика-младшего. Взяв ребеночка на руки, госпожа Вильнер обнадежила отца, что мальчик, по всей вероятности, выживет.
— Только держите его на свежем воздухе, кормите хорошим молоком, — посоветовала она.
Патер окрестил дитя, а затем, по тогдашнему обычаю, крестные родители положили его в сито и покачали, чтобы вытрясти из ребеночка все дурные наклонности, после чего растерли над его головкой крепкий пшеничный колос. (За неимением свежего, пришлось сорвать колос из прошлогоднего «венка жнецов».) Ведь у простого народа пшеница — священный символ силы. Пусть же и этот мальчик будет сильным, здоровым, ядреным, как пшеничное зернышко! А сила — это для венгерского мужика самое главное… Заболел мужик, лекарь спрашивает его: «Что болит?» — а он отвечает: «Силы нету». На боль, за редким исключением, мужик и не жалуется. Ничего у него не болит — только силы нет. Смерть на порог, а сила за порог да и вон. Тут человеку и конец!
Пока крестили младенца, господин Кендель потихоньку выскользнул во двор, желая укрыть где-нибудь если уж не тележку, то хотя бы свой сундучок. Град давно прекратился, но ветер еще не утих, и под его буйными порывами еще трещали и крыша мельницы, и кровли расположенных вокруг надворных построек. «Хорошо бы тележку закатить куда-нибудь под навес», — подумал Кендель и по очереди осмотрел все большие и малые сараи мельника. Наконец позади дома, за погребом, он увидел некое подобие каретного сарая; подбежав к двустворчатым его воротам, Кендель толкнул ногой одну створку. Ворота приоткрылись, и он вошел поглядеть, не найдется ли тут свободного места для его тележки? В сарае было темно, но и во мраке Кендель разглядел, что внутри шевелится что-то черное. В испуге он уже готов был выскочить во двор, как вдруг его обдало жарким дыханием, руку лизнул чей-то огромный язык, послышалось звонкое и такое знакомое ржание. Э! Да ведь это Шармань! Коренник из его упряжки!
Кендель сразу узнал его и помчался на кухню за фонарем, принес — и воочию убедился, что это действительно его кони стоят себе преспокойно в сарае, похрустывают свежим сенцом! «Ну, вечер вам добрый, лошадки! Вот вы и нашлись!» — вскричал обрадованный Кендель.
Когда он возвратился в дом, гостей уже усадили за стол и начали обносить первым кушаньем — жареными цыплятами. Рядом с Розалией оказался Фабрициус, которого сразу же, как только узнали, что он сенатор города Лёче, окружили великим почетом. А вот отсутствия Кенделя никто и не заметил, пока о нем не вспомнил корпонский купец: «Господин Кендель куда-то пропал!»
Лишь только он произнес эти слова, они подействовали подобно волшебному заклинанию — и мельник, и патер вскинули головы:
— Как! Неужели здесь находится сам Кендель?
— Конечно, он самый!
— Не может быть! Собственной особой?
— Разумеется, собственной!
— Черт побери, вот это здорово!
Господин Дюрдик выскочил из-за стола и хотел броситься на поиски важного гостя, но в это время Кендель появился в комнате. Тотчас же для него был поставлен на почетном месте прибор, и хозяин в знак особого внимания вытер его тарелку своей широкой ладонью.
— Сколько счастья выпало мне нынче! — сказал он при этом.
Медник с таким усердием уписывал лакомые яства, что у него даже пот выступил на лбу, псаломщик же принялся ломать с горничной графов Чаки куриную дужку, чтобы выяснить, кто из них двоих дольше проживет. Повитуха, сидевшая рядом с патером, жеманно, словно нехотя, как и подобает светской даме, ковыряла вилкой жаркое, неустанно повторяя, что у нее плохой аппетит и что в доме баронов Няри она отвыкла от тяжелых блюд. «О, господи, что значит аристократия! Все-то у них не так, все-то по-другому! Поди и куры у них совсем особенные яйца несут!» Корпонский купец наполнил кружку вином, но прежде чем пригубить ее, почтительно поклонился Кенделю, чего тот, впрочем, не соблаговолил заметить. Но всех довольнее был господин Клебе, который, обводя взглядом своих пассажиров, приходил в восторг, видя, как бродячий часовщик с громким чавканьем одолевает куриную гузку. Грудь Клебе ширилась от гордости, а на лбу у него, казалось, можно было прочесть: «Ну, что я вам говорил? Сами видите, что такое «Молиторис». «Молиторис» славен и у себя дома, и по всей Венгрии! «Молиторис» — великая фирма. Пожелает повозка «Молиториса» остановиться на привал, любые ворота гостеприимно распахиваются перед нею. В честь молиториса даже устраивают для наших пассажиров маленькие пиршества. Ах, какая слава пройдет теперь об этом! Шталович (владелец конкурирующего с «Молиторисом» предприятия в городе Кашше) просто лопнет от зависти!»
Две старухи, теща и мать мельника, подавали на стол одно за другим все новые и новые кушанья: подрумяненного жареного поросенка, форель — и все время виновато приговаривали, что, мол, не ожидали такого множества гостей и, если кто останется голодным, можно принести еще голубцы, оставшиеся от обеда, достать холодец из погреба, ежели кто пожелает. Обе хозяйские дочки, Магдаленка и Эстер, ни на минуту не присев к столу, обносили гостей вином. Для женщин Магдаленка нацедила из особого бочонка в подвале вместительный кувшин сладкого и пряного вина; первой она налила Розалии, решив, что это самая знатная гостья. А веселье только еще разгоралось. Господин Дюрдик все твердил, что день выдался для него удачливый и вообще господь бог никого так щедро не осыпал своими милостями, как его, Дюрдика, и беспрестанно выказывает ему свое благоволение, как, например, нынче. И хозяин снова напомнил о всех событиях дня: о том, как поутру родился у него сын Балинт, как спешно назначены были крестины, а посему за его преподобием — дай бог ему долгой жизни! (Все чокаются) — был послан на коне работник с мельницы, а другой работник поскакал на лошади в Модрашку за кумовьями. Жаль только, из-за грозы они не смогли приехать.
Слушать мельника было скучно, потому что он все это уже рассказывал по меньшей мере четыре раза, а конец истории все знали и без рассказчика: как нежданно в грозу и бурю подкатил молиторис и привез восприемников для младенца — да благословит их господь! Вот так же в свое время спешили в Вифлеем на рождество Иисуса Христа волхвы; с той только разницей, что волхвам указывали путь звезды, а молиторису — молния, что «волхвов» прибыло к Дюрдику не три, а всего лишь один могущественный кудесник из города Белы — да пошлет ему господь бог все, чего господин Кендель ни пожелает себе сейчас и в дальнейшей своей жизни!
— Довольно и того, что он послал мне сейчас! — вставил «кудесник» Кендель, за здравие которого гости с готовностью сдвинули свои «бокалы» и осушили их до дна.
— А также и с той разницей, — все больше увлекаясь и впадая в грех гордыни, продолжал мельник, — что Иисус Христос был всего лишь сыном бедного плотника, родившимся в хлеву, а мой Балинт происходит из рода Дюрдиков, дворянской фамилии, известной как в Сепешском, так и в Абауйском комитатах… Когда-то мы, Дюрдики, даже носили дворянскую приставку «де».
Патер укоризненно поднял руку:
— Дюрдик, Дюрдик, побойтесь бога, что вы говорите!
— А что? Что я такого сказал? — ответил зарвавшийся Дюрдик. — Не будете же вы, ваше преподобие, утверждать, что Иисус Христос происходил из дворян?
— Он был сыном божьим! — набожно возразил патер.
— Конечно, это тоже немало! — согласился Дюрдик. — Но зато Дюрдики испокон веков были мельниками. И мой отец, и дед, и прадед — все, как один, мельники. Только в старину наш промысел был не то, что нынче. Тогда король только мельников и брал себе в полководцы. Сам Кинижи * и то был вначале мельником. К слову сказать, он у нас на мельнице служил в работниках. Говорю я вам: служил — значит, так оно и было. Точка.
Господин Кендель, слушая мельника, нетерпеливо ерзал на стуле, нервно постукивал пальцами по столу, раза два ехидно улыбнулся, — видно было, что он задумал какую-то коварную шутку.
И в самом деле, едва Дюрдик сказал: «точка», — как Кендель встал и поднял свой кубок — вернее, кружку, потому что все гости пили из красивых расписных глиняных кружек, с изображением пеликанов да тюльпанов. Но, подняв кружку, Кендель тотчас же перевернул ее вверх дном и выплеснул вино на пол, а в компаниях пьяниц во все времена это означало, что человек, за которого предлагают выпить, не заслуживает такой чести.
— Господин мельник, — начал Кендель свою речь, — рассказал нам тут о своем счастье, о рождении сына, о его крестинах — словом, всю историю нынешнего дня. Однако кое-что он все же упустил.
— Что именно? — воскликнул купец из Корпоны. — Тише! Послушаем, что скажет господин Кендель.
— Да-с, он умолчал о некоторых событиях, предшествовавших всему этому, — продолжал Кендель.
— Ну, конечно! — захохотал Дюрдик, — Для того чтобы у человека родился сын, естественно были «предшествовавшие события», ха-ха-ха!
— Я хотел бы упомянуть лишь о событиях нынешнего дня, о которых здесь умолчали, — пояснил свои слова господин Кендель, придав своему лицу наивное и даже глуповатое выражение (а делать это он умел великолепно). — Я называю их «предшествовавшими» потому, что за ними обязательно должны идти «последующие»… — В глазах Кенделя сверкнула дьявольская насмешка. — Бог осыпает господина Дюрдика щедротами. Но сегодня он ниспослал свои щедроты и мне…
— Тсс! Слушайте!
— …Как я уже говорил, сегодня днем в лесковском бору, неподалеку от кошары с красной крышей, выскочили на дорогу мне наперерез два разбойника-словака, накинулись на двух моих коняшек, без долгих разговоров обрезали ножами постромки и ускакали прочь, — только я их и видел!
— Знаем! Знаем!
— Из-за них и нам пришлось помучиться, — проворчал медник.
— Остались мы с барышней из-за этих бандитов в полном отчаянье посреди дороги…
— Но тут прибыл молиторис, — вставил господин Клебе, расстегивая на жилете одну пуговицу (неизвестно, из гордости за молиторис или после обильного ужина). — Да-с, прибыл молиторис! А добрее «Молиториса» нет ни одного заведения. Поэтому он взял в число своих пассажиров не только вас, но даже и вашу тележку.
Господин Дюрдик начал уже нетерпеливо ерзать на своем стуле.
— Ну, полно вам, бросьте! — заметил он. — Давайте-ка лучше выпьем. Наливайте, девочки! Да не левой рукой, ты, растяпа! Что касается ваших лошадок, господин Кендель, то случалась такая беда и с другими, не только с вами. К тому же вы могли бы владеть, а может, и на самом деле владеете целыми табунами лошадей! Черт с ними, с вашими лошадьми, и со всякими заботами! Точка. Забудем о них. Не лучше ли нам сделать пунш?
— Э-э, нет! Погодите! — возразил господин Кендель, и все насторожились: не зря же он выплеснул вино наземь, это, несомненно, предвещало бурю.
— Ладно, выкладывайте, что там у вас!
— А мне, пока суд да дело, передайте вон то блюдо, — сказал часовщик, тронув за локоть псаломщика. — Я вижу, на нем еще уцелела поросячья голова. Как же можно оставлять поросячью голову?! С такими трогательно закрытыми глазками! Нет, я не перенесу такого печального зрелища и уж лучше съем эту бедную голову! У меня жалостливое сердце.
— Давайте же послушаем господина Кенделя! — вмешался патер. — Ведь он до сих пор так и не рассказал нам, в чем же проявилась сегодня милость господня к нему?
— Как раз к этому я и собираюсь перейти, — продолжал папаша Кендель. — Когда мы попали под сей гостеприимный кров, я, пока шел обряд крещения, был занят одной лишь мыслью, где мне укрыть от дождя мою тележку. «В крайнем случае, — думал я, — можно будет и переночевать в ней». В поисках подходящего местечка я блуждал по двору.
Господин Дюрдик заметно помрачнел.
— Осматривая надворные постройки, я наконец обнаружил неподалеку от погреба нечто похожее на каретный сарай.
Дюрдик, явно взволнованный, вскочил со своего ступа, затем снова сел и уставился на Кенделя таким взглядом, каким укротитель смотрит на зверя.
— Ну и что было потом? — хриплым и глухим голосом спросил он.
Беспокойство хозяина бросилось всем в глаза. Даже Розалии. Она встревожилась и обратила внимание Фабрициуса на то, что хозяин, как видно, сердится на ее дядюшку. Казалось, он, того и гляди, запустит в голову старику Кенделю глиняной кружкой. Все впились взглядами в Дюрдика. И только сам Кендель делал вид, будто он и не замечает ни замешательства хозяина, ни его гневно сжатых кулаков, — все с той же напускной наивностью он продолжал:
— Подхожу я к этому сараю, толкаю дверь — она подается, вхожу, и как вы думаете, господа, что я там вижу?
Разумеется, никто и не пытался угадать. Настала могильная тишина, все устремляли любопытные, вопрошающие взгляды то на Дюрдика, то на Кенделя.
Но пришлось всей честной компании удивиться еще больше: у Кенделя лицо приняло серьезное выражение, у Дюрдика же, наоборот, глуповато-веселое.
— Представьте себе, вижу я там своих лошадок!
У всех вырвался возглас изумления, и только Дюрдик расхохотался весело и самодовольно, хлопнул своими огромными ладонями по столу и долго смеялся до слез.
— Неужели? Своих лошадок увидели? Ха-ха-ха! Ну и хитры лошаденки! Сами отыскались! Вот уж вы поди обрадовались! И хорошо, что вы их нашли, сударь. Ведь они подслеповаты, им уж ни за что не найти бы вас, ха-ха-ха!
Дюрдик хохотал так долго и так сильно потел при этом, что весь взмок, а сам он тем временем, не замечая, что делает, опоражнивал одну кружку вина за другой. Однако Кендель сказал ему строгим тоном:
— Вы, сударь, не думайте отделаться шуточками! Я вас при всем честном народе спрашиваю: каким образом мои лошади могли очутиться в вашем сарае? Отвечайте, пока я не назвал вас вором!
— Этого еще не хватало! — оскорбился Дюрдик. — Ведь я же целый день не отлучался из дому. Опомнитесь, господин Кендель. Я добрый человек, люблю пошутить, но всему есть предел!
— Ах, черт вас побери! — закричал Кендель. — Так вы еще и отпираетесь? Да я, если понадобится, тысячу свидетелей соберу. Мои кони всему комитату известны.
— А я этого и не отрицаю! — снова захохотал хозяин. — Больше того, я весь вечер рассказывал о том, что двое моих работников на лошадях ездили — один в Старовац, за его преподобием, а другой — за кумовьями.
— Ездили, да только на моих лошадях! — грозно крикнул Кендель.
— Ну, понятно, не на моих, — поддразнивал богача дерзкий мельник. — Уж не думаете ли вы, что у меня конные работники служат?
— Но ведь это вы послали их!
— Верно. Я им сказал, что лучше, если бы они поехали на лошадях. Тогда они надели крестьянские зипуны, обулись в постолы и отправились в путь. А где и как они достали лошадей — мне совсем не любопытно. Пошутили они — вот и все. Разве можно на это обижаться? Да еще за праздничным столом! На крестинах! Когда все так хорошо себя чувствуют. Тем более, что вы нашли своих коняшек!
— Вот именно, нашли! — словно эхо, откликнулся псаломщик и громко чихнул.
— Да вы лучше помиритесь! — предложил часовщик, считавший себя обязанным поддерживать своего кума.
Но господин Кендель упрямо мотал головой.
— С кем помириться? С конокрадом? Или с укрывателем краденого? Никогда!
Мельник весь побагровел, губы у него задергались от гнева.
— У тебя, господин купец, говорят, куры денег не клюют? Вот и ройся в них, заместо курицы! А под мою честь не подкопаешься и не пробуй! Я — дворянин и обиды не потерплю. Жаль, что ты — не дворянин, а то бы я тебя, как водится между рыцарями, вызвал на поединок!
Это «ты» взбесило Кенделя. Сказать дворянину «ты» — все равно что быку красную тряпку показать. Потеряв самообладание, маленький щуплый богач стукнул себя кулаком в грудь и завопил:
— Так знай же, что и я — дворянин! С двумя дворянскими приставками «де Паста и де Алшокенд»! А вот откуда ты такой взялся, я не знаю!
— Ах так? Кто я такой? Ну, погодите, я вам сейчас объясню.
Дюрдик отшвырнул ногой свой стул, подбежал к закутку возле гладильного катка, где из стойки выглядывали эфесы двух заржавевших сабель, и, выхватив клинки из ножен, стал воинственно размахивать ими посередине комнаты.
— Сейчас посмотрим: дворянин ли вы! — кричал он, бледный как смерть. — Выходите на бой! Держите одну саблю!
Мужчины, выскочив из-за стола, принялись унимать хозяина.
— Господин Дюрдик! Дорогой Дюрдик! Опомнитесь, ради бога! — восклицал Клебе.
Кендель вначале перепугался и, переменившись в лице, инстинктивно попятился, поспешив спрятаться за спину святого отца, однако, видя, что медник и купец из Корпоны уже отнимают у Дюрдика сабли, снова осмелел, высунулся вперед и громко закричал:
— С удовольствием сразился бы с вами! Однако дело-то это не рыцарское! Такие дела поединками не решаются! Уверяю вас!
Дочки хозяина завизжали; на шум в комнату вбежала и тут же выбежала какая-то старуха, а вместо нее, засучивая на ходу рукава, заявились подручные мельника, прослышав о том, что в хозяйском доме — драка. Медник, которому так и не удалось отнять у Дюрдика саблю, схватил его в охапку своими железными руками, не давая двинуться с места.
— Так это, по-вашему, не рыцарское дело? — тщетно пытаясь вырваться, вопил разъяренный мельник. — Вы слышите, что говорит этот трус? Судите сами, господа, рыцарское это дело или нет!
— Как же не рыцарское? — заметил бродячий часовщик. Два рыцаря спорят о двух конях! О чем же еще, как не о конях, могут вообще спорить рыцари? Да если это — не рыцарский спор, тогда бывают ли вообще на свете рыцарские споры? — Последние слова часовщика были обращены к господину Клебе.
— Неверно! — возразил Клебе. — Речь идет не о двух, а о трех лошадях.
— Как так? Откуда же было взяться третьей?
— А оттуда, что вы, сударь, врете, как сивый мерин! — Но, но, поосторожнее!
— А чего мне с вами деликатничать? Что заслужили, то и получили! Вместо того, чтобы заливать огонь водой, вы в него масла подливаете. О боже, да я со стыда сгорел бы, если бы вдруг прошел слух, что пассажиры молиториса передрались между собой. Да еще не по-рыцарски. Скажите же наконец вы, господин сенатор, свое слово!
— Разумеется, это не рыцарский спор, — отвечал Фабрициус. — Господин Кендель нашел своих украденных лошадей и, понятно, имел все основания разгневаться на похитителей. Как велика в происшествии вина господина Дюрдика, может решить не сабля, а только суд. Но даже если бы это было и не так, — поединок тут недопустим — слишком уж велика разница в возрасте противников. Если молодой, сильный человек зарубит насмерть слабого старца, это отнюдь не будет считаться рыцарским поступком, а самым заурядным убийством. В таких случаях разумнее всего прийти к полюбовному соглашению.
Господин Клебе с признательностью закивал головой, бормоча себе под нос:
— Вот это я понимаю, светлая голова!
Поскольку и святой отец разделял точку зрения юного сенатора, то теперь они уже вдвоем принялись увещевать спорщиков, — Фабрициус, взывая к рассудку Дюрдика, а священник, ухватив Кенделя за полу его серого кафтана, напоминал богачу о христианском милосердии и всепрощении. По-видимому, Кенделю понравилось, что его тоже сдерживают, не пускают драться, и он вдруг начал вырываться, требовать, чтобы его отпустили: тут, мол, затронута рыцарская честь, в которой попы ничего не смыслят.
Тем не менее провидение предначертало благополучный исход столкновения; после долгих препирательств и уговоров миротворцам все же удалось укротить обоих рассвирепевших львов и выработать следующий порядок примирения: Дюрдик приближается к господину Кенделю и просит у него прощения за «неумную и недопустимую шутку» (слова эти произнести обязательно), господин Кендель первым (заметьте — первым!) протягивает Дюрдику руку, тот пожимает ее, и всей распре — конец.
Так все и произошло. Упирающегося Дюрдика с большим трудом, словно быка на бойню, подтащили к Кенделю, мельник пробормотал какое-то извинение, и так дернул Кенделя за протянутую им руку, что чуть ее не оторвал. Кендель состроил кислую минуту и, дотянувшись до его уха, что-то шепнул, после чего у мельника на лице тоже появилось кислое выражение. А шепнул Кендель вот что:
— В малом загоне, под дубками, я видел у вас, приятель, несколько отличных коровок. Так вот, не позже чем через неделю две коровки из этого загона должны быть доставлены в мое имение в Беле, вместе с ними вы привезете мне сбрую для пары коней из лёченской лавки Петца. А если не согласны — передаю дело на рассмотрение вице-губернатора господина Гёргея.
Это требование, не предусмотренное условиями примирения, было чрезвычайно неприятно для Дюрдика, но посторонние не слышали его, так как все гости громко кричали: «Ура! Мировую нужно вспрыснуть! Давайте сюда кувшины!»
И снова пошел пир горой. Все шумнее, все веселее. — Неси, Магдаленка, вина, да покрепче! — кричал хозяин.
Языки развязались, все заговорили, зашумели, и только у Дюрдика не проходила обида на Кенделя («Надо было все же отлупцевать его», — думал он). Сердился он и на медника за то, что парень так крепко скрутил его. Это же позор! Коровы и упряжь — черт с ними, пусть кровопийца Кендель подавится моим добром! Но до чего же стыдно, что какой-то медник скрутил силача-мельника! Будешь теперь посмешищем по гроб жизни! И как это могло случиться? Нечистая сила в нем, что ли? Или он прием какой знает? Нет, тут дело нечисто.
— Эй, парень, — начал он снова приставать к подмастерью, — коли ты храбрец, отчего же ты со мной «вина не похлебал»?
— А что ж, давай! — расхвастался парень. — Я ничего и никого на свете не боюсь.
Тут Дюрдик наполнил вином две глиняные миски, дал подмастерью ложку, себе взял другую, и они принялись «хлебать» из миски вино, словно это был суп.
Однако прежде чем мельник покончил со своим «супом», подмастерье уже опорожнил миску и отер рот рукавом.
— Ну, как, малый, хорошо?
— Ничего себе, недурно.
По единодушному мнению пьяниц, вино сильнее всего ударяет в голову и в ноги, если его не пить, а хлебать ложкой.
Опасаясь чрезмерного опьянения, люди обычно пьют вино из кубков и чаш. Однако оба героя отлично выдержали испытание, только лица у них побагровели да глаза стали косить.
— Вижу, бравый ты парень, медник! А вот пустое яйцо тебе не выбросить за окно!
— Хотел бы я посмотреть, что это за яйцо.
Дюрдик вышел на кухню и вскоре вернулся, неся на тарелке несколько сырых яиц, из которых через соломинку выпито было все их содержимое. Мельник раскрыл окно. Ну, вот когда начнется потеха!
Медник встал посреди комнаты, размахнулся своей могучей рукой и швырнул скорлупу за окно. Однако выкинуть пустое яйцо во двор ему не удалось: скорлупа отпрянула от распахнутого окна. Поднялся громкий хохот. Медник разозлился, схватил с тарелки новую скорлупку и с такой силой метнул ее в окно, что сам едва устоял на ногах, но на этот раз пустое яйцо, не долетев до окна, упало на голову госпожи Вильнер. (Жаль, что было пустым яйцо!)
— Силенки маловато, братец! — пренебрежительно заметил Дюрдик, взял с тарелки яичную скорлупу и разом вышвырнул ее за окно.
Подмастерье ругался, скреб в затылке и все удивлялся вслух:
— Как же это у него получается?
Между тем ларчик открывался очень просто: Дюрдик держал в руке маленький комочек воска. Перед тем, как бросить яичную скорлупу, он прилепил к ней воск, и теперь пустую скорлупу уже не относило встречным потоком воздуха.
Меднику был незнаком этот фокус, но все же он сообразил, что тут дело нечисто, и принялся ломать голову, как бы отомстить хитрецу.
— А вот сейчас я вам задам задачу, — сказал он и попросил Магдаленку принести миску муки самого мелкого размола.
Магдаленка с удовольствием выполнила его просьбу. Медник сделал на поверхности муки небольшую горку, приговаривая обычные при таких фокусах «волшебные слова», затем попросил у госпожи Вильнер золотое кольцо с аметистом, красовавшееся у нее на указательном пальце. Кольцо с камнем госпоже Вильнер снять не удалось, а пришлось вдовушке заменить его обручальным, с безымянного пальца.
— Подарок покойного супруга, господина Вильнера, — вздохнула она. — Правда, большой силой мой муженек не отличался, но зато у него была нежная душа и он так любил меня!
Медник стоймя воткнул в мучную горку обручальное кольцо так, чтобы половина его оставалась снаружи, и предложил:
— А ну, кто из вас вынет кольцо из муки кончиком языка? Дюрдик презрительно отмахнулся:
— Я вам не клоун!
Вызвался показать свою ловкость псаломщик. Его побуждала извечная причина подвигов — любовь, одна безответная, а другая подающая надежду.
На пиру медник и горничная, которая ему нравилась, то и дело пожимали друг другу руку под столом, а на вопросы псаломщика кокетка отвечала весьма рассеянно. Тогда он решил обратить свое внимание на дородную госпожу Вильнер, тем более что господин Клебе еще дорогой рассказал ему, что повитуха скопила немалый капиталец, — аист, оказывается, доходнее, чем любая домашняя птица.
Для начала псаломщик раза два кинул в госпожу Вильнер шариком из хлебного мякиша, и она с милой улыбкой погрозила ему пальчиком: «Знаю я, кто это озорничает!» Но когда пошли громкие споры и началась суматоха, псаломщик отважился наступить ей на ножку; вдовица охнула, подняла на смельчака взор и гордо промолвила: «Если вам что-то угодно, скажите прямо!»
Псаломщик сразу притих и только робко поглаживал свою черную, как смоль, бороду да украдкой бросал на повитуху покаянные взгляды. И вдруг представился блестящий случай ответить на вопрос: «Что ему от нее угодно?» Право же, само небо заронило в голову весельчака-медника мысль о состязании. О, уж теперь-то псаломщик знал, как ему действовать: он вытащит из муки вдовушкино обручальное кольцо кончиком языка (бог ниспошлет ему для этого ловкость!), быстро заменит кольцо своим собственным, протянет его госпоже Вильнер и скажет: «Вот чего я хотел». Какая трогательная сцена тут произойдет! Все будут рыдать от умиления!
Дюрдик отказался показать свою ловкость, и тогда медник позволил это сделать псаломщику. Все с живейшим интересом смотрели на него. Он стал героем мгновения. Хозяйские дочки забрались на сундук, — оттуда через головы гостей удобнее было созерцать любопытное зрелище. Поглазеть приплелись даже старухи с кухни.
Псаломщик принялся за дело. Высоко подняв свои мохнатые черные брови, он низко наклонился над миской. Вот его лицо уже у самых краев миски, от его дыхания зашевелились крупинки муки, и тогда он высунул язык — огромный, красный, как у степной овчарки. Загнув кончик языка вверх, псаломщик уже почти коснулся им кольца (сердца взволнованных зрителей забились), как вдруг прохвост-медник толкнул его своею лапищей в затылок с такой силой, что наш герой по уши уткнулся лицом в муку, а кольцо, соскользнув с языка, с громким звоном ударилось о край миски. Рассвирепевший псаломщик вскинул голову, принялся чихать, отплевываться и стряхивать с себя муку. Его черные брови, усы, борода и даже волосы сразу сделались белее снега. Кругом поднялся хохот, да такой, что заглушил шум мельницы за окном. От всего сердца смеялась маленькая красавица Розалия, и тогда Фабрициусу показалось, что в комнату заглянуло солнце, хотя на самом деле в окна уже давно смотрел хмурый, таинственный сумрак ночного леса.
— Мужицкая выходка! — взревел псаломщик. — Ну, ты за нее поплатишься!
Оглядевшись по сторонам, он сдернул с крюка большущий противень, в котором хозяйка пекла огромные «мельничные» калачи, и, хоть еле держал его в руках, принялся угрожающе размахивать этим «оружием», пока Дюрдик не отнял его.
— Ведь это же шутка, земляк! — уговаривал он псаломщика. — Зачем было на нее поддаваться? А сердиться скорее надо мне, что ты своей бородищей всю мою муку собрал.
— Ну, нет, борода у него что надо! — возразил корпонский купец. — И такая черная, что его за одну эту бороду с радостью возьмут в псаломщики в «черном городе».
— И верно, не шумите, Моличка, — вмешалась госпожа Вильнер. — Лучше спойте нам что-нибудь красивое.
Возможно, что все эти уговоры не имели бы успеха, если бы медник сам не положил конец назревавшей драке: сразу же после «фокуса» он попросту убежал из комнаты во двор. Всем это пошло на пользу! Тем более, что среди крестьян, приехавших молоть зерно, он обнаружил одного старого чабана, захватившего с собой в дорогу волынку. Медник обрадовался.
— Эй, дед, сто лет, тебя-то мне как раз и надо!
Он бросился обнимать и целовать старика. Правда, от весельчака здорово несло вином, но старому чабану винный дух отнюдь не был противен, скорее наоборот.
— Бери-ка, дед, свою музыку, да пойдем со мной. Отведу я тебя в одно славное местечко.
Чабан поскреб в затылке.
— Я бы не против. Да только мне сына надо дождаться. Он скоро должен за мной приехать. Не могу же я бросить чувал с мукой под присмотр вот этих молодчиков. — И чабан многозначительно кивнул на подручных мельника, суетившихся возле жерновов.
— Э! Да я твой куль в дом могу втащить, — воскликнул медник, — пусть он там у всех на глазах будет.
С этими словами медник с такой легкостью взвалил шестипудовый чувал себе на плечо, будто он был набит не мукой, а мякиной.
— Н-да, крепка, верно у тебя мамаша, ежели такого силача родила, — пробормотал чабан и, подталкиваемый сзади медником, покорно пошел в комнату.
Там музыканта встретили радостными возгласами. Дюрдик снова завопил:
— Ой, любит меня бог, вот даже музыку прислал!
Обрадовался не только Дюрдик: все принялись дружно вытаскивать из комнаты во двор столы и стулья. Медник прислонил чувал с мукой к печке и тоже помогал выносить мебель. В один миг комната была освобождена от лишних вещей. И на вечеринку пригласили двух-трех молодушек из тех, что привезли на помол зерно. Волынка заиграла, медник выскочил на середину комнаты да так лихо отплясал «подзабучки», что, наверное, лучше не танцевали и при дворе короля Сватоплука! Но и после этого парень не уморился, а схватил первую подвернувшуюся под руку девицу (ею оказалась Магдаленка Дюрдик) и пошел отплясывать чардаш, громко вскрикивая и хлопая ладонями по голенищам сапог. Псаломщик тоже не терялся: желая поправить в глазах вдовушки свой смешной промах, он пригласил ее на чардаш. Госпожа Вильнер сначала отнекивалась, говорила, что очень плотно покушала, отчего у нее на платье уже отлетели две застежки, но в конце концов уступила настойчивым уговорам, потому что (как она призналась) Моличка напоминал ей кого-то, кого она знала очень хорошо. Любопытный Моличка в течение всего вечера допытывался у вдовы: кого же он ей напоминает, и госпожа Вильнер в конце концов согласилась назвать двойника псаломщика и сообщила, что он походит на одно весьма милое существо, а именно — на вороного коня некоего барона Фехтига.
Пока они, наконец, стронулись с места, чтобы пуститься в пляс, в кругу уже были Фабрициус с Розалией, и чабану пришлось начинать сначала. Фабрициус то отпускал от себя свою даму, то ловил ее снова, когда это ему удавалось, потому что она, подобно мотыльку, дразня, ускользала от него, лишь только он протягивал руку, чтобы обнять ее за талию.
Большие сапоги неуклюже топали по полу, однако это не мешало Розалии легко кружиться, так что с белоснежной шейки свалилась красная косынка, а распустившиеся косы закрыли ее личико от посторонних взглядов. Красную косынку затоптали медник и псаломщик, большущие Магдаленкины сапоги натерли Розалии нежные ножки, но девушка крепилась и не думала жаловаться. И, может быть, она бы даже и не почувствовала боли в ногах, если бы Дюрдик не выкинул новой шутки. Ему, видите ли, тоже захотелось порезвиться, и он помчался в спальню, притащил оттуда своего новорожденного сына Балинта и весело пустился с ним в пляс. Две бабки мчались за ним следом, умоляя оставить малое дитя в покое, а то ведь он вытрясет из него душу, едва державшуюся в слабом тельце, но мельник уже совсем рехнулся и принялся изо всех сил трясти малютку, припевая: — Гоп, гоп, год, гоп! Веселись, мой Дюрдик-клоп! Старухи повисли на мельнике с двух сторон, одна справа, другая слева, силясь отнять ребенка, а он вертел их вокруг себя, словно карусель. Такое зрелище не каждый день увидишь!
Веселье било ключом. Даже Кендель и тот высмотрел себе среди крестьянок-помольщиц одну молодушку из села Канд. У крестьянки были белые, как фарфор, зубы и дивные карие глаза. Она стояла под окном во дворе и раскачивалась в такт музыке. Ну разве мог старый вертопрах удержаться, не выбежать за красавицей во двор и не сплясать с ней разок-другой? Корпонский купец, видя, как почтенный Кендель выделывает ногами выкрутасы и говорить теперь больше не с кем (часовщик, чувствуя себя у кумовьев, как дома, забрался на печь подремать), решился тоже потанцевать и пригласил маленькую Эстер.
Словом, все в доме вертелись в вихре танцев, за исключением графской горничной, которую почему-то никто не пригласил. Это было весьма несправедливо, потому что она была бойкой, стройной и хорошенькой девицей, хоть ее и портили веснушки. Кроме нее, без дела по комнате слонялся господин Клебе, которого толкали со всех сторон.
Корпонский купец, желая развеселить его, лихо, как пушинку, завертел свою партнершу, так что по комнате пронесся ветер от ее хрустящих, раздувающихся юбок, и крикнул:
— Ну что же вы, господин Клебе? Идите к нам! У нас есть еще и незанятые дамы! — И он показал на горничную.
Однако горничная пренебрежительно поджала губки — ярко-красные, потому что она беспрестанно их кусала, словно горячая, нетерпеливая лошадка — удила. А господин Клебе возмущенно одернул купца:
— Что вы? При моем-то служебном положении? Здесь? Этого только недоставало!
— А что же? Ведь сенатор города Лёче пляшет!
— Ему можно, — возразил Клебе, гордо подняв голову. — Что бы ни сделал сенатор Лёче, город его где стоял, там и будет стоять — ничего с ним не станется. А вот что станется с «Молиторисом», если его персонал забудет, что он должен вести себя степенно и с достоинством?
Этот громкий диспут напомнил меднику о покинутой им даме. Он тотчас же оставил Магдаленку и поспешил к горничной.
— Ну, вот я и здесь! — воскликнул он.
— Зато меня здесь нет! — бросила горничная и белыми, как жемчуг, зубами прикусила кончик ногтя указательного пальца, — что у женщин из простонародья означает: после дождичка в четверг!
— Ступайте теперь к своей желторотой!
Девушка, несомненно, обиделась на медника за его неожиданную «измену» после того, как он в течение всего пиршества ухаживал за ней. Однако она была так хороша в минуту гнева (под румянцем, залившим лицо, спрятались все веснушки), что ее отказ пойти танцевать поразил медника в самое сердце. Огорченный, он схватил куль с мукой старого волынщика, обнял этот куль, как воображаемую партнершу, и принялся кружиться да притопывать, то опуская, то поднимая его кверху, и тут уж в воздухе поплыло целое облако мучной пыли.
Фабрициусу такие чудачества были явно не по душе. Но, не желая связываться с пьяным, он вышел из круга танцующих и отвел Розалию к лавке, сделанной вокруг изразцовой печи. Они присели рядышком.
— Не устали? — спросил он девушку.
— О нет! Только ногам больно.
— Значит, устали!
— Совсем нет. Одно дело — ноги, другое — душа. Ноги мне сапогами натерло. А на душе у меня хорошо, я рада была потанцевать. — Щеки девушки зарделись, глава подернула поволока, но не от усталости, не от дремоты — от первых радостей весны.
— Может быть, еще потанцуем? — спросил Фабрициус.
— Вы танцуйте, а я лучше посижу. Я ведь уже говорила вам, что у меня ноги болят, — отвечала Розалия.
— Иначе говоря, хотите от меня избавиться?
— Мне хотелось бы порадовать Магдаленку. Смотрите: она сейчас одна, никто с ней не танцует.
— Вы думаете, она обрадуется, если я приглашу ее?
— Да, мне кажется.
— Ну, тогда я потанцую с ней немного, только кончат дурачиться.
Однако шутники и не думали кончать. Бродячий часовщик вдруг проснулся и, желая обратить на себя внимание, принялся ни с того ни с сего гасить своим кожаным картузом горевшие в комнате плошки и светильники, и в наступившем мраке раздался древний клич:
— Можно не стесняться — с милым целоваться! Послышался женский визг, хохот.
Фабрициус по шелесту юбок понял, что Розалия отодвинулась от него. Чтобы убедиться в этом, он медленно протянул руку, и вдруг она наткнулась в темноте на две маленькие ручки, наставленные в его сторону, словно вилы. Фабрициус поймал одну ручку и крепко сжал, не давая ей вырваться.
— Вот я и изловил вас, — прошептал он. — Теперь я знаю, что вы обо мне думаете. Вы решили, что я попытаюсь вас поцеловать?
— Отпустите. Вы сломаете мне руку.
— Не доводилось мне еще видеть сломанных девичьих ручек. Признайтесь лучше, что вы так именно и подумали! Недаром вы выставили руки, хотели оттолкнуть меня.
— Признаюсь.
— А разве я дал повод для таких подозрений? — с упреком воскликнул Фабрициус.
— Значит, я опять вас обидела?
— Да, конечно, потому что…
— Ну, не будьте ребенком.
(Смешно было слышать, как ребенок советовал сенатору «не быть ребенком», а сенатор не только не обиделся за это на ребенка, а даже обрадовался!)
— Вы, вероятно, считаете меня дерзким и бесчестным человеком? — сказал он.
— Ах, что вы говорите! — покачала головой Розалия, за спором позабыв отнять свою руку у Фабрициуса. — Ведь если разбираться, что да почему, то скорее вы оскорбили меня.
— Хотел бы я знать — чем?
— Скажу, вот только подождите, зажгут плошки.
Патер и господин Клебе уже занялись этим делом, и в конце концов им удалось зажечь светильники. А рука Розалии все еще покоилась в руке Фабрициуса.
— Так вот теперь я могу вам сказать. Вы оскорбили меня тем, что не намеревались поцеловать меня. А почему? По-видимому, потому что не считаете меня достаточно красивой. (Девушка нахмурила лоб, чтобы казаться строже, и надула свои красные губки.) Я обижена, господин сенатор. Я рассержена, господин сенатор. Я оскорблена, господин сенатор. — И она состроила такую милую гримаску, что у Фабрициуса сердце затрепетало от восторга.
Вспыхнувшие вновь плошки горели ровным огнем, не мигая, хотя одно из окон, то самое, в которое метали яичные скорлупки, было по-прежнему распахнуто. Клебе, человек весьма наблюдательный, тотчас же воскликнул:
— Смотрите, ветер утих.
Все путешественники, в том числе Розалия и Фабрициус, сразу же устремили взгляды на окно. А за окном сверкали звезды, и свежий чистый воздух неслышно струился в комнату. Господин Клебе выглянул в окно.
— Нигде ни облачка, — добавил он. — Все, чему положено было пролиться с неба, уже пролилось. На землю сошла чудесная теплая ночь. Вот-вот взойдет луна.
— Сейчас мы расстанемся! — сказал упавшим голосом Фабрициус.
Розалия только вздохнула вместо ответа, но Фабрициус понял, что означал этот вздох.
— Ах, как это больно! Покоя не дает мне мысль, что сейчас мы расстанемся, и, может быть, я уже никогда вас больше не увижу и не услышу о вас. Лучше бы уж мне совсем забыть вас, да чувствую, не в силах я это сделать: все равно, вы будете являться мне, как видение, как сон. И это печалит меня больше всего. Когда человек видит, скажем, какую-то местность, утес, или красивый цветок, или звезду на небе, он знает, что они — не его, что ему не дотянуться до них, но все же ему известно, где отыскать их — хотя бы в своих мечтах. У каждой вещи на свете есть свое место. Потому они и не забываются, не выпадают из человеческой памяти. Только птицы перелетные, что проносятся в небе, всегда и всем чужие. Поверьте, свои вопросы — кто вы и откуда — я вам задавал не из праздного любопытства. Не вашу тайну стремился я раскрыть, но уберечь свою собственную.
— Вашу собственную тайну? — рассеянно, почти машинально переспросила Розалия.
— Да, свою тайну. Вы удивлены? Хотите, я открою ее вам?
— Нет, нет! — запротестовала девушка. — Я не хочу ее знать. Девушка покраснела до корней волос, так как она уже знала, что за тайна завелась вдруг у Фабрициуса.
— Вы — тиран! — шутливо воскликнул сенатор, однако в его словах можно было уловить нотки огорчения. — И деспотизм ваш все возрастает. До сих пор вы только сами были немы, а теперь и меня хотите лишить свободы слова.
— Не подумайте, будто я из каприза не отвечала на ваши вопросы. Это печальная необходимость. Если бы вы знали причину, вам самому стало бы жаль меня. И ничего уж тут не поделаешь. Не сердитесь. Вообразите, будто мы играем с вами в прятки. Я спрячусь, а вы будете меня искать.
— Значит, я могу искать? — с жадностью ухватился за слово Фабрициус.
— Пожалуйста!
— А если найду?
Розалия склонила голову набок.
— Тогда посмеемся вместе, как это бывает в игре!
— А потом? — спросил Фабрициус и, не получив ответа, еще раз переспросил: — А потом?
— А потом, — начала было Розалия и запнулась. — Потом… Господь милостив! — едва слышно добавила она, закрыв глаза!
В это мгновение она почувствовала, как чья-то руна опустилась ей на плечо. Девушка испуганно вскинула глаза. Рука принадлежала старику Клебе.
— Идите, барашек мой, переодевайтесь, — ласково сказал Клебе. — Платье ваше, наверное, уже высохло. Небо прояснилось. Его преподобие велел закладывать лошадей. Мы, пожалуй тоже сейчас с богом тронемся. Я вот только взгляну, как там на дворе: все ли в порядке.
Фабрициусу хотелось, чтобы Клебе провалился в преисподнюю (Подумайте! Помешал разговору на самом важном месте!), и он буркнул:
— Какое барышне дело до ваших сборов? Господин Кендель может теперь ехать, когда ему заблагорассудится. Разве вы не слышали? Нашлись его лошади!
— Конечно, слышал, — обиженно, но вместе с тем и гордо заявил Клебе, подчеркивая каждое свое слово. — Только вашему благородию, вероятно, не сообщили, что негодяи изрезали и разбросали по лесу всю сбрую. А мы кое-что и об этом слышали!
— Ах, да я и забыл, — признался Фабрициус, нимало, впрочем, не жалея, что поторопился высказать свое мнение: так обрадовался он, что и дальше поедет вместе с Розалией.
Тем временем девушка, вняв совету господина Клебе, побежала с Магдаленкой переодеваться. Однако прошло не меньше часа, а может быть, и больше, прежде чем Клебе удалось собрать всех своих пассажиров и тронуться в путь. Уже заалело небо на востоке, прохладный предрассветный ветерок взъерошил листву на деревьях и пробудил мириады лесных обитателей.
Без сколько-нибудь примечательных происшествий путники наши добрались до ближайшего села Яблоньки. Почти все пассажиры спали. Тележка Кенделя по-прежнему была прицеплена к молиторису, а к ней, в свою очередь, привязали пару кенделевских гнедых. Словом, процессия была длинной-предлинной, как великопостная обедня, и вызвала при своем появлении лай всех деревенских собак.
Кенделю удалось раздобыть сбрую для своих лошадей (попросил взаймы у приказчика яблоньского помещика), и он расстался (к сожалению, не совсем мирно) со своими спутниками.
Клебе потребовал с него плату за проезд двух пассажиров, а Кендель стал возражать, говоря, что ни он, ни барышня не ехали в повозке молиториса, а значит, и не обязаны платить.
— Да, но ваша тележка-то была прицеплена к молиторису! — настаивал Клебе.
— Верно. Однако ж ваш молиторис набрал полное число пассажиров, какое допускается правилами. Стало быть, хоть вы и везли нас, а выручки не потеряли, и посему не имеете права требовать с нас платы, — упирался Кендель.
— Из-за вас некоторым пассажирам пришлось идти пешком, а вы сидели в своей тележке и покуривали трубку, словно турецкий паша.
Кендель вздрогнул, услышав слова: «турецкий паша», но и не подумал уступить. Богач был неподатлив в мелочных расчетах.
— Правильно, — осклабился он, — зато на мою голову обрушился гнев пассажиров. Не хватало еще, чтобы я пожинал людскую ненависть, а вы выколачивали из этого себе прибыль.
Заговорив Клебе до полусмерти, Кендель так и не заплатил ни гроша, а усадил Розалию, как и прежде, на заднее сиденье тележки, сам взгромоздился на козлы, взял в руки вожжи, взмахнул кнутом и укатил прочь по извилистой дороге.
Пассажиры молиториса глядели вслед пресловутому богатею с самыми разноречивыми чувствами. На одном из поворотов Розалия обернулась, чтобы помахать на прощание белым платочком, да не удержала его в руке и обронила в дорожную пыль, а Фабрициус, к которому, собственно, и был обращен прощальный привет, побежал вслед за тележкой, но пока подобрал платок да спрятал его у себя на груди, кенделевского экипажа и след простыл.
Прибыв без всяких приключений в Лёче, Кендель отказался от своего первоначального плана отвезти Розалию к сестре: ведь его видело в обществе девушки множество людей, и больше не имело смысла скрывать это знакомство. Да и сама Розалия знала теперь его настоящее имя. «Будь что будет!» — решил Кендель.
В тот же день он отдал Розалию в пансион Матильды Клёстер, и вечером она уже сидела за ужином вместе с остальными воспитанницами.
Ее встретили не особенно приветливо. Розалия заметила, что «старожилки» враждебно посматривают на нее, а за ее спиной отпускают ехидные шуточки. Причин этой враждебности она, к сожалению, не знала, иначе не принимала бы ее близко к сердцу. Однако неприязнь эта объяснялась очень просто: новенькая была красивее всех в пансионе, и потому девицы смотрели на нее искоса. Смеялись же они потому, что Розалия была плохо одета, приехала в помятом и, по их мнению, бедном платье.
Однако такой беде оказалось легко помочь. Господин Кендель оставил хозяйке пансиона целую кучу денег для Розалии и объяснил, что девочке по некоторым причинам пришлось очень быстро собраться в путь, и она не смогла захватить с собою сундуков с нарядами. (Здесь Кендель многозначительно приложил палец к губам.) Затем он сказал, что Розалия — дочь его приятеля Михая Отрокочи, который по тем же «причинам» (палец снова приблизился к сомкнутым губам) предпочитает не сообщать о своем местонахождении. Матильда Клёстер, державшая сторону куруцев, сделала из этого вывод, что отец девочки сделал какой-то неосторожный шаг в политической игре. Кендель взял с хозяйки пансиона слово немедленно обращаться к нему, как только девушке понадобятся дополнительные средства, попросил снабдить его подопечную всем необходимым для барышни знатного рода и выразил надежду, что мадемуазель Матильда будет обращаться с нею, как со своей родной дочерью.
— Жаль, — посетовал он, — что у вас нет деток.
Густо покраснев, старая дева принялась энергично возражать.
— Одним словом, — закончил свои наставления господин Кендель, — относитесь к Розалии с любовью, помните, что ее отец — богатый и могущественный человек, рука которого, когда она может двигаться свободно, далеко достает.
Мадемуазель Клёстер всегда старалась разузнать всю подноготную о своих воспитанницах, но, если это оказывалось невозможным, ограничивалась догадками. Ради догадок она даже жертвовала достоверными сведениями. Она просто забывала о них или уже не верила им. Собственные домыслы были для нее сладчайшим лакомством. Знать — приятно, но догадываться — куда приятнее. Сколько это приносит острых волнений!
Мадемуазель Клёстер долго обсасывала каждое интересующее ее событие со всех сторон — право, после нее и муравей не нашел бы здесь для себя никакой поживы.
Появление Розалии открыло широкие просторы для воображения Матильды Клёстер, пастушки пятидесяти ослепительно белых и одной черной овечки, и она тотчас же осыпала Розалию особыми милостями, будто новенькая была самая важная особа в пансионе, остальные же — только дополнение к ней.
Выполняя указания Кенделя, мадемуазель Матильда уже на следующий день с утра занялась «новенькой». Один за другим в пансион наведались многочисленные торговцы со своими товарами: тканями, кружевами, лентами. Искусные портнихи снимали с девушки мерку, делали «патронку» из бумаги, чтобы в мастерской по ним раскроить ткани.
Вот из этой материи сделают висты, из этой — бристель, из этой — янкер и эпген. * Гогоча, словно стая гусей, мастерицы долго решали, чем отделать юбку, как украсить передник. Словом, в этот день в пансионе происходило настоящее столпотворение.
Мадемуазель Клёстер сама определяла, какие поставить пуговицы, какой взять шнур на петли, какой сделать пояс. Воспитанницы заглядывали во внутренние покои, где «новенькую» превращали в модную барышню, и уже приветливо улыбались ей.
— Девочка отлично сложена, — хвастливо приговаривала мадемуазель Клёстер. — Шить на такую фигуру — одно удовольствие. Постарайтесь, милочки, чтобы все было хорошо и красиво. Не надо ничего убавлять, ничего прибавлять — только подчеркните то, что ей дано от бога. Таково уж правило в моем пансионе!
А Розалия была на седьмом небе. Она прыгала от радости и за два часа так привыкла к новому месту, будто провела здесь всю жизнь. Ведь она была еще дитя и приходила в восторг от одной мысли, что все эти безделки отныне принадлежат ей. Она ласкала взором кружева и ткани и один раз даже подумала со вздохом: «Отчего у меня не было таких платьев еще вчера или даже — позавчера?»
В довершение всего мадемуазель Клёстер раза четыре переспросила Розалию:
— Всем ли ты, милочка, довольна? Не хочется ли тебе еще что-нибудь?
И девушка отвечала:
— Я так счастлива, целую ручку. Все, все красиво!
Лишь один-единственный раз, ободренная вниманием наставницы, она сказала (Лучше бы промолчала!):
— Вот только цвет мне не нравится. Говорят, мне к лицу голубое, а ничего голубого здесь нет. Все только черное. Но ведь у меня никто из близких не умирал. (Как видно, смерть тетушки Дарваш от нее скрыли.)
— Конечно, конечно, — согласилась мадемуазель Клёстер и, пожав плечами, добавила: — Но что поделаешь, у нас в Лёче предписано одеваться только в черное. Для того чтобы носить цветные платья, надо сначала изменить порядки в городе.
Толпившиеся вокруг Розалии новоявленные подружки (молодые девушки быстро сближаются, ведь всякая «новенькая» — это загадка, а юность любит все загадочное) разъяснили ей:
— Мы вот тоже все ходим в черном, хотя и у нас никто не умер. Наоборот, кому-то чужому предстоит умереть, чтобы мы могли сбросить с себя эти черные одеяния.
— Странно, — задумчиво промолвила Розалия. — Кому же нужно умереть?
— Одному важному господину, некоему Палу Гёргею. Он застрелил лёченского бургомистра, и город очень гневается на него. Поэтому издан строгий приказ: всем жителям носить траур, пока город не отомстил Гёргею. Скорее бы уж черти побрали этого Гёргея, а то все мучаются из-за него одного! Тебе-то еще ничего, ты беляночка, тебе черное к лицу. А вот каково мне? Я ведь смуглая. Меня в черном просто и не разглядишь. Да чего ты плачешь, что случилось?
— В глаз что-то попало, — тихо промолвила Розалия.
Она хотела достать платок, но вспомнила, что уронила его на дорогу, когда выезжали из Яблоньки.
Силы вдруг покинули Розалию, и она рухнула в кресло. Она знала, что ее отца ненавидят и преследуют в Лёче, но не могла перенести насмешливого тона, каким говорили об этом посторонние. Сердце у нее сжалось, руки и ноги отказывались служить, она совсем обессилела.
«О, боже! — думала она про себя, — были бы у меня сейчас те самые капли, которые тетушка Катарина принимала, когда чувствовала слабость или боль».
В эту минуту вошла со свернутым платочком в руке одна из горничных.
— Господин Фабрициус просил передать барышне Отрокочи вот этот платок, говорит, что вы обронили его на дороге.
Девушка стремительно вскочила с кресла, у нее сразу кровь прилила к сердцу.
— Да! Да! Это мой платок! — хриплым от волнения голосом воскликнула она. — Кто его принес?
— Гайдук.
— Хорошо, благодарю вас.
А глаза ее — большие, восторженные, широко раскрытые — как бы говорили: «Нашел меня. Не иначе как дева Мария указала ему путь ко мне…»
Она весело замурлыкала песенку, пританцовывая, побежала по комнате и выглянула на балкон, где в больших кадках цвели розы. С кем еще, как не с розами, могла она поделиться своей радостью? Розы могли понять, какое чудо свершилось!
А на самом деле никакого чуда и не было. Просто мадемуазель Клёстер почти ежедневно навещала госпожу Фабрициус, жившую всего через два дома от пансиона. Они были старые подруги и любили посидеть вдвоем, поболтать о событиях минувшего дня. Мадемуазель Матильда была накануне у госпожи Фабрициус и рассказала, что папаша Кендель привез в ее пансион новую воспитанницу. А молодой сенатор услышал об этом от матери и тотчас дал знать Розалии, что игра в прятки кончена, — теперь им осталось только вместе посмеяться.
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ Беспокойные годы
Наступили беспокойные, недобрые годы. И не только для города Лёче, а и для всего венгерского народа. Однако нужно было как-то пережить их. Придут еще им на смену и хорошие годы. Времена, как и женщины, меняются — только в обратную сторону: красивые женщины с годами почти всегда дурнеют, даже становятся уродливыми, а плохие времена хоть и не всегда, но очень часто меняются в хорошую сторону. Медленно и незаметно сбрасывают они старое обличье, и вдруг, всем на удивление, предстают в дивном великолепии. Так случилось и со временами куруцких войн. Раны, полученные нами в те годы, сделались вдруг источником нашей силы, а те раны, что мы наносили врагу, обернулись для нас розами. Бог мудро решил, что, если борцу, поднявшему меч за правду, отсекут в битве руку, она как бы вновь отрастает у него.
Но пока все еще было тихо. Наместник императора герцог Пал Эстерхази или, как он тогда именовал себя, Эстерхаз, преспокойно сидел в своем фракнойском замке, где были собраны богатейшие коллекции картин и прочих произведений искусства. Это был добродушный приятный старичок — воплощение венгерского мужицкого ума, вооруженного, однако, новейшей образованностью. И вместе с тем магнат — не слишком заносчивый, чуточку упрямый, но справедливый и отнюдь не самодур, а человек рассудительный. Девизом его было: «Все для достижения цели». (Правда, целью у него чаще всего было его собственное благополучие.) Он даже арбузы ел не потому, что арбузы вкусны, но потому, что они, по его мнению, промывали почки; огурцы он ел тоже ради их полезности, зная, что они способствуют выделению желудочного сока, верхом ездил, чтобы избежать ожирения, спал — потому что сон возвращает организму силы, если же, наоборот, не спал, то тоже неспроста, — хотел закалить организм. Одним словом, он принадлежал к числу тех государственных мужей, которые делают все, что им вздумается, но каждое свое действие оправдывают его целесообразностью, а под конец жизни вдруг начинают уверять, будто все на свете целесообразно. Эстерхази ухитрился обосновать даже злополучный закон, о престолонаследии, навеки обрекавший венгров находиться под игом Габсбургов: «До сих пор Габсбурги высасывали из нас все соки, словно арендаторы из чужой земли. А вот если мы передадим им нашу землю навсегда, они будут ухаживать за ней, удобрять ее. Назад Венгрию нам теперь уж все равно не получить, независимо от того, хотим мы этого или нет. Так уж лучше отдадим ее сами, добровольно».
Может быть, наместник действительно так и думал и говорил это не по глупости. Одного не учел Эстерхази, что Габсбурги-то были глупцы. Они продолжали обращаться с Венгрией, как и прежде, подобно арендаторам, вытягивая из нашей земли все соки, а вот «унавоживать» ее они и не собирались. Двуглавый орел — птица, больше пригодная для того, чтобы пожирать, чем унавоживать. А если и перепадало Венгрии что-нибудь от орла из его «удобрений», то разве только одному Эстерхази. Например, титул герцога и обширные имения.
Однажды утром, когда наместник был занят писанием ученого труда «О трофеях рода Эстерхази», к нему в кабинет вошел обер-секретарь Дёрдь Инкеи, единственный человек, имевший право входить к Эстерхази без доклада в любое время, и воскликнул патетическим тоном, каким принято сообщать сенсационные известия:
— Ваше сиятельство, война! Враг на пороге!
Наместник сначала дописал до точки начатое предложение, отер перо, сунул его за ухо и только после этого повернулся к секретарю:
— Где?
— Один сепешский дворянин, по фамилии Бибок, состоящий на службе у тамошнего вице-губернатора, не найдя вас в Буде, примчался сюда с сообщением, что молодой Ракоци уже стоит с польским войском на границе, а может быть, теперь уже и вторгся в пределы Венгрии. Бибок сам был очевидцем того, что Янош Гёргей и Тамаш Эсе успели привести к присяге на верность Ракоци небольшой отряд куруцев и отправились с ним навстречу мятежнику.
— Canis materl[45] — воскликнул наместник. — А не попадем мы впросак с этим известием?
— Нет, сомнений быть не может. Ракоци вторгся в страну.
— Ну, если вторгся, то мы его исторгнем! — весело проговорил Эстерхази. — Однако на всякий случай напишите донесение его величеству. Я подпишу, и пусть гонец тотчас же отправляется в Вену.
Отдав такое распоряжение, герцог Эстерхази спокойно повернулся к столу и вновь принялся за свое сочинение. Инкеи же поспешно настрочил и с конным нарочным отправил в Вену донесение с подробным изложением дела. В доказательство того, что вся эта история не выдумана, к донесению был приложен приказ вице-губернатора Пала Гёргея об аресте собственного его брата, Яноша Гёргея, а также прошение Жигмонда Бибока, в котором тот, верноподданнейше припадая к стопам императора, просил принять его в соответствующем чине в императорскую армию или как-либо иначе вознаградить его за великое усердие, ибо он, оставив службу у сепешского вице-губернатора и не щадя живота своего, дни и ночи напролет скакал на коне, чтобы поскорее принести столь важное для Австрийской империи известие.
Вскоре, не жалея лошадей, в Буду примчался императорский курьер и привез ответ. Едва гонец соскочил наземь во дворе Эстерхази, конь рухнул и издох. Император срочно вызывал в Вену своего наместника в Венгрии, а доносчику велел передать посланный с курьером мешочек золотых и, если Бибок заслуживает еще какой-либо награды, предлагал обойтись с ним подобающим образом и назначить на ту должность, для которой он подойдет. Герцог был зол, что ему придется ехать в Вену, участвовать там в скучных конференциях и совещаниях, ведь долгое сидение вредно отзывается на деятельности желчных протоков, но все же он отдал приказ собираться в дорогу, и весь замок тотчас же закипел, словно разворошенный муравейник. Не забыл наместник и Бибока. Он прочел возвращенное императором прошение доносчика и приложенный к нему приказ Пала Гёргея об аресте его брата Яноша Гёргея, а затем пригласил к себе Бибока, ожидавшего во фракнойском замке решения своей участи. Эстерхази расспросил его обо всех подробностях дела: «На тот случай, — как он пояснил, — если о них пожелает услышать его императорское величество».
Бибок рассказал обо всем: о сундуках с порохом и ружьями, о том, как он, спрятавшись в печной топке, подслушал переговоры Эсе с дворянами и приведение их к присяге и, наконец, о том, как он сообщил неожиданную новость вице-губернатору, а тот направил его, Бибока, во главе отряда на поимку своего старшего брата.
— Ну, и почему же вы не арестовали Яноша Гёргея, если получили такой приказ?
— Я подумал, что принесу больше пользы его величеству, если не стану терять времени и поспешу с известием сюда.
— Canis mater! И как это вам только в голову пришло вспомнить об его императорском величестве? — спросил герцог. На его губах, под усами, заиграла ироническая усмешка, совсем не понравившаяся Бибоку.
— Потому что я очень люблю его величество, — отвечал он, устремив взор на украшенный росписью потолок.
— Да? Ну, хорошо, хорошо! Его величество посылает вам за ваш донос мешочек с золотом и возвращает ваши бумаги, Эстерхази поднял со стола зеленый шелковый мешочек и знаком подозвал к себе одного из двух вооруженных алебардами часовых, чтобы тот передал мешочек Бибоку; герцог Эстерхази всегда принимал «мелких людишек» в присутствии часовых у дверей и не допускал их к себе близко — не то чтобы из страха, а ради сохранения своего достоинства.
Бибок принял мешочек, поклонился, а сам тем временем уже прикинул его содержимое на вес и нашел, что мешочек слишком легкий.
— Ваше сиятельство, — воскликнул он, нагло делая шаг вперед, — я просил у его величества еще кое-что. Ведь для того чтобы сослужить ему службу, я бросил свою прежнюю должность.
— Верно, в высочайшем письме говорится и об этом, и сейчас я исполню пожелание его величества.
Физиономия Бибока важно надулась, а глаза засверкали от радости.
— Назначаю вас истопником при моей канцелярии, — продолжал наместник, — памятуя о том, что ваша служба у нас берет свое начало, так сказать, из печной топки.
— Ваше сиятельство, вы изволите шутить надо мною, усердным вашим слугой.
— Canis mater! Я не привык шутить с такими людьми, как ты. Но я еще не кончил: ты еще получишь от меня двенадцать палок за то, что должен был изловить Яноша Гёргея, но не выполнил приказа. Все!
Бибок зашипел, словно змея, которой наступили на хвост.
— Я протестую, ваше сиятельство! Я — дворянин.
— А за твое «протестую» прибавлю еще шесть палок. Благородный человек не станет взламывать чужие сундуки и шпионить в печных топках. Эй, позвать сюда коменданта!
— Я до самого императора дойду!
— За это — еще шесть палок. Боюсь, так ты далеко зайдёшь, землячок! Пшел вон!
Спасения не было. «Полковника» разложили на самой середине двора и дали ему двадцать четыре палки. Бибок орал благим матом, сыпал проклятиями и под смех лакеев (куда уж тебе, бедняге!) грозил всемогущему герцогу Эстерхази страшной местью, клялся, что он, Бибок, хоть ползком, но доберется до самого императора и притянет к ответу императорского наместника за расправу, которую тот учинил над ним, дворянином. Но Бибок тщетно рвался ко двору: об аудиенции у императора Леопольда ему нечего было и думать. Слишком уж грубой и не внушающей доверия была его физиономия, а параграфы «Золотой буллы» * о неприкосновенности дворян уже успели быльем порасти. Впрочем, нельзя сказать, что он напрасно стремился в Вену. Там он познакомился с одним поляком, неким старостой Любомирским, находившимся тогда в имперской столице. Во время пирушки в каком-то трактире между старостой Любомирским и тремя моравскими чехами вспыхнула драка. Бибок, сидевший за соседним столиком, знал, что его новый знакомый — староста сепешского города Белы; почуяв возможность устроить свои делишки, он схватил стул, отколошматил подвыпивших чехов и вышвырнул их из трактира. Благодарный староста тут же нанял Бибока к себе на службу и помог ему во всем остальном. Добиться для Бибока аудиенции у императора оказалось ему не под силу, но имперского канцлера все же он сумел уговорить, чтобы тот принял и выслушал «полковника».
Канцлер, вельможа с изысканными манерами, быстро разобрался в существе жалобы и изобразил на своем лице сожаление.
— Увы, милый друг, помочь вам я едва ли смогу. Счесть незаконным наказание, которому вы подверглись, не в состоянии ни я, ни даже его величество. Наместник — могущественное лицо, мы должны с ним считаться. Кроме того, здраво рассуждая, нужно признать, что в известном смысле он был даже прав; вполне возможно, что, когда я доложу ваше дело его величеству, он тоже склонится к такой точке зрения: ведь вы обязаны были арестовать этого самого Яноша Гёргея.
— Но тогда я бы не мог быстро донести его величеству о грозящем вторжении Ракоци.
— Это не такое уж было бы несчастье, — вяло улыбнувшись, заметил канцлер. — Ракоци вторгся бы в любом случае, как он это уже и сделал. Зачем нам знать, вторгнется он или нет, если мы все равно не можем этому помешать? Но вот если бы вы изловили Яноша Гёргея, князь Ракоци уж никак не мог бы вторгнуться в Венгрию вместе с Гёргеем, а только — без него.
Это простое и весьма логичное рассуждение окончательно сбило с толку авантюриста.
— Да, я согласен, надо было его поймать, — пробормотал он, скорее сам себе. — Но все же… Наказывать палками дворянина! Это ведь ужасно! Существуют дворянские привилегии или нет? Так это нельзя оставить!
Канцлер пожал плечами и нервно поиграл локонами длинного парика (в таком парике всякий человек с продолговатым лицом походил на Людовика XIV). Бибоку еще перед приемом было сказано в передней, что этот жест канцлера означал окончание аудиенции.
— Что же касается Яноша Гёргея, — продолжал «полковник», впадая в привычное ему хвастовство, — то я могу его изловить в любой момент, когда только захочу.
— Вот это уже другой разговор! — оживившись, воскликнул канцлер. — Такой ответ я слышу с удовольствием. Поймайте нам Яноша Гёргея, и, смею уверить, вы получите блестящую компенсацию за нанесенное вам оскорбление.
Итак, все старания Бибока привели к неутешительным для него итогам. Он покинул Вену, сопровождая своего нового хозяина, к которому поступил на службу в качестве «придворного» (как нынче назвали бы его должность) — то собутыльника своего барина на пирушках, то самого обычного лакея, которого Любомирский, не стесняясь, срамил перед остальной челядью. Жалованья ему не было определено (а потому в кармане у него было то густо, то пусто), да, впрочем, не был определен и круг его обязанностей: он должен был и объезжать лошадей хозяина, и драться за него в трактирах, если к этому вынуждали обстоятельства, добывать пригожих молодушек, приглянувшихся старосте, чистить ружья и чубуки, спаивать и потешать гостей — а за все это взамен жалованья Бибок имел право быть с хозяином на «ты», если, конечно, видел, что тот в хорошем расположении духа. Столь лестная привилегия и делала для Бибока терпимым его пребывание на службе капризного Любомирского.
Однако ж Бибок все время был как на иголках. Доносившиеся в Белу отзвуки сражений не давали ему покоя. Слухи о том, что Ракоци продвигается вперед, то здесь, то там громя австрийцев, что в Венгрии кто-то еще присоединился к нему, что Трансильвания уже вся в его руках, а за ней он вот-вот завладеет и Задунайщиной, — держали Бибока в лихорадочном волнении. Война в ту пору еще являлась такого же рода развлечением, как, например, нынче охота, рыбная ловля или другие виды спорта. Иные венгерские дворяне, от дряхлости неспособные и сапоги-то натянуть на ноги, а не то что сражаться, — присоединялись к полевым армиям, деля с ними все лишения и злоключения. Но такие «радетели» не только не помогали полководцам воевать, а скорее мешали, — путались у них под ногами, тащили за собой огромную поклажу, разлагали остальных своей болтовней и умничаньем, подрывали дисциплину, связывали армии большими обозами. Освободиться же от них не было никакой возможности. Для стариков военная кампания была своего рода «клубной жизнью». Жареный барашек у походных костров, рассуждения, стратегические планы, озорные анекдоты, чарочки трофейного винца — все это было острейшим удовольствием в жизни тогдашнего дворянина.
Нечего удивляться, что Бибок с его беспокойной, бурлящей кровью и натурой авантюриста безудержно рвался туда, где можно командовать другими, грабить, насильничать. Но как пойти на войну? Приверженцы императора, у которых он надеялся получить в награду за донос офицерский чин, дурно обошлись с ним. Он до сих пор скрежетал зубами, стоило ему вспомнить, какую расправу учинил над ним наместник, — и, главное, как он предлагал ему должность истопника. Последнее было такой унизительной обидой, что на нее он не решался пожаловаться даже Любомирскому. Одним словом, путь в императорскую армию для Бибока был закрыт. А к куруцам — и тем более. С лабанцами он, по крайней мере, расквитался. Куруцы же еще не свели свои счеты с ним. Если Бибок вернется в Гёргё, там его тотчас же схватит Пал Гёргей и, как говорится, за ушко да на солнышко. Если же он вступит в войско куруцев солдатом, там тоже найдется кто-нибудь, кто может разоблачить его, рассказав, как он взглядывал в сундуки Тамаша Эсе, подслушивал, сидя в печи, переговоры куруцев, а затем выдал их тайну вице-губернатору, мало того, бросил свой отряд на произвол судьбы, а сам помчался с доносом к наместнику.
Одним словом, Бибок сидел в городе Бела, терзаясь муками Тантала, не имея возможности тронуться с этого места. Хоть бы не слышать ему о сражениях! Но ведь в этом городе только и разговоров было что о войне: не могли же бельцы оставаться безразличными, когда речь шла о судьбе их матери — Венгрии. Ведь в свое время эта часть страны была отдана полякам не по ее воле, а для того, чтобы пополнить кошелек короля Сигизмунда *. Купцы постоянно ездили туда и сюда через границу, даже начали прибывать беженцы, чьи дома были сожжены: в одном случае — куруцами, в другом — лабанцами. Польский Сепеш казался им более спокойной территорией. Провинившиеся солдаты, спасаясь от наказания, тоже бежали сюда, в Польшу. Не удивительно, что в Беле было много всяких слухов. А особо важные вести и в гонцах не нуждались, — они сами каким-то таинственным путем долетали сюда. Доходили до Белы и пустяковые слушки. Раз в месяц в трактире «Пес, лающий на луну» останавливался на ночлег лёченский дилижанс молиторис, и тогда пассажиры, возница или кондуктор (раз в полугодие в этой роли приезжал знакомый нам господин Клебе!) рассказывали окружающим о всех мало-мальски примечательных событиях в австрийской части Венгрии. Тут уж Бибок проводил вечер в их обществе, расспрашивая о лёченском житье-бытье, в особенности если ему удавалось залучить в собеседники господина Клебе: «Что новенького в Лёче? Кто умер? Кто вышел замуж? На чьей стороне город?»
Клебе был человеком осведомленным и мог с полным знанием дела рассказать обо всем: и о внутренних делах городского сената, и о положении в комитате.
— Все еще в черном ходите?
— Пока еще в черном.
— А кто сейчас у вас в Лёче бургомистр?
— Все тот же — господин Нусткорб.
— Как видно, беспечный человек! Так ничего и не хочет предпринять.
— Предпринял бы, да не может.
— И, разумеется, у Гёргея ни один волос с головы не упал?
— Что ему сделается!
— Значит, с той поры он так ни разу и не бывал в Лёче?
— Бывал, как же! — рассмеялся Клебе. — В образе привидения. Между прочим, забавный случай! Покойный бургомистр Крамлер, вечная ему память, похоронен у соборной стены. Как-то в лунную ночь пономарь, папаша Плех, по какому-то делу проходил мимо собора и вдруг видит: разверзлась могила господина Крамлера на две створки — что тебе коляска Миклоша Блома, — и выходит из нее человек. Бедняга Плех, конечно, перепугался, но все же при свете луны разглядел, что вышел-то не бургомистр, или, вернее, бургомистр, но только он принял облик Пала Гёргея. Походка Гёргея, осанка Гёргея и фигура его — одним словом, вылитый вице-губернатор. Если, конечно, верить папаше Плеху. Ну, Плех, разумеется, улепетнул. У него со страху зуб на зуб не попадал.
— Приснилось, наверно, старому олуху.
— И я так подумал. Но вот и ночной сторож Зернецкий, который шел в этот час из собора, тоже узнал в этом человеке Гёргея, пошел за ним следом и заметил, как призрак завернул возле дома Маукша на Соляную улицу. Сторож за ним, призрак наутек, сторож за ним вдогонку. Призрак добежал до бастиона, перемахнул через стену, сторож — смелый человек! — успел только плащ с него сорвать…
— Чепуха!
— Чепуха, это верно. Но больно уж запутанная чепуха: ведь темно-серый плащ — тот, что остался у сторожа в руке, — комендант Гродковский признал наутро. Говорит — губернаторский. Шил, говорит, портной Штефеци. Вызывают Штефеци. Тот признал свою работу: я, говорит, шил его для вице-губернатора Гёргея. Вот и попробуйте разгадать загадку!
— Ну, а могилу не осматривали?
— Как же не осматривали. Осматривали. Все в порядке. — Закрыта, дерном обложена. А на нем несколько цветков полевых, засохших.
— Когда же это случилось?
— Примерно с год тому назад.
Староста города Белы был, так сказать, только управителем, хотя и обладал большой властью и авторитетом. Настоящим же хозяином Белы являлся барон Палочаи. Ему принадлежали окрестные земли на три дня пути от города. К тому же он состоял в родстве со всей венгерской аристократией: был шурином Шандора Карои, куруцкого генерала, доводился родичем и покойному польскому королю Стефану. Правда, в Польше к этому времени пришла к власти уже другая династия, но, подобно тому как постоянные посетители какого-нибудь трактира остаются его завсегдатаями и после смены владельца, семейство Палочаи, приезжая в польскую столицу, по-прежнему останавливалось на королевском дворе. К тому же и старые родичи короля, и маленькие королевичи радостно встречали барона Палочаи при всяком его появлении. «Кто это приехал? Неужели это вы, дядюшка Палочаи?»
Надо сказать, Палочаи не очень-то любил ездить в королевские столицы — у него не было для этого лишних денег. Откуда он мог их взять? Деньги бывают у мотов, которые готовы протранжирить все, что родит земля, вместо того чтобы самим кормиться ее плодами да кормить крестьян. Есть деньги и у жуликов, которые различными способами вытягивают их из карманов честных людей.
Палочаи никогда ничего не продавал. Если купцы предлагали купить у него шерсть или зерно, он принимался торговаться с ними, но окончательно договориться о цене никогда не мог. Бывало, что скупщики уже совсем соглашались уплатить названную Палочаи цену и оставалось только ударить по рукам, но вдруг хозяин, как будто испугавшись, отказывался от сделки: «Если вы за пшеничку столько даете, значит, она много дороже стоит». И зерно оставалось лежать в его закромах на радость амбарному жучку. Волы, коровы и овцы барона Палочаи умирали естественной смертью — от старости, и даже их шкуры не шли на продажу: хозяин боялся их продешевить, и потому они гнили на чердаках.
Будучи венгром и к тому же по натуре своей человеком простецким, барон Палочаи махнул рукой на всякие практические дела и нисколько ими не занимался: его поместьями управляли приказчики (управляли, как хотели), о его гардеробе заботилась дальняя родственница, некая госпожа Витнеди, обедать в ужинать он ходил в трактир «Пес, лающий на луну». Трактир принадлежал ему (арендатором был Ференчик), и поскольку посетителями этого заведения по большей части были приезжие из Венгрии, Палочаи чувствовал себя здесь совсем как дома, среди сородичей. Здесь он и убивал время, как подобало венгерскому аристократу, слушая собственный оркестр цыган в красных рубахах да заунывные песни, сложенные еще при Имре Тёкёли, и хлебал тминный суп, потому что уже был совсем стареньким старичком. Чаще всего он пил и ел в кредит у Ференчика, а в это время в роскошном дворце Палочаи повара, кухарки и лакеи готовили обильную трапезу для самих себя. Барон приходил в свой дворец только ночевать.
А все же неплохо, что амбары барона Палочаи были полны многолетними запасами овса, ржи и пшеницы, — ведь в дни вспышек народного гнева в Венгрии получали распространение странные обычаи в хозяйстве. Церковные колокола переставали оплакивать мертвецов, спускались из поднебесья на землю и, обернувшись медными пушками, увеличивали число покойников. Белый холст употребляли не на котомки для сеятелей, а на военные походные палатки, косы перековывали на сабли. Все шло шиворот-навыворот, и уже не клевер, не рожь сеяли люди по весне, а смерть, потому что пожинать они хотели — свободу… Вот почему слух о полных зерном амбарах барона Палочаи был сладостным для сенаторов города Лёче, и они, не теряя времени, послали в Белу самого молодого и самого старого из своей среды — Антала Фабрициуса и Амбруша Мостеля, поручив им поскорее закупить у старого барона все его зерно: городу Лёче нужно было приготовиться к осаде по меньшей мере на целую зиму, а может быть, и на более длительный срок, и как тогда дóроги для них окажутся сокровища, лежащие в закромах барона, — еще дороже, чем для него самого.
Посланцы города Лёче прибыли в Белу, но барон и слышать не хотел о продаже зерна и даже оскорбил убеленного сединами старца Мостеля:
— Вы что же думаете: зерно у меня ворованное? Как же, стану я продавать вам пшеницу! Да еще в такую пору, когда ее ни у кого нет; если я не продавал даже тогда, когда весь мир купался в пшенице! Что у меня есть, у меня и останется. Кто знает, когда придут и долго ли протянутся библейские «тощие годы». Если для вас важно иметь запасы зерна, так же это важно и для меня.
— Я возмущен подобным заявлением. Вы говорите неправду! — с негодованием воскликнул Фабрициус, повергнув барона этими словами в изумление. — Вы, ваше сиятельство, просто собираетесь отращивать себе брюшко, а мы хотим приобрести это зерно для того, чтобы могли перезимовать у нас войска его высочества князя Ракоци, перед которыми мы шестнадцатого ноября открыли ворота нашего города, ибо эти воины готовы пролить кровь за нашу общую родину-мать, а она, как видно, очень любила господина барона Палочаи, коль скоро от самого своего сердца оторвала для него такой кусище!
Фабрициус говорил с таким жаром и так неделикатно, что старый Мостель укоризненно нахмурил свои лохматые брови: «Эх, Тони, Тони», — но Палочаи засмеялся и подозвал к себе трактирщика.
— Вы слышите, Ференчик, что говорит этот молодой человек? Оказывается, я тут только брюшко себе отращиваю. А ведь юноша, пожалуй, прав! Хотя он и грубиян. Осмелился сказать мне это прямо в глаза! Как, однако, ваше имя, милейший?
— Фабрициус.
— Итак, сколько же вы, милейший, согласны дать за мою пшеничку? Послушаем ваше предложение.
— Первое слово за вами, ваше сиятельство.
— Ну, хорошо! — проговорил старик. — Чтобы никто не был в обиде, дам я свое зерно городу Лёче в долг, но при одном условии, что город возвратит мне этот долг натурой — ровно столько же и точно таким же зерном, какое вы сейчас возьмете из моих амбаров.
— Согласны! — воскликнул младший сенатор и хлопнул ладонью по ладони магната.
— Минуточку! — заметил барон, предостерегающе поднимая руку. — Я еще не кончил. В первых шести амбарах позади замка лежит банатская пшеница. Лучше этой пшеницы для посева не найти! Каждое зернышко с печатью девы Марии. И я требую, чтобы вы возвратили мне весь долг пшеничкой с печатью Марии на каждом зернышке!
— А что это означает? — озабоченно спросил Фабрициус, бросив вопрошающий взгляд на Мостеля: может быть, тот, слышал что-нибудь подобное?
— Как? Вы не знаете, что такое печать Марии на пшенице? — рассмеялся барон Палочаи. — Ох, уж эти мне горожане! Вы подумайте, Ференчик, они даже не слышали про пшеницу с печатью девы Марии? Вот умора! Пойдите, Ференчик, скажите кому-нибудь из приказчиков, чтобы сюда принесли пригоршню зерна. Только поживей, одна нога здесь, другая там.
Лёченские сенаторы переглянулись, подмигнули друг другу и что-то буркнули, — видно, посоветовались, как бы избежать слишком уж сложного контракта с бароном, тем более что старый хитрец, как видно, способен на все. Вот сейчас, например, требует от них какую-то пшеничку-католичку.
Слова «пшеничка-католичка» Фабрициус произнес очень тихо, но барон их все же услышал и развеселился:
— «Пшеничка-католичка!» Ха-ха-ха! Остроумно! Этого даже сам Колонич не мог бы выдумать, не то что я. Ну, хорошо, если вы боитесь слов «печать девы Марии», не станем называть ее так. Дело в том, что неповрежденные, здоровые зерна венгерских сортов пшеницы выглядят так, будто на их верхушке поставлена печать… Впрочем, вы сейчас сами в этом убедитесь. И мы, старые земледельцы, считаем, что только такое зерно годится на семена.
— Все это верно, ваше сиятельство, — заметил Мостель, — но лучше всего, когда договор содержит ясные условия. Как старый человек, я усвоил это еще от древних римлян: «Clara pacta boni amici». Кроме того, я убедился, что кредит очень портит отношения. Чистоган лучше всего: берешь товар — даешь деньги.
— Что верно, то верно, — согласился барон. — Но ведь и я старый человек. И научился я у римлян (и у своих соплеменников тоже) не только хорошему, но и плохому. А по природе я человек жадный, завистливый. Как бы хорошо я ни продал свою пшеницу, все равно меня будет точить мысль, что другие, возможно, дали бы мне за нее дороже, и я не смогу спокойно спать. Какая же вам польза от того, что я не буду спокойно спать? Да еще меня будет мучить зависть: ведь для того, чтобы уплатить мне наличными, вам придется занять денег у Кенделя благодаря моей пшенице. А почему я должен помогать ростовщику Кенделю?
Тем временем прибежал запыхавшийся Ференчик и принес пригоршню пшеницы. Оба сенатора с интересом принялись ее разглядывать и действительно увидели, что на верхушке каждого зернышка, в том месте, где оно дольше всего оставалось сращенным с колосом, образовались небольшие округлые углубления, которые с помощью известного воображения, пожалуй, можно было принять за лик девы Марии.
— Но как же мы пойдем на такое условие, чтобы на каждом из зерен, которые мы возвратим, был виден этот знак?
— А разве сейчас он — не на каждом?
— Да, конечно, но…
— Ну тогда за чем же стало дело? — заметил барон.
— А вдруг вы, господин барон, или ваш наследник потребует от сената, чтобы мы, возвращая долг, перебирали пшеницу по зернышку, иначе как же можно убедиться, что есть на них этот знак?
— Верно, работа предстоит большая. Однако я или мой наследник действительно должны будем принять долг по зернышку. Кстати, сенату, вероятно, даже и не придется возвращать всю занятую у меня пшеницу, ибо перебирать ее по зернышку надо будет не меньше ста лет.
Старик был упрям. Пробовали уломать его сенаторы и так и эдак, доказывали, что его условия — глупость, но барон не соглашался уступить ни на йоту. Поскольку, однако, лёченские послы были у него в руках, в конце концов они вынуждены были подписать договор, что Лёче обязуется возвратить барону Палочаи ровно столько и такого же качества пшеницу в натуре, сколько представители города взяли ее у барона «взаймы».
Однако политика старого барона объяснялась просто: судя по приметам (появились у него белые пятнышки на ногтях, чесалось ухо), он со дня на день мог получить из Кракова, или из Вены, или из Шарошпатака приятное письмецо, предлагающее «передать за соответствующее вознаграждение имеющиеся у него запасы зерна в распоряжение генерала такого-то». А все «соответствующее вознаграждение» будет состоять из расписки — то есть никчемной бумажки, которая, по всей вероятности, в дальнейшем будет иметь ценность лишь как памятка о военном времени. Итак, одна из воюющих сторон заплатит за пшеницу распиской, другая же (та, которая не получит пшеницы) разгневается и отплатит за это. Да еще как отплатит! Дело известное! И уж лучше всего передать запасы продовольствия нейтральному вольному городу, который и после войны останется цел и невредим. Однако передать надо не за деньги, ибо люди в начале войны лишаются рассудка, а в конце ее — денег.
Трактир «Пес, лающий на луну» еще не знавал таких веселых дней, как в эту зиму, когда лёченцы вывозили из Белы баронское зерно. (Именно тогда-то арендатор трактира Ференчик так разбогател, что построил себе большой двухэтажный дом.) Веселые деньки наступили и для Бибока, Теперь в трактире постоянно собиралось десятка два приезжих лёченцев, которые здесь, вдали от дома, за кружкой доброго вина охотно вели разговоры о событиях в городе.
— Как же это у вас получается? — подсмеивался над ними Бибок. — Город по-прежнему в трауре, а на постой к себе вы пустили гусар в красных штанах?
— Что поделаешь, пришлось пустить.
— А женщины все так и ходят в черном?
— Ну, это не беда. Куруцы и под черным умеют разглядеть белое.
— Ну, а как дело с Гёргеем?
— Забыть не забыли, но до поры отложили.
— И дворянство по-прежнему заседает в Гёргё?
— Да, там они теперь чешут языки.
— Дураки, видно, люди: ради спасения губернаторской шкуры соглашаются ездить туда!
— Ничего не дураки, — дружно возражали Бибоку собеседники. — Теперь есть прямой смысл ездить в Гёргё! Такого трактира, как кенделевский, наверное, во всей Европе не сыщешь. Знали бы вы, что там теперь творится! Туда нынче рады прокатиться не только дворяне со всего комитата, а и бюргеры из Лёче. Нужно, например, лёченцам устроить веселую пирушку, отпраздновать крестины или серебряную свадьбу — они едут в Гёргё. Ведь за городской чертой никакие запреты и распоряжения лёченского сената не действуют…
Подобные беседы заполняли долгие зимние вечера. Бибока занимали больше всего рассказы о Гёргё и его обитателях, меж тем простые возчики то и дело перескакивали на другие темы, не представлявшие для него никакого интереса. Они дивились, например, удачливости Кенделя, гостиница которого так прославилась, что старика засыпали предложениями желающие взять ее в аренду. А ведь вся его затея построить гостиницу и трактир родилась просто из желания подольститься к вице-губернатору! Да, видно, Кендель такой уж счастливец, что стоит ему бросить золотую монетку даже в болото, а вытащит он оттуда котел, полный золота.
Сенаторы, пока они находились в Беле, избегали говорить с Бибоком о политике, — он лишь кое о чем догадывался из их кивков или пожимания плечами. Что же до обозников, перевозивших пшеницу — иногда с ними приезжал вилликус, — то Бибок их сторонился. И только на масленицу уютный уголок трактира «Пес, лающий на луну» превратился для него в истинный рай, так как он увидел там за столиком господина Клебе, прибывшего в Белу. В тот день бушевала снежная буря, молиторис у самого въезда в город свалился в канаву, сломался, и пришлось чинить его; тут немало понадобилось каретной и кузнечной работы, и Клебе из-за этого задержался в городе на три дня.
Все эти три дня посетители трактира с наслаждением слушали привезенные господином Клебе политические новости, действовавшие на них не хуже живительного пунша за ужином. Клебе был наделен весьма тонким умом, да еще фанатически верил в грядущее величие и славу сепешских саксонцев. Он чрезвычайно быстро приходил от них в восторг, особенно за чарой вина. Но после четвертой кружки обычно принимался плакаться:
— Испортились наши саксонцы, никуда они теперь не годны. Бургомистр Нусткорб — осел. Но вы никому не говорите: я не хочу, чтобы люди от меня это узнали, — давно могли бы и сами догадаться. Что от него толку, от этого Нусткорба? Только языком болтает: «Надо что-то сделать». А сам ничего не делает. Горожане наши понимают: сенат дурака свалял, заставил их ходить во всем черном; все возмущаются, а так и ходят в трауре, пикнуть не смеют.
— Да, недолго будут уважать такого бургомистра! — заметил Бибок.
— Уважать? Какое тут уважение! Оно все расползлось, будто старая шуба, изъеденная молью.
— Но неужели лёченцы ничего не предпринимают?
— Хватаются за одно, за другое! Да вот беда — нет среди них ни одного смелого человека.
— Тут вот Фабрициуса хвалили, того, что осенью к Палочаи приезжал.
Господин Клебе пренебрежительно махнул рукой:
— Не получится и из него вожака.
— Отчего же?
— Влюбился он по уши в одну венгерку.
— Откуда это вам известно?
— Да я же сам ее привез, — взял к себе на молиторис по дороге из Буды. Да, вот была поездка! Когда-нибудь при случае я вам расскажу, как мы пировали на лесковской мельнице. Вот тогда, в пути, и началась у них любовь. А потом дальше — больше: встречи на прогулках, встречи в городском саду, встречи возле крепостной башни, — встречи всюду, где бывает барышня-красавица. Но я не для того говорю, чтобы посплетничать. Просто у меня за город душа болит. Вот здесь, сынок, будто рана какая огнем жжет. Честное слово, так и палит. — И господин Клебе постучал себя кулаком в грудь. — Послала нам судьба горе горькое, безысходное горе. Конечно, бог лучше знает, не нам ему указывать, как должны идти в городе дела. Но ведь на бога надейся, а сам не плошай. Должно же что-то произойти. Либо бюргерам пора разогнать сенат, либо сенату пора слопать этого Гёргея, как пауку комара. Словом, пусть тут будет все что угодно, только не то, что сейчас происходит. Прежде, бывало, одно только комитатское дворянство ездило в Гёргё, в трактир Кенделя, а с прошлой осени и бюргеры завели моду развлекаться там. Как воскресенье — вся наша знать под вечер туда на прогулку отправляется: выезжают за городскую черту — барыни скидывают с себя черные балахоны, накинутые для отвода глаз (чтобы приказ не нарушать), а уж дальше катят раз-наряженные, красуются всеми цветами радуги, а с ними провожатые — куруцкие офицеры. Вот уж, верно, Пал Гёргей доволен, — сидит, посмеивается. Из его окон очень даже хорошо видны кудрявые деревья перед кенделевским трактиром.
К полуночи сотрапезники становились еще говорливее, но где бы ни блуждали их мысли и речи, они не могли оторваться от этой темы, война с вице-губернатором стала основной задачей каждого лёченца. Осторожный Клебе делался вдруг запальчивым, становился бунтарем и грозил перевернуть весь свет, если он, то есть свет, не исправится и не пойдет по пути, предначертанному для него господином Клебе.
— Разумеется, — говорил он, — сложно все это. Сейчас я и сам не знаю, что надо делать. Но ведь я-то не получаю у города за это денег! Пусть Нусткорбу будет совестно.
У Бибока сорвалось с языка, что он знает, как помочь саксонцам. Есть для этого средство. Надежное и вполне безопасное средство.
И до тех пор болтал Бибок, пока Клебе не обратил на его слова внимания.
— О каком еще «средстве» вы говорите?
— Это только мне одному известно.
— И в какой же аптеке его можно купить?
— Ни в какой. Деньги тут роли не играют. И вообще, что мне за дело до Нусткорба и до всех ваших лёченских саксонцев?
— Каждый порядочный человек помогает ближним.
Но Бибок только плечами пожал, да состроил такую загадочную мину, что раздразнил любопытство господина Клебе. В конце концов бравый кондуктор молиториса совсем расстроился, даже заплакал и начал жаловаться, что не в силах перенести обиды… Как это можно, чтобы его дорогой друг, господин Бибок, которого он так любит и уважает, не доверял ему.
Бибок тоже растрогался, протянул ему обе руки.
— Клебе, старый приятель, не будьте ребенком! Если я и утаиваю от вас некоторые подробности, то единственно потому, что не хочу взваливать на вас тяжкое бремя, непосильное для вашей души.
— Да, но вы скрываете от меня какое-то тайное средство…
— Для одного это средство — целебное, а для другого — смертельный яд.
— Что-то я вас не понимаю.
— А чего же тут понимать? Потолковали малость — вот и все, — весело отрезал Бибок. — Иной много думает — мало говорит, а другой наоборот: много говорит, да мало думает. Винцо развязывает язык, ну люди и болтают, время коротают. А дела — где были, там и застряли. Только и всего.
— Печально, коли так.
— А чего могло бы человечество достигнуть, если бы все шло по-другому? — пустился философствовать Бибок, — К примеру — помогу я сейчас лёченскому сенату, благо знаю средство, как ему помочь, а в это самое время кто-то другой отыщет способ, как помочь Гёргею, и об этом будут знать только они двое. И останемся мы на том же самом месте, где были. Нет, поправлять предначертания господа бога ни к чему!
— Короче говоря, — укоризненно сказал Клебе, отодвигая от себя кружку с вином, — вы отказываетесь открыть вашу тайну? Ну что ж, пойдем спать. Господин Ференчик, сколько с меня?
— Что вы так рано уходите? — удивился трактирщик.
— Хороший сон лучше плохой болтовни, — заметил Клебе.
— А хмель еще лучше, чем ранний сон, — возразил Бибок.
— Нет, уж я лучше пойду лягу! — упирался Клебе.
— Ну что вы? Посидим еще! Эй, малый!
Ганс, новый слуга из Вены, подбежал и принялся угодливо предлагать:
— Что прикажете подать? Пива или вина?
— Вина, — отвечал Бибок. — Ну ладно, садитесь уж, Клебе, я вам расскажу про это дело. Ввели вы меня в искушение. А ты, балбес, чего тут торчишь?
— Бутылку или в розлив прикажете?
— Один черт, неси в кружках.
— Целый штоф или кварту?
— Разумеется, штоф, болван!
— Молодого или старого?
— Старого.
— Белого или красного?
— Если ты еще что-нибудь у меня спросишь, то получишь такую затрещину, что расколешься пополам — и будет здесь вместо одного немца — два!
Ганс поспешил убраться, а Клебе и Бибок наполнили кружки и подсели поближе друг к другу.
— Гёргей — ненадежный человек, — зашептал Бибок. — Я знаю многие его преступления. Ненадежный ни для куруцев, ни для лабанцев, потому что служит дьяволу! Что вы скажете, например, если я вам докажу, что он отдал приказ об аресте своего родного брата, когда ему стало известно, что куруц Янош Гёргей намерен отправиться к Ракоци в Польшу?
— Вот негодяй! — прошипел сквозь зубы Клебе.
— Не правда ли? Негодяй! Это говорите вы. А что сказал бы на это князь Ракоци?
— Да просто-напросто отрубил бы ему голову.
— А что сказал бы тогда город Лёче?
— Наверное, вздохнул бы с облегчением и сбросил, наконец, свой траур.
— Вот именно! Это я и имел в виду, милый Клебе, на это и намекал. Ведь город Лёче мог бы, положив конец своей тяжбе с Гёргеем, заняться другими делами.
— Верно, — хриплым голосом вскричал Клебе. — О, если бы такой приказ действительно существовал!..
— Приказ существует.
— Где он?
— Я знаю — где.
— А как его добыть?
Бибок облокотился на стол, подпер голову своими толстыми руками и, осклабясь, заглянул в простодушное, изумленное лицо Клебе.
— Купить надо. Так же, как вы купили себе зерно у Палочаи. Тогда вам нужна была жизнь, и вы ее купили. А теперь купите смерть, — купите у того, кто до поры до времени держит ее взаперти, в своей шкатулке. Если, конечно, Нусткорб был бы умным человеком!
Клебе отвернулся и окинул взглядом закопченные стены кабака, утопавшего в табачном дыму, и мысли его унеслись вместе с сизыми облаками этого дыма куда-то вдаль. Но вот он положил свою волосатую руку на руку Бибока и сиплым голосом прошептал:
— У кого приказ находится? Бибок усмехнулся.
— Угадайте сами, папаша Клебе.
— Неужели у…
— Одно могу сказать: в ненадежных руках.
— Тогда я, значит, неправильно предположил!.. Почему ж в ненадежных?
— Потому что этот человек стоит ближе к Гёргею, чем к Нусткорбу.
— Н-да, это плохо!..
— Ничего, любая беда поправима.
— Ну, а как составлен приказ: по всей форме? Подписан самим Гёргеем?
— Составлен так, что ни к чему не придерешься.
Но господин Клебе уже начал позевывать, потягиваться, маленькие его глазки слипались, язык еле ворочался. Однако самые главные из своих мыслей старику все же еще удалось высказать:
— Вот какие дела творятся! До чего же удивительные дела! Да и люди — какие-то все дикие! Стало быть, многое делается на белом свете и помимо «Молиториса». А ваша тайна, видать, крупная блоха! Блошица! Хорошо бы ее запустить в ухо Нусткорбу? А?
— Говорите, «блоха»? — засмеялся Бибок.
— Ну, да! Золотая блошка. И весит она, надо полагать, немало. Как вы думаете, сколько?
Больше на эту тему ни в тот день, ни в последующие они не промолвили ни слова. Клебе говорил с каретником, с кузнецом, чинившим повозку, но при этом вид имел весьма рассеянный, должно быть слова «полковника» произвели на него глубокое впечатление.
А на третий день, прощаясь с Бибоком, он многозначительно сказал:
— Я ничего вам не обещаю: по моей должности мне не пристало язык распускать, но, думаю, что в скором времени вы получите от меня весточку.
Господин Бибок довольно потер руки. (Все пальцы у него были в те дни унизаны перстнями.)
— Всегда рад буду услышать новости о вас, господин Клебе.
— Имею в виду не столько свою собственную персону, сколько известное вам дело. О нем вы, возможно, и услышите.
Бибок пожал плечами.
— Услышу или нет, — трудно сказать. Это ведь зависит и только от вас, но и от меня.
— Каким образом? — тихо переспросил Клебе. — От вас тоже?
— Иногда я бываю на ухо туговат, — надменно бросил Бибок.
— Вы хотите сказать, что…
— Что нужно погромче кричать, — усмехнулся Бибок.
— О, я понял вас!..
С этим господин Клебе и укатил, и до весны о нем не было ни слуху ни духу. Впрочем, Бибока он и не интересовал. Жилось ему теперь неплохо. Он уже окончательно сел на шею легкомысленному весельчаку Любомирскому, разузнал все его тайны, благодаря этому забрал старосту в свои руки и командовал им. Словом, Бибок чувствовал себя в городе Бела не хуже, чем паук среди полчища мошкары. Ведь город Бела в ту зиму, словно по мановению волшебной палочки, превратился для Бибока в земной рай. Мужчины вступали в отряды и один за другим уходили в армию Ракоци, сражаться за Венгрию. Кровь людская — не водица, и даже покинутое дитя сердцем тянется к матери. Король Сигизмунд мог отдать в залог только землю, но не душу этого края. Дух здесь по-прежнему был венгерский, да еще очистился от ядовитых миазм. Итак, мужчины ушли на войну, женщины остались дома. Красивые бельские женщины! И если бы только одни они. А то ведь сюда бежали и другие красавицы Венгрии, — сюда, в край, не знающий войны. Мужчины, кто мог, перевезли сюда жен, дочерей и все ценное, что имели. Вот так же сотни лет тому назад население Эстергома бежало в Комаром. И Комаром жил тогда под управлением двух бургомистров (у каждого были свои собственные чиновники) и при двух церковных приходах. Только кладбище в Комароме было одно. Гости снимали его у хозяев в аренду.
В Беле женщин хватило бы не на два, а на целых три города, мужчин же во цвете лет там не нашлось бы тогда ни одного. В кладбищах нужды здесь не было, зато мужчины оказались в цене. Вот почему у Бибока и появилось так много красивых перстней на пальцах.
Наплыв приезжих принес городу немало дохода. Староста Любомирский знал, как обращаться с беженцами. Овца, спасающая свою шкуру, не станет возражать, если у нее выстригут клочок шерсти. А ножницы у старосты Любомирского оказались на диво наточенные, стричь ими было — одно удовольствие, и немало из того, что придумано по части стрижки овец, родилось именно в голове Бибока.
Конечно, Бибок предоставлял Любомирскому право снимать пенки. Однако, пользуясь своим влиянием на старосту, он не забывал и о своем собственном кармане. В городе уже давно заметили, что, если хочешь поскорее сварганить какое-нибудь дельце, зависящее от старосты, — подмажь сперва Бибока. И это мнение настолько укоренилось, что в Кракове появилась даже карикатура, изображавшая Любомирского в виде оседланного осла в богатой сбруе, а верхом на этом осле восседал Бибок. Одна из таких карикатур была вывешена и в трактире «Пес, лающий на луну». Любомирский, прослышав о ней, рассвирепел, приказал сжечь злую картинку, а трактирщика, господина Ференчика, оштрафовал на пятьдесят польских злотых. Говорят, что даже из этих штрафных денег пятнадцать злотых попали в карман Бибока.
Словом, Бибок вознесся теперь на вершину могущества. В один прекрасный весенний день, когда староста со своим придворным совершал прогулку, на рыночной площади Бибока вдруг окликнула какая-то пожилая женщина и сказала, что она принесла ему весточку из Лёче.
— От кого, матушка?
— От господина Клебе.
— Ну, и что же просил передать мой друг Клебе?
— На днях, говорит, зазвонит колокол на башне ратуши.
— И больше ничего?
— Нет. Он просил вас, барин, сообщить ему что-нибудь.
Бибок раздраженно прикусил губу.
— Передайте ему, матушка: Лёче далеко, отсюда колокола не слыхать. К тому же теперь у меня уши заложило.
Он сунул руку в карман и протянул старухе один талер. Любомирский был в тот день весьма гневлив и желчно сказал:
— Бибок, Бибок! Ты, видно, что-то недоброе задумал!
— Я? Откуда вы это взяли?
— Не зря же ты получаешь и передаешь какие-то таинственные вести.
— Не понимаю, о чем вы говорите, ваше благородие?..
— Не понимаешь? Ну, ладно. Но ведь я-то должен все понимать, не так ли? Я догадываюсь, отчего у тебя заложило уши, Самые длинные уши в целой Европе!
— Так ведь это всего лишь изящный оборот речи! Недаром же мы, венгры, учимся в детстве латыни по древним авторам. Язык венгерца, подобно хоботку пчелы, постоянно впивает нектар…
Однако у бельского старосты дурное настроение все не проходило, и он продолжал ворчать. Накануне вечером он вернулся из Кракова и жаловался, что «продулся в пух и прах». В таких случаях он всегда бывал сердит. Поэтому Бибок не принял обиду близко к сердцу и попробовал утешить Любомирского:
— Раздобудем мы денег и дома. Не иссяк еще золотой родник.
Однако, что ни день, в город просачивались все новые и новые слухи, один тревожнее другого. Приезжие из Кракова и многие купцы утверждали, будто староста проиграл в карты баснословную сумму — о таком проигрыше сроду не слыхано в Кракове. Но и это не обеспокоило Бибока: он знал, что Любомирский играл в долг, на честное слово. А как ни велика сумма карточного долга — он не страшен, такое бремя спину не переломит. Одним словом, все это не имело значения, кроме одной неприятности: слухи о проигрыше бельского старосты дошли и до короля, а поскольку ему хотелось стяжать у своих подданных славу умного повелителя (какое мелкое тщеславие для венценосца!), то он прислал в Белу важного вельможу, чтобы тот налетел, будто коршун, нежданно и проверил городскую казну. Но и это тоже не было страшным, потому что королевский ревизор, граф Страмонский, и сам был заядлым картежником. Прибыв в Белу, он сел играть с Любомирским в карты, они резались всю ночь напролет, и староста основательно обобрал ревизора. За это на него обижаться не следовало, ведь если бы, наоборот, граф обыграл Любомирского, тот не мог бы ему заплатить. Но граф рассердился, чему тоже не следовало удивляться, так как во время внезапных ревизий он почему-то всегда выигрывал. Обычай есть обычай, и его надо уважать! А из-за таких вот пустяков случилась беда. Граф, как и подобает вельможе, не стал проверять кассу городской управы (там никогда не бывало суммы выше той, которую ревизор на следующий день увозил с собою в виде карточного выигрыша), но он перерыл все счетные книги и нашел, что староста вот уже пятнадцать лет подряд обкрадывает и государственную казну, и короля.
В конечном итоге граф Страмонский поднял шум, отстранил Любомирского от должности, опечатал все документы, наложил арест на его имущество и уволил всех чиновников, в том числе и Бибока, которому, как злому гению Любомирского, предложено было немедленно убраться из помещения управы города Белы. На место старосты граф назначил королевского комиссара, а Любомирского чуть ли не под конвоем отправил в Краков, где все, начиная от короля, удивились. Удивились не жульничеству старосты, а тому, что оно открылось! С этого дня звезда Бибока закатилась. Некоторое время он еще обретался в «Псе, лающем на луну», однако, лишившись своего покровителя и, главное, своих доходов, начал быстро линять, когда он стоял у власти, руки у него были длинные, а как начал снимать один за другим свои перстни, длинными у него оказались только пальцы. Насколько нам известно, Любомирский уже через полгода возвратился в Белу, чист как агнец, и занял прежний пост. Поговаривали даже, что он нарочно разыграл комедию — по уговору с графом Страмонским, потому что иным способом не мог бы избавиться от Бибока.
Так это было или нет — для нас неважно, во всяком случае, верно то, что Бибок не дождался возвращения хозяина. В трактире Ференчика его держали, пока не иссяк запас его перстней, а как только он их распродал, иссяк и кредит, но зато у Бибока сразу прошла тугоухость, мешавшая ему слышать звон лёченского колокола.
Жигмонд Бибок был не из тех людей, которые легко сдаются перед злым роком. Он решил раздобыть денег и кое-что предпринять на свой собственный страх и риск: разыскать, например, своих братьев, организовать небольшой отряд и начать собственную войну. Почему бы не стать человеку самостоятельным? Даже любое ничтожество имеет на это право. А в смутные времена как раз люди и добывают себе состояния и чины.
Но для этого прежде всего нужно было встретиться с папашей Клебе и сбыть ему подороже приказ вице-губернатора об аресте Яноша Гёргея. С того самого дня, как Бибок получил сообщение Клебе, он считал эту сделку надежной. «Какой же я дурень, — думал он, — что тогда ответил отказом».
Весь план своих действий Бибок обдумал заранее, и надо признать, что он оказался мастером плести хитрые сети.
В час изгнания Бибока из дома бельского старосты он все же умудрился прихватить с собой потрепанную форменную одежду из тех, что носили мелкие польские чиновники. По тогдашним временам это был отличный маскарад, в такой одежде каждый мог безбоязненно пуститься в путешествие по Сепешу. Там эту форму многие знали, и человека, носящего ее, никто не обижал, — наоборот, его еще называли «беднягой» и даже не отказывались покормить и напоить. Ведь всякому было известно, что польский чиновник только тем и жил, что ему удастся украсть. А что мог несчастный украсть, находясь в пути?
Бибоку нужно было пробраться в Лёче. Но в город соваться не следовало: в Лёче хозяйничали куруцы, — как знать, вдруг среди них окажется нежелательный знакомый. Кроме того, в своем собственном городе лёченцам легче будет торговаться с Бибоком, покупая у него грамоту Гёргея: не отдашь добром, отберут силой, — люди сейчас не очень-то церемонятся.
Итак, в Лёче он ни ногой. Но тогда куда же? Поселиться по эту сторону ворот, где власть находится в руках Пала Гёргея, еще опаснее. Правда, территория здесь пошире первой.
Бибок остановил свой выбор на трактире в загородном парке. Из рассказов Клебе ему было известно, что в этом году трактир там держит некий Петер Карась, мясник из Кашши, тот самый, что в прошлом году арендовал кенделевскую гостиницу в Гёргё, но был вытеснен оттуда каким-то словаком, предложившим Кенделю больше арендной платы. Вот к этому-то Карасю «полковник» и задумал направить свои стопы. «Поселюсь у него, — решил он, — и буду жить, пока не обстряпаю свое дельце. У трактирщика на втором этаже имеются комнатушки. А как заведу с Карасем знакомство поближе, поболтаю о гёргейцах. Давненько я не слыхал ничего ни об отце, ни о своей супруге».
Обдумав все до мелочей, Бибок отправился в трактир, и все произошло так, как он и предполагал.
Прибыл он к господину Карасю ранним утром, на рассвете, и попросил сдать ему комнату.
Трактирщик — круглый, как колобок, венгр с лихо закрученными усами был, правда, поглощен созерцанием восходящего солнца и зевал при этом так широко, словно собирался проглотить небесное светило.
— Доброе утро!
— Вам тоже, — совершенно машинально пробормотал Карась и тут же спросил: — Что угодно?
— Комнату.
— Комнату? — удивился трактирщик. — А зачем вам комнату?
— Хочу отдохнуть — устал.
Господин Карась, не утруждая себя ответом, пошевелил густыми бровями и указал взглядом на скамейки в парке.
— Но я хотел бы соснуть.
Трактирщик взмахнул трубкой с длинным чубуком и показал на ярко-зеленую лужайку под дубами, где свежескошенное сено источало такой аромат, что и король не отказался бы прилечь и вздремнуть на пышной охапке.
— А я хочу в постели.
— Гм… — заворчал Карась. — Сахарный вы, что ли?
— Я всю ночь шел.
Господин Карась с ног до головы окинул взглядом пришельца и, поскольку времена были суровые, решил подвергнуть его допросу.
— А кто вы такой, сударь?
— Поляк.
— И только?
— Пока — да.
— Чего же вы не идете в город?
— Не хочу.
— Почему не хотите?
— Вас это не касается.
— Это верно, — заметил Карась, однако его суровость изначала понемногу смягчаться. — И надолго нужна вам комната?
— Дня на два, на три.
— Неужели вы собираетесь оставаться здесь так долго?
— Да.
— У вас какие-нибудь дела здесь?
— Да.
— Здесь, у меня?
— Именно.
— Что же вы собираетесь делать?
— Оседлать удачу.
— Ну так вот, сударь, комнаты у меня для вас нет. Весьма сожалею. Но позавтракать с собою, коли не побрезгуете, я вас приглашу. Слушай, Эва, свари-ка немножко демикату, — крикнул он кому-то в сени.
Бибок недовольно поскреб в затылке. Но что ему оставалось делать? Позавтракать-то, во всяком случае, было не лишним.
Голод мучил его, пожалуй, пуще усталости; услышав о демикате, он готов был уподобиться голодному коню, который нетерпеливо ржет при виде охапки сена.
В ответ на оклик хозяина в сенях кто-то зашевелился. Немного погодя трактирщик вошел в дом и вскоре возвратился с маленьким мальчиком на руках.
— Спит моя повариха, и вся прислуга еще спит, — пояснил Карась. — Вчера допоздна не ложились. Куруцкие офицеры веселились тут, пировали по случаю дня Петра и Павла. А теперь, пока жена варит демикат, я буду за няньку.
— Это у вас младшенький? — спросил Бибок.
— Единственный. Других не имеется.
— Что ж, пусть себе растет с богом. Только отчего же он у вас такой худенький?
— Это-то меня и мучит! На глазах чахнет малыш, знать, болен чем-то. И всегда он такой печальный. Сглазил, наверное, какой-нибудь злой человек.
— И вы ничем не лечите его?
— Как же не лечим? Окуривали, заговаривали. На двух лошадях не успеваю знахарок всяких катать сюда да обратно, со всех концов Сепешского края привожу.
— А ну, дайте-ка мне мальчонку, хозяин.
Бибок взял ребенка на руки, приложил ухо к его груди, взглянул на язык, пощупал пульс.
— Нет у него никакой хворобы. Здоров он, как орешек, — определил Бибок после своего обследования.
— О, вашими б устами да мед пить! Но какая-то причина все же должна быть?
— Вот я над этим ломаю голову. Причина должна быть, но не в ребенке она.
— Как вас понимать?
— Ну, скажем, нюхаем мы герань и вдруг чувствуем: она пахнет клопами. Так ведь причина-то не в цветке, а в лесных клопах, которые по нему ползали!
— Верно, — согласился Карась и, увидев, что имеет дело с человеком умным, не поленился спуститься для него в погреб за бутылкой доброго старого вина. Тем временем Бибок сумел рассмешить мальчонку, — запряг двух майских жуков в игрушечную тележку; ребенок оживился, даже легкий румянец появился у него на щечках. (Откуда было знать отцу, что гость слегка потрепал их!)
— Вот, взгляните на сына. Стоило ему попасть в мои руки…
И впрямь произошло настоящее чудо: заморыш-мальчонка хлопал в ладоши и радовался игрушке.
— Дай, я сам! — пищал он слабым голоском и тянулся к «упряжке».
Тем временем сварился демикат, знаменитый суп сепешских чабанов, приправленный брынзой. Подавала его на стол худенькая бледная женщина с ввалившимися щеками и впалой грудью. После дымящегося супа она принесла на второе кусок холодного жареного мяса и удалилась, унеся с собою ребенка. Бибок после первой же чарки приветливо спросил:
— Мать мальчика?
Карась утвердительно кивнул головой.
— А что, мальчонка с нею спит?
— Да, с нею.
— Так вот в этом и причина! Я так сразу и подумал: супруга ваша нездорова. Ребенку надо либо совсем отдельно спать, либо с какой-нибудь здоровенной служанкой. Маленькое тельце наливается от большого силой и такой же цвет принимает. Заяц — делается того же цвета, что и земля, на какой он спит, лягушка — зеленая, как трава. А посмотрите на мясников — они все, как один, толстые, красномордые. Отчего? Оттого, что дышат испарениями здоровых мясных туш, которые разделывают.
Этот последний довод убедил Карася.
— Что верно, то верно! — согласился он и протянул руку Бибоку. — Скажу прямо, просветили вы меня. Конечно же, благоверная моя больна. А ведь девушкой была ой как хороша! — Трактирщик даже языком прищелкнул. — А теперь вот кашляет. Ну, что же, попробуем. Есть у нас одна служанка. Здоровенная, толстая девка из Кешмарка. Лицо красное, так и пышет здоровьем. Буду с ней класть мальчонку. И другая есть еще — кухарка, ну, та тоненькая, стройная, будто козочка горная. Вот и пусть малец спит с ними по очереди, как турецкий королевич. — И трактирщик засмеялся, довольный своей шуткой. — Только рановато начинает, мошенник, а? Я вам их обеих покажу, они сейчас встанут. Определите, какая лучше. Да, что-то еще я хотел у вас спросить? А вас как звать?
— Антал Тропский.
— Петер Карась, — представился хозяин, и они еще раз пожали друг другу руку. — Ага, вспомнил. Скажите мне, только честно, вы храпите во сне?
— Нет.
— Кашляете?
— Нет.
— Верно?
— Говорю же: нет!
— Ну тогда пойдемте, я сейчас же покажу вам вашу комнату.
— Вот не подумал бы, что вы, господин Карась, такой шутник, — весело засмеялся Бибок. — А я уж и впрямь решил, что у вас нет свободной комнаты.
— Вообще-то говоря, действительно — нет. Вернее, не полагалось бы переуступать ее никому другому. Но вы сделали для меня такое доброе дело, влили в мое сердце капельку надежды! Как увидел я, что малютка смеется, так я теперь для вас ничего не пожалею, последнюю рубаху с себя сниму и вам отдам. Занимайте комнату, господин Тропский, и отсыпайтесь себе на здоровье…
Над серединой трактира возвышался мезонин, состоявший всего-навсего из двух комнат; туда вела крутая лестница, прилепленная к задней стене. Обычно комнаты эти занимал сам трактирщик, если у него было многочисленное семейство, однако в списках полиции имелись сведения, для каких целей иногда использовалось помещение. Недаром старуха-сплетня возмущенно нашептывала добродетельным людям, что в этих комнатах устраивают свидания жители и жительницы города Лёче, влекомые друг к другу нежной страстью. Сюда тянулись нити многих любовных приключений. Сенат совсем уж было решил снести мезонин и, наверное, привел бы свой замысел в исполнение, если бы старый Мостель не спас верхние комнаты трактира мудрыми словами: «Велите тогда заодно сжечь в городе все перины и подушки, потому что они-то больше всего и служат пособниками любострастия». После этого сенат счел достаточным включить в договор с трактирщиками-арендаторами пункт, запрещавший «использовать верхние комнаты для безбожных целей». Прав был старик Мостель или нет, одному богу известно. Ведь любовь всегда найдет себе дорогу, какие бы рытвины и ухабы не выбивала на ее пути колымага лицемерия. Амура не прогонишь прочь, сломав его храмы. Справедливо, однако, что вышеупомянутый мезонин отнюдь не мог служить символом благонравия для молоденьких девушек, приходивших в парк на прогулку в послеобеденные часы, — уж очень много плутовки наслышались о нем. Ведь они слышат, о чем говорится дома. И до чего эти озорницы сообразительны. Их занимает всякая таинственность, им было любопытно, что лестница, ведущая в эти комнаты, устроена позади дома в заброшенной части парка, где густые кустарники похожи на тропические джунгли. Сплетающиеся кроны деревьев, кажется, так и шепчут: «Тс, тише! Ходите на цыпочках!» Занавешенные окна с лукавым бесстыдством поглядывают на парадную часть парка, а лиловые цветы глициний, карабкаясь по стенам здания, тянутся к самым окнам, источая какой-то дразнящий, пьянящий аромат.
А может быть, все это — плод глупого воображения? В одной из двух комнат мезонина Бибок как был, не раздеваясь, в сапогах, — завалился на кровать и отлично выспался. Проснулся он уже за полдень. Аллеи парка все еще были безлюдны, обычно они оживали только под вечер. Бибок долго прогуливался по парку и основательно обдумал, как ему подать весть господину Клебе. В конце концов авантюрист решил выбрать для этой цели какую-нибудь божью старушку, из тех, что трудились на окрестных полях. Ведь даже и черт норовит посылать именно старух в такие места, куда он сам почему-либо боится сунуться.
Старушку Бибок подыскал быстро (кого-кого, а таких «посредниц» всегда довольно), она собирала в поле травы — целебные и «для привороту». За несколько сребреников старуха взялась разыскать известного ей лично господина Клебе и передать ему, чтобы он вечером явился в городской парк, где его будет ожидать дружок из Белы, прибывший сюда исключительно затем, чтобы услышать звон лёченского колокола.
— Красивый звон, это верно! — заметила старушка, с уважением взглянув на человека, пришедшего за столько верст с таким благим намерением.
Слова Бибока явно произвели на нее глубокое впечатление и можно было не сомневаться, что она расскажет каждому встречному и поперечному, какого набожного человека довелось ей повстречать; знать, не перевелись еще на белом свете благочестивые люди. Бибок струхнул и тут же добавил, что он колокольных дел мастер из Белы и что ему заказали отлить для венского собора святого Стефана колокол с точно таким же звоном как лёченский, — вот он и пришел послушать звон. Но, сказав это, Бибок испугался, что совсем запутал бедную старушку столь сложным объяснением и она не сумеет правильно передать его поручение. В конце концов они сошлись на том, что поговорив с Клебе, старушка еще раз придет, расскажет о своей беседе с ним и получит от Бибока вторую половину условленной суммы.
Такой уговор можно назвать мудрым тем более, что денег для расплаты с вестницей у Бибока не было, — он уже беспокоился, где и на что ему сегодня пообедать. Трактирщик не должен был и подозревать, что у постояльца в кармане пусто. Вокруг города были, правда, рассыпаны многочисленные домишки, над которыми из отверстий в кровлях поднимался дым (печные трубы в те времена были еще в диковинку), но эти хижины принадлежали по большей части челяди богатых горожан, и без денег туда нечего было и соваться. Но все это еще не слишком пугало Бибока. К подобным передрягам он уже привык, как лесной зверь к голоду. Ведь ни тигр, ни волк, ни олень, живя в лесу, не держат повара и питаются, чем подвернется. Домашний скот, у которого корм всегда в яслях, и знать не знает, что такая жизнь даже слаще…
Возвращаясь в трактир, Бибок увидел на дороге ежа. Гоп, вот кто доставит обед! Ежик — неплохой подарок для хилого мальчонки. Опять обрадуется и засмеется бедняжка. А от его улыбки весело запоют, загудят сразу все кастрюли и сковородки на хозяйской кухне!
И Бибок, заулыбавшись, наклонился, сказал: — А ну, колючий, полезай сюда, — и сунул ежа себе в карман.
Наделенный чудесным даром читать в человеческих сердцах, Бибок рассчитал правильно: ежик помог ему получить превосходный обед. Чахлый малыш обрадовался забавной зверюшке, и когда Бибок задал господину Карасю вопрос, может ли он заказать себе обед, благодарный отец отвечал, что обедов для гостей в трактире не готовят, так как посетители собираются сюда лишь к вечеру, на ужин, но он охотно попотчует Бибока тем, что в доме состряпали на обед для самих себя, а проворная худенькая хозяйка в добавленье к снеди, поданной на стол, приготовила еще на скорую руку вкусное блюдо из почек и жареных мозгов.
За обедом между гостем и хозяином завязался дружеский разговор. Бибок любопытствовал, что нового, почему в городе Лёче все ходят в черном, как ведут себя куруцкие офицеры и хорошо ли идет торговля здесь, за городской чертой? — Раньше вы ведь в Гёргё жили, господин Карась? Хозяин отвечал на одни вопросы очень коротко, на другие — более пространно, смотря по тому, в какой мере вопрос задевал его самого, говорил осторожно, уклончиво. Когда же разговор коснулся Гёргё, Карась и вовсе приумолк.
— Прежде вы арендовали трактир у Кенделя?
— Угу.
— Как я слышал, дела шли у вас так хорошо, что лучше некуда.
— Да что вы!
— А каков человек Гёргей? Карась беспокойно заерзал на стуле.
— Вы разве бывали раньше в Гёргё? — вместо ответа спросил он.
— Нет. Никогда не доводилось. Но у меня был когда-то приятель, мой однополчанин. Он оттуда родом. Вот он-то и рассказывал мне про Гёргё.
— Да? Кто же это?
— Некто Жига Бибок, — продолжал гость. — Может, он и сейчас живет там?
— Нет, но я слышал о нем. Отпетый негодяй, если только мы говорим об одном и том же человеке.
— Странно, — сразу помрачнев, промолвил гость. — Человека, о котором я говорю, все считали славным малым.
— А этот сбежал из дому, — равнодушно обронил хозяин.
— И его ждут обратно? Все глаза проглядели, да? — докончил обычное присловье гость.
— Ждут, только не люди, а стаи воронья! — вставил со своей стороны Карась.
— Почему же именно они?
— Им будет больше всего от него проку.
— Как так?
— А так, что, ежели он вернется домой, болтаться ему на виселице.
Бибок, не моргнув глазом, выслушал столь приятное пророчество. Лишь побледнел слегка.
— Что ж, он убил кого? Или благословением божьим пренебрег? — с трудом выговорил он, словно чья-то невидимая рука сдавила ему горло.
— Наоборот, прохвост слишком даже часто прибегал к благословениям. Все ему мало было, — сострил хозяин.
— Не понимаю вас, господин Карась.
— Дважды женился, мерзавец. Но ведь браки-то на земле благословляют именем бога, — вот и выходит, что слишком уж часто он пользовался милостью господней. Еще первая жена не умерла, а он уже на второй женился. А они взяли да обе вместе и объявились.
— Не может быть! — пролепетал он, но, заметив, что Карась удивленно смотрит на него, взял себя в руки и добавил: — Вот уж никогда не подумал бы, что эта баба, то есть… мой приятель Жига мог бы так поступить. Ну и ну!
— Конец ему теперь! — заметил Карась и для наглядности показал на собственной шее, что ждет Бибока. — Вице-губернатор пообещал повесить вашего Жигу на первой же осине.
— Экая глупость! — пробормотал Бибок и жадно отхлебнул из стоявшей перед ним зеленой кружки, но теперь уж и вино пришлось ему не по вкусу. По спине у него забегали мурашки.
— Что правда, то правда, — поддакнул хозяин. — Ну, повесят его, а чего ж этим добьются? Вместо того чтобы помочь двум бедным женщинам, закон только горя им прибавит! То у них, пусть один на двух, но все же был муж, а как вмешается закон да наведет порядок, не будет больше мужа ни у той, ни у другой. Вместо одной безмужней получится две вдовы!..
Гостя явно потрясло услышанное, и хозяин, не желая расстраивать его, поспешил заговорить о другом. Но хорошее настроение уже не возвращалось к Бибоку. Он пожаловался на головную боль и удалился к себе в комнату. Трактирщик же принялся превозносить его перед женой: «Золотое сердце у человека! И зачем я сказал, какая участь ожидает Жигу Бибока! Зря огорчил нашего гостя, ведь он, оказывается, в молодости был дружком этого молодца».
До вечера Бибок не выходил из своей комнаты, однако он не пал духом. Такие, как он, живо оправятся от любого тяжелого удара.
«Ну чего мне бояться? — думал он. — Здесь-то Гёргей никак не сможет меня схватить — руки коротки, не достанет, как будто нас разделяют тридевять морей. Понятно, осторожность дело не лишнее. Нехорошо будет, если меня узнают. Тогда уж нельзя оставаться здесь, даже у Карася».
В комнате было душно, знойное летнее солнце припекало даже сквозь спущенные жалюзи. Поспать Бибоку не удалось, а поднявшийся к вечеру шум в трактире, звон тарелок и буйные песни не давали ему сосредоточиться и составить план действий.
Хозяину то и дело приходилось вытаскивать из сарая добавочные столы и стулья и расставлять их перед трактиром все расширявшимся полукругом. Сам Карась и его слуги, протискиваясь между столов, разносили вино и пиво и, хоть были в одних рубашках, от беготни обливались потом. Две служанки подавали отбивные, соблазнительный чесночный аромат которых проникал и наверх, в опочивальню Бибока. Время от времени он поглядывал сквозь щели в ставнях на пеструю публику внизу. Дородные бюргеры-саксонцы толпились вокруг кегельбана и под громкие крики «ура» пускали шары, стараясь сбить побольше кегель. Вот кому-то повезло: счастливчик сразу свалил все девять кегель и на радостях велел выкатить за его счет бочонок пива. Завопив от восторга, зеваки принялись откупоривать бочонок. Бравые куруцы пили из огромных кубков всевозможные вина. Пожаловал в трактир даже сам генерал Андраши, в окружении многочисленных старших офицеров — Бибок сразу узнал его. От обильных возлияний генерал раскраснелся, как кумач. Все пиршество вокруг трактира представляло собой веселое, живое зрелище. За длинными столами, где собралась какая-нибудь компания побольше, речи и тосты следовали один за другим бесконечной чередой. Уже одно это свидетельствовало о том, что офицеры-говоруны были в прошлом не иначе, как уездными судьями и не так-то давно сменили судейские мантии на куруцкие мундиры. Чуть поодаль, у цветочных клумб, толпились зрители и зрительницы, с восхищением взиравшие на пирующих героев: одетые в черные, траурные наряды барыни и барышни со своими дуэньями, озорники-подмастерья, скупые лёченские патриции, считавшие каждый грош и потому вовек не отведавшие трактирной стряпни («дома вся эта снедь обходится куда дешевле») и пришедшие «на лоно природы» (как они именовали загородный парк) только для того, чтобы подышать воздухом.
Господин Карась, по-видимому, нашел тут золотую жилу. Трактир его переживал свой расцвет. По вечерам в парк собирался весь город. Лёченцев охватила настоящая лихорадка: всех горожан вдруг потянуло в парк, все проводили здесь вечера, как это предсказал однажды садовник Тамаш Мульцингер. Когда городской сенат упрекнул его за то, что он заполнил все цветники в парке самыми простецкими растениями — мятой, розмарином да мальвой, и посоветовал ему «для привлечения посетителей» развести в парке редкостные цветы и даже ассигновал целых сорок форинтов на приобретение цветочных луковиц в Хомонне и Теребеше, а то и в Голландии (если хватит денег), старый садовник только головой покачал и, уже лежа на смертном одре, пророчески изрек: «Все это ни к чему! Все придет само собой. Надо только дождаться той поры, когда в парке зацветут венгерские гусары».
Пророчество Мульцингера показалось тогда бюргерам просто горячечным бредом, и вдруг оно сбылось.
Умным человеком был покойный Мульцингер! Город Лёче особенно рад был куруцким офицерам, потому что куруцы сражались за свободу, а это понятие включало в себя и свободу вероисповедания, за которую лёченские саксонцы готовы были отдать все что угодно. Женщины же были в восторге от офицеров, потому что офицеры были красивы, а женщины уже истосковались по красоте и ярким краскам, которых их лишило мрачное «дело Крамлер — Гёргей». Опостылел им черный цвет, от этого траура у них холодело сердце, и нужно ли удивляться, что при виде синих доломанов, красных штанов да желтых сапог у них становилось весело на душе?
Правда, вояки любили выпить, как и все мужчины в те времена, но это ничуть не умаляло их достоинств в глазах женщин. В беспрерывных войнах и походах тех лет никто и мечтать не мог о приличных поварах, и только благодаря вину, этому нектару горных виноградников, и держалась в людях душа. Горы были тогда для венгра символом жизни. Они давали венгру вино и железо. Горы с их вином и железом были отданы на службу человеку. Луга и долины — животным. Все великие личности той эпохи, надо признаться, любили выпить. Об Имре Тёкёли сказано, например, что по случаю какого-то праздника он один выпил целый бочонок вина. А Михай Апафи прославился тем, что все его повеления, отданные после обеденного часа, считались недействительными. Герцогу Эстерхази на ночь возле его ложа ставили кубок с вином. Генерал Андраши часто созывал к себе самых знаменитых выпивох, устраивал состязания — кто кого перепьет, и выходил из них победителем. Такова была «эпоха жажды», самая долгая изо всех эпох, потому что она тянулась несколько столетий. Все на свете сгорает быстро и бесследно, как солома, и только пристрастие к вину было удивительно стойким. Поэты, миннезингеры воспевали вино в своих стихах. Вином лечились ото всех недугов: от тяжелых болезней — токайским, от легких недомоганий — нектаром менее знаменитых гор. (По воробьям из пушек не стреляют!) Герои пили перед сражениями, а после сражений пили снова. (У кого имелась при себе фляжка — те подкрепляли силы и во время битвы!) Родословное древо венгерских вин за это время сильно разрослось и разветвилось. Появилось множество вин, отличавшихся друг от друга не происхождением, но иными признаками, которые им приписывал утонченный национальный вкус: было вино «замковое» (розового цвета), «дворовое» (для дворни), «арендаторское» (которое арендатор вносил землевладельцу в счет арендной платы натурой), «поповское», «немецкое» (кислое), «запричастное» (сладкое), «повытчикское», «вырви глаз» (прокисшее), «турецкое» (густое), «асу», «особо крепкое», «гвоздичное», «коричное» и т. д. Само собой разумеется, для такой разросшейся винной семейки потребовались и новые поводы к выпивке, но недостатка в них не оказалось. Соответствующим образом возросло и число тостов и всяких прибауток, поговорок, побуждающих к возлияниям — к простому заздравному тосту прибавилась чара «за встречу», «за компанию», «за дружбу», «поминальная», «посошок на дорожку», «штрафная», «магарычная». Хитро все было придумано, чтобы человек не вздумал остановиться на полпути, а наоборот, пил бы напропалую.
Бибок, сам порядочный выпивоха, с завистью взирал на вояк, пировавших внизу. С каждым новым тостом глаза у них становились все меньше, а жажда жизни все больше, состояние так называемого amabilis confusion[46] все возрастало; гусары шумели, вскакивали, кричали, размахивали руками и едва держались на ногах. «Эх, хорошо бы очутиться сейчас среди них! Вот это настоящая жизнь!» — думал Бибок.
И хотя Бибок не очень надеялся увидеть в тот день Клебе, он все же решил спуститься в парк и пойти ему навстречу по дороге в город или дождаться где-нибудь в малолюдной части парка. Надвинув поглубже на глаза шляпу, Бибок зашагал вниз по лестнице, в самом конце которой сидела маленькая нянька и по-немецки рассказывала Карасю-младшему сказку в стихах. Здесь же был и ежик, которого мальчуган, слушая сказку, дразнил ивовым прутиком.
Es war einmal eine Herme und ein Hahn Fangt mein Marchen an; Dann war eine Kali und ein Kalb Ist mein Marchen halb; Es war einmal eine Katz und eine Maus - Ist mein Marchen aus.[47]Нянька была очень миловидная девочка с неправильными, но приятными чертами лица: курносенькая, со сросшимися бровями и большими, пугливыми, как у дикой козочки, глазами, высоким лбом и белыми, как лен, волосенками.
Бибоку понравилась и сама девочка, и ее певучий голосок. Говорила она с польским акцентом, и поэтому он обратился к ней по-польски:
— Отчего же ты не по-венгерски рассказываешь сказки маленькому Карасику?
— Я по-венгерски не умею, — отвечала нянька, простодушно взглянув на спускавшегося по лестнице мужчину огромного роста, которого она уже видела в тот день за хозяйским столом.
— Откуда же ты будешь, букашка?
— Из Гёргё, — отвечала девчурка, улыбнувшись слову «букашка».
— Из Гёргё? — воскликнул Бибок, невольно вздрогнув. — Как звать твоего отца?
— Жигмонд Бибок, — печальным голоском отвечала девочка. Бибока словно кто-то ударил кулаком под самое сердце, он пошатнулся и едва добрался до конца крутой лестницы. «Прочь, прочь отсюда, — думал он, — иначе раскисну. Еще раз взгляну на это дитя несчастное, и тогда одному богу известно, что будет…»
У него перехватило дыхание. Кровь застучала в висках, заломило поясницу. Теперь ему сразу все стало понятно: девчонку, его дочь, привезла с собой из Кракова Яблонская, его вторая жена. Вскоре после того, как Бибок бросил эту женщину, он слышал, что у нее родилась двойня, но так ни разу и не удосужился взглянуть на ребятишек. Теперь же он мог о многом догадаться и без расспросов: мать отдала девочку в няньки, значит, она бедствует. Мысль эта подействовала удручающе даже на Бибока. Не такой уж он был изверг! Печально понурив голову, плелся он по самым дальним дорожкам парка. Отцовское чувство по его силе можно сравнить с солнцем, а ведь солнечное тепло способно даже на каменной скале взрастить зеленую травку. И Бибок начал прикидывать: что, если он за свой документ получит от лёченцев много денег? Не истратить ли ему большую их часть на эту милую девчурку? Намерение это мало-помалу успокоило заговорившую в нем совесть.
Вдоль посыпанных гравием дорожек поставлены были для усталых пешеходов многочисленные деревянные скамейки, и только под большими тенистыми липами, конскими каштанами да платанами были установлены каменные скамьи — со всевозможными надписями на немецком языке, и каждая из надписей привлекала хотя бы малой толикой юмора, мудрости или просто забавной выдумкой. Некоторые из этих скамей стали просто знаменитыми. Возле озера, например, стояла «Скамья школяров» с надписью: «Открой здесь книжечку, дружок, и поскорей зубри урок». На «Скамейке стариков» было высечено: «Почтенный старец, ты устал в дороге! Присядь сюда и отдыхай. А коль имеешь денег много, их граду Лёче завещай». (Прозрачный намек!) Была здесь и «Скамья влюбленных» со следующей предостерегающей надписью: «Все увидит боженька, все узнает маменька».
Бибок уселся на одну из скамеек у входа в парк со стороны города, — тут его укрывали от посторонних глаз ветви старой липы, склонявшиеся до самой земли, а ему самому видно было всех входивших в парк, и он мог без труда перехватить господина Клебе еще у ворот. На этой «Гражданской скамейке» тоже было запечатлено изречение: «Лучше стоять, чем ходить, лучше сидеть, чем стоять». Но все эти глупые мудрствования ни капельки не интересовали Бибока, тем более, что все они были отлично знакомы ему еще с молодых лет. Бибок спокойно сидел и ждал, пока закатится солнце (вряд ли Клебе придет раньше), и все пытался воскресить в памяти прелестное личико своей дочери (какая, право, жалость, что он не догадался спросить ее имени). Но всякий раз, как образ девочки вставал перед его глазами и надо было лишь припомнить какую-нибудь маленькую его черточку, видение вдруг исчезало, растаяв в воздухе, подобно мыльному пузырю.
Впрочем, сидеть в одиночестве ему пришлось недолго: вскоре рядом с ним на лавку уселся какой-то болтливый старикашка, который сразу же попытался завязать с соседом разговор. Старичок не умолкал ни на одно мгновение, молол всякий вздор, нес несусветную, противоречивую чушь: «Хорошее нынче лето, да погода то и дело меняется: больно уж много идет дождей. Льет, льет мочит, мочит землю. А бедняжки солдаты мучаются в полевом лагере. Человек — ведь это вам не суслик! Верно? А вот земля все равно сухая. Вчера я хотел было кол вбить в землю у себя на дворе… У меня, знаете ли, неплохой домик на Гончарной улице, так что ж вы думаете, — внизу земля, будто железо кованное. В общем — засуха!»
Но в парке вдруг засновал, засуетился народ, спеша со всех сторон по извилистым дорожкам к тому самому месту, где сидел Бибок. А немного погодя стала ясна и причина такого волнения, к парку приближалась Матильда Клёстер со своими воспитанницами, что всегда вызывало жгучий интерес. Всякому хотелось полюбоваться на эти колдовские цветы сатанинского сада. При виде юных очаровательниц учащенно начинали биться даже одряхлевшие сердца.
— Вы, сударь, конечно, не здешний?
— Нет.
— Вижу, поскольку вы не в черном платье. Вот уж наказал нас бог дурацким сенатом. Зато сейчас вы, сударь, увидите такую картину, что вам покажется, будто вы в раю!
Послышался шорох накрахмаленных юбок, напоминавший шум крыльев птичьей стаи. Вокруг разлился аромат герани, от поднявшегося свежего ветерка, казалось, зашептала листва вековой липы, а потом наступила какая-то необычная, торжественная тишина, только хрустел гравий под тонкими подошвами пятнадцати пар туфелек, но даже этот хруст звучал, словно музыка.
Разумеется, в самом деле не было тишины, ибо доносившийся от трактира гомон уже давно превратился в беспорядочный, неприятный гам, не было аромата герани, так как стоявшие поблизости ясени были усыпаны продолговатыми золотисто-зелеными жучками, распространявшими вокруг омерзительный запах. Словом, все осталось таким же, как было до сих пор, но ведь в парке появились воспитанницы Матильды Клёстер, и этого было достаточно, чтобы зрители опьянели от восторга. А в опьянении человек на все смотрит другими глазами, и все чувства его бывают обмануты.
Старичок сосед озорно подмигнул Бибоку. Ведь изо всех видов гордости — местный патриотизм — самая сильная.
— Ну, что скажете? Красавицы? А? Таких только в Лёче можно увидеть! Н-да, жаль, не для нас с вами. Ушло наше времечко. А?
Итак, по аллее шествовали прелестные барышни. Зрелище волшебное и величественное. Будто целая толпа фей плыла по саду. О, вызвать такое восхищение — не шуточное дело, хотя красивые девушки в Венгрии и не в диковинку! Но когда ты видишь красавицу в единственном числе — это не то. Одно дело — полюбоваться красивым конем, а другое — увидеть красивый четверик в парадном выезде. Или еще того лучше — целый табун! С ума сойдешь!
Весь этот девичий парад был бы веселым и приятнейшим зрелищем, если бы его участниц не облекли с ног до головы в черное, траурное, словно они шли на похороны. И вот грусть вытесняет у зрителя все остальные чувства. Ведь даже чувства человеческие ведут меж собой борьбу и норовят одолеть друг друга.
— Хороши! — пробормотал Бибок, совершенно машинально, как говорят люди, занятые каким-нибудь делом.
И он действительно был занят серьезным делом: с быстротой молнии его воображение нарядило маленькую нянечку в богатое кружевное черное платье, и по мере того, как знатные барышни проходили мимо него по две и по три под руку, он мысленно ставил рядом с ними для сравнения свою доченьку девочку из трактира. И, о чудо! Всякий раз она оказывалась красивее любой из них.
Вдруг словоохотливый старикашка указал на миловидную изящную девушку:
— А вон идет Клара Блом! Богатейшая невеста! Сказочно богатая!
Бибок живо оглядел ее с ног до головы.
«Провалиться мне на этом месте, если моя дочка не красивее этой богачки Клары», — подумал он, а вслух нетерпеливо сказал:
— А где же дочка Кенделя?
— Ну, та уже давно замуж вышла, — ответил всеведущий старикашка.
Бибок огорчился: вышла замуж, не могла подождать, пока он сравнит с нею свою дочь! И вдруг он отпрянул и разинул от изумления рот: мимо него, разговаривая с бравым гусарским поручиком, шла красивейшая из всех. (О, горе тебе, маленькая нянечка!) Девушка была почти одинакового роста с офицером, прямая, стройная, как лесная лань, гибкая и легкая, словно ящерица, а ее свежее личико с тонкими чертами было подобно розе на рассвете в первый день ее цветения. Нет, это была не девушка, а само волшебство!
— Ого! Ой-ой-ой! — только и смог произнести Бибок. В этом возгласе прозвучало и отчаяние и смирение.
— Некая Розалия Отрокочи, — пояснил болтливый собеседник Бибока. — Ничего себе кошечка, а?
Бибок бросил взгляд на офицера, сопровождавшего девушку, и узнал его.
— А рядом с нею — жених ее? — спросил он старичка.
— Не думаю. Скорее всего просто вздыхатель. Ухаживает без серьезных намерений, учится, можно сказать, как надо за девицами волочиться. Один из Гёргеев. Но не из тех, что причинили нам великое горе. У этого отец — честный человек. И сын неплохой парень. Хвалят его. И собой недурен. Да только красавица Роза — цветок не про его честь. Ее мужем, как поговаривают, будет наш молодой Фабрициус. Интересно, что этот самый Гёргей уже отрубил Фабрициусу на дуэли одно ухо, и вот опять оба вокруг одной и той же девушки увиваются.
— Как я посмотрю, у вас в Лёче любят Фабрициуса.
— Он наша гордость, сударь!
— И чего же ждете вы от него?
— Многого ждем! На редкость способный юноша. У него есть все, что положено иметь хорошему человеку: сила, характер, ученость.
— А вот уха все-таки нет, — усмехнулся Бибок, раздраженный тем, что Фабрициуса превозносят до небес.
— Это не беда, в этом залог всеобщей любви к нему. За то мы, лёченцы, и выбрали Фабрициуса своим сенатором, что у этого корноухого юноши ненависти к Гёргею больше, чем у многих из тех, кто с двумя ушами ходит.
Бибок презрительно ухмыльнулся.
— Да полно вам, господа, строить из себя героев! Ведь вы и не собираетесь причинить Гёргею никакого зла. Шумите только, а делать — ничего не делаете. Да и не сможете ничего сделать. Дождетесь, пока он состарится, одряхлеет и помрет своей смертью, а потом будете всем твердить: «Бог — наша крепость! Видите, сокрушил он нашего заклятого врага».
Старичок хотел было что-то возразить, но в это время у поворота дорожки с противоположной стороны снова показались воспитанницы Матильды Клёстер, пройдя по самой длинной, огибающей пруд аллее, вдоль которой росли красивые цветы — альпийские фиалки, гвоздики, махровые маки, вербена, знаменитые рододендроны и тюльпаны, привезенные сюда когда-то из дивного сада липпайского епископа.
Девушки, как видно, все не могли налюбоваться цветником и во второй раз направились по круговой аллее; теперь к их компании прибавился еще и юный Фабрициус, шагавший рядом с Розалией Отрокочи. Завидев его, старичок, вместо того чтобы ответить Бибоку, тихо, но многозначительно предупредил:
— Тс! Пришел.
Бибок оглянулся и тоже увидел… господина Клебе, спешившего к нему с другой стороны. Увидел и испугался, уставившись на болтливого старика, он пролепетал, совершенно подавленный его проницательностью:
— А вы откуда знаете?
— Вижу! — пояснил всеведущий старик.
На счастье Бибока, в этот миг вся группа девушек выплыла из-за деревьев, и теперь он и сам увидел рядом с Розалией Отрокочи двух ее кавалеров: справа шел Дюри Гёргей, а слева — белокурый, стройный Фабрициус, которого «полковник» знал еще в городе Бела.
Вскочив со скамьи, Бибок заспешил навстречу Клебе и радостно обнял его. Это явно пришлось господину Клебе не по вкусу, тем более, что он был в черном, отменно чистом костюме, а Бибок — в грязной, засаленной одежонке.
— Ах, оставьте, еще удушите! Вы мне все кости переломали! Господин Бибок, опомнитесь! Да и перемажете вы меня.
— Это мой маскарад, — оправдывался Бибок, выпуская Клебе из объятий.
— Вы меня звали. Вот я и пришел.
— Очень рад. Только давайте лучше выйдем отсюда в поле. У меня к вам долгий разговор. В поле мы сможем поговорить спокойно, без посторонних.
Они вышли из парка и по меже, тянувшейся вдоль горохового поля Яноша Флангера, направились к прудам, в которых горожане мочили коноплю.
Господин Клебе первым нарушил молчание.
— Ну как? Надумали?
Бибок помолчал с минуту, словно ему все еще трудно было решиться, и со вздохом произнес:
— Злодейка бедность! Что только она не заставит человека сделать. С души воротит, а все-таки сделаешь! Ну вот, придется мне некоторым способом снять с вас траур. Если, разумеется, заплатите, как следует.
— Принесли бумагу?
— Здесь! — Бибок похлопал себя по груди.
— А показать ее можете?
— Могу.
Бибок вытащил из внутреннего кармана вчетверо свернутый кусок черной клеенки, развернул и достал из нее пожелтевший лист бумаги. Господин Клебе повертел листок в руках, внимательно оглядел печать и возвратил грамоту Бибоку.
— Кажется, все в порядке. И сколько же вы просите за эту писульку?
— Четыре сотни золотых.
— Да что вы? Опомнитесь!
— Голова вице-губернатора — не тыква, — возразил Бибок. — Дешевле не уступлю. Я еще не сошел с ума.
— Нынче губернаторские головы подешевели, — заметил Клебе.
— Да ведь речь идет не столько о голове губернатора, сколько о чести города Лёче, — заспорил Бибок.
— Да, но четыре сотни золотых!.. По нынешним временам такие деньги не легко найти.
Бибок завертелся, замахал руками:
— Как хотите, но я дешевле не продам! Не продам. Гёргея не продам. Гёргей столько добра мне сделал, всегда помогал, произвел меня в полковники. Такого человека знаете, как уважать надо? Нет, дешевле, чем за четыреста, я его не уступлю. Согласитесь сами, сударь.
Но господин Клебе не хотел соглашаться и с достоинством пожимал плечами. — Мне-то все равно. Не из моего кармана. Но советую сбросить немножко, а то мои старания будут впустую. Уж если трудиться ради чести города, то надо быть уверенным, что сделка не сорвется из-за нескольких золотых! Мне-то самому от всего этого — никакой выгоды. Мне дорого только одно — пусть добрые люди, когда старый Клебе навеки закроет глаза, скажут на моих похоронах: «Хороший был старик, вытащил город Лёче из ямы. А ведь это не всякий сумеет». Да, может быть, меня за это еще и похоронят возле соборной стены… — И глаза господина Клебе гордо засверкали. — Хотя в этом тоже, конечно, невелика корысть. Но вообще-то, не знаю я, где магистрат возьмет четыре сотни золотых, да еще так, чтобы не пришлось публичное отчитываться в них? «Городская клушка» — хорошая несушка, но четыре сотни — это ведь страшно много! Ну что ж, доложим бургомистру, а там — будь что будет.
Они еще долго спорили, усевшись у пруда на выступ скалы. И тут Бибок совершил большую ошибку, — попросил Клебе ссудить ему по-приятельски три талера до той поры, когда будет заключена сделка. Разумеется, он рассказал Клебе обычную сказку: вчера, мол, в Блиннице у него выкрали в трактире кошелек с деньгами, когда он прилег вздремнуть после сытного обеда.
— Как! — вскипел от возмущения и гнева Клебе. — У вас, сударь, в кармане блоха на аркане, а вы еще торгуетесь! Заломили несусветную цену и не желаете сбросить ни гроша! Ах вы, легкомысленный человек! Жадность вас одолела! Из-за денег вы готовы с голоду подохнуть! Какой вы бессовестный, Бибок! Стоите здесь передо мной без гроша в кармане и нахально требуете целую кучу золота! Ну уж нет! Хорошо, что мне теперь известно ваше положение. Теперь у нас с вами будет другой разговор. Уступаете сто золотых или нет?
— Не могу. Я же сказал вам — меня обокрали.
— Не уступаете? Ну, тогда не дам взаймы трех талеров.
— Уступаю! — выдавил из себя Бибок.
— Ну вот! Теперь я вполне уверен, что сделка состоится, — воскликнул Клебе, потирая руки от удовольствия. (А сам думал про себя, что раз он сэкономил для городской казны сотню золотых, у города будет еще больше оснований похоронить его возле соборной стены.)
Об остальном договорились довольно быстро. Клебе пообещал, что он сегодня же, несмотря на поздний час, доложит бургомистру о своем свидании с Бибоком и попросит дать завтра же окончательный ответ.
— А как я узнаю, что решено? — спросил Бибок.
— Куда мне прийти с ответом?
— Я поселился здесь, в трактире, под фамилией Тропского. Живу на втором этаже в небольшой комнатушке. Только не забудьте, — меня зовут Антал Тропский!
Расставшись с Клебе, Бибок еще долго не мог простить себе, что уступил сто золотых. Старый хрыч Клебе урвал как раз столько, сколько Бибок собирался израсходовать на маленькую няньку.
Вернувшись в трактир, Бибок, не желая показываться посетителям, сразу же поднялся к себе в комнату. Под предлогом недомогания он попросил Карася прислать ему какой-нибудь легкий, подходящий для больного, ужин из остатков от хозяйского стола.
Вскоре все та же маленькая нянечка принесла ему ужин: поросячью голову, тарелку гречневой каши с гусиными потрохами и плоскую фляжку вина. («Вся другая посуда занята внизу», — пояснила девочка.)
Бибок был очень ласков с ней и даже спросил, как ее зовут. — Ну, так подойди ко мне, маленькая Мили. Да не бойся! Ах ты, коза-егоза, вот я сейчас укушу тебя и съем!
Он поправил своей огромной, красной лапищей завитки белокурых шелковистых волос на висках девочки и несколько раз погладил ее по головке, испытывая при этом какое-то странное, сладкое чувство.
— Какие мягкие у тебя волосы, милочка! А сестрички У тебя есть?
— Есть, одна.
— Где же она?
— Там, в Гёргё.
— Тоже в услужении?
— Нет, только я в услужении. А сестру взял к себе один добрый господин. Она живет, как барыня. Говорят, у этого барина есть своя дочка. Когда барышня вернется домой, ее будет ждать уже обученная горничная.
— А как звать твою сестричку?
— Вандой.
— Такая же хорошенькая, как и ты?
— Должно быть, лучше, потому что барин смотрел нас обеих, а выбрал Ванду. Если бы я была хорошенькая, он бы меня выбрал.
— А как звать того барина?
— Пал Гёргей.
Бибок опечалился и опять почувствовал угрызения совести. Но душевные муки обычно беспокоили его недолго, подобно икоте: достаточно было пропустить глоток вина, как они исчезали. Поэтому Бибок поспешил приложиться к фляжке. Однако его негодование все не стихало: «Какой ужас! Уступить целую сотню, продать своего благодетеля за какие-то триста золотых! Нет уж, извините, лучше я с голоду подохну!»
Взъерошив волосы, Бибок бегал по комнате, словно разъяренный дикий вепрь, и перепуганная Мили живо выскользнув за дверь. «Но ведь Гёргей хочет меня повесить! Нет, все равно не нужно было уступать нянечкину долю!»
До поздней ночи Бибок не мог заснуть. Уж и последние гости разошлись (к вечернему колоколу всем полагалось находиться дома), а тяжелые шаги Бибока все еще слышались наверху.
На другой день, сразу же после полудня, Бибока навестил господин Клебе. Он застал «Антала Тропского» за обедом и шепотом побеседовал с ним во дворе под сенью дикого каштана, за маленьким столиком. Видя, что господа заняты делом, Карась не стал им мешать.
— Ну что, сено или солома?
— Ни то, ни другое. Хотя господину Нусткорбу дело и нравится. Сегодня перед обедом он пригласил в ратушу на совещание нескольких влиятельных сенаторов, изложил им свой план. Так, мол, и так. Надо ведь что-то предпринять, народ недоволен. Сенаторы с ним согласились. Совещание, понятно, проходило при закрытых дверях, под присягой о неразглашении. Ну, меня они, конечно, позвали, усадили вместе с собой за зеленый стол. Словом, все были за то, чтобы купить грамотку. Один только Фабрициус возражал.
— Глупый сопляк!
— Если кто и провалит этот план, то именно Фабрициус. Он так говорит: эти пакости не к лицу городу Лёче. Наш город должен отомстить, но не пачкаться такими делами.
— Дурак!
— Не скатываться до предательства и доносов! Кто, говорит, запятнает грязью белую тогу чести, погибнет от унижения, сгинет от позора.
— Не могли вы его выбросить?
— Куда там! Слышали бы вы, как он убедительно говорил! Правда, Нусткорб тоже не уступал. Умнейший человек этот Нусткорб! Он так говорит: может быть, это и справедливо для живого человека из плоти и крови. А город, — он состоит из домов и всякого другого добра, которое собирали, копили многие поколения. И если кому в недобрый час фанаберия ударила в голову, не имеет тот человек права рисковать всем этим богатством. Я, говорит, готов согласиться, что надо поскорее отомстить — все этого требуют, сам вижу. Но задача наша состоит в том, чтобы удовлетворить столь законное требование как можно дешевле и поменьше рисковать. Если можно воспользоваться уловкой, — надо к ней прибегнуть. Слава — вещь хорошая, но ведь не для того город вверил сенату свою судьбу, чтобы тот рисовался показным благородством и чтобы действия его шли вначале, говорит, под победный колокол, а в конце под погребальный звон. И что… Как-то он тут особенно красиво выразился… дай бог памяти…
— Да ну его к чертям, вашего Нусткорба! — нетерпеливо перебил Бибок. — Очень мне нужны его выражения! Скажите наконец, на чем порешили?!
— На том, что сегодня вечером, часов около десяти, к вам пожалует сам бургомистр и, если найдет, что документ стоящий, выплатит вам триста золотых.
Лицо Бибока засияло от радости.
— За добрую весть спасибо! — воскликнул он и бросился пожимать руку папаше Клебе.
Стоит ли рассказывать о том, что Бибок с великим нетерпением дожидался вечера. Еще никогда, казалось ему, часы не тянулись так долго. Чтобы хоть как-то убить время, он без конца бродил по лесу, обдумывая всевозможные планы, и в трактир возвратился уже затемно. В заведении господина Карася и на этот раз оказалось полно посетителей, пришедших сюда из города повеселиться.
Хозяева были заняты в трактире, даже маленькая нянька разносила кружки с пивом. Да, на сей раз Бибоку было не до ужина, — так его взволновала мысль, что завтра у него в кармане будет триста золотых. Он поднялся к себе в комнату, лег на покрытую двумя кожаными подушками лавку, дополнявшую скудную обстановку тогдашних комнат для проезжих, закурил трубку и принялся мечтать, с наслаждением пуская кверху облака дыма. Напрасно знатоки уверяют, что трубка, если ее курить в темноте, не доставляет удовольствия. Это весьма опрометчивое суждение с их стороны.
Долго ли, нет ли мечтал пройдоха Бибок, он и сам не знал. Только вдруг он услышал, что в дверях соседней комнаты заскрежетал, тяжело поворачиваясь в замке, ключ, затем в комнату кто-то вошел и тяжелыми шагами принялся расхаживать взад и вперед. Бибока охватило некоторое беспокойство: кто бы это мог быть? Если он услышал только скрежет ключа в двери, значит, пришелец поднимался по лестнице бесшумно, на цыпочках! А если так, значит, он делал это из осторожности. Подозрительно! Уж не подстроил ли господин бургомистр какую-нибудь коварную ловушку? Посадит, например, в соседнюю комнату гайдуков да полицейских, а когда дело дойдет до передачи документа, они по условному сигналу ворвутся сюда, схватят Бибока и отберут грамоту. И жаловаться будет некому!
Когда у человека много досужего времени, ему всякое приходит в голову, в особенности если заработает фантазия. Было, вероятно, поздно, — из трактира посетители понемногу разошлись. Когда Бибок выглянул в окно, уже последние гости поднимались из-за столиков, и только господин Карась все еще сидел в стороне и подсчитывал выручку, складывая деньги столбиками по десять монет, а затем сбрасывал их в корзинку, принесенную для этой цели.
За окном стояла тихая ночь, одна из тех светлых летних ночей, на которые природе нет смысла переводить много черной краски, — так они коротки. Бибок прислушался. Тишина. Только лягушки квакают на ближних болотцах. Пора бы бургомистру уже и пожаловать. С каждой минутой Бибоку все больше становилось не по себе. Он подошел к двери, решив приоткрыть ее: так он скорее услышит шаги бургомистра и отворит дверь, чтобы господин Нусткорб, поднявшись по крутой лестнице, случайно не угодил в соседнюю комнату, если тут, конечно, не задумана какая-то хитрость. (Не лишнее, пока так предполагать!)
Но стоило Бибоку слегка приоткрыть дверь, забыв о раскрытом окне, как в комнате забушевал сквозняк, захлопнул створку ставни и загасил на столе сальную свечу, тлеющий фитилек которой теперь мерцал в полумраке. Бибок уж собрался вернуться в комнату, очень досадуя на ветер, потому что снова зажечь свечу было делом далеко не простым, как вдруг внизу на лестнице послышался шелест женских юбок (наверное, нянька?), а затем тишину нарушил чей-то скрипучий голос:
— Осторожнее, барышня, держитесь за перила и смотрите себе под ножки!
«Гм, — подумал Бибок, — значит, все же не нянька».
Бибок видел в темноте не хуже совы (недаром он полгода сидел в турецкой темнице в Смирне), поэтому он приник к дверной щели шириною в палец, уверенный, что хорошо разглядит пришельцев. Но то, что он увидел, поколебало его веру в свои способности. Не снится ли ему все это? По лестнице поднималась вчерашняя стройная красавица — та самая, которую болтливый старикашка в парке назвал Розалией Отрокочи. Да, это она! Не может быть никакого сомнения! Бибок узнал бы ее среди тысяч и тысяч. Рано начинаешь, голубка! С таким-то ангельски невинным личиком! О, женщины, женщины! Правильно поступал ты, Жига Бибок! Никогда не верил им, а, наоборот, сам обманывал их, когда только мог. Ну, иди, иди. (До чего же маленькие у нее ножки!) Уже ждет тебя твой селадон! (Черт бы его побрал, хотел бы я сейчас очутиться на его месте!) Ишь разбегался по комнате, как голодный лев! Чтоб тебе околеть в день своих именин!
Еще один взгляд вниз — и Бибок рассмотрел, что девушку сопровождал приземистый человечек, на вид из мастеровых. Должно быть, у него болели зубы. Пусть зубные врачи не удивляются проницательности Бибока, у провожатого, возможно, болели не зубы, а стреляло в ухе, — предположение Бибока основывалось лишь на том, что голова незнакомца была обмотана платком.
— Проклятый сводник! — пробормотал Бибок. — Как не совестно тебе приводить сюда эту девушку!
Даже его возмутила такая подлость, и, горько вздохнув, скорбя об испорченности мира, но успокоившись за себя, он тихонько отошел от двери и принялся зажигать свечу. Пусть уж лучше испорчен будет мир, а не его маленькое «дельце».
Вложив тлеющий трут в пучок соломы, заранее свитый жгутом, Бибок некоторое время размахивал в воздухе этим приспособлением: ожидая, пока солома вспыхнет, а тогда поднес ее к фитилю. Словом, это было хлопотное дело. Едва ему удалось зажечь свечу, как на лестнице снова послышались шаги. Он подбежал к двери и приоткрыл ее пошире, чтобы осветить гостю путь.
По лестнице поднимался высокий, могучий и такой грузный мужчина, что под его ногами шаткие ступени скрипели и пели на все голоса.
— Должно быть, бургомистр! — решил Бибок и шагнул за порог.
Пока гость добрался до верхней ступеньки, его одолела одышка. Слегка приподняв шляпу, он сказал:
— Я хотел бы видеть господина Тропского.
— Это я, — представился Бибок. — Прошу вас, входите. Гость прошел в комнату, снял с себя длинный, до пят, серый плащ.
— Я бургомистр города Лёче.
— Милости прошу, сударь. Садитесь, пожалуйста.
— Насиделся за день, — ответил бургомистр и потянулся. — Да и хотелось бы поскорее покончить с этим делом. Время позднее. Пора и на боковую.
— Не обижайте хозяина, присядьте, сударь, — упрашивал «Тройский». — А то лишите человека спокойного сна.
— Да я как раз затем и пришел, чтобы лишить сна. Правда не вас, а кого-то другого. Если удастся…
— Надеюсь, удастся. Вы, полагаю, имеете в виду то же самое, что и я.
После долгих уговоров господин Нусткорб присел на лавку. Сдвинув назад сползавшую на живот кобуру пистолета, он вдруг навострил уши и прислушался к голосам и шагам, доносившимся через стену из соседней комнаты.
— Что за помещение там, рядом?
— Насколько мне известно, такой же номер для проезжающих, — отвечал Бибок.
— Мне кажется, там кто-то есть?
— Любовное свидание, — улыбнулся Бибок. Бургомистр насупил брови.
— Но ведь это было запрещено Карасю?
— Так господин Карась и не участвует в нем.
— А кто же?
— Я видел только женщину, когда она поднималась по лестнице.
— Возмутительно! — вспылил бургомистр. — Нетерпимо!
— Juventus veutus[48] — примирительно заметил Бибок, давая вместе с тем понять, что он знает латынь. — Закройте на это глаза.
— Хотел бы я знать, как ее зовут.
— А что дадите, господин бургомистр, если я скажу? — шутил Бибок.
— Был бы весьма вам признателен, сударь.
— Скажу, если пообещаете не наказывать бедняжку. Очень уж хороша! Жалко мне ее.
— Вот тебе и на! Так зачем бы я стал допытываться у вас об ее имени, как не для того, чтобы наказать греховодницу?
Бибок пожал плечами.
— Тогда лучше уж я сохраню ее имя в тайне.
Они вернулись к делу, ради которого бургомистр и прибыл. Прежде всего он пожелал взглянуть на документ. Внимательно прочитав бумагу, Нусткорб с разочарованным видом заявил, что она не представляет для него большой ценности.
— Впрочем, попытаться можно, — добавил он и предложил двести пятьдесят золотых. — И то лишь потому, чтобы вы, господин Тропский, не пожалели, что понапрасну совершили столь долгий путь.
— Да я лучше съем эту бумагу! — воскликнул Бибок.
— Кушайте на здоровье, — издевательски сказал бургомистр.
— Нет, нет, до этого дело не дойдет, — спохватился Бибок, решив пуститься на хитрость. — Больше того, поскольку вы, ваше благородие, даете на пятьдесят золотых меньше, вопреки уговору, то и я нарушу его: теперь дешевле, как за триста пятьдесят, я не уступлю вам бумагу.
Такой ответ привел Нусткорба в замешательство: не видно было, чтобы господин Тропский испытывал сильные «финансовые затруднения», как уверял Клебе. Что-то, наверное, изменилось.
— Должно быть, ночью дождь прошел, — насмешливо заметил гость, — коли ваши притязания так выросли?
— Да ведь отсюда рукой подать до Пала Гёргея. Почему бы мне, собственно, не предложить этот документ ему самому?
Эта угроза заставила Нусткорба призадуматься, и он счел нужным уступить.
— Ну черт с вами! Если уж Клебе договорился за триста, пусть так и будет. Вернемся к старому уговору.
— Весьма сожалею, ваше благородие, но я — человек суеверный и еще ни разу в жизни не возвращался туда, откуда однажды ушел.
Пройдоха сказал чистейшую правду: он никогда не поступал так, да ему и не следовало этого делать.
— Иными словами, — за триста не отдадите?
— Совершенно верно.
Досадуя на себя за свою неудачную попытку выторговать пятьдесят золотых, Нусткорб решил изменить тактику, и заговорил ласковым тоном.
— Господин Тропский, или Бибок, братец вы мой! — Нусткорб поднялся и по-приятельски положил руку ему на плечо. — Одумайтесь. Триста золотых форинтов — большие деньги. Король Сигизмунд заложил шестнадцать сепешских городов за тридцать семь тысяч золотых грошей. Подсчитайте-ка, сколько улиц досталось бы вам за триста золотых форинтов, которые я даю вам.
Начался торг — настоящий поединок: каждый хотел нащупать слабую сторону противника. В пылу борьбы, разумеется, не обошлось и без ранений. Противники обзывали друг друга всякими нехорошими словами: «негодяй», «пиявка», «голодранец» — зато с обоих быстро слетела напускная важность, и в конце концов они стали приятелями. За это время бургомистр дважды надевал свой плащ и направлялся к двери, но всякий раз останавливался и прибавлял десять золотых. Бибок подумал-подумал и решил уступить: ведь пятьдесят форинтов все равно ушли бы из его кармана: они предназначались маленькой Мили.
— Ладно, добавьте еще пять форинтов, и — точка.
— По рукам! — подхватил бургомистр, хлопнув своей широкой ладонью по ладони Бибока. — Значит, триста двадцать пять.
После этого он принял от Бибока документ, аккуратно сложил его и спрятал в свой кожаный бумажник.
— Вот ты и у меня в руках! — с вздохом облегчения буркнул он. Неизвестно, что господин Нусткорб имел в виду, но, надо полагать, не бумажку.
— Вы, сударь, подождите, я сейчас сбегаю за деньгами, — сказал он Бибоку. Тот удивленно взглянул на бургомистра.
— А где они? — разочарованно спросил он.
— Внизу, у гайдука. Я оставил его у входа в парк.
— Нет, так дело не пойдет. Давайте бумагу назад.
— Но я оставлю вам свой плащ.
— На что он мне?
— Неужели вы не верите бургомистру города Лёче?
— Откуда мне знать: бургомистр вы или — нет? Кто угодно может сказать: я — бургомистр. Но даже если вы и в самом деле бургомистр, я вправе не доверять вам, раз и вы относитесь ко мне с недоверием. Вы ведь побоялись принести с собой деньги, словно пришли в разбойничий притон.
— Пожалуй, вы правы, — согласился бургомистр и начал было расстегивать кафтан, чтобы достать и возвратить документ.
— Ладно, сударь, я — дворянин. Даже в двадцатом колене в моем роду не было бюргеров. Избавлю уж я вас от беготни по лестницам, спущусь сам за деньгами.
Нусткорб кивнул головой в знак согласия. Бибок распахнул дверь и вежливо пропустил гостя вперед. Бургомистр шел, внимательно глядя себе под ноги, чтобы не оступиться, и поэтому не замечал вокруг ничего. Вдруг Бибок толкнул его в бок. — Посмотрите вон туда! — прошептал он. С запозданием правда, но бургомистр все же увидел женскую фигуру, тут же скрывшуюся за углом трактира. Исчезла, словно растаяла, будто призрак. Однако это не был призрак, а настоящая, живая женщина: слышно было, как шуршали ее юбки и шелестели ветки кустарников, когда она задевала их проходя. Изломанная тень ее вырисовывалась сначала на стене курятника, потом на его крыше, а затем, соскользнув на лужайку, вытянулась и стала гигантской.
— Она?
— Да.
— А греховодник?
— Рядом с нею, — пояснил Бибок. — Он шел ближе к стене, поэтому вы его и не заметили. А шаги до сих пор еще слышны. Тс-с!
Они остановились на верхней террасе, если можно было назвать террасой дощатый помост без перил, на который открывались двери обеих комнат мезонина. Вниз с помоста вели две отдельные лестницы.
Бибок и Нусткорб прислушались. Где-то далеко слышались едва различимые, все больше затихавшие шаги, одни — легкие, другие — тяжелые, мужские. А может быть, то была игра воображения? Ведь ночью многое воспринимается по-иному: кошка ли пробежит, прошлепает ли по траве жаба, или ударится о стену летучая мышь. Иногда к звукам шагов примешивался какой-то звон, будто позвякивали шпоры, или сабля бренчала, стукаясь о камешки на дороге либо о каблук сапога.
«Провалиться мне, если это не вчерашний офицерик!» — подумал Бибок, а вслух сказал:
— Улетели пташки, пойдемте и мы, ваше благородие.
— А вы в самом деле знаете эту женщину?
— Конечно. Любопытные городские старушки много дали бы, чтобы узнать от меня — кто она.
Бургомистр пребывал в хорошем расположении духа: с неприятным делом было уже покончено, документ лежал в кармане, согревая ему сердце, и, надо сказать, оно так согрелось, что у его обладателя вдруг явилось желание пошутить.
— Послушайте, сударь, меня дома тоже дожидается любопытная старушка, а я вот не смогу рассказать ей ничего интересного о своих ночных странствиях. Дайте же мне возможность принести ей хоть небольшое лакомство: с пыла горячую сплетню.
— Хорошо, только пообещайте, что как бургомистр вы ничего предпринимать не станете?
— Ладно уж, простим вертихвостку.
Бибок придвинулся к Нусткорбу и прошептал ему на ухо:
— Это барышня одна. Из пансиона для благородных девиц.
— Невероятно! — покачал головой бургомистр.
— Некая Розалия Отрокочи.
Нусткорб засмеялся, приняв его слова за шутку.
— Ах оставьте, старый плут! Надо же такую чепуху выдумать!
— Честное слово, правду говорю!
Тем временем они спустились вниз, и, когда проходили мимо другой лестницы, Бибок заметил в траве какой-то странный белый предмет, по виду напоминавший булаву. «Полковник» ткнул его носком сапога, ожидая, что предмет — металлический и звякнет от удара, но «булава» оказалась мягкой, и Бибок с любопытством наклонился к земле.
— Что там? — спросил Нусткорб.
— Какой-то странный цветок. Наверно, барышня обронила.
— А ну покажите! Черт побери! — воскликнул Нусткорб, осмотрев находку. — Да ведь это же георгин!
В ту пору георгины были еще редкостью. Только в палисаднике старой госпожи Фабрициус росли два куста георгинов — на диво всем лёченцам. Сплетня Бибока начинала приобретать в глазах Нусткорба реальные очертания: Фабрициус принес или прислал цветок в подарок барышне Отрокочи, а та обронила его здесь, около трактира. «Гм… Это было бы ужасно! — Нусткорб даже побледнел от такого предположения. — Не может быть! Нет, надо их догнать…»
И бургомистр заспешил к воротам парка, где из кустов навстречу ему вышел городской гайдук. Нусткорб попросил у него мешочек с деньгами, а затем, отослав гайдука, передал золото Бибоку. Тот сорвал печать, разорвал нитки, которыми был зашит мешочек, засунул в него руку, захватил горсть монет, ощупал их тонкую чеканку. Благородный металл приятно щекотал руку, согревал кровь. Бибок достал из мешочка первую попавшуюся монету, провел ногтем по ее ребру («Не подрезана ли?») — достал пригоршню, другую и, роняя золотые по одному в свою шапку, сосчитал: семьдесят два, семьдесят три.
Вскоре это занятие ему надоело, он пересыпал деньги обратно в мешочек и с напускной простоватостью заметил:
— Раз первые были хороши, то и остальные, наверное, не хуже?
— Ну, вам, я вижу, купцом не бывать, сударь! — рассмеявшись, сказал Нусткорб. — Держите остальные.
Он отсчитал из своего кармана добавочные двадцать пять золотых.
— Странно! — сказал Бибок, бросив взгляд на окно мезонина. — В комнате свиданий все еще горит свет.
— Вероятно, забыли погасить свечу, — заметил бургомистр, а про себя со вздохом подумал: «Бедный Фабрициус».
— Нет, нет, — замотал головой Бибок, — селадон еще там. Нас сбили с толку шаги. Я только что видел тень, когда он прошел мимо окна. Ага, свет погас. Сейчас и другая пташка вылетит из гнездышка. Пойдемте отсюда!
— Нет, я подожду, — с неожиданной решимостью заявил Нусткорб. — Хочу взглянуть этому негодяю в глаза.
— Смелый человек и в храме засвищет. Да к чему вам храбриться?
Нусткорб не ответил, только гордо сверкнул глазами; впрочем, даже зоркий Бибок не мог этого разглядеть в темноте.
— Смотрите, ваше благородие, как бы не случилось беды! Такие люди решительно на все готовы.
— Кто же посмеет поднять руку на бургомистра города Лёче? В это время наверху послышались шаги:
— Идет!
Нусткорб спрятался за толстый ствол дуба. Бибок приник к стене.
По усыпанной гравием дорожке к ним приближался высокий, плечистый мужчина в кавалерийских ботфортах с раструбами выше колен, до самых глаз закутанный в плащ, правая пола которого была закинута на левое плечо. Возле угла здания он остановился на миг, опасливо огляделся вокруг, а затем поспешно направился к выходу.
Нусткорб даже дыхание затаил. Однако, когда неизвестный поравнялся с дубом, бургомистр вышел ему наперерез и преградил путь.
— Добрый вечер, сударь. Остановитесь на минутку.
— Что вам угодно? — удивленно спросил неизвестный.
— А угодно мне вот что: хочу знать, кто вы такой и зачем вы здесь.
С этими словами бургомистр смело положил руку на плечо незнакомца.
— Пошел прочь, нахал! — воскликнул тот и с такой силой] ударил Нусткорба кулаком под самое сердце, что он покачнулся и чуть не потерял сознание.
— Матяш! Бибок! — закричал он. — Скорее сюда!
Бибок заколебался, не зная, куда ему деть золото, но не в силах был упустить интересное приключение, он сунул мешочек в шапку и зашвырнул свою добычу в куст самшита. Гайдук Матяш уже спешил на помощь бургомистру, перепрыгивая в темноте через кусты; он, правда, споткнулся о собственную саблю и упал, но тут же вскочил на ноги.
Неизвестный, заметив опасность, отбросил плащ. В этот миг луна осветила его лицо.
— Пал Гёргей! — воскликнул изумленный Нусткорб, и сердце его забилось.
Бибок от страха покрылся холодным потом, руки у него одеревенели, ноги отнялись, он не мог пошевелиться. А Нусткорб от нежданной своей великой удачи вдруг утратил всякую рассудительность.
— Ага, попались! — воскликнул он. — Сдавайтесь! Вы у нас в руках!
— Пока еще нет! — возразил спокойным голосом Гёргей и поднес к губам свисток, висевший у него на шее. Раздался резкий, пронзительный свист.
Нусткорб сразу понял, что это сигнал, и, чтобы не дать вице-губернатору уйти, бросился на него. Гёргей защищался ударами своих могучих кулаков, но удары не достигали цели, потому что сзади на нем повис гайдук Матяш, пытаясь повалить его на землю.
— Живьем его надо доставить в Лёче, живьем! — задыхаясь, кричал Нусткорб, и глаза его от одной этой мысли горели как угли. — Бибок, чего же вы? Помогайте! — призывал он окаменевшего от страха проходимца.
Но было уже поздно. В пылу схватки они и не заметили, как по свистку Гёргея ожила вся окрестность: вдали, разрывая тишину, застучали конские подковы, а вблизи зашевелились стебли кукурузы, и отовсюду в парк хлынули наемники и гусары Гёргея.
Бибок кинулся наутек по одной из садовых аллеек, но и оттуда навстречу ему уже бежали люди Гёргея, он попробовал перескочить через клумбу на другую дорожку, но и там ему преградили путь. С саблей наголо на выручку хозяину спешил с дюжиной помощников Престон. Лёченский бургомистр выхватил пистолет, но у него тут же выбили из рук оружие, а Престон, занеся над ним саблю, спросил:
— Отрубить ему голову, ваше превосходительство? Гёргей, тяжело дыша и дико вращая глазами, готов уже был утвердительно кивнуть головой, но вовремя вспомнил о несчастье, порожденном его вспыльчивостью, и, овладев собой, скорее прорычал, чем проговорил:
— Погоди, Престон! Насчет бургомистра я решу по дороге, а негодяя Бибока схватить и доставить ко мне. Живым или мертвым!
С этими словами он вышел из парка и вскочил на коня.
— Найдите мой плащ. Бургомистра и его гайдука привезите ко мне, — напоследок приказал он и поскакал по дороге в Гёргё.
Свежий ночной воздух успокоил его, прогнал у него из головы и из сердца злые мысли. Теперь он был даже рад, что не поддался вспышке гнева и пощадил жизнь бургомистра: куруцкие офицеры, в особенности генерал Андраши, любят Нусткорба. Генерал мог бы взять в свои руки дело возмездия, и тогда спасения не жди. Глупо подливать масла в огонь, — ведь он уж как будто начинает затухать.
Рассуждая таким образом, Гёргей пришел к выводу, что достаточно сыграть коварную шутку с лёченским сенатом (пусть над этими бюргерами смеются во всем комитате).
Хорошо бы, например, отвезти бургомистра к себе в имение, нарядить его в юбку и косынку, завтра в сопровождении слуг отправить на телеге в Лёче, и там на базарной площади выпустить его на свободу в бабьем одеянии. (По тем временам это было бы величайшим позором для мужчины.)
Однако, подумав, Гёргей отказался и от этого замысла: такой шуточкой тоже масла в огонь подольешь, — только поменьше, чем убийством. Да и не пристало серьезному человеку проказничать. За что, собственно говоря, злиться ему на этого Нусткорба? Нусткорб хотел изловить его. А какой же лёченский бургомистр теперь не стремился бы к этому? Нет, у толстого Нусткорба ни один волос не должен упасть с головы! И Гёргей окончательно отказался от своего плана. Подумать только, какую глупость он едва не совершил! Нет, пусть уж лучше тетушка Марьяк сама носит свою юбку и платок, — не стоит наряжать в них лёченского бургомистра.
Так как Гёргей успел за это время ускакать далеко от своего отряда, то он тут же повернул лошадь и поехал назад.
Бургомистра и его гайдука вели по тракту пешком. Нусткорб шагал, потупив голову, и за всю дорогу не произнес ни слова. У Бибока руки были связаны, а конец веревки держал в руках кучер Янош Шари, ехавший верхом. Иногда Шари, пришпорив коня, пускал его в галоп, и тогда Бибоку приходилось бежать бегом, грудь его начинала вздыматься, как кузнечные меха, что очень потешало Яноша Шари. Бибок был без шапки, и, когда ему удавалось перевести дух (если лошадь шла шагом), он начинал плакаться, кричал, что в шапке у него осталось все его состояние — целая куча золота, и что он озолотит всех конвоиров, если те отведут его обратно в лёченский парк. Но гусары не верили его словам и только смеялись в ответ.
— Зачем вам, дядюшка, золото? Вам теперь по гроб жизни бесплатно харч будут давать.
Подъехав к конвоирам, Гёргей обрушился на них:
— Да что ж это такое? Заставили его благородие, господина бургомистра, идти пешком, как какого-нибудь бродячего коробейника! Вот уж никогда не думал, Престон, что ты такой невежа! Запомни раз и навсегда: барин и в аду — барин! А ну, у кого из вас самая плохая лошадь?
— У меня, у меня! — закричали сразу пятеро, не зная еще, зачем вице-губернатор спрашивает это. В конце концов выбор пал на лошадь Ференца Киша.
— Ну так вот, братец Фери, придется тебе спешиться, а коня своего отдать его благородию. Садитесь, сударь. Дал бы я вам получше лошадку, да, боюсь, вы ускачете от нас, а я буду сожалеть об этом до самой смерти.
Конвойные доложили Гёргею, что захваченный в плен Бибок умоляет проводить его под стражей в парк, — он якобы спрятал там свою шапку в самшитовом кусте, а шапка полным-полна золота.
— Откуда у него взяться золоту? Врет, наверное, прохвост, как всегда!
— Говорит, что, мол, лёченский бургомистр может подтвердить его слова.
Но бургомистр замотал головой: не знаю ничего об этом.
— Сбежать, видно, надумал, плутище! Не отпускайте его от себя ни на шаг! — приказал Гёргей. — А на случай, если он все же правду говорит, спросите у него, где лежит шапка, да пойдите хорошенько пошарьте в кустах. Эй, Плихта, Райнольд, Капанцкий, слезайте с коней и отправляйтесь пешком в парк.
Распоряжение это было весьма благоразумным; Гёргей звал своих людей и нарочно выбрал из их числа самых никчемных: если они не найдут золота, то и пешком вернутся в Гёргё, а если отыщут деньги, то обязательно сбегут да еще и лошадей прихватят с собой в вечное пользование.
Тут Гёргей, пришпорив коня, во весь опор поскакал в Гёргё в, когда отряд с пленными прибыл туда, вице-губернатор уже успел переодеться и вышел во двор встретить Нусткорба.
— Добро пожаловать, ваше благородие, господин бургомистр. Прошу вас, входите!
В замке уже был накрыт стол. Экономка Марьяк сумела и на скорую руку приготовить такое угощение, что и князья облизали бы пальчики. А чтобы не скучать за ужином вдвоем, вице-губернатор пригласил к столу кое-кого из своих чиновников, и они потешали гостя веселыми анекдотами.
Были поданы лучшие вина: «шомьинское» 1682 года, «золотой нектар» (выдержанный), «токай», хранившийся в подвале пятьдесят семь лет, то есть с того самого года, в котором родился господин Нусткорб. Это внимание (а может быть, и само вино?) так растрогало господина Нусткорба, что он заметно повеселел, хотя еще и неизвестно было, что его ожидает в замке мстительного магната. Про себя Нусткорб взывал к богу: «Да будет воля твоя», — но токайское попивал с удовольствием.
Разговор за столом шел о самых заурядных вещах: о погоде, о видах на урожай гороха, о том, что война, наверное, не затянется, рассказывали о странных происшествиях, о том, например, как в Эршекуйвар прилетел пчелиный рой и сел на пушку Иштвана Бертоти (это к добру). Вспомнили в беседе и о студенте из Шарошпатака, заснувшем таким крепким сном, что и по сей день, то есть шесть месяцев спустя, никак не удается его разбудить. Спит, а сам все видит, и притом на огромном расстоянии; возьмут его, например, за руку и спросят: «Где сейчас Гейстер», и он совершенно точно скажет: «В своем шатре под Потонью». — «Что он делает?» — «Бреется». Знает он и может сказать все, как есть, и про князя, и про любого человека. Уже проверяли. Каждое слово этого студента оказалось чистейшей правдой; патакский бургомистр в присутствии других представителей власти дословно записывал, что говорил студент в такой-то час и минуту о том или ином человеке, а представители власти тоже записывали, чем тот человек в этот момент занимался. И когда сравнили обе записи — все совпадало. Говорят, генерал Берчени собирается взять «спящего студента» с собой в действующую армию, чтобы там найти ему применение в военных целях…
— А мне не нравится, что мы, венгры, слишком верим во всякие там пчелиные рои да в спящих студентов…
Словом, за чашей вина говорили о многом, и только о событиях минувшего дня не проронили ни слова, не сделали ни малейшего намека. Будто два незнакомых человека оказались случайно вместе за ужином, им нечего сказать друг другу, вот они и копаются в мусорном ящике сплетен и всевозможных слухов. Время уже близилось к утру. У Нусткорба глаза начали закрываться. Тогда Гёргей вежливо напомнил «гостю»:
— Бели вам наскучило у меня, сударь, не стесняйтесь — на дворе вас ждет экипаж. Поезжайте себе домой, когда вам заблагорассудится. Мне бы не хотелось, чтобы ваша супруга напрасно беспокоилась из-за вашей долгой отлучки.
— Мне можно ехать домой? — удивленно пробормотал Нусткорб.
— А что же вы думали, сударь? Зачем же я вас привез сюда? Просто хотел по-дружески выпить за нашу с вами нежданную встречу.
Нусткорб смущенно погладил бороду, а чуб у него стал мокрым от пота.
— Трудное дело, очень трудное! — повторял он.
Поднявшись из-за стола, он попрощался с хозяином, с писарями и нетвердым шагом направился к выходу. Гёргей проводил его до кареты. В карету была запряжена четверка отличных лошадей; на козлах, рядом с кучером, восседал Матяш, собственный гайдук бургомистра. А когда Нусткорб сидел уже в экипаже, Гёргей еще раз протянул ему на прощание руку:
— Спокойной ночи, ваше благородие, и дай бог, чтобы вы еще раз, да поскорее, попались мне в руки, — так же вот, как сегодня.
— Спокойной ночи, — ответил бургомистр, — но постарайтесь не попадаться мне в руки, потому что конец той встречи будет совсем иным.
На востоке небо уже зарделось, солнце еще не взошло, но край его багряницы уже показался из-за гор.
Кукареку! — заголосил чей-то горластый петух.
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ Мертвый бургомистр пошевелился в последний раз
Со стороны Гёргея было сущим безумием приходить в городской парк. Но он вынужден был это делать, и не однажды. Умершие от чумы супруги Дарваш по взаимному согласию завещали все свое имущество несовершеннолетней Розалии Гёргей, но завещание это опротестовали в суде Дарваши из соседнего комитата Абауй, родичи умершего ошдянского Дарваша. Тяжбу они, правда, проиграли, однако, узнав, что Гёргей где-то прячет свою дочь, они, больше из желания насолить ему (а может быть, и всерьез поверив сплетне), возбудили через своего адвоката, великого пройдоху, новое дело о том, что Розалии Гёргей вообще не существует, что ее не существовало и ко времени смерти ошдянских Дарвашей, а следовательно, она и не могла быть наследницей. О том, что сталось с девушкой, — умерла она или с ней случилась какая-то беда, абауйские Дарваши, разумеется, не могли знать, но то, что она исчезла из Ошдяна еще до смерти Дарвашей и с той поры ее никто в глаза не видал, подтверждали многие.
Но даже допуская (однако не признавая!), что Розалия жива, семья абауйских Дарвашей, или, вернее, их наглый адвокат, подвергали сомнению и самое происхождение девушки. Ядовитая слюна клеветников всегда попадает на незажившую рану. Разве мог сутяга-стряпчий умолчать в своих писаниях о том, что вышеупомянутую Розалию Гёргей вскармливала грудью жена Яноша Гёргея вместе со своею собственной дочерью, а поскольку один из сих младенцев умер, сомнительным надо признать и то, что в живых осталась именно Розалия Гёргей, ибо тогда легко могли произвести подмену. (Ах ты, негодяй, какой же нечистый дух шепнул тебе про это?!)
Любому разумному человеку все эти наскоки показались бы мышиной возней, крючкотворством, но Пала Гёргея такие обвинения поразили в самое сердце. Суд, разумеется, не принял во внимание «новые обстоятельства» и ограничился выяснением лишь одного вопроса: жива ли Розалия Гёргей или нет — и постановил, чтобы она предстала перед судом вместе со свидетелями, «могущими удостоверить ее личность».
Выйти в эти дни из гениально придуманного убежища было для Гёргея очень опасно — он рисковал слишком многим. Но с другой стороны он не хотел отказываться от богатого наследства, тем более, что распря с городом Лёче опустошила его карманы.
Узнав о решении суда, вице-губернатор вызвал в Гёргё своего племянника Дюри.
— Знаешь ты барышню по имени Розалия Отрокочи? Дюри покраснел.
— Почему вы спрашиваете об этом, дядюшка?
— Потом скажу. Я спрашиваю: знаешь или нет?
— Видел.
— Ну, что она за девушка? — с безразличным лицом допытывался вице-губернатор.
— Самая красивая девушка в Лёче.
Пал Гёргей подозрительно взглянул на племянника: догадывается он, что ли?
Однако у юноши было такое честное, открытое лицо, что на нем было бы заметно любое, самое малое лукавство.
— Может быть, она тебе нравится?
Дюри покраснел еще сильнее.
— Что это за семейство — Отрокочи?
— Не знаю, — отвечал Дюри.
— Но зато я знаю. Эта девушка — твоя двоюродная сестра.
— Моя двоюродная сестра?
— Да, иными словами: моя дочь Розалия.
Дюри даже рот разинул от изумления, но Пал Гёргей тут же объяснил, почему он вынужден был поместить Розалию в пансион Матильды Клёстер под чужим именем и почему важно сохранить это в тайне и на будущее. Гёргей посвятил племянника также и в хитросплетения судебной тяжбы и сказал, почему Розалия должна явиться вместе со свидетелями в Кашшу, в суд. После этого дядя поручил Дюри навестить Розалию, передать ей письмо и подготовить ее к предстоящему путешествию. За девушкой приедет старый Кендель и под предлогом поездки к родителям отвезет ее в Кашшу, а Дюри поедет (разумеется, в другом экипаже), чтобы проводить их и, если понадобится, оказать им помощь. Дюри поклонился. — Как прикажете, дядюшка.
Вскоре после этого папаша Кендель попросил мадемуазель Клёстер отпустить с ним Розалию из пансиона и с помощью заранее вызванных в Кашшу свидетелей (среди прочих там были и супруги Варга) подтвердил в суде, что Розалия Гёргей жива и может вступить в права наследования.
Пал Гёргей заранее предвидел, что для завершения тяжбы Розалии не раз придется подписывать всевозможные бумаги, заверенные свидетелями, и вести переговоры. Для этой цели он уговорил преданного ему человека, господина Карася, арендатора кенделевского трактира, передать в Гёргё трактир заместителю, а самому арендовать трактир в лёченском загородном парке. Тем самым Пал Гёргей получал возможность встречаться со своей дочерью, когда того требовали обстоятельства и когда можно было заручиться помощью Кенделя, единственного человека, имевшего право брать Розалию из пансиона.
Так и произошло уже описанное нами свидание. Господин Кендель (это у него была повязана щека) привел Розалию в загородный трактир, куда еще раньше пришел Пал Гёргей, а после того, как Розалия подписала необходимые документы и получила указания, как вести себя в суде, Дюри с Кенделем проводили девушку.
Ущипнув дочку за подбородок, Гёргей спросил:
— Ну, а когда вы, наконец, вернетесь домой, барышня?
— Все от тебя, папочка, зависит.
— Ну, тогда поедем. Могу хоть сейчас захватить тебя с собой.
Розалия переменилась в лице.
— Ага! Испугалась? Вот оно что! У вас, барышня, как я вижу, сердечные тайны завелись.
Девушка покраснела, отвела взгляд в сторону и ничего не ответила.
— Нет, нет, я пошутил, девочка, — уже серьезным тоном продолжал вице-губернатор. — Побудь там еще немного. Надеюсь, скоро все это кончится, и ты сможешь возвратиться домой.
Ни Дюри Гёргей, ни Кендель, ни сама Розалия не придали никакого значения одному мелкому обстоятельству: Гёргей пристально, ничего не говоря, посмотрел на свою дочь и сбоку, и в лицо, а затем попросил Кенделя:
— Погляди, Кендель, но только повнимательнее, и скажи: очень похожи друг на друга двоюродные братец и сестрица?
Папаша Кендель окинул внимательным взглядом куруцкого офицера, словно впервые видел его, и покачал головой:
— Это я не приметить.
Кто бы стал обращать внимание на такие мелочи? Иное слово кажется порой пустым звуком, а на самом деле оно — тяжелее камня на душе, и человек хотел бы любой ценой освободиться от него.
Вот как проходило свидание в загородном трактире, закончившееся, можно сказать, весело для всех, кроме Бибока. Пал Гёргей был доволен, что ему удалось побороть свой гнев; бургомистр считал, что он дешево отделался, а наемники вице-губернатора, очевидно, нашли все-таки в кустах самшита шапку с золотом, потому что в Гёргё они больше не показывались.
С другой стороны, Пал Гёргей, пожалуй, не мог бы придумать более тяжкого наказания для Нусткорба, даже если бы отправил его в пекло. Ведь в преисподней грешник угодил бы всего-навсего в котел с кипящей смолой, а на бургомистра низверглась лавина негодования целого города. Сначала медленно, втихомолку, а затем все громче и быстрее по городу распространились слухи (вероятнее всего — через писарей комитатской управы) о том, что в минувший вторник бургомистр ужинал с вице-губернатором: всю ночь напролет они пировали с ним за одним столом. Город загудел, будто растревоженный пчелиный улей. Что же это получается? Да есть ли на небе бог, если возможно такое предательство? Даже самые рассудительные из саксонцев размахивали кулаками. Женщины хотели разодрать на себе одежды. (Разумеется, черные одежды!) «Нусткорб годами заставляет нас ходить в трауре, а сам, старый прохвост, тайком пьянствует с Гёргеем!»
Весь город клокотал злобой. На стены нусткорбовского дома наклеили пасквили, повыбивали окна, а по вечерам перед этим злосчастным домом собиралась чернь и устраивала бургомистру кошачьи концерты. Впрочем, в плебейской толпе можно было заметить и седые головы почтенных горожан, а на главной площади то и дело раздавались возгласы:
— Долой Нусткорба! Убирайся, Нусткорб, в Гёргё! Под нажимом общественного мнения пришлось вмешаться в дело сенату и заставить бургомистра, который не смел и носа высунуть из дома, назначить чрезвычайное заседание. Сенаторам и самим не терпелось узнать, верны ли страшные слухи, ходившие по городу. Правда ли, например, что в прошлый вторник Нусткорб ужинал с Гёргеем?
Господин Нусткорб признал, что он, действительно, ужинал с вице-губернатором, но случилось это «de vi coactu»[49].
Злой, словно хомяк, сенатор Бибера вскочил со своего кресла и закричал:
— Как это можно «ужинать по принуждению»? Мне, например, довелось видеть только, как гусаков насильно откармливают на убой.
— Я хотел сказать, что ужинал с Гёргеем не в качестве его друга, но как его пленник.
Ответ Нусткорба вызвал новый взрыв негодования. Что за чушь он городит? Где? Когда? Каким образом попал он в плен? Ведь это невероятно!
Бургомистру пришлось рассказать о том, как он по важному для города делу посетил одного чужестранца.
Из осторожности пришлось это сделать в загородном трактире, поздно вечером, — более подробно он не хотел бы касаться этой темы. (Выкрики: «Знаем! Знаем!») Возвратясь домой, он, Нусткорб, у самой парковой калитки столкнулся… с кем бы вы думали? С вице-губернатором Гёргеем. (Беспокойное движение в креслах. Выкрик Биберы: «Что он там забыл?»).
— Этого я знать не могу! — вскипел бургомистр. — Мне он не доложил. Пойдите и спросите его самого: может быть, вам, сударь, он откроет.
— Ладно! Пусть господин Нусткорб дальше рассказывает! Не перебивайте!
И господин бургомистр теперь уже без помех мог рассказать, как он бросился на вице-губернатора, пытаясь «захватить его живьем», как в пылу схватки он кликнул себе на помощь гайдука Матяша Платца. Но прежде чем тот прибежал, Гёргей успел засвистеть, чему он, Нусткорб, не смог воспрепятствовать. По этому сигналу выскочили отовсюду и сбежались на помощь Гёргею его подручные, схватили Нусткорба и его гайдука и как пленников отвезли в Гёргё. Что же он мог поделать, если причудник-аристократ вместо того, чтобы бросить своего пленника в темницу, угостил его роскошным ужином, а затем отправил домой в карете, запряженной четверкой лошадей.
— Благородно поступил, надо признать! — пробормотал себе под нос Донат Маукш.
— Поделать вы, господин бургомистр, действительно ничего не могли, — согласились сенаторы, основательно обсудив вопрос, — но только подумайте о том, как вам переварить этот ваш ужин, потому что народ больно уж разбушевался.
— Ничего, народ мы утихомирим, — самоуверенно заявил бургомистр, — есть у меня для этого средство! — и хлопнул себя по карману, где лежала бумага.
— Верно, надо что-то делать и притом срочно, — подтвердил мудрый Мостель.
Однако внизу, в винном погребке, где сенаторы обычно заканчивали каждое свое заседание «магарычом», юный Фабрициус без обиняков заявил, что считает положение Лёче тяжелым, и намекнул (вино развязывает язык!), что господину бургомистру следовало бы ради чести не подражать теперь громкому клекоту орлов, а скорее уж уподобиться улитке, и пусть дети поют ему песенку: «Улитка, улитка, высуни рога, дам пирога!» Иными словами, смелый молодой человек намекал, что Нусткорбу пора в отставку, — недаром же Фабрициус был вожаком самых непреклонных в сенате: он боялся, что ненависть лёченцев к Гёргею со временем остынет и придется тогда городу веки вечные носить на себе пятно позора; этот юноша считал, что подоплекой убийства покойного бургомистра была не столько вспыльчивость Гёргея, сколько презрение к бюргерам, свойственное всему надменному дворянству.
Господин Крипеи после четвертой кварты вина присоединился к мнению Фабрициуса:
— Правильно! Сейчас во главе города должны стоять не столько умные, сколько разгневанные люди.
Впрочем, Нусткорб тоже был разгневан — по крайней мере, на Фабрициуса и Крипеи.
— Головой о стену биться, что ли? Вы говорите: толпа шумит. А я плевать хотел на толпу и все равно буду делать свое дело, как мне подсказывает моя совесть! Что из того, что толпа шумит? Зачем ее слушать? Разве не шумит морская раковина, если ее приложить к уху? А захочешь посмотреть, что же там шумит в ней, увидишь, что она совершенно пуста.
Фабрициус покачал головой.
— Ваши сравнения хромают, — правда убедительнее, сударь!
— Нет, это ваша «правда» хромает на обе ноги, а не мои сравнения! — отпарировал Нусткорб.
О, господин Нусткорб тоже был остер на язык.
— Что такое? — надменно спросил Фабрициус.
— А то, что не будь на свете вас, не пришлось бы мне драться с Гёргеем, да, может быть, я и в глаза бы его не увидел.
— Драться из-за меня?
— Не из-за вас, но из-за кого-то, кто весьма дорог вашему сердцу.
Фабрициус задумался.
— Что вы хотите этим сказать? — смущенно спросил он наконец. — О ком идет речь?
— Об одной красивой девушке. О красивейшей девушке на целом свете, хе-хе-хе!
Теперь уже он насмехался над Фабрициусом. А юный сенатор разъярился до того, что изо всех сил грохнул деревянной кружкой.
— Довольно! Ваша болтовня надоела мне.
— Господин сенатор, не забывайтесь. Вы говорите с бургомистром города Лёче, — с достоинством предостерег его Нусткорб.
Фабрициус опомнился и, склонив голову, покаянно приложил руку к груди:
— Меа culpa[50]. Простите меня, господин бургомистр. Гнев увлек меня…
А Нусткорб, положив ему на голову ладонь, задумчиво сказал:
— Не гнев, а любовь. Узнаю. Ведь я и сам когда-то был молод… Ну, да хватит об этом! Считай, что я ничего не говорил. Выпьем лучше еще немножко красного. А прежде закусим чем-нибудь, чтобы вину мягче было у нас во чреве. Эй, хозяин, — позвал он корчмаря, — принеси-ка нам свеженького творогу!
Сотрапезники отведали творогу в качестве «подстилки» для вина, затем выпили само вино, поболтали о всякой всячине. Только один Фабрициус сидел молча, словно воды в рот набрал. Молчал. Но вот в погребке появилась служанка Нусткорба со строжайшим наказом от барыни поспешить домой: «Обед и так уже перепрел, и если барин не придет немедленно, пусть себе отправляется обедать в Гёргё. До чего несчастный город Лёче, если его дела решаются в кабаке!»
В таких случаях Нусткорб хотя и ворчал, но обычно поднимался и уходил. Никто его за это не осуждал, потому что и остальные сенаторы расходились домой под такого же рода «нажимом».
Однако на этот раз слова супруги «пусть отправляется обедать в Гёргё», вызвавшие смех (или, по крайней мере, плутовскую улыбку на устах сенаторов), возмутили бургомистра. У него так и зачесалась рука влепить затрещину краснощекой Кетхен. Однако эпитет «Прозорливый», которым в городе наградили Нусткорба, когда он еще был любезен бюргерам, обязывал его к сдержанности, а поэтому бургомистр горестно вздохнул и отправился домой. И только палка Нусткорба, когда в душе его вспыхивало негодование, начинала со свистом рассекать воздух. Вот как? И жена тоже? Ну, погоди!
Нусткорб даже не заметил, что рядом с ним все время идет Фабрициус, и лишь когда юноша проговорил: «Ну, теперь, сударь, мы одни, скажите мне, что вы имели в виду давеча в погребке?» — Нусткорб заметил его присутствие.
— Гм… Сказать, что я имел в виду? — недовольно захмыкал бургомистр. — А может, лучше не говорить? Разумнее будет. Но уж если я должен вам что-нибудь сказать, скажу только одно: не женитесь, братец. Человек я не злой, дурного совета давать не стану…
Фабрициус схватил бургомистра за руку и стиснул ее с такой силой, что у Нусткорба чуть кровь не брызнула из-под ногтей.
— Вы слышали что-нибудь?
— Гм… Кое-что слышал. Ну, отпустите же вы мою руку.
— О Розалии слышали? — спрашивал Фабрициус глухим, дрожащим голосом.
— Да, о ней.
— Говорите же поскорее, не мучьте.
— Ну хорошо. В загородном трактире, в мезонине, где я торговался о цене на документ, я услышал шаги и голоса в соседней комнате и, заподозрив недоброе, спросил того человека из Белы, что там происходит. Он ответил мне: «Любовное свидание». Но ведь договором, заключенным с Карасем, такие вещи решительно запрещены, и я подверг человека из Белы строгому допросу, желая допытаться, кто же участники свидания. Он признался, что знает только женщину, так как видел ее, когда она поднималась по лестнице. И была это — Розалия Отрокочи.
Юный сенатор побледнел.
— Подлая клевета? — воскликнул он.
— Я тоже сначала подумал, — сказал бургомистр и нехотя добавил: — И сейчас так думаю, хотя…
— Так говорите же! До дна хочу испить горькую чашу, а потом бросить ее в лицо изменнице!
Глаза Фабрициуса налились кровью, руки задрожали.
— Выходя из трактира, я заметил промелькнувшую мимо меня женщину. Разумеется, я не узнал ее, однако…
— Как, и еще что-то? — будто от боли, вскрикнул Фабрициус.
— Идя за нею следом, я нашел на земле цветок георгина, который, по-видимому, выпал из ее прически.
— Когда это было? — мрачно спросил Фабрициус.
— Во вторник. Поздно вечером. А поскольку дело это заинтересовало меня (именно из-за вас), я некоторое время стоял у выхода из парка, решив взглянуть в глаза герою свидания, если он не ушел вместе с женщиной. Ну, а получилось так, что дождался-то я — Гёргея, который, как видно, находился до этого где-нибудь в здании трактира. Думаю, что он тоже в сговоре с этим висельником Карасем. Я, между прочим, с самого начала не хотел, чтобы Карасю сдали в аренду загородный трактир, потому что этот арендатор явно пляшет под дудку комитатских дворян. Ну вот, я уже у своего дома! Вы только посмотрите, сударь, что они сделали с ним.
Все три окна дома Нусткорба, выходившие на улицу, были выбиты, а степы обезображены мерзкими надписями и оскорбительными рисунками. Но самую обидную картину являла собой повязанная белым платком и глядевшая из окна госпожа Нусткорб.
Сердито насупив брови, она озирала улицу. Будучи близорукой, супруга бургомистра не сразу заметила приближавшегося мужа. Тот же, наоборот, тотчас увидел жену и поспешил отделаться от своего спутника, чтобы без свидетелей выслушать колкие замечания своей дражайшей половины. Поэтому он протянул Фабрициусу руку и сказал:
— Ну что ж, распрощаемся, братец?
— Не раньше, чем вы скажете мне, где я могу найти того человека, — прошептал Фабрициус. Рука его, когда он протянул ее бургомистру, горела как огонь.
— Какого человека?
— Того, из Белы, который видел, как Розалия пришла в трактир.
— Его нелегко разыскать.
— Я отыщу его даже под землей! — с твердостью сказал Фабрициус.
— Он как раз под землей и находится, — сидит в одном из подземных казематов в Гёргё.
— Я проберусь туда, — заявил юноша и с такой силой стукнул кулаком по стене нусткорбовского дома, что с нее посыпалась штукатурка. Затем он повернулся и с быстротой ветра помчался прочь. Нусткорб задумчиво посмотрел ему вслед.
— Ох, пожалуй, слишком сильно я его пришпорил, — пробормотал он и крикнул вдогонку Фабрициусу: — Смотри не наделай сгоряча глупостей! Сперва у самой девицы надо спросить.
Но Фабрициус сделал вид, что не слышал этих слов бургомистра.
Прохожие здоровались с ним, снимали шляпы, но он ничего не замечал и, погрузившись в разговор с самим собой, запальчиво размахивал руками. Встречные перешептывались.
— Видно, с левой ноги встал сегодня Фабрициус. Или что-нибудь у них в сенате стряслось…
И хотя в то утро на заседании сената не случилось ничего особенного, воображение горожан разыгралось. Лишь только стало известным, что Нусткорб ужинал у Гёргея не как гость, но как пленник, для всех это событие предстало в совершенно новом свете. Город терялся в догадках: что за дела привели вице-губернатора в загородный парк? Уж не затем ли прибыл он туда в сопровождении вооруженных наемников, чтобы захватить в плен Нусткорба? Но если это так, то почему же он тогда отпустил его? Неразрешимая загадка!
А вот и вторая загадка: зачем понадобилось Нусткорбу идти в трактир в такой поздний час, хотя обычно он ложится спать с курами? Не для того же он пришел, чтобы сдаться Гёргею в плен?
О том, что Нусткорб собирался в трактир Карася, знали только трое-четверо посвященных в дело сенаторов, и теперь они подозревали, что какой-то шпион сообщил обо всем Гёргею, и вице-губернатор прискакал в парк с целым отрядом. Но кто же оказался предателем? Что, если им был тот самый человек, у которого Нусткорб купил документ? — думали посвященные. — А если это верно, значит, Нусткорб попал в западню! Коварный негодяй сначала продал документ Нусткорбу, а самого Нусткорба продал Гёргею, — тот взял его в плен, чтобы отобрать у него документ. Но нет, не может быть! Ведь Гёргей отпустил Нусткорба домой, не отняв у него бумагу. Увы, где уж человеческому уму разобраться в такой путанице!
Однако удивительная выходка вице-губернатора понравилась горожанам: благородный человек, ничего не скажешь! Схватил своего врага, угостил его, как лучшего друга, ужином и отправил в своем экипаже домой. Одним словом, уважил город. Не так уж плох этот Гёргей!
И только самые непримиримые, из числа сторонников Фабрициуса, по-прежнему оборачивали любой хороший поступок Гёргея против него же. «Оскорбил город! — кричали они. — Хотел показать, вот, мол, каков я: ваш бургомистр был у меня в руках, я мог бы с ним сделать, что угодно. А я возвращаю его вам, расправляйтесь с ним сами, я же не боюсь ни его, ни вас».
Но что бы ни говорили сторонники Фабрициуса, сквозь сугробы ненависти к Гёргё, которую они насаждали, все чаще пробивались ростки симпатии к нему, и комендант Гродковский в приписке к одному из своих донесений, отправленных вице-губернатору с конным нарочным, сообщал следующее:
«Угостив их бургомистра ужином и доставив его домой в карете, вы породили здесь великую радость, и люди успокоились. Я хоть не вещун и не пророк (последний пророк был, Аввакум), но чувствую, что ненависть к Вашему превосходительству испаряется, как вода из кипящего котла. Пройдет еще немного времени, и вы сможете безо всякой опасности и даже под возгласы «ура» вернуться в здание комитатской управы, которое Вы покинули не из страха, но из мудрой осторожности. Пусть же на сей раз она оставит вас. Datum ut supra».[51]
То, что у Гродковского было на языке, у Нусткорба таилось в уме. Дело не терпело отлагательства. Бургомистр чувствовал: надо что-то предпринимать. И, якобы желая проверить, как подрезают лозы на лёченских виноградниках в Токае, как прикапывают там черенки для посадки (в точности я уж и не знаю, под каким предлогом), он отправился в Шарошпатак, ко двору князя Ракоци.
Поехал, разумеется, не с пустыми руками, а с купленным у Бибока документом и золотой шпорой, которую некая удачливая свинья выкопала из земли в одном из перелесков на склонах гор, возвышающихся над Лёче. Свинопас передал шпору городскому казначею, тот принес ее в ратушу, после чего ее стали именовать «шпорой короля Сватоплука».
Шпора отыскалась весьма кстати, так как господин Нусткорб, отправившись ко двору, собирался выступить там в роли дипломата. Получить аудиенцию князя он, правда, не рассчитывал, да и не хотел.
«К чему нам искусственно умножать число предателей, — не раз говорил Ференц Ракоци депутациям, являвшимся к нему с жалобами, обвинениями и подозрениями по чьему-либо адресу. — Они и без нашей помощи сами по себе множатся».
Уговорить князя наказать вице-губернатора можно было только при чьем-нибудь посредничестве. Поэтому Нусткорб решил завести себе при дворе Ракоци какого-нибудь влиятельного покровителя, — еще дома он остановил свой выбор на княжеском гофмаршале Дёрде Отлике. Ему-то Нусткорб и вез найденную шпору и нижайшее прошение, содержащее жалобу на вице-губернатора Гёргея с красочным описанием тяжелой участи города Лёче. Бургомистр избрал Отлика не потому только, что тот слыл страстным собирателем редкостей, но и потому, что он был единственным его земляком при дворе князя Ракоци. Правда, сепешцем был еще и помощник канцлера Жигмонд Яноки, но Яноки в то время был болен.
Гофмаршал был истым придворным — то есть скользким хитрецом с изящными манерами и подкупающей улыбкой. «У этого бойкого усатого кавалера душа кокетливой женщины», — говорили о нем.
Отлик встретил Нусткорба приветливо, принял от него и шпору, и жалобу на вице-губернатора Гёргея, ввергнувшего город Лёче в великое горе убийством бургомистра. «С той поры, — говорилось в жалобе, — город не ведает покоя, ибо одни жаждут там мира, а другие — войны, и управляют им отнюдь не сенаторы, а главари уличной черни, каковые подстрекают его лишь к мести, и у него не остается сил на более разумные и благородные деяния. Ни отомстить Лёче не может, ни забыть обиду. Он подобен больному, у кого в опухшей ноге сидит заноза». А посему город нижайше просит князя, как верховного правителя Венгрии по великой мудрости своей избавить Лёче от занозы, милостиво снизойдя к мольбе преданных слуг своих. Названный же выше вице-губернатор Гёргей человек не верный. В доказательство сего мы, приверженцы Вашего высочества, приобщаем к сему ходатайству документ, написанный собственной рукой вице-губернатора, а именно приказ об аресте его родного брата Яноша Гёргея, сей приказ он дал одному из своих головорезов в начале войны, священного похода, когда Янош Гёргей с войском и огневыми припасами спешно двинулся к польской границе.
Пространные пояснения Нусткорба к его челобитной господин Отлик выслушал рассеянно, — куда внимательнее, с увлеченностью истинного знатока искусства, он разглядывал шпору, однако вежливо высказал сомнение в том, что шпора могла принадлежать Сватоплуку, поскольку король Сватоплук, вероятнее всего, ходил в лаптях. Все же Отлик приказал «продолжать раскопки»; ведь какой бы древней ни была находка и какому бы народу она ни относилась, у людей во все времена было по две ноги, а потому должно быть и две шпоры. Если лёченцы найдут еще что-нибудь, пусть сразу же известят об этом князя. Что касается просьбы города Лёче, он, Отлик, поддерживает ее и обещает доложить его высочеству. С этим обещанием гофмаршал милостиво отпустил лёченского бургомистра.
Возвращаясь домой, Нусткорб повсюду хвастал, что привел в порядок городские виноградники и весьма надеется на хороший урожай. И действительно, не прошло и двух недель, как «урожай» (в виде пакета под княжеской печатью) созрел. Дрожащими руками бургомистр сломал знакомую печать. Из конверта выпало его собственное ходатайство со всеми приложениями и следующей резолюцией князя на обороте прошения:
«Выслушав и обдумав обвинения, выдвинутые против господина вице-губернатора, Мы полагаем, что приказ об аресте Яноша Гёргея был отдан им скорее из братской любви, чем из враждебных чувств к нему или к Нам, ибо вице-губернатор Пал Гёргей не пожелал задержать ни повозок с огневым припасом, ни нашего единоверца и единомышленника Тамаша Эсе, и уж одним этим доказал свои честные намерения и верность Нам. Поскольку же кони Пала Гёргея вместе с гайдуками остались в Нашем войске, следует послать ему в дар, в знак нашей к нему благосклонности, верховую лошадь из наших патакских конюшен и парадную сбрую для нее, поручив господину Шегеннеи передать Наш дар Палу Гёргею. Одновременно следует посоветовать городу Лёче помириться с вице-губернатором Гёргеем и не умножать число врагов, когда их и без того довольно.
Ф. Ракоци»Князь, как видно, начертал наспех эти строки на оборотной стороне челобитной, а его канцелярия поленилась переписать их и облечь княжью волю в форму документа. Господин Асалаи просто поставил внизу: «Исполнено в Шарошпатаке, июля 18 сего 1707 года» — и свою подпись: «Франциск Асалаи», а затем вложил все бумаги в пакет и, запечатав, отослал лёченскому бургомистру.
Письмо привез тот же самый княжеский конюший, которому поручили отвести дареного скакуна в Гёргё. Боже, что за диво конь это был! Ни единого изъяна! Вороной, шерсть как бархат, ноги точеные, стройный, будто благородная барышня, дышит горячо — что тебе дракон!
Прочитав ответ князя, Нусткорб впал в такой гнев, что едва не отдал богу душу. По счастью, письмо застало бургомистра дома. Тотчас же Кетхен была послана в соседние бани за цирюльником, тот, не долго думая, отворил ему кровь, а жена принялась прикладывать ко лбу больного смоченные холодной водой и отжатые платки.
Бургомистра уложили в постель: мало-помалу он отошел и принялся проклинать себя за то, что ездил в Шарошпатак и, выходит, выхлопотал для Гёргея лошадь в подарок. Боже правый! Вот будет смеху, когда об этом узнают в Лёче! Нет никто не узнает! По крайней мере, не узнают, что княжеский вороной конь — это и есть ответ Ракоци на жалобу пёченцев. Во всяком случае, от Нусткорба про это не узнают, даже если четвертуют его. А если не удастся сохранить это в тайне то пусть лучше узнают обо всем не сейчас, а после, когда такая весть уже не будет опасна. Ведь Немезида не дремлет, ее карающая десница рано или поздно настигнет Гергея, это только вопрос времени. На сей раз Гёргею удалось ускользнуть от богини мести, и шпора Сватоплука, увы, не принесла лёченцам успеха — ну что ж, тем хуже придется потом Гёргею. Ведь вырыла шпору свинья, а свинья, как известно, всегда приносит удачу. Впрочем, смотря для кого, — пока что она принесла удачу Гёргею. «Но письмо еще может сделать свое дело: в лагере куруцев Гёргей вышел сухим из воды, — думал Нусткорб, — посмотрим, выйдет ли он сухим, когда ему зададут баню люди императора. А они непременно зададут ему баню, пусть на это мне придется потратить даже собственные деньги!» Возможность отомстить была. Княжеская канцелярия, работавшая вообще говоря неплохо, на этот раз по ошибке (или по небрежности) вернула Нусткорбу вместе с письмом князя и приказ Пала Гёргея об аресте брата. С этой-то бумагой Нусткорб и собирался попытать счастья — на этот раз — в Вене.
Жена Нусткорба происходила из знаменитого рода Студентов. Настоящая фамилия Студентов была Протмовы, но этого имени уже почти никто не помнил в городе. Знатный могущественный род, игравший когда-то весьма важную роль в делах города, и в дальнейшем остался бы у власти, если бы представители его не вздумали учиться. Наука загубила Протмовых. Один из Протмовых, некий Якаб, наживший сказочные богатства на торговле скотом, учредил в XVI веке предприятие, из прибылей которого каждый мужской отпрыск лёченских Протмовых имел право до завершения образования получать ежегодно стипендию в две тысячи золотых форинтов. У любого из Протмовых, извечно занимавшихся торговлей и различными промыслами, в крови была страсть к наживе, и отныне все они начинали учиться шести лет от роду и продолжали учение в десятках стран и городов до глубокой старости, умирая большей частью холостяками-студентами где-нибудь в Падуе, Болонье, Гёттингене, Лейпциге, Галле и еще черт знает каких уголках земного шара, не оставив после себя потомства.
К описываемому времени уцелело в живых всего лишь трое Протмовых, из них один доучился до того, что спятил с ума, и где-то скитался по свету, другой (пока без особого вреда) учился в университетах (две тысячи золотых форинтов — немалые деньги), а третий — Иштван, жил в Лёче, служа практикантом при городской ратуше, и получал (все по тому же правилу) — две тысячи годовых «за изучение при городском сенате основ гражданского управления». Слыл он человеком весьма образованным, знающим и очень хитрым; Иштван Протмов, приходившийся Нусткорбу (по жене, Борбале Студент) шурином, много лет провел в разных венских школах и потому знал в Вене все ходы и выходы, — ему-то Нусткорб и поручил отправиться в Вену, чтобы там посредством своих связей (многие однокашники Студента занимали к этому времени важные посты при дворе) он дошел до его императорского величества и преподнес содержание скромного донесения лёченцев под таким соусом: «Зная, что Янош Гёргей повез вместе с Эсе Тамашем порох и оружие к польской границе для Ракоци, сепешский вице-губернатор все же не счел нужным арестовать Тамаша Эсе, а поклажу его конфисковать или, по крайней мере, донести обо всем императору. За эти свои «заслуги» Пал Гёргей уже успел получить награду от князя Ракоци в виде красавца вороного коня в золотой наборной сбруе». Иштвану Студенту такое поручение пришлось по вкусу; он не уставал повторять, что ум его просто создан для дипломатии. Получив от Нусткорба нужное количество талеров, Студент уже через несколько дней на очередном молиторисе под особой опекой Клебе отправился в Вену. Здесь он остановился на Ринге в гостинице «Два гуся» и начал плести свою паутину. Две недели спустя Иштван Студент уже сообщал Нусткорбу, что познакомился с личным камердинером императора, который одевает его величество. В середине сентября Студент прислал новое донесение о том, что гёргейский приказ об аресте брата и довольно подробное изложение самого дела уже лежат на рабочем столе императора. Однако рабочий стол сам по себе не работает, а император хоть и работает, но редко, поэтому шурин должен набраться терпения.
Так и ждал Нусткорб, ждал, получая всевозможные успокоительные сообщения, которые Иштван Студент передавал ему с приезжавшими из Вены лёченцами в словах, понятных одному только Нусткорбу: «Натянул на скрипку новую струну», «Урожай поспевает», «Косу уже точат», «Юбки можно сбросить, застежки сломаны» (в том смысле, что женщины скоро смогут сменить черные юбки на обычные), и Нусткорб, понимая смысл этих слов, сам передавал столь же загадочные ответы с купцами, направлявшимися в Вену: «Лягушки все еще квакают» (то есть бюргеры по-прежнему негодуют), «Скачет конь, сверкает сбруя» (Гёргей, как и прежде, полон самоуверенности), «И у соседей пищат мыши» (в комитате тоже раздаются голоса недовольных Гёргеем).
Действительно, кое-кто из дворян уже принялся баламутить воду, требуя, чтобы Гёргей созвал Комитатское сословное собрание в самом Лёче. Или — или: или помирись с врагами или поссорься и с друзьями! Ничто не может оставаться вечным. Не для того наши предки построили в Лёче комитатскую управу, чтобы она превратилась в царство летучих мышей!
Дело все больше близилось к открытому столкновению. И там и сям закипало недовольство. Ясно было: что-то должно произойти. В воздухе стояла таинственная, грозная тишина, предвещавшая бурю. Незримые силы, казалось, подталкивали людей: разрешите же наконец этот вопрос!
Но почему же только этот вопрос, когда есть заботы и поважнее? Ведь в стране по дорогам грохочут артиллерийские повозки, на полях белеют походные шатры, а форели плещутся в ручьях, красных от крови!
И вдруг вопрос о Гёргее приобретает первоочередное значение? Как же это возможно? Бог весть. Вероятно, потому, что в дело вмешалось чудовище, власть которого еще не посмел ограничить никто и имя которому — Мода. Надень на него насильно черное платье, чудовище встряхнется и перевернет вверх тормашками и город Лёче, и весь Сепешский комитат. В конце октября, когда в Сепеше все уже кипело и бурлило, из Вены нежданно-негаданно прикатил Студент. Вид у него был довольно кислый.
— Ну, чет или нечет? — спросил Нусткорб.
— Нечет.
Бургомистр оторопел, уставился на шурина.
— Что же случилось?
— Император понял это дело так, что из верности к нему Гёргей намеревался схватить даже собственного брата, а поэтому достоин награды.
— Вы всерьез говорите?
— Я и сам изумился, но это так и было. Его величество послал Гёргею со своим приближенным графом Траутсмандорфом грамоту: Гёргей получил звание государственного советника. Не сегодня-завтра граф будет здесь!
Нусткорб понурил голову.
— Значит, пора мне самому в путь! — заявил он, но после этого впал в полную апатию. Он часами просиживал у себя дома, облокотившись на стол и подпирая голову ладонями. Сидел молча, неподвижно и не отвечал ни на какие вопросы. Он как будто и не был даже печален, просто оцепенел, и все тут. Забыл все свои привычки: выложил из кармана табакерку с нюхательным табаком, к вину и не притрагивался, сидел и молчал, лишь иногда, обращаясь к самому себе, бормотал: «Значит, пора в путь!»
В путь? Куда же это он надумал? Госпожа Нусткорб ломала руки, да и шурин не на шутку перепугался, решив, что бургомистр замышляет покончить с собой. Всякий инструмент и оружие, с помощью которых Нусткорб мог бы причинить себе вред, от него спрятали. Не иначе как вселился в него сам Вельзевул. Надо выгнать нечистого! — И госпожа бургомистерша сначала окурила супруга травкой чабрецом, а затем, чтобы пробудить в нем желание не расставаться с земной юдолью, сделала для него отвар из «человечьих сердечек».[52]
От чабреца и отвара «из сердечек» желание жить, по-видимому, возвратилось к Нусткорбу, — он хоть и начал собираться в путь, но не в тот, которого опасались его домочадцы и который совершается на катафалке, а в такой, для которого нужны дорожная сума с коржиками, копченая грудинка и нашпигованная чесноком телячья ножка. Иначе говоря, бургомистр решил отправиться в Кешмарк и, поскольку близился день всех святых, привезти оттуда надгробную статую покойного господина Крамлера, заказанную еще пять лет тому назад, но только сейчас законченную ленивым ваятелем.
— Надо же сделать хоть что-нибудь, чтобы заткнуть рот нашим горожанам, — объяснял Нусткорб. За памятником, конечно, мог бы съездить и городской казначей, но Нусткорбу захотелось доехать самому.
— Значит, подействовал отвар-то! — радовалась его супруга.
Отвар и в самом деле подействовал: бургомистр, может быть, потому и решил отправиться в путешествие, что хотел избавиться от назначенной ему женой диеты и от окуривания чабрецом.
Но и здесь бедняге не было удачи.
Статуя, которую предполагалось установить в нише соборного храма, удалась на славу: Йожеф Томиш, великий мастер своего дела, так правдоподобно запечатлел образ Михая Крамлера в бургомистерской шапке и в мантии на хлипких плечах, что когда кучер Йожеф Куптор, поступивший на службу в магистрат еще при покойном Крамлере, увидел своего бывшего барина в виде изваяния из красного мрамора, он испуганно сорвал с головы своей шляпу и залепетал «слава Иисусу» (кучер был католиком). Затем носильщики вчетвером подняли памятник и погрузили его в бричку, и кучер всю дорогу с большим почтением обращался со статуей, укутанной в парусину. Устраивая Нусткорбу местечко рядом с памятником, он с превеликой гордостью приговаривал, что и за тысячу форинтов не уступил бы оказанной ему ныне высокой чести везти сразу двух лёченских бургомистров, еще ни разу с сотворения мира не выпадала на долю ни одного из кучеров такая почетная обязанность.
Целых два дня вез Куптор двух бургомистров, потому что памятник был тяжелый, а погода — дождливая, и бричка по самые оси вязла в непролазной, липкой грязи. Лошади могли тянуть повозку только шагом. Да и дни в осеннюю пору короткие, а ехать вечером по отвратительным дорогам, пожалуй, и не рискнешь. И вот, когда до Лёче было уже рукой подать, неподалеку от села Дравец, коренник, спускаясь с косогора, оступился и задними ногами соскользнул в водомоину.
Кучер соскочил с козел, чтобы помочь лошади выбраться, но было уже поздно: лошадь, падая, увлекла за собой повозку, перила дорожного ограждения с треском сломались, и господин Нусткорб полетел в овраг, правда, не очень глубокий. Следом за живым бургомистром с глухим грохотом под откос покатился каменный истукан, и бедняга Нусткорб, не успев и охнуть, был им раздавлен. Жители Дравца, сбежавшиеся на крики кучера, извлекли из-под памятника только сплющенный окровавленный труп, — но ни с лошадью, ни с кучером, ни с повозкой, ни с памятником ничего не случилось.
Перепуганный Куптор завернул в парусину уже не статую, а покойника и, загнав лошадей, под вечер примчался в Лёче где по случаю воскресенья и теплой погоды на улицах толпились бюргеры в черных своих одеждах. Белый полог, укрывавший тело бургомистра, и все платье кучера были перепачканы кровью.
— Что, что случилось?
— Умер бургомистр! Прежний бургомистр убил нынешнего!
С быстротой пожара, из одного дома в другой, разнеслась по Лёче страшная весть, забираясь в самые отдаленные закоулки города и обрастая по пути подробностями, словно снежный ком.
— Прежний бургомистр убил нынешнего, потому что нынешний убил прежнего, — говорили бюргеры.
— Боже милостивый, упаси нас от новых испытаний!
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ Некоторые замечания касательно зоркости материнского ока и возникновения любовных чувств
Современный молодой человек, сраженный любовным недугом, или ужаленный зеленоглазым чудовищем — ревностью, либо бежит искать секундантов для дуэли, либо уединяется от всего мира с некоей прекрасной девой по имени Муза и кропает вирши, полные мировой скорби.
Услышав о любовных свиданиях Розалии, Фабрициус не сделал ни того, ни другого, хотя и был глубоко потрясен. Пожалуй, если бы даже солнце упало с неба в грязное болото, это не меньше поразило бы его. Да, да — ведь то, что он услышал, было для него невероятной бедой, непостижимой катастрофой, даже более страшной, чем падение солнца с небосвода, ибо он и сам упал с небес на землю, в грязное болото, и чувствовал себя несчастнейшим из смертных! Он был совсем подавлен, опустошен, все стало бесцельным, лишилось смысла, тоска снедала его душу, в голове гудело, ноги подкашивались. Старинные дома с лабазами в первых этажах, суровые и важные, казалось, смотрели на него с презрением, когда он проходил мимо них по улицам, а колеса ломовых телег, громыхая по булыжной мостовой, насмешливо выговаривали: «Ро-за-ли-я! Ро-за-ли-я!» И хоть из окон, защищенных внизу выгнутыми решетками, то и дело выглядывали девичьи головки и мило, как старому знакомому, улыбались Фабрициусу, у него не проходило ощущение, что какая-то незримая рука больно сжимает его сердце.
Он брел домой, сам не сознавая этого, бессознательно, будто лунатик, но привычке находя дорогу. На одном из перекрестков ему повстречался Миклош Блом верхом на коне, расфуфыренный, словно собрался на бал. Еще издали он закричал:
— Привет, Рици! Как дела, Рици? («Рици» — было уменьшительное от «Фабрициус».) А я решил прокатиться за город. Хочешь, поедем вместе? Будет майский праздник, увидим деревенских красоток. Ох, не могу! Но что поделаешь. Привет, Рици!
— Мерзкий пес! — прошипел ему вдогонку Фабрициус и, войдя во двор своего дома, так хлопнул ярко-зеленой калиткой, что она, бедная, едва не рассыпалась.
Дома Фабрициуса ждала с обедом мать. На столе появились его любимые яства: фаршированная курица и лепешки, испеченные на капустных листах, — в этот день всегда пекли хлеб и заодно ставили тесто и для лепешек. Однако юный сенатор, бледный, раздраженный, даже и не притронулся к еде.
— Сынок, уж не заболел ли ты? — забеспокоилась мать.
— Голова болит.
— Дай привяжу тебе ко лбу листок хрена, мигом всю боль вытянет.
— Не вытянуть моей боли ни листьями хрена, ни упряжкой волов.
После обеда Фабрициус не пошел, как обычно, в ратушу, а остался дома и, усевшись в своей комнате у окна, стал глядеть на проплывавшие по небу тучи. Серые, зловещие, причудливой формы, они, словно сказочные чудовища, наползали друг на друга, сливались и снова расходились в разные стороны и опять поглощали одна другую. В небе, как видно, шли спешные приготовления к буре, назначенной на вечер. Но вот небо содрогнулось, а рука великого декоратора исчертила весь небосвод узорами молний. Гроза! Наконец-то! Фабрициус был ей рад. У него в груди бушует буря, так пусть же по всей земле пронесется ураган. Пусть воет ветер, раскалывается небо, пусть оно даже рухнет и погребет под собою весь мир. Он вышел из дому, даже не набросив на плечи плащ, и, не обращая внимания на грозу, решил прогуляться. Пройдя через городские ворота, мимо часовых, с удивлением отдавших ему честь, он направился в рощу, и расходившаяся стихия признала в нем своего единомышленника. Зато после того как вместе они отбушевали, улегся их гнев, и Фабрициусу стало легче на душе. Поздно ночью он возвратился домой. Мать уже была в постели. Она не стала дожидаться сына, он часто задерживался то на вечерах в пансионе мадемуазель Клёстер, то встречаясь с сенаторами в погребке под ратушей. Служанка предложила молодому барину поужинать, но он только рукой махнул: не надо ничего. Потом он еще долго шагал взад и вперед по своей комнате, прислушиваясь к шороху зашумевшего по крышам дождя. Затем постучался к матери.
— Вы уже спите, мама?
— Нет. Тебе что, сыночек?
— Хочу, как всегда, пожелать вам спокойной ночи.
С этими словами Фабрициус подошел к матери, присел на край кровати, взял материнскую руку, поцеловал и, не выпуская руки, сидел безмолвно.
Мать тихонько подвинулась, давая сыну место рядом с собой на подушке. Юноша уронил голову на ее грудь, как когда-то в детстве.
— Вот видите, мама, стоило мне только прижаться к вам, как уже и голова перестала болеть!
— Ну что ты болтаешь, подлиза! Думаешь, мои пальцы способны вытащить у тебя ту занозу, что и шестью волами не вырвешь?
— Не только думаю — знаю.
И юноша принялся целовать мудрую голову матери. Старуха с напускной строгостью поправила сбившийся набок ночной чепец с оборочками, потом, весело засмеявшись, сказала:
— Хорош сенатор! До сих пор, словно маленький, с матерью в одной постели спит! Вот узнает город, что люди скажут? — И, тяжело вздохнув, добавила: — А как хорошо было, когда ты был малюткой и в самом деле спал у меня в постели. Я тебе сказки рассказывала, а ты, бывало, пугаешься, расспрашиваешь, лепечешь всякую всячину. А уж какой ты плутишка был! Твой старший брат уже спал один, в собственной кроватке, и вот, чтобы я не перебралась к нему, когда ты заснешь, ты как-то раз взял да и привязал меня за ногу бечевочкой к пуговице своей рубашонки. Но я сразу разгадала твою хитрость и, как только ты уснул, отвязала бечевку и перешла к твоему братцу…
— Значит, обманули меня, мамочка?
— Так же, как и ты меня сейчас обманываешь. Антал, что с тобой? — вдруг испуганно воскликнула мать. — Ты плачешь?
Она провела рукой по лицу сына и почувствовала, что ладонь стала влажной.
— Я пришел к вам со своим горем. Кому же еще, как не вам, матушка, мне рассказать о нем. Помогите, коль можете. Мой ум тут бессилен. Ослабел я, потерял веру в себя. И вот в беде ищу у вас помощи, как в детские годы. Верю, что сила вашей любви прогонит мои горести. Выслушайте меня, мама!
— Говори, говори! Положи голову ко мне на подушку и говори, — погладив сына по шелковистым волосам, прошептала старуха мать. — Кто обидел тебя? Где болит? Что болит? Не бойся. Не позволю я никому, никому на свете обидеть тебя.
И Фабрициус открыл то, что скрывал в тайниках души, поведал матери о своей любви к Розалии Отрокочи.
— Знаю, — промолвила мать. А юноша все говорил, рассказал о том, как вспыхнула в его сердце эта любовь — в первый же день, когда он повстречал Розалию, — вспыхнула и начала расти, расти, пока не сделалась сильнее всего на свете. Любит ли его Розалия? Об этом они еще не говорили, ни слова не промолвили, но ему казалось, что и она его любит. «Тысячи нежных слов все еще звучат у меня в ушах, словно волшебные колокольчики; они питали эту веру. Беглый намек, задумчивый взгляд, подавленный вздох, невольный жест, краска смущения…» (Сколько доказательств, оказывается, собрал в своей памяти юный сенатор!) И вдруг все это растаяло, как снег, — стоило бургомистру Нусткорбу сообщить ему о тайном свидании Розалии.
Госпожа Фабрициус приподнялась на локте. Ее глубоко взволновал рассказ сына, она слушала с напряженным вниманием.
— Ах, проклятие! — вскричала она, будучи женщиной воинственной. — Это ужасно! Просто не верится! Нет! Тот человек наверняка налгал Нусткорбу.
(Розалия была любимицей госпожи Фабрициус.)
— Я что-то хочу спросить вас, матушка. В прошлое воскресенье у нас на кусте георгин распустились два цветка… одного уже нет, где он?
— У меня была в гостях Матильда с Розалией — не то в понедельник, не то во вторник, и я подарила цветок Розалии.
— Ах, мама, вы не знаете… Ведь вот ужас: человек из города Белы в тот вечер показал бургомистру георгин и сказал, что цветок выпал из прически дамы, приходившей в трактир на свидание.
Мать и сын умолкли. Госпожа Фабрициус тяжело вздохнула. По крыше барабанили крупные капли дождя.
— Уж не град ли это? — сказала старушка, прислушиваясь, град идет или дождь.
Под конец мать задала Анталу еще один вопрос сухим, безразличным тоном, даже зевнула при этом, будто спросила для того, чтобы не молчать:
— И сильно ты ее любишь?
— Да. Жить без нее не могу! — отвечал юноша голосом, полным страсти. — Не могу…
— Глупости! Такие речи недостойны моего сына. Да и неверно это! Много бывало у меня цветов в горшках, но еще ни один из них, как бы хорош и свеж он ни был, не разросся настолько, чтобы сломать горшок. А ты ведь вылеплен не из глины, ты железный! Таким считают тебя. Вот и будь железным. Говори, как тебе пристало, — твердо!
— Не сердитесь на меня, матушка. Кому же еще могу я поведать свою печаль?
— Ладно, сынок, посмотрим, как и что. Завтра же я приведу все в порядок. Либо так, либо этак.
— А что вы собираетесь сделать?
— Пока еще не знаю, но все приведу в порядок. А теперь иди ложись спать. Только прежде дай я поцелую твою вихрастую головушку, сенатор.
Фабрициус ушел к себе в комнату и, не раздеваясь, прилег на кровать, уверенный, что всю ночь не сомкнет глаз. Однако то ли он устал, блуждая в лесу под шум бури, то ли его успокоила матушкина ласка, но он мгновенно уснул тем сладким сном, который, как роса небесная, смывает с души уныние и возрождает телесные силы человека. И спал Фабрициус до самого завтрака.
На следующий день, не дожидаясь, пока завечереет, госпожа Фабрициус надела черное шелковое платье, достала из ларчика три нитки восточных жемчугов, — белых и ровных, одна к одной, — приколола на черный кружевной чепчик золотые броши-чечевички, вдела в уши смарагдовые серьги.
— О, мама, какая вы нарядная! В полном параде! Куда это вы собрались? — спросил молодой сенатор.
— Уж не знаю, голубчик, как и сказать. Хочу взойти на высокое крылечко, а можно ли к нему подступиться, еще не ведаю.
— Не понимаю, — признался Фабрициус. Как он ни старался, а не мог скрыть своего волнения.
— А ведь если бы подумал чуточку, то понял бы, сынок. Ведь и покойный отец твой, и я всегда искали справедливости, значит, и в твоей душе такое желание должно быть. Ну куда же еще я могу идти? Как ты думаешь? И зачем? Да затем, чтобы положить некоего человека на весы, узнать, много ль он весит.
Фабрициус молча кивнул головой.
— Есть у меня на это право? Да, есть, ведь весы-то у меня верные. Не обманут, и как они покажут, так тому и быть. Сюда качнется стрелка — будет девушка моей снохой; в другую сторону наклонится — значит, красавица поддалась дьяволу, пусть он и владеет ею.
— Ах, мама, что вы говорите!
Фабрициус горестно вздыхал, и в зависимости от того, какой исход представлялся ему, лицо его становилось то белым, как стена, то красным, как бурак.
Но мать больше не обращала внимания на сына, а принялась отдавать прислуге строжайшие наказы на время своей отлучки: «Присматривайте за всем, перемойте посуду, ничего не разбейте, нищих в сени не пускайте, чтобы не украли чего-нибудь, а вынесите им на крыльцо краюшку хлеба; Анчура, ты следи за пчельником, не собираются ли роиться пчелы, если начнут, сбегай поскорее за булочником Яношем Кохом, — он умеет снимать рой; ты, Жужи, напичкай кукурузой двух гусей, посаженных на откорм, да смотри не забудь и напоить их; натолки маку, только прежде вымой как следует ступку».
— А вообще я скоро вернусь, — закончила хозяйка свой монолог.
И вот госпожа Фабрициус, внушая почтение своей военной выправкой и твердой поступью, сошла по ступеням лестницы, горделиво подняв красивую голову, увенчанную белоснежными сединами, которые так хорошо оттенял ее черный наряд, ее шуршащие, шелестящие шелка. Те, кто знал покойную эрдейскую княжну Анну Ворнемиссу, уверяли, что они с госпожой Фабрициус походили друг на дружку как две капли воды. Мать Антала была построже княжны. Слова госпожи Фабрициус для простого смертного были подобны гласу божьему. В гневе ее облик был грозен и суров, как ее родные горы, а когда лицо этой женщины озарялось светом ее душевной доброты, оно пленяло ласковой красотой, как альпийские луга в сиянии осеннего солнца.
Юный сенатор прислушивался к шагам матери. Вдруг они затихли. Фабрициус выглянул в окно и увидел, что мать остановилась перед двумя цветочными клумбами, украшавшими крохотный дворик, и срывает распустившийся георгин. Младшие собратья цветка еще дремали в бутонах, зеленых своих колыбельках.
Госпожа Фабрициус долго не возвращалась. Юный сенатор перепробовал всякие развлечения, но еще никогда часы не тянулись для него так медленно. За это время пчелы действительно успели отроиться. Рой уселся на ветку черешни, после чего прибежал булочник Кох и стряхнул рой в порожний улей. Фабрициус посмотрел, посмотрел на это зрелище, да и отправился к себе в комнату, где, раскрыв Ветхий завет, принялся читать о трех отроках, ввергнутых в огненную печь. Но ему нисколько не было их жалко, потому что его самого словно жгли в огненной печи; кроме того, он ведь наперед знал, что отроки-то не сгорят, а вот его собственная судьба еще была неизвестна. Уже и час ужина миновал, а матери все не было. Фабрициус принялся было за работу в надежде, что так время пробежит незаметно, однако в голову ему ничего не шло, буквы прыгали перед глазами в какой-то сатанинской пляске, и, отложив протоколы сената, он принялся играть с Попрадом, сторожевым псом. Но вот Попрад навострил уши, что на его языке означало; «Слышу — скрипнула калитка». Заворчав разок, пес умолк: «Знаю, кто идет». Послышался знакомый шелест шелков, и сердце Фабрициуса заколотилось. В комнату вошла мать.
Она сбросила с плеч и положила на спинку кресла накидку, сняла ожерелье с шеи, а Фабрициус все еще не смел поднять на нее глаз, боясь прочесть на ее лице свой приговор. Слегка повернувшись к матери, он сдавленным от волнения голосом робко спросил:
— Ну, как?
— Подожди, дай прежде серьги вынуть. Все уши оттянули! Приучайся к терпению. Эй, Жужа, иди-ка сюда. Распусти мне сзади шнуровку, а то я, того и гляди, задохнусь. Нет, видно, не пристало старухе рядиться. Мягкое кресло да белая булка — вот что нам, старухам, надо. Все! Ступай, Жужа! Так о чем ты меня спросил, мальчик?
— Что там было, мама?
Госпожа Фабрициус опустилась в кресло, но все еще не приступала к рассказу. Она снова позвала Жужу.
— Найди мое вязание, стрекоза! Вот так-то. А теперь пойди в погреб да принеси морковки для канарейки, пусть попоет.
Оставшись наедине с сыном, она сказала ему:
— Не люблю говорить о важных делах, пока не расположусь поудобнее да не возьму в руки свое вязание. Без вязальных спиц мысли у меня ни с места.
— Вы решили помучить меня?
— Ах, перестань, глупыш! Девушка невинна, как новорожденный младенец.
Лицо сенатора просияло.
— Ох, мамочка, родная моя!
— Нет на ней ни пятнышка греховного!
— А как же тогда это свидание в трактире? Госпожа Фабрициус пожала плечами:
— Откуда же мне знать, как?
— Что? — сразу помрачнев, воскликнул сенатор. — Вы, матушка, не знаете? Разве вы не спросили ее?
— Обо всем спрашивала, спрашивала, да что толку в словах? Слова есть слова.
— Как же вы можете утверждать, что она ни в чем не повинна? — гневно вскричал Фабрициус.
— А так, что вижу.
— Видите? — насмешливо переспросил сын. — Разве это можно видеть?
— Можно, если, конечно, глаза есть. Глаза матери! И напрасно ты криво усмехаешься. Иные знания выше ваших книжных, выше того, что вы, чинуши, называете «совокупностью улик и свидетельских показаний». Материнский взгляд словно бурав — он так и ввинчивается в душу человека. Мать и не глядя видит, она сразу учует, согрешила сноха или нет.
— Ох, мама, если бы это было так!..
— Так оно и есть. Материнское сердце все угадает. Прежде чем беда тебе боль причинит, она сперва в мое сердце кольнет. Уж коли я говорю, что Розалия невинна, это не пустые слова. Пусть-ка теперь кто-нибудь посмеет обвинить ее, ему придется, черт побери, иметь дело со мной!
Тут госпожа Фабрициус подбоченилась и воинственно оглянулась по сторонам, как будто комната кишела незримыми ее противниками, хотя перед ней в эту минуту стоял единственный маловер, да и тот сложил оружие. После этого госпожа Фабрициус подробнее рассказала сыну о своем посещении девицы Розалии Отрокочи. Юный сенатор с жадностью ловил каждое ее слово, подобно тому как истомившаяся от зноя земля впитывает в себя росу — всю до последней капли.
— Ну так вот: была я там. Что и как говорить, я еще дома придумала. Пошла не с пустыми руками — взяла с собой последний цветок георгина, про эти цветы есть в здешних краях поверие: сколько таких цветов девушка себе в волосы приколет, столько будет у нее в этом году женихов. Так вот, прихожу я с цветком к Матильде. Девушки ее большей частью на веранде сидят; увидели меня и впились глазами в мой георгин. Ведь каждая из них жениха ждет! Спрашиваю про Розу, отвечают: она в комнате мадемуазель Матильды, вышивает. И правда, сидит Розика рядом с твоей крестной, работает. Поболтали мы о том, о сем, как обычно, а потом я вдруг возьми да этак хитро и переведи разговор на георгин: «Кому, говорю, его отдать? Ты, Розалия, уже свой цветок получила». А она улыбается и говорит в ответ: «Получила, да и потеряла. Значит, и жениха потеряла». И тут я спрашиваю, как задумала: «А, интересно знать, где же ты его потеряла?» Розалия засмеялась, на щечках ямочки — если бы только ты их видал, Тони! — и отвечает: «В парке, в трактире, когда господин Кендель… Когда это было, тетя Матильда?» — «Во вторник вечером, вернее, ночью», — подсказала мадемуазель Клёстер. Я, конечно, прикинулась удивленной. «Ночью? — спрашиваю. — Непонятно! Что вы там делали ночью?» Розалия посмотрела на меня чистым и таким горделиво-спокойным взглядом — видно, не поняла, что я допытываюсь, подумала, что я ее храбростью восхищаюсь, и поясняет: «Документ один мне нужно было подписать в присутствии свидетелей. О наследстве». — «И кто же был свидетелями?» — спрашиваю. «Господин Кендель, говорит, и Дёрдь Гёргей».
Юный сенатор подскочил, как ужаленный.
— Дёрдь Гёргей? — мрачным тоном переспросил он. — Что ж, это мне полезно знать.
— Не выдумывай сам себе врагов! Ведь все же ясно?
— В каком смысле?
— В таком, что Розалия ни в чем не повинна.
— Откуда вы это знаете?
— Я же сказала: по ее взгляду, да и по тому, с какой простотой она рассказала о своей ночной прогулке в парк. Виноватый человек никогда не поступил бы так на ее месте.
— Мамочка, вы — самая лучшая мать на свете! Но в этих вещах вы не разбираетесь! Из вашего рассказа я, например, сделал совсем иной вывод.
— Как так?
— Я осуждаю все это и во многом виню мадемуазель Клёстер.
— Почему? Представь себе: приходит господин Кендель, опекун Розалии, и просит по важному делу отпустить ее с ним. Разве не обязана была Матильда отпустить девушку?
— Допустим, но как попал туда Дёрдь Гёргей?
— Это я, право, не знаю, но и не считаю существенным.
— Все это нехорошо! Ах, как скверно! — горестно воскликнул сенатор и сжал ладонями виски, словно боясь, что его голова вот-вот разломится. Глаза его налились кровью. — То, что вы рассказали, матушка, может быть, и верно, — старый пройдоха Кендель действительно имел право вызвать Розалию. Но повод! Подумайте, мама, какой повод! Нужно было, видите ли, подписать документ в присутствии свидетелей! Так почему же его нужно было подписывать ночью, в загородном трактире, о котором идет такая дурная слава? Ведь это же место любовных свиданий! Разве она не могла подписать этот документ в пансионе?
Тут госпожа Фабрициус захохотала, да так, что у нее даже слезы навернулись на глаза.
— Ах ты, глупое дитя! Почему же ты, не дослушав, перебиваешь меня? Я как раз и собиралась рассказать тебе, что отправились они в загородный трактир потому, что документ этот положено было подписать в присутствии самого вице-губернатора.
— Подожди! Я понял! Понял! — хлопнул себя ладонью по лбу Фабрициус. — Теперь все понятно. Вся картина ясна. Разумеется, при этом был вице-губернатор. Там он и схватил Нусткорба. В городе, да еще днем, Гёргей, разумеется, не мог появиться.
И молодым сенатором овладела такая радость, что он пустился в пляс, подскочил к матери и осыпал ее поцелуями.
— Да перестань ты! — кричала та. — Еще, чего доброго, задушишь! Не прыгай ты, как овечка, завидевшая соль! Посиди Хоть минутку спокойно, дай досказать остальное.
— Как? Есть еще и остальное?
— Главное только сейчас и начинается.
— Спасибо, мамочка. Теперь я совершенно спокоен, и «остальное» меня не интересует.
— А вдруг? Послушай лучше, что было потом. Я спрашиваю Розалию: «Ну, а георгина тебе не жалко?» Она улыбнулась: «Жалко. Цветок жалко — не жениха!» — «Конечно, — говорю я, — раз цветок георгина уже побывал в твоих волосах, замуж ты обязательно выйдешь». А тут Матильда вмешалась: «Розалия не верит этой примете». — «Напрасно, примета верная, — отвечаю. — По крайней мере, в вашем случае. Ведь уже и сваха к вам пришла и даже в этой самой комнате сидит!»
Обе они посмотрели на меня: уж не заговариваюсь ли я? А я продолжаю: «А эта сваха — я. Предлагаю тебе, Розика, руку сына моего, будь его женой!»
Лицо сенатора запылало.
— Мама, если вы это сделали… — срывающимся голосом воскликнул он.
— Ну конечно, я это сделала! А что тут такого?
— Да ведь это безумнейший поступок! Ведь это еще было слишком рано делать…
— Отчего же рано, если она любит?
— Она сказала? — пробормотал, как в лихорадке, Фабрициус.
— Не сказала, но и скрыть тоже не сумела.
— Так говорите же, говорите, что было дальше?
— А было вот что: она вспыхнула, вроде того, как ты сейчас, и вмиг исчезла, будто ее и не было в комнате.
— А потом? Потом что?
— Искали мы ее с твоей крестной. По всему дому искали, звали — не отзывается.
— Боже, боже!
— Да не бойся ты, не потерялась. Мы все же ее нашли — в кладовке. Сидела на мешке с крупой и горько плакала. Прижала я ее к себе (до чего же милая у нее головка!), спрашиваю: какой ответ передать? А она не отвечает, только плачет, слезы по щекам градом катятся. Вон, посмотри, какое мокрое у меня платье.
Фабрициус неуверенно взглянул на мать.
— Вы говорите, мамочка, что она плакала. Как же это понимать?
— Глупенький! Любовь женщины — в ее глазах, коварство — в делах, хитрость — в словах. Розалия оттого плачет, что любит. Сердце ее полно любовью. Отправляйся к ней сейчас же и осуши ее слезы!
Фабрициус не стал дожидаться пока матушка повторит свой приказ, принарядился — и побежал. Но к тому времени Розалия больше уж не плакала. Из окон пансиона во двор доносился ее звонкий голос, распевавший под гитару веселую немецкую песню.
В зале было много народу. По пятницам к этому часу у мадемуазель Клёстер всегда собирались гости: молодые офицеры, сыновья лёченских патрициев, подружки ее воспитанниц. По этим дням в пансионе обычно устраивался небольшой концерт: декламировали стихи, пели, танцевали. Попасть на «пятницу» к мадемуазель Клёстер считалось большой честью. Хозяйка всегда умела придумать что-нибудь приятное, интересное, любопытное, занимательное — словом, такое, о чем потом долго говорили не только в городе, но и в округе. Особенно много изобретательности было в ее выдумках зимой. На прошлое рождество, например, служанки вносят вдруг в гостиную два корыта, ведра с водой, вслед за ними появляются барышни-воспитанницы с засученными рукавами и, подоткнув за пояс юбки, начинают стирать (ведь все равно им предстояло сдавать экзамен по стирке белья), а публика сидит и любуется очаровательными прачками. В другой же раз гости, придя на вечер, застали эти хрупкие, нежные создания за прялками.
Но в тот вечер Розалия была на редкость неловкой. Завидев входящего Фабрициуса, она выронила из рук гитару. Миклош Блом, подскочив к ней, подхватил гитару, но от этого Розалия еще больше смутилась и забыла слова песни. Барышни захихикали, одна из них шепотом подсказала певице следующую строку. Розалия продолжала петь, но уже как-то вяло, скучно, будто никогда и не было у нее звонкого, приятного голоса.
После концерта стали играть в «кошки — мышки», в «путешествие лотоса», и хотя на вечере присутствовали старые дамы, зорко следившие за барышнями и за гостями, умная хозяйка сумела предоставить своему крестнику возможность перекинуться несколькими словами с Розалией. В импровизированной программе вечера каждый принимал участие, как мог: молоденький куруцкий поручик Имре Реваи, например, выступил в роли чревовещателя и воспроизвел диалог генерала Андраши и старухи Винкоци, у которой генерал был на постое. Все смеялись до упаду! Затем Миклош Блом показывал «чудеса». У бродячих фокусников он научился вызывать «потоп», — иначе говоря, создавать у всех впечатление, что через окно в комнату потоком льется вода. Некоторые из женщин, не знавших, что все это только обман чувств, всерьез перепутались. Затем Блом положил дынное семечко в какую-то кашицу, полил ее розовой жидкостью, и на глазах изумленных зрителей семечко проросло, потом распустились листочки, цветы а затем они превратились в крохотные дыньки. Для всех этих фокусов чародею нужен был стол.
— Розалия, душенька, принеси маленький столик из моей комнаты, — распорядилась мадемуазель Матильда и тут же шепнула Фабрициусу: — А ты, крестник, пойди помоги ей.
И Фабрициус исчез, никем не замеченный, а когда появился в дверях комнаты мадемуазель Клёстер, Розалия, тащившая столик, испуганно выпустила его из рук, как недавно гитару, и задрожала, словно осиновый лист.
— Ах, и вы здесь?
— Розалия, — воскликнул юноша, — вы не сердитесь на мою матушку, что она была так смела?
Розалия протянула Фабрициусу руку.
— Сердиться? Да она сделала меня счастливой!
— Значит, вы любите меня? Это правда? Вы меня любите? — страстно допытывался юноша.
— Неужели вы до сих пор не заметили этого? — ответила девушка, но как-то печально, задумчиво; в голосе ее прозвучала даже укоризна.
— Я надеялся… Но матушка так и не принесла мне вашего окончательного ответа.
— Это было бы слишком рано.
— Да, но если вы любите…
— Прежде о вашем предложении должен узнать еще кто-то, от чьего согласия все и зависит.
— Кто же должен узнать! Кто? — пролепетал Фабрициус.
— Мой отец, у которого, кроме меня, нет больше никого на свете.
— Он будет жить с нами, Розалия. Я буду его слугой, буду выполнять любое его желание.
Розалия только вздохнула и ничего не ответила. А на лицо ее набежала тень такой глубокой грусти и уныния, что в небе, казалось, потускнели все краски уходящего дня. Лишь большим усилием ей удалось встряхнуться и прогнать печаль.
— Ну, беритесь… Понесем стол.
По дороге она уже развеселилась, засмеялась:
— Теперь мы с вами лошадки. Н-но! — И даже попыталась подражать конскому ржанию: — Иго-го!
О, какое же еще дитя была эта Розалия!
А Фабрициуса не порадовал их разговор. Все оставалось недосказанным. Как будто уже и подвенечное платье почти готово, но из швов выглядывают белые нитки «наметки», которую еще предстоит выдергивать. По-прежнему ему нельзя поговорить с Розалией с глазу на глаз. Ах, послать бы ко всем чертям это веселое общество! Вон, как они отлично чувствуют себя в гостиной. Раза два в течение вечера он попробовал тайком переброситься словечком с Розалией, но эти попытки только еще больше запутали все дело.
— Розалия, — обратился он вполголоса к девушке, пока Блом показывал свои фокусы, — вы напишете отцу?
Девушка кивнула головой.
— А мне нельзя самому съездить к нему?
— Нельзя.
— Вы даже и теперь не можете что-нибудь рассказать мне о нем?
— Нет, и теперь не могу, — отвечала девушка и снова опечалилась.
В тот же вечер Фабрициус воспользовался еще одним поводом поговорить с Розалией. Мадемуазель Клёстер упомянула, что у девушки сегодня день рождения. Фабрициус тотчас подошел к Розалии, сидевшей в это время в нише у окна, и пожелал ей счастья.
— Счастья? — машинально переспросила девушка. — О, это — редкая птица! Ее трудно поймать. Кто знает, где она летает.
— Розалия, скажите мне только одно, — попросил сенатор, — а то я покоя не буду знать. Если ваш отец почему-нибудь откажет мне, вы ведь не отречетесь от меня?
Розалия на секунду задумалась, затем ответила:
— Не думаю. Воля моего отца едва ли сильнее моей собственной. Хотя я еще никогда их не сравнивала. Но здесь действует более могучая сила. Я вам открою одну тайну, — тихо промолвила она. — Вы — посланец девы Марии на моем пути. Только я не знаю, — побледнев, добавила девушка дрожащим голосом, — не знаю, к добру или не к добру мы встретились. Давеча в комнате мадемуазель Матильды я сказала, что ваша мама сделала меня счастливой. Это неправда. Какое-то тяжелое предчувствие все время томит меня. Наверное, нас ожидает несчастье.
Фабрициус с изумлением взглянул на нее: отчего лютеранка Розалия вдруг говорит о деве Марии? Или потеряла рассудок от радости? А может быть, у нее разыгралось воображение? Ведь она еще совсем дитя!
В это время к ним направилась целая толпа гостей. Блом, спрятав куда-то серебряный талер, подбежал вдруг к Розалии и «нашел» монету в ее золотистых волосах. Фабрициус, рассерженный тем, что помешали его разговору с Розалией, ушел не прощаясь, у него было правило, — выйти на свежий воздух, остудить голову, если что-нибудь вывело его из себя и в душе закипел гнев.
Во дворе ему встретился солдат, который нес большущий букет цветов.
— Военный, кому это вы несете розы?
— Барышне Отрокочи.
— А кто их послал?
— Поручик Дёрдь Гёргей.
— Ах, так!
Фабрициус и без того был взвинчен. Ответ солдата оказался последней каплей, переполнившей чашу. Букет, конечно, предназначался Розалии по случаю дня ее рождения. Значит, Дюри Гёргею она сказала о своем празднике, а ему, Фабрициусу, не обмолвилась ни одним словечком!
— А ну, покажите мне букет! — приказал он солдату. Куруц протянул сенатору цветы, а тот, не долго думая, швырнул букет в колодец, вырытый на середине двора (в Лёче уже был в те годы водопровод, и воду из колодцев брали только в тех редких случаях, когда что-нибудь не ладилось в водопроводе).
— Передайте моему приятелю, поручику Гёргею, что его букет доставил большое удовольствие лягушкам, — приказал солдату Фабрициус.
Куруц был из лёченских парней, хорошо знал молодого сенатора и потому не посмел возразить ему, а повернулся «налево кругом» и отправился с докладом к поручику — в погребок, куда Гёргей как раз пришел с большой компанией. Выслушав донесение солдата, Гёргей отпил глоток вина из своей кружки и сказал только:
— Как видно, у господина сенатора и второе ухо зачесалось?
У поручика были отличные нервы, он не вспылил, но крепко задумался, размышляя о случившемся. Сердце его забилось, поручику стало вдруг жарко и захотелось удалиться от всех. Расплатившись, он вышел из погребка. Товарищи его переглянулись: дело пахло дуэлью — и принялись обсуждать все «за» и «против».
Но Гёргей и не собирался драться: ведь он мог посчитать выходку Фабрициуса просто грубой шуткой. А то из-за их поединка пойдет про Розалию дурная слава! Ему захотелось побыть в одиночестве. Это ему-то — весельчаку, бесшабашному гусарскому поручику! Да, да, его и в самом деле тянуло уйти куда-нибудь далеко, где бы не было ни одной живой души, а только деревья шелестели бы листвой. И он отправился в рощу, зеленевшую за городской стеной, там он мог бродить в уединении и сколько угодно размышлять о том, что произошло.
Фабрициус позволил себе грубую выходку. Но почему? Объяснить это можно только одним: он ревнует. Ревнует к нему! Розалию! Сам он, Дюри Гёргей, не давал ему для этого повода. Значит, повод подала Розалия? Эта мысль привела в смятение юного поручика. До сих пор он никогда не разбирался в своих чувствах к двоюродной сестре. Он был к ней привязан, но видел в ней всего-навсего родственницу. И вдруг такое открытие! Ну кто бы мог подумать! Сердцу его стало тесно в груди, он жадно вдыхал целебный, как бальзам, вечерний воздух. Но уже ему слышались победные фанфары, он уже перебирал в памяти все слова, все взгляды, все жесты девушки: будто яркие самоцветы, заиграли они перед его мысленным взором, и каждая загадочная фраза Розалии казалась чудесной раковиной, таящей в себе драгоценную жемчужину, — открой только ее створки, и будешь счастлив.
Невесть откуда подкрадывается и смежает нам веки сон, не ждешь — и вдруг закружится во хмелю голова: вот так же нежданно-негаданно настигает человека любовь. Вернее, она до поры до времени скрывается в его сердце, — ведь хмель ударит в голову не с самой первой капли вина, но кто скажет — с которой?
Дёрдь часто встречался со своей двоюродной сестрой после того, как по просьбе Пала Гёргея господин Кендель представил его Матильде Клёстер в качестве посредника между Розалией и ее отцом. Мадемуазель Клёстер, полагая, что господин Кендель, которого она очень уважала, прочит Дюри в мужья Розалии, сперва встречала его приветливо — из чисто деловых соображений. Но когда она заметила, что и ее крестник Фабрициус тоже глубоко заглянул в голубые глаза Розалии, она благоразумно предоставила решать этот спор небожителям, поскольку в старину говорили, что браки заключаются на небесах.
Дюри часто сопровождал Розалию на прогулках и поэтому много раз встречался с Фабрициусом и видел, что он влюблен в девушку. Однако поручик Гёргей никогда не придавал значения страсти юного сенатора и даже не считал нужным рассказать о его ухаживании Палу Гёргею, когда тот расспрашивал племянника о жизни своей дочери. Ведь Дюри и не думал, что Фабрициус пойдет дальше пустых любезностей, он считал Фабрициуса сумасбродом, у которого все в душе взвинчено до предела: если ему кто-то нравится — в сердце у него пылает костер; если он гневается — в голове его бушует ураган; то он мягок, как воск, то тверд, как сталь. Словом, Фабрициус хороший малый, но меры в своих чувствах не знает! Такой человек, думал не раз Дюри, может подняться либо очень высоко, либо не выше виселицы. То, что Фабрициус увивается вокруг Розалии, казалось ему просто смешным. Ах, бедный Фабрициус, попал ты впросак! Хорош будет у тебя вид, когда ты узнаешь, что Розалия Отрокочи — дочь вице-губернатора Гёргея! Какая злая ирония судьбы!
Но как судьба беспощадна к Розалии! Фабрициус, по крайней мере, не знает, в кого именно он влюблен, а ведь Розалии отлично известно, что черные одежды ей приходится носить только потому, что город Лёче все еще не отомстил ее отцу. Бедная девочка, как покорно несет она бремя, возложенное на нее роком. И как она предупредительна и даже мила с Фабрициусом, хотя отлично знает: на прогулках или у себя дома юный сенатор говорит ей приятные слова, а в ратуше вынашивает планы, как поскорее погубить ее родного отца. Дюри поражала выдержка Розалии, ее сила воли, способность играть роль, на которую ее обрекла чрезмерная заботливость отца. Розалия вызывала у него глубокое участие, но под участием, возможно, уже таилось то самое крошечное зернышко, которое от первых же упавших на него солнечных лучей может пустить пышные ростки.
Одиночество! Вот уж когда человек любит поговорить с самим собой! Чего только не вспомнил Дюри, бродя в одиночестве. В голове его, словно у студента, возвращающегося домой после пирушки, звенели веселые мелодии. Взглянув на небо, Дюри вдруг разглядел на серебристом диске луны силуэт человека, несущего вязанку хвороста. (Вот уже и фантазия заработала!) А вот по небосводу покатилась звезда. Дюри проводил ее взглядом, пока она не упала где-то на горе Шайбен. Что же вырастет теперь на том месте: ковыль или какой-нибудь цветок, или ничего там не будет? (Впервые Дюри стал задумываться над такими вещами.) У него возникли новые, неведомые ему прежде ощущения, все чувства обострились, он улавливал вокруг какое-то таинственное, незаметное для человека движение. Ему, например, казалось даже, что земля чуть-чуть вздымается, словно человеческая грудь, а листва деревьев вздыхает. Ему чудилось, что он слышит, как задремавший в чашечке цветка шмель повернулся на другой бок на своем благоуханном и мягком ложе… Право же, мир сделался вдруг таким удивительным, таким прекрасным, что Дюри не мог бы выразить это словами.
Когда он возвращался к себе на квартиру, находившуюся в здании комитатской управы, стоявший на часах Власинко сообщил, что вечером его спрашивали двое неизвестных господ.
— Что-нибудь просили передать?
— Сказали, завтра утром зайдут.
Дюри догадывался, в чем дело. Его иронические слова насчет второго уха Фабрициуса, наверное, уже успели распространиться по городу, и, несомненно, молодой и гордый сенатор не оставит эту шуточку без последствий.
Утром к Дюри действительно явились Миклош Блом и писарь Шебештен Трюк — потребовали от него объяснения. Дюри рассмеялся.
— Ах, господа. Разве это оскорбление, когда мы про кого-то скажем, что «у него чешется ухо»?
Шебештен Трюк пустился в рассуждения:
— Не оскорбление, если это сказано без умысла. А если эти слова произнесены как угроза, тем более если относятся они к человеку, которому уже отрубили одно ухо, то, смею вас уверить, — это самое настоящее оскорбление!
Поручик с поклоном отвечал:
— Я считаю, что сейчас, когда льется кровь pro libertat Patriae[53] было бы непростительным расточительством пролить хоть одну ее каплю pro aure senatoris[54]. Впрочем, если вы настаиваете, господа, я готов! Через час я пришлю к вам своих секундантов.
Выбор его пал на Дюри Гродковского и писаря комитатской управы Михая Хоранского. Четверо секундантов встретились после полудня, выпили целое море пива. Секунданты Гёргея настаивали на том, что, прежде всего, оскорбление нанес Фабрициус, бросив в колодец — неизвестно из каких побуждений — букет, посланный поручиком Гёргеем некоей даме. Эти доводы окончательно вывели Блома из себя.
— Что за народ! О, боже! Один посылает цветы, другой мешает их передать. Ох, не могу!
Шебештен Трюк, желая стяжать славу патриота города Лёче, решил «осадить комитатских» и наговорил им с три короба назиданий: букет цветов, — заявил он, — предмет неодушевленный, а ухо — живая плоть человека, в данном случае — сенатора Фабрициуса, лица официального, и оскорбление, нанесенное ему, подпадает под особые законы. В истории с букетом можно видеть лишь неправомерное вмешательство, а во втором случае перед нами не только оскорбление, но и подрыв авторитета городских властей.
Тут уже возмутился Михай Хоранский, секундант Гёргея: — Знаете что, сударь? Коли вы утверждаете, что слово «чешется» — оскорбление, то я сейчас вынужден буду оскорбить самого себя. А именно, я заявляю, что стоило мне послушать ваши рассуждения, как у меня начала чесаться рука. Лучше бы вы помолчали!
Трюк не стерпел: побагровев, он подскочил к Хоранскому и, выкрикивая грубые слова, принялся размахивать руками перед самым его носом. Спор кончился не очень красиво: господа секунданты подрались. Блом и Гродковский разняли драчунов, а поскольку совещание о предстоявшем поединке привело к новому, самостоятельному поединку, то относительно первого столкновения (Фабрициуса с Гёргеем) было решено, что там нет причин для дуэли — просто Фабрициус должен будет извиниться за то, что отнял у солдата букет, а Гёргей возьмет назад свои слова о сенаторском ухе, после чего они пожмут друг другу руки. Примирение произойдет на веселой пирушке, на которой будут присутствовать и секунданты, — если они, конечно, до той поры останутся в живых. Но для этого их собственная дуэль должна закончиться еще до ужина. Секунданты, превратившиеся в дуэлянтов, поспешно удалились, отправили своих собственных секундантов для переговоров за кружкой пива, и они сошлись на том, что поединок состоится рано утром в лесу Шайбен — на саблях, до первой крови. Заботу обо всем необходимом для завтрака (холодный шницель и коньяк) берет на себя Миклош Блом.
Все закончилось вполне благополучно, если не считать споров, что понимать под «первой кровью», — об этом в Лёче и позднее было еще много разговоров. К счастью, слова — не кровь, их не жалко. Все произошло следующим образом: в самом начале поединка, которым руководил Блом, господин Трюк, никогда раньше не державший в руках сабли, принялся вдруг так размахивать ею во все стороны, что невзначай оцарапал руку своему секунданту Блому. Тот, отскочив назад, крикнул:
— Осторожнее, черт побери, ты меня ранил. Не видишь, что ли, кровь?
Трюк, услышав его возглас, сразу же опустил саблю.
— Ну, что еще? — удивленно спросил Хоранский, помахивая своим клинком, но благородно воздержался от удара.
— Есть, — тяжело дыша, произнес Трюк.
— Что есть?
— Как что? Первая кровь! — спокойно пояснил Трюк. Хоранский закатился хохотом и никак не мог остановиться. Смех заразителен. Засмеялись и секунданты, а за ними захихикал и сам Трюк, хотя и не понимал причины всеобщего веселья.
— Ладно, чего уж дурачиться! — воскликнул Хоранский. — Это ты ловко придумал. Привет, писаришка!
Такого потешного поединка в Лёче еще не было со дня его основания. Весь город хохотал при одном упоминании о «первой крови». Но Шебештен Трюк до самой смерти стоял на своем, уверяя, что он человек строгих правил, и раз в условиях поединка не было указано, о чьей первой крови идет речь, то он считал своим рыцарским долгом сложить оружие сразу же, как только увидел кровь, хотя в минуты гнева он кровожаден, как лев. Он следует законам чести. Не беда, что их нет в кодексах дуэлей, зато они есть в благородных сердцах!
Вечером в «Старом Гамбринусе» состоялась «примирительная» пирушка. Фабрициус и Гёргей сидели рядышком, чокались, но все же их отношения остались натянутыми, холодными. Какая-то тень легла между ними, хоть они и протянули друг другу руки. Ни старое вино, ни теплые слова, ни твердые, мужские обещания не питать зла не могли прогнать эту тень, — напротив, после «примирения» она, казалось, стала еще чернее.
В маленьких городках не существует тайн. Розалия очень скоро узнала об истории с букетом. Право же, Фабрициус нехорошо поступил с бедным Дюри. Несправедливо. Ах, противный Фабрициус! Но надо заметить, что дерзкая выходка молодого сенатора пришлась Розалии по душе. Оказывается, Фабрициус — сумасброд! Однако — милый сумасброд. Даже сам его некрасивый поступок ей понравился. Конечно, глупо бросать букет в колодец! Какие, верно, дивные розы, послал Дюри! А злюка Фабрициус не пощадил их, бросил в воду. Но ведь злой Фабрициус любит ее, да и откуда ему знать, что Дюри — ее двоюродный брат!
Тем не менее Розалия чувствовала, что Дюри — прекрасный человек и что она в долгу перед ним. При первой же встрече с Дюри после истории с цветами Розалия была с ним приветливее и ласковее, чем прежде.
Но в этом-то и таилась беда. (Если, конечно, можно назвать бедой то, что приятно человеку.) Дюри впервые увидел в своей двоюродной сестре женщину. Увидел и был очарован. А когда нежная ручка Розалии на минуту задержалась в его сильной руке, глаза его вспыхнули огнем. Когда же ее пышные юбочки случайно коснулись ноги гусара, по жилам у него помчались огненные потоки, и в голове завертелся удивленный вопрос: «Где же были у меня глаза?» — «А ты спроси об этом свое тщеславие, — отвечал загадочный внутренний голос. — Фабрициус разбудил в тебе тщеславие, оно, словно ловкий слесарь, открыло все замки, а тогда прозрели твои глаза и заговорило сердце».
Ласковое внимание Розалии к двоюродному брату разожгло его чувства — они нарастали с быстротой урагана. Любовь ведь никогда не знает покоя: она либо растет, либо уменьшается.
Словом, клубок запутался. Выросли две любви между тремя людьми — нет, не рядом друг с другом, но одна благодаря другой! Фабрициуса больше не удовлетворяли томные взгляды и разговоры украдкой на вечерах в пансионе. Любовь ненасытна, она постоянно требует: еще, еще.
Мадемуазель Клёстер частенько водила Розалию на чашку чая к тетушке Франциске, госпоже Фабрициус. Встретившись, сообразительные старые дамы уходили взглянуть на что-нибудь примечательное в кладовой или в погребе и подолгу оставляли молодых людей наедине друг с другом. «Ведь они уже почти что жених с невестой, надо же им дать немножко "полакомиться медом"». И, разумеется, влюбленные пользовались райскими минутами уединения; вначале, терзаясь вечными сомнениями, они требовали друг от друга только клятв в верности, но мало-помалу, отбросив светские условности, перешли при встречах с глазу на глаз на «ты» и больше уже не удовлетворялись клятвами. Еще, еще! — требовала любовь, и они шагнули еще дальше, перейдя теперь уже к взаимным угрозам.
— Любимая, я убил бы тебя, если бы ты изменила мне. Ах, Розалия!
— А я бы покончила с собой, если бы ты разлюбил меня, Антал.
Еще и еще! — кричала любовь, хотя они говорили все это, сидя рядом, либо держась за руки, либо обнявшись (но об этом не должен узнать никто), и украдкой целовались. По просьбе Розалии решено было держать в тайне, что они решили пожениться, и пока Розалия не сообщит о своем намерении отцу, для внешнего мира все должно оставаться по-старому. Но как было трудно после мгновений ласк и нежности возвращаться к холодным приличиям! Когда весь пансион отправлялся на прогулку, Фабрициус, конечно, мог пойти вместе с Розалией, и он не упускал таких случаев, шутил, шептался, любезничал с ней; однако стоило к ним присоединиться Дюри Гёргею, как девушке приходилось покидать преддверие рая. Она смущалась, робела и больше всего боялась, как бы Фабрициус не выдал себя. Чтобы отвести все подозрения, она говорила только с Дюри, болтала весело, непринужденно, а Фабрициус казался тогда лишним и как будто только мешал радостно щебечущей влюбленной парочке.
Фабрициусу уже начинала надоедать такая игра, она даже раздражала его. Встречая Розалию с Дюри Гёргеем на улице, он теперь холодно, церемонно раскланивался и больше не присоединялся к ним. Как видите, любовь Дюри разрасталась за счет чужой любви, не смевшей открыто заявить о себе. Именно это странное обстоятельство и сбило Дюри с толку. Он не только с каждым днем все сильнее влюблялся в Розалию, но был твердо убежден, что и она любит его и что ему достаточно одного слова, чтобы… Однако он не мог произнести этого слова, не переговорив со своим отцом или хотя бы с матерью, а затем и с дядей Палом. Дюри относился к числу порядочных людей, старого склада, которые считали за грех кружить голову молоденькой девушке. Он, правда, твердо решил просить руки Розалии, но знал, что сделать это будет нелегко. И не из-за войны! К войне здесь все так привыкли, что ее будто и не было вовсе. Ведь война в те времена шла непрестанно. А людям нужно было «плодиться и множиться», может быть, именно потому, что непрестанно шла война.
Надо сказать, что войны в те времена не были делом столь неприятным, как ныне. Было в них что-то от потехи, от игры, и они не связывали человека целиком, по рукам и ногам. Лабанцы продвигались вперед медленно, а потому у куруцев хватало времени на все. Летом, в жаркую погоду, офицеры, глядишь, под разными предлогами разъедутся по домам и прохлаждаются в тенистых садах. А зимой даже и генералы разрешали себе на несколько дней съездить домой, навести порядок в своих имениях, попировать по случаю заклания свиньи.
Если не считать больших сражений, в которых участвовали крупные военные силы, чаще всего военные действия развертывались осенью и состояли из мелких стычек и боев. Привычное развлечение благородных венгерских господ — охота менялась лишь в том смысле, что они охотились теперь на немцев, а не на зайцев и диких кабанов. Впрочем, и весенние походы нравились господам: ведь весною и дел дома нет, да и дичи тоже, а немец все еще здесь, в Венгрии.
Сам город Лёче пока еще не пострадал от войны. Куруцкие офицеры чинно прогуливались по городу, во внутренние его дела не вмешивались, и в то же время они оживляли эту сонную черную берлогу.
Нет, не в войне было дело. Марс охотно позволял порезвиться Амуру, маленькому проказнику с луком и стрелами: «Ну, ну, малютка, действуй, успеем мы еще навоеваться». Правда, «Лёченский календарь», единственный венгерский печатный орган той поры, так пророчествовал о будущем:
Двенадцать знаков зодиака предвещают — Умерших будет больше, чем больных.И это было еще полбеды, если бы среди «умерших» преобладали лабанцы. Беда грозила празднествам Гименея совсем с другой стороны; в городе нашлись бы и женихи и невесты, священники и цыгане-музыканты, и даже время на медовый месяц можно было бы выкроить, — но вот где было взять гостей на свадебный пир? Ведь семьи рассеялись по всему белу свету! Где, например, Дюри Гёргей мог найти своего отца? Бог весть, куда забросил Яноша Гёргея вихрь войны или княжеский приказ! А пробраться в Топорц переговорить с матушкой тоже можно было, только рискуя головой.
В глубокой колдобине на дорогах войны застряла и женитьба Фабрициуса. Розалия по-прежнему молчала о своем отце, и ни мадемуазель Клёстер, ни госпожа Фабрициус, хотя обе они сгорали от любопытства, так и не смогли вырвать у девушки этой тайны. Однако Розалия соглашалась подготовить встречу Фабрициуса с Палом Гёргеем. Единственная ее надежда была теперь на откровенное объяснение с отцом. Отца, согласно его наказу, Розалия могла известить только через дядюшку Кенделя. Значит, прежде всего, надо разыскать и привезти Кенделя! Это можно было бы сделать с помощью Дюри Гёргея, но сперва Розалия не хотела открывать ему своей сердечной тайны, а позднее, когда загоревшиеся сердца стали очень уж нетерпеливыми, Дюри вдруг исчез: вероятнее всего, во время поездки в Топорц он попал в плен к лабанцам. Фабрициус сделал все, чтобы отыскать Кенделя, разослал своих агентов по всей Венгрии. Но кто же мог сказать, куда запропастился Кендель? Может быть, снова обратился в турка и отсиживается в Сабадкинском лесу, если все еще не излечился от своей тяги к мусульманству?
Так проходили дни и недели. А тут настала пора тяжелых испытаний для Лёче. На полях вдруг появилось такое несметное множество мышей, какого еще не бывало на памяти лёченцев. (Вот когда хорошо было кошкам!) Мыши сожрали все съедобное, что еще уцелело после солдат. Дважды вспыхивали в Лёче пожары и почти наполовину уничтожили город. Едва не сгорела знаменитая книгопечатня Бревера. Часть свинцовых шрифтов не успели спасти — они расплавились. В сентябре какой-то мор напал на домашнюю птицу; на много верст вокруг Лёче не уцелело ни одной курицы, что причинило немало огорчений хозяйкам, особенно страдавшим из-за отсутствия яиц. Крупный рогатый скот позабирали лабанцы (там, где они проходили), а где не проходили лабанцы, его забрали куруцы (рогатые, конечно, в этом разницы не увидели).
В лёченские дома начала заглядывать нищета, а по ее пятам пришли и всякие преступления: воровство, грабежи, кражи со взломом, так что городской палач Иоахим Флек, не управляясь в одиночку с работой, попросил у сената помощника для себя и одного практиканта. А так как дядя Флек был весьма уважаемым человеком в Лёче[55], сенат его просьбу удовлетворил.
Но этим неистовым преследованием лёченцев жестокий рок не удовлетворился. Накануне дня всех святых он вдруг обрушил на бедного Нусткорба каменное надгробье Михая Крамлера — то есть в довершение всех бед вновь оставил город Лёче без бургомистра.
Мрак суеверия, словно густой, тяжелый туман, навис над городом. Перст божий, — вот как поняли и истолковали лёченцы страшное событие. Впрочем, они объясняли это знамение по-разному. Одни говорили: «Стало быть, это все же Нусткорб был убийцей Крамлера, — вот и отомстил ему покойник. Значит, не так уж и виновен Гёргей, пора нам снять с себя черные одежды. До похорон Нусткорба еще можно походить в трауре, а там — и сбросить его».
Другие же рассуждали иначе: «Нусткорба задавила статуя его предшественника за то, что он оказался беспомощным, не сумел отомстить за убийство Крамлера. Стало быть, сейчас или никогда! Само небо призывает город Лёче: мужайся и мсти!» На основе этих двух толкований грозного знамения уже на похоронах, в которых принимал участие весь город, началось обсуждение — кого избрать бургомистром. Сторонники миролюбивой партии называли имя Мостеля. Воинствующие возражали:
— Раз хотим войны с Гёргеем — давайте выберем не самого старого, а самого молодого из сенаторов.
— Глупости! — заметил богатый медник Кристальник. — Выходит тогда, что бургомистром надо посадить мальчишку Фабрициуса?
— Ну и что же? — выкрикнул из другой группы шорник Конрад Кёнигмайер. — Ума у него достаточно.
— Ума-то, может быть, и хватит! — вставил Лёринц Лудман, старейшина цеха портных. — Да только для такой должности и борода нужна.
— Ну, коли за бородой дело стало, — язвительно ухмыльнулся насмешник Ласло Макхаловский, тучный дворянин, приехавший на похороны из села Макхалфалва, — так уж и быть, пришлю вам из дому козла, выбирайте его бургомистром!
— Тс! — зашикали на них те, кто наслаждался баритоном псаломщика Даниэля Молички, — как раз он в трогательных песнопениях начал прощаться с почтенным покойником (по-венгерски — в честь куруцких властей). Ах, какой дивный голос был у Даниэля Молички! Пением своим он привел в умиление всех женщин, да порой и мужчины не могли удержаться от слез. В особенности, когда псаломщик дошел до следующих строф:
Не плачь, о народ саксонцев, к тебе обращаюсь я! Перед всевышним судьею предстал городской судья. Место его отныне рядом с престолом божьим, Там и за вас словечко он замолвить может…— Да, неплохой человек был Нусткорб! — переговаривались бюргеры.
— А как мы его ругали, пока он жив был!
Женщины утирали слезы передниками, мужчины поглядывали друг на друга и кивали головами в знак того, что им тоже нравятся самодельные вирши псаломщика. Господин Клебе прямо рыдал, а в промежутках между всхлипываниями, чуть не лопаясь от гордости, пояснял стоявшим справа и слева от него согражданам:
— Это ведь я его привез в Лёче. Голос-то какой! Сокровище! Сущий клад! На моем молиторисе Моличка приехал. Года два тому назад. Всю дорогу напевал моим лошадкам. Им даже овса не хотелось после этого. Да вы сами только послушайте!
А псаломщик продолжал — теперь уже от имени усопшего:
Прощаюсь с тобой, моя гордая ратуша, Комитатской управою ты опозорена…В толпе пробежало недовольное ворчание. Чей-то сердитый голос выкрикнул:
— Вот негодяй этот псаломщик! Подстрекатель! Даже здесь, возле убиенного, восстанавливает народ против дворянства.
Все сразу стали искать глазами, кто же это крикнул. Оказалось, маленький Кендель, выглядывавший из-под локтя здоровяка Гродковского, который стоял в кучке комитатских чинов. Фабрициус сразу узнал пронзительный голос Кенделя и поспешил к нему.
— А я вас по всей стране разыскиваю, дядя Кендель!
— Что же тебе понадобилось от меня, приятель? — безразличным тоном спросил Кендель. — Вот я здесь, перед тобой, пожалуйста.
— Мадемуазель Отрокочи хотела бы поговорить с вами.
— Откуда это тебе известно?
— Она сама мне об этом сказала.
— А ты кем ей доводишься?
— Вздыхателем! — весело отвечал Фабрициус.
— Ну ладно, ладно! Не говори, не объясняй! — замахал руками Кендель. — Слышал я кое-что об этом. Только знать я ничего не желаю. Хватит! Она хочет со мной поговорить? Хорошо, я загляну к ним в пансион. А чтобы мне не забыть, я занесу это в свой памятный книжка.
С этими словами он вытащил из кармана носовой платок и завязал на нем новый узелок, вдобавок к девяти другим, сделанным по разным поводам.
Кендель, по натуре человек весьма подвижный, не мог, разумеется, устоять на одном месте и поэтому, покинув группу комитатских чинов, тут же затерялся в толпе мастеровых и купцов: одному продал шерсть будущей стрижки, другому предложил купить у него овчины, третьему — свои лёченские дома (знать, пронюхал о предстоявшей осаде города); богатому пивовару Яношу Кёпрецу господин Кендель предложил купить гостиницу в Гёргё (и в этом тоже сказался его тонкий нюх), у Тобиаша Кнеппеля купил свиней, у бондаря Матяша Ранеттера — пятьдесят бочек для своих токайских винных погребов, — словом, стечением народа на похоронах бургомистра воспользовался для выгодных сделок, а в промежутках между ними вставлял небрежным тоном замечания о предстоявших выборах нового бургомистра. В особенности его раздражали разговоры о Фабрициусе.
— Этого еще не хватало! Выбрать желторотого птенца! И кому могла прийти в голову такая дурацкая мысль?
Самолюбивый Конрад Кёнигмайер покраснел и, ударив себя кулаком в грудь, воскликнул:
— Я предложил. Ну и что? И еще раз предложу! Почему я не могу этого сделать? У меня есть голос. За кого хочу, за того и отдам его.
Кендель пренебрежительно махнул рукой.
— Ничего у вас из этого не выйдет.
— Почему не выйдет? — вмешался Лёринц Лудман, старейшина портновского цеха. — Вдруг да соберет он большинство голосов?
Характер Кенделя представлял собой странное сочетание робости и заносчивости. Сейчас в нем верх одержала гордыня.
— Мне-то что! Выбирайте своим бургомистром кого угодно. Не все ли мне равно, будете вы подпоясываться золотым кушаком или соломенным жгутом. Для меня лёченский бургомистр пустяк! Что-то вроде блохи. Да, пожалуй, еще и меньше. Блоха-то хоть укусить меня может, а лёченский бургомистр даже укусить меня не в силах, нет! Но если вы задумаете выбрать бургомистром наглого щенка Фабрициуса, этого я вам не позволю.
Таких речей не мог стерпеть даже смирный аптекарь Йожеф Гиглеш.
— О-о! Сколько важности у вас с тех пор, как вам дали дворянскую грамоту! — ехидно заметил он.
Но Кендель в эту минуту уже исчез. Пробравшись сквозь толпу, он затерялся среди ткачей и начал торговать у старшины их цеха лен нового урожая. А тем временем лёченские патриции ругали Кенделя напропалую.
— Ну и нахал!
— Везде свой нос сует, старый пес!
— А как разговаривает: «Не позволю!» Своей кошке, дурак, приказывай, а не нам!
Кристальник, богатый медник, еще полчаса назад говоривший о кандидатуре Фабрициуса только в шутку, одернул свой доломав и возмущенно забасил:
— Вот оно что? Не позволит? Так вот, назло ему буду голосовать за Фабрициуса.
— Ik auk[56] — подхватил пуговичник Йожеф Буйдошо, дебреценский венгр, четверть века назад переселившийся в Лёче, но за двадцать пять лет так и не выучивший и пятнадцати немецких слов.
— И за что он так ненавидит Фабрициуса? Непонятно! — удивился золотых дел мастер Лёринц Грефф.
— За молодость! Себе-то он уже не может купить ее ни за какие деньги!
Словом, не успели еще окончиться похороны, а угроза Кенделя уже стала всем известна, разнеслась, словно пламя пожара на ветру, и повсюду она вызывала возмущение.
— Чего Кендель-то лезет в наши дела?
— Как это он «не позволит»?
— Хотели бы мы посмотреть!
Имя Фабрициуса, вперемежку с угрозой Кенделя, подхваченное молвой, не сходило у лёченцев с уст весь день до позднего вечера.
А старик Кендель, очевидно, и не подозревал, что ненависть лёченцев к нему могла пойти на пользу Фабрициусу!
Сразу же после похорон Кендель навестил Розалию, однако поговорить с нею без свидетелей ему не удалось: в гостиной все время сидели и госпожа Фабрициус и хозяйка пансиона. Розалия лишь попросила Кенделя передать письмо ее отцу. Пока она, удалившись к себе в комнату, писала его, мадемуазель Клёстер и мать Фабрициуса занимали гости разговором. Розалия возвратилась очень быстро, неся в руках запечатанное письмо.
Обе старухи уже приготовились прочесть адрес, чтобы сделать из него некоторые выводы, и с жадностью устремили взоры на пакет, но — увы! — на нем не стояло ни имени, ни адреса, а только такие строки:
«В собственные руки моему папеньке. Ibi ubi.»[57]
(По тем временам — наиболее частый адрес на письмах.)
А в самом пакете лежало письмо следующего содержания:
«Милый папенька!
Я, слава богу, здорова. Не сердитесь, пожалуйста, что я беспокою Вас, но у меня к Вам очень важное дело. Папочка, мне надо поговорить с Вами, а если мы не поговорим, я, может быть, даже умру. Здесь мне хорошо. Но кое-что случилось. От того, как Вы решите, зависит моя судьба. Придумайте, где и когда мы могли бы как можно скорее встретиться. Ответьте, пожалуйста, поскорее.
Ваша покорная дочь
Роза».На этот раз девушка была весела. Вручив Кенделю письмо, она сказала: «Давайте сюда вашу руку!»
С этими словами она схватила костлявую, старческую руку Кенделя, провела ребром своей маленькой пухлой ручки крест-накрест две линии по его ладони и громко хлопнула по ней своей ладошкой. Старик даже глаза зажмурил от удовольствия.
— Это вам награда, дядюшка Кендель. Только очень прошу: не забудьте письмо где-нибудь в кармане, а передайте его побыстрее моему папе.
Кендель пошевелился в кресле.
— Побыстрее? Гм… — И он хитро прищурил один глаз в знак того, что хочет надуть обеих старушенций, навостривших уши. — Что вы называет, барышня, быстро? Разве я могу, скажем, завтра вручить сию эпистолу для вашему папаши, если он живет самый малый в десять дней пути отсюда, а то и еще дальше?
Сказав так, Кендель откланялся, а через час уже был с письмом в Гёргё, в замке своего лучшего друга, его превосходительства, к которому он мог теперь запросто обращаться на «ты».
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ, в которой по воле судьбы, хотя и помимо воли автора, сия история заканчивается
Даже одна-единственная жена может причинить мужу немало неприятностей. А тем паче — две. Когда «польская» госпожа Бибок в поисках своего супруга приехала в Гёргё — арифметически число жен в семействе Бибоков соответствовало обстоятельствам: два мужа, две жены. Первой жене — старый Винце Бибок, имевшийся в наличии, второй жене — молодой Жига Бибок, находившийся в отлучке. Жены отлично уживались под одним кровом. Больше того, они порой жалели друг дружку и вместе ругали беглеца. Но после того, как Гёргею удалось изловить Бибока и упрятать его в один из подвалов замка, между женами вспыхнула борьба, — в частности, из-за такого спорного вопроса: к которой из них двоих вернется Жига, когда его выпустят на свободу.
Над этим вопросам ломали себе голову и все остальные жители Гёргё, кроме вице-губернатора: Пал Гёргей знал, что Бибок никогда не выйдет на свободу. Против «полковника» было собрано достаточно неопровержимых улик в двоеженстве, в предательстве и в злоупотреблении безобидным приказом об аресте Яноша Гёргея, которое привело к плачевным последствиям для города Лёче. Словом, над головой Жигмонда Бибока уже нависла секира палача.
Не желая кормить отпетого негодяя в такой бесхлебный год, когда немало и честных-то людей голодало, вице-губернатор решил поскорее избавиться от него, созвал в Гёргё заседание комитатского суда, и тот вынес приговор Бибоку. Беда была лишь в том, что в комитате не имелось собственного палача. Поэтому один из писарей был послан в Лёче с поручением вступить в переговоры с тамошним палачом Иоахимом Флеком: не согласится ли он за хорошее вознаграждение приехать в Гёргё и привести в исполнение приговор над преступником.
Однако Иоахим Флек был глубоко предан городу Лёче и поэтому оскорбился, завопил: «За кого вы меня принимаете? Да я ни за какие сокровища не соглашусь казнить вашего комитатского преступника и тем самым избавить комитат хотя бы от одного негодяя».
Столь патриотический ответ еще больше увеличил популярность Флека в городе, а вице-губернатор Гёргей, занятый другими делами, до поры до времени оставил Бибока в покое. Но не знали покоя две жены приговоренного. Они тайком посылали ему в темницу всевозможные лакомства: сдобные лепешки, марципаны, жареную гусятину; «польская жена» устроилась поварихой в кенделевский трактир и вскоре прославилась своим кондитерским мастерством. Бибок оплачивал все приношения — в зависимости от их качества и количества (или же от собственного настроения) — нежными посланиями, обращая их то одной, то другой жене. Письма эти, передававшиеся через охрану, повергали бедных жен и жителей села Гёргё в полное замешательство: никто не мог решить, которая из двух жен милее «полковнику».
Дело еще больше усложнилось после того, как старый Винце в конце лета скончался от расстройства желудка; такая смерть — обстоятельство постыдное, потому что под осень (то есть в пору созревания слив) умирает от расстройства желудка только простое мужичье, а дворянин должен умирать зимой, когда режут свиней и делают домашние колбасы.
Итак, на двух жен остался только один муж. Что же теперь будет? Обе жены — законные, а одна к тому же еще приходится Бибоку мачехой. Первая, правда, успела побывать замужем за другим, вторая — за другого не выходила. Одна родила ему детей, другая — только братьев. Вот и попробуй разберись тут! Но зато каждая из жен была твердо убеждена, что стоит Жиге увидеть ее, как он сразу же остановит свой выбор именно на ней. Из-за этого супруги Бибока жестоко ссорились между собой, раза два даже подрались и оттрепали друг друга за косы. Но, между нами говоря, спор их был чисто теоретическим, не исходившим из нежных чувств к Бибоку; ведь за белокурой полячкой водились грешки: нежные отношения с арендатором кенделевской гостиницы, а гёргейской госпоже Бибок, сделавшейся после смерти старика Винце хозяйкой имения, достаточно было только пальчиком поманить любого из окрестных мелких дворян. И она не терялась, манила! Баловали же бедного узника Жигу обе жены лишь из чувства соперничества, тщеславия и взаимной ненависти. Жига был, так сказать, только поводом к их борьбе. Лучше всего это видно из их совместного ходатайства перед вице-губернатором: они умоляли его отпустить Бибока домой хоть на две недельки. Им важно было выяснить, к которой из них двоих он вернется (пусть это увидит все село). Разумеется, Гёргей даже и разговаривать с ними не стал. А село всячески усердствовало, разжигая ярость обеих жен. Хитрец Бибок, понимая, как обстоит дело, стремился, даже находясь в тюрьме, поддерживать своими посланиями выгодное ему соперничество.
Желание одержать верх над соперницей заставило госпожу Бибок Первую сделать шаг, на который она в свое время не отважилась ни из любви, ни — позднее — из отчаянья: в один прекрасный день она собрала кое-какие пожитки и велела заложить лошадей.
— Ноги собью, а покажу этой Бибовской (как именовала себя здесь бессовестная Яблонская), кто я и что! — заявила она перед отъездом и отправилась в Шарошпатак ко двору князя Ракоци.
В Шарошпатаке она застала сепешского губернатора графа Чаки, бросилась перед ним на колени и слезами, мольбами и своим печальным, уже увядшим лицом так растрогала сердобольного вельможу, что он пообещал посодействовать освобождению ее мужа.
Однако граф Чаки не решился выступить открыто против сепешского вице-губернатора, своего могущественного заместителя, брат которого был в большом почете у князя Ракоци называвшего Яноша Гёргея не иначе, как «батюшкой». Чаки ограничился тем, что велел разослать нескольким крупнейшим сепешским дворянам письма, где говорилось, что «при княжеском дворе ходят слухи, будто у Пала Гёргея в застенках его замка томятся в неволе люди, принадлежащие к дворянскому сословию, а это является вопиющим самоуправством и может вызвать недовольство князя. Было бы неплохо посоветовать вице-губернатору (пока о таком деле еще не стало известно князю) отпустить узников (если они действительно есть) на все четыре стороны или, наконец, отправить их в комитатскую тюрьму в Лёче, где им и положено находиться. Потому что закон прежде всего. Кстати, хорошо бы намекнуть вице-губернатору (но не от моего имени, ибо это пришлось бы Палу Гёргею не по нраву), что довольно сидеть в Гёргё — пора вернуться в свою резиденцию в Лёче, дабы положить конец всяким кривотолкам и промедлениям, нетерпимым в военное время, потому что сабле место в ножнах, попу же на амвоне, а не у колодезного журавля».
Письма графа Чаки расшевелили сепешских магнатов, к коим они были обращены. Ведь губернатор состоял при дворе. Каждому хотелось оказаться клавишей, на которую нажимает княжеский палец или хотя бы палец главного придворного музыканта. Магнаты вообще не очень-то считались с Чаки, но им лестно было говорить, что они выполняют волю двора. Сами-то они в это не верили, — им важно было пустить пыль в глаза мелкопоместным. В политике видимость равносильна действительности! А мелкопоместные всегда подпевали крупным.
И вот по комитату вдруг прокатилась волна возмущения! «Не будем больше ездить в Гёргё! Чего нам туда ездить? Только потому, что Кендель выстроил там гостиницу? Вице-губернатор в конце концов не король! Но даже король и тот идет на поклон к сословиям, а не наоборот. Нет никакого смысла ездить в Гёргё. Да и на трусость это похоже. Что это за дворянство, если оно боится войти в комитатскую управу — в свой собственный дом».
Пал Гёргей быстро узнал о таких настроениях. Он, правда, не знал, откуда подул ветер, но почувствовал перемену. Как же поступить? Поколебавшись, он решил: ничего, ветер уляжется, перестанут качаться деревья. Надо подождать год-другой.
За этими думами и застало Гёргея письмо Розалии, привезенное Кенделем. Розалия настаивала на скором свидании. Интересно, что она хочет сообщить. Гёргея обеспокоило и нетерпение дочери, и волнение, чувствовавшееся в письме. Несомненно, какая-то веская причина заставила Розалию написать такое письмо. Со времени переезда в Лёче она еще ни разу не написала отцу. Да и сейчас она не пишет, что соскучилась по дому. Наоборот, говорит, что ей живется хорошо, значит, она и дальше хочет оставаться в Лёче. Нет, ни сердце, ни душа не тянут ее к отцу. (Если он действительно отец!) Ну, да все равно, встретиться надо, раз она просит. Но как это сделать? Сказать Кенделю, чтобы он привез девочку в какое-нибудь безопасное место, или самому отправиться к ней в Лёче? Гёргей все еще колебался. Настроение, созданное письмами графа Чаки, побудило чиновников комитатской управы, осведомлявших Гёргея о положении в Лёче, вдруг изменить взгляд на это положение, и они все в один голос, включая и верного Гродковского, принялись убеждать вице-губернатора, что город Лёче остыл, отрезвел, что бюргершам надоели траурные одежды, а суеверные патриции, пораженные странной смертью Нусткорба, теперь только его одного и считают виновником гибели покойного Крамлера (хотя и не думают отказываться от гороховых полей, приобретенных ценой крови Крамлера); купцы и ремесленники весьма недовольны тем, что глупая ссора между сенатом и вице-губернатором лишила их доходов в дни многолюдных заседаний Комитатского дворянского собрания и усилила застой в торговле. Нет никакого сомнения, что бюргеры восторженно встретят вице-губернатора, если он прибудет в Лёче на Комитатское собрание. И все же Гёргей колебался.
Однако примерно через неделю после письма Розалии, когда папаша Кендель вновь появился в Гёргё, привезя с собой какого-то толстобрюхого покупателя на гостиницу, вице-губернатор неожиданно решился: — Ладно, поеду!
И тотчас же отдал писарям распоряжение созвать на тридцатое ноября в здании комитатской управы осеннее дворянское собрание, где будет обсуждаться вопрос об отпуске средств на военные нужды.
Писаря удивленно уставились на Гёргея:
— Но ведь комитатская управа — в Лёче?
— Конечно, — коротко и твердо сказал вице-губернатор.
Не верил он ни докладам, ни догадкам, а только своим собственным наблюдениям. Ни возня, поднявшаяся среди дворян, ни рапорты чиновников управы, ни даже письмо Розалии не могли поколебать его, — все решило то, что Кендель торопился избавиться от своей гостиницы; Гёргей слепо верил в удивительное чутье этого человека и понял: отсиживаться в Гёргё вице-губернатору больше нельзя. Он поступал как Аттила под Аквильей *. Вождь гуннов уже собирался снять осаду с города, как вдруг увидел аиста, уносившего прочь из города своего птенца. «О, аист знает, что он делает!» — решил Аттила, остался под стенами Аквильи и на другой день взял и сжег город дотла.
Однако осторожность никогда не помешает, — подумал вице-губернатор и распорядился указать в приглашениях, посланных тем дворянам, которым путь в Лёче все равно лежал через Гёргё, что сбор депутатов ввиду военного времени и прочих обстоятельств состоится рано утром в Гёргё, — откуда собравшиеся все вместе отправятся в Лёче.
Великая сенсация! Слух о собрании полетел вдаль, словно сокол.
— Значит, в Лёче? Ну что ж, вперед! — говорили теперь дворяне, встречаясь или обгоняя в пути друг друга. Они произносили это с такой же гордостью, с какою издавали их предки воинственный клич времен Ботонда, идя в поход на Византию. В старом здании комитатской управы поднялась суматоха, принялись убирать в кабинетах, наводить везде порядок; переложили печь в апартаментах вице-губернатора, сменили рамы, двери. А город равнодушно взирал на эти приготовления. Да и не удивительно: город был занят подготовкой к выборам бургомистра, назначенным на двадцать пятое ноября.
На выборах противостояли друг другу две сильные партии. Старый Мостель не согласился выставить свою кандидатуру и отклонил сделанное ему выборщиками предложение такими словами:
— Господа, вы, должно быть, не видите различия между жезлом и посохом. Правда, и тем и другим можно ударить, на тот и на другой можно опереться, но на посох куда удобнее. Мудрый старец дал этим понять, что он не желает расстаться с посохом.
Донат Маукш — энергичный и честный человек, но вот беда — дворянин. Иштван Студент, шурин покойного бургомистра, превзошел всех ученостью, но он соглашается (все из-за тех же двух тысяч форинтов) принять этот пост только при условии, что будет считаться «изучающим деятельность бургомистра». Ну, этот номер не пройдет: нельзя же так нагло обходить законы! У кого же Студент станет «обучаться», если он сам будет бургомистром, блюстителем закона.
Остановились на кандидатуре Госновитцера, которого в городе никто не любил. Партия же «воинствующих» в противовес ему выдвинула Фабрициуса, и теперь одному богу известно, чем все это кончится. Партия Фабрициуса растет изо дня в день, потому что за нее женщины и чернь. Чернь не имеет права голоса, но она может подогреть страсти выборщиков, подобно тому как виноградная лоза сама цветет неприметно, зато человеческий дух, благодаря соку ее гроздьев расцветает, да еще как — ярче любых цветов на свете!
Господин Кендель, приехавший в это время в Лёче для продажи своих домов (в Лёче у него их было четыре), чуть не лопнул от злости, видя, как множатся ряды сторонников Фабрициуса. Поскольку перед выборами бургомистра запрет на музыку в Лёче был отменен, там на каждом шагу пиликали сбежавшиеся в город убогие цыганские оркестры. Отменен был и полицейский час: теперь ремесленные цехи веселились и кутили до рассвета. Господин Госновитцер открыл свой погреб для цехов, поддерживавших его кандидатуру, и вино, почти что бесплатное, лилось рекой. Однако и госпожа Фабрициус тоже была не промах! Одну за другой обошла она жен всех мастеров, входивших в состав Большого совета ремесленных цехов, называла их «сестрицами», и женам простых сапожников и слесарей это очень понравилось. Хмель госновитцерских вин наутро выветривался из затуманенных голов сапожников и слесарей, а вот титул «сестрица» долго дурманил головы, украшенные длинными косами. Госновитцер раздарил много теплых вязаных шарфов красно-бело-зеленого цвета, так что сторонников его партии еще издали можно было узнать, подобно тому как узнавали воинов дворянских бандерий по разноцветным перьям на шапках. А госпожа Фабрициус приходила к воротам школы к концу занятий и раздавала выходившим оттуда девочкам и мальчикам кусочки постного сахара. Когда малыши с липкими от сахара мордашками возвращались домой, там их подвергали допросу: «Чем же это ты, сердечко мое, так перемазался?» — «Постным сахаром. Тетенька Фабрициус дала», — отвечало дитя. И, поверьте, ответ такого крошки может согреть человека куда сильнее, чем наикрасивейший вязаный шарф.
Само собою разумеется, женское коварство госпожи Фабрициус победило. Сильно помог Фабрициусу своим сопротивлением и Кендель, остававшийся в городе до конца выборов. Старик уговаривал, кричал, запугивал. Но все это было только на руку Фабрициусу. И вот, двадцать пятого ноября, ровно в полдень, под звон колоколов в церкви святого Якаба, сенатор Мостель огласил результаты голосования: большинством в девять голосов бургомистром Лёче избран Антал Фабрициус.
Громовое «ура» сотрясло мрачные стены городской ратуши. По условленному знаку грянул залп мортир на горе Шайбен, а городской трубач заиграл «Благодарственный гимн».
Шебештен Трюк распахнул одно из окон Большого зала и зычным голосом объявил толпе, собравшейся перед ратушей:
— В городе Лёче новый бургомистр! Радуйтесь, горожане, и повинуйтесь Анталу Фабрициусу!
Ответный возглас «ура» был подобен реву урагана. Квартальные вскочили на украшенных лентами коней, чтобы поскорее объявить по своим кварталам результаты выборов.
Сенатор Мостель предложил отправить ко вновь избранному бургомистру депутацию. Членов ее назвали выкриками из толпы выборщиков. Желая побесить потерпевшего поражение Кенделя, в депутацию выбрали и его самого, но он наотрез отказался:
— Нет и нет. Ни за что не пойду, разве только в том случае, если для присмотра за новым бургомистром вы выберете сегодня же и няньку ему!
И, не перенеся позора, Кендель быстро исчез из зала ратуши.
А город охватило ликование. Еще бы: на посту бургомистра молодой смельчак! Люди бегали по улицам и кричали друг другу:
— Победил Фабрициус!
А если кричавший был человеком злым, то добавлял: «Провалили Госновитцера!»
Каждый радуется на свой лад!
Фабрициус, дожидавшийся результатов голосования в одной из комнат ратуши, в первый миг победы подумал о Розалии. И первый же приказ молодого бургомистра прозвучал так:
— Сбегайте в пансион Клёстер и… Нет, постойте. Бегите и моей матушке и передайте, что большинством в девять голосов избран я.
Услышав такую весть, госпожа Фабрициус помчалась к Матильде Клёстер, позабыв даже набросить на плечи шаль, хотя на дворе дул холодный ветер. Она застала Розалию одну в комнате. Шутливо поклонившись девушке в пояс, госпожа Фабрициус воскликнула:
— Поздравляю вас, госпожа бургомистерша!
Девушка смутилась, побледнела и, помимо своей воли, обронила:
— Ах, что вы, мама…
Слаще музыки прозвучала для слуха госпожи Фабрициус эта «обмолвка»: ведь она доказывала, что Розалия в мыслях уже считает ее своей матерью. Она обняла девушку за талию, привлекла к себе и расплакалась. А вместе с ней заплакала и Розалия. Вероятно, только они одни во всем городе и плакали в эту минуту — ведь господин Госновитцер, тот не слезы проливал, а ругался.
А наплакавшись вдоволь, госпожа Фабрициус чуточку отодвинула Розалию от себя, ровно на столько, на сколько мы отодвигаем дорогой нам портрет или какую-нибудь прекрасную вещь, чтобы лучше полюбоваться ею.
— Ну, голубушка моя, рада? — вглядываясь в мокрое от слез лицо девушки, приговаривала она.
— А это хорошо? — тихо спрашивала Розалия.
— Конечно. Ах ты, глупенькая! — торжествующе воскликнула мать бургомистра.
Розалия присела на скамеечку рядом с госпожой Фабрициус, смиренно положила голову к ней на колени и, дрожа всем телом, призналась:
— Я так боюсь, так боюсь!
— Чего же тебе бояться, маленькая? Лёченский бургомистр — сильный человек. Не он боится, а его должны бояться. Кто же посмеет тронуть его невесту?
И госпожа Фабрициус долго гладила склоненную белокурую головку, пока не увидела, что Розалия больше уже не плачет, а посапывает носиком, и не дрожит от страха, но сладко спит.
Папаша Кендель даже не стал дожидаться, пока новый бургомистр принесет присягу. Выскользнув из ратуши, он, несмотря на поздний час, помчался в своей тележке к Гёргею, чтобы сообщить ему об избрании Фабрициуса, — черт бы его побрал!
Гёргей принял это известие равнодушно и только для проформы спросил, что за человек новый бургомистр.
— Желторотый птенец.
— Так почему же его выбрали?
— Из-за ух, — пояснил Кендель.
— Не понимаю.
— А так, что его один ух отрубил твой племянник Дюрка Гёргей, а тогда Фабрициус стал пополир…
— Популярным?
— Верно. Челофек отшень ретко станофиться знаменит из-за того, что он имеет, — продолжал философствовать Кендель, — а из-за того, чего он не имеет. Так вот, Фабрициус не имеет одно ухо.
— Но зато, говорят, у него есть ум?
— Ум он имеет, но хранит его у сфоя мамочка. Брафый, фоинстфенный женщин. Она делал из него бургомистр.
— Ну, а других новостей у тебя нет для меня?
— Больше ничего не знаем.
— О моем приезде в город что-нибудь поговаривают?
— Не больше, чем о бюргерской пирушка.
— Дочь мою видел?
— С той поры — нет.
— Тогда поезжай к ней и успокой бедняжку. Скажи, что на этой неделе мы с ней обязательно встретимся. Может быть, даже гак, чтобы никогда больше не расставаться.
Кендель замотал отрицательно головой:
— Не могу, дорогой мой, не могу, голубчик. Прошлый раз, когда барышня Розалия передал мне свою записочку, я соврал старухе Клёстер, будто ты живешь за десять дней пути отсюда. «Вот и прикидывай, старая курица», — думал я про себя. Так что теперь я должен находиться где-то в Трансильвании и никак не могу поехать к ней немедленно.
— Ну, тогда передай с моим племянником Дюри!
— Он не есть в Лёче.
— А где же?
— О, где он только не побывай за это время! Только позволь, я будет лучше по-словацки рассказать, а то по-венгерски мне очень трудно. Отправился, значит, Дюри и прошлом месяце к мамаше в Топорц, попить молочка. А на обратном пути угодил в руки к лабанцам. Из плена его по просьбе отца выкупили: граф Берчени дал за него в обмен двух австрийских офицеров, хотя твой Дюри и пятерых стоит. Парень, словом, освободился, но в Лёче больше не вернулся, потому что его полк недели две тому назад перевели из города, и Дюри теперь стоит с полком где-то здесь неподалеку, возле Кольбаха.
— Значит, в Лёче сейчас нет больше солдат?
— К большому сожалению лёченских красоток — нет! — со смехом подтвердил Кендель.
— К слову сказать — красотки… Когда ты был в последний рае в своем сабадкинском дворце? — весело спросил Гёргей.
— И не поминай! С этим кончено, — уныло заметил старый селадон. — Не люблю больше ничего на свете, кроме денег. Поверь мне. Все может опротиветь, надоесть человеку — но деньги никогда! Румяные губки, стройные ножки, белые ручки, огненный взор! И что за осел внушил человечеству, что за ними стоит гоняться, сходить по ним с ума? Разве, например, светлячок не красивее, чем самые красивые глазки? А ведь никто не гоняется за светлячками? Или земляника, — разве она не слаще самых алых губ? А кто сходит с ума по землянике? Никто. Верно? Ну, прочь женские прелести! Деньги! Вот единственная пламенная Страсть, которая вечно владеет человеком! Аминь!
— Брось ты притворяться алчным. Ведь ты совсем не такой.
— Нет, я алчен. Да! На все! На все, что дороже… ну, хотя бы блохи? Блохе, по крайней мере, башмачки не нужны! Разве не так? Так!
Чем ближе подходил день, назначенный для открытия комитатского собрания, тем чаще чиновники управы приезжали со свежими новостями на ужин в Гёргё и оставались ночевать в замке.
Так, на второй день к вечеру в Гёргё прикатил с донесением старший писарь Ференц Коротноки.
— В Лёче все спокойно.
На третий день прибыл Будахази.
— Ничего нового.
На четвертый день, правда, никто не приезжал, но это, конечно, означало, что в Лёче полное затишье.
Наконец, в последний день на замковый двор въехала тележка Кенделя, на которой восседал и Гродковский. Из Лёче прибыли только они, но к этому часу двор уже был полон экипажами, а дворец — гостями: депутаты, жившие подальше, приехали накануне, чтобы завтра уже отсюда, из Гёргё, отправиться в Лёче.
Перед ужином провели на скорую руку совещание. Гродковский доложил, как обстоят дела. По его мнению, все тревоги — плод болезненной фантазии. Комитатская управа приведена в порядок. Тетушка Марьяк уже находится там и сделает все приготовления к завтрашнему обеду, который состоится в Большом зале. Вице-губернатор может отправиться в город без единого телохранителя. Никто и пальцем тронуть его не посмеет. В городе тишина, будто в пруду, на берегу которого, может быть, и квакает одна-две лягушки, так и те, заслышав шаги, от страха кинутся в воду.
Папаша Кендель, слушая этот доклад, нервно барабанил пальцами по столу и раза два буркнул:
— Но, но!
Вице-губернатор беспокойно повернулся в его сторону.
— Господин Кендель, кажется, другого мнения?
— Мнений мой такой же, только мне не нрафился одно дело. Заметил я со фчерашнего тня какой-то загадочность у сенаторов. Суетятся, совещаются, и вид у них такой важный, будто они невидимый деревянный конь толкают, — сейчас уж не помню, в какую город. В особенности не есть хороший новый бургомистр. Хотя и не видно ничего, а какой-то кадость они готовят.
Но собравшиеся зло высмеяли Кенделя.
— К чему они там могут готовиться?
— Что может сделать новый бургомистр, когда он еще ничего не умеет? Слеп он еще, как новорожденный котенок. Не то чтобы царапаться, глаза раскрыть еще не может. Возможно, что когда он осмотрится, жди от него и неприятностей. А сейчас он пока еще радуется своей новой должности, как мальчишка первому складному ножу, с которым он даже и не знает, как обращаться.
За ужином немного выпили, и будущее уже начало рисоваться и гостям и хозяину в розовом свете. Все отправились на покой, не засиживаясь допоздна: утром предстояло подняться в ранний час. Пожалуй, кроме самого вице-губернатора, никто и внимания не обратил на карканье Кенделя.
Между тем папаша Кендель, вероятно, был прав, и, возможно, именно в этот самый час госпожа Фабрициус сказала Розалии такие слова:
— Ты заметила, милочка, как загадочно ведет себя наш Антал? Не нравится он мне. Что-то тяготит его — либо замысел какой-то, либо горе, либо опасность какая-нибудь… Только не нравится мне наш мальчик.
Насколько счастливым казался новый бургомистр в первые два дня после своего избрания (материнское сердце не могло тогда нарадоваться: веселость в нем так и била ключом), настолько подавленным стал он уже на третий день. В противоположность Иисусу, душа которого на третий день вознеслась на небо, душа Фабрициуса совсем опустила крылья. Юный бургомистр помрачнел, сделался беспокойным, задумчивым, ходил, потупив взор, вздрагивал от каждого шороха, ночью не мог уснуть и до утра ворочался в постели, а днем из него нельзя было вытянуть ни слова. На вопросы матери, что с ним, отвечал уклончиво:
— Политика — сложная штука, мама. Не для женщин. Когда дело совершится, вы все узнаете, мама.
Сенаторы, зачастившие в дом, совещались с молодым бургомистром при закрытых дверях, — будто мало с них было совещаний в ратуше. Все они тоже вели себя таинственно.
На четвертый день, в среду, госпожа Фабрициус пригласила к вечеру гостей (но без ведома сына): пусть Антал чуточку рассеется. Пригласила немногих, но все это были славные люди. И они пришли — Миклош Блом, Фери Греф, разряженная Матильда Клёстер, озорная госпожа Тэёке. Разумеется, и Розалия (чуть было не запамятовал, но как же без нее?), госпожа Маукш с двумя дочерьми (да сколько же их, этих маукшевых дочерей?) и подростком-сыном.
Общество отлично веселилось, но сам молодой бургомистр был весь вечер молчалив и рассеян, даже с Розалией перекинулся лишь несколькими словами, что бросилось всем в глаза, а как только заслышал «пивной колокол», вскочил из-за стола, не доев сладкого, извинился перед дорогими гостями и сказал, что по служебным делам ему нужно уйти, и притом немедленно. Поцеловав матушке руку, он шепнул ей, что не будет сегодня ночевать дома, так как у него много дел, а завтра чуть свет надо быть снова на ногах, и потому ему нет смысла возвращаться домой, — лучше уж он прикорнет там, в ратуше, не раздеваясь. Глаза его при этом горели лихорадочным огнем, а на лице блуждала недобрая усмешка.
Госпожа Фабрициус недовольно кусала губы.
— Тебе лучше знать, сынок, как поступить, но…
— Так надо, мама, — заявил Фабрициус не терпящим возражений тоном и строго насупил брови.
— О, этот настоящим командиром будет! — шепнул Миклош Блом вдовушке Тэёке.
Госпожа Фабрициус хотела что-то сказать и не успела: сурово сдвинулись брови бургомистра, и будто ножницы сомкнулись и обрезали ее мысли.
Розалия удивленно взглянула на Фабрициуса. Еще никогда не казался он ей таким красивым.
Проходя мимо Розалии, сидевшей на стуле с высокой готической спинкой, он наклонился и шепнул девушке:
— Завтра увидимся. Доброй ночи, голубка моя, доброй ночи!
От его дыхания затрепетали и защекотали ему губы несколько выбившихся из прически золотистых завитков… Так близко был любимый и вместе с тем так далеко от нее в этот миг! Словно моря-океаны пролегли между ними…
Фабрициус ушел, а гости продолжали веселиться до самого «полицейского колокола», не придав случившемуся большого значения, и только подумали про себя: «Новая метла чисто метет». Как и все новички, Фабрициус усердствует, — да ведь любая власть только поначалу всласть, а испей до дна, и даром не нужна.
Госпожа Фабрициус пожаловалась Матильде Клёстер, что боится остаться одна в доме, и попросила, чтобы Розалия переночевала у нее. Мадемуазель Клёстер согласилась. Тут уж гости начали расходиться. Фери Греф проводил домой семейство Маукшей, Миклош Блом — вдовушку Тэёке; впереди каждой компании шел слуга с зажженным фонарем.
Кругом была беспросветная тьма; все обволакивал какой-то омерзительный, липкий, словно клейстер, туман. Город, казалось, уже спал, и тишина стояла такая, что с соседней улицы слышно было, как единственная липа перед домом Гиглеша уронила на землю сучок. Редко, редко где, будто глаз во мраке, светилось одинокое окно. Зато в ратуше светом были залиты все окна. Там еще не спали.
— Даром только свечи переводят, — заметил Блом.
— За городскую казну не бойтесь, — рассмеялась красавица вдовушка. — Она еще может.
— Это что? Намек?
— Нет, что вы!
Госпожа Тэёке простилась с Бломом у ворот, поднялась к себе, легла в постель и мгновенно заснула. Около полуночи она проснулась от громкого стука. Внизу, на площади, было непривычно шумно. По стенам комнаты мелькали дрожащие блики фонарей. Слышался гулкий топот, чьи-то тяжелые шаги сливались воедино, и казалось, будто огромные ноги великана с глухим стуком ступают по земле — это шли солдаты. Однако были и другие странные звуки. Вскоре вдовушка Тэёке уже отчетливо различала: вот бьет молоток, а это — шаркает пила. А что это за грохот, от которого сотрясается и гудит земля, скрипит мебель. Что это? Это, наверное, пушки!
Со страху вдовушка сначала зарылась с головой в пуховые одеяла. Постепенно страх прошел. Его сменило любопытство, и, как ни опасно после теплых перин пройти босиком по холодному полу, госпожа Тэёке спрыгнула с кровати (ведь узнать, что происходит, для женщин дороже жизни) и быстро, словно перепелка, перебирая маленькими ножками, подбежала к окну и распахнула его.
При свете факелов и заиндевелых, едва мерцавших фонарей она увидела (и сперва глазам своим не поверила) огромную пеструю толпу на площади. Словно ярмарка началась — столько людей, вернее, человеческих теней, мелькало в сумраке холодной ночи. Слева чернел откупоренный бочонок с водкой, запах которой, смешавшись в воздухе с другими запахами, достиг чутких ноздрей вдовушки. Вокруг бочонка громко галдела толпа народу. Упряжки волов тащили в сторону главных ворот тяжелые орудийные повозки, возле которых хлопотали мужчины в куртках из буйволовой кожи. Фантастическое, наводящее ужас зрелище! А напротив балкона городской ратуши в четырехугольнике, освещенном фонарями, стучали топоры, хрипло визжали пилы, хлопотали плотники. Все это сливалось, расплывалось перед глазами, никак не желая превращаться в отчетливую картину. Пожалуй, только мрачные пушкари в куртках из буйволовой кожи были фигурами из действительного мира, тем более что двое из них в барашковых тапках, с большущими алебардами на плечах, прошли почти возле самого дома госпожи Тэёке. Любопытные женщины порой отчаянно смелы — и вот госпожа Тэёне, высунувшись из окна, дерзнула окликнуть пушкарей:
— Люди добрые, что там внизу делается?
Двое с алебардами подняли головы. Один из них — молодой, крепко сбитый, — разглядел наверху что-то белое (ночной чепчик) да по голосу угадал, что спрашивает молодая женщина. Поэтому, ткнув алебардой в стенку дома, он добродушно крикнул:
— Много будешь знать, кисанька, скоро состаришься!
В тридцатый день ноября вице-губернатор пробудился в дурном расположении духа. Стук то и дело прибывавших экипажей, гомон, споры собиравшихся во дворе кучеров, конюхов, да и наконец предстоящее неприятное дело всю ночь не давали Гёргею спать. Он был зол на самого себя: «Ну, разве есть у тебя голова на плечах? Зачем ты позволил дворянчикам впутать тебя в эту историю? Она тебе совсем не по душе! Жил бы себе тихо, свободно, никто бы тебе не мог приказывать. Ведь это только самообман, будто ты можешь всем командовать. Где уж тебе! Людям ты, правда, можешь приказывать, но обстоятельства сами приказывают тебе. А ведь обстоятельства — это тоже человеческих рук дело. Вот и выходит, что тобой командуют люди…»
Предаваясь таким размышлениям, Гёргей натянул сапоги со шпорами, надел принесенный Престоном парадный доломан. Закончив туалет, он уже собирался прицепить украшенную опалами саблю, как вдруг за его спиной кто-то рывком распахнул дверь. Вице-губернатор гневно обернулся, чтобы взглянуть на смельчака. Перед ним стоял Дюри Гёргей.
— Ну, чего тебе? — сердито спросил дядя племянника. — Не мог подождать, пока я выйду? (Не правда ли, ласковый прием после долгой разлуки!)
— Я должен вам кое о чем срочно рассказать, дядя Пал.
— Знаю я твою историю, мне Кендель говорил.
— Нет, я хочу сказать о чем-то таком, чего вы еще не знаете, дядюшка.
— Ну, тогда говори поскорее.
— Я хотел бы с глазу на глаз, — уже испуганным голосом пролепетал Дюри.
— Да не ходи ты, ради бога, вокруг меня, как кошка возле горячей каши.
— Кажется, я неудачно выбрал время, — печально сказал поручик и пошел к двери. — Лучше я как-нибудь в другой раз.
— Ладно, подожди. Престон, выйди! Я немного не в духе. В Лёче едем.
— Знаю. Я тоже с вами.
— Хорошо. Ну, говори же. Дюри встал в торжественную позу.
— Дорогой дядюшка, ваше превосходительство! Подобно тому, как струится по цветущему лугу ручей…
Вице-губернатор гневно топнул ногой.
— Ты что? С ума спятил?
— Я? Нет, что вы! Хотя…
— Говори ясно, по-венгерски, чего ты хочешь. Прежде ты ведь не был таким мямлей.
— Вы меня сбили, дядя Пал, поэтому не сердитесь, если я попросту скажу вам: отдайте мне Розалию.
— Розалию? Зачем?
— Ну, в жены.
Вице-губернатор невольно вскрикнул, глаза у него выкатились на лоб, будто у огромной стрекозы, лицо налилось кровью.
— В жены? О, несчастный! Ты же…
Вице-губернатор рассвирепел: ведь по мере того, как перед ним раскрывался характер Дюри, умного и вместе с тем наивного юноши, Гёргей все больше начинал думать о сходстве между ним и Розалией, как это и должно быть между родными братом и сестрой. Признание юноши в любви к Розалии явилось для Гёргея новым, ударом, ибо эта любовь была грехом против естества человеческого, и его возглас; «О, несчастный!» — собственно, означал; «Как, еще и это!»
Мысль эта потрясла Гёргея, и ему бы не спастись от нее, если б он совершенно машинально не задал вопрос — один из тех, какие обычно задает отец невесты, и этот вопрос принес избавление:
— А твои родители знают об этом?
— Конечно.
— Как? — срывающимся голосом, нетерпеливо воскликнул он. — Ты говоришь, они знают? Это правда?
Сомнения дяди возвратили юноше смелость.
— Я никогда не лгу.
Он поднял голову и гордо взглянул в глаза вице-губернатору, а того уже было не узнать. Радость светилась в каждой черточке его лица.
— И что они сказали?
— Матушка благословила, отец в письме из армии выразил свою радость.
Сердце Пала Гёргея исполнилось неведомым ему доселе покоем. Прочь призраки, кружившие до сих пор вокруг него на крыльях мглы! Одно-единственное слово, словно вихрь, унесло их прочь. Невидимый молот раздробил огромный камень, лежавший у него на сердце. Камень рассыпался в порошок и, смешавшись с розоватыми облаками, растаял в воздухе без следа. Гёргей вдруг почувствовал себя легким, будто мотылек, и веселым, будто возвратился в безоблачную пору детства.
Он обрел вдруг все, все, чего еще миг назад недоставало ему — веселье, счастье, радость жизни, бодрость, и ему уже не противно было ехать в Лёче. Но счастье никогда не бывает полным: он вдруг лишился дара речи, растерял все слова. Только губы у него шевелились. Впрочем, он ничего и не хотел сказать, — молча обнял Дюри и принялся целовать его и обнимать, да так крепко, что чуть не задушил.
Сдерживаемая в течение долгих лет любовь, таившаяся в глубине сурового сердца, нашла вдруг выход и излилась в слезах. Да, из глаз Гёргея хлынули слезы — родник добра. Прошло немало времени, прежде чем он смог словами выразить свою волю.
— Что же, пусть Розалия будет твоей женой, а ты моим сыном. Живите у меня оба.
Взяв Дюри под руку, Гёргей вывел его к гостям, завтракавшим в столовой.
— Вот мой будущий зять. Он просил руки моей дочери, и я дал свое согласие.
За завтраком вице-губернатор был весел, сам на себя не похож, шутил, сыпал остротами, над всеми подтрунивал.
— Не нравится мне, что он так весел, — шепнул Имре Марьяши Абхортишу. — Это не к добру.
— Просто это означает, что он смелый человек, — отвечал Абхортиш.
Во время завтрака Гёргей сам торопил всех выехать поскорее:
— Поторапливайтесь, поторапливайтесь.
— Не горит, успеем, — заметил Иов Андреанский, которому пришлась по вкусу холодная куропатка. — Право, не к спеху.
— Вам-то не к спеху, потому что вас в Лёче ждут только дела. А меня ждет и еще кое-что.
Гродковский и сидевшие рядом с ним Михай Кубини из Хезельца переглянулись.
— Непонятно, — тихо проговорили они.
— А я — понимай! — ухмыльнулся сидевший напротив Кендель, закрываясь от хозяина салфеткой.
Но вот пробил наконец и час отправления. Вице-губернатор решил выехать в Лёче торжественно в столь знаменательный день. Он уже все обсудил с управителем поместья, и тот отдал нужные распоряжения.
Впереди кортежа двинулся гайдук Пали Венчик с медной трубой на боку, следом за ним двое фонарщиков — на тот случай, если придется возвращаться в Гёргё ночью. Вице-губернатор ехал на вороном жеребце, — на том самом, что прислал ему в дар князь Ракоци (если бы саксонцы и осмелились поднять руку на вице-губернатора, то на этого коня они все равно и замахнуться не посмеют!). А как хорош, божественно красив был на нем вице-губернатор. Не по одежде судят о человеке, но по лошади о всаднике, право же, можно судить! Он улыбался, веселился, как мальчишка, шутки ради даже хотел на своем скакуне перепрыгнуть через тетушку Престон. А как гарцевал под ним его замечательный конь, как выгибал шею, звеня множеством колечек, пряжек, золотых и серебряных чешуек и подвесок, которыми было убрано седло, как сверкали драгоценные камни, украшавшие поводья!
Рядом с вице-губернатором рысил бравый гусар Пишта Пемете в доломане, так богато расшитом серебром и позументами, что под шитьем и сукна не видно было. (Жаль, не через его родное село лежал путь, вот уж полюбовались бы на Пишту земляки!) Следом за ними гарцевали на скакунах десять гусар — одеты попроще, но сабля у каждого острее, чем бритва (вчера весь вечер точили!). Предводительствовал ими Престон, который и по возрасту уже не годился для парадного эскорта, да и ростом не мог сравниться с Пиштой Пемете.
За ними вперемежку ехали комитатские дворяне. Верхом трое братьев Абхортиши, все, как один, на серых скакунах и в одинаковых доломанах. В Абрахамфалве к ним присоединился Имре Немешанский на дохлой кляче, которая через каждые сто шагов останавливалась покашлять. Развеселившийся Гёргей тут же дал всаднику прозвище: «Кхе-кхе-кхек», и кличка эта с того дня навеки прилипла к бедняге. Отличный, горячий конь — правда, кривой на один глаз — был у Криштофа Ацела из Кишфалвы. Дюри Краль из Левковцы ехал на старом-престаром белом жеребце и клялся всеми святыми, что именно на этом коне восседал император Йожеф, когда короновался на венгерский престол в Пожони. У Якаба Лудмана из Адушфалвы была хорошая смирная лошадка, за которую много дал бы какой-нибудь почтенный каноник. Гордо держала голову вороная с синеватым отливом кобылица Ференца Залай; лошадь Якаба Рыбарского радовала глаз своей иноходью.
А в общем, хоть кортеж по виду и бедноват, но ведь причина понятна всем: все добрые кони — на бранном поле. Зато в роскошных упряжках не было недостатка: четыре жеребца Иова Андреанского (эх, хорошо быть магнатом!), гнедые лошадки Марьяши, пара здоровенных коней Матяша Киселя (и где он только откопал таких!), пугливые рысаки Екельфалунга, да и остальные — любо поглядеть. Все, кроме Кенделя. Он тащился в самом конце на двух тощих-претощих клячах, — не лошади, а драные кошки. Как не совестно? Ведь мог бы богач впрячь в свой экипаж хоть целый табун породистых коней!
Процессия растянулась, словно длинная войсковая колонна. Подъехали к границе тех угодий, что были захвачены городом Лёче, и гордое сердце старого Престона сжалось от боли.
— Стой! — крикнул он своему отряду гусар. — Вступаем на вражескую территорию. Сабли наголо!
Десять сабель, как одна, вырвались из ножен, будто стая перепелок вспорхнула в воздух. Эх, как засверкали бы они, будь на небе солнце. Впрочем, солнце уже давно взошло, но его затянула какая-то мгла. День нельзя было назвать ни пасмурным, ни ясным. Скорее он все же был пасмурным, унылым. Да в поля уже давно опустели: куда ни кинь взгляд — голые комья земли да сухие стебли срезанного мака. Леса, сбросив свой наряд, больше не шумели, и ручей Дурст не журчал, а бормотал сердито. В небе с карканьем летали вороны. Иногда они поднимались тучами, вспугнутые ехавшим во главе колонны Гёргеем, летели перед ним, кружили в небе и снова садились на землю, уже позади процессии. Недалеко от города Гёргей, обогнавший свою свиту, попридержал своего коня. Раньше других подъехал Дюри Гергей.
— Теперь я понимаю, о чем писала мне на днях Розалия, — весело, бросил ему вице-губернатор: — «Должна, папочка, сообщить вам что-то очень важное для будущего». Вот, значит в чем дело!
— Розалия прислала вам такое письмо? — удивился Дюри.
— Да, с Кенделем. Я сначала не понял, но теперь мне все явно.
Лицо Дюри сделалось серьезным.
— Зато теперь я не понимаю.
— Как так?
— Ведь я до сих пор ничего не говорил Розалии.
— Как? Разве вы с ней не обручились?
— Нет.
— Но ведь ты именно ее собираешься взять в жены? — весело захохотал Гёргей.
— Я знаю, что она любит меня.
— Ну, а если знаешь ты, то она знает это еще лучше. У женщин в таких делах больше догадливости, чем у нас.
И вице-губернатор снова принялся подсмеиваться над пустяковыми горестями молодых людей: «Вот чудаки!»
Тем временем их догнали и остальные: Михай Занати на чистокровной английской лошади, Криштоф Ацел, Ференц Залаи — все они карабкались наверх, к высоким постам, и потому старались подмазаться к вице-губернатору.
— Вы нынче в духе, ваше превосходительство, — сказал один.
— Я счастлив, — отвечал вице-губернатор, полной грудью вдыхая сырой, пахнувший прелью воздух. — Жизнь, друзья мои, так хороша!
Гёргею все казалось теперь превосходным — даже стаи воронья были ему милы, а их чернота такой красивой.
Криштоф Ацел тоже поспешил подольститься к Гёргею:
— Тьфу-тьфу, не сглазить бы! Ты выглядишь молодцом! Ей-богу! Будто не ты выдаешь дочку замуж, а наоборот, к себе в дом вводишь молодую красотку.
Вице-губернатор улыбнулся:
— В общем-то, оно так и есть, только вы этого никогда не поймете.
За подобными разговорами они доехали до Верхних городских ворот. В мглистой дымке город не был виден, его можно было скорее угадать до запаху дыма, который туман пригибал из печных труб к земле. Но вот ехавший впереди Венчик разглядел ворота и доложил:
— Заперты!
— Труби! — приказал Гёргей.
На звук трубы из-за ворот послышался скрипучий голое:
— Кто там?
— Пал Гёргей, вице-губернатор Сепеша, и господа из комитатской управы, — отвечал Венчик.
— Сейчас, сейчас.
Княжеский конь Ворон, не привыкший долго ждать, нетерпеливо дыбился, перебирал ногами, а Гёргей гладил его и похлопывал по холке, словно хотел сказать: «Не горячись! Ведь вон уже отворяют!»
И в самом деле, с обычным грохотом и лязгом опустился подъемный мост, затем, скрежеща в петлях, растворились ворота. Теперь впереди поехал Гёргей. Но стоило его коню миновать мостик, как вдруг из-под массивного свода ворот громыхнула вниз железная решетка и преградила путь свите вице-губернатора. Напуганная лязгом падающей решетки, лошадь Гёргея взвилась на дыбы, он покачнулся в седле, уронил шапку, украшенную перьями цапли, а когда обернулся, чтобы подхватить ее, понял, что случилось. (Все произошло в одно мгновение.) Он увидел за решеткой искаженные гневом лица, угрожающе поднятые кулаки, слышал бессильно-яростные возгласы: «Измена! Вероломство».
А к нему уже бросилась городская стража — солдаты в куртках из воловьей кожи; человек шесть схватили Ворона под уздцы, один пырнул коня пикой в живот, конь жалобно заржал от боли и, смертельно раненный, взвился на дыбы. Гёргей, не потеряв самообладания, выхватил саблю и первому же из солдат, пытавшемуся стащить его с коня, отрубил руку. Но на помощь шестерым солдатам бросились человек двадцать озверелых бюргеров, горевших жаждой мести, и стащили Гёргея на землю.
— Наконец-то! Попался ты нам в руки, негодяй!
Все это происходило на глазах приверженцев, родичей и друзей Гёргея. Но они находились по другую сторону решетки и ничем не могли помочь ему.
— И пальцем не смейте его тронуть! — прозвучал громовой голое вилликуса Гутфингера.
Бюргеры недовольно заворчали:
— А что нам его жалеть? Он нашего бургомистра-то убил? Значит он — наша добыча! — закричал кровожадный мясник Мартон Хорнбост.
— Помни: барин — везде барин! — пояснил вилликус, но, видя, что его слова вызвали недовольство, озорно подмигнув, добавил: — Ведь нам нужно его целиком, а не по частям доставить почтенному сенату. Давай веди его в ратушу! Да побыстрее!
Положение становилось невеселым. Всю площадь, насколько можно было это разглядеть сквозь туман (кстати, он начал рассеиваться), запрудили бюргеры в кожаных куртках-панцирях и городские гайдуки. По углам улиц, выходящих на площадь со стороны Нижних ворот, стояли пушки (знаменитые пушки Тёкёли), вокруг них проворно хлопотали пушкари. О быстром освобождении не могло быть и речи, даже если к городу соберутся дворяне со всего Сепеша. И Гёргей, покорившись судьбе, шел под конвоем гайдуков, смелый, прямой, ни с кем не говоря ни слова. (Станет говорить он с какими-то гайдуками.) Только попросил отыскать его шапку, сказав презрительным, властным тоном:
— Найдите шапку. А за камень на кокарде я вам пятьдесят форинтов заплачу.
Вилликус кивнул головой.
— Пойди, Поханка, — приказал он одному из гайдуков. — Найди шапку, хоть из-под земли достань!
В ратуше, когда привратник распахнул дверь и Гёргей, сопровождаемый вилликусом, вошел в зал, наступила гробовая тишина. Все взоры устремились на пленника.
Сенат в полном составе сидел за зеленым столом. Отсутствовал лишь Крипеи. (Всякий раз, когда предстояло решать какой-нибудь важный вопрос, господина Крипеи схватывали колики.) Во главе стола занял свое место молодой бургомистр — бледный, с всклокоченными длинными волосами до плеч (как видно, в тот день их еще не касался гребень), зато глаза его горели торжеством.
На столе перед ним белели исписанные листки бумаги. Чуть поодаль, почти на середине стола, стоял застекленный ящичек с забальзамированной рукой Кароя Крамлера. Сегодня она была сильнее всех живых рук. Сегодня — ее день, сейчас она нанесет, удар!
Молодой бургомистр заговорил звучным голосом, зловещим, как погребальный колокол:
— Сударь, вы — Пал Гёргей Гёргейский и Топорецкий, вице-губернатор Сепеша?
— Да, я, — глухо отвечал Гёргей.
— Вы застрелили бургомистра Лёче — Кароя Крамлера, чья рука в качестве corpus delicti[58] находится здесь?
С этими словами Фабрициус протянул руку за ящиком и повернул его застекленной стороной к обвиняемому.
— Да, я стрелял в него, — коротко ответил вице-губернатор, даже не взглянув на ящичек.
— Можете вы сказать что-нибудь в свое оправдание?
— Да, могу.
— Говорите.
Гёргей сердито одернул ментик, сбившийся на одно плечо.
— Но не перед вами. Вы мне не судьи. Перед лицом правомочных судей, если таковые будут, я изложу причины, оправдывающие мои действия.
— Вы ошибаетесь, — возразил бургомистр, — Сенат города Дёче имеет полное право судить вас, сударь. Господин Донат Маукш, найдите шестидесятый параграф.
Перед Донатом Маукшем на столе лежала толстая книга в кожаном фиолетового цвета переплете, с серебряным, покрытым эмалью окладом и большим, в орех величиной, смарагдом на середине его. Это была знаменитая «Zipser Willkiihr»[59], дражайшее сокровище Лёче, — книга, где были записаны законы и привилегии саксонцев.
Донат Маукш нервно переворачивал листы книги, поскольку получил приказ действовать быстро, но чем больше он старался, тем хуже у него получалось.
— Черт побери, не найду никак! — смущенно бормотал бедняга. — Вот, наконец-то!
— Читайте вслух! — приказал бургомистр.
— Стоя?
— Нет, можете читать сидя. Господин Маукш понюхал табаку из табакерки и зачитал «шестидесятый параграф».
— «Ab unszer Lewthe einer wunth wurde von eynem Edlingen ader von seyner holden in evner Stadt ader Margkte ader Dorffe szo soil er sein sach suchenn mitt eynem Rechten in des eygens hatterth do es ym geschehen ist…»
Фабрициус перевел написанный на старосаксонском языке текст на разговорный немецкий:
— «Если кто-либо из наших людей будет ранен дворянином или крепостным в городе, местечке или селе, правосудия он должен искать у того, кто владеет землею, где убийство сие совершилось». Так гласит «Сепешская воля». Той землей, где произошло убийство, владеет город Лёче. Думаю, это ясно.
Все время, пока зачитывали закон, Гёргей вертел на пальце свой перстень с опалом, переливавшимся множеством оттенков.
— Я протестую, — сказал он в конце.
Бургомистр пожал плечами и, подозвав к себе вилликуса, распорядился отвести обвиняемого в соседнюю комнату. За ним пришлют, пояснил он, когда потребуется.
Не дольше четверти часа, а может быть, и того меньше, длилось судебное заседание.
Возвратившийся в зал вилликус — он имел право присутствовать на заседании — получил новое распоряжение: ввести обвиняемого в зал. Распахнув дверь, вилликус крикнул:
— Пал Гёргей, войдите.
Голос вилликуса был странным, дрожащим.
— Подойдите поближе, — приказал бургомистр.
Он был бледен, как лунатик.
Фабрициус, говоривший до сих пор сидя, поднялся, взял со стола одну из лежавших перед ним бумаг и торжественно изрек:
— Именем бога и короля, освятивших привилегии города Лёче!
Заскрипели кресла, зашуршали сенаторские одежды: когда говорит бог и древние венгерские короли, всем положено вставать.
— Сенат города Лёче, — продолжал бургомистр, словно захмелев от собственных слов и сознания своей власти, заключенной в них, — вынес по делу об убийстве покойного лёченского бургомистра Кароя Крамлера следующее решение: «Дворянина Пала Гёргея Гёргейского и Топорецкого, вице-губернатора Сепеша, преднамеренно убившего названного бургомистра на земле города Лёче, приговорить к смерти путем отсечения головы. Приговор принят восемью голосами против двух».
Гёргей схватился за голову. Такого исхода он не ожидал.
— Вы знаете, что ваш приговор будет самым настоящим убийством? — гневно сверкнув глазами, воскликнул он, словно был здесь обвинителем.
— Око за око! — проворчал Госновитцер.
— Одновременно сенат постановил, — продолжал Фабрициус, в котором с каждой минутой возрастала ненависть к Гёргею и жажда мести, — привести приговор в исполнение немедленно. Пошлите за палачом!
Это сломило Гёргея. Сам смертный приговор еще не очень испугал его, ведь он надеялся, что вот-вот соберутся дворяне и что-нибудь предпримут для его спасения, или же Дюри помчится в Кольбах, где стоит лагерем куруцкое войско, и с ним ворвется в Лёче. Но чтобы бюргеры вздумали тотчас же снять с его плеч голову! Это казалось ему невозможным.
На лбу вице-губернатора выступил холодный пот, губы задрожали. Он попросил дать хотя бы день отсрочки, чтобы проститься ему с дочерью.
Сенаторы переглянулись. Старый Мостель, сжалившись, поднял голос в его защиту:
— Может быть, позволим, господин бургомистр?
— Нет, — сурово отрезал Фабрициус — Сенат не может отменить принятого им решения.
И вилликус отправился за палачом, слонявшимся по коридору. Это был рябой, коренастый, крепкого сложения, круглолицый мужчина; от всего его облика веяло тихим благолепием, и скорее можно было принять его за певчего из церковного хора, чем за палача.
— Ну что? Будет работа? — равнодушно спросил он и зевнул во весь рот, — в тот день он рано поднялся. Тут же, в коридоре, вертелся и Поханка, отыскавший шапку вице-губернатора.
— Ай, ай! — горестно поскреб в затылке вилликус, принимая от него находку. — Скоро не на что будет Гёргею надеть шапку.
Палач сразу понял, какая «работа» предстоит. Вилликус пригласил его проследовать за ним в зал.
— Мастер Флек, — обратился к палачу бургомистр, — примите подсудимого и поступите с ним согласно приговору! Да помилует господь его душу!
При этих словах сенаторы, по обыкновению, быстро, почти незаметно, исчезли в соседней комнате, чтобы не присутствовать при душераздирающей сцене, когда осужденного поведут на казнь.
А несколько минут спустя беспощадные сенаторы вышли на балкон, чтобы оттуда с царственным спокойствием полюбоваться, как заплечных дел мастер Флек, на сколоченном за ночь эшафоте, под радостные крики бюргеров в кожаных панцирях, сверкнув палашом, снес голову Палу Гёргею — умнейшую голову Сепеша.
Скатилась голова с губернаторских плеч, Флек наклонился, поднял ее за волосы (потом он уверял, что голова была очень тяжелая — будто из чугуна) и, пронеся ее кругом по краю помоста, громко, так что слышно было на соседних улицах, прокричал:
— Так будет со всяким, кто поднимет руку на город Лёче! Снова бюргеры в кожаных панцирях закричали «виват», — при казни присутствовали только они: остальным жителям доступ на площадь был закрыт еще с вечера. Из иногородних могли наблюдать казнь лишь те, кто еще накануне приехал в Лёче на комитатское собрание или по каким-либо другим делам и случайно остановился на ночлег в одном из домов, выходивших окнами на площадь. Эти немногие очевидцы были глубоко потрясены зрелищем. Кто поумнее, говорил:
— Дерзкая, безбожная затея! Будет из-за этого еще немало слез пролито.
И только один из приезжих селян, стоя рядом со своими детьми (хорошенькой дочерью и озорником-сынишкой) все время самодовольно приговаривал, одергивая мальчика, который норовил дунуть в глиняную свистульку-лошадку:
— Вот видишь, Магдаленка, я ведь всегда тебе говорил: мельника Дюрдика любит бог! Вон что посмотреть-то нам довелось! Иной человек за такое зрелище и сотенной не пожали бы! На казнь поглядеть всегда любопытно, а тут рубят голову самому вице-губернатору! Такой казни поди и королю видеть еще не доводилось! Да не свисти ты, Дюрдик-младший, говорю тебе, не свисти! А то подумают, будто я против казни. Еще, чего доброго, побьют.
Ограждение с улиц сняли. Свиту Гёргея, пробившуюся тем временем до Нижних ворот, пропустили на площадь. Но было уже поздно. Все было кончено…
Кендель с искаженным лицом ворвался в ратушу первым, распахнул дверь в комнату, которая выходила на балкон, и осыпал сенаторов, все еще стоявших там, бранью. Его хотели было вышвырнуть, но Кендель принялся громко рыдать и причитать, оплакивая своего лучшего друга, и разжалобил сенаторов. Не мудрено, они упивались своей победой. Собравшиеся внизу, под балконом, бюргеры в кожаных куртках, запели псалом «Господь — наша крепость», и всякий раз, когда в окне показывалось лицо бургомистра Фабрициуса, восторженно вопили «ура». Словом, сенаторам и особенно бургомистру было не до какого-то одинокого плачущего старика. Ведь сегодня они вписали в историю своего города славную страницу! А старик все причитал сквозь слезы:
— Убийцы! Злодеи! Бог еще покарает вас! Считаете себя христианами, а у самих нет ни капельки жалости! Вот, говорят, просил человек дать ему проститься с дочерью, так вы и этого ему не позволили. Язычники! О боже, боже, что ж теперь будет делать бедняжка? А какая красивая девушка! Ты же знаешь ее, Фабрициус.
— Не знаю, — небрежно бросил бургомистр.
— Знаешь! Только под другим именем — Розалия Отрокочи!
Сенаторы испуганно повскакивали со своих мест: бургомистр Фабрициус, побледнев как смерть, рухнул на пол.
— Что случилось?
Донат Маукш подбежал к дверям и крикнул слугам:
— Скорей воды! Бургомистр потерял сознание!
1910
ПРИМЕЧАНИЯ
Роман «Черный город» — последнее крупное произведение Кальмана Миксата. В 1908–1910 годы роман печатался с продолжением в еженедельнике «Вашарнапи уйшаг» («Воскресная газета»), затем, уже после смерти писателя, неоднократно выходил отдельными изданиями и в собраниях сочинений Миксата. Переводился на иностранные языка.
В оценке критикой романа и его осмыслении единодушия не было. Даже главной темой произведения одни считали чисто историческую коллизию — противоречия между бюргерством и феодальной олигархией, другие же сводили все к трагедии поруганной чистой любви. Между тем Миксат совсем не случайно обратился к эпохе национально-освободительного движения венгров XVIII века (движения куруцев), на фоне которого развертывается сюжет романа. Это как бы ответ писателя и либерально настроенного политического деятеля, депутата парламента Миксата демагогическим попыткам коалиции дворянских партий, сложившейся в 1906 году, использовать национальный характер освободительной борьбы куруцев для оправдания собственного глубоко реакционного национализма. Миксат беспощадно снимает фальшивую позолоту, которой эта клика — под видом патриотизма и верности традициям — замазывала истинный лик сложной политической жизни XVIII века, и рисует совсем иную, глубоко реалистическую картину, воссоздавая эпоху куруцев во всей ее противоречивости и трагизме.
В основу романа положены события, действительно имевшие место в Сепешском крае в начале XVIII века.
Тёкёли Имре (1657—1705) — вождь освободительного движения, направленного против Габсбургов за независимость Венгрии; в своей борьбе против Габсбургов вынужден был опираться на Турцию; в 1682 году был провозглашен князем-правителем Трансильвании и северо-восточной Венгрии (турецкий султан присвоил ему титул «короля», однако Тёкёли им не пользовался) — потерпев поражение в результате перехода части дворянства на сторону Габсбургов, бежал в Польшу. В 1690 году на короткое время вновь стал князем-правителем Трансильвании. Умер в изгнании в Турции.
Вчера лабанцы хозяйничали, а завтра, глядишь, куруцы нагрянут. — Лабанцами называли в Венгрии приверженцев Габсбургов; куруцы — венгерские повстанцы, участники мощного движения за независимость Венгрии конца XVII — начала XVIII века.
Арпады — первая венгерская королевская династия (X–XIV вв.), родоначальником которой был князь Арпад — вождь кочевых мадьярских племен, в конце IX века заключивших между собой союз и заложивших основу венгерского государства.
Бела IV — король из династии Арпадов (1235—1210).
Хольд — венгерская мера земли, равная 0,57 га.
Ласло IV — король из династии Арпадов (1270—1290).
Комитат — административно-территориальная единица, соответствующая губернии, области.
…сначала они неудачно выбрали себе короля (Яноша Сапояи вместо Фердинанда)… — Сапояи Янош (1487—1540) — богатейший венгерский магнат, крупный феодал. В 1526 году, после гибели под Мохачем короля Лайоша II (1506—1526), был избран королем Венгрии. В противовес ему венгерская аристократия, ориентировавшаяся на Габсбургскую династию, провозгласила королем Фердинанда I. Потерпев поражение от войск своего соперника, Сапояи бежал в Польшу, откуда в 1528 году при поддержке Турции вернулся в Венгрию. Своей политикой прислужничества по отношению к Турции способствовал завоеванию значительной части страны турецкими захватчиками, что привело к потере Венгрией национальной независимости и ее расчленению.
Гайдук — здесь: сельский полицейский, стражник.
Леопольд I Габсбург (1640—1705) — император «Священной Римской империи», король Венгрии. В Венгрии проводил жестокую колонизаторскую политику, вызывавшую то и дело восстания куруцев. По Карловицкому миру (1699) добился закрепления за Габсбургской династией отвоеванных у турок венгерских территорий.
Караффа Антонио (1646—1693) — генерал итальянского происхождения, находившийся на службе у Габсбургов; беспощадно подавлял сопротивление венгерских повстанцев, жестоко расправлялся с патриотами, снискав всеобщую ненависть к себе.
О приемном сыне Тёкёли, о маленьком Ракоци! — Янош Гёргей говорит о сыне Ференца I Ракоци и Илоны Зрини, легендарной героини венгерского народа, вторично вышедшей замуж за князя Тёкёли, — о Ференце II Ракоци (1676—1735), впоследствии возглавившем освободительную борьбу венгров против габсбургского гнета.
…император не утвердил сына Апафи владетельным князем… — Автор имеет в виду сына князя-правителя Трансильвании Михая I Апафи — Михая II Апафи (1676—1713), жившего постоянно в Вене, при фиктивном правлении которого Трансильванское княжество лишилось остатков своей независимости.
…не будет больше «малой родины», где прежде венгр всегда мог найти приют, если на «большой родине» ему вдруг приходилось туго… — Под «малой родиной» автор подразумевает Трансильванию, которая, пользуясь благодаря антигабсбургским своим настроениям поддержкой Турции, сохранила статут независимого княжества, тогда как вся остальная Венгрия — «большая родина», — потерпев поражение в войне с турками, была расчленена и подпала под турецкое и австрийское иго.
Была у нее конституция… — Под конституцией автор подразумевает права органов самоуправления венгерского дворянства, формально признанных Габсбургами в мирных договорах, заключенных в Вене (1606), Никольсбурге (1622) и Линце (1645).
В Вене кардинал Колонич уже изложил свою программу: «Сделать Венгрию сначала подневольной, затем нищей и наконец — католической». — Колонич Леопольд (1631—1707), граф, кардинал, епископ эстергомский, один из приближенных и советников императора Леопольда I, лидер клерикальной реакции, последовательно проводил политику закабаления Венгрии. Ряд историков — современников Колонича — приписывают ему приведенное Миксатом изречение.
Бург — название императорского дворца в Вене.
Карой-Роберт (1288—1342) — венгерский король династии Анжу (по матери — потомок Арпадов).
Мате Чак (1252—1321) — крупнейший венгерский феодал, владелец огромных поместий. Противодействовал мерам по укреплению централизованной государственной власти. Сколоченное им наемное войско потерпело поражение в битве с королевской армией.
Вышеград — древняя крепость, резиденция венгерских королей, в том числе и Кароя-Роберта (с 1323 г.).
Вилликус — должность при магистрате; вилликус ведал хозяйством города.
Матяш Корвин (1443—1490) — венгерский король сын правителя Венгрии, выдающегося полководца Яноша Хуняди. Осуществляя централизацию государственной власти, провел в стране ряд прогрессивных по тому времени реформ, снискавших ему большую популярность в народе.
Лайош Второй (1506—1526) — последний венгерский король из династии Ягеллонов.
Леонид — спартанский царь (488—480 до н.э.), прославившийся стойкой защитой Фермопильского ущелья во время греко-персидских войн; героически погиб со своим отрядом.
Миклош Зрини (1508—1566) — легендарный венгерский полководец, прославившийся в сражениях против турецких захватчиков. Погиб, героически защищая Сигетварскую крепость.
Габор Бетлен (1580—1629) — князь-правитель Трансильвании (1610—1629) и король Венгрии (1620–1621); вел успешную борьбу против турецких захватчиков, сражался на стороне антигабсбургской коалиции. В ходе кампании против Габсбургов ставка Бетлена одно время находилась в Моравии, откуда, после заключения Никольсбургского мира (1621), он вернулся в Трансильванию и по пути останавливался в Лёче.
…под сенью семи сливовых деревьев… — В старой Венгрии мелкопоместных и обедневших дворян в шутку называли «владельцами семи сливовых деревьев».
Яношик (1680—1713) — легендарный атаман словацких разбойников, ставший популярным героем фольклора северной Венгрии. Однако тетушка Марьяк, по вине Миксата, допускает здесь некоторый анахронизм, так как в описываемый в романе период (ок. 1700 г.) Яношик еще не был разбойником — он стал им лишь после 1711 года.
…лоскуток собачьей кожи… сделал кровь Кенделя «голубой»… — В старину для дворянских грамот в Венгрии использовался специальный пергамент, который изготовлялся обычно из собачьей кожи.
…представители «четвероконных фамилий». — По старинному венгерскому обычаю знатность и богатство определялись количеством и мастью лошадей, запрягавшихся в экипаж. Знатные дворянские фамилии держали четырехконный выезд.
Тамаш Эсе (1666—1708) — один из видных военачальников национально-освободительной армии Ференца II Ракоци.
«Вновь открылись раны славной венгерской нации». — Этими словами начинался известный манифест (январь 1704 г.) Ференца II Ракоци, обращенный к народам Европы, в котором излагались причины восстания против Габсбургов, лишивших Венгрию независимости.
…разыграли сцену в духе супругов Добози… — По преданию, Михай Добози, герой битвы при Мохаче (1526), заколол свою жену мечом, чтобы спасти ее от угона в рабство, а сам геройски погиб в схватке с турками. Пример супружеской верности и гражданской чести, проявленной Михаем и Илоной Добози, был воспет поэтами и послужил темой для целого ряда произведений живописи.
Топот лошадей святого Михая… — В Венгрии катафалк называли иносказательно колесницей святого Михая.
…знойное лето длилось до дня всех святых. — То есть до глубокой осени: день всех святых празднуется католической церковью 2 ноября.
Зато на колокольнях чисто выбеленных христианских церквей вместо креста кое-где водружен петух, а на других… петуха опять крестом заменили! — Намек на междоусобную борьбу христианских церквей — католической и протестантской (петух — символ последней).
Ботонд (X в.) — легендарный венгерский витязь, предводитель вооруженных дружин; по преданию, пробил своей палицей огромную брешь в железных вратах Константинополя.
Серенчи — производное от венгерского слова «серенче» (szerencse) — удача, везение, счастье.
Кинижи Пал (ум. 1494) — венгерский полководец, отмеченный и выдвинутый королем Матяшем; неоднократно одерживал победы над турками. Отличался исключительной отвагой и необычайной физической силой. В молодости был мельником.
Вист, бристель, янкер, эпген — предметы женской одежды у саксонцев в XVI–XVII веках.
«Золотая булла». — Имеется в виду грамота короля Эндре II, данная им в 1222 году венгерскому дворянству и предоставлявшая последнему значительные права и привилегии.
…чтобы пополнить кошелек короля Сигизмунда. — Сигизмунд (по-венгерски Жигмонд) (1361—1437) — император Священной Римской империи, с 1387 по 1437 год — король Венгрии. В целях пополнения оскудевшей казны в 1412 году отдал полякам в залог тринадцать городов комитата Сепеш.
…как Аттила под Аквильей. — Аттила (ум. 453) — вождь гуннских племен, производивших в Европе опустошительные набеги. Миксат напоминает здесь известное предание, связанное с последним большим походом Аттилы в Италию в 452 году.
Примечания
1
Я сказал (лат.).
(обратно)2
Выслушаем и другую сторону (лат.).
(обратно)3
На гербе Гёргеев изображен дикий лесной человек, возможно, в память о далеких временах, когда в этих краях еще приходилось корчевать лес. (Прим. автора.)
(обратно)4
Ради бога (лат.).
(обратно)5
Отец и покровитель лютеран (лат.).
(обратно)6
Не вороши прошлого (лат.).
(обратно)7
Уже испытано (лат.).
(обратно)8
Копейщиками — в Сепеше называли комитатских полицейских, хотя вооружены они были саблей и ружьем, копья же брали с собой лишь на парады. (Прим. автора.)
(обратно)9
Каверзы, задней мысли (лат.).
(обратно)10
Воскресный охотник, охотник-любитель (нем.).
(обратно)11
Ланеус равняется 34 хольдам. (Прим. автора.).
(обратно)12
Иштван Гёргей в своей «Истории рода Гёргеев» следующим образом излагает это изустное предание: «Вице-губернатор и бургомистр охотились каждый на своей территории, как вдруг одна из любимых собак Гёргея перебежала через межу на лёченскую территорию. Бургомистр застрелил собаку, а вице-губернатор в ответ застрелил его самого. Товарищи бургомистра по охоте, даже в этой горячке сохранившие рассудок и осмотрительность, подхватили тело бургомистра, проникли на гёргейские земли и, обежав с ним четырехугольник, ценою жизни бургомистра стяжали своему городу эту землю — в соответствии с обычаями того времени». (Прим. автора.)
(обратно)13
Род камзола с застежками до шеи, рукава обычно делались из материи другого цвета. Летом же саксонцы носили ваммес без рукавов. (Прим. автора.)
(обратно)14
Хорошо сделав свое дело (лат.).
(обратно)15
Истина в вине (лат.).
(обратно)16
Утро вечера мудренее (нем.).
(обратно)17
Для каждого сенатора в ратуше имелась черная мантия, которую полагалось надевать поверх обычного платья, дабы и внешне член сената выглядел торжественно и важно. (Прим. автора.)
(обратно)18
Демко, Жизнь городов Верхней Венгрии в XV и XVI веках. (Прим. автора.)
(обратно)19
Hain, 431–432. (Прим. автора.)
(обратно)20
Изданное в 1654 г. «Постановление сената» подразделяло жителей на три класса и определяло, что на горожан, одевающихся не по рангу, будут налагаться денежные штрафы в размере от 10 до 100 форинтов. (Прим. автора.)
(обратно)21
«Документы, опубликованные бароном Альбертом Няри». — «Столетия», 1872 г., стр. 480. (Прим. автора.)
(обратно)22
Пристойным (франц.).
(обратно)23
Вебер, Исчезнувшие селения в Сепеше, «Столетия», 1897 г. (Прим. автора.)
(обратно)24
Jakab Meltzer, Berühmte Männer Ziepsens. (Прим. автора.).
(обратно)25
«Прагматическая история и изложение основных прав 16 сепешских городов». (Прим. автора.)
(обратно)26
Жизнь и кровь за нашего вице-губернатора (лат.).
(обратно)27
Я — Сигизмунд Бибок (лат.).
(обратно)28
Жизнеописание, биографию (лат.).
(обратно)29
Чем ясней договор, тем лучше дружба (лат.).
(обратно)30
Свершающееся с человеком по его доброй воле не может быть противозаконным (лат.).
(обратно)31
Сено — солома, сено — солома (словацк.).
(обратно)32
«Чертовых молитвенников» (нем.).
(обратно)33
Я сказал все. Точка (лат.).
(обратно)34
За неявкой ответчика (лат.).
(обратно)35
«Вновь открылись раны славной венгерской нации» (лат.).
(обратно)36
Самостоятельная история, имевшая место около 1700 года; она на много лет привела в волнение всю Венгрию. К сожалению, я смогу рассказать о ней только после «Черного города». (Прим. автора.)
(обратно)37
Я здесь, господин полковник! (лат.)
(обратно)38
Подожди (франц.).
(обратно)39
Я должен ехать (нем.).
(обратно)40
Предельное число (лат.).
(обратно)41
Да здравствуют каникулы! (лат.)
(обратно)42
Думать никому не заказано (нем.).
(обратно)43
Слава богу! (нем.)
(обратно)44
А все-таки (лат.).
(обратно)45
Черт побери! (лат.)
(обратно)46
Приятного одурения (лат.).
(обратно)47
Жили-были курица с петухом,
Вот вам начало сказки,
Еще были корова с быком,
Вот вам и половина сказки,
И еще была кошка с мышкой -
Вот и сказки конец (нем.).
(обратно)48
Молодость ветрена (лат.).
(обратно)49
По принуждению (лат.).
(обратно)50
Виноват (лат.).
(обратно)51
Точность нужна (лат.).
(обратно)52
Баронесса Карои как-то попросила в письме к своему мужу, находившемуся в полевом лагере, чтобы он прислал ей мешок человечьих сердец: она их разотрет в порошок и будет давать с вином детям. Историк, к которому попало в руки это письмо, пришел в ужас от столь диких нравов и глупых суеверий, и только господь бог уберег нас, венгров, от дурной славы на всем белом свете, — ведь могли думать, что еще в начале XVII века наши предки пожирали человеческие сердца. Бедняга-летописец и не подозревал, что речь в письме шла о дигиталисе — растении, у которого по форме цветок напоминает человеческое сердце. Дигиталис, вероятно, не рос близ Надькароя, но в изобилии встречался в тех местах, где находился тогда со своими войсками муж баронессы. (Прим. автора.)
(обратно)53
За свободу Родины (лат.).
(обратно)54
За ухо сенатора (лат.).
(обратно)55
Палача (а тем более городского палача) не нужно представлять себе таким, как изображала его народная фантазия, — извергам в кумачовой рубахе. Палач был почти что обычным городским чиновником, так сказать, составной частью городского правосудия, и понятие «палач» не обязательно было связано с приведением в исполнение смертных приговоров. Были города, державшие палача, но никогда не осуждавшие никого на смерть, и, наоборот, были и такие (например, Корпона), которые обладали jus gladii («правом палаша»), но, не имея собственного палача, великодушно отсылали осужденных преступников в соседний город, чтобы там в порядке взаимной любезности привели в исполнение их смертный приговор.
С палачом имело смысл водить дружбу, потому что в те времена никто не был уверен, что однажды не попадет к нему в руки. Ведь и мелкие делишки кончались у него. Разврат, неудачное любовное похождение могло кончиться отсечением уха, руки или другим калечением. Были у палача и совершенно безобидные функции: он стриг наголо сбившихся с праведного пути женщин, вывозил за городские ворота и клеймил раскаленным железом изгонявшихся из города по суду. Словом, в круг его полномочий попадали самые различные области жизни, и тогдашние горожане норовили ладить с палачом. От какого-нибудь «дяди Флека» целиком зависело, как привести в исполнение приговор: пожестче или поснисходительнее, а ведь две трети всех приговоров, в особенности за безнравственные проступки, гласили: изувечить. (Прим. автора.)
(обратно)56
Я тоже (искаж. нем.).
(обратно)57
Туда, где он находится (лат.).
(обратно)58
Вещественного доказательства (лат.).
(обратно)59
«Сепешская воля» (нем.).
(обратно)
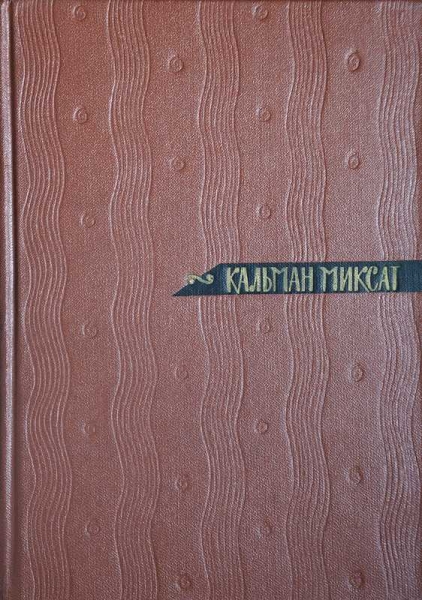


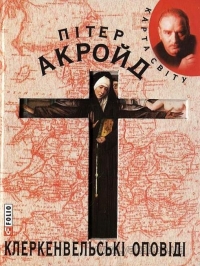
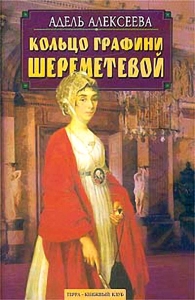




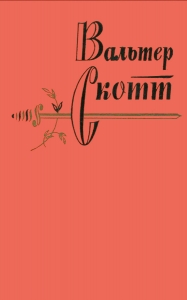
Комментарии к книге «Том 6. Черный город», Кальман Миксат
Всего 0 комментариев