Казнь. Генрих VIII
Энциклопедический словарь.
Изд. Брокгауза и Ефрона. Т. XV,
СПб., 1892
Генрих VIII (1491-1547) — английский король, сын Генриха VII, наследовавший отцу за смертью старшего брата, Артура. В качестве младшего сына, Генрих воспитывался для церкви и получил весьма разностороннее образование. В 1509 г. он вступил на престол и женился на вдове своего брата Екатерине Арагонской, дочери Фердинанда и Изабеллы. Царствование Генриха распадается на два периода, разделённых вопросом о разводе. События первого периода, когда правой рукой короля был кардинал Вольсей, связаны главным образом с войнами. Генрих присоединился к своим родственникам Фердинанду Испанскому и императору Максимилиану в их лиге против Франции. Хотя Генрих принял личное участие в кампании во Францию в 1513 г. и выиграл лёгкую «битву шпор» (близ Гюнегата), а его генерал Сэррей одержал над шотландцами великую победу при Флоддене, тем не менее война не привела к существенным результатам, и в 1514 г. Генрих заключил мир с Францией. С Франциском I, как и с Карлом V, Генрих на первых порах был в самых лучших отношениях, но его прельщала химера завоевания Франции, и он принял сторону Карла. В кампанию 1523 г. англичане подступили к Парижу на расстояние одиннадцати миль, но война не привела к прочным результатам. Народ стал тяготиться тяжёлыми налогами и грозил восстанием. После битвы при Павии (1525) Генрих, в интересах европейского равновесия, изменил традициям английской политики и заключил союз с Францией. Любовь к Анне Болейн и желание иметь наследника престола побудили Генриха искать развода с Екатериной Арагонской. В 1527 г. дело это было впервые формально представлено на рассмотрение Папы. Под сильным давлением племянника Екатерины, Карла V, Папа отказался дать решительный ответ и передал дело Вольсею и кардиналу Кампеджио. Кампеджио постарался ещё более затормозить его, пока оно опять не было потребовано в Рим (1529). Генрих стал принимать более решительные меры. От Папы он апеллировал к университетам. Вольсей был отставлен: на него взвалили всю вину неудачи. В том же 1529 г. был созван парламент и заседал без перерыва по 1536 г. В первый же год он уменьшил плату за утверждение завещаний и за погребение, требуемую церковью, запретил духовенству светские занятия, отнял у духовных лиц право занимать одновременно по нескольку приходов и запретил им абсентеизм. В 1531 г. духовенство подверглось обвинениям, от которых откупилось уплатой 118 000 фунтов и признанием короля верховным главою церкви. В 1532 г. злоупотребления так называемым benefit of clergy — то есть правом клириков в уголовных делах не подлежать светскому суду — были устранены, аннаты уничтожены, а конвокация отказалась от своей независимой законодательной власти. В следующем году Генрих женился на Анне Болейн. Папа стал грозить ему отлучением, после чего был издан «Акт об апелляциях», воспрещавший апелляции от английских церковных судов к Риму, а примас Кранмер объявил брак Генриха и Екатерины недействительным. В следующем, 1534 г. власть Папы в Англии была уничтожена и «Актом о верховенстве». Генрих был объявлен верховным главою английской церкви. Бывший канцлер Томас Мор и епископ Фишер за отказ признать этот акт были казнены (1535). В 1536 г. были составлены первые десять статей нового исповедания и был издан Акт о распущении малых монастырей, основанный на донесениях следственной комиссии. Таковы были меры первого реформационного парламента, проведённые Генрихом и его министром Кромвелем. Король восстановил против себя Папу и императора и серьёзно оскорбил чувства и предрассудки обширного класса своих подданных. Восстание в Ирландии было подавлено без большой трудности, но неудовольствие на севере, разразившееся восстанием «пилигримов Божьей милости» (1536), грозило большой опасностью, которая была предотвращена более благодаря умной политике Генриха, чем помощи грубой силы. Оппозиция на западе была подавлена казнью её вождей — маркиза Экзетера и лорда Монтэгью (1538). Преследуя строгих католиков, Генрих в то же время подавлял всякую смелость в нововведениях. «Билль о шести статьях», изданный в том же году, который видел окончательное упразднение монастырей (1539), показывает, что религия не рассматривалась как дело индивидуальной совести, но считалась национальным интересом, нарушение которого являлось уголовным преступлением. В одном только Лондоне пятьсот протестантов были обвинены на основании этого акта, признававшего пресуществление, причащение под одним видом, безбрачие духовенства, монашеские обеты, частные обедни и тайную исповедь. Последние годы царствования Генриха заняты войнами с Шотландией и Францией. После смерти Якова V Генрих старался устроить брак малолетней шотландской королевы со своим сыном Эдуардом, но план этот не удался. Война с Францией (1543-1546) была равно бесплодна. Внутри страны самым важным событием была борьба между двумя партиями: протестантской и консервативной, причём Норфольк и епископ Винчестерский Гардинер были вождями консервативной партии, а Кранмер и граф Гертфордский, дядя юного Эдуарда, стояли во главе партии протестантской. Кромвель пал ещё раньше — благодаря проискам консервативной партии, от нападений которой не были вполне безопасны Кранмер и даже королева. В конце царствования пострадали и консерваторы: Сэррэй был казнён, а Норфольк остался жив только благодаря смерти короля, последовавшей 28 января 1547 г. Генрих был женат шесть раз. Через несколько месяцев после смерти Екатерины Арагонской Анна Болейн была отправлена на эшафот, обвинённая в неверности. На другой же день после её казни Генрих женился на Иоанне Сеймур (1536). Родив Генриху сына Эдуарда, Иоанна скоро умерла. После этого Генрих женился на Анне Клевской, но она не понравилась королю и получила развод и пенсию. Место её заняла Екатерина Говард, казнённая в 1542 г. за неверность. В шестой раз король женился в 1543 г. на Екатерине Парр.
Глава первая ПРИКАЗ КОРОЛЯ
Солнце сияло, бросая в окна золотые лучи, плескаясь весёлыми лужами на каменных плитах чёрного пола.
В ближних церквях нестройно ударили первые колокола, разрывая утренний воздух жёстким металлическим звоном.
На широкой толстой груди короля лежала рыжая голова, и, тесно прижавшись, юная женщина согревала сладко спящее тело.
Генрих медленно просыпался, щурил от яркого света глаза, шевелил ленивыми пальцами тяжёлые волосы Анны, точно проверить хотел, здесь ли, с ним ли она, и вновь засыпал тревожным коротким сном.
В его снах бродили суровые тени. Знамёна, трубы, мечи. Они едва выступали из тьмы. Трубы трубили. Он звуков не слушал. Чёрные полотнища трепетали от сильного ветра. Сверкали мечи. Вдруг среди них из мрака встало лицо. Оно было тревожно и бледно. Он узнал в нём отца.
Спящий вздрогнул всем телом, несколько раз протяжно вздохнул, точно только что плакал во сне, глаза распахнулись.
Он помнил отца с малых лет. Часто, когда они оставались одни, отец брал его к себе на колени, обнимал за плечи, склонялся и говорил негромко, но резко:
«Я король. Ты мой сын. Даст Господь, ты тоже будешь королём, когда я умру. Тебе надо знать, чтобы не наделать беды, что в государстве все смуты возникают за должности и посты. Те, кто их имеет, жаждет любыми средствами их сохранить. Те, кто их не имеет, жаждет любыми средствами захватить. По этой причине всякий пост, всякая должность опасны. Их покупают за деньги. За обладание ими льют кровь. Должность короля выше всех. Моря крови пролиты за неё, и ещё прольются моря».
В лице отца была печаль, голос дрожал. Он тихо гладил головку ребёнка:
«Это было давно. Эдуард Плантагенет был девятым потомком Вильгельма Завоевателя, нашего общего предка, сын короля Эдуарда и инфанты Элеоноры Кастильской. Он по праву стал королём. У него было пятеро сыновей. Великое счастье для любого отца. Великое несчастье для короля и его королевства. Пять претендентов. Пять соперников. Причина для кровавой резни не одного поколения. Так и случилось. Никто из них не добился короны. Старший сын, Чёрный принц, прославился своими победами и пал на поле чести во Франции. Эдмунд Йорк был, как говорили, убит. К пятому, Томасу Глостеру, подослали наёмных убийц. И кто подослал? Его же племянник».
С каждым словом лицо отца становилось печальней, и Генрих начинал плакать, когда несмело взглядывал на него:
«После Эдуарда королём стал Ричард Второй, его старший внук, тогда ещё совсем мальчик. За него долго правил дядя его, Джон Гент Ланкастер. Верно, сам хотел занять его место, да не успел, умер не намного раньше, чем он. Ричард его пережил, затем был низложен и вскоре убит наёмным кинжалом, который был к нему подослан кузеном. Королём стал второй внук, Генрих Четвёртый, Ланкастер, тот самый кузен. Йорки, дети и внуки убитого Эдмунда, находили это несправедливым. Блеск короны их ослеплял. В сравнении с этим блеском благо королевства для них было ничто. Между Ланкастерами и Йорками развязалась война. Иногда прерываясь, она шла тридцать лет, потому что тех и других поддержали бароны. Эти шакалы, которые хотели иметь как можно больше земель и занимать первые места при дворе, не ведали ни жалости, ни страха, ни любви. Многие замки были разрушены. Сожжены деревни и фермы. Много знатных людей полегло, самый цвет английских вельмож. Два королевских рода оскудели в этой вражде и впали в ничтожество. Не менее сорока Ланкастеров и столько же Йорков сложили головы на поле сражения, были отравлены, зарезаны наёмным кинжалом или сгнили в глухом заточении. Короли, принцы, наследники трона».
Генрих страшился взглянуть на отца и только слышал, как голос его становился презрительным и суровым:
«Моя прапрабабушка Кэтрин Суинфорд считалась незаконной женой Джона Гента Ланкастера, хотя есть основания полагать, что брак между ними был освящён, но по каким-то причинам не предавался огласке. Правда, её потомкам это обстоятельство служило защитой, впрочем, ненадёжной и слабой. Бастарды лишь в исключительных случаях обладают правом наследования. Их опасаются только тогда, когда не остаётся прямого наследника. А в то время наследники исчезали один за другим. Мой отец, а твой дед, граф Ричмонд Эдмунд Тюдор, был женат на её правнучке Маргарите Бофор, в которой всё-таки текла королевская кровь, и потому был опасен как Йоркам, так и Ланкастерам, а когда я появился на свет, стал опасен вдвойне, ведь во мне тоже течёт королевская кровь, кровь Джона Гента Ланкастера. Я ещё не родился, когда умер отец. Мать была молода. Ей было четырнадцать лет. Кто мог меня защитить? Меня преследовали те и другие. Я начал скрываться, когда был таким же, как ты. Маленьким мальчиком я уже испытал жестокость заточения и горечь изгнания. Когда на короткое время мне удавалось вырваться на свободу, то приходилось скрываться, не имея денег и друзей. У меня была только честь и кое-какие права на престол. Меня поддерживал и охранял только мой дядя Джаспер Тюдор, граф Пемброк. Мне было одиннадцать лет, когда Йорки захватили меня и держали как арестанта. Слава богу, они не успели задушить или зарезать меня. Королём снова стал Генрих Шестой Ланкастер. Я мог жить на свободе, но очень недолго. Законный король был смещён, заточен и убит, когда мне исполнилось четырнадцать лет. Королём стал Эдуард Четвёртый Йорк. Дядя считал, что моей жизни угрожает опасность, ведь я оказался единственным потомком Джона Гента Ланкастера. Мы оба бежали во Францию, чтобы сохранить жизнь. Буря нам помешала. Наш корабль оказался в Бретани. Франсуа, тамошний герцог, старше меня всего лет на семь или восемь, принял нас, но как пленников, и долго держал в таком состоянии. К его чести, нужно признать, что он был добр. Я жил в его замке довольно свободно, стал говорить по-французски, знал наизусть французских поэтов, читал французские книги и слушал французскую музыку, французских певцов. За это я благодарен ему, но только за это».
В душе Генриха становилось тревожно и больно. Он прижимался к тёплому телу отца, закрывал от страха глаза и слушал, слушал как зачарованный, слушал так беспокойно и трепетно, что помнил каждое слово и часто видел кошмары во сне.
«Дяде не нравились мои увлечения. Он сажал меня на коня. Мы скакали вдоль берега моря. Наши лица обвевал свежий ветер. Он смеялся, оборачивался ко мне и кричал, когда мне удавалось с ним поравняться: «Хорошо! Хорошо!»; повторял, что английский король должен быть воином. Я не сразу поверил ему, но очень скоро понял, что дядя был прав. Судьба часто нас принуждает мечом добывать себе трон и мечом его охранять. Король без меча — либо изгнанный, либо мёртвый король. Я это стал понимать, когда мне исполнилось лет пятнадцать-шестнадцать. Сколько я видел, короли только и знали, что бились, во Франции, в Англии, всюду, за корону, за новые земли. Немногие сражались из удальства. Я стал учиться владеть мечом и копьём. Я был тогда молод и часто болел. Тело ещё не созрело, а меч был тяжёл, и доспехи пригибали к земле. Но дядя твердил, что медлить нельзя. Мне надо было спешить.
Он задремал, прижимаясь к тёплому телу отца, и видел его, невысокого, стройного, бледного, в золочёных доспехах, с двуручным мечом в обеих руках. Голос шелестел едва слышно, издалека, но ведь он помнил каждое слово:
«После первых успехов мы должны были возвратиться домой. У меня есть права. Я был обязан их отстоять. К тому же положение пленника было невыносимо. Дядя организовал наш побег. Где ему удалось достать денег, он мне не сказал, но нанял корабль. Корабль прятался в маленькой бухте, куда не заходили другие суда. Я лёг спать, как всегда, но не спал. Дядя тихо стукнул мне в дверь, один раз, потом два раза подряд. Я поднялся и выскользнул в коридор. Мы крались, как две тени. Мы не издавали ни звука. Часовой замка был, видимо, куплен. Вдали, за холмом, нас ждали верные слуги. Мы вскочили на лошадей и скоро были на корабле. Капитан тотчас приказал поднять якорь. Мы вышли в море и взяли курс на Уэльс. Там моя родина. Там у меня сторонники. Они ждали меня. Но не дождались. Буря во второй раз изменила мой путь. Несколько дней и ночей мы носились по воле ветра и волн и вновь очутились в Бретани. Герцог впал в гнев, по счастью, недолгий, но теперь по ночам к нашим покоям ставили стражу. Не знаю, что бы стало со мной. Ведь мы не властны в поступках. Господь решает за нас, кто мы и как должно поступать. Верно, буря была мне указанием свыше. Моё время ещё не пришло. Я должен был ждать лет пять или шесть. И вот что в особенности поразило меня и поражает теперь: сигнал пришёл не с той стороны, с которой его ждали».
Отец замолчал. Генрих пошевелился и застонал. Чья-то рука погладила его по щеке. Он прильнул к ней и затих.
«Тогда Глостер стал королём под именем Ричарда Третьего. Дядя всегда о нём говорил, что это чудовище. В самом деле, слухи ходили, упорные слухи, что он и родился не так, как рождаются все: ногами вперёд, и уже тогда у него были зубы. Он был сухорук и немного горбат, это я видел сам. Правда, невысокого роста, но довольно красив, с тонким и умным лицом, сражался как воин и знал толк в военном искусстве. Я думаю иногда, что он мог бы стать выдающимся королём, но Господь распорядился иначе. Он был верен брату и несколько раз выручал его из беды. И вот, не успел Эдуард Четвёртый, его брат, отойти в мир иной, как точно бес вселился в него. Его племянник должен был стать королём, но его в те дни не было в Лондоне, и ему ещё не исполнилось тринадцати лет. Какое-то время править за него должна была его мать, но её не любили. Она была в Лондоне и промедлила недели две или три с вызовом старшего сына, опасаясь, что толпа горожан не допустит его. Ричард этим воспользовался. Он поспешил в Лондон во главе сильного войска, которое составляли северные бароны, преданные ему. С ним встретились лорд Риверс и Ричард Грей, сопровождавшие наследника. Они хотели договориться. Но что они могли предложить? Вечером Ричард принял их вежливо, а утром арестовал, обвинив в том, что те намеревались отдалить от него короля. Надо отдать ему должное, он действовал быстро и смело, распустил свиту племянника, арестовал его офицеров и объявил, что займёт при нём должность протектора. Напротив, королева вела себя глупо. С младшим сыном и пятью дочерьми она укрылась в Вестминстере, полагая, что может быть там в безопасности, а её брат и сын захватили несколько кораблей и бежали, вместо того чтобы драться, пока Ричард ничего не решил. Он привёз Эдуарда в Лондон и колебался, собрал парламент. Парламентом был назначен день коронации. Вдруг Ричард отправил Эдуарда в Тауэр, отстранил канцлера Ротергема, архиепископа, привлёк на свою сторону герцога Бекингема и лорда Говарда, обещав наградить их землями неугодных вельмож. Не постеснялся пойти против женщины, собрал королевский совет и обвинил в колдовстве королеву; показывал руку и уверял, что это порчу она навела и повредила руку. Он задал вопрос, какой казни заслуживает эта колдунья, и когда ему ответили, что наказания, если только виновна, пришёл в ярость, вызвал охрану и арестовал всех, кому не мог доверять. Одного тут же обезглавили во дворе, остальных бросили в Тауэр. Вскоре брак королевы объявлен был недействительным, потому что прежде король был обручён с леди Толбот и ещё потому, что королева завлекла короля колдовством. Её детей объявили бастардами. Единственным претендентом стал Глостер. Собрали олдерменов и крикнули Глостера королём. Вместо парламента вызвали депутатов от всех сословий, своим актом отстранили принцев от престола и просили Глостера принять корону. Он принял и был коронован. Народ оставался спокойным и равнодушным. Король тотчас уехал из Лондона. В его отсутствие принцы пропали. Убийцей молва нарекла короля».
В этом месте отец всегда оживлялся, говорил громче, быстрее, и Генриху начинало казаться, что здесь таится что-то такое, что он должен запомнить на всю жизнь:
«Ричард совершил большую ошибку. Принцы уже не были опасны ему. Зачем проливать ненужную, лишнюю кровь? Это бывает необходимо, согласен, только прежде надо сто раз подумать о последствиях. Особенно если пролить кровь предстоит королю. Он совершил и другую ошибку, может быть, ещё худшую — не сдержал своего обещания. Герцог Бекингем не получил тех владений, которые хотел получить, а ведь лишь ради них он и встал на сторону Глостера. Герцог был оскорблён. Ему пришла в голову мысль женить меня на дочери короля Эдуарда. В этом браке соединялись Ланкастеры с Йорками, и вражда между ними могла прекратиться. Нам дали знать. Дядя встретил это предложение с одобрением. Мы стали готовиться к возвращению в милую Англию, но у нас почти не было денег. Всё-таки нам удалось выйти в море с горстью солдат, прибрежная стража была многочисленна и выказывала враждебность. Пришлось возвратиться, а заговор раскрыт и Бекингем был казнён на рыночной площади в Солсбери. Мало кто из баронов его поддержал, и они получили прощение. На Рождество был заключён договор о моём браке с той, которая родила тебя. Это укрепило мои права на престол, и герцог Бретонский решил меня поддержать. Его корабли перекрыли пролив. Торговля шерстью почти прекратилась. Ничего хуже для Англии и придумать нельзя. Начались волнения в лондонском Сити. Ричард решил купить герцога Франсуа, пообещав ему доходы с наших земель, если он выдаст меня. Франсуа колебался. Ричард вероломен. Доверять ему опасно. Меня спасли его колебания. Мне удалось бежать под защиту французского короля. Карл встретил меня дружелюбно. Королевский совет постановил выдать мне три тысячи, на которые я мог набрать солдат и снарядить корабли. Я был доверчив и от души благодарен ему, пока не узнал причины его дружелюбия. Видишь ли, сын, английские короли имеют права на французский престол. Чтобы они своим правом не пользовались, французские короли обязались ежегодно выплачивать им что-то около тридцати тысяч ливров. Наши междоусобия так ослабили нас, что они отказались платить. Карлу было выгодно дать мне в десять раз меньше, чтобы не платить в десять раз больше. Откажись Ричард от выплат, и он бы выдал меня, я думаю, с большим удовольствием. Я получил свой первый урок: никому нельзя доверять, ни на кого нельзя полагаться, достигать того, чего хочешь, нужно своими руками. Я также узнал, что в этом мире всё зависит от сведений, полученных вовремя, и от денег, которыми платят за верность. Без денег у короля не бывает друзей. Многие тогда бежали из Англии и собирались вокруг меня, но я скоро понял, что они не любили меня, а любили те блага и почести, которые вознамерились от меня получить. Я обещал и выполнил обещания. У меня было около двух тысяч солдат и несколько кораблей. Мы высадились в Милфорд-Хейвене. Я поднял знамёна Англии и Уэльса, потому что в Уэльсе была моя родина. Ко мне стекались сторонники. Вскоре я имел тысяч пять. Лорд Стенли поднял восстание и соединился со мной. С Ричардом мы встретились в поле у Босворта. В его рядах началась паника при нашей первой атаке. Ему подвели коня и предложили бежать. Он ответил, что умрёт королём Англии. Он сражался с бешенством и мастерством настоящего воина, пока его не сразил удар топора. Удар пришёлся по голове. Корона свалилась и закатилась в кусты. Тогда я единственный раз и видел его. В тот день, я думаю, он достоин был уважения. Тем временем корону нашли и возложили её на меня. Так я стал королём. Казна была пуста. Англия бедна и слаба».
Генрих пробормотал, просыпаясь ещё раз:
— Бедна и слаба...
Он расслышал, что теперь колокола били на всех колокольнях. Над городом стоял сплошной, стройный звон. В него изредка медленно, мерно, басисто вступал святой Павел и вновь замолкал.
Под этот хор пробуждался весь Лондон.
Генрих тоже проснулся, теперь окончательно, хотя его мысли ещё были во сне, и он недовольно, укоризненно прошептал:
— Беден... беден... и слаб...
Рыжая голова приподнялась у него на груди. Прямо на него блеснули озорные глаза. Анна улыбнулась и возразила:
— Мой повелитель здоров как бык и силён как медведь. Нынешней ночью он меня поразил.
Генрих долго смотрел на неё, не совсем понимая, о чём она говорит. Думал он совсем о другом, а когда понял её, произнёс угрюмо и строго:
— Сына роди.
Она засмеялась:
— А как же? Рожу! Клянусь, что рожу!
Он нахмурился, выпростал руки, отодвинул её и пробурчал:
— Не клянись, но роди.
Она свернулась клубком и стала его щекотать.
Он хлопнул в ладоши.
Дальняя дверь растворилась бесшумно. С поклоном вступил камергер:
— Кромвеля ко мне!
Камергер так же бесшумно исчез. В ту же минуту на его место выступил Кромвель, широкий и крепкий, в чёрном камзоле и в чёрных чулках.
— Что там?
— По-прежнему... Ничего...
— Пойди и скажи ещё раз.
— Ведь говорил... Три года уже...
— Иди!
Кромвель исчез, точно тень.
Генрих потянулся, собираясь вставать.
Анна вынырнула, весёлая, молодая, горячая, провела тонкой рукой по лицу:
— Попробуем, прямо сейчас...
Он с недоумением посмотрел на неё:
— Что?
Она смотрела игриво и тянулась губами к нему:
— Сына родить.
Он рассердился, оттолкнул её от себя:
— Ступай!
Она тотчас вскочила, прошлёпала босыми ногами и скрылась в узенькой дверце, которая вела в её спальню.
Глава вторая ИСПОЛНЕНИЕ
Они вошли, сурово и молча, гремя железом оружия в проёме тесных дверей, скребя по каменным плитам толстыми гвоздями подкованных башмаков. Томас Мор приподнялся на своём тюфяке, обхватив худые колени руками. В его усталых припухлых глазах мелькнула открытая радость. Они заметили её недоверчиво и удивлённо. Это были солдаты конвоя, одетые просто, тогда как Кромвель был необычайно разряжен. Синее шерстяное трико облегало кроткие крепкие ноги. Камзол фламандского бледно-жёлтого бархата ладно обхватывал ещё не заплывшую талию и не доходил до колен. Серебряная оторочка беспокойно мерцала на рукавах и груди. Золотая крупная цепь свисала с шеи чуть не до самого живота, на котором вздрагивал рыцарский орден. Пышный берет с кокетливо-радужным пёрышком боком сидел на круглой, как шар, голове.
Он понял: у Кромвеля нынче день торжества. По всей видимости, это угрожало ему наихудшим, но зловещая жгучая радость ещё не померкла. Эти люди не приходили к нему, как казалось, давно, надеясь обойтись без него. Должно быть, они высокомерно решили, что ни жизнь, ни смерть его уже не нужна. Мор начинал опасаться, что его навсегда замуруют в этой осклизлой от сырости каменной башне и он станет упрямо, бесплодно размышлять о своём, всё о своём, но уже никогда и ничем не сможет им помешать, пока не исстарится, не иссохнет в полном забвении, не лишится ума. Узник то раздражался, то с обречённым видом сидел у кона.
Неожиданно прервав его размышления, Кромвель выкрикнул торжественным голосом:
— Томас Мор!
Он повеселел от звуков этого ненавистного голоса. Рвущийся, высокий, победный, этот голос обещал что-то важное, может быть, ещё один поворот, так что пленник, обдумавши то, что скажут, сможет снова им помешать. Стало быть, продолжалась борьба. Стало быть, они не обошлись без него. Ему представлялась возможность ещё раз сказать своё слово или хотя бы молчанием сделать что-нибудь, даже отсюда что-то решить.
Голос Кромвеля звенел под каменным сводом:
— Именем короля!
Томас Мор плохо слушал ненасытные эти слова: и без того они были намертво выбиты в памяти. Для чего слушать, для чего повторять? И всё же они вошли, они снова это твердили ему. Может быть, здесь и таился какой-то нечаянный или задуманный смысл? Торопился понять, с какой целью Генрих прислал к нему Томаса Кромвеля, зорко и жадно вглядывался в него. Лицо Кромвеля было грубым и жирным. Самодовольно, повелительно, резко раскрывался плоский, жестокий, решительный рот. С ликованием бегали тёмные пуговки злобных, точно обрывистых глаз, жадно хватая быстрые буквы. Узловатые пальцы цепко держали зыбкий свиток пергамента. По бокам цепенела надёжная стража. Дымили багровые факелы. На длинных древках сверкали широкие топоры. На поясах тяжело обвисали мечи. Бородатый солдат в потемневшей тонкой кольчуге выглядел привычным и простодушным. Хмурое лицо молодого резал от глаза до подбородка ещё розовый шрам. Другой, единственный глаз глядел ненавидяще. Эта ненависть была непонятна. Он ничего плохого не сделал этому драчливому деревенскому парню. Он пытался его защитить. Томас Мор споткнулся на мысли об этом и внезапно отчётливо, слишком внятно расслышал:
— ...влачить по земле через все лондонское Сити в Тайберн, там повесить его так, чтобы он замучился до полусмерти, снять с петли, пока не умер, отрезать половые органы, вспороть живот, вырвать и сжечь внутренности, затем четвертовать и прибить по одной четверти тела над четырьмя воротами Сити, а голову выставить на лондонском мосту!
Сверкнув кровавым карбункулом, плотно втиснутым на указательный палец, Кромвель отпустил нижний край свитка так, что пергамент щёлкнул бичом и, сухо шипя, свернулся в тонкую трубку. Лицо Томаса Кромвеля сделалось ещё холодней, ещё надменней и злей. Пламя факелов потрескивало и трепетало в леденящей ужасом тишине. Даже в лицах солдат появилась угрюмость.
Тело Мора дрогнуло от муки безбрежной, уготованной ему королём, точно она уже свершалась над ним. Сердце убийственно сжалось. Однако узник остался спокоен и твёрд. Ему было ведомо уже третий год, что вызов, брошенный королю, грозит неминуемой гибелью. В сущности, так и должно было быть. Генрих — самодержец, только парламент может противоречить ему, но и парламент может быть им распущен. Таков английский закон. По складу своих убеждений Томас Мор и прежде неустанно готовился к смерти. Он её не боялся; боролся с решением короля, зная заранее, на что он идёт. И вот приговор, с какой-то стати вновь прочитанный Кромвелем, таил и смерть, и надежду, и нужна была холодная трезвость ума, чтобы понять, куда клонят они, снова выбрать и снова рискнуть головой: им, верно, что-то нужно ещё от него. Что-нибудь важное. Ибо то, на что они замахнулись, потрясает самое основание Англии: умы, хозяйство, отношения между людьми. Тогда оставалась возможность остановить. Может быть, остановить на самом краю.
Узник встал с тюфяка, потянулся всем телом и неторопливо опустился на табурет. Сидел с достоинством, прямо, спокойно и пристально глядя перед собой, а Кромвель, сын сукнодела, по застарелой привычке остался стоять перед ним. Томас взглянул на него с невольной усмешкой и ощутил превосходство своё уже оттого, что самодовольный, властный, победоносный преемник его на высшем посту не решился сесть перед ним, смещённым давно, давно не отдававшим никаких приказаний. Он вдруг показался себе не приговорённым, а зрителем и, позабыв о себе, с любопытством наблюдал человека. Даже взяв верх, в вожделенном, однако непредвиденном торжестве, с почти бескрайней властью в не знающих жалости хищных руках, человек оставался верным слугой. Только слугой. Не больше того.
Ещё в ранней юности Томас Мор пришёл к убеждению, что никто не родится ни прихвостнем, ни лакеем. Воспитан ли Кромвель годами тяжких лишений? Разнузданная ли жадность погубила его? Честолюбие ли ломало и гнуло? Это, в сущности, всё равно. Недостойный стоял перед ним. Мнимый владыка его головы. В нём вспыхнуло непримиримое, гневное озорство. Пленник дёрнул седую узкую бороду и небрежно, повелительно произнёс:
— Я разрешаю сесть вам, милорд.
Тело Кромвеля двинулось привычно, послушно. Униженная благодарность затлела в повлажневших глазах. Стражники растерянно искали второй табурет. Но сам Кромвель был умён, был силён, успел спохватиться и остался стоять, коренастый и плотный, с окаменевшим лицом. Колюче поглядел перед собой близко поставленными, злыми глазами. Только голос сорвался и выдал его:
— Вы ничего не поняли, мастер? Впрочем, как вам понять... Ведь вы образованный человек...
Поглаживая бороду привычным движением истончённой руки, Томас смотрел на него с сожалением и сосредоточенно ждал, какими напастями прислан тот его запугать, какими средствами наконец привести к покорности.
Моложав и крепок был Томас Кромвель. Служил когда-то солдатом, но не набрался рыцарской чести. Валял сукна. Давал деньги в рост. Приобрёл контору нотариуса. Нажил деньги, но не нажил щепетильности, чести, присущих ремесленникам и правоведам, слово которых нередко бывало надёжней расписки. Его дух искривился в жажде почестей и богатства, но тело и на сорок девятом году не утратило прочности. Мышцы ног, обтянутые тонким сукном, выпирали стальными буграми. Вся напряжённая, собранная фигура дышала нерастраченной физической силой. Слишком недавно дотянулся до милостей короля, и по напряжённому сильному телу можно было легко угадать, что ещё долго надеялся хватать эти милости на лету, жадно вкушая их пьянящую, терпкую сладость.
Мор усмехнулся, неожиданно и открыто.
Не отводя сверлящего взгляда, Кромвель отчеканил с угрозой, ткнув в его сторону стиснутым свитком:
— Вы страшитесь этого, мастер!
Он понял теперь, что означала эта уловка, и улыбнулся с презрением:
— Приговор я слышал в суде. Во второй раз это несколько скучно. Сейчас — всё равно.
Кромвель шагнул, точно хотел ударить, повторил зловеще, сумрачно, властно, заставив подумать, что испугался бы сам:
— Эти муки невыносимы. Даже для вас. Я обещаю.
Генрих знал, кого лучше прислать. В глазах многих король выглядел сумасбродным кутилой, неразборчивым бабником, самовластным, капризным, тупым, простачком. Думая так, многие не боялись его и надеялись легко обмануть. Кромвель был тоже из них и даже представить, должно быть, не мог, что всего лишь балаганная кукла в лукавых, умных руках короля, отправленная сюда как будто случайно, возможно, после нескольких стаканов вина и короткого сна. Послан зачем? Скорее всего разыграть перед ним простую, но втайне двуликую роль. На самом-то деле король был искусен, образован, дальновиден, разумен и очень опасен редким уменьем прятать от всех настоящую цель того, что делал и что говорил.
Пленник рассмеялся бедному Кромвелю прямо в лицо:
— Полно корчиться, Кромвель. Свою плоть я почти укротил многодневным постом, смирил её власяницей, каждое утро секу её сыромятным бичом. Не проволокут её и десяток шагов, как рассудок мой отлетит, и прочее свершится над бесчувственным телом. Чего мне, твоя милость, бояться?
Кромвель поднял ненужную руку со свитком и тут же её опустил. Должно быть, свиток мешал ему видеть близкую жертву. Испытующе поглядели они друг другу в глаза. Кромвель первым потупился и с угрозой сказал:
— Этим, мастер, не надо шутить!
Выходило: они его снова пугали, новым страхом они принуждали его уступить. Стало быть, никчёмная жизнь всё ещё оставалась в цене, её по-прежнему хотели купить, предлагая какую-то новую сделку. Он твёрдо, почти угрожающе произнёс:
— Я не шучу.
Кромвель отрезал словно бы с огорчением на мясистом лице, но с открытой ненавистью в хрипящем, пониженном голосе:
— И не шути. Ничего не осталось тебе, как молить короля о пощаде.
Этого Кромвель не должен бы был говорить: уловка становилась слишком заметной. Лучше бы Генриху прийти самому, Генрих не проговорился бы так откровенно, а у него была бы возможность в который раз объяснить, что с одними лакеями управлять государством нельзя. Генрих чуял это своим верным, искушённым в политике, изощрённым умом, иначе не стал бы с ним торговаться. Может быть, и догадался уже? Жаль, что не понял и, возможно, никогда не поймёт, что не всякий поддаётся постыдному страху и не всякого можно купить. По этой причине и подослал дурака, а у дураков даже нет надобности выведывать тайну, дураки ничего не таят про себя.
Томас Мор смерил Кромвеля долгим взглядом и разыграл удивление:
— Что нужно королю от готового к смерти?
Кромвель дёрнул плечом и напыщенно произнёс:
— Это знает только король!
Узнику припомнилась изящная латынь Цицерона и гордый обычай доблестных римлян. Улыбаясь небрежно, поднял руку, точно обнажал меч перед боем, и шутливо проговорил:
— Передай королю: Томас Мор, идущий на смерть, приветствует его.
Кромвель искривил губы в довольной улыбке. Рот приоткрылся, готовя, должно быть, дерзкий ответ. Только глаза метнулись от страха, и внезапно застыло лицо. Кромвель обернулся и сделал повелительный жест. Безусый воин шагнул поспешно к стене, разгоняя испуганные тени перед собой, и твёрдой рукой вставил факел в кольцо. Кромвель взмахнул ещё раз рукой и бросил:
— Там ждите!
Дверь послушно громыхнула железом, и они остались одни.
Томас Мор следил за ним и, улыбаясь язвительно, похвалил:
— Ты очень осторожен, твоя милость. Верно, многому научился, служа кардиналу Уолси.
Кромвель ответил небрежно:
— У вас тоже учился, мастер.
Он посмотрел с удивлением:
— У меня-то чему ты мог научиться?
Закинув голову, чтобы казаться выше, значительней себе самому, Кромвель провозгласил с угрозой и вызовом:
— Всему!
Тогда он спросил повелительно-громко:
— Зачем ты явился сюда?
Кромвель вздрогнул и почтительно вытянулся на миг, в напряжённом голосе промелькнули робость и сожаление:
— Это приказ.
Он отрезал:
— Ты исполнил его. Ты можешь идти.
Кромвель потупился и нехотя выдавил из себя:
— Есть люди, которые надеются на ваше раскаянье, мастер.
Он насмешливо переспросил, заменив одно слово другим:
— Чего хочет король от меня?
Кромвель потупился и нерешительно, осторожно сказал, покосившись на дверь:
— Вы, должно быть, нужны ему, мастер... и всё чепуха...
С дураками, к несчастью, тоже есть свои трудности. Зачем открывать то, что он сам давно угадал? Нечто тёмное оставалось в другом. Кто в нём нынче нуждался? Генрих или король? Скорей всего, конечно, король... Ведь в Англии неспокойно... Мало ли что... Правда, ещё надо проверить... И он, стараясь выглядеть ко всему равнодушным, напомнил, отчётливо разделяя слова:
— Король иногда называл меня своим другом.
Кромвель возразил, кривя тонкие губы:
— Что дружба? Пустые слова.
Он машинально поправил:
— У таких, как ты, даже меньше.
Кромвель подался вперёд. Ноздри его раздувались. Он раздражённо, веско проговорил:
— Он — король милостью Божией! Не забывайте этого, мастер! Особенно здесь!
Томас не считал нужным против этого возражать. Король милостью Божией — ведь это бесспорно. Бесспорно и то, что он сам всего лишь подданный короля. Он думал о том, что, видать по всему, в нём по-прежнему нуждался тот, кто был милостью Божией, в нём, своём подданном. Стало быть, на этом свете его удерживали дела государства. Какие дела? Неужели король страшится восстания, как только падёт его голова?
Словно бы огорчённый, словно бы ожидавший чего-то иного, он нахмурился и решительно молвил:
— Мне противна королевская милость.
Кромвель облегчённо вздохнул:
— За этим я и пришёл!
Он не спросил ни шутя, ни всерьёз, что нужно новому канцлеру от бывшего канцлера, приговорённого к смерти, ожидая на своём табурете, когда тот разболтается сам. Повисло молчание, долгое, странное. Оба не шевелились. Один стоял. Другой неподвижно сидел перед ним. Наконец Кромвель заговорил, зловеще, но тихо:
— Я, мастер, тоже знаю вам цену, не только король. Возможно, вы стоите всё ещё полкоролевства. В Англии нет равного вам по смелости и уму. Не знаю, как в других государствах. Я там не бывал. Вас долго любила удача. Если бы вы не изменили ей сами, она бы вам оставалась верна и теперь. Я это знаю. Знаю и то, что вдвоём нам тесно в королевских покоях.
Он равнодушно кивнул:
— Ты прав. Очень гадко жить рядом с подобной канальей.
Кромвель стиснул сильные челюсти, сжал тяжёлые кулаки, готовый броситься на него.
Томас Мор вдруг соблазнился и чуть не подставил себя под удар, вероятно, смертельный. Одним разом покончить теперь, чтобы целый день и ещё целую долгую ночь не ждать обречённо, томительно обещанных пыток, но тут же опомнился, отстранил бесчестную мысль и властным взглядом взглянул на врага. Он не имел права позволить себе умереть понапрасну. Его жизнь была ставкой в опасной и сложной игре, в которой решалась судьба веры и судьба государства. Выбранил себя за ненужную дерзость, ведь он ничем бы не смог себя защитить, улыбнулся, непринуждённо и весело:
— Про себя и ты иначе не называешь меня.
Кромвель опомнился тотчас, грузно сел на скамью, широко расставил мускулистые ноги, толстыми ладонями опёрся о колени и с дружелюбной угрозой сказал:
— Не шутите, мастер, со мной. Я бы мог вас убить, и завтра во всех концах государства отслужат благодарственные молебны: я прикажу прославить меня как спасителя короля и отечества от происков дьявола, как героя или святого, что мне заблагорассудится выбрать для развлечения. Но этого лучше не делать. Я всё-таки хочу посмотреть, как искусный палач вспорет вам брюхо ножом и примется мотать из него потроха себе на кулак. Сможете ли, мастер, шутить и тогда?
Мор внутренне вздрогнул, представив мысленно эту картину и окровавленный этот кулак, поросший рыжей щетиной, и негромко сказал:
— Да поможет мне Бог.
Кромвель зло рассмеялся:
— Наш Бог не поможет тебе, ведь ты отступил от него. Ты завопишь от боли и ужаса. Ради такого прекрасного зрелища я потерплю один день и одну ночь.
Он покачал головой:
— Ну нет, ты ничего не услышишь.
Если у него так мало времени, то Кромвель своей болтовнёй его отнимал. Томас Мор повелительно посмотрел на него, надеясь, что тот передал всё, что было приказано или, может быть, брошено невзначай, насладился своей властью над пленником и оставил его наконец одного. Напрасно. Кромвель тяжело и угрюмо уставился в угол, не то всё ещё сдерживая себя, не то ещё пуще распаляясь от жажды мести, до того болезненно, хищно были стиснуты челюсти, даже толстые вены обозначились на висках.
Тогда узник сказал:
— Томас Кромвель, тебе пора уходить.
Тот вздрогнул, резко поворотился к собеседнику и выдохнул ненавидяще, зло:
— Нет, не пора, ещё не пора, Томас Мор!
Жажда мести и злость были естественны, понятны в таком человеке, который только что с самого низу поднялся на самый верх: нищие духом так жестоко глумятся над тем, кто повержен, и так гибко сгибаются перед тем, кто силён. Он лишён был возможности помешать издевательству. В его положении негодовать, даже просто сердиться было бы глупо. О Томасе Кромвеле думал без злости и мстить ему не хотел. Конечно, не мог не видеть в этом разряженном выскочке подлеца, но этот подлец был из обыкновенных и мелких, они всегда увиваются подле власти. Кромвель поддался соблазну. Посты и богатство ему застилали глаза, как они застилали глаза и другим, чуть ли не всем, среди которых были и хуже, были и лучше, чем он. Так должно быть всегда, пока существуют государство и деньги. Если уж ненавидеть, так ненавидеть эти извечные источники зла, а Кромвель сам по себе ненависти не заслужил.
Вперемешку размышлял о деле, которое ещё не было кончено. Он своей жизнью не дорожил и надеялся без сожалений, без слёз в любое время с ней распрощаться, как подобает разумному человеку с нравственным законом в душе, но крепко держался всегда за неё. Почему? Единственно потому, что служил свою службу своему Богу и этому самому государству, которое было в его представлении источником зла. Иногда надеялся, что именно ему суждено приблизить хотя бы на шаг то огромное, то важное понимание жизни, что избавило бы смертных от рокового соблазна.
Слушая Кромвеля, с особенной остротой, с горькой, болезненной ясностью всем своим сосредоточенным существом понимал, что ему нужно жить, что жить ему непременно необходимо, то есть необходимо не уступать и пытаться выиграть даже теперь, после нового, такого странного чтения приговора суда. Иных желаний уже не было. Принуждая себя смиряться с докучливым присутствием этого добровольного грешника, просчитывал, какова вероятность того, что, несмотря ни на что, останется жить. Вероятность была худа и скупа. Почти ничего. Едва тлевшийся уголёк от большого костра. Король явным образом намерен был пойти до конца, и Кромвель прямо сказал, что потерпит всего один день и одну ночь. Сомневаться было бы нелепо. Там, разумеется, обдумано всё, всё решено. Привычный к делу палач уже готовит нож и секиру.
Но король не в первый раз угрожал ему казнью и всё-таки в последний момент отступал уже несколько раз. Причин его колебаниям нашлось бы довольно, пожалуй, вполне достаточно для того, чтобы ещё какое-то время сохранять ему жизнь, хотя ни одна из причин не принадлежала к разряду благородных и чистых. Нелегко казнить друга, как Генрих в самом деле его иногда называл, обхватив за плечо своей тяжёлой рукой, полуискренне, полушутя. Подобные чувства могли быть у него, могли и не быть. Не они всякий раз принуждали короля отступать: в политике доброты не бывает, а Генрих был настоящий политик, что бы ни говорили о нём, своенравный, но могучий король.
Намного трудней отсечь голову бывшему канцлеру, который имел поддержку парламента. За ним не числилось обыкновенного воровства. Тем более он не был замешан ни в какую государственную измену, в которой обвинили его. Всякая власть должна быть справедливой хотя бы по виду. Разумный правитель обязан считаться с законом. И уж совсем нелегко искромсать человека, в котором гуманисты Европы видели лучшее украшение Англии. Эразм говорил, что общение с ним было слаще всего, что в жизни, богатой дарами, довелось отведать ему.
Эразм, Эразм... не всегда надёжный, но искренний друг...
Стало быть, украшение Англии заманчивей приручить, как европейские государи приручили Эразма. Тогда многие, очень многие, по примеру его, покорятся безмолвно. Эту истину король знает твёрдо, тогда как последствия казни рассчитать едва ли возможно. Мученик неудобен, мученик опасен для власти.
Может быть, именно в этих колебаниях короля его единственный шанс...
Обхватив плечи лёгкими, худыми руками, сжавшись на табурете в комок, невольно похожий на петуха, взлетевшего на насест, Томас Мор отрешённо вглядывался перед собой и видел смутно, размыто почернелые стены, слабый свет из окна, дымный огонь факела и пёстрого человека на тюремной, грубо сколоченной скамье. В сущности, перед ним была почти тень, которая подавалась вперёд, левая рука напряжённо вцепилась в колено, правая теребила округлый жиреющий подбородок, и озлобленный голос звучал от этого глуше:
— Не сомневаюсь, мастер, что вы не уступите, не станете уступать. Другой на моём месте стал бы вас склонять к примирению, но я не стану столь опрометчиво отнимать добычу у палача. Теперь вас ничто не спасёт. Ещё день, ещё ночь...
Что ж, больше никогда он не увидит ни короля, ни Эразма. Одна только мысль его остаётся свободной, ещё день, ещё ночь, если бы не этот безмозглый дурак. Ещё можно, сидя здесь, в одиночестве, взаперти, много часов проспорить с Эразмом или выбрать другую, не менее интересную тему для размышлений.
Но при чём тут Эразм?..
Он открыл глаза и пренебрежительно, с откровенным неудовольствием взглянул на докучного гостя, кричавшего что-то, чего он не разобрал. Перед ним качался, двигался, извивался пышный фламандский берет, бархатный жёлтый камзол, под которым теперь угадывалась броня, точно он мог покуситься на самую жизнь этого вестника смерти, и одиноко скучающий орден, теперь сместившийся с живота и повисший между ногами.
Невольно подумал об этой дурацкой погремушке, ради которой Томас Кромвель верой и правдой служил королю. Не из гуманности, не из чести. Просто почести любил человек, впрочем, ещё больше деньги. Красовался, гордился наградой, не стоившей, в сущности, ничего, кроме, конечно, того, что стоили золото и драгоценные камни, пошедшие на то, чтобы изготовить его. Ведь не забыл нацепить знак своего возвышения, отправляясь сюда, в эти безлюдные стены, видимо, для того, чтобы ослепить и унизить своим величием несчастного узника, да в гневе забылся, присел так небрежно, что цепь опустилась чуть ниже обычного, и орден, редчайший из всех орденов, теперь выглядел предосудительно и смешно.
Его удивляло всегда, каким странным образом могли обманываться многие из людей, будто привешенная к груди фигурка из золота и камней может свидетельствовать о достоинстве человека, которому пожаловал эту фигурку другой человек. Сколько уж раз в этом мире выказывалось ничтожество почестей, а иная награда...
Он вдруг оборвал себя, испуганно и смущённо. Как и зачем он забрёл в эти невинные дебри? Это всё вздор, пустяки, погремушки ума. Теперь эти мысли не стоили ничего. В последний день, в последнюю ночь думать обязан он о другом. Проклятый болтун!.. Болтуном, разумеется, обозвал он себя самого, но тотчас расслышал, как перед ним возбуждённо и громко разглагольствовал не в меру разряженный Кромвель, при других обстоятельствах всегда одевавшийся скромно, в чёрный костюм, без единого украшения, говоривший о благочестии и бескорыстии помыслов. Он так здесь мешал, что Томас Мор от него отвернулся.
Тоже пыжится доказать... скорее себе, чем другим... звуки пустые...
Припомнил, что размышлял перед тем об Эразме, потому что подумал о короле. В самом деле, именно по этой причине, быть может, он всё ещё жив... Но почему?.. Это по-прежнему оставалось загадкой. Он ломал над ней голову много дней и ночей. Едва ли был смысл ломать над ней голову нынче, попробовал снова думать о Кромвеле. Этого несчастного было даже несколько жаль.
Он пригляделся к нему повнимательней. Физиономия Кромвеля выражала уверенность, что решительно всё станется так, как он сам себе предрекал в самозабвенной, непрерывавшейся речи. Возможно, в мыслях Своих Кромвель уже правил страной как хотел. А он видел, что того поджидала беда. Король самовластен и вспыльчив, но жуликов и хапуг до глубины души ненавидит и долго рядом с собой не может терпеть. Кромвель же своекорыстен и глуп, как торговка на рынке. Впрочем, понятно, ведь сам он бывший торгаш. Едва ли сумеет остановиться хотя бы на середине. Они все таковы. Без нравственного закона в душе. Несдобровать ему, когда попадётся. Генрих бывает неумолим в праведном гневе. Может быть, вдруг всё-таки понял, кого на кого решил променять?..
Ему стало горько и грустно, захотелось предостеречь самодовольного негодяя, и он почти с сожалением произнёс:
— Да, ты какое-то время будешь занимать моё место, но последуешь за мной слишком скоро. Кто-то сменит тебя?
Кромвель продолжал, точно не слышал его:
— Я одного не пойму. Как вы, мастер, вы, мудрейший из смертных, как сплошь и рядом судачат вокруг, могли совершить роковую ошибку? Как не могли прогреть простейшую истину, что королям не перечат, что ослушников время от времени отправляют на плаху? Нет, я, Томас Кромвель, такой ошибки не совершу! Я не стану прекословить монарху ни в чём! Пусть верует, что всё в королевстве свершается его единственной волей. Уже теперь он делает то, чего хочу я, не подозревая об этом. В сущности, мастер, с самодержцами так просто! Они не мешают, если с ними обращаться умело. Нам мешают такие, как вы. Вот вы завтра уйдёте с дороги — и я сделаюсь повелителем Англии. Я всех заставлю покориться воле моей, только моей. Скуплю земли, заведу мастерские, воздвигну дворцы, и подвалы мои наполнятся золотом. Я буду царствовать, мастер! Перестрою весь мир! Я, бывший солдат, а не вы, набитый учёностью, святой человек! Вы не смогли, но хотели всё изменить, я-то знаю, меня не обманешь, уж нет! Чую я, чутьё у меня! А вот я изменю, не по-вашему, дудки, и королю будет казаться, что всё это делает он, ха-ха-ха!
В его безумных пророчествах слышалось что-то обидное, горькое, хуже, Отвратительней смерти, которая караулила его за стеной. Ведь изменит, изменит, подлец. Так изменит, что люди станут друг другу хуже волков. Да, Мор всё мечтал изменить. Не сразу, конечно, ведь человек меняется медленно. Человек может и должен стать лучше, а для этого человеку вера нужна, чистая вера, как заповедал Христос. У него вся жизнь на это ушла. В его жизни корыстного не было ничего, разве только семья. На свои прихоти не тратил ни денег, ни времени. Разве что на сон и еду. Душу вкладывал и когда писал и когда служил королю, принял высшую власть лишь для того, чтобы что-нибудь изменить. И уже начал менять, чтобы на первый случай сдвинулось что-то, возможность наметилась иных перемен, поколебались своекорыстие, эгоизм, отступили хотя бы на шаг. Верил, что поколеблется и отступит потом, что этого ему не увидеть ни сегодня, ни завтра. Много времени на это уйдёт. Может быть, тысяча лет. И тут явился этот подлец. Цель его жизни — только он сам, и Томас Кромвель действительно готов перестроить весь мир, единственно ради того, чтобы подняться над всеми. Жалкий, безмозглый болтун. Иначе он о Кромвеле думать не мог, но что-то скребло и смущало его. Какое-то жуткое поднималось сомнение. Чужой голос тихо, но твёрдо шептал, что изменит, изменит надолго, может быть, навсегда. И он против воли грубо спросил:
— Что изменишь ты, Томас Кромвель?
Тот выкрикнул высокомерно, непоколебимо, твёрдо:
— Всё!
И выбросил руку вперёд, стиснув пальцы в костистый кулак:
— Я разрушу старую веру в Христа! Пусть они примут мою! Я сделаю нищими владельцев земель и богатств! Я отдам земли тем, кому захочу! Владеть будет тот, кто силён, предприимчив, умён, кто не остановится ни перед чем! Это будет новая справедливость и новая жизнь!
Томас Мор слушал внимательно, хотя все эти мысли, жажда и страсть были знакомы ему. Отнять и забрать! В этой жажде земель и богатств не всё звучало пустым хвастовством, и вера переменялась уже, и в монастырских хранилищах уже шарили жадные руки, и передать богатства и земли другим было довольно легко. На это, во всяком случае, Томаса Кромвеля хватит, только досталась бы полная, абсолютная власть. Ненадолго. На несколько лет. И Англию не узнать.
Его поражало всегда, что на первый взгляд все желают как будто одного и того же. Кого ни послушай, всем наш грешный мир не мил, не хорош, не просторен, не добр, не справедлив. Все хотели бы разрушить до основания старый порядок, испепелить несогласных и создать новый порядок вещей, непохожий на прежний, удобный, добрый, справедливый, но не для всех, а только для них, для сильных, для умных, для тех, кто не остановится ни перед чем. Почти все, по правде сказать. Дворяне захватывали земли крестьян, крестьяне хотели отнять их у дворян. То же бродяги, суконщики, коммерсанты, арматоры, владельцы домов. Все хотели разрушить, чтобы отнять у другого, взять себе и устроить по-новому свою жизнь, без мысли о том, что будет с другим. И вот мир, такой переменчивый, обновлённый уже столько раз, терпеливый и вечный, остаётся таким же, как был, с тем же злом, с той же несправедливостью, с той же враждой, с той же жаждой разрушить и захватить. Без сомнения, Томас Кромвель многое, если не всё, переставит на другие места, как было очевидно и то, что он сам ничего переменить не сумел, не успел. С мечтой о другой справедливости, о братской, истинной христианской любви прожил всю жизнь, и в его неудаче была какая-то ужасная тайна. Угрюмо спросил:
— А ежели это не удастся тебе?
Кромвель презрительно ухмыльнулся в ответ:
— Удастся, мастер, удастся наверняка! Не по-вашему стану я действовать, нет!
Как станет действовать, было известно. Тем не менее по какой-то причине разговор становился всё интересней. Мор поспешно спросил:
— Зачем тебе это? Растолкуй мне, зачем?
Глаза Кромвеля сверкнули зелёным огнём:
— Вам, мастер, этого не понять! Ваша жизнь была проторённой и чистой, не то что моя! Меня топтали всю жизнь, топтал всякий, кто имел деньги и власть. Каждый день я терпел унижения. Меня оскорбляли, оскорбляли молча, без малейшего зла на меня, лишь потому, что я принадлежал к другому сословию, не имел власти, был беднее других. И вот, когда всё в этом мире я устрою по-новому, увидят тогда, кто есть Томас Кромвель, бывший солдат!
Узник понимал, что в этих грязных мечтах не было ничего, кроме пошлого эгоизма, оскорблённого глубокого самолюбия и вражды к тем, кого он боялся всю вою жизнь: возьмут — и посадят, захотят — и убьют, и это угнетало его. Мыслитель тотчас представил себе, сколько бед натворит, сколько крови прольёт, сколько оставит нищих, бродяг и сирот этот бывший солдат, чтобы всё иметь и командовать самому. Вероятней всего, станет командовать, отнимет, возьмёт, отдаст тем, кто поддержит его, пустит по миру сотни тысяч людей. Что же утешит его перед смертью? Разве только то, что Томас Кромвель не успеет натешиться вволю, его убьют как собаку или повесит король. Мор повторил почти зло:
— Короли не надёжны, и недолго придётся мне ждать тебя в Царстве небесном.
Усмехнулся и ядовито прибавил:
— Если тебя пустят туда!
Кромвель вскочил. С грохотом повалилась скамья. Дверь растворилась со скрежетом. В проёме запуталась оторопелая стража. Кромвель бешено крикнул, оборотившись назад:
— Вон отсюда! Кому говорят!
Солдаты, испуганно торопясь, кое-как выбрались задом и осторожно прихлопнули железную дверь. Кромвель согнулся, хрипло шепча, брызжа горячей слюной:
— Нет, мастер, не-е-ет! Жизнь справедлива! Я верю! Я знаю наверняка! Есть закон: жизнь уступает лишь тем, кто не гнушается замарать свои руки в крови!
Мор переспросил, отстраняясь:
— В крови?!
Кромвель захохотал:
— Эх вы, неженка, чистоплюй! Да, мастер, в крови! Это страшный закон, но закон! Оттого и слёзы людские, и обиды, и боль!
У него стало нехорошо на душе.
— Нет, я не боялся замарать своих рук...
Кромвель спросил, хохоча:
— Помилуйте, мастер, разве вы умрёте за то, что ваши руки по локоть в крови?
Он содрогнулся, хмуро ответил:
— Эту честь я оставляю тебе.
Кромвель удовлетворённо воскликнул:
— Вот почему вы должны умереть! Как можно скорей!
Пленник посмотрел на него с сожалением и напомнил:
— Ты тоже умрёшь, даже если станешь по горло п крови.
Кромвель отмахнулся беспечно:
— Полно, мастер, пугать! Я не умру!
Мор тихо напомнил старую, но забытую истину:
— Все умирают. Даже великие. Что ж говорить о богатых и властных.
Кромвель испуганно отшатнулся и не возразил ничего.
Тогда Мор спокойно утешил его:
— Успокойся, я умру на день раньше тебя, если тебе эта мелочь приятна.
Кромвель нервно, коротко хохотнул:
— Вот то-то и есть! Мне это приятно! Я счастлив!
Собеседник с сожалением посмотрел на него:
— Рад услужить тебе, Томас Кромвель, хоть этим.
И прежние мысли воротились внезапно, и Мор отчаянно вопрошал, отчего негодяй остаётся лить кровь, а он, не замаравший в крови своих рук, прежде времени должен свалиться в могилу? Разве не лучше было бы для земли и людей, если бы раньше хоть на день ушёл негодяй? Им горько, им круто придётся от торжества тех, цель которых — переменить владельцев земель и богатств. А тогда — прочему?!
Больно и скорбно становилось ему, но боль и скорбь вызвал не этот угрюмо-ненужный вопрос, а лишь то, что ответы давно и недвусмысленно знал, так они были очевидны и просты. В сущности, мыслитель обречён с первого шага, который был сделан юношей семнадцати или восемнадцати лет, если не раньше. Не смотреть бы, не видеть, не знать ничего! Быть слепым и наивным, как Кромвель! Не понимать! Но видел, понимал. Видел и понимал, что именно так самовластно управляло людьми, какие желания двигали ими, не сомневался, что Кромвель останется, а прежде времени в могилу свалится он, что Томас Кромвель последует за ним очень скоро, а там новый Кромвель, ещё и ещё, ибо несокрушимая сила таилась в жадности человека. Всё было удивительно просто: человек жаден и по этой причине деньги, земли, дома испокон веку владеют людьми, отнимая разум, отнимая совесть и честь.
Внезапно Томас поднялся, оттолкнув табурет, и стремительно зашагал вдоль стены, не представляя, не понимая того, куда идёт, когда, в сущности, некуда было идти. Шагов через пять очутился в дальнем углу и едва не ударился лбом о камень стены, но успел повернуться — скорей по инстинкту, и встал, опустив голову, сложив руки крестом на груди. Его узкие плечи обвисли. Худое лицо потемнело. Бледные губы шевелились и вздрагивали. В горле сипело и клокотало. Глаза не видели ничего. В мозгу стучало без всякого смысла одно и то же:
«Деньги, земли, дома... деньги, земли, дома... ещё власть... власть над людьми... чёрт бы их всех побрал!..»
Душили гнев и бессилие. Положил все силы ума, но всё оставалось, как было, а он уходил прежде времени и не мог не уйти. Об этом лучше не думать, ему надлежало отринуть, оттолкнуть от себя искушение, но, должно быть, угадал, и в этот день, в эту ночь решалась жизнь его или смерть, и если ему предоставлялся этот единственный шанс, предстояло обдумать, как этим шансом воспользоваться, а проклятые деньги, земли, власть и дома продолжали стучать в голове, не оставляя его. Хотелось прогнать их. Зачем? Почему?
Взглянул на Кромвеля из угла. Должно быть, его пророчества и насмешки вывели наконец того из себя. Ярость, обида и страх туманили и без того некрепкую голову, а чувство близкой победы заглушало привычную осторожность и скрытность. Томас Кромвель грозил кулаком, сминая крепкими пальцами уже перекрученный снятый берет, и бешено метался по каменной келье, натыкаясь на скудную мебель, отшвырнув ногой некстати подвернувшийся табурет. Смешно было видеть, как тупо будущий владыка вселенной мотал круглой, как шар, головой, отбрасывая всклоченные пряди волос. Тягостно смотреть, как низменно выражал свои смятенные чувства слабодушный, на крови людской всходивший тиран. Было жутко сознавать, какие страшные силы уже вздыбились в этом ограниченном, необразованном и безнравственном человеке, который не сможет успокоиться до тех пор, пока эти силы не разовьются в нём до предела и сами не сожгут, не погубят себя. Жажда власти, жажда денег, домов и земель — им только один есть предел...
А в ушах бился истошный, истерический крик:
— К чёрту паршивых метателей! К чёрту пророков братства и равенства во Христе! Всем сверну шею я, Томас Кромвель, внук мужика, сын простого ремесленника! Я стану бичом Божиим, секирой, костром и верёвкой! Я стану судить не дела, не слова, не мысли, потому что ни дел, ни слов, ни мыслей, мне не угодных, отныне не будет! Я стану судить за отсутствие мыслей и дел, потому что все должны думать и делать, как я! Я стану судить за молчание, потому что в молчании тоже кроется бунт! Я дам верёвку бродягам, вольнодумцев брошу на плаху, еретиков пошлю на костёр! Я разорю монастыри и вышвырну на свалку святыни! Я переплавлю дароносицы в слитки, сожгу мощи святых, разгоню попов и монахов, если им будет дарована жизнь! Жить останутся только те, кто следует за своим повелителем и прославляет его имя в веках! Этим я швырну кое-что из церковных имуществ. Вот увидите, они завопят от восторга, величая меня вождём, мудрейшим из мудрых, творцом благодати, светом вселенной и богом своим или чем я захочу, лишь бы я кинул им кусок пожирней! Люди жаждут добычи. Люди враждуют из-за неё. Сытые довольны всегда. И я ни перед чем не остановлюсь ради сытости тех, кто пойдёт со мной и восславит меня как героя! А ты тем временем станешь гнить. И сгниёшь. И даже гнусное имя твоё позабудется через полгода, как я прикажу!
Мор понимал, что так и будет, знал, что есть человек, но у него не было злобы на Томаса Кромвеля. Тоска адская, жгучая сокрушала его, наполняя душу всё плотнее, всё гуще, как зимний морозный склизлый туман. Отвращение к жизни мутило его. Не к своей личной, маленькой жизни, которую всё же любил и терять не хотел, но с которой уже готов был расстаться без особенных мук, тем более без смешных сожалений. Нет, ко всей этой близкой, любимой, омерзительной, глупой жизни людей, обманутых, обманувших себя. Он был уже стар, чтобы плакать, и потому солёные слёзы не облегчали его душу. Тяжёлые мысли тянулись неотвязно, неотразимо, отравляя его, наполняя недобрыми чувствами, недостойными и чужими. И они доставляли ему коварное, как он понимал, наслаждение.
Речи Томаса Кромвеля не поколебали его убеждений. Злосчастие таилось не в этих хвастливых, но верных речах. Он глубоко проник в капризную, неблагодарную, искажённую эгоизмом натуру людей. В этом знании было всё горе, была вся мука его. Всю свою жизнь наталкивался на каждом шагу на дьявольское могущество власти, денег, земель и домов. Одна мысль о них, одно желание иметь как можно больше, не зная предела, приводило в бешенство даже порядочных, даже разумных, даже владевших, казалось, несчётными знаниями. Никто не спасался от их двусмысленной, опьяняющей власти. Эта власть неуклонно, невидимо разъедала совесть и честь, как зелёная тля на зелёном листе, до тех пор, пока от чести и совести оставалось только название, одни пустые слова, ибо власть человека над человеком, деньги, земли, дома ценились выше достоинства, выше ума. От них исходила необоримая, капитальная, чародейская сила. Они доставляли блага, почести, спокойствие и радости жизни. По их количествам и размерам отмерялись уважение и почёт. Они возвеличивали, возносили. Они пенс за пенсом, гектар за гектаром, метр за метром, точно камень на камнем, строили вокруг человека незримые стены, становясь всё неодолимей, всё уютней, теплей и дороже. Они представлялись стенами храма, в котором человек был хозяин и сам себе бог. Сквозь эти стены проступали всего лишь тени других, тех, кто владел меньшим количеством власти, денег, земель и домов, и это были ничтожные и враждебные тени, достойные только презрения, зависти или уничтожения, так что, глядя на них, человек становился собственным монументом, которому поклонялся украшал всем, чем мог.
Так беспредельно, ненасытно рос эгоизм, и наконец ради власти, денег, земель и домов человек позволял себе всё, так что в его глазах становились смешны добродетели, если никто не платит за них, а пороки приносят вознаграждение. Так ложился ещё один камень в незримую стену вожделенного храма, в котором прощали себе всякий грех, включая и преступление. Уже никто не мог видеть себя виноватым, если имел власть, деньги, земли, дома. Так отмирала, терялась способность судить себя самого по законам Христа, осуждать за грехи, становиться лучше и чище, ибо в собственности растворялось представление о пороке, а нравственностью становилась безнравственность.
Возведённый храм превращался в тюрьму. В тюрьму духа и мысли. В тюрьму для братской, истинно христианской любви. Жизнь обращалась в одиночное заточение, где никто не существовал для другого, как завещал человеку Христос. Очень трудно бывало в этой невольной тюрьме. Злоба овладевала, тоска. Враги со всех сторон обступали её, желая отобрать, присвоить себе. Но уже прикован был к этой тюрьме человек цепями корысти и уходить по своей воли из тюрьмы не хотел. Унижения. Зависть. Обиды. Страдания. Кровь.
А ему представлялось, как только в нём пробудилось сознание, что выбраться из этой тюрьмы легко и возможно. Легко и возможно устроить иначе. Уничтожьте собственность и сообща владейте имуществом. Перестаньте весь мир делить на моё и твоё. Восстаньте людьми, какими их видел Христос. С чуткой совестью.
С рыцарской честью. С благородством души. С любовью к ближнему. С милосердием ко всем, кто живёт на земле.
Тогда падёт добровольное заточение, где вы страдаете от страха, от зависти, от вражды. Вы перестанете пить кровь того, кто мало имеет, и проливать кровь того, кто имеет больше, чем вы. Порок перестанет соблазнять и манить. Не станет нужды воровать и обманывать, ибо без денег, без владения землёй и домами не украдёшь, краденого не сбудешь, не станешь убивать, чтобы владеть. В душах умрёт презрение к ближнему, ибо презирают лишь тех, у кого не имеется ни денег, ни земель, ни домов, а ненавидят лишь тех, кто вознёсся выше тебя, и нельзя не любить и ближних и дальних, если все равны и все братья между собой.
Так очевидно. Так просто. Понять эту истину может любой. Нужна только ясная, чистая вера в Христа.
И верил в Христа, жил так, как заповедал Христос, пример подавал; не спешил, понемногу очищал веру в Христа, запачканную жаждой богатства даже у тех, кто молился Ему и проповедовал веру в Него; мешал тем, кто, как Кромвель, хотел отобрать и на месте неравенства, жестокости и вражды воздвигнуть новое неравенство, новую жестокость и новую ненависть и вражду. И за это ждала его смерть. Никого не винил, не проклинал тех, кто приговорил его к смерти. Но продолжал удивляться, отчего его мысль о равенстве и братской любви, которая прямо вытекает из заповедей Христа, не находит отклика в сердцах христиан, почему она всем, кто клянётся, что верит в Христа, и действительно верит в Христа, представляется нелепой и дикой. Они клянутся, что верят в Христа, и действительно верят в Христа и топчут друг друга, лишают ближнего чести и хлеба, сеют разрушение и смерть, живут в страхе друг перед другом и продолжают мечтать о собственном доме, о собственной власти, о собственных доходах и землях, о собственном благополучии, которое всегда оборачивается неблагополучием для других. Только о себе, о своём, когда все мы братья, все мы равны во Христе. Никого не винил, не проповедовал кровь и насилие. Они были слепы. Ему надлежало их вразумить. Не смог, не успел. И потому им на погибель призывается Кромвель. Ему придётся уйти, себя не жалел, страдал, что его мысль о благоразумной, добропорядочной, глубоко нравственной жизни без денег, без собственности, без презренного «моё» и «твоё», может быть, будет забыта людьми, надолго забыта, но всё-таки верил, что не навсегда.
И Томас Мор впервые с ненавистью взглянул на Томаса Кромвеля. Его глаза кололи, как иглы. Зубы стиснулись. Напряглись кулаки. Отвращение сменялось бессмысленным бешенством. Кромвель опомнился и умолк. Быть может, ощутил на себе его взгляд. Быть может, вдруг вспомнил, что за этими стенами его ожидали дела: ещё не всё отобрал и украл, не всех перевешал, под топор палача отправил не всех. Томас Мор шагнул, точно мёртвая тишина внезапно толкнула его. Томас Кромвель оправил волосы, приладил берет и презрительно бросил от самых дверей:
— До завтра, мастер. Надеюсь, вы не уступите королю.
Ответил почти машинально:
— Прощай и будь готов к скорой встрече со мной.
Томас Кромвель больше ничего не сказал. Только взвизгнула дверь и простучали, удаляясь, шаги.
Глава третья АББАТСТВО
Генрих шёл тяжёлой походкой тучного человека, свернул на женскую половину, чтобы выйти из дворца незаметно. На нём была одежда простого солдата. Вдруг дверь приоткрылась и женская рука в чём-то розовом схватила его и втащила к себе. Фрейлина Анны прильнула к нему и подставила жадные губы. Поцеловал их несколько раз с наслаждением, но отстранил её и сказал:
— Потом. Я спешу.
Свернул ещё несколько раз и вышел на задний двор через малоприметную дверь. Под старым дубом слуга держал под уздцы жеребца. Жеребец был сытый, золотисто-коричневый, крупный, с чёрной гривой и чёрным хвостом, с крепкими ногами и широким задом. Слуга подержал кованое, высоко подвязанное стремя и помог господину вставить сапог. Генрих тяжело поднялся в седло. Жеребец повернулся к нему, сверкнул злыми глазами, попытался взбрыкнуть и сбросить седока, но не смог: король был слишком тяжёл и для него. Генриху нравился его норов. Он засмеялся и тронул повод. Жеребец взял с места рысью. За ним из тени вышел конвой на гнедых лошадях, всего пять человек вместо шести. Генрих ехал за старшего.
Всадники выбрались из королевского парка дальней калиткой, проскакали узкой тропинкой и пошли крупной рысью проезжей дорогой. Издали можно было подумать, что это обычная стража.
Генрих любил такие прогулки. Отец посадил его на коня, когда ему было пять лет, как в этом же возрасте посадил отца дядя. Мальчик освоился сразу, точно родился верхом. Его не пришлось поощрять, поскакал за отцом, легко догнал и стал перегонять. Отец щурился, улыбался и сказал несколько раз, что он молодец.
Это было счастливое время. С возрастом всё реже видел отца. Наследником был Артур, старший брат, болезненный ребёнок. Он должен был стать королём. Отец редко отпускал его от себя и рано стал посвящать в дела королевства. Генриху предназначалась иная судьба. Он должен был стать богословом. Ему предстояло сделать карьеру архиепископа и кардинала и стать помощником брата. Отец сдал его на руки учителям и предоставил свободу.
Он оставался верен своим французским пристрастиям и подобрал учителей, преданных новым течениям, идущим из Франции, в свою очередь проникшим туда из Италии. Первым и главным учителем был Вильям Блаунт, четвёртый лорд Маунтджой, старше его лет на двенадцать-тринадцать, и они очень скоро стали друзьями.
Лорд Маунтджой был учеником Эразма из Роттердама, верным и страстным, состоял с учителем в дружеской переписке и очень скоро через него познакомился с лучшими умами Европы. Блаунт решил, по их совету и наущению, воспитать Генриха, так, как уже было принято воспитывать принцев во Франции и в Италии. Под его руководством ему предстояло стать свободомыслящим и всесторонне образованным человеком.
Разумеется, прежде всего он должен был говорить по-латыни, ведь ему предстояло общаться с отцами церкви и с самим Римским Папой, от которого когда-нибудь должен был получить кардинальскую шапку. Без труда овладел классическим языком и полюбил римских писателей, в особенности Вергилия и Цицерона, а его настольной книгой стали жизнеописания римских цезарей, которым юноша хотел подражать.
Учитель был им доволен и нередко наставлял:
— Время досуга проводи недосужно.
И:
— Хотя бы то время, которое оставляют тебе другие заботы и необходимые для жизни дела, с великой пользой присвой и употреби на то, в чём способна раскрыться твоя одарённость. Нет ничего более пригодного и подходящего для приобретения благонравия и добродетелей, чем усердное чтение древних писателей.
Сам учитель в свободное время читал и переводил и ему не оставлял ни минуты на праздность. Его обучали игре на лютне и на спинете, прививали истинную страсть к физическим упражнениям. Благодаря этому отрок быстро превращался в мужчину, выносливого и крепкого, стал прекрасным кавалеристом, лучником и одним из лучших игроков в мяч.
После латыни не составляло большого труда изучить языки ближайших соседей, без которых тоже обойтись было нельзя: французский, испанский и итальянский.
Затем надлежало с должным тщанием изучить богословие, хотя в его время это уже было необязательно, ведь архиепископами и кардиналами становились вполне светские люди знатных фамилий, благодаря родственным связям или за деньги, не говорившие по-латыни, не читавшие даже Евангелия.
Лорд Маунтджой осуждал этот новый обычай, почитал своим долгом сделать из своего ученика будущее светило католической церкви. Понятно, что к старому богословию, в основе которого лежала схоластика, ученик Эразма относился с презрением. Блаунт был сторонником и другом новых, либеральных учёных, они уже появились в Европе и в Англии.
Они работали в Оксфорде, все были учениками Эразма. Джон Колет, по общему мнению, был их главой. Вокруг него собирались передовые умы. Среди них, безусловно, первое место принадлежало Томасу Мору. К этим двоим присоединились Джон Фишер, епископ Уорхэм и Кранмер.
Джон Колет был человеком богатым и набожным, был посвящён в духовное звание и отправился в Рим, надеясь укрепить свою веру в самом источнике веры, но жестоко ошибся. Его добрые чувства были оскорблены. Родриго Борджиа стал Папой под именем Александра Шестого, подкупив большинство кардиналов. Своих противников устранял кинжалом и ядом, присваивал имущество богатых и знатных, а церковные должности продавал, как торговка на рынке. Из отвращения к разврату первосвященника Колет отправился во Флоренцию, где проповедовал Джироламо Савонарола, желавший возрождения поруганной церкви и добродетели. Во Флоренции изучал греческий язык и греческую литературу, находя, что это новое знание позволяет яснее и глубже проникать в каждое слово Спасителя; привёз в Англию идею возрождения церкви и сочинения новейших итальянских учёных, которые писали на обновлённой латыни, найденной ими у Цицерона. Колет приступил к толкованию Посланий апостола Павла так, как будто знакомился с ними впервые, не считая нужным заглядывать в труды богословов. Каждый верующий должен укреплять свою веру чтением Библии, а не её толкователей:
Придерживайтесь Евангелия и Посланий апостолов, а диспуты предоставьте вести богословам.
Ему и в голову не приходило относиться критически к вероисповеданию. Как и его друзья, он был убеждён, что в фундаменте веры нельзя тронуть даже песчинку. Его приводило в негодование нравственное ничтожество духовенства. Он просил Иисуса Христа омыть не только ноги, но и руки и главу Его церкви, обрушивался на корыстолюбие, невежество и безделье. Ему возражали, что и апостол Павел принимал добровольные даяния для пострадавших от голода в Иудее. Колет подчёркивал, что это были добровольные приношения, тогда как современное духовенство вымогает плату чуть не за каждое слово, произнесённое в храме, и прибегает к насилию, собирая церковную десятину; напоминал, что как раз апостол Павел советовал Тимофею убегать сребролюбия и преуспевать в правде, благочестии, терпении, кротости и любви, о чём современное духовенство как будто забыло; ставил на вид, что апостол работал своими руками, чтобы не давать повода обвинению в корыстолюбии и не вводить ближних в соблазн. А что современное духовенство? Оно не только вводит в соблазн, но и предаётся спорам и пререканиям о мирских делах и своих выгодах. В его среде немало прелатов, которые не страшатся приступить к алтарю прямо из объятий блудницы. Даже в епископском сане немало таких, что пребывают в крайнем невежестве. И слишком многие ставят себе главной заслугой и целью защищать мирские права и громадные владения церкви. Проповедник говорил так ясно и просто, что толпы слушателей стекались к нему, и не было в Лондоне доктора богословия или прелата, который хотя бы раз не послушал его, хотя Колет не имел и не хотел иметь учёные степени.
Его ближайшим сподвижником стал Томас Мор. Мыслитель прочитал сочинения Пико делла Мирандолы, изданные в Болонье и привезённые в Англию Колетом, и был изумлён глубиной учёности и благочестия неизвестного итальянца. С энтузиазмом бросился изучать его достойную подражания жизнь и переводить его сочинения на английский язык, выпустил в свет его биографию и «Двенадцать правил Джона Пико графа Мирандолы» и дополнил их своими суждениями «Двенадцать орудий духовной битвы, которые каждый должен иметь в руках, когда на ум приходит греховный соблазн наслаждения».
Оба учили, что церковь больна. Её духовные начала отчасти забыты, отчасти находятся втуне, погибают под гнетом роскоши, расточительства и разврата, которому бесстыдно предаются высшие церковные власти, начиная с самого Римского Папы, кончая последним монахом, который пьянствует и распутничает в своей келье не только с женщинами, но и с мужчинами. Оба проповедовали новое благочестие, в основание которого должна быть положена высокая нравственность первоначального христианства.
Им в помощь лорд Маунтджой вызвал Эразма, тот скитался бездомным странником из города в город, хотя ему уже перевалило за тридцать. Он увидел человечка крохотного и хилого, с бледной, болезненной кожей, с блёклыми тонкими волосами, с острым носом на птичьем лице. Человечку всегда и везде было холодно, несмотря на плотную полумонашескую одежду, отороченную дорогим мехом. Маленькие глазки глядели сонно и почти всегда были полуприкрыты, точно Эразм скрывал от всех свои мысли. Голос его был так слаб, что пропадал на открытом пространстве, казалось, от дуновения ветра. Болезни со всех сторон осаждали его. Он был рождён для безделья, для лени, для вечного отдыха под жарким солнцем на берегу тёплого моря или для бесконечных страданий в больничной палате. Было невероятно поверить, что в этом хилом теле таится неистощимый, вечно стремящийся к истине дух. Эразм спал четыре часа. Остальные двадцать часов проходили в неустанном труде. Философ либо читал, либо писал, либо беседовал. Читал и писал в любом месте, даже когда ехал верхом. Его познания были необозримы. Казалось, он прочитал все книги или памфлеты, познакомился со всеми изобретениями и открытиями, написал письма всем образованным людям Европы, получил от них письма и ответил на них; всё осмыслил и понял, всё изложил так красиво и ясно, что нельзя было не зачитываться, нельзя было не заслушиваться тем, что он пишет и говорит. В Англии этот вечный бродяга внезапно попал в общество близких по духу людей. Его друзьями стали Колет и Мор. Он признавался слабым голосом:
— Ещё нигде мне не было так хорошо. У вас климат здоровый, приятный. У вас культура и учёность лишены педантизма. Образованность, как греческая, так и латинская, безукоризненна. Я почти перестал стремиться в Италию, хотя там, говорят, имеются вещи, которые бы следовало увидеть своими глазами. Когда я слушаю моего друга Колета, мне представляется, будто я слышу Платона. Я более чем уверен, что природа никогда не рождала более добрую, нежную и счастливую душу, чем Томас Мор.
Эразма поразили толкования Колета и навели на мысль обновить и выверить перевод Библии, где обнаруживались чудовищные ошибки. Он пришёл в восхищение от «Двенадцати орудий духовной битвы, которые каждый должен иметь в руках, когда на ум приходит греховный соблазн наслаждения», и не только задумал, но и начал писать своё «Оружие христианского воина». Этих людей связало единомыслие. К ним присоединились Уорхэм и Фишер. Они поставили себе цель своими проповедями, своими трудами очистить человеческий ум от схоластики, а церковь от распущенности и алчности накопительства; утверждали новую нравственность, которая была бы основана на любви к Богу и к ближнему; мечтали соединить всё человечество в одно единое общество, где должны бы были торжествовать братская любовь и веротерпимость.
В этом кружке Генрих изучал богословие и полюбил наслаждения ума почти так же, как наслаждения тела. Он был благодарен им за те знания, которое от них получил, и за тепло, с которым они к нему относились, возлагая на него большие надежды. Монарх предложил Эразму кафедру профессора в Кембридже, перевёл Колета старшим проповедником при соборе Святого Павла, а Томаса Мора назначил помощником лондонского шерифа; намеревался править справедливо и весело. Балы, маскарады, турниры следовали один за другим. Придворные лорды скоро стали осыпать его жалобами, что несут непосильные траты на покупку бархата, бриллиантов, золотых украшений и породистых лошадей. Что ж, Генрих не скупился. Отец оставил ему два миллиона. Его по праву считали самым богатым монархом Европы. Ему ничего не стоило выдавать своим придворным пожалованья и делать дорогие подарки. Они благодарили с глубоким поклоном и любили его. Деньги текли, но Генрих их не жалел. Потом случилась небольшая война. Он вдруг обнаружил, что казна его почти опустела, вызвал старого казначея, служившего при отце, и спросил, каким образом тогда наполнялась казна. Старый казначей не нашёл нужным скрывать, что меры принимались сомнительные или прямо бесчестные. Имения изменников были конфискованы в первый же год его восшествия на престол. Права отца, как известно, были довольно сомнительны, и против него было устроено несколько заговоров с намерением свергнуть его. Заговоры были раскрыты или провалились сами собой. Отец не страдал жаждой крови и обычно оставлял заговорщикам жизнь, однако принуждал её выкупать, и суммы выкупа были значительны, даже чрезмерны. Покойный также не обнаруживал жажды воинской славы, тем не менее время от времени объявлял, что враг не дремлет, что неизбежна война и что необходимо готовиться к ней. Парламент, отчасти в испуге, отчасти в ожидании новых приобретений, одобрял субсидии на войну. Война могла быть, а могла и не быть, но субсидии собирались неумолимо даже спустя много лет после заключения мира. Кардинал Мортон, исполнявший при отце должность канцлера, выдумал интересный закон, который стали называть «вилкой Мортона». Закон был остроумен и прост: кто много тратит, тот очень богат и потому должен платить большие налоги, а кто мало тратит, тот свои богатства скрывает, стало быть, налоги с него надо брать ещё больше. «Вилка Мортона» действовала безукоризненно. Всё-таки отцу было мало. Время от времени он требовал от своих подданных добровольных пожертвований, которые были, само собой разумеется, обязательны. Однажды граф Оксфорд принял короля с необыкновенно роскошным гостеприимством. Отец улыбался, благодарил и, садясь на коня, с той же милой улыбкой уведомил графа, что его посетит королевский прокурор, возможно, на днях, и граф немедленно выложил десять тысяч футов стерлингов за нарушение устава о ливреях. Монарх обнаружил, что в смутное время междоусобиц многие города потеряли свои привилегии. Города жаловались, просили вернуть. Он возвращал, если города могли заплатить. В довершение его финансовый гений дошёл до того, что в казначействе по его повелению обрезали золотую монету, отчего монета теряла в цене и торговые люди терпели убытки. Казначей качал седой головой и улыбался доброй улыбкой: может быть, всё это нехорошо, да ведь иначе вам не досталось бы двух миллионов.
Генриха поразили эти секреты, прежде ему неизвестные. Воспитанный такими людьми, как лорд Маунтджой, Колет, Мор и Эразм, он и подумать не мог, чтобы вернуться к финансовым мерам отца. Вымогать деньги у лордов? Обрезать золотую монету? Возвратиться к остроумным рассуждениям Мортона о тех, кто тратит много или тратит мало? Нет, нет и нет. Он обратился к парламенту. Представители нации очень доступно растолковали ему, что было бы верхом несправедливости повысить подати, поскольку масса народа и без того живёт в нищете, что было бы верхом недальновидности повысить пошлины на вывоз английских товаров, поскольку они подорожают и на континенте не станут их покупать, и что было бы другим верхом недальновидности понизить ввозные пошлины, поскольку испанские, французские, фламандские товары станут дешевле и вытеснят с английского рынка самих англичан. Генрих был хорошо образован и не мог этой истины не понять. Всё было верно, а казна оставалась пустой. Все жаждали послаблений, отсрочек и привилегий. Привилегии нужны были лордам, чтобы блистать при дворе. Привилегии были нужны городам, чтобы суконщики, торговцы и финансисты не только бы не терпели убытков, а имели прибыль. Сельские хозяева тоже хлопотали о привилегиях, в противном случае, толковали они, шерсть и мясо не разойдутся на рынке. Привилегий требовали даже пираты: они хотели грабить на океанских просторах, но не хотели, чтобы их вздёргивали за это на рею. И самое непостижимое обнаружилось в том, что все запаслись привилегиями, даже морские разбойники. Привилегий не было только у короля. Казна наполнялась на половину потребностей, даже на треть. О двух миллионах, которые сумел ему оставить отец, оставалось только мечтать. Самодержец становился всё бедней и бедней, и это, похоже, очень нравилось подданным, поскольку богатый король управляет страной, а бедным королём управляет страна.
Очень скоро догадался, что управляют не идеи, не принципы, не убеждения, как он постоянно слышал от учителя и его учёных друзей, а деньги, что вовремя понял отец. Что же в таком случае идеи, принципы, убеждения? Их придерживаются, пока они выгодны. Их меняют, когда они приносят убытки. Отец был кругом прав, когда говорил, что у всех цель одна: стать выше всех и богаче всех. А потому и монарх, чтобы править благополучно и долго, должен стать всех богаче.
Ветер дул в спину и нёс пыль, поднятую копытами лошадей. Пыль забивалась в ноздри. Генрих чихнул несколько раз и очнулся от своих размышлений. Дорога шла прямо. Сухая погода стояла несколько дней. Он толкнул жеребца. Тот недовольно оскалился, но послушно оставил дорогу, поскакал лугом и стал подниматься на холм. На лугу паслись овцы, серые, крупные, с маленькими головками и с толстой шерстью, которую, как он теперь знал, неохотно покупали в Европе. Пастух опирался на посох и, как видно, дремал. Две сторожевые собаки, одинаково чёрные, с белыми ожерельями на шеях и на хвостах, с злобным лаем бросились вслед. Генрих не обернулся. Солдаты конвоя придержали лошадей и плетьми отогнали разъярённых собак. Собаки отстали, всё ещё злобно рыча.
Генрих остановился на вершине холма. Со склона спускалась дубовая роща, сильно поредевшая с тех пор, как видел её. За ней поднимались башни монастыря. Всадник тронул поводья. Жеребец двинулся, мягко ступая по густой зелёной траве. Среди дубов там и здесь торчали широкие пни. На каждом из них он мог бы усадить спой конвой. За дубовой рощей он вдруг обнаружил молодые стройные сосенки, насаженные так густо, что их пришлось объезжать. Монастырь открылся за поворотом, массивный, тяжёлый, из серого камня, мрачный даже на солнце, заложенный на берегу тихой речки лет триста назад, в знак покаяния, когда король Генрих Второй вынужден был пойти на уступки Римскому Папе.
Генрих въехал в ворота, распахнутые настежь. Въездная дорога не убиралась несколько месяцев. Боковые аллеи монастырского парка запущены. Направо от входа стояла часовня. Её стрельчатые окна были не мыты. Прежде над входом стояла Мадонна. Теперь она была сброшена и разбита.
Монастырь охраняли солдаты, в касках с гребнями, в латах, с красными лицами и с туманом в глазах.
Король спешился, оставил конвой и вошёл. Его шаги гулко раздавались под высокими сводами. Пол был затоптан. В глаза бросались следы запустения. Прошёл коридором, на стенах которого проступали старинные фрески. По сбитым ступеням крутой каменной лестницы, идущей винтом, спустился в мрачный подвал. Вдоль стены от дверей пылало несколько факелов. В глубине в их трепещущем свете проступали громадные винные бочки, каждая на пятьсот вёдер, может быть больше. На передней балке блок. С него спускалась верёвка. На верёвке был подвешен аббат, старый, толстый, обнажённый по пояс. Помощник Томаса Кромвеля, присланный вести следствие, сидел за столом и что-то писал при свете толстой восковой монастырской свечи. Генрих сел на скамью у стены. Следователь вскочил и, забыв о приветствии, громко сказал:
— Упорствует. Не выдаёт.
Аббат висел низко. Руки были вывернуты назад. Босые почернелые ноги почти касались грязного пола. Голова свесилась. Тройной подбородок складками лежал на жирной груди. Лицо было усталым, но всё ещё круглым.
Генрих спросил:
— Хорошее вино?
Аббат разлепил пересохшие губы и чуть слышно сказал:
— Нравится... солдатам... твоим...
— Испанское или французское?
— Французское.
— Прекрасный вкус.
— Для причастия... паломников... прихожан...
— Им оно обходится раз в двадцать дороже. Отличный доход.
— Братии на воду и хлеб.
— И с волоса святого Петра?
— И с него.
— Боже мой, сколько же у бедняги было волос! Если не каждый монастырь кормится его волосами, то каждый второй.
— Он был святой.
— И кусочек креста, на котором распяли Христа? Я думаю, это не крест, а целая дубовая роща.
— Это чудо.
— Мои учителя рассказывали мне кое-что.
— Плохие учителя... еретики...
— И твоя икона излечивает больных?
— Не всегда.
— Только когда тебе надо?
— Бывает, чудо свершается само по себе.
— Тоже немалый доход.
— Монастырь обходится дорого.
— И потому тебе платят за все: за погребения, за крестины, за свадьбы, за исповедь.
— Платят они добровольно.
— Не совсем, ведь без благословения нельзя ни хоронить, ни родить, ни жениться.
— На то воля Господа... не моя...
— А дубы?
— Какие дубы?
— Роща твоя поредела.
— Много строится кораблей.
— Где же ты прячешь деньги?
— У меня ничего нет.
— Да, ты беден, как крыса. У братии общее всё. Об этом я тоже слыхал.
— Так заповедал Христос.
— Где же казна?
— Она не моя и не твоя.
— Ты прав, она не твоя. Но почему не моя?
— Она монастырская, общая. Была здесь и останется здесь. Я могу висеть, пока не умру.
Генрих сказал:
— Опустите его.
Подручный дёрнул конец, распустил узел и осторожно ослабил верёвку, пока ноги аббата не коснулись каменных плит, и снова её закрепил, чтобы аббат мог стоять.
Генрих сказал:
— Теперь не висишь. Где же казна?
Аббат потянулся, расправляя застывшее тело, скривился от боли и промолчал, как будто не мог говорить.
Генрих внимательно посмотрел на него и приказал:
— Дайте вина.
Следователь вскочил, нацедил полную кружку и протянул её королю. Генрих поморщился:
— Не мне, а ему.
Аббат сделал несколько жадных глотков и остановился, видимо не желая пьянеть. Монарх с одобрением посмотрел на него:
— Теперь говори.
Аббат облизнул влажные губы, вздохнул глубоко и уже ясным голосом возразил:
— Нескажу.
— Почему?
— Деньги братии. Ты не имеешь права на них.
— Я король.
— Платить тебе я не обязан.
— Ведь ты платишь Римскому Папе.
— Он глава церкви.
— Меня признал главой церкви парламент.
— Парламент мне не указ.
— Не король. Не парламент. Кто же тогда?
— Папа и епископ, назначенный им, но не ты.
— Однако ты подданный английского короля!
— Нет, я подданный Римского Папы! Только его! Никому другому я не обязан служить!
— А Господу?
— И Господу тоже.
Генрих сделал повелительный жест:
— Поднимите его.
Подручный схватил верёвку, резко дёрнул её. Аббата точно подбросило вверх, но не высоко. Почерневшие пальцы ног слегка касались каменных плит.
— Довольно. Ты выводишь меня из терпения. Где твои деньги?
Аббат кривился от боли в вывихнутых руках, но молчал.
— Где твои деньги?
— У меня нет ничего.
Генрих махнул, и аббата подняли выше.
— Где твои деньги?
Из расширенных глаз несчастного выкатились две слёзы.
— Где твои деньги?
Молчание выводило короля из себя. Он вскочил на ноги и закричал:
— Хорошо! Я уйду! Палач возьмёт паклю, вымочит в масле, положит на темя тебе и подожжёт. Так вы пытаете еретиков. Посмотрим, понравится ли это тебе.
Лицо аббата исказилось от ужаса. Он прохрипел:
— Хорошо. Я скажу.
— Опустите его. Говори.
— В моей келье... Фреска на задней стене... Рожденье Христа... Справа из ясель на Спасителя смотрит бычок... Нажмите на рог...
Следователь вскочил и крикнул солдат. По ступеням лестницы застучали их сапоги.
Генрих презрительно усмехнулся:
— Вот видишь, как это просто. И чего было мучить себя! В самом деле, служи Господу, а не золотому тельцу.
Медленно поднялся по лестнице, прошёл коридором и вышел во двор. Солнце сияло. Шумели старые липы. Было тепло и легко. Сел на скамью и сидел неподвижно, не думая ни о чём. Только сердце неровно билось. Так прошло с полчаса. Следователь вышел и доложил:
— Золота в слитках и утвари на глаз фунтов до ста. Серебра, тоже на глаз, фунтов четыреста или пятьсот. Алмазы, изумруды, опалы надо считать.
Генрих поднялся, тяжело и неловко:
— Считайте...
Пошёл к жеребцу, стоявшему у коновязи. Сам отвязал повод. Сам поднялся в седло. Пробормотал:
— Господу служит... Терпеть не могу...
Ссутулился и толкнул жеребца. За ним потянулся конвой.
Они выехали из монастырского парка, миновали сосновый лесок и въехали в дубовую рощу. Под старым дубом стоял спокойно и стройно олень. Здесь право охоты принадлежало монахам. Те охотились редко, и всадники не испугали оленя.
Генрих оживился, обернулся, вытянул правую руку. Начальник конвоя дал шпоры коню, подскочил, подал, зная привычки своего повелителя, лук и стрелу. Король быстро и ловко натянул тетиву, стрела коротко свистнула, олень вздрогнул, пал на колени и медленно завалился на бок. Генрих точно проснулся, поглядел на животное с сожалением и поскакал.
Глава четвёртая ВЫБОР
Томас Мор опустился на корточки и прислонился к стене, изнемождённый, истощённый душой, цепенел, обмирал, ничего не видел перед собой. Пламя факела, забытого Кромвелем, почти не достигало узника. По застылому худому лицу бродили бледные отсветы. Оно было сосредоточенным и угрюмым. Глаза не мигая глядели перед собой в черноту. Чернота расплывалась, медленно двигалась, точно кружилась, покрывая все предметы вокруг то распадавшейся, то непроницаемой пеленой. Временами он вдруг выходил из тупого оцепенения, вспоминая о том, что ещё не ушёл, что, покуда он жив, для Томаса Кромвеля не будет простора. Ради этого было необходимо остаться, и оправданной представлялась любая цена. Тогда глаза его испуганно расширялись, что-то различая в прорехи распадавшейся пелены, рот удивлённо, расслабленно раскрывался, часто и со свистом втягивая в себя промозглый, точно негнущийся воздух.
Так вздыхал несколько раз и вдруг принимался думать о том, что Томас Кромвель послан был королём, иначе быть не могло, а если так было, он ещё успел бы попросить о помиловании. Рано ликовал Томас Кромвель, хладнокровный убийца: он бы остался, что-нибудь сделал бы, чтобы остановить новую кровь и новый разбой. Но если попросит помилования, станет себя презирать, ему будет нечем и незачем жить. И вновь глаза упирались в непроглядную черноту, губы плотно сжимались, грубо проваливаясь в углах, выражая то ли бессилие духа, то ли презрение ко всему.
И вдруг усмехался брезгливо, нехорошо, подумав о том, что нужна, ещё, должно быть, нужна его жизнь.
Для чего?
И вновь хватал склизлый негнущийся воздух распахнутым ртом.
Так сидел на корточках, опираясь привычно на пятки, как сиживал часто, погружаясь в раздумье. Когда же ноги затекали, шевелился бездумно, тоже привычно, вытягивал их, не ощущая удовольствия затихающей боли, и опускался на каменный пол, запрокинувши голову, прижимаясь затылком к стене. Мерзким холодом тянуло от каменных плит. Сыростью стены постепенно набухала одежда, потерявшая форму от долгого заточения.
Да, в этом было всё дело: испросив милость у короля, сохранил бы только жизнь тела, но стал бы предателем себя самого, подлецом и по этой причине таким же слабым, таким же податливым и бессильным, как неё, кто давно уже предал и продал себя; был бы унижен и презрен, презирал бы себя. Какой соблазнительный был бы пример... Очищение церкви? Истинно христианское благочестие? Мечтанья о равенстве, о братской, истинно христианской любви? Всё тогда было бы вздор...
Факел вдруг зашипел, задёргалось, пышно чадя, потемневшее пламя, точно предупреждая его, и внезапно исчезло совсем. Остался тлеть один уголёк, да и тот истощился и скоро угас.
Томас Мор сидел в полутьме. Светлое июльское утро искоса заглядывало в окно, глубоко сидевшее в толще крепости, приспособленной под тюрьму. Ноги застыли. По телу пробегала зябкая дрожь. Ему следовало встать и согреться ходьбой, но узник подумал об этом лишь вскользь и тотчас забыл.
Жить презренным не хотел. Лучше было сидеть неподвижно, замёрзнуть, застыть. Сжался в комок, обхватив руками колени, а мысли его полетели туда, где уже не было и быть не могло ничего.
Наконец очнулся, не сразу поняв, что с ним стряслось, где был, какое время отсутствовал или думал о чём; недоверчиво оглядывал близкие стены и сгустившийся мрак по углам.
Смутно припомнилось явление Томаса Кромвеля, или это только привиделось, и в этом сне слышал крики, угрозы и пошлое хвастовство.
Вдруг с новой силой вспыхнули слова приговора.
Только день, только ночь оставляли ему.
Наутро ждала его смерть.
Может быть, при мысли о ней и впал в забытье?
Тут Мор по-настоящему испугался, решив, что именно подлый страх смерти довёл его до беспамятства.
Если так, выходило, что сомневался в себе, что не был готов.
Не двинувшись с места, медленно поднял ослабевшую руку и дёрнул, как мог, отросшую длинную бороду.
Прежде у него не было бороды, она отросла в заточении. Мор к ней привыкнуть не мог, она мешала ему, пленник частенько дёргал её, точно хотел оторвать. Это сделалось его новой, тюремной привычкой.
Именно сомнение было в эти минуты неуместно, опасно, запрещено. Своей неопределённостью, ещё больше своей неожиданностью оно смущало, запутывало.
Он никогда ничего не боялся. Смерть пугала его всего меньше. Слишком давно приучил себя к мысли о ней, и она представлялась ему продолжением жизни, как должен верить христианин и мудрец.
Его решения всегда бывали обдуманны, тверды, о своих делах и поступках никогда не жалел.
Ещё час назад его судьба представлялась решённой и ясной.
Почему же вдруг всколебался?
Дивился себе, возмущался собой. Ибо мысль дана человеку, чтобы проникать в суть вещей и предвидеть движенье событий. Слабость же мысли, неуменье предвидеть унижала его.
Его возмущение было сильным и гневным, бывало всегда, хотя лицо оставалось невозмутимым. Мыслитель пощипывал жидкую бороду и едва слышным шёпотом говорил сам себе:
— Я знаю тебя много лет и уверен, что ты уйдёшь, как подобает уходить человеку. В порядке вещей, что тебе не хочется уходить: в тебе ещё так силён голос живого, и от этого голоса не избавишься, пока жив, как ни старайся взять себя в руки, что себе ни тверди. Однако в свой час ты одолеешь его усилием воли и покинешь без сожаления эту юдоль печали. Жизнь не стоит того, чтобы ей дорожить.
Не помнил, с каких пор приучился рассуждать сам с собой, оставаясь один. Привычка сложилась давно. Возможно, он с ней родился. Всё могло быть. Хорошо, что она была у него: рассуждая с собой, смирял и утихомиривал страсти.
Невольно прислушивался к своему тихому шелестящему голосу, заставляя себя следить за развитием мысли, и порядок устанавливался в его рассуждениях, как учили философы древних времён. Одно заключение по незыблемым правилам Аристотеля, усвоенным с самого детства, рождало другое. Эта последовательность убеждала и успокаивала, подчиняя рассудку вскипевшие страсти.
Напомнив себе, что жизнь не стоит того, чтобы выть собакой от страха её потерять и позорно хвататься дрожащими пальцами за топор палача, уже без труда заключил, что решения его неизменны.
Это был испытанный, славный приём. Возмущение в нём остывало, мог бы совсем успокоиться, ведь предстояли кое-какие будничные дела, необходимо было исполнить, перед тем как уйти навсегда.
Напомнил себе ещё раз:
— Разнообразны вкусы людей, капризны характеры, природа их в высшей степени неблагодарна, а суждения доходят до полной нелепости. Вот почему счастливее, по-видимому, чувствуют себя те, кто приятно и весело живёт в своё удовольствие, нежели те, кто терзает себя заботой о ближних.
И уже хладнокровно стал думать о том, как приготовить тело своё, чтобы оно в пристойном виде поступило в равнодушные руки могильщиков, которые не станут заботиться о его чистоте: им всё едино, лишь бы поскорее сбыть его с рук.
Пожалел, что не может омыться в лохани с горячей водой, с мочалом и мылом. Даже чистой одежды не имелось под рукой.
Как ни поворачивал, как ни вертел, а всё выходило, что хлопот с бренным телом не могло быть никаких.
Что ж, всё быстро убегавшее время посвятит бессмертной душе, неторопливыми размышлениями о непреходящем, о вечном, чистосердечной молитвой умиротворяя и очищая её.
Уже завтра душа его встретится с Богом.
А душа была неясна, нелегка. Ему было о чём размышлять и молиться. Тоска сомнений то упадала, то вновь росла, как ни отбрасывал их, доказывая себе, в сотый, в тысячный раз, что сомнений быть не могло, да и не ко времени, поздно уже.
Тоска рождала острое недовольство собой, хотя в недовольстве собой философ не обнаруживал ни малейшего смысла.
В самом деле, и страхом смерти не сломили, не покорили его.
Чем же быть ему не довольным?
Покой души, верно, нарушило что-то иное, чем-то пока неприметным разбередило её. Вот что надо было понять. Лишь после этого чистосердечной и тихой должна стать молитва.
Не чувствуя холода, прижимаясь к влажной стене, склонив лохматую голову, раздражённо спросил, заново пристально вглядываясь в себя:
— Чего же тоскуешь ты? Чем помешал тебе Томас Кромвель? Давно уж покинул тебя и следа от него не осталось! Так что?
Не находя разумной причины, опасаясь невольно, что это всего лишь низменный страх, ужас боли и смерти, особенно боли, которая в таком преизбытке предстояла ему. Понимал, что если прав, страх станет только сильней, не справься он тотчас же с ним, и нерешительно, смутно угадывал, что причина томления всё-таки в чём-то ином.
Тогда несколько раз повторил:
— Твоя смерть должна быть достойна тебя.
Увидел теперь, что в этом не имелось сомнений, что иначе это и быть не могло, ибо малейшая слабость — губы дрогнут, глазом сморгнёт, — погубит всё то, по имя чего он шёл под топор.
Это так... Это так...
Однако по-прежнему что-то словно бы опалённое, и то же время вёрткое, неуловимое, скользкое как будто самолюбиво или с каким-то укором ныло и ныло и душе, наконец заставив подумать, что он, всегда искренний и прямой, нынче сделался не откровенным г собой. Пальцы двинулись беспокойно, точно чего-то искали. Тогда сказал, сдвигая брови, стараясь хоть так успокоить себя:
— Этот шут опротивел тебе своим дурацким кривляньем.
Услыхал свой напряжённый, неуверенный голос. Припомнил, иронически ухмыльнувшись, презрительно дёргая головой:
— Болтал о могуществе, шут.
И после минуты молчанья прибавил не то с угрозой, не то с состраданием мудреца:
— Червь земной. Трусливый, но жадный. Тем опасный для всех. Во все времена.
И чужим властным голосом прямо спросил:
— Что в том, что ты уйдёшь, как философ?
Встрепенулся и выпрямился. Заныли косточки пальцев, стиснувших подбородок. Новый вопрос, упавший в мёртвую тишину, оказался определённей, ясней:
— Должен ли ты умереть, хоть философом, хоть последней собакой, если отыщется дорога к спасению?
Вопрос ударил его. Лицо побледнело до колючих мурашек. Во всём существе всплеснулись неизжитые силы, которых бы хватило на много лет для жизни и для борьбы, если бы открылась возможность жить и бороться. Здоровье, источник энергии, ещё не было подорвано. Мозг работал великолепно, как прежде.
Всё в нём возмущённо заклокотало, и голос, дрожа, едва поспевал вопрошать:
— К чему упрямство? Скажи мне, к чему?!
Странно: он точно искал путей к отступлению, лишь бы сохранить себе жизнь, что было противно его убеждениям. Но тотчас ободрился, точно помолодел на несколько лет. Тоска отодвинулась в сторону, почти забывшись совсем, хотя прилегла где-то рядом. Посветлело в душе. Крепкая память выплеснула знакомые мысли. Голос сделался раздумчивей и ясней:
— Трасея говаривал: «Лучше казнь сегодня, чем изгнание завтра». Что же Руф ему на это сказал? А Руф сказал: «Если ты выбираешь это как более тяжёлое, что за глупый выбор? А если как более лёгкое, кто дал такое право тебе? Не хочешь ли ты приучать себя довольствоваться тем, что есть?»
Выпрямился, оторвавшись усталой спиной от холодной стены, подобрался, и глаза его вспыхнули быстрым огнём.
Тоска в тот же миг провалилась куда-то. Сомнения сгинули. Твёрдость затеплилась от поучения древнего мудреца. Полетели, радостно, запрыгав, слова:
— Да! Примириться с тем, что от тебя не зависит, потому что не определяется, не управляется слабой волей твоей! Не искать себе жизни во внешнем! И жить, ещё долго жить! Жить тихо, сосредоточенно, скромно. Дышать душистым воздухом милых полей и запахом сена, навевающим сладкую грусть. Подолгу шагать перелесками. Неторопливо возвращаться к обеду. Ещё неторопливей размышлять о непреходящем, о вечном. Подолгу беседовать с Богом. Находить счастье лишь в том, что зависит от тебя самого!
Для такой жизни Мор был создан природой. Именно такое скромное, такое мирное существование было ему по душе. Несколько раз случалось ему жить так. Не подолгу, а всё же случалось. Это было самое счастливое время. Из того милого прошлого так и пахнуло теплом, семейным уютом, лаской детей и светлой печалью разлуки. Губы, невидимые, непривычно скрытые волосами, раздвинулись в неловкой улыбке. Пошевелилась поросль усов. Глаза стали влажными, добрыми и большими. Отчего это? Что с ним? А уж приблизилось и замелькало перед глазами: ограда, невысокий дом на холме, во все стороны луга и поля, тропинка, дорога, берег реки. Ради той жизни, мирной и скромной, он построил свой остров, где царили тишина и покои, жили сердечные, добрые, любимые люди. На том острове, как поудобней, чуть в стороне, стоял маленький флигель. Во флигеле помещался его кабинет. В кабинете на полках по стенам стояли бесценные книги. Рукопись покоилась на простом прямоугольном столе. Рукопись всё ещё была не окончена. Мог бы неторопливо, обдуманно окончить её, а после начать и другую. Замыслы роились в голове. Разве то не был бы нужный, полезный, пусть для немногих читателей, труд? Учащённо, дыша, протягивая руку к кому-то вперёд, почти грубо спросил:
— Разве ты не сделал для ближних, что мог? Исключительно всё? Даже больше?
Вечно жил против своих природных влечений. Бесприютно, нехорошо. Принуждая себя, как велел разум, долг. На свой остров заглядывал редко. Передохнуть день-другой. Погладить по головке детей. Улыбнуться молчаливой жене. Собраться с духом и снова уйти. Не честолюбие, не жажда богатства, не суетность власти привели его к королю. Не выпрашивал ни денег, ни мест, ни чинов. Должность канцлера ему предложил сам монарх. Мыслитель это предложение принял, чтобы исполнить долг перед ближними, то есть перед страной.
Помнится, воротился тогда из Каморе, усталый, по довольный. Привёз мир, которого король не хотел; улыбался, несмотря на то что ему полагалась опала. Не мог же этого не понимать, нарушив повеление самодержца. Она не страшила его, ибо выполнил долг. Всё приключилось так неожиданно. Кардинал и прежний канцлер Уолси обвинён был в измене и получил приказ об отставке. Мир, заключённый в Камбре, неожиданно понравился Генриху. Что-то слепое, капризное, шутовское таилось, что-то свершалось там, в Камбре, и в Лондоне, здесь.
Высокие двери перед ним распахнулись. Его с почтением ввели в кабинет короля. Мор был абсолютно спокоен, потому что не думал в тот миг о себе. Сердце не стучало ни сожалением, ни ликованием, думал только о том, что не имеет права использовать и эту возможность. Литература литературой, что в ней?
«Громадное большинство не знает литературы, многие презирают её. Невежда отбрасывает как грубость всё то, что невежественно не в полной мере. Полузнайки отвергают как пошлость всё то, что не изобилует стародавними истинами. Некоторым нравится только ветошь, большинству — только то, о чём они думают сами. Один настолько угрюм, что не допускает шуток; другой настолько неостроумен, что не переносит острот некоторые настолько лишены насмешливости, что боятся всякого намёка на неё, как укушенный бешеной собакой страшится воды, иные до такой степени непостоянны, что сидя одобряют то, а стоя — другое. Одни сидят в трактире и судят о талантах писателей за стаканом вина, порицая с большим авторитетом всё, что им угодно, и продёргивая каждого за его писание, как за волосы, а сами между тем находятся в безопасности и, как говорится в греческой поговорке, вне обстрела. Эти молодцы настолько гладки и выбриты со всех сторон, что у них нет и волоска, за который можно было бы ухватиться. Кроме того, есть люди настолько неблагодарные, что и после сильного наслаждения литературным произведением они всё же не питают никакой особой любви к автору. Этим они вполне напоминают тех невежественных гостей, которые, получив в изобилии богатый обед, наконец сытые уходят домой, не принеся никакой благодарности пригласившему их. Вот и завлекай на своё пиршество людей столь нежного вкуса, столь разнообразных настроений и, кроме того, столь памятливых и благодарных...»
Писатель подолгу размышлял о слабости литературного слова и, рождённый писать, складывать рифмы, решился служить ближним делами своими, как заповедал Христос. Понимал, как легко воплотить в слове самый разумный, самый продуманный и неопровержимый для самого себя идеал, настолько же трудно приблизиться к нему хотя бы на шаг, обладай хоть самой неограниченной властью, а его ждала хоть и самая высокая власть, но ещё выше был король. И потому предчувствие неудачи, неотвратимой и скорой, мешалось с надеждой, негромкой и сладкой. По правде сказать, его надежды были и всегда небольшими, а предчувствие на этот раз закрадывалось неопределённо, несмело, но было оно неприятным, тяжёлым, неопровержимым ни одним из доводов разума.
Сунув руки под мышки, возбуждённо шагая по кабинету на длинных, тогда ещё здоровых ногах, монарх выкрикнул громко:
— В этой стране всё надо переменить, чёрт возьми!
Предчувствие неминуемой неудачи не потускнело от этого громкого, грозного крика. Робкая надежда не стала светлей. Прежде хотелось спросить, что именно, по разумению Генриха, предстояло переменить и зачем. Очень хотелось, но он промолчал, почтительно ожидая, что Генрих сам ему всё объяснит.
Самодержец внезапно остановился и пронзительно взглянул на него. Мор следил, как глубокая складка залегла между светлых рыжеватых бровей, как от раздражения или напряжения мысли вздрагивали ноздри острого носа. Волновался, не находил себе места король, но голос был уверен и быстр:
— Отныне вы становитесь моей правой рукой. Я верю, что с вами я смогу быть смелее в моих начинаниях.
Мыслитель знал давно, что Генрих решителен и умён, но переменчив, нестоек. Нынче вечером могло явиться одно повеление, а наутро иное, прямо противоположное первому. Бездна планов роилась в голове короля, может быть, самого благородного и справедливого среди других монархов, его современников. То и дело Генрих что-нибудь начинал, однако препятствия встречались на каждом шагу, он останавливался на середине, в начале пути и шёл в другом направлении. Сколько раз придётся ему одобрять или оспаривать высочайшие планы, сколько раз сойдутся или разойдутся их мнения о пользе или вреде этих планов для ближних или для подданных, как они по-разному их называли? Отыщет ли канцлер самые верные, убедительные слова? Станет ли король слушать его? Не обрушит ли и на него свой сокрушительный гнев, как только что обрушил его на Уолси, который умер в тюрьме?
Размышлял, не взваливал ли на плечи себе столь тяжкий крест, под которым и самый праведный споткнётся не раз? Мог бы, разумеется, отказаться, сумел бы найти благовидный предлог и сохранить с Генрихом приятные отношения полуприятельства, временами близкого к дружбе, но почему-то об отказе не помышлял, лишь вопрошал, тревожно и часто, по силам ли ему этот крест, не раздавит ли ноша сия, ибо слаб человек, ведь и Тот, Кто всем нам пример, падал не раз под крестом. Все эти мысли и чувства клубились там, в глубине, а лицо оставалось невозмутимым, словно ничто не страшило и не могло устрашить.
Король встрепенулся, цепкими пальцами подхватил со стола государственную печать, рассмеялся, довольный, и сквозь смех с увлеченьем сказал:
— Вот вам власть над моим королевством. С этой минуты ничто не решится без вашего слова. Я сам без вашего совета не предприму ничего.
Печать была небольшой, однако тяжёлой, и мыслитель негромко сказал, взвешивая её на открытой ладони:
— Я должен подумать, милорд.
Генрих с горячностью вскрикнул, ткнув в его сторону укоризненно пальцем:
— Не кривите со мной! Не люблю! Убеждён, что об этом вы тайно мечтали давно! Не могли не мечтать! Не в вашей натуре перо да перо! Ведь вы не Эразм! Эразм просвещает, истребляет невежество, глупость, а вы хотите людям добра. Вы мечтаете о справедливости. Одного пера для этого мало. Справедливость, добро, любовь ближнего к ближнему зависит от власти. Вот она — берите её! С вами парламент. Коммерсанты и финансисты благословляют вашу неподкупную честность. Народ верит в ваш праведный суд. Наконец, нм лее знаете, Томас, я люблю вас как друга. Чего вам ещё?!
С невидимой тягостью на душе, с возбуждённой надеждой, с невозмутимым лицом он тогда строго спросил, открыто глядя в рыжие глаза короля:
— В какой мере я буду свободен, милорд?
Неопределённо прищурясь, подёргивая широкую цепь, висевшую у него на широкой, жиревшей груди, с весёлым лицом, Генрих веско, раздельно проговорил:
— Земные дела в руках Провидения, и вы станете свободны ровно настолько, насколько смогу быть свободным и я.
Тут сердце застучало, сильно и бодро, вдруг стало легко. Откровенная радость засветилась в глазах, поклонился неумело, неловко и поспешно сказал:
— Тогда я согласен, милорд.
Засмеявшись беспечно, дружески ударив его по плечу, блестя задорными, менявшими цвет на зелёный глазами, с просветлённым лицом, Генрих заговорил непринуждённо и звонко, как редко с кем говорил:
— Я так и думал! Я это знал! Наконец в моём королевстве соединились для доброго дела власть государя и ум мудреца! Во все времена, чему нас учит история, они шли друг против друга, во вред государству! Я размышлял, прежде чем сделать свой выбор, что было бы с Римом, если бы против великого Цезаря не выступил Цицерон? Какое величие, какое могущество ожидало империю, а вместо того — рознь, гражданские войны, вражда. Я же призвал вас для мира. Наши соединённые силы мы направим на благо Англии, против розни, Против вражды!
Его невольная радость тихо тускнела от громких, уверенных, как будто заранее приготовленных слов, по Генрих выглядел таким простодушным, и не было возможности не согласиться служить ему во имя добра. Мир в государстве? За это и жизни не жаль! Он всё же решился напомнить:
— До сей поры пост лорд-канцлера занимали в Англии служители церкви, а я мирской человек. Подобает ли мне занимать это место, милорд?
Генрих, довольно молодой, рано занявший престол и давно привыкнувший к власти, отрезал невозмутимо:
— Если я так хочу, это место вам подобает занять. По нынешним германским и римским делам я замечаю, что церкви не следует вмешиваться в мирские дела. Мирские дела духовному лицу не по силам. К тому же, нынче у церкви достаточно собственных, слишком сложных, слишком запутанных дел. С другой стороны, епископ, тем более кардинал непосредственно подчиняется Римскому Папе, а не своему королю. Такое положение делает его независимым от моих повелений. По правде сказать, это нередко запутывает дела государства. Ибо, по моему глубокому убеждению, в наших делах должны быть целеустремлённость и ясность. Единая воля. Единая власть. С единственной целью достичь этих благ я предоставляю столь почтенное и почётное место философу, как предлагает делать Платон, великий мудрец, которого оба мы почитаем. В общении с вами я обнаружил у вас трезвый, сильный и образованный ум. Я надеюсь по этой причине, что именно с вами смогу договориться легко по самым разнообразным делам управления, а вы договоритесь с парламентом. И мне плевать, что по этому поводу наговорят пустословы, клянусь!
Мор покачал головой:
— Это место не столь уж почётно, милорд.
Полный энергии, беспокойно и часто переступая на длинных ногах, Генрих взглянул на него удивлённо:
— После короля это первейшее место в стране. Его каждый мечтает занять. Ради него свершается подлость и преступление. Только свистни, набегут, как стая крыс. Захочу — станут биться друг с другом мечами, из мушкетов станут палить. Я вижу, в вас заговорила гордыня, мой друг. Прежде я этого не замечал.
Философ вспыхнул и непозволительно сухо сказал:
— В моём чувстве больше смирения, чем гордыни, милорд. Будучи канцлером, легко потерять свою душу, а допустить такой потери я не могу. Гораздо почётнее оставаться философом, каким вы признаете меня, и первым человеком в парламенте, каким меня признают представители нации. Если человек уже стал философом, и душа его в безопасности, и этого звания у него не отнимет никто. Не так приключается со всеми другими должностями, и философия учит, что чем выше то место, которого волей судьбы или своим неразумием достиг человек, тем больнее падение. Оно непременно наступит, так что, если не потеряешь души, рискуешь остаться без головы.
Нервно двигаясь, расхаживая по кабинету, потирая ладони рыжеватых веснушчатых рук, король подхватил, не взглянув на него:
— Вот видите, я уже прав, остановивши свой выбор на вас. Ибо никто, кроме истинного философа, принимая свой пост, не предполагает падения.
Он думал, оттого и предчувствие, что чересчур далеко заходит на этом неверном пути, возвратилось к нему. Нахмурившись, он резко произнёс:
— Это место я почитаю полным смертельных опасностей и тяжких трудов, и если бы не слабая надежда на вашу королевскую милость, я почёл бы его столь же приятным, сколь Дамоклу приятен был меч, висевший над бедной его головой.
Вновь остановившись напротив, открыто глядя снова вдруг потерявшими рыжеватость глазами, Генрих чистосердечно заверил:
— Во всяком случае, королевская милость вам обеспечена.
Он ответил довольно угрюмо:
— Только в это я и верю, милорд.
Хотел в это верить. К тому же был убеждён, что тот, кто решился отдать свой талант и усердие на служение обществу, тот никогда не сделает этого, если не сделается советником великого и просвещённого государя и не возьмётся внушать ему надлежащие честные мысли. Ибо великий государь представлялся ему источником, который изливает на свой народ поток всего хорошего и всего дурного.
Они сделались почти неразлучны. На него посыпались королевские милости. Не дорожа своим местом, всегда готовый к опале, глубоко проникая мыслью в дела, не страшась рисковать, служил королю, но и ближним служил, сколько мог, на этом высоком посту.
Пожалуй, кое-что ему удалось.
Когда он стал лорд-канцлером, было запрещено разрушать дома свободных крестьян, если им принадлежало не менее двадцати акров земли, что предохраняло от разорения хозяйства нормальной величины. Таким хозяйствам доставало земли, чтобы обеспечить владельцу достаток, избавляя от рабской зависимости, в какую попадал арендатор, которого без жалости сгоняли с земли, как только истекал срок договора о найме, после чего тот неизбежно становился бездомным бродягой. Но больше всего в этом акте прельщало его, что ровно столько земли трудолюбивый владелец был в состоянии обработать самостоятельно, не прибегая к тому, чтобы нанимать батраков, так что обогащение за счёт чужого труда становилось невозможным для большинства, ведь Англия была крестьянской страной.
Разумеется, хорошо понимал, что для спокойствия и порядка подобный запрет ещё не достаточен. У многих сельских хозяев отары доходили до двадцати четырёх тысяч овец. Они нуждались в обширных лугах. Такие хозяева, правдами и неправдами, нарушали запрет, по-прежнему лишая трудолюбивых крестьян их стародавних владений.
Тогда ему удалось, пользуясь тем, что вывоз шерсти во Фландрию сократился, ограничить отары двумя тысячами овец, что резко сократило размеры лугов. Запрет на разрушение крестьянских домов поневоле пришлось соблюдать. Многие землевладения были сохранены.
Оставалась беда. В Англии скопилось слишком много безземельных бродяг. Для них нигде не находилось ни работы, ни хлеба. Здоровые крепкие люди роковым образом делались нищими или бандитами, наводившими ужас на мирных поселян, зажиточных горожан и торговцев. В стране становилось всё неспокойней. Наносился громадный урон торговле и ремеслу, не говоря уж о том, что жертвами грабежа и разбоя становились тысячи невинных людей.
Канцлер был юрист, знаток права, за что многие в Лондоне уважали его. Он знал, что преступника останавливает единственно страх наказания, что никаким снисхождением, тем более милосердием разбой не остановить. А потому поддержал без колебаний парламентский акт, которым дозволялось просить милостыню лишь престарелым или калекам, не способным к труду. Здоровым и сильным, превратившимся в бродяг, грозило бичевание и тюрьма, при этом бедолаг привязывали к тачке и били плетьми до тех пор, пока кровь не заструится по телу, затем брали клятву возвратиться в родные места и приняться за труд.
Мор готов был ограничиться таким наказанием, но король требовал для бродяг смертной казни.
Он доказывал Генриху, зная его доброе сердце, что смертная казнь, во-первых, слишком жестока, а во-вторых, в этом случае несправедлива, поскольку не по доброй воле полные сил землепашцы становились бандитами и часто не в их власти возвратиться к труду. По этим причинам он оспорил желание монарха. Генрих с ним согласился. В парламентский акт о бродягах смертная казнь не вошла.
Пожалуй, ничего большего он не добился, но и королю в его канцлерство удавалось не всё. Он был всё-таки вторым лицом, а не первым, действие большей частью не зависело от него, но он использовал любую возможность противодействия.
И противодействовал всякий раз, когда угадывал в замыслах короля ущерб свободе или имуществу англичан.
Противодействовал...
Только противодействовал...
Много ли, мало ли это?..
Глава пятая ПРИЁМ
Генрих съел цыплёнка, с удовольствием обглодав каждую кость, выпил вина и приготовился к выходу. На нём был расшитый парадный камзол, свободно схваченный поясом, чтобы не слишком выдавался живот. Широкая грудь была украшена золотой цепью и орденом, без которого ему не всегда удавалось чувствовать себя королём.
Прошёл в кабинет. Не думая ни о чём, постоял у окна. Позвонил и отошёл к другому окну.
За спиной едва слышно прошелестела открытая дверь. Тихий голос сказал:
— Испанский посол.
Именно испанского посла он видеть теперь не хотел и слишком громко произнёс, не повернув головы:
— Пусть ждёт.
Голос настаивал:
— По неотложному делу.
Неотложные дела раздражали, тем более неотложное дело испанца. Повторил:
— Я занят. Пусть ждёт.
Дверь прошелестела. Он остался один.
Отец завещал ему дружбу с Испанией. Завещание было разумным. Разорённой, ослабленной Англии угрожала опасность. Она утратила те провинции, которыми несколько столетий подряд владела во Франции, однако английские государи всё ещё имели законное право на французский престол, и французские короли вынуждены были от них откупаться немалыми суммами. Тем не менее Франция укреплялась, мощь её возрастала, и что бы могло помешать ей предпринять новый поход, подобный походу Вильгельма Завоевателя. И как бы Англия смогла себя защитить, одна, без союзников, без хитрой, продуманной дипломатии на континенте?
Испания как нельзя лучше подходила в союзники, позволяла вести сложную дипломатическую игру и сама по себе была безопасна. Она совсем недавно стала единой страной. Сперва Арагон и Кастилия вступили в союз, скорее семейный, чем государственный. Потом они общими силами с великим трудом завоевали Гранаду и выгнали с полуострова мавров. Но завоевание всё ещё оставалось непрочным, а личный союз двух государей, Изабеллы и Фердинанда, был под угрозой.
Когда Изабелла скончалась, ей наследовала Жанна Безумная, её дочь, супруга Филиппа Красивого, правителя Фландрии. Она, разумеется, не могла управлять. Её регентом королева назначила своего мужа Фердинанда Католика. Кастильские гранды этому воспротивились, а Фердинанд оказался слишком слаб умом и характером, чтобы сломить их сопротивление силой. Составился заговор. Гранды призвали в Кастилию Филиппа Красивого. Герцог Медина-Сидония предложил ему две тысячи всадников и пятьдесят тысяч дукатов. Едва он ступил на испанский берег в Корунье, его окружили мятежные гранды. Лишь герцог Альба и маркиз Денья остались верны законному регенту, который почёл за благо удалиться к себе в Арагон. Гранды торжествовали. Они нахально возвращали себе привилегии, отобранные у них Изабеллой, собирали в свою пользу налоги и захватывали земли и замки короны. Филипп очень скоро увидел его разорённым. Расстройство всех дел, чуждый климат Испании и несчастная склонность к женскому полу нравственно и физически стремительно разрушали его. Он умер. Неурядица всё разрасталась. Совет регентства грабил Кастилию как умел. Несколько грандов устремились на захват соседних владений. По счастью, несколько грандов, оттёртых от власти, вновь обратились к Фердинанду Католику. Его власть была восстановлена, но серьёзно ограничена теми, кто его возвратил.
Такая Испания была нестрашна ни Англии, ни Франции. В лучшем случае она могла наносить незначительные удары исподтишка. На серьёзные военные действия у неё не было сил, а Фердинанд по своему характеру и не стремился к серьёзной войне. Французские короли своей наглостью сами задирали его и нарушали его интересы. Они устремились в Италию. Итальянские города уже три столетия враждовали между собой и для отражения внешних нашествий были способны объединяться только на час. Перевалив через Альпы, французы врывались в Ломбардию, в Тоскану, в Романью и грабили их, насколько хватало уменья и рук. Они овладевали Миланом и Римом, занимали Флоренцию, захватывали Неаполь.
Неаполем правили короли из Анжуйской династии. Они состояли в родстве с Фердинандом Католиком. Правда, король Арагона считал их незаконнорождёнными, но он сам имел виды на это владение и потому оказывал племянникам посильную помощь, что, разумеется, раздражало французов. Отношения между Францией и Испанией из натянутых то и дело становились враждебными. Это было выгодно Англии. Со своей стороны, английские короли готовы были подать Испании руку дружбы и с её помощью восстановить своё положение на французской земле.
Другим яблоком раздора являлась Наварра, затерянная в пиренейских горах, как раз между Францией и Испанией. Та и другая жаждали овладеть этим маленьким королевством. Приобретение не сулило особенной выгоды, поскольку редкое население этой горной страны занималось пастушеством и не знало ни ремесла, ни торговли, то есть самых верных источников обогащения. Тут в дело вступали принципы и королевская честь. Ни одна сторона не могла допустить, чтобы у неё под боком преобладала другая. Испанцы захватывали Южную Наварру и устремлялись на Северную. Французы со своей стороны захватывали Северную Наварру и устремлялись на Южную. Спор, понятное дело, обещал стать бесконечным.
В ход пускались не только вооружённые силы, но и брачные узы. Изабелла и Фердинанд плели интриги, чтобы женить своего сына Хуана на Катерине Наваррской, племяннице французского короля. Этот план был разрушен. Мужем Катерины стал Жан д’Альбре, вассал французского короля. Новый наваррский король попал в сложное, почти безысходное положение. Ему приходилось услужать французскому королю, чтобы сохранить свои ленные земли во Франции, и заискивать перед королём Арагона, поскольку его королевство оказалось в тисках между Арагоном, Кастилией и Басконией. Французский король его не любил и поощрял занять его трон Гастона Фуа. Со своей стороны, Фердинанд, женившийся на его сестре Жермене Фуа, не испытывал желания поддерживать совершенно потерявшего голову короля Жана. Его спасало лишь то, что французы увязли в Италии, а у Фердинанда не было сил, чтобы его раздавить.
Набеги французов переворошили Европу и разрушили папский престол. Дела церкви были забыты, заброшены. Неожиданно в каждом из пап пробудился воинственный пыл бандита и кондотьера. Цезарь Борджиа, кардинал, вместе с отцом папой Александром Шестым устраняли своих противников с помощью яда или кинжала наёмных убийц, крали людей, гноили в темницах, вымогали деньги, захватывали чужие владения. Папский дворец стал похож на гарем и застенок. Солдаты Борджиа, стоявшие в Риме, грабили прохожих и дома горожан. По ночам на улицах Рима происходили вооружённые стычки. В окрестностях пытали огнём зажиточных поселян, требуя указать, где они прячут сокровища. В одном из местечек они обнаружили только несколько стариков и старух и подвешивали их за руки над раскалённой жаровней. За одно неосторожное слово отрезали язык или руку.
Страшная участь постигла самого папу Александра Шестого. Однажды вечером он ужинал на открытом воздухе в гостях у одного кардинала вместе с Цезарем и другими. Спустя несколько дней все гости, кроме самого Цезаря, стали страдать лихорадкой и рвотой. Папа был при смерти. Он бредил. Ему грезилось, будто вокруг его ложа прыгает дьявол в облике обезьяны. Едва он скончался, Цезарь с кинжалом в руке потребовал у казначея ключи от папской казны. Тем временем папа лежал один без папского перстня на пальце. Никто из кардиналов не пришёл преклонить колена, отпустить грехи и прочитать отходную молитву. Шесть могильщиков смеясь втиснули тело в гроб, который оказался узок и мал. Погребение состоялось в храме святого Петра. Папская митра была отброшена в сторону. Гроб был покрыт старым ковром. Тем временем папская гвардия и кардинальская стража бились рядом в базилике подсвечниками и алебардами. Цезарь захватил Ватикан и приказал бить из пушек по монастырю, в котором заседала коллегия. Осада продолжалась дней двадцать, несмотря на слёзные мольбы кардиналов конклава. Никто толком не знал, чего он хотел. Вероятно, этого не знал и сам Цезарь. Он внезапно удалился в Романью, а кардинал Пикколомини был избран папой, однако умер три недели спустя. Цезарь возвратился в Рим, продал Джулиано делла Ровере голоса испанских кардиналов, которые были на его стороне, и Джулиано стал папой, взяв себе имя Юлий Второй.
Он тотчас изменил Цезарю Борджиа. Цезарь был арестован, переправлен в Неаполь, а оттуда в Испанию и заперт в крепости, но бежал к королю Наварры, брату своей жены, который воевал тогда против французов, и погиб в ночной вылазке, свалившись в ров. Начав предательством, Юлий Второй уже остановиться не мог. У него был характер переменчивый и сварливый. Он ненавидел своих врагов лютой ненавистью и преследовал их с настойчивостью, достойной лучшего применения. На беду престолу и себе самому был в душе полководцем и обладал мужеством, которое порой возвышалось до героизма, отличался неукротимым высокомерием и больше всего хлопотал о земной славе. Прихожане редко видели его в папской митре и на богослужении в храме святого Петра. Десять лет, которые занимал папский престол, этот человек провёл верхом на коне, в солдатских сапогах, с мечом на боку, в кирасе и каске, окружая себя хоругвями и крестами. Начал с того, что навёл порядок в своих владениях, окончательно превратил Папскую область в светское государство, овладел городами и замками, которые Борджиа отняли у него, обеспечил своему семейству наследственные права на Урбино, захватил Перуджию и Болонью, которую незадолго до своей смерти успел присоединить к церковным владениям. На всём полуострове серьёзное сопротивление могла оказать ему только Венеция, и разыгравшийся Юлий поклялся если не уничтожить её целиком, то довести до состояния простой рыбацкой деревни. В ответ оскорблённые венецианцы пообещали низвести его до положения незначительного прелата.
Страсти, таким образом, разгорелись. Венеция была самой богатой и самой могущественной державой не только на полуострове. Справиться с ней было трудно. Папа сколотил против неё военный союз, в который вступили Испания, Франция и Священная Римская империя германской нации, то есть Австрия и множество мелких немецких княжеств. Без промедления к союзу присоединились Феррара, Мантуя и Урбино. Флоренции уступили Пизу, и она согласилась оставаться нейтральной. Под видом войны начались безобразия, которые просвещённые люди Европы сравнивали с нашествием варваров, хотя это было нашествие итальянцев, испанцев, французов и немцев. Пленных убивали на месте. Вырезали целые гарнизоны, если они осмеливались посягать на сопротивление римскому папе. Вешали окрестных крестьян. Часть горожан из Виченцы укрылась в ближайшей пещере и была там сожжена по приказу немецкого принца. Венеция предложила начать переговоры о мире, но ей было в этом отказано. У неё оставался единственный выход — обратиться за помощью к туркам. Только тут на папу снизошло просветление. Он ослабил Венецию и получил крепости, которые укрепили границы его государства. Полное поражение Венеции открывало дорогу в Италию и туркам, и французам, и немцам. Пусть сегодня эти последние поддерживали его, он знал, что уже завтра они станут его врагами. Папа должен был их опередить и опередил. «Если бы Венеции не было, на её месте следовало бы завести другую Венецию», и заключил с Венецией мир.
Император и французский король увидели себя одураченными и повернули оружие против него. Юлий поклялся истребить этих варваров, как их теперь величал, бросил в Тибр ключи от храма святого Петра и взял в руки меч святого Павла. Образовался новый союз, в который вошли Венеция и Швейцария. Папа отдал Фердинанду Католику долгожданный Неаполь и тем привлёк его на свою сторону. Фердинанд вовлёк в новый союз английского короля, который был женат на его дочери, пообещав ему вернуть потерянные провинции на юге Франции.
Так Генрих был втянут в войну. Постоянной армии у Англии не было. У королей не было денег на её содержание. Король набрал несколько тысяч нищих, пьянчуг и пиратов, по каким-то причинам не вышедшим в море, и был поражён, сколько в его королевстве бездельников и бездомных бродяг. Это было не войско, а сброд. Сержанты кое-как обтесали его, научили строиться и обращаться с оружием. Новоиспечённых солдат посадили на корабли. Их сильно потрепала буря в заливе. Они высадились на берег бледные и полупьяные. На них было тошно глядеть. Неизвестно, какую славу им пришлось бы снискать, доведись им участвовать в настоящей войне. По счастью, дело до неё не дошло. Генрих на собственном опыте познавал азы европейской политики, грабительской и склочной по природе своей. Опыт был горек. На его глазах вчерашние союзники бились между собой. Французы и немцы сосредоточились вокруг Вероны. Папа бросил против них отряды испанцев, занявших Неаполь, и натравил Геную на французского короля. Его племянник захватил Модену. Венеция овладела Виченцей. Когда герцог Феррары отказался перейти на сторону папы, папа мигом обрушил на него отлучение и сам сел на коня.
Французский король попытался сражаться с ним гем же оружием. Он собрал своих епископов в Туре. Французский кардинал произнёс речь, в которой указал на преступления папы. Папа был обвинён в том, что изменяет союзникам и интересам Италии, что в устах французского кардинала было несколько странно. Собрание иерархов постановило, что папа не имеет права вести войны по мирским причинам с мирскими правителями. В таком случае государи получают законное право оказать ему вооружённое сопротивление, а все отлучения их от церкви лишаются силы.
Папа ответил без промедленья и грубо. Он выгнал из Рима представителей Франции и запретил французским кардиналам покидать Рим. Интердикты и отлучения посыпались щедрее. Французский король возобновил военные действия и приступил к осаде Болоньи, в которой засел папа Юлий.
Вследствие этой неразберихи король Наварры попал в трудное положение. Он не испытывал никакого желания ссориться ни с папой, ни с королями. Но ему угрожали со всех сторон, и он решил вести переговоры со всеми. Испании и Франции он обещал нейтралитет. Для верности Испания потребовала, чтобы он передал ей приграничные крепости, а Франция желала, чтобы он воевал на её стороне. Наваррский монарх поневоле был втянут в войну.
Его могли раздавить, навалившись с юга и с севера. Осада Болоньи отвлекла французского короля. Испанский король убедил папу Юлия, что именно Наварра виновата во всём. Папа, не заботясь об истине, отлучил всех, кого мог: отлучил короля и королеву Наварры, а также любого и каждого, кто в течение трёх дней не покорится ему или возьмётся за оружие против него и его союзника Фердинанда Католика. Отлучённые папой обрекались на вечные муки, заодно лишались сана и ленных владений. Земли, крепости и города, принадлежавшие им, признавались собственностью того, кто первым их захватил.
Таким образом руки были развязаны для беспредельного грабежа. Фердинанд двинул герцога Альбу и английского генерала маркиза Дорсея. Дорсей получил приказ своего короля двинуться на Байону, столицу Гиени, и оккупировать эту провинцию. Альба имел приказ своего короля прежде уничтожить Наварру.
Англичан было мало. Им пришлось подчиниться. Многочисленная союзная армия вторглась в Наварру. Она нигде не встречала сопротивления. Альба прямо двинулся на Памплону. Наваррский король вынужден был покинуть её. Горожане не хотели подвергнуться полному и беспощадному разграблению. Они отворили ворота, выговорив себе безопасность и сохранение всех своих привилегий. Крепости сдавались одна за другой. Только одна сохранила верность своему королю, но была взята и разграблена. Ссылаясь на папскую буллу об отлучении, Фердинанд Католик принял титул наваррского короля. Во владении Жана д’Альбре оставалась только крохотная часть его королевства, которая находилась по ту сторону Пиренеев.
А что получил английский король? Английский король не получил ничего. Его солдаты возвратились без славы и без добычи, потому что львиная доля досталась испанцам. Он был одурачен. Его самолюбию был нанесён жестокий удар. Генрих ничего не простил и хорошо запомнил этот урок. Но союза не разрывал, был осторожен и молод, ещё верил, что союзники охотно помогут ему вернуть корону французского короля. Ждал.
Папа Юлий продолжал будоражить Италию. Казна его истощалась. Его союзники то и дело менялись. Никто из тех, кто был захвачен этой войной, не обнаруживал верности. Каждый преследовал только свои интересы, грабил всех, кого мог. Захватив Брешию, французы перебили более двадцати тысяч жителей и дочиста разорили город. Решающее сражение произошло под Равенной. Оно началось утром в первый день Пасхи. Итальянскую кавалерию сметали французские пушки, и она отступила. Испанская пехота упорно сопротивлялась немецким копейщикам. Убитые и раненые падали с обеих сторон в громадном числе. Тогда во фланг им ударила французская кавалерия. Испанцы дрогнули, но отступили к Равенне в полном порядке. Преследовать их с отрядом кавалерии бросился Гастон Фуа, французский главнокомандующий. Его сразила ружейная пуля. Он упал. Испанцы добили его ударами копий в грудь и лицо. Ему было двадцать два года. В течение двух месяцев Фуа взял десять городов и одержал победу в трёх битвах. На поле сражения осталось не менее шестнадцати тысяч убитых. Равенна сдалась. Французы и немцы перебили всех горожан, попавшихся им под руку. Папа бежал и укрылся в замке Святого Ангела. Кардиналы в панике требовали, чтобы он подписал любые условия мира. Ему хватило мужества дождаться известий. По донесению кардинала Медичи, французский король тоже находился в затруднительном положении, его лагерь раздирают раздоры, герцог Феррары отходит в свои владения, движение на Рим приостановлено, австрийский император отзывает войска, французский король остаётся один.
За превратностями войны Генрих следил с ненасытным вниманием. Его послы были представлены при всех европейских дворах. Они служили агентами, которые были обязаны хотя бы раз в неделю сообщать ему новости и добросовестно исполняли эту обязанность. Король получал обстоятельные послания из Вены и Рима, из Венеции и Милана, из Мадрида, Неаполя и Парижа. Все сплетни двора, все наступления и отступления ему были известны в малейших подробностях, неделю, дней десять спустя. Его поражала близость, лёгкость и недостижимость победы. Казалось, только что папа Юлий потерял всё, что успел захватить, но уже союзники покидали французского короля, папа собрал новую лигу, остаткам французских войск едва удалось перебраться на свою сторону Альп, и вся Италия была свободна от французских захватчиков.
Победа! Папа Юлий с безоглядной поспешностью раздавал племянникам и дальней родне итальянские города и не успел оглянуться, как своими раздачами восстановил против себя австрийского императора, венецианского дожа и Геную. Новая война назревала. Папа грозился обрушиться на непокорный Неаполь, уповая на то, что Бог поможет ему. Видимо, Бога утомил этот папа. Силы Юлия вдруг истощились. Он оказался на смертном одре. Его страшило больше всего, что с его бездыханным телом кардиналы поступят так же презренно, как поступили с телом Александра Шестого, спешил сделать распоряжения о своём погребении, просил кардиналов молиться за спасение его грешной души, в качестве священнослужителя простил всех отступников, но тут же проклял их в качестве папы, содрогался при воспоминании о своих недостойных деяниях, сожалел, что принял тиару и посох, и умер в тоске.
Новым папой был избран Джованни Медичи, сын Лоренцо Великолепного. За деньги отца в сан архиепископа он был введён восьми лет, а тринадцати лет стал кардиналом. Его наставниками были Полициано, Марсилио Фичино и Пико делла Мирандола. Пизанский университет присвоил ему звание доктора богословия. Джованни восхищался всеми искусствами, в особенности поэзией, почитал римское право, увлекался охотой и много путешествовал по Европе. Папой он стал тридцати восьми лет.
Можно было бы ожидать, что воинственного Юлия сменил просвещённый правитель, который принесёт в католический мир спокойствие, порядок и справедливость. Но нет, Лев Десятый начал с того, что истратил сокровища Юлия на пышные празднества в Риме по случаю своего посвящения, предпочитая, как он повторял, размягчённый музыкой и вином, что надо наслаждаться жизнью и делать добро своим родственникам.
Родственников у него было много, и они не страдали отсутствием аппетита. Один требовал себе Милан, другой Неаполь, третий Тоскану, четвёртый особое королевство, составленное из Модены, Реджио, Пьяченцы и Пармы, пятый желал стать императором Священной Римской империи. Наслаждения приходилось на время отставить и пуститься по кровавым стопам папы Юлия. Казна была пущена по ветру. Приходилось искать новых союзников, увеличивать сборы и мешками продавать индульгенции, не беспокоясь о том, что такие действия возмущают Европу. Союзником могла быть Испания, но могла и Франция. Это зависело оттого, у кого больше солдат. Папа наводил справки и колебался. Его вывел из затруднения французский король. Людовик Двенадцатый договорился с Венецией о совместном походе в Ломбардию. Венецианские и французские войска двинулись к Милану с востока и с запада. Итальянские города сдавались без боя, рассчитывая таким образом избежать разграбления. Раздумывать стало некогда. Папа завлёк в союз против Франции императора, Испанию и английского короля. Так Генрих вновь был втянут в войну.
На этот раз он хотел оставаться самостоятельным. Король сам отбирал лучников из бывших крестьян-арендаторов, которые бросили свои земли, как ему говорили, от лени, и составил отряд в несколько тысяч стрелков, лучших в Европе, как это было признано всеми. Его артиллерия была довольно слаба. Зато удалось собрать несколько сотен старых кавалеристов, когда-то служивших отцу. У каждого из них был опыт боев и по нескольку заводных лошадей. Государь присоединил к ним несколько сот новобранцев, но успел научить их только тому, как управляться с копьём.
Войска высадились на северо-западе Франции, двигались медленно, однако ему удалось добиться того, что сохранялся полный порядок. Генрих пригрозил, что повесит каждого, кто будет уличён в мародёрстве, и повесил несколько новобранцев из бывших бродяг, которые только потому и подписали контракт, что надеялись разжиться в походе за счёт неприятеля. За еду и питье солдаты платили деньгами, и мирное население оставалось спокойным. Это было особенно важно, потому что отряд был небольшим. Французы не ожидали его и спешно набирали солдат из разного сброда. Англичане подошли к Гюнегату и только здесь встретились с неприятелем. Монарх поднялся на холм, когда увидел цепочку всадников, пробиравшуюся через лес навстречу ему, насчитал две сотни и сбился. Необходимо было тотчас атаковать, чтобы неприятель не успел принять боевого порядка, но его кавалерия растянулась и не была готова к атаке. Всадники направлялись к деревне. На её окраине выстраивались французские лучники. Их кафтаны украшало шитье. Среди них было несколько спешившихся рыцарей, которых легко было узнать по золочёным кирасам. За его спиной приближался топот ног и копыт. Пехота и кавалерия медленно обтекали холм. Король подал сигнал. Впереди стали строиться лучники. Первым делом все они почти разом сели на землю и сбросили башмаки. Они стали строиться в линию босиком, чтобы впиваться в землю пальцами ног: это обеспечивало меткость стрельбы. Каждый из них перед собой глубоко всаживал в землю древко копья с наклоном вперёд, так что перед строем вырос частокол стальных наконечников. Ему объяснили, что лошади боятся железа и во время кавалерийской атаки обязательно повернут в сторону, подставляя бока и спины всадников под град стрел. Генрих этого прежде не знал. За их спинами открыли несколько бочек вина, и по рядам прошли большие ковши. Кавалерия прикрывала с флангов. Справа стояло несколько пушек — всё, что имел. Французские лучники первыми дали залп, забросили за спину луки, схватили копья и двинулись на англичан. Им пришлось идти через поле, на котором поспевала пшеница. Они шли медленно, сминая её. У англичан были длинные и более мощные луки. Они поражали цель шагов за шестьсот. Его лучники били французов на выбор, не двигаясь с места. Всё больше врагов падало с каждым шагом, скрываясь в пшенице. Им на помощь из-за деревни выскочил отряд кавалерии, но ему пришлось скакать краем поля, вдоль изгороди, узким пространством. Его кавалерия расступилась, пушки сделали несколько залпов. Ядра валили людей и лошадей. Генрих поднял руку. Конная масса обрушилась на французов. Лучники, оставив луки, вырвав копья, дружно бросились на неприятеля. Французы бежали, оставив в поле несколько сотен убитых и раненых. Их необходимо было добить, но за деревней обнаружился обоз. Его солдаты бросились грабить. Никакая сила не могла их остановить, да никому и в голову не пришло останавливать. О преследовании бегущего неприятеля не могло быть и речи.
Тем не менее победа была несомненной и полной. Всю ночь горели костры. Солдаты пили вино и пели песни. Он готов был дать им на отдых несколько дней и двигаться дальше. Но война кончена. Испанцы и немцы подходили к Венеции на пушечный выстрел и видели колокольни святого Марка. Французский король, спасая Венецию, поспешил заключить перемирие с Фердинандом Католиком и предложил мир английскому королю. Пришлось его подписать. Иначе он остался бы с французами один на один, а для этого армия была слишком мала и слаба. Нечего говорить, что никаких выгод из этого мирного договора Генрих не извлёк.
Вскоре умер французский король Людовик Двенадцатый. За ним последовал его давний противник испанский король. Соединённый трон Кастилии Арагона достался эрцгерцогу Карлу, сыну Жанны Безумной и Филиппа Красивого, правителю Фландрии. Ещё в их раннем детстве Фердинанд Католик и Генрих Седьмой договорились о браке инфанта Карла и английской принцессы Марии. Правителю Фландрии союз с Англией ничего не давал. Интересы Испании ему были чужды. Фландрия нуждалась в союзе с Францией, своей южной соседкой, и Карл разорвал обещание, данное дедом, и обручился с французской инфантой, которой только что исполнился год, тем самым показав французскому королю, что желал бы с ним союза и мира, но оставив свои руки свободными, поскольку невеста была ещё слишком мала.
Генрих был озлоблен и оскорблён. Оскорбление обжигало его всякий раз, как он о нём вспоминал. Большими шагами, почти задыхаясь, измерил весь зал, распахнул дверь и, в нарушение этикета, глухо крикнул:
— Прошу!
Только здесь опомнился, с той же поспешностью воротился назад, грузно опустился на высокое королевское место и принял суровый вид.
В зал вступил испанский посол. Он был уже стар. Седые волосы коротко стрижены. Жидкие усы и бородка едва проступали на бледном, иссохшем лице. Небольшая голова утопала в высоком плоёном воротнике, закрывавшем затылок и уши. Чёрный камзол украшали только орден и алмазные пуговицы. Пряжки на башмаках из чистого золота. Весь его вид говорил, что Испания богата и властна и никому не уступит ни в чём.
Генриху это было известно. Он отвечал послу гордым взором правителя, которому тоже всё нипочём.
Старик приблизился ровно настолько, насколько позволял этикет, отставил одну ногу назад, другую слегка преклонил, отвесил положенный вежливый, но короткий поклон, приветствовал английского короля и спросил о здоровье.
Генрих видел и знал, что беседа будет недоброй. Сухо ответил, ещё суше сказал о здоровье и в свою очередь спросил о здоровье испанского короля.
Здоровье испанского короля пребывало в полном порядке, хотя Генриху было известно, что Карл часто страдал недомоганиями непонятного, странного свойства — жестокое наследие Жанны Безумной. Старик выпрямился, закинул голову, несколько изогнулся в спине, придавая себе вид неприступности и величия, и резким голосом почти прокричал, что английские пираты разграбили испанский корабль, идущий в Антверпен, захватили испанских дворян и продали в рабство на острова.
Дело было обычное. Англия ничего не могла противопоставить Испании, кроме пиратства. Английские пираты крейсировали у входа в Ла-Манш и грабили испанские галеоны. Дело приносило громадные прибыли, от тридцати до сорока фунтов стерлингов на один вложенный фунт. Английские коммерсанты составляли компании и снаряжали пиратские корабли с патриотической целью оборвать наглых и гордых испанцев и нажиться за счёт испанских колоний в Мексике и Перу, откуда испанцы вывозили золото инков. Генрих тоже участвовал в этих компаниях, вкладывая средства через подставных, разумеется, лиц, но об этом вей равно было известно и англичанам, и всем иноземным послам. Старик тоже не мог об этом не знать. Генрих сделал вид, что удивлён:
— Этого не может быть.
Старик усмехнулся:
— Мы получили достоверные сведения. Наш корабль был взят командами двух кораблей. Так трусливо могут действовать только англичане.
Это было открытое оскорбление, но Генрих пропустил его мимо ушей:
— Позвольте узнать, какой они подняли флаг?
Старик брызнул слюной:
— Англичане нападают без флага!
Слава богу, умные люди, не то пришлось бы краснеть и беззастенчиво врать.
Генрих повёл рукой, изображая недоумение:
— Отчего же английский? Это могли быть французские корабли.
Старик это знал. Кроме англичан, испанские галеоны опустошали ещё и французы, а также голландцы. Их прибыли были так же огромны. Французские и голландские коммерсанты так же составляли компании и отправляли в море пиратов. Это было в порядке вещей. Разница была только в том, что в такого рода компаниях участвовал только английский король, и потому претензии ему предъявляли чаще других. Старик проворчал:
— Французы более благородны и менее жадны. Они торгуют неграми и не станут продавать в рабство дворян.
Генрих рассмеялся деланным смехом:
— Вы плохо знаете их. Французы бесстыдны. Но дело не в этом. Если бы вы назвали имена капитанов, тогда я начал бы расследование, а без имён...
— Они нам не известны!
— Тогда представьте хотя бы список дворян, которые, как вы утверждаете, проданы англичанами. Я попробую навести справки о них.
— Мы их уточняем.
— Очень жаль. Но я подожду.
Старик, покраснев, отвесил небрежный поклон, резко повернулся на тонких ногах и простучал каблуками. Дверь затворилась.
Монарх весело рассмеялся. Он был доволен. Прекрасное настроение утра воротилось к нему.
Дверь приоткрылась. В узкую щель всунулась голова Томаса Кромвеля.
Генрих кивнул и спросил, когда Кромвель приблизился и встал в ожидании на почтительном расстоянии:
— Что он?
Кромвель выпрямился и бойко ответил:
— Всё то же!
Генрих нахмурился:
— Не просит помилования?
Губы Кромвеля двинулись, но удержались от довольной улыбки:
— Он безнадёжен.
Король резко поднялся:
— Я не ошибся. Я давно знал, что это не тот человек, которому посты и блага дороже чести.
Кромвель молчал и напряжённо смотрел, как он тяжело шагает к дальней стене, опустив голову, заложив руки за спину, размышляя о чём-то своём. Генрих остановился. Кромвель тотчас спросил:
— Что теперь?
Генрих поднял руку, подвигал пальцами, потёр подбородок и глухо сказал:
— Ты останешься канцлером.
Кромвель согнулся в низком поклоне:
— Благодарю вас, милорд. Верой и правдой...
Государь остановил его властным движением:
— Это — оставь!
Кромвель застыл. Они помолчали. Наконец Кромвель сделал шаг и напомнил тоном просителя:
— Вы мне обещали аббатство, милорд...
Генрих круто повернулся и пристально посмотрел на него:
— Сказано — жди!
Кромвель пожевал губами, наморщил лоб и всё же спросил:
— Чего теперь ждать?
Монарх медленно, раздельно заговорил, наступая, протянув руку, точно намеревался толкнуть его в грудь:
— Уже присмотрел?
Кромвель попятился:
— А как же... Аббатство хорошее...
Генрих повысил голос:
— Прикажешь послать в твоё аббатство солдат?
Кромвель жалобно улыбнулся:
— Можно и так...
Король крикнул:
— Ну нет! Я не захватчик! Я не тиран! Монахи прячут богатства, полученные вымогательством и обманом. Кого ни спросишь, все говорят, что они бедны, как церковные крысы, а как вздёрнёшь на дыбу, открывают свои тайники. Так вот, изволь приготовить парламентский акт: отныне все бедные монастыри поступают в казну короля. Я думаю, парламент утвердит этот акт.
Кромвель рассмеялся, довольный, мелким смешком:
— Утвердит, утвердит! С большим удовольствием утвердит! Там страсть как не любят монахов! Бездельники, пьяницы — говорят! Да и многие тоже очень хотят потом что-нибудь получить. Земли, земли нужны позарез!
Глава шестая ДРАМА ОТЦА
Обхватив острые колени руками, уткнувшись в них бородой, весь сжавшись в комок, не замечая промозглого холода, тянувшего от толстой, сочившейся влагой стены, ничего не видя перед собой, Томас Мор придирчиво, тревожно и властно проверял свою жизнь, готовый расстаться с ней и всё ещё не желая этого.
Принимая пост канцлера, с трезвостью философа понимал, что его могущество весьма ограничено, как и могущество каждого человека, какой бы властью того ни наделила судьба, и в этот час, когда он мысленно возвращался назад, та же трезвость подсказывала ему, что, несмотря ни на что, сделал достаточно много: Англия уберегалась от резни и развала. Его противодействие не остановило и не могло остановить самовластного короля, но, постоянно наталкиваясь на это противодействие, монарх был осторожен, поневоле избегая тех крайностей, которые обычно приводят народ к возмущению.
Вот что он сделал, и этого, может быть, уже нельзя изменить.
И всё же, принимая пост канцлера, в глубинах души, может быть, даже тайком от себя, как видел теперь, ему хотелось достичь куда большего, не один только мир сохранить, но посеять хоть семечко братской, истинно христианской любви. Мечта так и осталась мечтой. Его ли это вина? Мечта ли о братской, истинно христианской любви была невозможна на грешной земле, где царят жадность и корыстный расчёт? Противодействие ли самовластию короля расточило его силы и время, чтобы успеть ещё что-нибудь сделать и для братской, истинно христианской любви? Бывший канцлер чувствовал, что этого ему уже не понять.
И жалко становилось потерянных лет, и легче отчего-то становилось душе: словно бы страшился поглубже вникать в эту нераскрытую, горькую тайну.
Теперь всё это стало так далеко. Нынче Англии угрожала новая распря. Монастыри разорят. Станут земли делить. Пасти овец и коров. Как не подняться брату на брата?
Поневоле думалось о другом. И мыслитель размышлял о последствиях события как будто абсолютно невинного, каким был развод короля, до этого последнего часа не признанный им, причина всех этих бед; силился с наибольшей точностью вспомнить, когда именно началась эта роковая история, но это не удавалось, точно он искал в стоге сена иглу. Может быть, эта беда зародилась слишком давно, в те времена, когда ни он сам, ни король ещё не появились на свет? Может быть, много позднее, когда в качестве дипломата Мор был отправлен в Камбре? Может быть, года три или четыре назад, поздней осенью, когда его вызвали нарочным в Гринвич?
Было туманно, слякотно, сыро. Шестёрка сытых коней неслась во всю прыть. Карету качало, трясло, бросало на рытвинах так, что путник чуть живой выбрался из неё у подъезда. Его тут же провели к королю. Вопреки обыкновению, имея ровный характер, в тот день он был недоволен и раздражён, брюзгливо гадая, зачем его с такой спешкой оторвали от дел, не дали времени даже переодеться. Белый накладной воротник оказался несвеж. На своём острове философ жил просто, но его вели к королю, и этот тусклый налёт, покрывший воротник, смущал и в то же время смешил.
Уже заметно располневший монарх полулежал на невысоком, казавшемся узким диване. Две подушки вишнёвого шёлка были у короля за спиной. Одежда его состояла из белой рубашки обыкновенного полотна и суконного синего цвета камзола, распахнутого на широкой жирной груди. Серебряные пряжки стягивали ремни башмаков. Генрих не надел никаких украшений и по этой причине выглядел благородно и просто.
Лишь на указательном пальце правой руки желтел перстень с крупным опалом. Несмотря на рыхлые, нездоровые, опавшие щёки, холёное лицо хранило печать просвещения. Тонкий, жадный беспомощный рот выглядел слишком маленьким на широком лице, но большие глаза и тонкие дуги бровей были всё ещё по-женски красивы. Над этими большими глазами, над этими тонкими дугами возвышался светлый сосредоточенный лоб. Тоска и непонятная нежность мерцали в спокойном задумчивом взгляде. Бледные пальцы рассеянно сминали гвоздику. На полированном чёрном круглом столе громоздились разнообразные сласти, дольки апельсина темнели в золотистом мёду.
Король читал рукописную книгу и не тотчас приметил его.
Торопясь разгадать, придумано ли это нарочно, чтобы растрогать его и расположить на дружеский лад, или король в самом деле читал и задумчив всерьёз, коротко поклонился и начал негромко, явно спеша:
— Вы приказали, милорд...
Не повернув головы, король так же негромко сказал:
— Нынче оставь это, Мор.
Угадывая по этому негромкому усталому голосу, что Генрих нерешителен, тревожен и грустен, тотчас решив, что он вызван столь спешно, чтобы рассеять его печаль, ощутив жалость к этому больному, утомлённому человеку, но не желая терять времени в беспредметной пустой болтовне, пристойной только шутам, зная уже, что и от пустой болтовни увильнуть не удастся, продолжал уже неторопливо, но строго:
— Как я и предполагал, акт восемьсот девятого года, воспрещавший разрушать дома свободных крестьян, которым принадлежит до двадцати акров земли, не исполняется повсеместно. Хозяйства уничтожают, разоряя этим хозяев, каким бы количеством земли они ни владели. Обработка пашни приходит в упадок. Ваши подданные нуждаются в хлебе, а цены растут и растут. Церкви ветшают. Исчезают дома. Я имею смелость просить соизволения подготовить новый парламентский акт, который возобновил бы прежний закон. Если на этот раз мы добьёмся неукоснительного его исполнения...
Не двигаясь телом, обернув к нему только голову, умоляюще взглянув исподлобья, государь жалобно перебил:
— Оставь это. Нынче мне нужен не канцлер, а друг.
Не останавливаясь, словно не понимая, что ему говорят, зная любимое увлечение короля, решился на крайнее средство:
— Свободные крестьяне, живущие безбедно своими трудами, составляют основу нашей непобедимой пехоты, и если мы...
Генрих взмолился, нервно ударив рукой по листу, издав сухой, как будто предупреждающий звук:
— Ты видишь, я читаю Вергилия, но в этом тексте ужасно много ошибок, и мне нужна твоя помощь, так помоги.
Досадуя, что ему не дают говорить о насущном, холодно посоветовал то, что было известно и королю:
— В таком случае удобней всего обращаться к печатному тексту.
Сердито мотнув головой, сморщившись, точно от боли, Генрих стал объяснять задушевно и страстно:
— Печатная книга холодна и бездушна. Гуманистическую мысль позволяет оттачивать только старинная рукопись, хотя бы с ошибками, что из того? Это ты, ты сам много раз твердил мне об этом!
Переступив с ноги на ногу, точно устал или надоело стоять, сцепив перед собой пальцы рук, ответил спокойно:
— Да, это я не раз говорил и могу повторить, но, в зависимости от обстоятельств, не всегда настаиваю на этом. В данном случае печатный текст легче было бы разобрать. Я невысоко ценю дела более трудные лишь за их трудность.
Передвинувшись грузно, привалившись к стене, смяв в комок и отбросив гвоздику, опустив рукописную книгу на колени, перекидывая большие листы, сильно пожелтевшие по краям, Генрих говорил торопливо:
— Э, полно, полезно преодолевать трудности даже пустые. Вот послушай-ка лучше... Я нашёл одно место... Ага, вот оно где!
Откашлявшись, вспыхнув глазами, порозовев, прочитал выразительно, старательно выделяя цезуры:
— «Ночь прошла полпути, и часы покоя прогнали сон с отдохнувших очей. В это время жёны, которым надобно хлеб добывать за станом Минервы и прялкой, встав, раздувают огонь, в очаге под золою заснувший, и удлинив дневные труды часами ночными, новый урок служанкам дают, ибо ложе супруга жаждут сберечь в чистоте и взрастить сыновей малолетних...»
Уловив явственно боль, которая на последней строке внезапно послышалась в голосе Генриха, сам этой болью проникаясь, невольно сочувствуя страданиям ближнего, спеша угадать, что последует далее, отметил почти машинально:
— Из книги восьмой.
Не взглянув на собеседника, заложив страницу пальцем с опалом, Генрих полистал, посмотрел на заставку, которую украшала миниатюра, выполненная синим и жёлтым, и с удовлетворением подтвердил:
— Да, из восьмой... Ты отлично навострил свою память.
Ухватившись за это, как за нить Ариадны, поспешно перевёл разговор на другое, лишь бы отвлечь старевшего короля от горьких, навязчивых мыслей о сыне:
— Это не столько память, милорд, сколько привычка. Она в том состоит, чтобы поддерживать в своей голове такой же точно порядок, какой заведён у хорошей хозяйки на кухне, когда стоит только протянуть в любую сторону руку и достанешь безошибочно то, что нужно достать для очага и стола. А нашу память... — Тут сокрушённо развёл руками и широко, доверчиво улыбнулся: — ... некогда вострить, государь.
Уловив игру слов, Генрих нахмурился, взглянул исподлобья и с тихой угрозой сказал:
— Не серди меня, Мор. Нынче не время для шуток. Хотя, по правде сказать, я твои шутки люблю. Пошутим потом, а теперь лучше-ка присядь вот сюда и говори мне, как другу, «ты», отставь пока «государя». Сначала станем говорить о Вергилии.
Сам не веря, чтобы этот странный, явным образом преднамеренный разговор ограничился тёмными местами великой поэмы, отметив это веское слово «сначала», предчувствуя худшее по холодному тону и тихой угрозе, спокойно готовясь и к худшему, неторопливо опустился на бархатную скамейку, расставил ноги в чёрных чулках, любя с детства латинские древности:
— Мудрость Вергилия бесконечна, клянусь Геркулесом, как мудрость всех древних поэтов. Несколько ранее, в книге седьмой, поближе к концу, у него говорится: «Мирный и тихий досель, поднялся весь край Авзонийский. В пешем строю выходит один, другие взметают пыль полётом коней, и каждый ищет оружие. Тот натирает свой щит и блестящие лёгкие стрелы салом, а этот вострит топор на камне точильном, радуют всех войсковые значки и трубные звуки. Звон наковален стоит в пяти городах...»
Сузив глаза, вдруг потерявшие цвет, ставшие как холодные льдинки, ощетинившись рыжеватой полоской ресниц, Генрих остановил недовольно:
— С каких это пор ты полюбил военную брань?
Канцлер невозмутимо ответил:
— Я и нынче её не люблю. Я по должности обязан думать о ней.
Монарх поднял несколько голос, глухой и капризный, отводя, однако, взгляд:
— Какой ты упрямец! Вечно своё!
Удивляясь и сам, как это место удачно подвернулось ему на язык, потеряв тут же охоту продолжать мысль Вергилия о войне, которая так кстати пришлась к разговору о свободных крестьянах, разорённых большими владельцами, ответил пространно, вновь с намерением уводя в сторону эту неровную, загадочную беседу:
— Напротив, я не упорствую никогда и всегда готов переменить моё мнение по предложению того человека, о котором я подлинно знаю, что тот без основания никогда не станет ничего предлагать.
Поудобней устроив книгу на толстых коленях, осторожно, с любовью вновь перекидывая большие листы, Генрих мягче, уступчивей попросил:
— Оставь свою мудрость, философ. Лучше мне помоги. Вот в этом месте, где «часы покоя прогнали сон с отдохнувших очей», мне сдаётся, не совсем верно было бы говорить о покое. «Часы покоя прогнали сон»? Наш Вергилий всегда до щепетильности точен. Может быть, переписчик ошибся, копируя текст?
Наблюдая исподволь за каждым движением государя, по давней привычке сжимая и разжимая пальцы левой руки, размышляя, как было бы кстати возвратиться к акту парламента, который необходим для мира и покоя в стране, не торопясь изъяснял:
— Должно быть, это место лучше понимать, как изжили сон, даже как сокрушили, то есть в том именно расширительном смысле, что благодаря покою сам собой проходит благодетельный сон, сам собой не нужен становится нам.
Генрих оживился, вскинул голову, вновь блеснув глазами, чтобы увериться, что он без подвоха, искренне, от души заговорил о Вергилии, и поискал карандаш, размышляя раздумчиво вслух:
— Пожалуй, ты прав. Я помечу на поле. А дальше так стройно, так хорошо: «...словно ибо ложе супруга жаждут сберечь в чистоте и взрастить сыновей малолетних...»!
Всё это были давние тайные мысли, всё это безнадёжная тоска в глубине, так что сердце зашлось от неё, хотя она была не своя, и он, не выдержав первым, сочувственно произнёс:
— Всё тоскуешь по сыну, как вижу.
Как будто обиженный этим сочувствием, но тотчас обмякнув, опустив жирные плечи, король засопел, заспешил, и взволнованный голос внезапно затуманили слёзы:
— Тебе так не больно, как мне. Мне моё горе спать не даёт. Своих сыновей ты давно уж взрастил.
Он от всей души принялся его утешать, однако выбранив себя, что разумом не успел охладить своё не столько мужское, сколько женское чувство, тут же возражая себе, что доброе чувство нельзя охлаждать:
— Тебе всего сорок лет. Как знать, чего от нас хочет Господь.
Генрих гневно воскликнул, болезненно морщась, раздувая острые ноздри, готовый, как было видно, рвать и метать, лишь бы на ком-нибудь выместить свою боль и свой гнев:
— Уже сорок лет! Вот как ты был должен сказать! А ей уже сорок семь! У неё уже никогда не будет детей! Ты это знаешь, как знаю и я! А какой я без сына король?
Кто бы не согласился, что власть в государстве должна передаваться от отца к сыну, как власть в доме от мужчины к мужчине, но он всё же, старательно соблюдая должную осторожность и в тоне голоса и в выраженье лица, произнёс:
— У тебя есть дочь, и есть ещё время, чтобы королева дала тебе сына. К тому же у римлян был довольно разумный обычай выбирать преемника усыновлением.
Генрих усмехнулся презрительно:
— Дочь — плохая наследница, а римляне мне не указ. Дочь посеет раздор. Да я теперь говорю не о том. Может быть, это в самом деле Господь наказует меня, ибо в сорок лет я всё ещё не ведаю чистого ложа, как ты!
Мор простодушно напомнил:
— Я женат на вдове.
Генрих выкрикнул зло, сверкая ледышками глаз:
— Не лукавь со мной, не лукавь! Первым браком ты был женат на девице, я знаю!
Он возразил:
— Помилуй, разве столь житейские обстоятельства имеют значение для короля, для страны?
Отбросив Вергилия сильным движением, царственный собеседник приподнялся, нагнулся к нему и выдохнул прямо в лицо:
— Я не только государь, но ещё и мужчина, а для мужчины имеет значение именно это! Она мне говорит, что причина во мне, что я весь гнилой. Понимаешь, что говорит мне эта старая дура!
Пристально глядя на него снизу вверх, Мор возразил добродушно и мягко:
— Не так и важно для мужчины, как тебе представляется, и вовсе не должно быть важно для короля.
Задыхаясь, рывком распахивая тугой воротник полотняной рубашки, сдавивший напряжённую жирную грудь, Генрих, впадая в истерику, закричал на него:
— Ты не можешь об этом судить! Ты свободен! Ты не король! Тебя миновала чаша сия! Вот они, эти насильные браки! Тебе говорят: это надо для государства, для его блага, ведь ты король, опора и надежда страны! Тебе говорят: так надо для упроченья союза чёрт знает с кем! А где он, скажи мне, где он, этот проклятый союз?
Канцлер видел, что Генрих не нуждался в ответе, но всё же сказал:
— А всё-таки ты был оскорблён, когда Карл расторгнул помолвку и выдал сестру за французского короля.
Монарх озлился:
— Тоже был круглый дурак! Хуже того: был подлец! Разве браком удержишь союз? Я это понял только теперь. Они же не ведают, что творят. Вишь ты, дипломаты и правоведы высчитывают, кто с кем должен спать, словно вычерчивают геометрические фигуры, торгуют детьми, начиная уже с пелёнок, детьми несмышлёными, нежными, жаждущими любви. Торгуют, торгуют, выторговывают надбавки, выменивают невинных младенцев на благо держав. А дети растут. Детям хочется жить. Они тоже люди, вот что пойми ты, пойми! Они не бараны, не лес, не пенька. Дети жаждут любви! Сколько лет торговали инфанту за брата Артура? Это ему, Мортону твоему, нравился этот дурацкий расклад! Это Мортон твой рассчитал! И оженили, когда Артуру не было и пятнадцати лет! Какой он был муж в те невинные лета? Слабый, болезненный мальчик. Ему бы расти и мужать. А его прежде времени уложили в постель. Нет, я больше не желаю зависеть ни от кого! Я хочу жить, как хочу!
Истерические жалобы тяготили его, да и слышал их не впервые, но возразить на них было нечего. Детьми торговали и в прежние времена, и теперь. Не будь таких браков, Тюдоры не стали бы английскими королями. Философ ещё помнил, с каким утончённым искусством Мортон, канцлер и кардинал, сватал инфанту единственно ради того, чтобы мир с Испанией был нерушим хотя бы на несколько лет, пока разорённая усобицей Англия не оправится от разрухи. Такова была цель. Тогда этим браком был обеспечен мир и союз. И теперь канцлер не имел права поддакивать слезливым жалобам короля, во имя всё того же мира и союза с Испанией, и он сказал, умело и постепенно переводя на другое, ещё слабо надеясь, что это, как и прежде бывало много раз, хандра и тоска, минутный каприз:
— Как же, я помню отлично, как Мортон много раз повторял за столом, за которым обычно собирались друзья, что вынужден добиваться этого брака, повторяя, что война с Испанией нам не нужна. Выходит, решение Мортона тоже зависело от обстоятельств, таких же враждебных, как и теперь. Ты же раздражён и потому полагаешь, что то была злая воля его.
Жирная обнажённая грудь Генриха затряслась, злобной жестокостью исказилось оплывшее лицо:
— Этот интриган, этот паршивый маньяк! Ему бы куда больше пристало звание сводни, чем кардинала! Была б его воля, твой Мортон всех принцев и всех принцесс переженил бы из расчётов своих, сукин сын! Принцессы и принцы служили ему всего-навсего математической формулой! Если этот туда, это сюда, силы будут равны, а если та туда, а этот сюда, будет война. Вот она, выучка продажного Рима! Все они там таковы!
В общем, Генрих был прав. Политика была продажна насквозь, без чести, без совести, без истинно христианской любви. Мор только пожал плечами и возразил:
— Не следует побеждать голос разума криком. Сроднив Тюдоров и Йорков, Мортон только этим союзом и положил конец десятилетиям кровавой резни, разорившей Англию куда больше, чем разорило бы нашествие неприятеля, а брак инфанты и Артура положил начало союзу с Испанией, которая могла бы стать тогда нашим злейшим врагом. Почему ты не хочешь думать об этом? Ты же правитель, отец нации, так сказать.
Король в бешенстве ударил кулаком по колену здоровой ноги:
— Думать о чём? Ты мне советуешь! Я помню, я думаю, что совершил тяжкий грех ради всех этих паршивых союзов, которые, как оказалось, мне совсем не нужны. Я женился на вдове моего прежде времени угасшего брата, а вдова была старше меня на семь лет. Целых семь лет! А Испания что? Плевала твоя Испания на инфанту! Твоя Испания всё равно стала нашим злейшим врагом! За что же я-то теперь должен нести наказание? Где твоя хвалёная справедливость для всех? Что же, справедливость не распространяется на твоего владыку?
Ему было жаль, но он не выразил сочувствия, опасаясь этим повредить, и ответил спокойно:
— Справедливость должна одинаково распространяться на всех, но это случается не всегда.
— И на меня, на меня?
— И на тебя, на тебя. Да, ты не сам себе выбрал жену, но ты согласился и прожил с ней двадцать пять лет.
Генрих ещё ближе нагнулся к нему, скаля зубы, хватая его за плечо:
— Ага, так вот оно что! А ты разве не помнишь, как умер отец? Он жил тогда в Ричмонде и умер внезапно. Его ненавидели все, почитали злодеем и скрягой только за то, что он расправлялся с мятежниками и обеспечивал своё состояние, забирая имущество побеждённых баронов, как все во время войны берут контрибуцию.
Канцлер иронически улыбнулся:
— К тому же получив от своих подданных около двух миллионов на эту войну.
Генрих дёргал и тряс его за плечо, выговаривая упрямо, поднимая и опуская тонкие брови, то расширяя, то сужая глаза, совершенно потерявшие цвет, одни чёрные пятна зрачков остались:
— Отец был в этом прав. Ты не можешь не знать. Ты, философ, мудрец. Эти деньги укрепили королевскую власть. Кто виноват, что люди почитают лишь богатство и силу и презирают даже равных себе, не говоря уж о слабых и бедных? И вот когда этой силы не стало, когда эта сила, остановившая их, лежала в гробу, они могли взбунтоваться, надеясь отнять у короля и Англии то, что он когда-то отнял у них. Окольными путями я прискакал с отрядом телохранителей в Лондон. Мы заняли Тауэр, заперев все ворота, и вокруг замка стянули отряды, па которые можно было ещё положиться. Мне предстояло сделаться сильным или погибнуть в огне мятежа, а в мятеже погибла бы не одна моя голова, но и головы многих и с ними мир Англии, мир нации, как ты говоришь, тот мир, который был упрочен столькими жертвами. Это были для меня ночи тревог и раздумий. Тогда и решил я жениться на Катерине. Да, да, во спасение моей головы и во имя мира в стране. Мне позарез была необходима поддержка Испании. Разве всё это ради моего удовольствия, ради меня одного? Вовсе нет! Ради спасенья моей головы, ради спасенья короны, но и ради спасенья страны я молил папу Юлия разрешить этот богомерзкий, этот преступный, этот противоестественный брак! Я унизился перед ним, как только мог, унизился перед тем, кто не стоил моего уважения, кто сам был преступником на папском престоле. И он разрешил!
Становилось больно плечу, и Мор попытался неприметно освободиться, резко спросив:
— Так ради головы и короны или ради покоя страны?
Генрих держал руку над ускользавшим плечом, точно собираясь ударить его, и быстро, беспокойно сказал:
— Разве можно их разделить? Да, ради головы и короны и ради покоя, поверь мне! Разве я когда-нибудь лгал, что мне безразлична моя голова и корона? Да, я ужасно люблю и голову и корону, это естественно, ведь я человек и по рожденью король, но и держава дорога мне не меньше! Я знаю, ты сомневаешься в этом и сомневался всегда. Тебе представляется тиранией и самое малое возвышение монаршей власти над властью парламента. Как знаешь, Господь тебе судья, но это так. Вот сам рассуди: ведь всемерное упрочение власти моей служит на благо страны. Вседневно молю я Господа о её процветании, ты это знаешь, я не лгу, клянусь тебе дочерью, почему же не веришь ты мне?
Он этому верил, но не стал отвечать, а только спросил, строго глядя снизу прямо в расширенные глаза, пылавшие не одним только бешенством, но и годами накопленной, как он знал, затаённой тоски:
— И что же теперь?
Весь вспыхнув, с трудом ещё ниже пригибаясь к нему, чтобы, должно быть, следить за выражением его неменявшегося лица, Генрих взволнованно выговорил, умоляя его вдруг потерявшими силу глазами, такими беспомощными, как у детей:
— Ты же всё понимаешь! Ты знаешь, чего я хочу. Не хитри. Я хочу развода с женой!
Канцлер это знал и понимал его чувства короля и отца, которым одинаково нужен наследник, чтобы продолжить династию, но предвидел последствия, если это случится, всеми силами противился этому, продолжал противиться даже под тяжестью этих умолявших беспомощных глаз и потому вопросил с затаённой иронией, стараясь оставаться спокойным, хотя давно уже не был спокоен:
— Как мужчина, ради укрепления своей власти против власти парламента или на благо страны?
Отшатываясь, нехорошо улыбаясь, король укоризненно покачал головой:
— Отчего ты не веришь мне? Ведь ты же мудрец!
Он выпрямился и посмотрел безбоязненно, прямо:
— В этом я не могу вам поверить, милорд.
Государь грузно поднялся, держа небольшие изящные руки на кожаном поясе, расслабленно говоря:
— Ты не веришь своему другу? Я верно понял тебя?
Мор не любил этот расслабленный, вдруг ставший старческим голос, за которым обыкновенно следовали взрывы бешеного упрямства, тоже встал со скамейки, чтобы каким-нибудь нечаянным вздором понапрасну не раздражать короля, маленький, щуплый, подвижный, рядом с громадой неуклюжего королевского жирного тела, и нехотя согласился, глядя мимо, в окно, на низкое небо, покрытое сплошными слезливыми серыми тучами, на сумрачный день, нагонявший тоску, подумав о том, что ещё один день окончательно пропал и испорчен, пропал навсегда и уже никогда не возвратится таким, каким мог бы быть в кабинете, где, отложив в сторону свои изыскания, готовил новый парламентский акт о неприкосновенности крестьянских домов и земель, или на острове, где не был уже несколько дней и уже тосковал по семье:
— Почему же, я верю, что моему старому другу Гарри давно надоела старая, больная жена.
Король, одёргивая нервно камзол, неловкими пальцами оправляя ворот собравшейся складками на жирной груди, сморщенной, мягкой, но уже опять тесной рубашки, почти жалобно, торопливо протестовал:
— Она старая, да. Это каждому видно. Но ведь ещё не больная же, нет. Я не о возрасте её говорю. Прошу тебя. Ты со мной не хитри. Жена никогда не понимала меня. Чужая, испанка, упрямая дочь Фердинанда. Ей только и свету в окне что родня, племянничек Карл. Пока я держался союза с Испанией, в её глазах я был великий король и великий правитель, умнейший из смертных, чёрт побери. Я долго терпел, ну, после того, как племянничек Карл жестоко меня оскорбил, но не мог не отойти от него. На благо Англии, да, уж с этим-то ты не поспоришь. И нынче она так испуганно смотрит, так плачет, и молит, и говорит без конца, что я сбился с пути, что я обманут, что меня подбивают против её племянника Карла мои дурные советники, что мне надлежит умолять его о новом союзе, что я идиот.
Он видел, что король втягивал его в ещё один бесполезный, бессмысленный спор, не первый в последние месяцы, несносный, неприятный, ибо у него просили согласия, которого дать не мог и не мог отказать. Мор стоял, смотрел, как беспокойно двигались руки, как тяжело и порывисто Генрих дышал и подыскивал холодные, невозмутимые фразы, которые были бы способны загасить этот спор не только о жене, но и о Боге, что благословил этот брак. Пытался избежать прямого ответа, но какие же в этом случае могли быть благоразумные фразы? Все, какие подворачивались на язык, казались случайны, двусмысленны, чуть ли не в каждой обнаруживал он острое жало, которое могло бы ещё пуще распалить собеседника, разжечь словесный пожар да ещё нарушить эту сложную, какую-то странную дружбу, прежде времени смешать его близкие и дальние планы обустройства мирной жизни в стране, остановить этот парламентский акт о свободных крестьянах прежде всего.
Канцлер склонил голову на плечо, как понурая птица, опустив вдоль тела бессильные руки, сердясь на себя за медлительность мысли, всегда живой и покорной ему, и приглушённо, вежливо говорил:
— Может быть, её величеству трудно понять, ибо испанский союз был нашей давней, традиционной политикой, которая и упрочила власть новой династии. К тому же её величество женщина и живёт более сердцем, чем разумом, как пристало жить нам.
Король проворчал, посмеиваясь каким-то жидким, видимо деланным смехом:
— Ну, ты и сам не любишь давних традиций. Дозволь я тебе, ты давно бы расправился с ними, всё перевернул бы вверх дном, для начала отобрав у владельцев законное право поступать с землёй, как им захочется, если истекает срок договора, как бы этому ни противился арендатор, а меня, чего доброго, превратил бы в какого-то князя в каком-то твоём Амауроте или как там сказано у тебя.
Мор возразил равнодушно:
— Сперва непригодность, неразумность давней традиции должна сделаться очевидной, понятной для всех, как и традиция владельца овец лишать землепашца земли, когда истёк срок договора. Разумеется, это дело законное, испокон веку идёт, однако ж противное призыву о милосердии, идущему свыше. Разве гак плохо, если не жестокость закона, но милосердие станет традицией?
Серьёзно взглянув, король шагнул, тяжело переступая отёкшими, больными ногами, обтянутыми тесным чёрным трико, крепко взял под руку и медленно повёл рядом с собой, дружелюбно, почти успокоенно растолковывая ему:
— Ты настоящий мужчина. Решительный. Смелый. Ты в любых обстоятельствах владеешь собой. Мне нравится это в тебе. Сам я слишком порывист. Мне всегда хочется в один миг всё переменить, если это может увеличить мою власть над людьми, ведь им во благо сильная власть.
Они неторопливо шагали неприютным гулким сводчатым залом. Его быстрые тонкие ноги не попадали в шаг короля. Философ то и дело мягко ударялся и тёрся о жирный бок, о женственное бедро, неловко переступая, размышляя о том, что Генрих не только нетерпелив и порывист, это бы ещё ничего, и отговаривался полушутя:
— Всё решительное подозрительно женщинам. Им спокойно, уютно лишь с тем, что устойчиво и привычно для них. В риске мужчин они подозревают опасность для своего очага, возможность потерять равновесие жизни, утратить домашний покой. В женщинах говорит материнство. Им дорого насиженное гнездо.
Прихрамывая, переваливаясь, должно быть не слушая, что ему говорят, король продолжал настойчиво объяснять:
— Порвать с Испанией было необходимо. Не для меня одного. Ты поверь. Но для Англии. Возможно, и для Европы.
Ему было неприятно дышать этим воздухом, застоявшимся, волглым, не освежённым чистым ветром полей, по которым любил гулять. Вызывала досаду роскошная пустота огромного зала. Идти с хромающим королём становилось всё неудобней, всё тяжелей. Видел, что, на какие бы дипломатические умолчания он ни пускался, его всё же втягивали в этот не только тщетный, суетный, но ещё и таящий опасность, слишком многозначительный диспут о личной жизни и политике короля. Душевный покой был утрачен. Настроение становилось всё хуже, каким-то раздражённым, гадким, чужим. Всё-таки терпеливо, с едва уловимой насмешкой спросил:
— Потому что паршивец Карл отказался жениться на вашей любезной сестре?
Взглянув невнимательно, искоса, покачнувшись оттого, что неловко ступила больная нога, король возразил:
— Это был всего лишь отличный предлог. Не больше того. Благодарение Господу, что такой предлог подвернулся. Тебе ли не знать, что Испания становилась слишком сильна и опасна. Этот Карл родился в рубашке. Ему досталась не только Испания. Он стал владеть Германией, Италией, Фландрией и Вест-Индией. Ему противостоит одна Франция. Если бы мы не разорвали с Карлом союз, он раздавил бы Францию, как орех. Тогда ему на потеху осталась бы только Англия, подобие мыши, загнанной в угол. Каково тогда было бы мне, тебе, англичанам?
Пытаясь неприметно вывернуть затекавшую руку из тяжёлой руки короля, шагая неловко, раздражаясь всё больше, ответил негромко, решительно, жёстко:
— От иноземных вторжений нас отлично защитила природа.
Подведя его к большому камину, сложенному из диких камней, в котором, слабо мерцая углями, догорали дрова, король выпустил наконец его утомлённую руку, опустился в тяжёлое кресло, покрытое войлоком, обитое вытертой кожей, и громко хлопнул в ладоши. В тот же миг дежурный выскочил из-за высоких дверей, не издав ни скрипа, ни звука. Не взглянув на него, Генрих отрывисто приказал:
— Больше огня.
Дежурный, услужливо пав на колени, осторожно, умело расшевелил головешки, засверкавшие тут же свежими языками пламени, и ловко, размеренно, с перерывами, давая заняться, подбрасывал тонкие высушенные поленья.
Король, с удовольствием, написанным на лице, протягивая руки к теплу, насмешливо говорил, перейдя на латынь:
— Твоя природа не помешала ни римским солдатам, ни Вильгельму Завоевателю. Ты иногда забываешь, в каком мире живёшь. Жестоком, безжалостном мире, поверь. Наш остров всё-таки не похож, как ты ни старался, на тот, который ты так умно и с такими удивительными подробностями описал в своей славной книге. Я прочитал её с интересом. Не будь я королём, я, может быть, написал бы не хуже. Но я король. Мне известно, что вокруг нас природа не создала стольких подводных мелей и скал, чтобы сделать подход чужих кораблей невозможным, даже в пору туманов, а у испанцев довольно трёхпалубных галеонов, чтобы напасть со всех сторон одновременно, высадить несколько армий и прикрыть их огнём пушек.
Наблюдая, как охотно и весело разгорался огонь, обдавший ноги, обутые в башмаки и чулки, первым, самым ласковым, самым любимым теплом, он почтительно, неподвижно стоял рядом с креслом и без желания, но уверенно отвечал:
— Вместо того чтобы воевать почти беспрерывно четыре столетия, наши солдаты могли бы искусственно так укрепить берега, что немногие защитники отразили неприятеля, каким бы ни располагал он количеством галеонов и пушек.
Взглянув на него с удивлением, Генрих коротко, пренебрежительно рассмеялся:
— Что я слышу! Да уж не поверил ли ты спустя столько лет, что твой выдуманный Утоп в самом деле прорыл те пятнадцать или сколько там миль, которые отделили его особенный остров от враждебного ему, как и нам, континента?
У него робко сжалось и дрогнуло сердце. Мечта, посетившая его в юности, теплилась все эти годы, подобно искре под слоем золы, где-то тайно и глубоко, и, в сущности, никогда не оставляла его. Теперь она вдруг шевельнулась под слоем вседневных забот, всполошив его совершенно некстати. Его доброй мечте не мешали ни удивлённые взгляды, ни пренебрежительный смех короля. Мыслитель подумал о том, что, казалось бы, фантастичное, невозможное, о чём он, страстно мечтая о добром мире и мирном труде, восхищённо писал в своей книге, о чём так неожиданно, высокомерно и почти издевательски напомнил король, могло быть так возможно, вполне исполнимо, легко, хоть бы завтра это начать, пойми только государь, что укрепление берегов удобней и надёжней для всех, не говоря уже о солдатах, которые, оставив оружие, охотно возвели бы неприступные крепости, лишь бы не рисковать беспрестанно жизнью в боях, не принёсших ни покоя, ни мира.
Что бы могло помешать? Разве всему живому не хочется жить? Многим ли из солдат доводится дотянуть до победы, после которой вновь приходится воевать? Разве так много лет отделяет одну войну от другой?
Он нетерпеливо воскликнул, на мгновение забыв, где находится и с кем говорит:
— При желании прорыли бы вдвое!
Король отрывисто приказал, на этот раз по-английски:
— Довольно. Оставь нас. Иди.
Дежурный торопливо подбросил в загудевшее пламя несколько кряжистых поленьев, вскочил и бесшумно исчез.
Генрих слабо повёл рукой в сторону простого тяжёлого табурета:
— Садись и не повышай голос при слугах. Плохой ты придворный, как я ни бьюсь.
Мор сел правым боком к огню, сознавая оплошность, смущённо пробормотав:
— Я предупреждал вас, что я не придворный.
Настроение короля изменилось. Генрих усмехнулся, пожал плечами и беззаботно спросил:
— Отчего философы предаются мечтам? Философам, согласно их званию, надлежит трезво мыслить и видеть вещи такими, как они есть. Скажи, отчего?
Канцлер невозмутимо ответил, подавшись вперёд, опираясь на колени локтями, разглядывая ладонь, по которой весело прыгал алый отсвет огня:
— Я не знаю.
Генрих тоже потянулся к огню, тепло улыбаясь:
— Иногда ты забавляешь меня.
Мыслитель прищурился и напомнил, не взглянув на него:
— Я не шут.
Монарх пошевелил небольшими красивыми пальцами, покрытыми рыжими волосками, которые теперь стали видней, всё приветливей улыбаясь то ли ему, то ли огню:
— Я помню. Я не хотел обидеть тебя. Меня забавляет, как различно мы смотрим на вещи, мудрец и правитель. Не знаю, способен ли мудрец стать правителем, а правитель стать мудрецом. Иногда, в минуты печали, представляется мне, что я мог бы стать мудрецом. Во мне что-то есть. Но чаще я думаю, что не станет ни тот ни другой. В этом мудрость природы, должно быть. Ибо подобное различие взглядов на вещи приятно и полезно уму. Нередко, выслушав твои мудрые возражения, я нахожу, что я согласен с тобой, а король должен поступить совершенно иначе. С тобой эта странность тоже случается?
Мор оттаивал, согреваясь. Было приятно сидеть у огня и беседовать о посторонних предметах. Задумчиво отвечал:
— Эразм полагает, что трудно советовать имеющим власть, ещё труднее рассчитывать, что имеющий власть последует советам философа, я же только считаю, что правда колет глаза и рождает врагов.
По лицу Генриха беспорядочно прыгали рыжие блики огня, искажая его, то увеличивая, то уменьшая, стальные глаза точно плавились, исчезали совсем, так что невозможно было понять, что в действительности думал, переживал человек и король, а голос звучал и сердито и жалобно:
— Это странно, даже обидно, быть может, смешно. Я король. Я властен над всеми во всём государстве. В моих руках жизнь и смерть моих подданных. Нет никого в державе моей, кто был бы равен мне могуществом, даже богатством. И всё же меня никто не понимает, не любит.
Ему почуялось истинное страдание в этом неспокойном, неровном, рвущемся голосе. В душе пробудилось сочувствие и к человеку, и к королю. Притворная сдержанность, которой себя обучил, как должен быть сдержан философ, юрист и политик, растапливалась, уплывала куда-то. Готовясь распахнуться, раскрыться, обмякала душа. Но Мор её удержал, вздохнул, прикрывая участливость и понимание ровным тоном неторопливой задумчивости:
— Недаром же говорят, что трудно тому, кто по своей воле или по воле природы встал над людьми.
Генрих ещё долго смотрел в бушевавшее пламя камина, не отодвигаясь от сильного жара, весь покраснев, щуря стальные глаза, окаймлённые теперь золотыми ресницами, сцепив покрасневшие пальцы дрожавших рук, и наконец прошептал, болезненно, страстно и громко, забыв про латынь:
— Или тупое сопротивление, или тупая покорность... За что же?.. За какие грехи ты меня караешь, Господь?..
Канцлер отодвинулся несколько в сторону от камина, скрываясь в тени, негромко смеясь, будто бы весело, будто бы всё это шутка была, но с болью в растроганном сердце, с жалостью к человеку и государю и за что-то к себе:
— По этой причине я и согласился быть твоим канцлером. Отчего ты этого не хочешь понять?
Генрих морщился и говорил так, точно сам с собой толковал, оставшись наедине:
— Ты-то умён. Покорности в тебе ни на грош. И сопротивление твоё не тупое, уж нет. Я это вижу, ведь я тебя знаю давно. Только не по-моему ты как-то умён. Какая фантазия: изрывать берега, утыкать новыми скалами море. Это же чепуха. Ты и понимаешь меня, а как будто не хочешь понять, как будто и помогаешь и не хочешь или не можешь помочь.
Философ стал серьёзен и негромко признался, сознавая вину за собой:
— Если приходится помогать против совести, действительно помочь не могу. Тебе, я надеюсь, покой души тоже дороже всего.
Глаза Генриха оплывали и точно слепли всё больше от блеска и жара огня, белки краснели от прихлынувшей крови, ресницы точно сами пылали огнём, голос звенел сумрачно и высоко:
— А я и требую знать, что тебе говорит твоя совесть, как будто перед тобой не король. Ведь ты учителем был для меня, а потом мы стали друзьями. Так рассуди, кто же мне скажет правду, если не ты?
Очень хотелось дружески утешить того, кто истинно страдал, давно страдал у него на глазах. Сострадание утешит друга, но может выглядеть в мнении монарха согласием и поддержкой давнего плана, с которым, как философ, он согласиться не мог и который, как политик, права не имел поддержать. Повторил осторожно и мягко:
— Ну, разумеется, как не понять, что тебе тяжко со старой, нелюбимой женой. Всякому, окажись он на твоём месте, было бы скверно.
Генрих медленно отвалился назад, опираясь на резные широкие ручки, вытягивая толстые ноги к огню, и, взглянув на него неопределённо мерцающим взглядом, чуть ли не радостно подхватил:
— Вот видишь, такие вещи ты всё-таки способен понять!
Уже раскаиваясь, что дал волю добрым, искренним чувствам, совсем не уместным в том некрасивом и запутанном деле, смысл которого давно угадал и которое для своего разрешения требовало холодного, трезвого разума, а не разнеженных чувств, склонил голову, укрывая глаза, чтобы не быть неправильно понятым, и неуверенно протянул, желая выиграть время:
— Как не понять? Такие вещи понимает каждый мужчина.
Генрих оживился, настойчиво повторил:
— Да-да, как это ужасно! Как мне тяжело! Так тяжело! Невыносимо, постыло мне всё! Просто нет слов, как мне тяжело!
Мор неохотно кивнул головой:
— Это, разумеется, так.
Самодержец торопливо, с надеждой спросил, неуклюже повернувшись, нависая, как медведь:
— И что из этого может последовать? Что из этого должно последовать, а?
Он долго молчал, разглядывая сначала толстые ноги, близко протянутые к огню, сверкающие пряжки на ремнях башмаков, когда на них падал свет, тускневшие, когда оказывались в густой, почти чёрной тени, скрывавшей их от весёлого хищного пламени, потом вдруг посмотрел прямо в полуприкрытые стальные глаза короля, настороженно ждавшие, торопившие, ярко блестевшие сквозь золотистую щетину ресниц, и видел колебание на дне затаившихся глаз, в этом неспокойном, придирчивом ожидании, точно вынуждавшем его согласиться.
Да, от советника требовали разумно и справедливо решить судьбу неумолимо старевшего Гарри Тюдора, которого, согласно древнему закону природы, вдруг потянуло к молодым, свежим женщинам, к страстным объятиям и к горячим, безумным ночам, чтобы всё ещё ощущать себя сильным и молодым, а решалась судьба государства, судьба всего мира, судьба убеждений и вер. Из него искусно и терпеливо вымогали одно простое, короткое слово, но это слово было невозможным, немыслимым именно с точки зрения рассудка и справедливости, а перечить королям бесполезно, даже если они философов называют своими друзьями. Если б об одних только молодых, страстных женщинах была речь! У Генриха их было достаточно. Королева напрасно укоряла мужа, что он не способен зачать. Генрих бесился и проверял свои мужские способности чуть не с каждой смазливой девчонкой, появившейся при дворе. И проверил. И теперь хотел жениться, чтобы у него был наследник короны, чтобы продолжить династию, ещё молодую, не успевшую укорениться ни на континенте, ни в Англии. Его интрижки никому не вредят, разве только жене, а брак его поссорит со всеми, с подданными, с королями, с церковью прежде всего.
Вновь раздражаясь, сердясь на себя, отводя виновато глаза, потому что перед ним страдал человек и король, приглушённо, нехотя бросил:
— У вас много умных советников на такие дела.
Генрих, тяжело заворочавшись в кресле, бросив, казалось, ненавидящий взгляд сквозь рыжую поросль ресниц, нетерпеливо напомнил:
— Если ты согласился быть канцлером, твой долг советовать мне, ибо, как ты не можешь не понимать, это дело важности государственной.
Что ж, ему куда больше подходил такой поворот этой затянувшейся, трудной беседы наедине, и Мор, вскинув голову, широко улыбнулся:
— Я никогда не стоил и не стою в особенности теперь вашей милости, которой обязан был только случаю.
Генрих умолк, потупив светлую голову, сцепив рыжеватые пальцы на большом животе, гневно стиснув их в один беспокойный кулак, закусив небольшие бескровные губы. Потом выдавил:
— Но я только прошу тебя исследовать беспристрастно, исследовать добросовестно и строго логично все наличные обстоятельства, и если самые обстоятельства, а не постулаты лицемерной морали, убедят тебя в разумности и справедливости этого необходимого дела твой глубоко и смело мыслящий ум, я был бы счастлив и рад видеть тебя в этом деле вместе со всеми прочими моими советниками и во главе их, это прежде всего.
Угадав, что на этот раз промолчать едва ли удастся, канцлер безразличным тоном спросил:
— А если наличные обстоятельства убедят меня в обратном тому, чего желается вам?
Самодержец переменился вдруг, встрепенулся, ощерился неприветливым маленьким ртом и торжественно-громко заверил его:
— А если наличные обстоятельства в обратном тебя убедят, я обещаю твоего мнения не использовать против тебя. Моё слово твёрдо, ты знаешь, и верь!
Мор понимал, что Генрих честно и с убеждением давал своё королевское слово, но поверить этому не мог, он из истории и по личному опыту знал, как переменчиво королевское слово; всё же не медлил и откликнулся тотчас, в то же время размышляя о том, как непримиримо и сложно запутались обстоятельства, которым решился встать поперёк:
— Я вам верю, милорд.
Генрих выпрямился, раскинув руки по широким ручкам просторного кресла, едва вмещавшего его нездоровое тело, и в упор смотрел на собеседника, высказываясь наконец откровенно:
— Итак, мой брак с испанской инфантой был противоестественный, исключительно политический брак. Ныне эта противоестественность мне омерзела, а политическая необходимость отпала, совершенно отпала с течением лет. Что ни говори, а рассудительная политика ограждает нас понадёжней, чем твои подводные скалы, придуманные тобой, не спорю, остроумно и ловко. Наш союз с Францией уравновесит Испанию, которая занёсшую руку на весь континент. Таким образом, ни та ни другая держава не сможет нам угрожать. Такой союз принесёт нам прочную безопасность, а также немалую выгоду, что, как ты сам понимаешь, нам на пользу пойдёт.
Подумав о том, что в таком случае опасность внешняя сменится опасностью внутренней, канцлер с умышленной неторопливостью задал коварный вопрос:
— И вы женитесь на французской принцессе?
Дёрнувшись как от удара, сузив непримиримые, откровенно злые глаза, король сглотнул тяжёлый комок и мрачно предупредил:
— Ты со мной так не шути... Подобные шутки в своё время погубили кардинала Уолси... Тоже любил пошутить...
Овладел собой и твёрдо сказал:
— Довольно с нас чужеземных принцесс. Довольно своекорыстных династических браков, которые уже давно не дают нам никаких преимуществ. Своей новой женой я сделаю англичанку, даже если в её жилах не течёт королевской крови ни капли. Мы — англичане, и останемся англичанами.
Мор особенно любил и ценил в Генрихе эту своевольную дерзость, эту способность вдруг одним махом разрушить вековую традицию, но на этот раз в славной дерзости короля таилась угроза спокойствию и благосостоянию всего государства. Философ издавна пытался направить эту дерзость, эту способность к неожиданным, непривычным решениям на благо страны, но государь всё чаще не поддавался, капризно и властно поворачивая державу на скользкий путь недовольства сословий, от лорда до грузчика с берега Темзы, путь опасный, грозивший распрями, враждой кланов, наследников, целых провинций, и надежда на то, что он сумеет остановить, образумить, убедить человека, если не короля, опираясь на доводы разума, становилась всё слабее, всё меньше. Он с горечью обронил:
— Значит, Болейн.
Монарх вызывающе, жёстко спросил:
— Так что же?
Уже справясь с собой, твёрдо выговорил то, в чём был убеждён, открыто глядя прямо в глаза царственного собеседника:
— Никакие причины не могут расторгнуть брак, освящённый Всевышним, кроме смерти одного из супругов. Это закон.
Глаза короля сверкнули зловещим огнём:
— Что же ты мне посоветуешь сделать?
— Свой крест нести до конца.
Генрих задумчиво протянул, без чувства, без смысла глядя на угасавший огонь:
— Ну что ж... — И вдруг властно махнул, не взглянув на него: — Свободен. Можешь идти.
Философ вышел обеспокоенный, с тревогой в душе.
Глава седьмая НЕУДАЧА
Генрих остался один. Ему предстояло заняться делами. На столе были приготовлены донесения послов и шпионов, бумаги, важные и неважные, которые необходимо было просмотреть. Взял одну, повернул её несколько к свету и поднял на уровень глаз. Это было письмо из Мадрида. Его посол сообщал придворные сплетни. Отношения с Испанией были накалены, грозили войной, да она уже и велась исподтишка в океане, а этот бездельник видел лишь то, что было неинтересно ему, что у первого министра сменилась любовница и что министр финансов истощает казну. С досадой бросил письмо. Пора в отставку этого дурака. Надо подумать, кем его заменить. Трудный, почти неразрешимый вопрос. Слишком мало умных людей. К тому же с умными иметь дело едва ли не хлопотней, чем с дураками.
Главное, на душе у него было нехорошо. Воспоминания не оставляли, язвили, от них было некуда деться. Необходимо было понять, что ждёт его в будущем, а память всякий раз тревожила прошлым. Прошлого не было, но от него невозможно было уйти.
Поднялся, потянулся, расправив плечи, прошёлся, тяжело ступая, по кабинету. Встал у окна. На лужайке, залитой солнцем, солдаты конвоя бились мечами.
Бились лениво. Переговаривались. Над чем-то смеялись. Офицер стоял в стороне и молчал. Можно было подумать, что это неповиновение, даже измена, но знал хорошо, что они просто бездельники, что одни и те же упражнения изо дня в день перед вторым завтраком и после обеда им давным-давно надоели, несмотря на приказ. Надо было вызвать дежурного и приказать прикрикнуть на них, но не хотелось.
Тогда решил отомстить несносному Карлу. Фландрия была его самой богатой провинцией. Он задумал её разорить и закрыл английские порты. Ни один товар из Фландрии не мог проникнуть в Англию законным путём, а во Фландрию не мог попасть ни один английский товар. Ему представлялось, что это верное средство, что Фландрии будет нанесён громадный урон и что Карл запросит пощады.
Громадный урон нанесён был английской торговле. Заволновались финансисты и торговые люди. Пришли в смятение депутаты парламента. Таможенные сборы упали. Казна истощалась с такой быстротой, что сердце замирало от ужаса. В парламенте грозили приостановить акцизы и подати. Того гляди, не чёртов Карл, а он сам мог бы быть разорён.
Генрих был растерян, мог отступить, но он должен был что-то предпринять. Слава Господу, представители нации не решились пойти на разрыв. Для переговоров избрали Томаса Мора. Монарх не видел его несколько лет. Пришлось наводить справки, прежде чем встретиться с философом. Оказалось, что Томас сделался незаменимым советником мэра Лондона и шерифа по вопросам законодательства. Знания юриста, деловитость и добросовестность, ораторские способности и безупречность нравственной жизни сделали его популярным в самых широких кругах, прежде всего среди финансистов и торговых людей, чьи интересы он защищал. Его избрали в парламент, уважали за пылкий и непреклонный характер, за обширную образованность, человеколюбие и мудрость. Своими трудами мыслитель заработал солидное состояние, которое прибавил к наследству отца. У него были большой дом и большая семья.
Генрих увидел невысокого стройного человека в строгом костюме. Ему можно было дать не более двадцати пяти, хотя тот был старше лет на десять или двенадцать. Монарх растерялся:
— Давно не виделись, Томас.
Мор поклонился:
— Очень давно.
Не знал, с чего начать разговор:
— Говорят, ты стал миротворцем.
Мор нисколько не был смущён:
— Как вы стали воином.
Неловко спросил:
— Чем ты теперь занимаешься?
Собеседник ответил спокойно и просто:
— Я адвокат.
Генрих оживился:
— И больше не занимаешься изящной словесностью?
Философ улыбнулся широко, доброй улыбкой:
— Времени мало, но всё-таки занимаюсь.
Король удивился, что это всё ещё ему интересно:
— Чем же ты занимаешься нынче?
Мор помолчал, точно подумал, стоит ли об этом теперь говорить, и всё же сказал:
— Составляю историю Ричарда Третьего.
Монарх был удивлён:
— Убийцы?
Томас внимательно посмотрел и ответил уклончиво:
— Деспота.
Разговор оживился, точно Генрих был ещё юношей, а философ учителем вместе с Колетом и Маунтджоем:
— Мне в назидание?
— Нет, в научение.
— Разве ты помнишь его?
— Мне было лет семь или восемь, когда его убили в сражении, но его помнил отец и много рассказывал мне.
— Но ведь этого мало для серьёзного исторического труда. Разве так работали Плутарх и Светоний?
— Вы правы, милорд. Я читаю и сравниваю хроники Холиншеда, Графтона, Холла и Стау. Ещё помогает француз, Филипп де Коммин. Очень советую прочитать.
— Тоже нравоучение?
— Нет, научение.
— Что же, доставь мне его.
— Непременно, милорд.
Он освободился от робости, которую испытывал в юности и о которой давно позабыл, вновь Почувствовал себя королём и уже громко, резко сказал:
— Впрочем, всё это потом, когда-нибудь на досуге. А теперь с чем пожаловал, Томас?
Мор выпрямился и твёрдо ответил:
— Парламент просит, милорд, снять ваш запрет. Многим грозит разорение. Это плохо для всех. Плохо и для вас, короля.
Государь вспыхнул:
— Фландрия даёт Карлу вчетверо больше доходов, чем ограбление заморских индейцев. Я её разорю и тем уничтожу его.
Мор остался спокойным и рассудительным:
— Прежде вы разорите Англию и себя.
— Боюсь, мне этого никогда не понять!
— Отчего ж. Этого нельзя не понять. В торговле с нами Фландрия не нуждается, а мы без торговли с Фландрией просто погибнем.
— Они торгуют с нами, мы торгуем с ними, а между тем Фландрия богата, тогда как Англия бедна? Как так?
— Вы правы, милорд. Торговля — источник богатства и процветания. Но мы вывозим только грубую шерсть наших овец и плохо обработанное сукно, тогда как с Фландрией торгует весь мир. Испанские корабли с серебром и золотом заморских индейцев направляются прямо в Антверпен, его гавань ежедневно принимает сотни судов. В Антверпене заводят свои товарищества торговые люди из Португалии, Испании, Италии, Венеции, Австрии, даже Оттоманской империи. Каждый день по улицам этого города катится не менее двух тысяч повозок с товарами всех видов и самого высокого качества. В мастерских заняты тысячи мастеровых. Между прочим, они дорабатывают наше сукно и получают материю высшего качества, чего мы делать пока что не научились. Во Фландрии работают все. Работу и достойную плату за труд может найти даже пятилетний ребёнок. Фландрия процветает, тем не менее тамошние граждане чуждаются роскоши. В большинстве своём это люди добропорядочные, трудолюбивые, набожные и скромные. Они любят учиться. Начальное образование распространяется даже между крестьянами. Благодаря благосостоянию и умению читать и писать граждане Фландрии пользуются довольно широкой свободой. Города, провинции, сословия, товарищества торговые и ремесленные имеют свои привилегии. Каждый налог вводится только после того, как его утвердят генеральные штаты, в которых имеют равное представительство дворяне, духовенство и города.
— Не может этого быть! Ты рисуешь мне рай на земле!
— Многое может быть, очень многое из того, что представляется нам невозможным, а Фландрия вовсе не рай. И там, как и везде, довольно ошибок в управлении и делах. Города и сословия слишком держатся за свои привилегии. Это ведёт к эгоизму. Эгоизм разделяет людей, разделяет страну.
— Слава Господу! Не то бы я испугался.
— Ну, нам не этого надо пугаться.
— Отчего же?
— Во Фландрии трудятся все, оттого она и богата. В Англии почти половина жителей не знает труда, оттого Англия и бедна.
— Не может этого быть!
— Сами судите. Фландрия не имеет аристократов, тогда как у нас громадное количество лордов, и несмотря на войны, в которых многие из них перебиты, их не становится меньше. А ведь это трутни, сами не трудятся, живут чужими трудами, сдают в аренду поместья и чуть не до живого мяса стригут арендаторов, что не способствует росту их богатства. И это бы ещё ничего. За счёт арендатора живут сотни слуг и телохранителей лорда, и если аристократ разоряется или уходит из жизни, эти сотни здоровых людей остаются без крова и пищи, а делать ничего не умеют. Тогда они голодают, живут подаянием или разбоем, отчего Англия не становится ни добропорядочней, ни богаче.
— Ты слишком впечатлителен. Их не так много, как ты говоришь.
— В самом деле, их меньше, чем нынешних и бывших солдат.
— Чем тебе не угодили солдаты? Ведь это лучшее, что у нас есть. Своей храбростью и умением они побеждают врага.
— Побеждают, но далеко не всегда, но всегда требуют громадных средств на своё содержание. Так они становятся бедствием для страны, что подтверждается опытом карфагенян, римлян, сирийцев, французов, вообще очень многих народов, может быть, кроме Фландрии, которая не держит солдат, а в минуту опасности граждане сами защищают себя.
— Фландрию защищают испанцы.
— Это верно отчасти. Всё-таки мне не представляется полезным для государства содержать толпу людей этого рода на случай войны, которой без нашего желания не может быть.
— Господи, ведь ты изучаешь историю! Всегда ли война или мир зависят от нас?
— Не всегда, но чаще всего. А нынче не война нам угрожает, а овцы.
— Какие овцы?
— Обыкновенные овцы. С виду кроткие, довольные очень немногим, они стали такими прожорливыми, что поедают людей, разоряют и опустошают поля и дома. В тех местах, где производится более тонкая, а потому более ценная шерсть, знатные лорды и даже некоторые аббаты, люди святые, не хотят ограничиться ежегодным доходом и теми процентами, что обычно дают их имения. Они сгоняют людей с земли, ничего не оставляют для пашни, отводят всё, что можно, под пастбища, сносят дома, разрушают целые города и доходят иногда до того, что храмы превращают в свиные стойла. Вот главная язва отечества. Её лечить надо прежде всего.
— Лорды имеют на это законное право.
— В том-то и дело. Но десятки тысяч не имеют занятий, чтобы заработать хотя бы на хлеб.
— Полно, Мор, это бездельники. Как не найти им труда, было бы только желание.
— Вы запретили продавать Фландрии шерсть и сукно. Тысячи тюков шерсти и штук сукна остаются непроданными. Закрываются мастерские. Люди теряют работу. Пусть будут пастбища, но расширьте торговлю. Тюков шерсти и штук сукна будет продаваться всё больше. Откроются новые мастерские. Люди получат работу. В Англии не останется бездельников и бродяг. В своём процветании Англия сравняется с Фландрией. Может быть, даже обгонит её. Только об этом вас и просят в Сити, просят представители нации. За этим они и послали меня. Какой ответ им передать?
Монарх колебался. Бездельники и бродяги не занимали его: их переловят и вздёрнут на виселицы. Тюки шерсти и штуки сукна были непонятны, ведь он был король, а не пастух. Обстоятельства озадачивали. Они изменялись с поразительной быстротой. Донесения из европейских столиц поступали одно за другим. Новый французский король жаждал захватить Милан и Неаполь и готовил очередной итальянский поход. Казалось, победа была обеспечена, когда Генрих затеял мстить Карлу во Фландрии. Вдруг Франсуа вступил в союз с Венецией и обещал наваррскому королю отобрать у Испании южную половину Наварры. Против него тотчас был создан новый союз. В него вступили император, испанский король, тот самый Карл, и Римский Папа, которому очень хотелось создать из Пьяченцы и Пармы новое герцогство для своего брата. Они призвали на помощь швейцарцев. Те заперли все альпийские перевалы. Неминуемое поражение угрожало французскому королю. А чем это могло обернуться для английского государя? Английский владыка имел право потребовать у победителей французскую корону как достояние предков. Следовательно, ему было необходимо укреплять дружбу с папой и с Карлом, а не ссориться с ним. Запрет на торговлю надо было снимать.
Всего этого он не мог высказать Мору. Зачем? Ведь Мор осудит его. И сделал вид, что доводы Мора убедили его, что готов пойти навстречу торговым людям и представителям нации, и стал так отвечать, будто это размышление вслух:
— Ну что ж... Может быть... Во всяком случае, можно попробовать... Правда, королям в таких случаях нехорошо отступать, это может им повредить... Как же нам поступить?..
Понял или не понял философ его хитрость, но спокойно сказал:
— По вашему повелению, милорд.
Генрих выпрямился и уже без колебаний ответил:
— Сделаем так. Я не повелеваю, только прошу: это дело возьми на себя, поезжай во Фландрию частным лицом и проведи переговоры от имени парламента и торговых людей. Придумайте там, как выйти из этого неловкого положения. Затем представители нации, как именуешь ты их, примут парламентский акт, а я его подпишу. Согласен?
Мор был, конечно, согласен и немедленно выехал в Брюгге, а монарх с нетерпением ждал, когда союзники в пух и прах разобьют французского короля и принесут ему корону.
Однако французский король его удивил. Франсуа проложил дорогу в непроходимом ущелье, ворвался в Ломбардию и был в двух днях пути от Милана. Его армия остановилась на отдых у Мариньяно. Вокруг лагеря простирались болота. Между ними были всего три дороги через плотины. Тринадцатого сентября швейцарцы ударили с фронта и к вечеру отбили у французов несколько пушек. Рукопашная схватка продолжалась и ночной темноте. Утром нападение возобновилось по всем трём направлениям. Швейцарцы теснили французов на флангах. Положение становилось критическим, когда венецианцы подоспели на помощь и одним своим кличем «Марко! Марко!» обратили нападающих в бегство. Франсуа был в Милане и назначил его правителем коннетабля Бурбона, а герцога Сфорца отправил в ссылку во Францию. Папа Лев тотчас согласился на мир и вернул Милану отторгнутые Пьяченцу и Парму. Император возвратил Верону Венеции и согласился на брак своего внука с французской дофиной, за которой Франсуа в качестве приданого давал Неаполь, так и не завоёванный им. С такой блистательной победы не начинал ещё ни один французский король.
Генрих был поражён. С мечтой о французской короне пришлось и на этот раз распроститься. Переговоры Мора завершились удачно. С Фландрией возобновилась торговля. От мести Карлу ничего не осталось.
Парламент и Сити встретили Мора с благодарностью. Уважение к нему возрастало, авторитет философа становился непререкаемым. Вскоре Мор выпустил книгу, дав ей странное имя «Утопия». В следующем году она была выпущена в Лувене. Писатель издал её на латыни, что означало, что его трактат для очень и очень немногих. В самом деле, книгу почти никто не читал. Казалось, в парламенте и в Сити о ней даже не знали, поскольку в деловых кругах латинским языком никто не владел. Мор сам вручил монарху свой труд, а заодно и «Мемуары» француза Коммина. Генрих её внимательно прочитал, сразу увидел, что это не существующее нигде государство было фантастической смесью монастыря и процветающей Фландрии, о которой Мор ему так усердно повествовал. Всем там, конечно, трудились от зари до зари, не знали ни собственности, ни религиозной вражды и выбирали своих королей. Государь рассердился и, случайно встретив философа на улице, придержал коня, нахмурился и строго спросил:
— Эту «Утопию» ты сочинил в назидание мне?
Мор улыбнулся своей добродушной улыбкой:
— Нет, в наученье.
С того дня они долго не виделись, а «Мемуары» француза ему полюбились. Коммин был участником или очевидцем многих недавних событий, о которых Генрих знал понаслышке. Король действительно учился у него многим тонкостям политики и войны и часто перечитывал эту любопытную книгу. Всё-таки опыт научал вернее, чем книги и Мор, ибо, по уверению древних, опыт всегда поучителен, горький опыт — вдвойне. С завистливым вниманием изучал статьи договора, заключённого французским королём с папой Львом. Права французского духовенства были нарушены. Оно теряло независимость в судебных делах и попадало в зависимость от короля. Отныне монарх, а не папа, раздавал бенефиции, а папа лишь утверждал их, не имея права отвергнуть. Право раздачи увеличивало доходы французского владыки, но и папа не остался внакладе, он получал доходы с бенефиций, которые оставались вакантными, а они редко опускались ниже трёхсот тысяч флоринов. Распределение церковных доходов покончило с неограниченной властью Рима во Франции.
Ему хотелось того же. Но как было добиться от папы таких же уступок? Принудить того силой оружия, как сделал французский государь, Англия не имела ни физической возможности, ни солдат. Оставалось отыскать обходные пути, но какие?
Обходные пути нашлись неожиданно. При его вступлении на престол Томас Уолси был только деканом собора в Линкольне. Он был из Норвича, сын мясника, сластолюбец и чревоугодник, чрезмерно чванливый и толстый. Долго обучавшийся богословию, Генрих ещё будучи принцем часто вёл беседы с прелатами и заметил, что линкольнского декана мало занимали эти вопросы. Томас Уолси был карьеристом, энергичным, беззастенчивым, властным. Его целью была сначала кардинальская шапка, затем тиара римского папы. Ради неё он готов был на всё и больше занимался политическими интригами, чем нуждами линкольнского прихода. Ему нравилась в декане эта бесцеремонность. Генрих покровительствовал Уолси, время от времени беседовал с ним и с удовольствием наблюдал, как тот стремительно делал карьеру при папском дворе. Вскоре после того, как Уолси сделали архиепископом Йоркским, они встретились и заговорили о двусмысленном положении церкви: с одной стороны, английское духовенство было подданными английского короля, а с другой стороны, оно находилось в полном подчинении римскому папе, ни в чём не зависело от государя и не подлежало его юрисдикции.
Уолси тогда согласился, что такое положение ненормально и даже порочно. Монарх поинтересовался, каким же может быть выход из ненормального положения. Уолси решительно отвечал, что всё зависит только от папы и будь его воля, он непременно что-нибудь изменил, надо только стать папой. Сделать это очень легко. Сначала надо сделаться кардиналом, чтобы стать членом Священной коллегии, избирающей пап. Папы часто сменяют друг друга. Кардиналы избирают того, кто больше заплатит. Так вот, Томас Уолси готов заплатить сто тысяч флоринов, такой суммы будет достаточно, и эти деньги у него уже есть. Откуда? Уолси улыбался жирной улыбкой. Доходы архиепископа весьма значительны. Главная загвоздка лишь в том, чтобы эти доходы собрать. Миряне скупы и жадны, не любят прелатов, в особенности монахов, и пренебрегают нуждами церкви. А вот доходы архиепископства Йоркского собираются полностью, Даже с избытком. Уолси нашёл человечка, который, кажется, умеет делать деньги из воздуха. Бывший солдат, сукнодел, ростовщик. Зовут Томасом Кромвелем. Три шкуры сдерёт, а ни пенса никому не простит. Помощник прямо незаменимый. Рекомендую. И отрекомендовал крепыша с толстыми ногами, широкой грудью и наглым взглядом глубоко посаженных глаз.
Ослабить власть папы. Увеличить доходы. Иметь в Риме своего человека. Хотя бы в качестве кардинала. А лучше папы. Такие люди ему были нужны. По примеру отца, у которого канцлером был кардинал, он сделал Уолси канцлером, а к нему в помощники тотчас пристроился цепкий, беззастенчивый Кромвель. Томас Уолси оказался изобретательным человеком и действовал по всем направлениям. В Риме ни в чём не могли ему отказать. Вскоре папа Лев возвёл его в звание кардинала-легата с правом входить на территории Англии в любой монастырь и вводить там любые нововведения по своему усмотрению. Томас Уолси никаких нововведений там не вводил, не желая раздражать кардиналов Священной коллегии, зато наложил руку на доходы монастырей, и очень скоро его резиденции в Гемптон-Корте и Уайт-Холле заблистали великолепием, какого не было далее в королевском дворце.
Преобразования последовали не в церковных, а в светских делах. Томас Уолси преобразовал королевский совет и завёл при нём комитеты, которые исполняли поручения государя. Членов совета назначал лично монарх, не любивший высокомерных, несговорчивых лордов, и набирал своих советников из новых людей, незнатных, но преданных ему без оглядки. Им он мог отдавать повеления, не считая нужным посоветоваться с парламентом. Парламенту это не нравилось, но Томас Уолси умел договориться и с депутатами, соблазняя большими доходами, которые получит английская церковь, когда его выберут папой. Никто не успел оглянуться, как кардинал объединил в своих руках церковную и светскую власть, одинаково бесцеремонно управляя монастырями, парламентом и королевским советом.
На самом деле через него король расширял и укреплял свою власть, оставаясь в тени, держал Уолси в руках. Назначение англичанина кардиналом-легатом было нарушением старинных статутов о посягательстве на верховную власть английского монарха и палат. Он имел полное право в любой день и час отдать Уолси под суд. Тому это было известно. Между ними возникло негласное соглашение: государь не трогал его, а Уолси нигде и ни в чём не посягал на верховную власть и права короля. Человек оказался удобный, правда, чрезмерно тщеславный. Роскошь его костюма была непомерна и не подобала служителю церкви. Кардинала-легата всюду сопровождала пышная свита. Двое слуг носили перед ним сумку, в которой находилась государственная печать. Его дворцы вызывали всеобщую зависть, власть представлялась безмерной. Порой канцлер-кардинал его забавлял. Нельзя было без смеха глядеть, как неторопливо и важно, выставив тяжёлый живот, Томас Уолси шествовал в толпе прелатов и слуг, задерживался перед каждым придворным, имевшим влияние, пространно излагал дело, которым был занят, или выслушивал просьбы и объявлял, сделав значительный вид:
— Его величество сделает это.
С полгода спустя задерживался лишь на минуту, объяснял в двух словах, нетерпеливо выслушивал и обещал:
— Мы сделаем это.
А уж потом не задерживался, выслушивал на ходу и сквозь зубы ронял:
— Я сделаю это.
Генрих посмеивался над человеком, который был нужен ему, и ждал, когда придёт его час. Его час пришёл очень скоро. Господь взял германского императора. Открылась вакансия. Европа взволновалась и забурлила. Курфюрсты должны были выбрать на своём съезде нового императора. Претендентов набиралось больше десятка. Главным был французский король. Франсуа обещал крестовый поход против турок, угрожавших Венеции, Вене и Венгрии, и три миллиона флоринов курфюрстам, что подадут за него свои голоса. Крестовый поход вдохновлял, но не очень. Многие государи, владения которых были для турок недосягаемы, полагали, что Венеция, Вена и Венгрия должны сами себя защитить. Зато флорины производили неотразимое действие, и Франсуа рассыпал их десятками и сотнями тысяч. Его соперником выступил Карл, тоже обещал крестовый поход, о сумме флоринов молчал, но тоже не скупился.
Немецкие государи млели от счастья, но были растеряны. Блеск флоринов их соблазнял, но они колебались, решая, чьи предпочесть и на чью потом сторону встать. Немалое число их брало флорины и у той, и у другой стороны. Самые мудрые брали так по нескольку раз. Насытить эту прорву оказалось делом нелёгким. У Франсуа и у Карла истощались финансы. Фуггеры выдавали кредиты. Эти богатейшие финансисты и ростовщики не колебались. Сначала они давали большие кредиты французскому королю, считая его более сильным и удачливым из претендентов. Потом отказали ему и перешли на сторону Карла, когда подсчитали, что Карл победит. Все ждали, как поведёт себя английский монарх, не самый сильный, не самый богатый, но симпатичный, во-первых, потому, что был самым образованным государем Европы, а во-вторых, потому, что жил далеко, за проливом, на острове, а стало быть, мог редко появляться в Священной Римской империи и досаждать своим новым подданным.
Генрих верно оценил свои слабости и преимущества и ввязался в борьбу. Он в самом деле был самым бедным из них и не мог сыпать флорины десятками и сотнями тысяч. Потратиться и ему, конечно, пришлось, но главным образом он рассчитывал на Римского Папу. Пришла очередь канцлера-кардинала. Томас Уолси плёл интриги при папском дворе. Казалось, обстоятельства благоприятствовали.
После битвы при Мариньяно воинственный пыл оставил папу Льва. Папа пошёл победителю на большие уступки, продал двадцать кардинальских шапок, окружив себя надёжными людьми и наполнив казну, и наслаждался покоем. Потомок Медичи покровительствовал художникам, рыбачил, охотился, с удовольствием смотрел комедии Макиавелли и Плавта, которые ставились для него, или развлекался иными забавами, вроде зрелища жирных монахов, их ему на потеху молодые прелаты с хохотом подбрасывали на одеяле. Дрязги с выборами досаждали святому отцу. Он колебался, не зная, кого предпочесть, колебания утомляли. Приходилось рассчитывать, размышлять, когда рыба клевала или олень выскакивал под выстрел арбалета.
Поначалу папа тоже склонялся на сторону французского короля, солдаты которого стояли в Милане, слишком близко от Рима, чтобы не симпатизировать им. Потом стал склоняться на сторону Карла, который его тоже пугал, уже не только солдатами, но ещё больше своим холодным умом и неуёмным стремлением к власти.
Покоя всё-таки не было. Куда ни кинь, он между двух огней. Карл не простит ему поддержки французского короля. Франсуа не простит поддержки испанского короля. Не тот, так другой непременно ринется на него, а его латы и шлем давно заржавели. Английский государь подходил папе Льву больше других. Не такой воинственный, не такой грубый, а главное — далеко. Доводы Уолси вместе с некоторым пополнением папской казны тоже убеждали его, и Лев готов был поддержать Тюдора против Габсбурга и Валуа. Но уже никому не было дела до папы. Выборы состоялись. Избран был Карл.
Генрих получил ещё один, на этот раз жестокий урок. Династические браки, союзы и папа отодвинулись в сторону. Разумеется, они продолжали существовать. Короли продолжали жениться из будущих выгод, составляли союзы из будущих выгод, заискивали перед папой, тоже из будущих выгод, но времена наступали другие. Деньги встали выше браков, союзов и папы. Выигрывал тот, кто больше платил. Побеждал тот, кто имел больше денег и благодаря этому мог нанять больше солдат. Папой тоже становился лишь тот, кто много платил. Если он хотел выигрывать и побеждать, то должен был платить и платить. А чем ему было платить? Английский государь действительно был беднее и Карла, и Франсуа, и римского папы.
Глава восьмая СВОЙ КРЕСТ
Томаса Мора не оставляла тревога. Ему ли было не знать, что короля не остановят ничьи слова, если тот видел впереди громадные выгоды. Ближайшее будущее представлялось таким же грозным, кровавым и смутным, как недавнее прошедшее несчастной Германии, залитой кровью.
Тогда ужасные вести приносили торговые люди, видевшие своими глазами сокрушённые, развороченные порохом замки, соборы, монастыри, сожжённые деревни и города, запустение целых провинций, смрадные трупы, которые некому было убрать, голодных детей и стариков, десятки тысяч замученных, четвертованных, повешенных и сожжённых. Может быть, тысяч сто. Может быть, вдвое больше. Никому не удалось подсчитать, да едва ли и считал кто-нибудь. Вытоптанные поля. Грабежи. Торжество грубой силы. Победа насилия.
Философ предвидел, что всё это угрожало и Англии. Генрих тоже предчувствовал, опасался и потому колебался и так осмотрительно, медленно шёл к своей цели. Больше, казалось, не предвидел, не предчувствовал никто. Почти никто не мог и не хотел его поддержать. Мор оставался один на один с королём, если не считать королевы, десятка её приближённых и горсти единомышленников, которые пока что не оставляли его. Он один должен был помешать разводу с Екатериной и браку с Анной Болейн.
Несколько дней после того разговора мучила неизвестность. Канцлер ещё мог ошибаться. Генрих ещё мог выбрать крест и в суровом молчании донести его до конца, как подобает христианину и королю, ведь этот крест ему послан Господом. Неизвестность продолжалась недолго. Король в самом деле затеял развод. Развод был делом хлопотливым и трудным. Разрешение на брак с вдовой брата давал папа Юлий. Генрих потребовал от папы Климента признать этот брак противным законам природы и Библии и благословить его расторжение. Папа готов был признать и благословить, однако в те смутные дни Климент был пленником императора Карла и мог признавать и благословлять только то, на что указывал ему Карл. Карл был мстителен и долго помнил обиды. Кроме того, приходился Екатерине племянником. Понятно, что именно он повелел признать и благословить, и папа ответил отказом.
Тогда Мор рассчитывал — впрочем, слабо, что решение первосвященника остановит строптивого мужа, что он из уважения к главе католической церкви примирится с нелюбимой, постылой женой и не станет вводить в смущение своих подданных, верующих в Христа. Случилось иначе. Авторитет римских пап, воинственных, корыстолюбивых, развратных, пошатнулся давно и с каждым годом падал всё ниже. Генрих не имел причин их уважать и строго следовать их повелениям. Отказ папы Климента оскорбил и вывел его из себя. Пример строптивых германских князей, с оружием восставших против подчинения Риму немецких церквей, его вдохновил.
Король, облачившись в унизанный бриллиантами парадный камзол, призвал председателя, двенадцать избранных депутатов нижней палаты и восемь самых влиятельных лордов. Для них были поставлены стулья, чего прежде Генрих не допускал. Когда они с почтительными поклонами приветствовали самодержца и тихо, скромно расселись, поражённые милостью, монарх с горьким негодованием, сверкая разгневанными глазами, сказал:
— Мои горячо любимые подданные!
Генрих был умён и находчив и с юных лет при дворе своего отца научился, как обращаться со своими холопами. И председатель нижней палаты, и депутаты, и лорды, польщённые таким обращением, испуганные огнём гнева в стальных глазах короля, тоже соблазнённые громким примером немецких горожан и торговых людей, обогащённых расхищенным имуществом церкви, ещё раз почтительно склонили перед ним обнажённые головы.
Государь продолжал, как будто не в силах сдержать свой праведный гнев:
— Мы до сей поры полагали, что духовные лица нашего королевства являются нашими подданными. Нынче мы обнаружили, что они состоят таковыми лишь вполовину и в действительности едва ли являются нашими подданными, так как прелаты при их посвящении дают клятву верности римскому папе. Эта клятва находится в явном противоречии с той, которую они дают нам. Следовательно, являются его подданными, а не нашими. Тексты обеих клятв я вам здесь предъявляю и прошу вас принять какие-то меры, чтобы мы не вводили таким положением дел в заблуждение духовных подданных наших!
Все были подготовлены, сначала кардиналом Уолси, потом Томасом Кромвелем. Их пьянил запах церковных имуществ и монастырских земель, которые можно было бы получить в безраздельную собственность, пошатнись в королевстве хотя бы отчасти власть римского папы, ведь ничто не толкает на преступление с такой силой, как собственность.
Камергер обошёл застывший в ожидании ряд и подал каждому заранее приготовленные листы. Председатель, депутаты и лорды сличали тексты старательно, с удивлением и даже с негодованием, словно видели их в первый раз. Сверили буква за буквой, дружно изобразили недоумение и заявили с тем же праведным гневом, что далее это безобразие продолжаться не может, хотя это безобразие продолжалось по меньшей мере четыреста лет, не вызывая ничьего возмущения. Король грозно спросил, почему оно далее продолжаться не может. Председатель поднялся и отвечал, что не может продолжаться именно потому, что истинное величие Англии состоит в монолитном единстве всех подданных короля. Монарх милостиво их отпустил. Его повелением с мнением председателя, депутатов и лордов ознакомили всё английское духовенство, мечтавшее сохранить за собой те доходы, которые приходилось отдавать ненасытной папской казне. Понятно, что английское духовенство с таким мнением согласилось вполне.
Отныне любые постановления церковных властей не могли исполняться английскими прихожанами без одобрения английского короля, а все прежние постановления могли отменяться по его усмотрению, оно, как говорилось, отвечало благу страны. Следом за председателем нижней палаты, депутатами, лордами и духовенством вся Англия, не вымолвив слова протеста, отложилась от Рима, как это сделал, по дерзкому слову Мартина Лютера, немецкий народ, заплативший за своё своеволие жестокую цену. Дорогу проложил Томас Уолси, тишком да ладком прибиравший в свои руки и церковь и королевский совет. Ныне свершилось. В руках английского короля сосредоточилась неограниченная власть, какой не обладал ни один из монархов Европы. Только он имел возможность делать в своей стране решительно всё, что бы ни пожелалось, если то же самое желалось парламенту. А если парламенту не желалось? Что ж, король мог его распустить.
Первым требованием был развод. Оксфорду, Кембриджу, виднейшим университетам Франции и Италии были пожертвованы немалые деньги на развитие наук и искусств. Следствие было неотвратимо. За деньги виднейшие юристы Европы доказали как дважды два, с обильными ссылками на прецеденты и акты, что английский король Генрих Восьмой имеет самое полное и самое законное право развестись с первой женой и может сделать это без благословения римского папы.
Мор оставался на своём посту и во время всей этой нечистоплотной возни и манипуляций с законами. Генрих держал своё слово, данное в Гринвиче, и не напоминал о его несогласии. Отношения между ними не изменились. Права и обязанности канцлера соблюдались во всей полноте. Он тоже держал своё слово служить королю и прикладывал к новым актам государственную печать. С государственной печатью они обретали силу законов. Ему надлежало зачитывать в нижней палате многословные заключения французских, итальянских и английских учёных, которым хорошо заплатили, и философ зачитывал их, поневоле участвуя и нарушении священных заповедей Христа, с чем по совести согласиться не мог; участвовал несмотря и на то, что предчувствовал всё ясней с каждым днём, как па Англию надвигалась вражда между теми, кто останется верным римскому папе, и теми, кто перейдёт на сторону короля. Ему виделось, как вражда ширится, накаляется и перерастает в кровавое возмущение; задавал себе один и тот же вопрос: сумеет ли Генрих предотвратить почти неотвратимую смуту, достанет ли у него на это осторожности и ума?
О его опасениях знал только монарх, а перед лицом всей страны Мор своим добрым именем и положением канцлера освящал происходившие перемены и был на стороне короля. Совесть страдала, он стал беспокоен. Его предостерегало не одно настоящее, мыслитель хорошо был знаком и с прошлым, долго работал над «Историей Ричарда» и мог привести массу примеров, когда неосмотрительность одного честолюбца оборачивается смутой, резнёй и гибелью если не государств, то династий. Канцлер не выдержал и однажды с обычным спокойствием вошёл к королю. Государь приветливо ему улыбнулся, а он с почтительным поклоном и молча положил перед ним государственную печать, слишком тяжёлую для него. Генрих переменился в лице, поднял на него сухие глаза и глухо спросил:
— Стоит ли тебе торопиться? Твои опасения не сбываются. Англия поддержала меня. Она любит деньги и не хочет их никому отдавать. Что из того, что святому отцу придётся поститься?
Мор не хотел ссориться и невозмутимо ответил, хотя это было неправдой:
— Я бы не торопился, милорд, но моё здоровье пошатнулось от непосильных обязанностей. Необходим длительный отдых, чтобы поправить его.
Генрих поднялся, подступил, слегка припадая на правую ногу, поглядел на него с минуту в раздумье и похлопал по плечу, должно быть, всё ещё почитая своим другом:
— Мне очень жаль. Однако если решил... если в самом деле здоровье... ничего не поделаешь... Мне ли этого не понять. А всё-таки жаль. И не без грусти прибавил: — По крайней мере, надеюсь, что мы останемся, как прежде, друзьями.
Мыслитель верил и поверить не мог. Ему чудилось, что это скорее слова, чем излияние искренних чувств. Мор мало нуждался в том, чтобы оставаться другом того, кто ввергал своё королевство в пучину раздора, которого хватит, может быть, не на одну сотню лет, вежливо поклонился, без сожаления покинул сиятельный кабинет, воротился на излюбленный остров, к милым домашним, к книгам и к попугаю, завезённому в Англию из неведомых жарких краёв, и неслышно зажил частным лицом.
Однако все несогласные с решением короля и парламента приняли его мирную жизнь мудреца и отшельника за молчаливое осуждение и протест. В этом не было ничего удивительного. Разрыв с Римом исподволь взбудоражил страну. Недовольство зародилось, выросло и покатилось волной. Неожиданно среди недовольных оказался епископ Винчестерский. За ним последовал кардинал Фишер. Пример Фишера взбудоражил многих других. Архиепископ Кентерберийский предал анафеме новые статуты. Елизавете Бертон, простой служанке, стали являться видения. Видения пророчили неминуемую смерть королю, если его величество перестанет жить с королевой Екатериной. Екатерина вдруг оказалась самой любимой, самой доброй из королев, которые когда-либо правили Англией, как обыкновенно случается во дни потрясений. Бродячие иноки молились за несчастную королеву в придорожных церквях и часовнях.
Началась смута в умах и сердцах. Молчание философа многим показалось нешуточным знаком и приверженцами развода расценивалось как подстрекательство к бунту, хотя истинным подстрекателем был сам король, не снёсший выпавшего на его долю креста.
Возникли злостные слухи, будто он, Томас Мор, позволил себе брать на посту канцлера взятки.
Порочили его доброе имя, чтобы заставить говорить.
Мор всё же молчал, все понимали, что это был вздор, но его без промедления призвали к суду, несмотря на очевидность того, что многие известные взяточники пользовались полнейшей свободой и благоденствовали на виду правосудия.
Беда накрыла его чёрным крылом.
Это был его крест, надлежало его достойно нести, не позволяя себе роптать на волю Господню.
На судебное заседание Мор явился беспечно-весёлым, рассчитывая на то, что своим умением правоведа добьётся торжества справедливости.
Престарелый судья в чёрной мантии, равнодушный, ленивый, с серым обрюзгшим лицом человека, который в течение дня выпивает слишком много вина, уставившись пустыми глазами прямо перед собой, вяло спросил, слабо взмахнув в сторону женщины в белом чепце:
— Вы, Томас Мор, получали от этой дамы перчатки и деньги, да или нет?
Бывший канцлер мельком взглянул на смущённую женщину, покрасневшую от стыда, тотчас вспомнил её и довольно громко, однако спокойно признал:
— Да, сэр, я получал от этой женщины перчатки и деньги. Перчатки я оставил себе, чтобы не огорчить отказом эту бедную женщину, ведь эти перчатки она вязала сама. Деньги же я брать не стал. Об этом, ваша честь, сами спросите её.
Судья почесал ухо, помедлил и буркнул невнятно, не подняв головы:
— Подтверждаете?
Широко распахнув испуганные голубые глаза, развязывая и снова завязывая измятые полинялые концы домодельной косынки, прикрывавшей её увядшую грудь, честная свидетельница заторопилась подтвердить всё, как было:
— Да, ваша честь. Это чистая правда, сэр.
Отпустив затрепетавшую женщину слабым кивком головы, старый судья вздохнул не то с облегчением, не то огорчённо, передвинул бумаги, лежавшие перед ним, и продолжал невыразительно, безразлично:
— Золотую чашу дорогой чеканной работы, которую вам преподнёс этот джентльмен, вы, Томас Мор, тоже оставили у себя, да или нет?
Снова тем же беглым взглядом окинув выступившего на середину свидетеля, ответчик согласился, разыгрывая почтительность перед высоким, но несвободным судом.
— Да, ваша честь, я действительно оставил у себя ту золотую чашу дорогой чеканной работы, о которой вы изволите упомянуть. Эти сведения не вызывают сомнений. Они достоверны.
И, томительно помолчав, дождавшись, пока старый судья вскинет невыразительные глаза, слегка удивится и вопросительно поглядит на него, широко улыбнулся:
— Но к этому высокий суд позабыл по какой-то причине прибавить, скорее всего потому, что суд слишком обременён другими, более сложными и запутанными делами, что взамен я дал этому джентльмену чашу более дорогую, чем та, которую он мне, в знак своей благодарности, подарил. Эту были свидетели, сэр. Да и сам джентльмен, надеюсь, не откажется подтвердить, что дело происходило именно так.
Старый судья тяжело вздохнул, опустил голову, выдержал паузу и отрезал:
— Подтверждаете? Да или нет?
Человек в сером камзоле, с простым белым воротником и стальной пряжкой на потёртом кожаном поясе неторопливо развязал узелок, принесённый с собой, и с достоинством подтвердил:
— Именно так, ваша честь, всё и было. Вот эта чаша, данная мне. Она в самом деле много дороже той, которую я преподнёс мастеру Томасу Мору в знак самого искреннего моего уважения. Всё это чистая правда, сэр.
Отпустив и его, старый судья пожевал синеватыми потрескавшимися губами, поскрёб согнутым пальцем сморщенную ладонь, переложил бумаги справа налево, поднял одну, отставил далеко от себя, поглядел дальнозоркими выцветшими глазами и с тем же безучастием продолжал:
— Также известно, что вам, Томас Мор, был поднесён один кубок и вы решили одно дело в пользу дарителя. Вы подтверждаете? Да или нет?
Он с удовольствием согласился, чувствуя гордость за то, что поступал всегда именно так, как должен поступать уважающий себя человек, искренне радуясь: несмотря ни на что, на этом свете всё ещё много честных людей, правда, только в том случае, если это люди бедные и простые:
— Да, ваша милость, и это известие справедливо. Я получил этот кубок. Но смею заметить, кубок подарен был мне значительно позже процесса, на Рождество.
Не подняв головы, вздохнув ещё тяжелей, старый судья укоризненным голосом напомнил то, что ему, юристу, было известно и без него:
— Более позднее время даяния не является смягчающим вину обстоятельством, и вы, будучи, как всем известно, сначала адвокатом, а потом и судьёй, не могли об этом не знать. Согласно закону, любой подарок должностному лицу является взяткой, и, уличённое в том, что подарок был принят, должностное лицо должно понести наказание по суду. Да или нет?
Он улыбался всё шире, всё веселей:
— Да, ваша милость. Вы правы во всём, что вы изволите говорить. Я не мог об этом не знать, будучи юристом и хорошо изучив законы. Тем не менее я должен сказать, что от вас, ваша милость, кто-то утаил, по неизвестной причине, что произошло в тот день с этим кубком.
Старый судья выдержал форму судебного заседания и негромко спросил:
— Что же, мастер, в тот день с этим кубком произошло?
Мор с удовольствием отвечал:
— Ведь всё это дело приключилось на Рождество, как справедливо вам донесли. Взяв кубок, я полюбовался им, нашёл, что он прекрасной работы и довольно вместителен, и мне пришло в голову попросить слуг наполнить этот кубок моим лучшим вином, какое хранится в подвале дома для лучших гостей. Слуги охотно исполнили моё повеление. Я выпил это вино за здоровье дарителя, потому что человек он исключительно честный и угодил под суд по дурному навету. Затем тот же кубок мой слуга наполнил ещё раз до самых краёв, и на этот раз за моё здоровье его опорожнил сам даритель. Я вежливо поблагодарил его и вернул кубок. Тем и закончилось то славное дело.
Старый судья пробурчал, не глядя ни на кого:
— Подтверждаете? Да или нет?
Пожилой мужчина с задумчивыми глазами, с седыми прядями жидких волос, разбросанных по плечам и спине, с измождённым усталым лицом, подтвердил поспешно и тихо:
— Да, сэр. Всё это верно. Я вашей милости уже говорил.
Старый судья посидел неподвижно, наконец поднял тяжёлую голову и долгим взглядом поглядел на него:
— Томас Мор, вы не виновны.
Он был доволен собой, всегда жил честной жизнью, по законам Христа. Никакой суд не мог бы его ни в чём обвинить.
Но предчувствовал худшее, впрочем, ни с кем не поделился этим предчувствием и как ни в чём не бывало возвратился на свой мирный остров, к манускриптам, к громкой радости всех домочадцев.
Отобедал вместе со всеми, беспечно шутя, как всегда, немного поболтал с попугаем и продолжил исследование, прерванное, к его удовольствию, на самое короткое время.
Вскоре Генрих пышно отпраздновал свадьбу, женившись, как и предполагал, на Анне Болейн. Его не забыли. Монарх прислал приглашение, а счастливая новая королева пожаловала ему двадцать фунтов, чтобы философ выглядел достойно своему званию на этом роковом, чего не знала она, торжестве. Он возвратил с должной благодарностью деньги и при этом посетовал, что по состоянию здоровья не имеет достаточно сил, чтобы одолеть дорогу до Лондона.
Не успели отгреметь торжества, как возникли новые слухи, будто Елизавету Бертон, простую служанку из Кента, которую так некстати посещали злые виденья, предвещавшие смерть королю, к этим преступным виденьям подстрекал не кто иной, как сам Томас Мор. Обвинение в подстрекательстве, едва ли не равносильное покушению на жизнь короля, было передано на этот раз не в суд, а в парламент. Пришлось одолеть дорогу до Лондона. Вышел из лодки, проследовал по залам Вестминстера и встал у решётки. Председатель, давно знавший его, строго спросил, знал ли он некую Елизавету Бертон, простую служанку из Кента, которую посещали непозволительные виденья, и не был ли подстрекателем, научившим бедную женщину так говорить. Пришлось отвечать:
— Да, я знал Елизавету Бертон, простую служанку из Кента, и беседовал с ней. Мне рассказывали добрые люди, что она чудодейственно исцеляет неисцелимых больных. Будучи человеком учёным, понимая нечто так же во врачевании, как и во многих науках, я не мог не заинтересоваться подобными исцелениями, но, побеседовав с ней, убедился, что слухи не соответствуют истине. Елизавета Бертон, простая служанка из Кента, мне показалась душевнобольной. Таким образом, обвинение в том, чтобы я мог верить её прорицаниям и даже поддерживать их, по меньшей мере является странным. Этой выдумке нет и не может быть доказательств.
Доказательств действительно не было никаких. Архиепископ Кранмер, взяв слово, признал обвинение необоснованным и отпустил его с Богом домой. Больше того, принимая парламентский акт, осуждавший Елизавету Бертон, простую служанку из Кента, распространявшую злостные слухи, парламент поставил непременным условием королю, чтобы имя мастера Томаса Мора никоим образом не было упомянуто в акте, что и было беспрекословно исполнено королём.
Когда возвратился, старшая дочь, любимица Мэг, целуя его, восклицала:
— Поздравляю, отец! Теперь они не тронут тебя! Это дело отложено, а нового им не придумать!
Её уму и мужеству он доверял и потому не мог не сказать, хотя и с доброй улыбкой, когда они на минутку остались одни:
— Отложить дело, моя дорогая, вовсе не значит его отменить. Они к нему могут вернуться, когда захотят.
Мэг рассмеялась и ещё раз горячо расцеловала его. Но отец уже не был спокоен. Дело было слишком серьёзным. Его должны постараться оклеветать и сломить. В самом деле, прошло не так много времени после этих коварных событий и к нему тайно прибыл давний знакомый, крупный торговец, чьи дела он вёл с большим успехом и прибылью, и озабоченно посоветовал, когда затворились в его кабинете:
— Парламент один раз вас защитил. Защитит ли он вас во второй? Вам бы лучше всего на время уехать из Англии, мастер. Вы дано не видались с вашим другом Эразмом. Поезжайте к нему. Мы найдём для этого доброго дела нужные деньги, если понадобится.
Мор вспомнил Эразма, которого в самом деле не видел давно, и твёрдо ответил, хотя уже понимал, что играет с огнём, ответил так, как бы ответил Эразм:
— Нет, клянусь Геркулесом. Примите мою сердечную благодарность, но я — остаюсь.
И остался.
Узник пошевелился в тёмном углу и подумал, что его жизнь могла бы повернуться иначе, если бы он уехал тогда или парламент посмел решиться на большее, чем решился, отложив его дело, не из одного уважения к его учёности и к бывшим заслугам, вовсе не по этой причине.
Парламент должен бы был догадаться, к чему поведут решения короля, однако представителям нации не достало ни силы духа, ни прозорливости. Тогда видели только одно: король не доволен Томасом Мором. Они решили, что это было частное дело, а если так, стоило ли ради одного человека рисковать своим положением и по пустякам дразнить короля?
Иное дело монарх. Генрих был прозорливей их всех, многое понимал, если не всё.
В душе Томаса шевельнулась надежда. Слабая, еле живая. Если бы вспомнил в эту минуту о чём-то, надежда бы тотчас исчезла, как от дуновения свежего ветра разлетается утренний летний туман, но ужасно не хотелось ничего вспоминать. Подержал надежду немного в себе. Она стала медленно разрастаться. Напряжение, вызванное внезапным появлением Томаса Кромвеля, стало спадать. Душа размягчилась. Спокойствие медленно, но верно возвращалось. Мыслитель как к лучшему другу вдруг обратился к себе самому:
— Я знаю тебя много лет, с той поры, как появился на свет, сдаётся, что в одно время с тобой. Я не сомневаюсь нисколько, что ты готов умереть и, конечно, умрёшь именно так, как подобает христианину, философу, именно так, как умирали первые христиане и древние мудрецы. Но тебе, что естественно, не хочется умирать. Твоё тело здорово, ум всё ещё деятелен, а дух бодр, как всегда. В тебе силён ещё голос жизни, и тебе предстоит его одолеть, чтобы с наступлением нового дня бестрепетно оставить юдоль печалей, которая многим представляется такой сладостной, что они с ней страшатся расстаться, слишком часто губя свою душу, лишь бы спасти своё бренное тело, но ненадолго, ведь каждый умрёт всё равно. Срок твой, быть может, настал, а быть может, и нет. Кто это знает? В противоположную сторону ещё может поворотиться судьба, ибо королю ты всё ещё, кажется, нужен. Быть готовым не означает, что мы должны уходить без борьбы.
Томас Мор встрепенулся и погладил мягкую бороду. Борода ласково заструилась по исхудавшей, но мускулистой груди. Вдруг ощутил, что дело было в одном этом слабом, непроизвольном движении, что воротилась привычная бодрость, без которой так скверно жить и невозможно приготовить себя ни к каким испытаниям. Именно так: не хватило прозорливости представителям нации, всем вместе и каждому порознь.
Парламент развёл английского короля наперекор запрету римского папы и нежеланию испанского короля, носил ещё и корону германского императора. Получив долгожданный развод, Генрих поспешил обвенчаться с Анной Болейн и тем самым оскорбил и Рим и Мадрид. Анна в положенный срок родила ему девочку, которую назвали Елизаветой. Генрих громко и всюду именовал себя счастливым отцом и, как видно, был счастлив. По крайней мере всем доказал, что вина была не его, что бездетной была разведённая королева.
В самом деле, две дочери — это большое счастье каждой семьи. Две принцессы — две тысячи поводов для раздоров в стране после смерти опрометчиво поступившего короля. Какая из двух станет править страной? Какую из двух наречёт королевский совет и поддержат представители нации, лорды, народ? За кого они выйдут замуж? Кто явится в Англию со своим уставом как в чужой монастырь? Кого за собой приведёт?
Вновь повеяло в воздухе кровавым правлением короля Ричарда Третьего. Вновь замаячили впереди разбой и развал.
Всё-таки Генрих умел видеть и понимать. Король скоро одумался и принял акт о престолонаследии. Этим актом Мария, дочь от первого брака, объявлена была незаконной, а вторая, Елизавета, получала права на корону. Только беда была в том, что Генрих слишком спешил, а король одумался поздно. Никакой акт уже ничего не менял. Мрачное будущее уже подступало из его каждой строки, из каждой буквы сочилась невинная кровь. Акт был только бумагой, а на стороне Марии оставалось право первородства, незыблемое, неотменимое, и покуда хранит Марию Господь, у принцессы обиженной, у принцессы несправедливо обойдённой всегда найдутся приверженцы, которые при первой возможности, ухватившись за самый ничтожный предлог, поднимут мятеж, лишь бы грабить и убивать, захватывать земли и занимать должности при дворе. Междоусобица — вот что таилось в разводе с Екатериной и в браке с Анной Болейн. Потоками крови должно было окупиться безрассудство того, кому слишком тяжек представился указанный Господом крест.
Генрих скоро и это стал прозревать. Он посеял семена зла и поспешил их затоптать своими большими ногами. Всех своих подданных обязал принести присягу на верность новому порядку наследования, точно самая страшная клятва могла предотвратить то, что предотвратить способен только Господь. Виновными в государственной измене были объявлены все, кто письменно, печатно или каким-либо действием подвергал опасности короля, порочил новую королеву или не признавал законной наследницей дочь от этого брака Елизавету. За государственную измену полагалась ужасная смерть. Неминуемо должен был начаться и уже начинался кровавый террор, которому не имелось преград, ибо любое слово, любое действие при желании можно было признать опасным для короля или порочащим новую королеву.
Ужасом Генрих намеревался навязать свою волю ошеломлённой стране, в ослеплении страха за судьбу дочери, королевы и королевства, должно быть, забыв, что имеет возможность вешать и жечь лишь до тех пор, пока жив. Чьи головы падут на плахе после него? И сколько будет этих несчастных, безвинных голов? И мало ли столь же ужасных постановлений знала история Англии или Древнего Рима? Кого остановили они?
Живая наследница — знамя. Живая наследница — вечный повод для мятежа. Слабое спасение, но всё же спасение виделось только в одном: всё оставить по-прежнему, то есть признать единственно законными первую жену и первую дочь.
Глава девятая ПРОТИВОБОРСТВО
Так положение дел представлялось ему, когда его вызвали в Ламбетский дворец, где он, Томас Мор, уважаемый всеми юрист, известный всей Европе философ, автор «Утопии», «Истории Ричарда» и многих других учёных трудов, отставленный канцлер, первым должен был принести присягу на верность Елизавете и тем подать пример всей стране.
Накануне исповедался и выстоял долгую мессу. Ночь не спал, готовясь первым воспротивиться опасному заблуждению короля, а утром ласково простился с женой и детьми, понимая, что им угрожало поношение и нищета, а ему ужасная смерть.
Кто бы мог равнодушно переступить через этот порог? Кто бы мог своей волей обречь на суровые испытания и себя самого и большую семью?
Его решение было твёрдым, однако с тайным смятением шёл к реке в окружении зятя и слуг. Душа была не на месте. Жалость сокрушала её. Горькие слёзы стояли в глазах, будто от ветра, как сказал, беспечно смеясь.
К берегу была причалена смолёная лодка. Все в тяжёлом молчании сели в неё, чтобы плыть во дворец. С невозмутимым лицом наблюдал, как гребцы неторопливо и ловко вставляли вёсла в уключины, как отвязывали и бросали на пристань смолёный канат, как отталкивались багром от причала.
Над головой в вышине плыли белые облака. Чистый ветер беспечно играл рыжеватой волной. С дружных вёсел слетали весёлые брызги.
Никто не мог решать за него.
Жена и дети...
Много детей...
Что может быть ближе, что дороже для человека, который видел высшее благо в семье, именовал дом свой сказочным островом и находил полное счастье только на нём?
Но предстояло исполнить свой долг. Мыслитель обязан был отказать будущей королеве в присяге, чтобы братьев своих во Христе защитить от виселиц и костров, от разбоев и мятежей, от оскудения и нищеты.
Если его вызвали первым в этот пышный печальный дворец, значит, кое-что ещё зависело от него.
Дети... Жена...
Со временем, может быть, поймут и они, со временем, может быть, и простят за страдания, которые им причинит, исполняя свой долг...
Теперь это оставалось ему единственным счастьем, если бы поняли и простили, пусть даже только тогда, когда ему придётся уйти от них навсегда.
А если не поймут, не простят?..
Большую цену требовал долг, как всегда. По своей воле платил он её.
Неимоверную цену, по правде сказать...
А ещё не факт, достигнется ли хоть что-нибудь этой непомерной ценой...
Когда-то сам написал, кажется, так:
«Ведь нельзя, чтобы всё было хорошо, если все люди нехороши, а я не ожидаю, что они скоро исправятся в будущем, всего через несколько лет...»
Если уж людям не дано одним разом сделаться добрыми, честными, справедливыми, можно было бы оставить эту затею с присягой, ведь у него мало надежды их вразумить, и дети с женой могли бы дожить благополучно и тихо до старости, без поношений, без нищеты...
Но и это сам написал, кажется, так:
«Даже скупая похвала бесчестным постановлениям была бы достойна только предателя или шпиона...»
С одной стороны была его честь.
С другой стороны были жизни детей и жены.
Но и то написал сам:
«Где только есть собственность, где всё измеряют на деньги, там вряд ли когда-либо возможно правильное и успешное течение государственных дел...»
И ещё:
«Всякий называет собственностью всё то, что ни попало ему, каждый день издаются бесчисленные законы, но они бессильны обеспечить достижение или охрану или ограничение от других того, что каждый, в свою очередь, именует собственностью, а это легко доказывают бесконечные и постоянно возникающие, никогда не оканчивающиеся процессы в суде...»
А если бессильны бесчисленные законы и бессчётные тюрьмы, полные тех, кто посягнул на чужое добро?
«Поэтому я твёрдо убеждён в том, что распределение средств равномерным и справедливым способом и благополучие в ходе человеческих дел возможны только с совершенным уничтожением собственности, но если она останется, то и у небольшой и наилучшей части человечества навсегда останется горькое и неизбежное бремя скорбей...»
А она остаётся, как остаётся и горькое, неизбежное, несносимое бремя скорбей.
Так не всё ли равно?..
Пусть забывший о долге король женится ещё хоть сто раз и народит ещё хоть три сотни наследников и наследниц, которые перевернут в этом мире решительно всё, что смогут.
У него дети, жена...
Но сам написал:
«Я, правда, допускаю...»
Да, сам допускал... Хватило ума... допустить... Для одних истина не делима... А вот для других...
Что там написал?
А вот что:
«Я, правда, допускаю, что оно может быть до известной степени обеспечено...»
Слёзы вновь затуманивали глаза, и делал вид, что они от свежего ветра, ласкавшего нежно лицо. Улыбался и помнил:
«... но категорически утверждаю, что совершенно его уничтожить нельзя...»
Именно так: совершенно нельзя.
Как ни поступай, что ни делай, как честно ни исполни свой долг, но пока она существует...
Своей же рукой вывел:
«Например, можно установить следующее: никто не должен иметь земельной собственности выше известного предела; сумма денежного имущества каждого может быть ограничена законами; могут быть изданы известные законы, которые запрещали бы королю чрезмерно проявлять свою власть, а народу излишне быть своевольным; можно запретить приобретать должность подкупом или продажей; прохождение этих должностей не должно сопровождаться издержками, так как это представляет удобный случай к тому, чтобы потом наверстать эти деньги путём обманов и грабежей, и возникает необходимость назначать на эти должности людей богатых, тогда как люди умные выполнили бы эти обязанности гораздо лучше. Подобные законы, повторяю, могут облегчить и смягчить бедствия точно так же, как постоянные припарки обычно подкрепляют тело безнадёжно больного. Но пока у каждого есть личная собственность, нет совершенно никакой надежды на выздоровление и возвращение организма в хорошее состояние. Мало того, заботясь об исцелении одной его части, ты растравляешь рану в других частях...»
Напрасны усилия, жертвы напрасны, напрасны лишения, пока всё это есть на грешной земле, и уж если почуялся запах приобретения, так удержатся слишком немногие...
Кто?..
Может быть, философы, глубоко просвещённые люди...
Может быть, ещё люди истинной веры, постники, молельщики, аскеты...
Видимо, всё...
Из чего следует, что прольётся кровь...
Малая или большая...
Одинаково кровь...
Но ведь это вывела его рука:
«Напротив, отнять что-нибудь у себя самого, чтобы придать другим, есть исключительная обязанность человеколюбия и благожелательности; эта обязанность никогда не уносит нашей выгоды в такой мере, в какой возвращает её. Подобная выгода возвращается взаимностью благодеяний, и самое сознание благодеяния и воспоминание о любви и расположении тех, кому ты оказал добро, приносят больше удовольствия душе твоей, чем то телесное наслаждение, от которого ты воздержался...»
Мыслитель не в радость себе это всё написал, как оборачивалось теперь, но сделал это, ибо именно так нам заповедал Христос...
Душой не кривил: слова Христа в его глазах были истиной, и уже кое-что возвратилось ему на суде свидетельством тех, в чьих делах следовал единственно справедливости, а не подлой, низменной выгоде.
И потому следовало повиноваться не королю, требовавшему присяги на верность одной принцессе в ущерб другой, а тому, что принял за непреложную истину.
И обернулся к сосредоточенно-грустному, бледному зятю, который вызвался к нему в провожатые:
— Сын мой, хвала Господу, сражение выиграно.
Зять встрепенулся, по-своему понимая его, и откликнулся громко, так что эхо откликнулось от высокого правого берега:
— Я очень этому рад!
Тем временем поравнялись с Вестминстером. Здесь лодка направилась наискось, срезая большую дугу, которой выгнулась строптивая Темза.
Несмотря на то, что их на стремнине подхватило и погнало сильней, гребцы дружнее налегали на вёсла, точно тоже поверив в победу, и сердитые рыжеватые волны громче заплескались о борт.
Наконец вышли на берег.
Ламбетский дворец стоял перед ним, знакомый, милый сердцу дворец, где прошла его юность.
Спокойно и твёрдо прошёл, одинокий, никем не встреченный, не сопровождённый, высокими залами.
С тех давних пор светлой юности ничто не изменилось в этих молчаливых, укрывших многие тайны покоях.
Только хозяин их был уж не тот.
Того хозяина, которого он уважал и любил, унесла река времени в вечность и вынесла на его место другого. Так неизбежно унесёт она и его, но прежде, чем это приключится, должен донести свой крест до конца, по примеру высокого своего покровителя, воспитавшего и наставившего его.
Ровно в одиннадцать, как было назначено, вступил в высокий сводчатый кабинет.
Спиной к решетчатому окну, в кресле Джона Мортона, кардинала и канцлера, с руками, опущенными на ручки, на которых так часто покоились узловатые стариковские руки учителя, широкий, могучий, с суровым, замкнутым, сильным лицом, невозмутимо и властно ожидал его Кранмер.
Рядом с архиепископом, однако пониже, за столом, где в строгом порядке разложены были бумаги, сидел почтительно Бэнсон, викарий. В стороне, точно наблюдая за ними, поместились канцлер Одли и Кромвель, уже секретарь короля.
Архиепископ жестом указал ему на невысокое кресло с прямой спинкой, без ручек, стоявшее одиноко, точно это был суд, тогда как дело велось о присяге.
Сел.
Непривычно тихо было в Ламбетском дворце. Пи дружного смеха, ни свободного громкого разговора, пи быстрых шагов, какими когда-то сюда входили усталые курьеры с запылёнными лицами и нарядные женщины.
Кромвель выставил вперёд крутой подбородок. Канцлер растерянно улыбался. Викарий вертел в неуклюжих пальцах лесоруба и плотника коротко отточенное перо. Архиепископ хмуро молчал, как будто ещё не решил, с чего должно начать либо дело присяги, либо судебный процесс.
Светлый лоб без морщин. Красивые тонкие женские брови. Узкое худое лицо. Вздутые желваки челюстей. Подбородок острый и длинный. Большой нос с напряжёнными крыльями. Верхняя губа с тёмной полосой тщательно сбритых усов. Стиснутый рот с опущенными вниз углами.
Тяжело глядя в упор, едва приоткрывая плоские губы, густым тихим голосом архиепископ выдавил из себя добрую минуту спустя:
— Мы вызвали вас, Томас Мор, по велению нашего государя Генриха Восьмого Тюдора, чтобы вы принесли перед нами присягу.
Бесстрастно ответил, опираясь левой рукой о колено, правой машинально поглаживая дрогнувшее бедро:
— Сначала я должен ознакомиться с её содержанием.
Архиепископ молча повёл вниз головой.
Викарий поднёс близко к глазам отпечатанный свиток и начал громко читать.
Мор был юристом, опытным адвокатом, помощником шерифа и одно время судьёй по гражданским делам и не мог не увидеть, какой опасности подвергает себя.
Без оговорок, без единого возражения предлагалось ему и всем подданным признать акт о наследовании, который представлялся ему вместилищем насилий и кровавой вражды. Он должен был признать законным второй брак короля с Анной Болейн; предстояло отвергнуть авторитет Римского Папы в семейных делах английского короля, должен был отречься от власти духовного пастыря, живущего в Риме, как от власти обыкновенного иноземного государя, вроде испанского или французского короля; был обязан признать Генриха Восьмого Тюдора своим единственным сувереном как в гражданских, так и в духовных делах.
За спиной архиепископа две деревянные решётки, мелкая в крупной, вставленные одна в другую, затемняли окно, за ним слабо светило подернутое дымкой летнее солнце.
Под сводами кабинета было сумрачно, тревожно и тихо. Никто не смел шевельнуться, вздохнуть, в какой уже раз выслушивая повеление монарха, точно и они понимали, что в эту роковую минуту решалась судьба государства.
Из положения абсолютно безвыходного надлежало отыскать какой-нибудь выход, спасавший не только бессмертную душу, спасти которую от адских мучений было в этом деле довольно легко, но и бренное тело, в надежде, что его примеру последуют те, кому бренное тело дороже бессмертной души.
Это он написал:
«Должность князя не сменяема в течение всей его жизни, если этому не помешает подозрение в стремлении к тирании...»
Подозрение всего лишь в стремлении, а эта присяга на верность принцессе Елизавете была тиранией уже сама по себе, воспрещая подданным короля иметь своё мнение в таком важном деле, как право наследования, не дозволяя самостоятельно решать дела совести, карая жизнью и смертью отношение к семейным делам монарха.
Дозволь это — и впредь всякий вздор, ударивший в голову Генриха, получит силу закона, и не станет отдыха у топора палача.
А там...
Сказал:
— Ещё должен быть и сам акт о наследовании, не только присяга.
Викарий, сильно прищуривая больные глаза, прочитал и вторую бумагу.
На этот раз ещё дольше молчал, и все ждали, не торопя того, кто пользовался большим уважением в Сити, в парламенте и на улицах Лондона, не мешая ему размышлять, может быть, уже понимая, какую цену предстояло ему заплатить за каждое слово.
Один Томас Кромвель в чёрном камзоле с белым воротником глядел беспокойно, злорадно, не сводя с него глаз.
Всё же нашёл, что искал, и негромко сказал судьям:
— Акту о наследовании я не отказался бы присягнуть, но я не могу принять текста присяги, не обрекая душу на вечную гибель, потому что духовная власть Римского Папы приравнивается им к светской власти любого иноземного государя и тем самым сугубо светской присягой отвергается исключительно духовный авторитет.
И вновь повисла зловещая тишина.
Викарий не тотчас, склонив плешивую голову, почтительно произнёс:
— Вам бы следовало, мастер Мор, считаться с тем мнением, которое выражено парламентом и королевским советом.
«С мнением парламента, подкупленного привилегиями, подарками и выгодными постами», — прибавил мысленно и так же мысленно улыбнулся.
Ведь это он сам написал:
«Имеется постановление, чтобы из дел, касающихся республики, ни одно не приводилось в исполнение, если оно не подвергалось обсуждению в сенате за три дня до принятия решения. Уголовным преступлением считается принимать решения по общественным делам помимо сената или народного собрания. Эта мера, говорят, с той принята целью, чтобы нелегко было переменить государственный строй путём заговора и угнетения тиранией. Поэтому всякое дело, представляющее значительную важность, докладывается собранию... Иногда дело переносится на собрание всего острова...»
Именно так: на собрание всего острова, и что бы ни постановило это собрание...
Но здесь предстояло постановить ему самому...
Главное, ни в коем случае и ни по какому поводу нельзя возражать, ибо каждое слово, осуждающее косвенно тем более прямо решение короля, объявлялось изменой, за каждое слово протеста он отвечал головой.
Необходимо молчать...
И молчанием...
И неторопливо произнёс, глядя на свиток, который подслеповатый викарий забыл или не решился свернуть:
— Я предпочитаю полагаться на доводы разума, а не на силу авторитета.
Взглянув ему прямо в глаза своим холодным немигающим взглядом, раздувая хищные ноздри, архиепископ строго, непримиримо отрезал:
— В таком трудном деле легко ошибиться, опираясь на одни лишь доводы разума, даже очень сильного разума, каков ваш, мастер Мор.
На прямой запрос обязан был отвечать прямо и чётко или смолчать, но видел, что смертью на этот раз грозило даже молчание. Другое всё-таки дело — способности разума. О способностях разума мог бы спорить сколько угодно. Чем дольше, тем лучше. Ведь бы мог говорить, а не молчать. К нему невозможно бы было придраться, что он молчанием осуждает решение короля.
Философ был благодарен архиепископу от души за эти слова.
Помолчав, спокойно поразмыслив о том, случайно ли архиепископ отвёл в сторону внимание слушателей, хотел ли ему этим тайно помочь, ответил пространно:
— Напротив, я думаю, труднее допустить ошибку там, где легко ошибиться. Когда мы, не ведая страха, поспешно идём по ровному месту, где никто не страшится упасть, мы падаем часто. Когда же мы спускаемся с крутого обрыва, то делаем это так осторожно, что обдумываем каждый свой шаг.
Не меняясь в лице, почти не разжимая плоского рта, архиепископ посоветовал жёстко:
— Вот и обдумайте, мастер, этот свой шаг.
В знак согласия кивнул головой:
— Я обдумал, ваше преосвященство.
Должно быть, не выдержав словопрения, которое было ему непонятно, нарушая чинность всей церемонии, канцлер Одли возмущённо воскликнул:
— Но что же обдумывать, мастер, если парламент согласился признать оба предложенных вам документа!
Ответил, слегка прищурив глаза:
— А обдумываю я потому, что парламент точно таким же образом имел возможность и право допустить ещё что-нибудь, например, клятвопреступление, прелюбодеяние или разврат. Постановили — и греши без разбора, взятки, мол, гладки.
Скрестив на жидкой груди короткие руки, высоко вздёрнув широчайшие мужицкие брови, беспокойно вертя головой, вопросительно взглядывая то на архиепископа, то на викария, то на секретаря короля, канцлер изумлённо отверг:
— Чтобы парламент? Да этого невозможно представить!
Он посоветовал мирно:
— А вы представьте хоть на минуту. В противном случае все постановления без исключения имели бы силу закона, начиная с постановлений сената Римской республики.
Суетливо моргая, медленно краснея мелким лицом, неумело одёргивая новый камзол, подобающий его непривычному положению, канцлер поспешно отрёкся:
— Даже на минуту! Даже на полминуты! Ни под каким видом! Это лучшие граждане нашей страны!
Выпрямился, вдохновлённый собственными словами, и, силясь выглядеть непреклонным и строгим, возвысил бабий голос:
— Я надеюсь! Я очень надеюсь! Уж с этим-то вы не станете спорить?
Мор улыбнулся, зная по опыту, полученному им на всех должностях, которые пришлось занимать, что такое коррупция среди представителей нации:
— Если хотите, против этого я спорить не стану. Однако и вы, надеюсь, не станете спорить, что не так-то легко где угодно найти несколько сот граждан, которые были бы хорошо образованы и воспитаны в здравых и разумных понятиях, к тому же имели бы в достаточном количестве совесть и честь, что тоже в их деятельности играет немалую роль.
Поджав губы, тяжело усмехаясь, Томас Кромвель, не успевший нигде поучиться, тем более воспитаться в здравых и разумных понятиях, презрительно вставил:
— Даже в вашем возлюбленном римском сенате?
Бедный Кромвель, бедный солдат, сукнодел, ростовщик, поверенный в делах кардинала Уолси, что ты слышал о римском сенате, и философ насмешливо подтвердил:
— Даже и там. История эта известна. — И продолжал, не спуская с Кромвеля искрящихся юмором глаз: — Ибо существует ли такое сословие, которое может надёжно оградить себя от того, чтобы угодничеством, приятельством, подкупом или обманом не могли в него просочиться недостойные люди, без чести и совести, например? Но как только один такой человек, без чести и совести, достигнет высокого положения, он всеми способами помогает подняться туда множеству подобных ему бесчестных людей. И по этой причине выходит, что во всяком сословии достаточно много недостойных людей, мнению которых нельзя доверять. И в римском сенате бывали такие великие люди, с возвышенным благородством их не могли сравниться даже цари, но бывали там также бесславные, ничтожные люди, которые жалким образом гибли, раздавленные, когда, во время недовольства и праздников, волновался народ. Несмотря на то, что низость одних нисколько не мешает, но даже помогает блеску других, звание сенатора не избавляло ничтожных и подлых от людского презрения.
Злобно сузив глаза, Кромвель открыл было рот, видимо, собираясь дать ему отповедь, однако архиепископ властно вмешался в разговор:
— В таком случае каждый из нас должен иметь что-то вроде магнитной иглы, она указала бы нам верный путь всякий раз, в каком направлении нам идти и как мы должны поступить.
Это охотно Мор подтвердил, радуясь, что не молчит, но и не принимает предложенных актов:
— Разумеется, ваше преосвященство, у каждого такая игла должна быть.
Тогда Кромвель с откровенной угрозой спросил:
— Разве такой магнитной иглой не являются постановления короля и парламента?
Дурак, дурак, а хочет поймать, и Мор руками развёл, непринуждённо откидываясь назад:
— Нашей магнитной иглой является совесть.
Тут пошевелился викарий, отложил свиток и вставил укоризненно и удивлённо:
— Помилуйте, мастер Мор, вы тут один с вашей совестью! На вашей стороне больше нет никого!
Невозмутимо ответил:
— Даже если бы на моей стороне не было никого, а на другой стороне был весь парламент, я и тогда не побоялся бы опереться на одно моё собственное суждение против такого множества голосов. Но ведь я не один. На моей стороне голоса всего христианства.
Канцлер вскрикнул, вытянув руку, точно предостерегая или пытаясь удержать:
— Будьте расчётливы, будьте благоразумны в ваших речах!
Возразил, почти равнодушно:
— Поверьте, лучше быть неблагоразумным, но честным.
Вновь его оборвав, архиепископ, на правах председателя, угрюмо спросил, не повернув головы:
— Не будет ли угодно его величеству, чтобы Томас Мор, здесь перед нами представший, принёс только ту клятву, произнести которую он согласился?
Томас Кромвель вскинулся весь и бросил победно и коротко:
— Нет!
Углубившись в себя, тяжело помолчав, архиепископ своей властью решил:
— Мы убедились, что мастер Томас Мор ещё не готов к произнесению клятвы по поводу обоих решений короля и парламента. Ему необходимо сосредоточиться и подумать, ведь это слишком важный вопрос. Так пусть поместят его в аббатство Вестминстер, да снизойдёт на него просветление в тишине и в молитве!
Глава десятая МОЛЧАНИЕ
Тем и окончилось то заседание.
Ему разрешили проститься с зятем, который беспокойно шагал взад и вперёд по двору, изнывая под солнцем в тревоге неведения.
Тычась влажным носом в плечо, зять беспомощно бормотал между всхлипами:
— Как же, мастер... сказали вы... Боже мой... «сражение выиграно»?..
Ласково улыбаясь ему, похлопывая по дрожавшему от рыданий плечу, подтвердил:
— Сражение выиграно. Ты это слово запомни. Ещё пригодится тебе и другим.
Зять не слышал, спрашивая его о другом:
— Они ведут вас в тюрьму?
Успокоил его:
— Пока ещё нет.
Викарий напомнил, приблизившись сбоку:
— Пора.
Зять цеплялся за его руку дрожащей слабой рукой:
— Что жёнам делать без вас?
Сердце сжалось от боли, на глаза наворачивались горючие слёзы от сострадания, от жалости к близким, от вины перед ними, и мыслитель ответил одним только словом, едва ли посильным для столь слабых душой:
— Мужаться.
Его поместили в сухой чистой келье. Иноки были предупредительны и почтительны. Его не тревожил никто.
Он подолгу молился и хладнокровно размышлял в тишине, прохладной и бодрой.
Понимал, что король опасался, быть может, даже боялся и его самого, и его влияния на мнение многих людей, не только в парламенте, но и в Сити, помня о том, как его посылали уладить ту глупую выходку с Фландрией. Мор находил, что архиепископ тайно его защищал, властный, расчётливый Краэнмер, догадывался, что отныне уже не один противился губительной политике короля.
Молитва и размышления укрепили его.
На пятый день вызвали вновь, вновь спросили, готов ли присягнуть, но он с прежним упорством продолжал уклоняться, не находя возможным признать законным развод и второй брак короля без благословения Римского Папы.
Тогда его под конвоем отправили в Тауэр.
Помещение, отведённое пленнику, было небольшим, но тоже чистым, сухим. Каменный пол прикрывали сплетённые из пшеничной соломы подстилки. Жена вносила пятнадцать шиллингов в неделю за стол и квартиру, которую ему предоставил король. Слуга Джон оставался при нём. Узнику разрешили пользоваться книгами, бумагой, пером. Его больше не беспокоил никто.
Неопределённость положения не смущала. Заточение тела не мешало свободе души; философ много читал и с удовольствием погружался в обычные размышления.
Изредка его посещала жена.
Она садилась на краешек простого тяжёлого табурета, в белом чепце с тонкими крылышками, отогнутыми в стороны у самого подбородка, в шёлковой чёрной накидке, с большим золочёным крестом, опускавшимся на мягкий живот, придерживая тонкими пальцами узелок на коленях, некрасивая носатая женщина, с пустым вялым ртом, с узкими, страдающими, бессмысленными глазами дойной коровы. Сварливая, грубая, жадная, с претензией на значительность своих скромных мыслей, не подруга, не опора, под тяжестью внезапного бедствия увяла и затихла совсем, точно проглотила язык.
Ему трудно было смотреть на неё: был виноват и уже ничем не мог помочь.
Жена говорила вяло и тихо, часто мигая потемневшими от бессонницы веками:
— Ты совсем исхудал. Тебя здесь не кормят совсем. Зазря берут столько денег с меня. Я принесла свежий хлеб и печёные яйца. Тмина в хлеб положила немного. Всё так, как ты любил.
Муж вздрогнул, но та не заметила своей оговорки и жалобно попросила его:
— Ты поешь. Поесть для человека всегда хорошо.
Мор всегда жалел её именно потому, что она была совсем неприглядная, теперь же, оставшись снова одна, выглядела беспомощной и совершенно несчастной.
От её несчастного вида, от жалобной тихой заботы о теле его у мыслителя стонала душа. Сознание вины становилось невыносимым. Ему захотелось тут же всё бросить, принести любую присягу и с лёгким сердцем воротиться домой, на свой сказочный остров, и эта старая женщина снова станет кормить его свежим хлебом, в который непременно станет добавлять немного тмина, он совсем его не любил, однако терпел, не желая её огорчать.
Но ведь он давно написал:
«Тот, кто терпит горе, держись, и судьба это горе развеет.
А не развеет, так смерть сделает это тебе...»
Тогда сел рядом, обнял дряблые плечи, ласково прижал нелюбимую к сердцу и стал говорить успокоительно, нежно, как с маленькой:
— Спасибо, Элис. Ты славно заботишься обо мне, как всегда. Здесь я бы пропал без тебя.
Жена жадно прильнула к нему, мелко дрожа слабым телом, большим и нескладным, жалобно лепеча ему в грудь:
— Это я... Это мне без тебя... Целых пятнадцать шиллингов за одну только неделю... В уме ли, в уме ли они?..
Узник взял её бедную голову в руки, отодвинул одним мягким движением от себя и заглянул в глаза, уже простив от души неистребимую скупость:
— Хорошо... Хорошо... Ты только не плачь. Я твоего хлеба поем. И печёные яйца. Они очень полезны и сытны. А ты будь терпелива. Я скоро, должно быть, очень скоро вернусь, и ты перестанешь платить. Ты лучше гони от себя эти чёрные мысли. Ведь человек гораздо больше зависит от своих же собственных мнений, чем от того, что в действительности приключается с ним. Помнишь, в день нашей свадьбы я подарил тебе драгоценности, такие красивые. Они были, конечно, фальшивыми, ведь я небогат. Но ты долго носила их так, словно они настоящие. Ужасно ими гордилась и выставляла их напоказ. Когда же я сказал тебе наконец, что это простые стекляшки, побывавшие в руках искусного мастера, ты очень сердилась, но после смеялась над этой маленькой шуткой вместе со мной. Так и всегда с душой человеческой. Перемени своё мнение о событиях, тебе досаждающих, и снова станешь счастливой.
Элис улыбнулась, так печально, так робко:
— Я понимаю. Ты взял меня без любви.
Отпустив её бедную голову, ещё раз крепко прижав к себе старое дряблое тело, ласково возразил:
— Это неправда.
Снова громко хлюпая носом, теребя завязки у мужа на груди, безнадёжно, устало шептала:
— Может быть, немного любил, только очень немного, как ближнего своего, как любишь чуть ли не всех, даже тех, кто тебе делает зло. Но ведь это высшее. Это иное. Я же теперь говорю о простом. Я тебя не виню. Не такая уж я привлекательная, что говорить. Худая корова. И приданого за мной не было почти никакого. Я думаю, ты меня тогда пожалел. Хотел помочь слабой, беспомощной женщине. Взял крест на себя. И я бы точно не справилась без тебя. Умерла бы давно. Зачем же бросаешь теперь? На кого?
Поспешно ответил чужим удушливым голосом, сожалея, что не исполнил свой долг до конца, не сумел, не смог отступить:
— Ведь я не бросаю тебя.
Отстранясь от него, жалобно заглядывая в глаза, сообщила с испугом и с укоризной:
— Они арестовали епископа Фишера.
Мор с радостью произнёс:
— Я этого ждал от него!
Мелко дрожа дряблой, старческой кожей лица, беспокойно тряся седой головой, прикрытой простым полотняным чепцом, жена бессильно спросила его:
— На кого ты нас всех покидаешь?
Сознавая, как тяжко виноват перед ней, перед детьми, перед слугами, перед дальними родственниками, которыми полон был его дом, его сказочный остров, страдая за тех, кому подал пример, подыскивая деликатный предлог, чтобы проводить её поскорей, покачал головой:
— Человек волен по-своему думать о том, что ненавистно его убеждениям, а всё прочее не в наших руках, а единственно в воле Всевышнего. Сбудется только то, что было угодно Ему при нашем рождении.
Элис вдруг повысила голос, словно муж уже воротился домой здоров, невредим и свободен и всё у них стало, как прежде, беспокойно и шумно:
— Ты всегда был упрям. Но если бы слушал меня, то думал бы обо всём по-другому. Перемени убеждения, как ты говоришь, и будешь счастлив ты сам, и твои домочадцы.
Он виновато ответил, и негодуя, и жалея, и неловко утешая её, не в силах ничего изменить:
— Но, клянусь Геркулесом, я не могу.
Словно бы уловив в дрогнувшем голосе колебание, принимая за слабость это чувство вины, женщина ещё возвысила голос, в котором отчаянье мешалось с угрозой, готовясь, должно быть, истошно кричать, как, бывало, на весь дом кричала, бранясь, не помня себя:
— Вас всех арестуют! Арестуют! Сгноят! Не пощадят никого!
Не сомневаясь, что именно в этом она абсолютно права, понимая, что сознанием своей вины только сильнее беспокоит и ранит её, делает ещё беспомощней и слабей, не имея мужества притворно прикрикнуть, как иногда должно прикрикнуть на женщину, чтобы она образумилась от властного крика мужчины, возразил:
— Зачем же арестовывать всех?
Элис испуганно вскрикнула:
— И нас они арестуют! Из-за тебя!
Усмехнулся невольно и негромко спросил:
— Зачем же им арестовывать вас?
Она уже причитала, поникнув, должно быть не понимая, что говорит:
— Я не знаю. Откуда мне это знать? Там видней! Я только знаю, что с годами у меня не прибавилось, а убавилось сил. Много детей, много дел. Без тебя я беззащитна совсем. Я умру без тебя.
Ласково поглаживая её старую руку с вздутыми синеватыми венами, с частой сетью мелких морщин, заставил себя улыбнуться, терпеливо и широко:
— Клянусь Геркулесом, но это не так.
Жена бессвязно шептала, заливаясь слезами, катившимися ручьями по её мягким желтоватым щекам:
— Я знаю, ты умный, ты мудрый. Это многие про тебя говорят. Ты должен придумать, как всех нас спасти, меня и детей. Ведь мы все пропадём без тебя.
Теперь пленник опять улыбнулся, невольно, с тоской, и вынужден был обещать, только то, что было в силах его:
— Постараюсь.
Она ушла вся в слезах, но с робкой надеждой на посветлевшем лице.
Философ же не находил себе места, страдал оттого, что ничем не может помочь этой женщине, старой, слабой, хлопотливой, сварливой и честной; доказывал сам себе, что Генрих не тронет ни её, ни детей, ведь он не злодей, не тронет тем более, что присягать станет каждый из них по отдельности и согласие или отказ признать второй брак и наследницей трона Елизавету будет зависеть не от него, а от убеждения, от совести каждого из его домочадцев.
Так будет. Так должно было быть. Так повелевает закон. Тем не менее никакая буква, никакой дух закона не прогоняли сумрачных мыслей о том, что для убеждения и совести каждого из его домочадцев противодействие уже стало важным примером. Догадывался, что Генрих нарочно повелел открыть к нему доступ жене, знал, где его слабое место.
И потому больше не хотел видеть Элис, но сказать ей об этом не было духу.
Маялся, злился и тосковал.
Вскоре же получил письмо от любимицы Мэг.
Прочитал его поздним вечером при свете брошенной в масло светильни, и руки опустились.
Старшая дочь, самая близкая из детей, умница Мэг не понимала его.
Жалостливо и горячо убеждала отца отказаться от своих убеждений, попрать совесть и уступить королю, уступить несмотря ни на что.
Из всех ударов судьбы, свалившихся на него, это был самый жестокий.
Долго сидел ошеломлённый, однако выдержал и это, уверенно написал:
«Мне не единожды в жизни доводилось получать тяжёлые вести, но ни одна из них так не затронула моего сердца, как твоё настойчивое стремление, моя любимая, столь слёзно и душераздирающе убедить меня совершить то, что, как я неоднократно и ясно тебе говорил, я не могу сделать из уважения к собственной совести...»
Остановился, потому что рука задрожала. Потом продолжал:
«И потому, дочь моя Маргарита, я не могу следовать вашему мнению и хочу просить вас оставить эту заботу и удовольствоваться моим прежним советом...»
Ей следовало укрепить свой дух смирением и покорностью Господу, как укреплял он себя, предаваясь молитве, однако никакая молитва не смягчала душевную боль, и отец написал:
«Самое ужасное для меня, более ужасное, чем угроза смерти, является то обстоятельство, что из-за меня пребывает в горе и подвергается опасности твой муж, мой добрый зять, ты, моя дочь, моя жена и все мои другие дети и безвинные друзья, но поскольку отвратить эту беду не в моей власти, я могу не более, как во всём полагаться на волю Всевышнего...»
Так узник остался один.
Поздней осенью повелением короля был созван парламент. Заседания нижней палаты затянулись на полтора месяца. Законодательные акты последовали один за другим, длинные, водянистые, как затяжные дожди.
Первым принят был акт о верховенстве. В согласии с ним, единственно ради возрастания добродетели и твёрдости в вере Христовой, король Генрих Восьмой Тюдор провозглашался верховным владыкой и вершителем всех дел, относившихся к вере и церкви в пределах его государства, а все платежи, десятины и доходы первого года за церковную должность, которые прежде отправлялись к Римскому Папе, отныне должны были течь в казну короля, к тому же приметно возросши в размерах.
Акт об измене объявлял государственной изменой любые слова, написанные или сказанные против самого короля, против второй королевы или против наследников, которые бы порочили достоинство короля или отвергали хотя бы один из его многочисленных титулов.
Последним был принят акт, обвинявший в государственной измене Томаса Мора и епископа Фишера за настойчивый, дерзкий и надменный отказ от присяги.
Его четыре зятя и шурин, депутаты нижней палаты, принесли присягу и проголосовали за обвинительный акт, предав и покинув его на произвол короля.
Согласно этому последнему акту философу угрожала смертная казнь, если не примет присяги, однако, на счастье ему, палата лордов не признала акт обоснованным, и акт не становился законом.
После этого его стали допрашивать. В конце апреля в первый раз пожаловал Кромвель.
Было раннее утро. Он ещё спал и видел во сне океан, пустой и безбрежный, только мерно катились большие волны, озлащённые солнцем, катились спокойно, уверенно и могуче, а Мор любовался седыми валами откуда-то сверху и зачем-то отчаянно пытался понять, откуда так жадно, так озабоченно смотрит на них, на чём так шатко стоит, что вот-вот упадёт и полетит навстречу бездонной пучине, и с замиранием сердца страшился как раз не того, что сорвётся, а только того, что уже не узнать ему никогда, что поддерживало его в колыхавшейся высоте.
Голос Кромвеля грубо позвал:
— Проснитесь!
Вздрогнув всем телом, вытягиваясь под одеялом, вытаращил заспанные глаза и увидел прямо перед собой пристальный ненавидящий взгляд.
В чёрном камзоле, в чёрном берете, Томас Кромвель сидел перед ним, подбоченясь, опершись толстыми ладонями о колени широко расставленных ног, обутых в чёрные башмаки с простыми железными пряжками.
Мутный свет едва пробивался в глубоком окне. Было сумрачно, тихо, снаружи не долетало ни звука, словно и пленник, и новый секретарь короля, и эта тихая келья парили над бездной.
Он всё ещё падал, как снилось во сне, и приходил в себя нехотя, медленно и с трудом, то открывая, то вновь закрывая глаза.
Не дожидаясь, пока Мор очнётся совсем, не сводя затаившихся пристальных глаз, Томас Кромвель скороговоркой сказал:
— Я пришёл, чтобы спасти вас.
Приподнялся.
От Томаса Кромвеля потянуло свежестью утра.
Привыкший за много дней к тяжёлому, затхлому, ненавистному воздуху заточения, с жадностью втягивал в себя эту свежесть, с грустной радостью жмурил глаза, всё ещё ослеплённые блеском сердитых валов, и отмахнулся ворчливо:
— Лучше бы дали поспать.
— Почему вы не верите мне?
Взглянув одним глазом на плутоватое, ханжески вытянутое лицо бывшего ростовщика и сборщика податей на службе у кардинала Уолси, снова жмурясь, но теперь не от солнца, потягиваясь, пытаясь понять по мутному свету, неласково, стыло млевшему в глубоком окне, каким было нынче утро на воле, каким будет нынешний день, признался с открытой издёвкой:
— Я бы поверил тебе, кабы сам ты поверил себе.
Голос Кромвеля зарокотал приглушённо, но грозно:
— Признайте новые акты, и вы обретёте свободу, ещё на землю не опустится вечер.
Удивляясь, как все эти жадные выскочки падки на разного рода пышную чушь, с сожалением представляя себе холодное утро, густой весенний туман, тёплый день, согретый улыбчивым солнцем, свежую зелень полей, обещавшую урожай, тихий вечер где-нибудь на вершине холма, откуда хорошо наблюдать незримо и плавно заходящее солнце и стадо коров, воз вращавшихся в город, лениво признался:
— Мой ум не занимают больше такого рода вопросы. Всё это, ваша милость, мирские дела.
Кромвель холодно рассмеялся:
— Так я и поверил, чтобы ваш ум...
Не открывая глаз, надеясь хоть мысленно воротиться к солнцу и рощам, перебил:
— У меня нет никакого желания входить в обсуждение ни новых титулов английского короля, ни старых титулов Римского Папы. Отныне я беседую только с Всевышним.
Кромвель насмешливо пояснил:
— Это означает только одно: сам с собой вы их дан но обсудили.
Возразил, снова ложась на жёсткий тюфяк и натягивая на себя одеяло толстого неокрашенного сукна:
— Дай мне поспать.
На мгновение растерявшись, должно быть, посидел неподвижно в полном молчании, Кромвель вдруг принагнулся к нему и пониженным доверительным голосом произнёс:
— Постойте, поспите потом, я обязан сказать, что вы совершаете большую ошибку.
Нехотя возразил, со старанием подтыкая под себя по бокам одеяло:
— Не надо, я сплю.
Тогда Кромвель двинулся всем крепким телом и тронул его за плечо тяжёлой рукой:
— Послушайте же меня!
С недоумением поглядел на него:
— Помилуй, ваша милость, ты, верно, позабыл слова Эпиктета.
Кромвель отпрянул, потерявшись от неожиданности, растерянно пробормотал:
— Какие слова?
Напомнил с иронической лаской тому, кто не утруждал себя чтением книг:
— Между тем Эпиктет говорит: «Не думай, что всем приятно слушать то, что тебе приятно сказать».
Под Кромвелем заскрипел табурет:
— Я обязан сказать.
Спокойно поправил его:
— Впрочем, прости, я в самом деле забыл, что ты никогда не читал Эпиктета. Это важное обстоятельство отчасти извиняет тебя.
Кромвель нетерпеливо вздохнул:
— К чёрту вашего Эпиктета и всех прочих Эпиктетов на свете. Король мне приказал, и вам придётся выслушать всё, что я вам скажу.
Сон пропал, и Мор сел на измятой постели:
— Стало быть, спасти меня желал бы король, а вовсе не ты?
Кромвель понизил голос, с видом заговорщика оглядываясь на толстую дверь:
— Мне приказано вам передать, что в том случае, если вы наконец признаете новые акты, ваше заблуждение будет забыто и всё между вами станет как прежде.
Мыслитель усмехнулся:
— Я уже всё забыл.
Вопреки обыкновению, всегда порывистый, нетерпеливый, Кромвель мягко настаивал:
— Повторяю вам, мастер, дело-то скверное, и очень вы заблуждаетесь, говоря со мной таким тоном.
Давно представляя себе, что затеял слишком серьёзное дело, прислонился к стене, сухой, но холодной, и как ни в чём не бывало, стал балагурить со своим соблазнителем, точно поучая его:
— Видишь ли, ваша милость, уличённый в ошибке, я не защищаю её, охотно её признаю: ведь тем, кого люблю, без колебаний указываю на то, что для них важно. Поэтому, честное слово, меня только радует, когда мне указывают на мою оплошность друзья, но разве ты так уж сильно любишь меня, чтобы стать моим другом?
Кромвель опустил голову, но согласился:
— Что верно, то верно, мастер. Правду сказать, я вас совсем не люблю.
Улыбнулся открытой, доброй улыбкой, словно прощая его:
— Вот видишь, а на чужие ошибки следует указывать только с любовью. Если на те же ошибки указывают нам без любви, это нередко производит об ратное действие. Ведь Корнелий Тацит однажды писал: «Едкие остроты, к которым примешано много истинного, оставляют по себе злобное воспоминание». И Саллюстий также был прав, говоря: «Истинное безумие, выбиваясь из сил, не стяжать себе ничего, кроме ненависти». Зачем ты не следуешь их мудрым советам?
Кромвель выпрямился, теряя терпение, и голос возвысил, уже не поглядывая на дверь:
— Прошу вас, мастер, образумьтесь, сдержите себя, укоротите язык, и я вам действительно помогу.
Насмешливо бросил ему ещё один афоризм:
— Гораздо проще, конечно, обуздывать чужие страсти, но обуздывать надо свои.
Кромвель не выдержал и резко поднялся:
— Предупреждаю вас, мастер... Вы доведёте меня…
Не страшился угроз и только напомнил ему:
— Природой установлено так, что мы всегда требуем от других умеренности в поступках и в мыслях, а собственные вольности охотно прощаем себе.
Сделав порывистый шаг, остановившись также порывисто, сунув толстые ладони за пояс, стянутый простой кованой пряжкой, Кромвель огрызнулся сердито:
— Так не пойдёт! Так мы не сможем договориться!
Улыбнулся:
— Вот видишь.
Сдёрнув, стиснув берет, размахивая кулаком, откуда торчали чёрные ушки, Кромвель настаивал, веско расставляя слова, точно гвозди вбивал, в самом деле усердно исполняя приказ:
— Король повелел мне предостеречь вас от ошибки, напомнить о том...
Перебил, миролюбиво разъясняя:
— Его величество предостерегает меня без причины, потому что нет ничего, от чего бы меня надо было предостеречь, а если бы даже и было отчего, так ты уже опоздал.
Кромвель сорвался и крикнул:
— Его величество не доволен ответами, которые вы дали нам в прошлый раз. Ваши ответы слишком уклончивы. Из них ничего невозможно понять.
Заверил собеседника:
— Теперь не дам никакого ответа.
Подступая вплотную к постели, скребнув по плитам пола подковами башмаков, Кромвель всё озлобленней, всё громче кричал:
— Вы подаёте дурной пример подданным короля!
Возразил:
— По милости его величества я отныне не общаюсь ни с кем. Своим мнением ни с кем не делюсь, даже с тобой. Лишь говорю, что совесть не позволяет мне дать такую присягу, но ведь тебе-то я не в силах подать никакого примера. Неужели ты сомневаешься? Неужели не присягнул?
Кромвель крикнул опять, должно быть, рассчитывая на то, что за дверями услышат вопрос и ответ и дадут показание на суде:
— И вы не признаете титулы короля?
Понизил голос и невозмутимо ответил вопросом:
— А ты сам признаешь все его титулы?
Кромвель отмахнулся небрежно, точно просил не запутывать его всяким вздором:
— Да, я признаю все титулы нашего короля! Да, да! Вы слышите, все титулы нашего короля, без исключения! Что за дурацкий вопрос!
Ещё тише, ещё невозмутимей спросил:
— И даже тот титул, согласно которому он является королём Франции, как наши давние короли?
Кромвель сразу остыл, оглянулся на дверь и сдавленно произнёс:
— Но я же хочу вас спасти.
Возразил:
— Пусть меня лучше спасает Всевышний, ведь Всевышним моя участь давно решена.
Неприязненно поглядев на него, Томас Кромвель повернулся чётко через плечо, как делал, должно быть, когда был солдатом и не смел взглянуть на сержанта, и молча ушёл, на ходу нахлобучивая чёрный берет.
Мор догадался, что отныне его не оставят в покое. Медленно бродя по узилищу, со всех сторон обдумывал своё положение, вопросы, что ему зададут, и ответы, что должен дать. Случайно или по глупости попадаться не хотел, а если не допустит оплошности, они не справятся с ним.
В начале мая они пришли впятером.
Архиепископ угрюмо молчал, ещё ниже спуская углы крепко сжатого плоского рта. Канцлер Одли суетливо вертел головой и на происходящее глядел, удивлённо расширяя глаза. Граф Уилтшир, отец Анны Болейн, держался сурово, напыщенно, с непривычным достоинством человека, который возвысился не заслугой, а случаем. Герцог Сэффолк казался ко всему безразличным. Томас Кромвель убеждал его ещё настойчивей, ещё резче и злей.
Чего они требовали?
То, что повелел им король, чтобы признал государя главой церкви.
Расставив эту ловушку, сановники, должно быть, рассчитывали услышать возражения, но любые возражения были бы оскорблением его величества, за него мыслителя было бы можно и должно судить и приговорить к смерти за государственную измену.
Они позабыли, что он был хорошим юристом, которому было известно со школьной скамьи, что прямое возражение грозит гибелью.
Промолчал и молчанием лишал их законного основания свершить над ним суд и вынести приговор.
Так и ушли, однако возвратились спустя несколько дней и задали ему всё тот же вопрос.
На этот раз счёл нужным ответить:
— Акт парламента о верховенстве короля подобен мечу: если скажешь одно — погубишь тело, если скажешь другое — погубишь бессмертную душу. Как мне тут выбирать?
Приходили опять и опять, и вновь отвечал, притворяясь наивным:
— Я ничего дурного не совершил, ничего дурного не говорил, не замышляю никакого зла ни против монарха, ни против его семьи. Всем желаю добра, и королю, и королеве, и дочери короля, и парламенту, и всей Англии. Если этого недостаточно, чтобы сохранить человеку жизнь, тогда жить мне осталось недолго, но, так и быть, жалкое тело готов потерять, лишь бы сохранилась душа.
Генрих, должно быть, бесился. Молчание узника выводило его из себя, ведь государь, любивший философские споры и беседы о римских поэтах, не терпел никакого противоречия.
Генрих отправлял своих слуг снова и снова, и они уже не могли отступиться. У него конфисковали имущество, пожалованное ему самим королём, когда Мор занимал должность канцлера и монарх считал его своим другом, должно быть, надеясь, что ему станет жаль своего достояний, но он опять промолчал. Подарили принцессе Елизавете любимый дом его в Челси — узник молчал. Отрубили голову верному соратнику Фишеру — хранил гробовое молчание. Под его открытым окном проводили его приверженцев, приговорённых к смерти на виселице, — продолжал молчать. Лейтенанту Уолсингему приказали обращаться с заключённым куда более строго, чем прежде, — и на это смолчал. Отобрали слугу, оставив в одиночестве и физически, — но и это не заставило его говорить.
Изобретая всё новые и новые утеснения, лишь бы угодить его величеству, наконец догадавшись (или на это указал им король?), как тяжко было бы для мыслителя одиночество умственное, пришли взять книги, бумагу, перо и чернила.
Резкий ветер дул в тот день с моря, нагоняя стадами серые тучи, сочившиеся дождём, и мелкие капли беззвучно шлёпали по стеклу, душу тесня беспокойством, промозглой сыростью наполняя уже пустынную келью.
Скучно, неуютно стало в тюрьме. Пристроившись у окна, перелистывал, лишь бы забыться, Эразма, чья весёлая насмешка всегда ободряла. Завидовал, восхищался, перебирая лёгкие, звучные, плавные латинские фразы, так до конца и не поверив тому, что эта бесподобная книга написана беззаботным Эразмом всего за две недели или чуть больше, в дороге, в седле, единственно как развлечение от скуки в долгом пути.
Добрый Эразм посвятил эту книгу ему, и Мор с удовольствием перечитал посвящение, укрепляясь духом от щедрых похвал:
«Эразм Роттердамский милому Томасу Мору посылает привет» стояло, как полагалось по прекрасному обычаю римлян, в самом начале, а далее шло:
«В недавние дни, возвращаясь из Италии в Англию и не желая, чтобы время, проводимое в седле, расточалось в пустых разговорах, чуждых литературе и музам, я либо размышлял о совместных учёных занятиях, либо мысленно наслаждался, поминая о покинутых друзьях, столь же учёных, сколь любезных моему сердцу. Между тем и ты, милый Мор, являлся мне в числе первых: вдали от тебя я не менее наслаждался воспоминаниями, нежели, бывало, вблизи — общением с тобой, которое, клянусь, слаще всего, что мне случилось отведать в жизни. И вот я решил заняться каким-нибудь делом, а поскольку обстоятельства не благоприятствовали предметам важным, то и задумал я сложить похвальное слово глупости. «Что за Паллада внушила тебе эту мысль?» — спросишь ты. Прежде всего навело меня на эту мысль родовое имя Мора, столь же близкое к слову «мория», сколь сам ты далёк от её существа, ибо, по общему приговору, ты от неё всех дальше. Затем мне казалось, что эта игра моего ума тебе особенно должна прийтись по вкусу, потому что ты всегда любил шутки такого рода, иначе говоря — учёные и не лишённые соли (ежели только не заблуждаюсь я в оценке собственного творения моего), и вообще не прочь был поглядеть на человеческую жизнь глазами Демокрита. Хотя по исключительной прозорливости ума ты чрезвычайно далёк от вкусов и воззрений грубой толпы, зато благодаря лёгкости и кротости нрава можешь и любишь, снисходя до общего уровня, играть роль самого обыкновенного человека. А значит, ты не только благосклонно примешь эту мою ораторскую безделку, эту памятку о твоём товарище, но и возьмёшь её под защиту; отныне, тебе посвящённая, она уже не моя, а твоя...»
Склоняясь над латинскими письменами, обхватив лёгкую голову сухощавой рукой, жадно, пристально размышлял, был ли в самом деле таким прозорливым и кротким или всего лишь показался таким своему, как праздник, весёлому гостю.
Разве выработал себе взгляд Демокрита?
Это древние сложили легенду или передали истинную правду потомкам, будто на старости лет великий мудрец ослепил сам себя, чтобы, отныне не развлекаясь ничем посторонним, вернее проникнуть во всё ещё недоступную истину, которую всю жизнь искал, а прожил, говорят, сто двадцать лет.
Быть может, всё это было не так и похвалы давались ему единственно из красоты и плавности слога.
Углубляться в истину сосредоточенной силой ума?
Что ж, пожалуй, если правду сказать, нечто подобное философ в себе находил, ибо любил в своём одиночестве поразмышлять над тайнами бытия.
А что, если мудрый соратник и друг хвалил его лишь потому, что устал видеть всюду жестокость, продажность и грязь, предательство, пороки и ложь, братоубийственную войну и гордыню всеобщего заблуждения?
Ибо как не устать, когда перед глазами что ни день, что ни час...
Какое мужество выстоит, кто не свихнётся с ума, кто не уйдёт добровольно из жизни или, на крайний случай, не расхвалит приятеля только за то, что тот никогда не солгал и ничего не украл?
Так и Эразм... Да, этот милый, любезный Эразм... Глаз не отвёл... Смеялся, острил...
Остроумнейший человек — Эразм из Роттердама. Придумал, сидя в седле, понудить Глупость хвалиться своими бесчисленными победами над людьми, и все, без исключения все поддались её власти: придворные, судьи, властители, жёны, друзья.
Приятно было читать, даже сидя в тюрьме, но горько было думать об этом:
«Охотно повидаю я этих бесчестных лицедеев, которые, прикидываясь набожными, чёрной неблагодарностью платят мне за мою благостыню, и с удовольствием завожу речь о королях и знатных придворных, кои чтут меня с прямодушием и откровенностью, достойными людей благородных. Что, если бы у этих господ завелось хотя бы на пол-унции здравого смысла? Как печальна и незавидна была бы их жизнь! Право, никто не стал бы добиваться столь дорогой ценой, как клятвопреступление и убийство, если бы предварительно взвесил, что за бремя возлагает на свои плечи всякий, желающий быть государем. Кто взял в свои руки кормило правления, тот обязан помышлять лишь об общественных, а отнюдь не о своих частных делах, не отступать ни на вершок от законов, каковых он и автор и исполнитель, следить постоянно за неподкупностью должностных лиц и судей: вечно он у всех перед глазами, как благодетельная звезда, чистотой и непорочностью своей хранящая от погибели род человеческий, или как грозная комета, всем несущая смерть...»
Он тоже был канцлером, в надежде издавать законы разумные и справедливые, в его руках тоже находилось кормило правления, которое было тяжело для него. Мог бы, предвидя возможное крушение этих счастливых надежд, отказаться, как слишком скоро пришлось отказаться, но по доброй воле принял кормило, ни на вершок не отступив от законов, следя постоянно...
Был ли у него тогда здравый смысл, кроме беспокойного дара предвидения?
Была ли жизнь его печальна и незавидна?
В самом деле помышлял лишь об общественных, а отнюдь не о своих частных делах, как все королевские слуги помышляли вокруг, и если чем пожаловали его, так только тем, чего ни у кого не просил и мздоимством не прикопил ни гроша.
И здравый смысл его был так упорен, неумолим и велик, что перечил своему королю.
И вот стал ли звездой для людей? Достало ли непорочности и чистоты, чтобы охранить от погибели род человеческий? Достало ли мудрости, чтобы уберечь своих ближних от раздоров и войн?
Хорошо было думать, хорошо было верить, что был, что достало, что охранил, что уберёг. Иначе вся жизнь прошла понапрасну. Иначе не разуму, не справедливости, не добру служил, а чему-то иному. А если не разуму, не справедливости, не добру, то чему же?
Ответить не мог, а выходило только одно: достало здравого смысла лишь для того, чтобы упорно молчать, в надежде избегнуть топора палача.
Очень просто было Эразму оставаться благоразумным и предостерегать от соблазна:
«Пороки всех остальных лиц губительны для немногих и по большей части остаются скрытыми, но государь поставлен так высоко, что если он позволит себе хотя бы малейшее уклонение от путей чести, тотчас словно чума распространяется среди его подданных...»
Ни малейшего уклонения с путей чести, которое всего погубительней для души, у кого она есть, или нечего спрашивать, нечего ждать от других, что путь чести их соблазнит, ведь это путь опасный и трудный, быть может, труднейший из всех.
Однако какова и цена?..
Достанет ли... достанет ли сил у него?..
Так и читал, допрашивая себя, не решаясь открыто признать и всё же с облегчением признавая, что всесильная глупость так-таки не одолела его:
«Богатство и могущество государей умножают для них поводы свернуть с прямого пути: чем больше вокруг них разнузданности, наслаждений, лести, роскоши, тем бдительнее они должны следить за собой, дабы не ошибиться и не погрешить в чём-либо против обязанностей своего высокого звания. Наконец, какие козни, какая ненависть, какие опасности предостерегают их, не говоря уже о страхе перед тем неизбежным мгновением, когда единый истинный Царь истребует у них отчёта даже в малейшем проступке, истребует с тем большей строгостью, чем шире дана была им предоставлена власть!..»
Неизбежное это мгновение, кажется, близко... Давать ответ в малейшем проступке... С наивысшей строгостью, быть может, спросят с него, ибо, тут клялся себе Геркулесом, мало кто так размахивался широко в своих помыслах о благе ближних... И много ли оправданий в том, что ничего не свершил?..
Пред тем, как вопросит его единый истинный Царь, нет страшнее и горше суда, чем свой собственный пристальный суд...
Тогда по какой же причине так снисходительно судит себя?.. Разве всё же по глупости, как уверяет насмешник Эразм?..
«Если бы, повторяю, государь взвесил в уме своём это и многое другое в том же роде — а он бы так и сделал, обладай он здравым разумением, — то, полагаю, не было бы ему отрады ни во сне, ни в пище. Но, благодаря моим дарам, государи возлагают все заботы на богов, а сами живут в довольстве и веселии и, дабы не смущать своего спокойствия, допускают к себе только таких людей, которые привыкли говорить одни приятные вещи. Они уверены, что честно исполняют свой монарший долг, если усердно охотятся, разводят породистых жеребцов, продают не без пользы для себя должности и чины и ежедневно измышляют новые способы набивать свою казну, отнимая у граждан их достояние. Для этого, правда, требуется благовидный предлог, так чтобы даже несправедливейшее дело имело внешнее подобие справедливости. Тут, в виде приправы к делам, произносится несколько льстивых слов с целью привлечь души подданных...»
В этом месте невольно оторвался от книги.
Дальний край неба начал понемногу светлеть. Крупные капли висели на стёклах, соединялись друг с другом и стекали внезапными тонкими, быстрыми струйками вниз.
Издавна размышлял о природе вещей, и в особенности о природе правления. Ещё не был у власти, когда Эразм написал и посвятил ему свою книгу, точно предостерегал от какой-то ошибки. Позднее ему вверили власть, и он правил страной по соглашению с королём, а нынче ту власть потерял, но о природе её думал одинаково и прежде и нынче.
Не замечая того, по привычке, свойственной узникам, стал говорить сам с собой, медленно, негромко, чуть хрипло выговаривая слова:
— В этом деле ты во всём прав, мой Эразм, и всё же я не могу с тобой согласиться, как ты не стал соглашаться со мной, прозрачно играя словами «Мор» и «мория», что значит «глупость», оговорившись лукаво, что я-то всех дальше от неё отстаю.
Эта игра словами не оскорбляла, даже ничуть не задевала, ибо доподлинно было известно от самого же Эразма, что тот не соглашался с ним только в одном, как и сам он только в этом одном не соглашался с Эразмом.
Рассудительно возразил:
— Ведь всё это я видел и знал. Конечно, глупцы те, которые бегут за призраком богатства и власти, как мудрец тот, кто удаляется от богатства и власти, зная, что они преходящи, опасны и губительны для души. Но ведь глупцы никому не способны дать ничего, кроме зла. Тогда с какой целью ты, мудрейший из мудрецов, светоч разума, святая душа, написал свою книгу? Ты хотел поразвлечься сам и меня поразвлечь? Или тайно мечтал, чтобы люди, вняв твоей книге, стали умней?
Философ эту книгу любил, держал её с должным почтеньем в руке и дружески заключил:
— В таком случае глупости поддался и ты, ибо не могло же не быть известно тебе, что нет совести у того, кто приблизился к власти, и что не устыдиться тому за себя, ни позорных деяний своих, кто богат и повелевает людьми. Напротив! С лёгким сердцем тот ещё раз преступит закон и ещё раз убьёт добродетель, если от этого возвысится его капитал или власть над людьми. Иронией и насмешкой, образованностью и поучением не истребить сей злейший порок. Я-то восхищен твоей солью — да они-то читать и слушать тебя не желают, а они есть весь мир.
Пригладив развёрнутые листы, помня всё, что далее скажет остроумный Эразм, со злым наслаждением стал снова читать:
«Теперь вообразите себе — а ведь это встречается и в жизни — человека невежественного в законах, чуть не прямого врага общего блага, преследующего единственно свои личные выгоды, преданного сладострастию, ненавистника учёности, ненавистника истины и свободы, менее всего помышляющего о процветании государства, но всё измеряющего меркой собственных прибытков и вожделений. Наденьте на такого человека золотую цепь, указующую на соединение всех добродетелей, возложите ему на голову корону, усыпанную дорогими каменьями, напоминание о том, что носитель её должен превосходить величием своих доблестей, вручите ему скипетр, символ правосудия и справедливости неподкупной, наконец, облеките его в пурпур, знаменующий возвышенную любовь к отечеству. Если государь...»
Толкнув от себя скрипучую дверь, первым в его тихую келью вступил лейтенант.
«...сопоставит все эти украшения...»
Следом за лейтенантом с приятной улыбкой на молодом холёном лице появился главный поверенный короля Ричард Рич. Третьим затопал шагавший вперевалку шериф. Двое иззябших слуг виднелись за его широкой спиной.
«...с жизнью, которую он ведёт, я уверен, он...»
Они заговорили вежливо, виновато, по очереди подступая к нему:
— Добрый день, мастер!
— Рад приветствовать вас!
— Каково нынче ваше здоровье?
Отвечал:
— Добрый день.
И почти машинально доглядел до конца:
«...устыдится своего наряда и ему станет страшно, как бы какой-нибудь шутник не сделал предметом посмеяния этот величественный убор».
Ещё успел с упрёком подумать:
«Эразм, Эразм...»
Поёживаясь, не то смущённо, не то с тайной хитростью поблескивая оливковыми глазами, как-то странно, как будто неловко улыбаясь ярким чувственным ртом, потирая левую руку правой рукой, мягким тенором первым заговорил Ричард Рич:
— Скверная погодка. Было бы лучше вовсе не выбираться из дома.
Ничего не ответив на эти явным образом вступительные слова, аккуратно свернул любимую книгу и неохотно оглядывал тех, кто пришёл.
Плащи шерифа и Рича были чуть влажны, тогда как ливреи слуг был мокры насквозь.
Подумал с лёгкой усмешкой, что поверенный короля, сидя в роскошной карете, не слишком пострадал от дождя, разве что всходя на крыльцо, и с вызовом произнёс:
— Острые стрелы не всякого жалят даже в разгаре войны.
Рич коротко засмеялся и понимающе кивнул головой, в то время как лейтенант, не слушая, не глядя ни на кого, отрывисто приказал:
— Приступайте.
Обойдя господ стороной, пятная сухие подстилки промокшими башмаками, слуги принялись, спеша и толкаясь, опустошать стол. Высокий и толстый, с мучнистым лицом, хватал без разбора непривычными пухлыми пальцами бумаги и книги, а маленький, юркий, худой подставлял холщовый мешок.
Стараясь не мешать, не в силах видеть, как грубо падали книги в расширенное горло мешка, ударяясь друг о друга и об пол, болезненно ощущая эти удары, боком поднялся, отодвинулся в сторону и застыл, стискивая «Похвалу Глупости» в похолодевшей руке.
Коротконогий шериф, с висячим большим животом, как амбарный замок, с коротким смеющимся носом, навалившись плечом на нишу окна, старательно утирал, отдуваясь, розовое лицо голубым измятым платком.
Легко шагая на длинных ногах, Рич сбросил плотный бархатный плащ и сам повесил его на крюк у дверей.
Склонив голову, складывая платок, шериф проворчал:
— Простите нас, мастер, мы бы вам не хотели мешать.
Они вместе служили, Мор знал шерифа добрым, покладистым человеком, угадал, что старый законник смущён, и разыграл удивление:
— За что?
Рич подступил к нему совсем близко, улыбаясь неполной, всё той же непонятной улыбкой, и как будто простодушно сказал, ещё мягче выговаривая слова:
— Неприятная обязанность, мастер, но приказ короля есть приказ короля. Нам позволено оставить вам всего одну книгу.
— Какую?
— Евангелие.
Стыдясь за него этой непонятной улыбки, скрывавшей неловкость раба, а по случаю палача, отводя невольно глаза, поспешно сказал:
— Нет лучшей книги на свете, чтобы в любое время насытить душу и прогнать вялость ума.
Внезапно поворотившись всем телом, грузно подавшись вперёд, шериф с тревогой воскликнул:
— Снова ведут!
Все разом оборотились к окну.
Страдая одышкой — следствие многих лет и многих бочек выпитого вина — шериф выдавливал со свистом слова:
— Прибавилось работки, мастер, прибавилось... Не то что при вас... Пятерых стали вздёргивать... на одной... перекладине...
Придерживая шпагу левой рукой, лейтенант шагнул к столу, равнодушно оглядывая его поверхность беспощадными стальными глазами.
Рич приблизился боком, беспокойно вертя головой, улыбаясь как будто забытой улыбкой, пробегая нервными пальцами по застёжкам камзола.
Узник невольно потянулся за ним.
Равнодушная стража, матово мерцая металлом шлемов и лат, вела осуждённых монахов, чьи руки были крепко скручены за спиной.
Свежие лужи блестели между неровными камнями двора. Монахи ступали, не выбирая места посуше. Широкоплечий, в цвете сил инок шагал безбоязненно, твёрдо» с обнажённой, откинутой назад кудлатой большой головой. Щуплый юноша с длинными светлыми прядями, припадая к нему, с застывшим испуганным бледным лицом, путался в длинной рясе ногами, которые, должно быть, подгибались под ним. Измождённый старик, придерживая истёртую рясу рукой, с усилием семенил худыми, от старости кривыми согбенными ногами, боясь отстать от других, что-то шепча провалившимся ртом.
Передние стражники внезапно остановились, скрестили копья и преградили дорогу.
Монахи остановились.
Старик с ходу толкнул плечом молодого и чуть не упал, увлекая того за собой.
Задние стражники что-то кричали. Передние, путаясь копьями, мешали идти. Молодой монах взволнованно вертел головой. Широкоплечий сурово оглядывался назад, точно пытался своим мрачным взглядом заткнуть кричавшие рты.
Лейтенант усмехнулся. Рич отодвинулся в сторону.
В тот же миг Мор понял, что представление устроено единственно ради него. Лицо сделалось страдающим, мрачным. Неподвижно застыли глаза, безотрывно глядя на тех, кто подвигнутый примером его уходил умирать, уходил прежде, чем он.
Время остановилось в нестерпимой тоске.
Обречённых на смерть наконец провели.
Все отвернулись, потупились, долго молчали, точно зрелище было для них неожиданно, непривычно и омрачило их дух.
Расторопные слуги затягивали горло мешка, в спешке толкая друг друга, сердито вполголоса переругиваясь между собой.
Шериф вдруг подал голос, надув толстые щёки, потирая сытую шею шерстистой рукой:
— Чёрт побери! Умереть в такую погоду! Я бы лучше раскаялся дважды, а потом опять согрешил!
Рич засмеялся беззвучно, дружески хлопнув шерифа по широкой спине, беспокойно вертя головой, рассеянно глядя по сторонам, точно думал о чём-то своём, успокоив того:
— Тебя не повесят, не бойся. Столько мяса не вы держит никакая верёвка.
Шериф проворчал:
— Не повесят, так отрубят башку.
Рич засмеялся опять:
— Ещё не отточен топор, который перерубит такую толстую шею.
Шериф мотнул головой:
— Захотят, так наточат.
Засунув большие пальцы за кожаный пояс, приподняв большие мускулистые плечи, оттягивая книзу ремень, лейтенант презрительно бросил:
— Эти не раскаются, сэр. Всех троих жгли огнём, ломали кости на пальцах рук и загоняли иглы под ногти. Тот, широкоплечий, ни звука не проронил и только ругался. Мальчишка визжал, как свинья. Старик молча плакал. Но принести присягу отказались все трое.
Взглянул неприязненно прямо в стальные, горящие праведным гневом глаза. Мору было известно, что за льготы и послабления лейтенант от заключённых принимал воздаяние. Сам платил по целому фунту, когда к нему тайно допускали Дороти Колли, служанку, приносившую новости и бельё.
Лейтенант нахмурился, не выдержав взгляда, однако не отвернулся, не сдвинулся с места, только сильней потянул книзу ремень.
Тихо произнёс:
— Они весело шли, как женихи на последнюю свадьбу.
Невысокий юркий слуга, опасливо приблизившись сбоку, вдруг потянул мягким движением книгу в кожаном переплёте, которую Мор по-прежнему забыто, но крепко стиснул в руке.
Понял не сразу, чего хотят от него. Несколько секунд между ними продолжалась борьба, пока не понял, в чём было дело, пальцы разжались сами собой, и «Похвала Глупости», память Эразма, досталась слуге, который пошатнулся от неожиданности, с боязливым недоумением взглядывая исподлобья то на чёрную книгу, то на узника.
Усы его шевельнулись, в глазах блеснуло лукавство, беззлобная шутка готовилась слететь с языка, но ему помешал почтительный голос Ричарда Рича, негромко раздавшийся за плечом:
— Простите меня.
Стремительно обернувшись, встретил несмелый взволнованный взгляд.
Ричард Рич был по-прежнему оживлён и развязен, но как будто внутренне скован, смущён, обратившись лично и без приказа к опасному узнику. Мягко, словно нерешительно извиняясь, улыбались сочные губы. Беспокойно двигались, не находя себе места, небольшие изящные руки. Ричард Рич взглядывал затаённо, как будто дружески и тепло, но в тот же миг отводил большие выпуклые глаза.
Настороженно наблюдая это лицо, спрашивая себя, что понадобилось от него человеку, с ним был он мало знаком, сухо проговорил:
— Я слушаю вас.
Придвинувшись очень близко, склонив вежливо голову, поверенный короля вполголоса начал:
— Быть может, я мало образован или не очень умён, да так оно, видно, и есть. Ведь я не учился по-гречески и никогда не читал ни Аристотеля, ни Платона, не говоря о прочих философах древности, которых знаете вы, как говорят, наизусть и которых так хвалят другие. Тоже и святые отцы, их труды мне тоже мало известны. Что поделаешь, занятия службы. Впрочем, занятия службы не могут меня оправдать. Должно быть, с детства на это ленив. И вот я не совсем понимаю, что у нас теперь происходит. Всё перепуталось как-то. Один за другим идут умирать люди набожные, молодые и старые. Но за что?
При этом поверенный короля странно вздрогнул, исподтишка оглянувшись на шерифа и лейтенанта, они приказав слугам развязать завязанный было мешок, зачем-то просматривали отобранные бумаги и книги, и продолжал поспешней и тише:
— Когда папа Павел пожаловал епископу Фишеру высокий сан кардинала...
Вопросительно перебил, дав себе время подумать, к чему клонит эта лиса:
— Павел Третий?
Поверенный короля взглянул изумлённо:
— Вы об этом не знали?
Улыбнулся:
— Как я мог знать? Я здесь давно.
Поверенный короля пробормотал, как невинная девушка опуская глаза:
— Я не подумал об этом! Умоляю, не выдавайте меня! Боже мой!
Погрузился в задумчивость, несколько раз подёргал усы, потом кивнул головой и спросил:
— Выходит, Джулио Медичи умер?
Тот подтвердил:
— Ещё в сентябре.
Поспешно обдумывая, каким образом кончина папы Климента могла быть связана с ним, с полным безразличием произнёс:
— Он был честным, но лицемерным и слабым.
Поверенный удивился:
— Так вы не знаете, что происходит в Италии?!
Происходящее в Италии мало интересовало его:
— Кажется, говорили о падении Рима, а что было потом, мне не известно.
— Флорентийцы ещё раз выгнали Медичи. Папа, примирившийся с императором Карлом, призвал под свои знамёна испанских католиков и лютеран из Германии, свирепость которых ни для кого уже не секрет. Ему удалось застигнуть флорентийцев врасплох. Они вооружили молодёжь и призвали окрестных крестьян, а главнокомандующим выбрали кондотьера по имени Малатеста, если я правильно произношу его имя. Своим королём провозгласили Христа и предали смерти несколько сот распутников и богохульцев. Для национальной обороны отобрали и продали монастырские земли и церковную утварь. Патриотизм охватил горожан и монахов. Они сделали вылазку и принудили папское воинство принять битву. Принц Оранский, командовавший войсками папы, был вскоре убит. Победа всё-таки осталась за папой. В осаждённой Флоренции люди умирали от голода. Сторонники Медичи подкупом открыли дорогу предательству. Флоренция пала. Во Флоренцию воротился Алессандро и всех своих противников отправил в изгнание. Медичи взяли власть во Флоренции. Городское самоуправление было упразднено, заметьте, с согласия папы Климента. Медичи признали власть императора. Алессандро казнил всех, кто произносил хотя бы слово против него, и завладевал имуществом казнённых и изгнанных. Он любил бродить по ночам, сопровождаемый фаворитом. Этот фаворит однажды заманил его в свой дом и убил, а сам бежал, одни говорят, что в Венецию, а другие — что в Турцию. Где-то там его настигли убийцы, состоящие на жалованье у Козимо Медичи. Козимо присвоил себе имущество наследника Алессандро, в чём ему помогли император и папа. Своих противников казнил, по четыре головы — каждое утро, взял в свои руки всю торговлю Флоренции. После всех этих бесчинств, которых он явился невольной причиной, папе Клименту осталось лишь умереть, и он умер. Тогда папой стал Павел Третий и пожаловал...
Перебил:
— Кто он?
Собеседник с готовностью отвечал, вновь оглянувшись украдкой на своих спутников, по-прежнему возившихся возле мешка, выкладывая и вновь вкладывая бумаги и книги:
— Фарнезе.
Переспросил, тоже негромко:
— Этот почитатель древних? Покровитель изящных искусств?
Тряхнув головой, совсем спиной поворотившись к шерифу и лейтенанту, которые, казалось, перекладывали бумаги и книги уже второй раз, Рич заспешил:
— И намерен созвать Вселенский собор, как говорят. На Вселенском соборе представителем нашей церкви ему хотелось бы видеть именно Фишера, однако, прознав о таком доверии папы, наш король пришёл в ярость и крикнул, что сперва даст Фишеру другую шляпу, а потом пошлёт его голову в Рим, пусть там натянут на неё и кардинальскую шапку. Если бы он просто не утвердил назначение Рима, это бы можно было понять, такая власть дана ему парламентским актом, но эта казнь, согласитесь, и приказ в каждой церкви проповедовать против вас!.. Я навещал епископа Фишера перед казнью. Ведь он был вашим другом, так говорят, беседовал с ним целый час. Из нашего разговора понял, что это был почтенный и весьма знающий человек. И он решительно меня убедил, что наш король не имеет ни малейшего права на титул верховного владыки английской церкви. Тем не менее, мастер, его доводы не показались мне вполне убедительными.
Обращаясь мысленно к Генриху, презрительно смеясь над этими проповедями против него, которые, по его убеждению, не могли иметь никакого успеха, убеждаясь, что тот идёт всё дальше и дальше и остановить монарха с каждым днём становится всё трудней и трудней, переспросил:
— И вам доводы Фишера показались не вполне убедительными?
Опуская долу глаза, часто меняясь в лице, поверенный почти жалобно попросил:
— Не могли бы вы, именно вы, дать мне дополнительные разъяснения?
Очень странной показалась эта просьба, обращённая к опасному узнику. Он, как было известно, на всех допросах упорно молчал. Внимательно глядя на Ричарда Рича, припоминая его внезапные взгляды, этот нерешительный, но настойчивый тон, осторожно спросил:
— К чему вам могут послужить мои разъяснения?
Вновь оглянувшись украдкой, Рич ещё ближе нагнулся к нему и признался чуть слышно:
— Я дал присягу вместе со всеми, как подобает моему положению, но меня одолевают сомнения. Я страшусь перед Господом, не совершил ли тяжкий грех. В этом я должен быть твёрдо уверен. В противном случае моя душа погибнет во мраке, и мне не найти покоя нигде, нигде.
Ему вдруг сделалось неловко и жутко, ясно и остро почувствовал, что определённо, непоправимо виноват перед этим молодым ещё человеком, что своим уверенным, непоколебимым упорством смутил недалёкого, слабого, послушного царедворца, заставил его колебаться, быть может, страдать, даже ввёл, наверное, в грех. Представил на миг, как сорвут с этого здорового стройного тела изящно шитый камзол, как грубо клоками выстригут сзади эти упругие чёрные кудри, как слетит с плеч эта юная, ещё не окрепшая голова. Зачем? Для чего? Кому нужна эта невольная, безответная жертва? Кому?
Должен был, обязан был объяснить эту неправедную историю с титулом, чтобы жертва, если суждено ей случиться, не была безответной, напрасной, чтобы и эта молодая, не окрепшая голова упала своей красной каплей в то общее дело, которое ширилось против безрассудств короля, но должен, обязан молчать обо всём, что касалось присяги, если хотел не только оставаться в живых, но ещё и сберечь хотя бы один шанс на победу над безрассудством.
Колебался в тревоге и жалости, плечи опустились, настойчиво искал подходящий ответ, безопасный для него самого и спасительный для собеседника. Лицо словно осунулось, руки стали горячи, рот пересох.
Однако не приходило на ум ничего, а время не ждало, попробовал улыбнуться и полунасмешливо произнёс, рассчитывая перевести разговор на иные предметы:
— Я догадываюсь, что вы ещё никого не убили, чтобы свой грех почитать таким тяжким?
Вздрогнув всем телом, Рич отшатнулся чуть не с побледневшим лицом:
— Что вы, как можно! Смерти я не хочу никому! Но и душу свою погубить не хочу! Я бы только хотел верно исполнить свой долг перед Господом!
Ему становилось стыдно своих колебаний, понятных, но непростительных, поскольку в них слышался подлы ii страх за себя. Представил себе, что в эти смутные дни точно так же беспокойно, мучительно мечется между исполнением долга и чувством греха доверчивая, неискушённая, честная душа его сына и некому направить его, некому подсказать, в чём именно состоит нынче исполнение долга, в чём приходится видеть свой тяжкий грех.
Всем сердцем пожалел несчастного царедворца и сказал ободряюще, готовый стать откровенным:
— Слава богу, мой мальчик! Желать смерти кому-либо из смертных было бы хуже всего.
Доверительно тронув его за рукав, молодой человек заговорил взволнованно, тихо и быстро:
— Вот, допустим, только допустим, что есть акт парламента, что всё королевство должно признать меня своим владыкой. Скажите мне вы, именно вы, Томас Мор, славный между учёными многих стран, признали бы вы меня в таком случае королём?
Ему понравилась доверительность поспешного, видимо, от сердца идущего жеста, ещё больше тронула эта молодая взволнованность, и хотел бы ответить чистосердечно и прямо, но вопрос представлялся ему слишком уж дерзким, чтобы родиться в нетронутой, чистой душе, и вновь колебался, допрашивая себя, опасаясь дать слишком точный ответ, который стоил бы жизни:
«Он провокатор или дурак? Хитёр как чёрт или наивен до святости? В его-то возрасте неужели уже столько хитёр и коварен, что Генрих его подослал тягаться со мной? А глядит настоящим ягнёнком... Взволнован, взволнован-то как!..»
С влажным лбом, всем телом заметно дрожа, Рич шепнул ему почти в самое ухо:
— Умоляю вас, мастер, ваши слова останутся между нами, клянусь!
Ему стало легче от клятвы, от шёпота, от волнения юности, и уже спокойно ответил:
— Почему не признаться мне, Ричард Рич? Вас я мог бы признать государем.
Повеселев, сощурив глаза, поверенный продолжал не то стеснительно, не то осторожно:
— А если бы парламентом был принят акт, повелевавший, чтобы Англия признала меня римским папой?
Вглядывался в эти прищуренные глаза, в это повеселевшее, но застывшее молодое лицо, в этот припухлый, сочный, уклончивый рот, и как будто ничего подозрительного не примечалось в этом худом, бледноватом красивом лице, кроме этой застылости и этого рта, и подумал стеснённо, стыдясь тёмных подозрений, не в силах их одолеть:
«Слишком красив, чтобы при дворе короля остаться надёжным и честным. Такого рода юнцы легко впадают в соблазн, ещё легче забывают о чести и совести, лгут бесстыдно и много. Вот уж он поверенный короля. Это недаром, конечно, недаром. Из чего тебе быть откровенным? Один болтливый дурак может погубить десять самых осмотрительных умников. Пусть понимает, как сможет...»
И стал медленно говорить, вертя золочёную пуговицу его малинового жилета:
— Я вам отвечу тоже примером. Допустим, только допустим, как ведь такую возможность только допускаете вы, парламент принял закон, согласно с которым Всевышний не является отныне Всевышним. Вы согласились бы признать этот акт?
Выпрямляясь, сверкая глазами, юноша возмущённо и несколько громче, чем перед тем, возразил:
— Нет, я не сказал бы так, поскольку ни один парламент не может принять подобный закон!
Внимательно выслушал и со значением улыбнулся на это:
— Парламент всё может, но вы сами ответили на свой вопрос. Теперь ваши сомнения разрешатся легко.
Спрятав в прищуре глаза, Рич почтительно поклонился:
— Благодарю вас, мастер! Счастлив набраться вашей мудрости, но верните мою пуговицу.
С недоумением поглядел на него, засмеялся и вложил пуговицу в протянутую ладонь:
— Вот, возьмите, я так неловок, простите меня.
Зажав её в кулаке, Ричард Рич с чуть приметной усмешкой проговорил:
— Благодарю ещё раз.
Тут подумал, что сказал что-то лишнее, припомнил каждое слово, проверил каждый вопрос и каждый ответ, не нашёл, к чему бы можно было придраться, подумал, не послужила бы эта беседа во вред Ричарду, этого бы он себе никогда не простил, и пошутил, пытаясь казаться наивным:
— Если станете папой, не позабудьте меня. Пожалуй, я не прочь бы стать кардиналом.
В глазах Рича блеснула весёлая наглость, но они вновь тотчас скрылись в щёлочках век, и голос прозвучал значительно и спокойно:
— Я вас не забуду.
Лейтенант громко окликнул, точно ждал этих слов:
— Сэр, мы уходим!
Слуги уже подавали плащи.
Покачивая женскими бёдрами, Рич удалился поспешно, снова бросив ему, на этот раз от самых дверей:
— Прощайте, мастер, я о вас не забуду!
Спустя две недели его вызвали в суд.
Глава одиннадцатая РОКОВАЯ ОШИБКА
Солнце уходило на запад, в сторону Лондона. Деревья парка подступили ближе к стенам дворца. Тяжёлые тени заглядывали к нему в кабинет. В кабинете становилось темней.
Генрих отложил в сторону последнее донесение, откинулся и потянулся.
Казалось, дела могли уладиться к полному его удовольствию. Во всяком случае, коронованным братьям нынче было не до него.
Карл уже десять лет как будто не обращал внимания на смуту в Германии, не наказывал отступников-лютеран, как следовало сделать тому, кто считал себя главой всего христианского мира, даже заключил договор с союзом лютеранских князей, закрывал глаза на неудачи брата своего Фердинанда, не сумевшего добиться победы над турками и возвратить в лоно христианства Венгерское королевство. Карл готовил крестовый поход на Тунис.
Тунисом владели разбойники-мусульмане, захватив внутреннее море, безжалостно грабили христианские берега, захватывали христианские корабли и безнаказанно увозили в рабство десятки тысяч пленников-христиан.
Карл давно поклялся им отомстить и положить конец грабежам, долго готовился, долго собирал армию. Наконец собрал. Испанцы высадились в Гулетте. Приходилось признать, что экспедиция была подготовлена хорошо. Осада заняла только месяц, несмотря на жару и недостаток воды. Тунис признал себя побеждённым. Свободу получили тысяч двадцать рабов-христиан. Вновь Карл поднялся на вершину могущества. Европа рукоплескала ему.
Вся Европа, но только не Франция. Позорное поражение и плен французского короля были ещё не забыты. Пять лет полного мира восстановили ущерб, нанесённый той войной. Франсуа укрепил и преобразовал свои вооружённые силы. У него теперь были новые эскадроны и не менее семи легионов национальной пехоты. В Гавре заложил новый порт, объехал весь север Франции, сделал смотр своим легионам и остался доволен. Осторожного Дюпре уже не было с ним, а Луиза Савойская давно умерла. При его дворе соперничали две партии. Одну возглавлял обер-гофмейстер Монморанси, фанатичный католик, сторонник неограниченной власти и восторженный приверженец испанского Карла, желавший мира с Испанией и Священной Римской империей. Другая партия образовалась вокруг адмирала Шабо де Бриона. Адмиралу не давала покоя слава великого полководца. По этой причине он жаждал большой сухопутной войны.
Победил тот, кто угадывал тайные желания короля, а тайным желанием Франсуа была месть ненавистному Карлу и возвращение всех французских завоеваний в Италии.
Стало быть, военные действия открыться могли со дня на день. Кавалерия и пехота уже тайно стягивались к швейцарской границе.
Для начала войны нужен был только предлог, и за этим дело не стало. Три года назад в Милане был обезглавлен агент французского короля, за что Милан заслуживал наказания, а после смерти матери Франсуа получал права на Пьемонт, которые было необходимо, как водится, защитить вооружённой рукой.
Положение оказывалось благоприятным, но сложным. Война займёт его главных противников и обеспечит ему мир на несколько лет, что необходимо для завершения церковных реформ, очень выгодных, однако чреватых кровавыми смутами.
Это с одной стороны.
А с другой, ещё до начала войны оба короля запросят союза, а Карл, чьё могущество всё возрастает, прямо потребует, чтобы он напал на Франсуа вместе с ним.
Генрих же воевать не хотел. Пыл юности понемногу прошёл. Из наследного короля, не более чем сына судьбы, он становился серьёзным правителем и научился рассчитывать каждый свой шаг. Война на континенте ничего не сулила, кроме громадных расходов и больших осложнений внутренних дел.
Франсуа и Карл оставались католиками, приверженцами Римского Папы. Договор испанского короля с союзом князей-лютеран был непрочным. Лютеране не могли примириться с католиками, а силы их возрастали. Они овладели всем севером немецких земель и уже проникли во Фландрию и Голландию.
Мог ли он ссориться с ними, поддержав либо Франсуа, либо Карла?
Не мог.
Причин было несколько, и все очень серьёзные.
Лютеране могли причинить ущерб английской торговле, а после опыта с Фландрией Генрих стал понимать, что торговля в нынешнем мире что-то вроде золотой жилы, которая позволит Англии разбогатеть, пока испанцы и французы дерутся за первенство, а вместе с Англией разбогатеет казна.
Да и это не всё. Он порвал с папой, и это роднило его с лютеранами. В самые ближайшие дни в Англии не станет монастырей, как их не стало в Германии, имущество и земли монахов поступят в казну, как они поступили в казну германских князей.
Простят ли этот шаг его королевские братья? Не объединятся ли против? Не пойдут ли войной под знамёнами римского папы и монашеских орденов?
Ведь он не мелкий немецкий князёк, он английский король. Его пример способен потрясти всю Европу, уже потрясённую Лютером.
Один не справится с ними, понадобится сильный союзник. А кто в таком случае поддержит его? Одни лютеране.
Ссориться с ними не мог, но и вступать в союз не хотел. В борьбе с папой они зашли чересчур далеко. Им мало было отложиться от папы и выгнать монахов. Они уже посягали на самую церковь, отвергали обряды. Им нужны были не прелаты, а проповедник, который толковал бы Евангелие.
Так далеко Генрих идти не хотел и не мог. Английская церковь должна была стать сильнее, чем римская, а вместе с английской церковью должна была усилиться власть английского короля.
Тревожно было на душе, по телу проходила холодная дрожь, государь обхватил себя за плечи, пытаясь согреться.
Генрих встал и присел у камина.
Камин догорал, почти не давая тепла.
Надо было вызвать дежурного и распечь, но никого не хотелось видеть.
Сам поковырялся щипцами в горячей золе и подбросил несколько сухих щепок, приготовлены справа, как он завёл для порядка.
Щепки стали загораться, потрескивать и выстреливать искрами.
Приятно было следить, как зарождался огонь. Не глядя брал берёзовые поленья, аккуратной стопкой сложены слева, и неторопливо, по одному подбрасывал в закрасневшее жерло камина, точно разливалась алая кровь.
Всюду кровь. Сколько её пролилось за двадцать шесть лет, что был королём? Вся Европа по колено в крови.
Только в Англии царит мир.
Пока что царит?
Удержит ли он её от смут и войны?
Огонь разгорался всё ярче. Монарх сидел на низкой скамейке, близко наклонившись к нему, и жаром обдавало лицо.
Когда в первый раз услышал о Лютере, сразу вызвал кардинала Уолси.
Томас Уолси ничего не видел, кроме папской тиары, Казалось, грезил о ней во сне и наяву; знал, чем болен и чем занимается папа, сколько стоит голос каждого кардинала на ярмарке выборов, имя его любовницы, число внебрачных детей и племянников, которым необходимо было дать синекуру. О Лютере Уолси не знал ничего. Монах? В Виттенберге? В Германии? Кому может быть интересен обыкновенный монах?!
Пришлось вызвать Томаса Мора.
Мор состоял в переписке с Эразмом и кое с кем из учёных, там и здесь занятых изучением древних, кто на университетской кафедре, кто в келье монаха. Были отправлены письма. Ответы приходили один за другим. Точных сведений было немного. Лютер в самом деле был тогда обыкновенный монах, и тёмных слухов о нём было больше, чем сведений.
В общем, можно было сказать, что он происходил из очень бедной семьи. Отец его был дровосеком, мать сама собирала хворост в лесу и приносила на спине, чтобы разжечь огонь в очаге и сварить простую похлёбку. Детство проходило в лишениях. Отец, как говорили, был очень крут и воспитание давал кулаками.
Всё-таки, странное дело, Мартина послали учиться, сперва в Магдебург, потом в Эйзенах. Как он учился, установить было трудно. Более говорили о том, что был шалопаем, вместе с другими учениками выпрашивал милостыню у добродетельных горожан, а по ночам не давал им спать непристойными песнями.
Должно быть, какие-то знания он приобрёл. В Эрфурте стал изучать правоведение, намереваясь стать юристом, а не монахом, как этого требовал суровый отец, который к тому времени преуспел и составил состояние. Видимо, у юноши был живой ум. На него обратили внимание почитатели древних литератур. Он с ними сошёлся, но увлекался более не благозвучными стихами Вергилия, а трактатами Цицерона, Сенеки и Тацита, а в университете был привержен схоластике.
Ни схоластика, ни трактаты не насыщали его. В душе жила пустота. В этой пустоте клубилась тоска, порой доводила его до расстройства рассудка.
Наконец Лютер понял, что это совсем не тоска, а жажда Бога. Тогда молодой человек презрел наставленье отца и там же в Эрфурте стал августинским монахом.
Монахом Мартин стал образцовым. Чтением душеспасительных книг, постом и молитвами способен был до смерти замучить себя. Всё своё время отдавал этим занятиям. Нередко проводил целые ночи без сна, стремясь исполнить все предписания. Рассказывают, как будто однажды слишком долго не покидал свою келью. Братия испугалась. Дверь была сломана. Он распростёрт на полу без сознания, душевные и телесные силы были крайне истощены.
С важным видом, скрестив пальцы на большом животе, кардинал Уолси нашёл нужным вмешаться в обстоятельный рассказ Томаса Мора:
— Похвальная ревность в служении Господу. Остаётся только желать, чтобы она распространилась и в Англии.
Генрих нахмурился и возразил:
— Больше ревности к Господу — меньше усердия в служении королю. Довольно и обыкновенных молитв.
Томас Мор не стал ни соглашаться, ни возражать, и продолжал свой рассказ обычным, размеренным тоном:
— Джон Стауниц, приор ордена, приятель отца, заметил усердие Лютера и приблизил к себе. Он удостаивал простого монаха долгими беседами наедине. Приор скоро заметил, что ни молитвы, ни истязания плоти, ни ревностное изучение богословских трудов не внесли спокойствия в его тревожную душу, которую не покидали сомнения. Стауниц посоветовал обратиться к трудам блаженного Августина и к Библии. Лютер изучил эти труды, а Библию выучил почти наизусть. Приора ошеломил результат. Лютер увидел Господа могущественным, немилосердным и страшным, искал примирения с ним, но его душа была полна мрака, признавался, что Господь, этот грозный мститель за наши грехи, порой ненавистен ему, не мог без негодования думать о Нём. Приор справедливо нашёл в его мыслях если не богохульство, то гордыню и непростительный ропот. Я думаю, это человек очень умный. Приор не разгневался, не обрёк странного инока на труды покаяния, а повёл его к Евангелию, к посланьям апостолов, к Иисусу Христу, Богу утешения и любви. Стауниц первым угадал, что перед ним человек одарённый и говаривал в тесном кругу, что у этого брата взгляд на все предметы глубокий и что он много нового принесёт святой Церкви. Его уроки не прошли даром. Лютер пришёл убеждение, что единственным условием истинного покаяния может быть только полное доверие к Господу, что спасение приходит только с прочной, безоговорочной верой. С этими мыслями отправился в Рим, пал наземь при одном виде священного города и потом совершил всё, что совершает паломник, и, говорят, в знак смирения на коленях всполз вверх по лестнице Пилата па Латеран. В Риме пробыл долее месяца; конечно, не мог не увидеть, что папский двор превращён в пристанище порока, продажности и злоупотреблений разного рода, но это не поколебало его новой веры. Монах вернулся домой просветлённым, был рукоположен в сан священника, возведён в степень доктора богословия и приступил к чтению лекций на кафедре в Виттенберге. Мартин разбирал Псалтирь и толковал послания к римлянам. В его толкования находили светлый ум, прекрасную подготовку, знание практической жизни, полёт фантазии и горячую страсть проповедника. Скоро внимание к его проповедям стало всеобщим. Любая аудитория оказывалась тесной для всех желающих послушать его. Мор остановился и улыбнулся иронической, но всё-таки доброй улыбкой: — Всё это более или менее достоверно. Так меня уверяют друзья, в письмах из которых я почерпнул эти сведения. Но одна история у всех вызывает сомнение. Сомневаюсь и я и не знаю, стоит ли вам её рассказать.
Уолси перебрал пальцами и не то благословил, не то повелел:
— Продолжайте.
Мор покачал головой:
— Что ж, воля ваша. Только я тут ни одному слову не верю. А передают приблизительно так. Будто бы около этого времени Фридрих, курфюрст Саксонии, почивал в своём замке и увидел удивительный сон. Снилось ему, будто именно этот монах, Мартин Лютер, в Виттенберге на стене одной из часовен начертал несколько слов, начертал так резко и чётко, что Фридрих прекрасно их мог прочитать прямо из замка, к тому же во сне. И когда он стал читать, перо, которым Лютер писал, стало расти, расти и доросло до самого Рима, там коснулась тиары, и тиара заколебалась на голове папы. Фридрих протянул руку, желая ухватиться за это перо, и проснулся. А проснувшись, как видите, свой сон рассказал, и сон стал известен в Саксонии, а потом и в других городах. Лютер же в самом деле сочинил свои тезисы и в канун праздника Всех Святых, когда добрые люди шли в церковь, прибил их к двери часовни. Правда, не могу точно сказать, той ли самой, что проницательный Фридрих видел во сне.
Уолси возвёл взор свой к потолку:
— Господь ведает, как и кому открыть свои тайны, ибо без Его ведома не случается ничего, а потому не нам об этом судить.
Монарх засмеялся:
— Умный человек этот Фридрих. Сам подучил, а потом придумал сей сон и тем взял монаха под своё покровительство. Правду сказать, государственный человек.
Мор смотрел на них и тихо улыбался.
Тезисы напечатали и вскоре доставили в Лондон.
Все трое вновь собрались, как на военный совет, и стали читать.
Начало было таким:
«Поскольку Господь и Учитель наш Иисус Христос говорит: “покайтеся”, то Он тем самым, очевидно, выражает желание, чтобы вся жизнь верующих на земле была постоянным и непрестанным покаянием...»
В общем, при самом тщательном рассмотрении ничего ужасного в тезисах ими не было обнаружено. Поспорили, но очень недолго, об индульгенциях.
Генрих индульгенции осудил. Королю очень не нравилось, что английская плата за римские отпущения утекает мимо казны в бездонные карманы кардиналов и папы.
Мор тоже их осудил. Мор был правовед и философ и не находил ни законного права, на здравого смысла в том, что отпущение грехов можно получать таким простым способом, без душевного покаяния, без поста и молитвы, без ежедневного, ежечасного очищения себя от пороков, приводят к греху.
Уолси был возмущён. Уолси не был ни королём, ни философом, ни правоведом, ни богословом. Уолси был кардиналом, который во сне и наяву видел папскую тиару на своей голове, а будущему папе и кардиналу любые деньги были крайне нужны, и он распространился о сущности индульгенций.
Дело, по толкованию Уолси, выходило таким. Иисус Христос и святые апостолы совершили гораздо больше добрых дел, чем требовалось для спасения всего человечества. Избыток образовал сокровище излишнего, преизобильного блага. Сокровище поступило в распоряжение Церкви. Церковь располагает этим сокровищем на пользу верующим. Распоряжался им папа, наделяя прелатов правом брать оттуда немного и отпускать грехи прихожанам. Правда, ни сокрушение сердца, ни пост и молитва, ни данное отпущение вовсе не избавляет верующих от покаяния более тяж кого вида. Вот если верующий по мере сил поспособствует великому и доброму церковному делу, в данном случае строительству храма святого Петра, тогда папа через свои индульгенции может тягчайшее покаяние заменить на более лёгкое или вовсе его отменить. Стало быть, индульгенции — дело прямо необходимое и даже святое.
Государь и Мор остались при своём мнении. Если тезисы Лютера поспособствуют упразднению этого источника злоупотреблений и лжи, монаха следует только благодарить.
Но в любом деле он обязан был поступать как король, строго следил за благочестием подданных. Вольномыслие в делах веры было противно ему. О каждом случае сомнения в таинствах, почитания Богоматери и святых, поклонения мощам и иконам церковные власти были обязаны докладывать лично ему. Во всём мире подобные мнения вели еретика на костёр. Генрих всегда был противником крайних мер, если имелась возможность их избежать. По его настоянию церковные власти применяли к еретику все известные меры воздействия, чтобы привести того к покаянию. Чаще всего им удавалось спасти согрешившую душу. Тогда устраивалось публичное зрелище. Грешник в скорбных одеждах каялся в присутствии верующих и церковных властей. В редких случаях раскаяние не достигалось и самыми ужасными пытками. Только тогда не раскаявшийся грешник всходил на костёр. За время его правления таких случаев было не много, в год не более десятка-другого.
А потому Генрих не мог не задаться вопросом, какой ущерб тезисы Лютера наносят основам вероисповедания, ведь в этом случае ересь проникнет и в Англию, тогда костры запылают десятками, если не сотнями, он же подобного бедствия не хотел.
Припомнил всё, чему в юности учили его, и ничего опасного в тезисах Лютера не нашёл.
Ничего опасного не нашёл и Уолси.
Томас Мор с сомнением покачал головой. Он прочитал ещё раз одно место, на которое они с кардиналом, как ему представлялось, не обратили внимания:
— «Каждый истинный христианин, будь он живой или мёртвый, имеет право пользоваться милостями Христа и Церкви по воле Божией и без индульгенций».
Генрих с Уолси воззрились на него с удивлением. Что же тут нового? «Без индульгенций»? Именно так! Об этом они договорились уже.
Томас Мор стал серьёзным, как редко бывал:
— Разве это не значит отрицать в делах веры любого другого посредника, кроме Христа? Разве это не значит, что верующий независим не только от папы, но и от своего приходского священника? Разве это не означает призыва отделиться от Церкви и отдать дело веры в руки самого верующего? Разве вы не видите в этом призыве предвестия к бунту?
Государь воскликнул:
— Не может этого быть!
Мор поглядел на него с укоризной:
— Может быть и, я думаю, будет. Германия неспокойно. Недовольство властями растёт с каждым днём. Нужна только искра, и тезисы могут стать этой искрой. Тогда Лютер станет вождём.
Король согласиться не мог:
— Ни в одном его положении я не увидел, чтобы Лютер даже думал об этом!
Философ всегда был упрям и настаивал:
— Вы правы, милорд. Скорее всего ни о чём подобном Лютер об этом не думает, но его могут заставить так думать.
Монарх с недоумением протянул:
— Кто же может заставить?
Мор невесело рассмеялся:
— Глупость, кто же ещё? Глупость способна на всё.
Как ни уважал Мора, всё-таки не поверил ему, но на всякий случай повелел церковным властям с удвоенным вниманием следить за настроением прихожан и не допускать в Англию никаких писаний этого негодяя.
Очень скоро пришлось убедиться, что прав был мыслитель, а он ошибался. Глупость проникала везде и всюду творила своё чёрное дело.
Стоило ли умному человеку обращать внимание на суждения безвестного монаха из Виттенберга? Конечно, не стоило. Ни слова. Ни опровержения, ни согласия. Ничего. И беднягу сам собой покрыл бы мрак неизвестности.
Генрих так и поступил, запретив в Англии даже упоминать это грешное имя.
Папа Лев всполошился, пригрозил отлучением и вызвал Лютера в Рим. Лютер ехать в Рим отказался. Фридрих, вскоре прозванный Мудрым, его поддержал. Разразился скандал, и вся Европа узнала о Лютере.
Папа отступил и навстречу с Лютером направил легата. Выбор был неплохой. Папский легат был человеком добродетельным и учёным и не без одобрения относился к некоторым мнениям Лютера.
Они встретились в Аугсбурге. Глупость сыграла свою злую шутку и тут. Легату следовало в открытом диспуте опровергнуть тезисы Лютера. Ему не составляло это труда, ведь он был образованней и опытней рядового монаха.
Легатом овладела гордыня. Вступать в спор с этим тёмным, явным образом заблудившимся человеком счёл для себя унизительным, вызвал Лютера в свою резиденцию и с грубой прямотой потребовал от него, чтобы тот произнёс всего одно слово: отрекаюсь.
Монах молча покинул его, оседал лошадь и выехал за городские ворота.
Легат явился на сейм и потребовал безоговорочного повиновения верующих римскому папе. Сейм взволновался. Германские князья ответили жалобами на злоупотребления Рима. Из стен сейма недовольство проникло на улицы. По рукам заходили памфлеты. Из уст в уста переходи слова, которые произнёс рыцарь Ульрих фон Гуттен о том, что пастве надоело иметь пастыря, озабоченного лишь сбором налогов. Хуже того, тот же Ульрих фон Гуттен предлагал для борьбы с неверными идти не на Константинополь, а в Рим:
— Вас заставляют дрожать от страха папских наказаний? Эх, бойтесь наказаний Христа и с презрением относитесь к наказаниям флорентийца!
Сторонники папы набросились на Лютера с оскорблениями. Тот им отвечал и всё дальше заходил в своём противодействии Риму. Его уже мучил вопрос, является ли папа апостолом или антихристом.
Только теперь папа Лев решил поладить с Лютером кротостью. Он назначил в Лейпциге диспут. На диспут явился учёный Джон Экк, человек рассудительный. Лютер предстал перед ним смиренным монахом. Джон Экк пустился опровергать его хладнокровно и с полным знанием дела. Лютер обрушил на него град возражений, как из пушки стрелял, найдя себе опору в Евангелии. Скоро Экка покинуло хладнокровие и даже необходимая в диспуте вежливость. Придя в раздражение, папский легат прервал своего противника внезапно и грубо и прямо обвинил его в ереси, поставив в один ряд с англичанином Уиклифом и богемцем Гусом. Лютер поначалу смутился, но скоро оправился и пришёл в ярость. Решительно, смело виттенбергский монах объявил, что в учении названных лиц имеются вполне здравые мысли, например та, что есть только одна всеобщая церковь, церковь Христова, и что нет необходимости верить, будто римская церковь выше других. Экк обомлел и поспешно прекратил заседание.
Пришлось убедиться ещё раз, что Мор предвидел события лучше многих других. Глупость сделала своё чёрное дело. После столь неудачно проведённого диспута Лютер точно с цепи сорвался. Проповеди последовали одна за другой. Умеренность тезисов его уже не устраивала. Ульрих фон Гуттен призывал к оружию весь немецкий народ. Лютер вторил ему, утверждая, что по вине Рима отныне слово Божие превращается в меч, в причину разорений и войн, скандалов и яда. Теперь монах стал говорить, что человек до падения доведён был грехом, однако переродился самопожертвованием Христа, и теперь, чтобы участвовать в заслугах Спасителя, достаточно верить в Него и в Его руки отдавать свою душу, ведь Христос принёс себя в жертву только однажды и не желал, чтобы жертва приносилась изо дня в день повелением одного человека, то есть Римского Папы или даже простого прелата. Остановить его уже было нельзя. Лютер отвергал литургию как таинство и объявил своим собственным прелатом каждого верующего, который имеет право и даже обязан лично обращаться к Спасителю и в Евангелии искать утешения. Его проповеди пересказывались, толковались, передавались из уст в уста. Они летели из края в край, потрясали Европу. Самые близкие люди вставали за Лютера или против него и становились врагами.
Папа Лев обратился к Карлу, испанскому королю и германскому императору, чтобы тот принял надлежащие меры против еретика. Карл был расчётлив и осторожен. Он ещё не принял короны германского императора и не хотел своими поспешными действиями вызывать недовольство своих новых подданных, которые уже с оружием в руках готовы были защищать идеи проповедника. Карл уклонился и обещал вызвать Лютера в Вормс, где состоится германский сейм и его окончательно утвердят императором.
Папа Лев был оскорблён и вместо мира стал разжигать костёр новой войны. Сделать это было нетрудно. Французский король горел нетерпением отомстить испанскому королю за то, что проиграл ему в споре за корону германского императора. Франсуа был готов воевать и подбивал на войну наваррского короля, жаждавшего вернуть себе южную часть своего королевства.
Естественно, король Наварры был слабым союзником и вскоре потерпел поражение в Пиренеях. Франсуа был нужен сильный союзник, но уже вся Европа, за исключением разорённой Италии, была в руках Карла. Францию никто не хотел и не мог поддержать. Тогда Франсуа обратился к английскому королю, своему несговорчивому противнику и претенденту на французский престол, и для начала дружеских отношений пригласил его на праздник в Кале.
Генрих любил праздники и с удовольствием согласился. За несколько месяцев до встречи в Кале стал собирать свиту, решившись богатством и блеском поразить французского короля. Среди лордов возникло нечто вроде столпотворения. Все жаждали ехать во Францию, каждый заказывал себе самые немыслимые костюмы, не жалея ни шёлка, ни бархата, ни драгоценных камней. Иные продавали земли и замки, лишь бы пустить пыль в глаза и прогарцевать в турнирном бою на дорогом жеребце.
Корабли были расцвечены флагами. Французский король у самой пристани встретил английского монарха. Они двинулись навстречу друг другу верхом, приветствовали друг друга как рыцари, спешились разом, чтобы никто из них не был оскорблён и унижен, обнялись, без тепла, но крепко и по-мужски. Франсуа представил ему своих сыновей. Старший был объявлен наследником и уже подрастал.
Генрих увидел стройного бледноватого юношу в золочёных доспехах, с кудрями на гордо поднятой голове и вдруг заплакал у всех на виду: в первый раз с острой болью почувствовал, как несчастен, как одинок, потому что у него, в отличие от самодовольного Франсуа, нет сына, наследника, продолжателя дела, утешения и опоры на старости лет.
Но тотчас подавил эту слабость. Все приняли эти слёзы за радость встречи и примирения. Государи снова сели верхом и, стремя в стремя, двинулись на равнину между Гинем и Ардом. За ними весёлым потоком двинулись золото, кружева и алмазы.
Лето было в разгаре. Солнце сияло на голубых, как шёлк, небесах. Равнина вместо цветов расцветала павильонами и палатками, одна дороже и краше другой. Её уже называли Лагерем золотой парчи.
Оба короля, за ними лорды и герцоги, бароны и шевалье стремились превзойти друг друга в любезности, в щедрости, искусстве верховой езды и бесстрашием в рыцарских играх.
Звенящие доспехами французы, Все в золоте, как дикарей кумиры, Сегодня затмевают англичан, А завтра — словно Индия пред нами, И каждый бритт как золотой рудник. Вот рядом с ними их пажи-малютки, Как раззолоченные херувимы, А дамы, не привыкшие трудиться, Под грузом драгоценностей потели, Их красил и румянил этот труд. Какой-нибудь наряд на маскараде Сегодня объявлялся несравненным, А в следующий вечер он казался Уже нелепым нищенским отрепьем. Сравнялись в блеске оба короля. Кто появлялся, тот и побеждал, Кого увидят, тот и прославлялся, А вместе их за одного считали. Никто не смел отыскивать различье Или хулу сболтнуть о королях. Когда два солнца — так их называли — Через герольдов вызвали на бой Славнейших рыцарей, то началось Такое, что нельзя себе представить. Всё легендарное вдруг стало былью...Да, праздник удался. Все изъявления дружбы были даны. Все достоинства двух соседних народов были представлены в лучшем виде и блеске.
Но дружбы не получилось.
И не могло получиться.
Ему не нравился Франсуа.
Его самого воспитывал суровый отец. Вместе с братом Артуром, само собой разумеется, занимался боевыми искусствами, но его не готовили в рыцари. Церковь должна была стать его будущим, и расчётливый, благоразумный отец считал необходимым развивать ум мальчика.
Франсуа не получил воспитания. Королева Анна была чрезвычайно завистлива, терпеть не могла его матери Луизы Савойской. Опасаясь за его и свою жизнь, Луиза вынуждена была увезти ребёнка в Амбуаз, родовой замок принцев Валуа-Орлеанских. Таким образом, детство, отрочество и юность Франсуа провёл в затворничестве, в глуши, вдали от двора, уже приобщённого, хотя бы отчасти, к возрождённому просвещению, идущему в Париж из Италии.
Луиза была от него без ума, величала его своим королём, повелителем, больше того, своим Цезарем. Его сестра Маргарита, писательница, довольно известная в тесных придворных кругах, тоже боготворила его.
Безумная любовь двух крайне чувствительных женщин не могла не испортить мальчика. Он был избалован с раннего детства. Спасительные стеснения, наложенные мужественным отцом, были ему не известны. Прилежание, беззвучные часы, проведённые с книгой, были чужды. Франсуа привык жить беззаботно и весело. Сильное тело привыкло переносить любую усталость, но ум оставался в бездействии. Его страстью были боевые искусства, юноша стал отважным наездником и неутомимым охотником, однако размышлениям предавался только тогда, когда принуждала необходимость. Франсуа был рыцарем во всех отношениях, любезным и храбрым, и этим гордился до конца своих дней, был не столько правителем, сколько искателем приключений. Последовательность была ему не знакома, этот человек действовал под влиянием минуты.
Противоположность характеров двух королей была очевидна. Сойтись они не могли. Больше того, присутствие Франсуа нередко оскорбляло английского владыку. Нередко Генрих точно в дурном зеркале видел своё отражение.
В самом деле, Франсуа, как и он, нисколько не думал о Франции, королём которой стал так же волей случая, как и Генрих волей случая вступил на английский престол. Цель своей жизни Франсуа видел в том, чтобы восстановить наследственные права на Милан и Неаполь, как и английский государь, стремился восстановить наследственные права на французские земли. Оба увлекались надеждой приобрести корону Священной Римской империи, любыми средствами, путём подкупа или войны.
Генрих не уважал Франсуа, почти презирал и узнавал свои не лучшие качества в нём. Порой краснел от стыда, что мог быть таким, как этот легковесный весельчак, любитель пиров и охот.
Что говорить, в лагере золотой парчи Генрих от души развлекался, охотился, пировал, гарцевал под клики ревущей от восторга толпы, но старательно избегал оставаться с любезным хозяином наедине.
Некоторое время это ему удавалось.
Однако Франсуа не привык считаться с приличиями и тем этикетом, который был заранее установлен для сношений между лагерями французом и англичан. Когда это было в его интересах, умел идти напролом.
Так одним ранним утром внезапно явился в его палатке без охраны, один, чтобы поговорить по душам.
Монархи побеседовали. Франсуа настаивал на военном союзе. Его страшили и возмущали претензии Карла на мировое господство, недаром Карла Великого провозгласил он своим идеалом. После того как маленький сын Филиппа Красивого стал королём Испании и купил императорскую корону, во всей Европе только Франция и Англия сохраняли ещё независимость. Под угрозой были Милан и Неаполь. Францию со всех сторон окружали владения Карла. Того и гляди, этот самозваный последователь Карла Великого разорвёт её на куски, лишь бы собрать свои разбросанные владения в единое целое. Потом дойдёт очередь и до Англии.
Франсуа был, разумеется, прав, но про себя, выслушивая его жаркие речи, Генрих не мог не смеяться. Франсуа был всегда так занят собой, что не разбирался ни в людях, ни в их интересах, точно все они служить обязаны были только ему, — следствие воспитания, данного Луизой ц Маргаритой. Франсуа и представить не мог, что Генрих как раз ждёт, когда Карл разорвёт Францию на куски, чтобы было легче получить свою часть и вернуть корону французского короля.
Английский государь умел и любил размышлять, а потому не ответил Франсуа ни согласием, ни отказом.
Стал торговаться, спрашивал Франсуа, что получит взамен, если согласится воевать вместе с ним против Карла.
Казалось, Франсуа был удивлён. Французскому королю и в голову не пришло, что за этот союз придётся что-то платить.
Франсуа был озадачен.
В этом состоянии он Франсуа и оставил и возвратился к себе, ожидая, какие предложения ему сделает Карл, которого не могло не страшить внезапное сближение двух королей.
Ожидания были недолги. С лёгким бригом пришла эстафета. Карл, следуя примеру Карла Великого, решил короноваться в Аахене. С этой целью снарядилась эскадра. Её путь лежал вблизи английского берега. Карл просил остановки и предлагал встретиться в Дувре.
Генрих с тем же бригом послал согласие и стал собираться. На этот раз сборы были короче. Ему было известно, что аскетический Карл не любил пышных празднеств и видел в них чуть ли не грех, да и английские лорды истощились, щеголяя нарядами на равнине подле Кале. Прикажи он новые празднества, им пришлось бы расстаться с последним, лишь бы угодить королю и страсти к мотовству. После встреч с Франсуа не мог позволить себе такой глупости. Благоразумней было предоставить им время для размышлений о своём кошельке.
Владыка Англии прибыл в Дувр с небольшой свитой и отрядом охраны. Томас Уолси был, разумеется, первым лицом и блистал кардинальским нарядом. Его сопровождала толпа епископов и прелатов, разодетых с пышностью такой непомерной, что лорды выглядели бедными сельскими сквайрами.
Испанская эскадра была внушительной и величавой. Карл плыл на флагманском галеоне. Громадные корабли вошли в порт и бросили якоря. Белоснежные паруса с чёрными крестами во всю длину упали точно сами собой. Были спущены роскошные шлюпки. Карл вышел на берег с величием того, другого, легендарного Карла, с явным желанием его поразить.
Короли обнялись, сухо, но вежливо.
Карл не нравился ему ещё больше, чем Франсуа.
Несчастный сын Хуаны Безумной, крохотный правитель крохотной Фландрии, Карл получил Испанию, которая могла и должна была достаться ему, зятю покойного испанского короля, причудами случая, а потом купил себе императорскую корону, на которую у него было, может быть, больше прав, чем у кого бы то ни было.
Перед ним стоял совсем ещё молодой человек, бледный, с погашенным уклончивым взглядом, с тонкими, от природы редкими волосами, в строгом чёрном камзоле, изящный и строгий, скорее фламандец, мало похожий на кичливых и грубых испанцев.
Тем не менее Карл был сыном Хуаны Безумной, болезненный, склонный к меланхолии, к разного рода причудам, наглухо закрытый для собеседника, себе на уме.
Но странно, с первых же слов Генриха стало коробить несомненное сходство с этим новоявленным Карлом Великим. Карл был равнодушен к национальным интересам Испании и Германии, которыми правил, тем более к интересам Англии или Франции, к которым относился враждебно. С пренебрежением отозвался германский император и испанский король и о вольностях независимых городов во Фландрии, Германии и Италии, и о привилегиях испанских дворян и германских князей. Они были ему безразличны. По его тону, только по тону, можно было понять, что готов с ними мириться, но может их уничтожить, если ему станут мешать.
Карла заботило укрепление собственной власти и католической веры. Прямо с пристани, после торопливых объятий, отправился в церковь, выстоял всю литургию и ещё некоторое время молился после неё.
И заговорил Карл о положении католичества. Оно всюду ухудшилось, даже во Фландрии. Авторитет Римского Папы ничтожен, сам папа слаб и запутался в светских интригах, а более сильного, более авторитетного папу среди кардиналов трудно, даже, вероятно, невозможно найти.
Теперь этот Лютер взбудоражил Германию. И папа, и князья обращаются к императору, чтобы он урезонил еретика, посмевшего публично сжечь грамоту папы с его отлучением, или уничтожил его.
Карл говорил неопределённо, туманно, и трудно было понять, хотел ли он, люто ненавидевший малейшее уклонение в ересь, уничтожить или только урезонить еретика, тяготит его или радует эта необходимость без промедления что-нибудь предпринять.
Генрих терялся в догадках, лицемерит ли Карл или в самом деле растерян. Ему было известно, что императорская корона оказалась для Карла слишком тяжёлой. Оскорблённый Франсуа шёл войной, германские князья были готовы встать на сторону Лютера и поднять мятеж против Римского Папы, а стало быть, и против своего императора, который был для них чужаком и не говорил по-немецки.
А чем Карл мог ответить французам и немцам? Почти что ничем. У него было мало солдат, и большая часть их стояла в Италии, её он не желал и не мог уступить Франсуа.
Карл был беспокоен и мрачен, ему не сиделось на месте, он увлёк его к морю. Над морем неслись низкие тучи. Море штормило, заглушая их голоса. Они наклонялись вперёд, придерживали плащи на груди и медленно шли береговой полосой так близко к воде, что пена волн шипела у самых ног. Стража следовала на почтительном расстоянии. Монархи говорили по-испански и по-латыни.
Карлу нужны были солдаты, но Карл только вскользь упомянул о военном союзе, и говорил о религии.
Генрих сразу понял, что Карл плохой богослов и понимает с трудом, чем именно угрожает учение Лютера. А главное, ему стало ясно, что император не хочет ссориться с папой, чьи солдаты готовы поддержать Франсуа, и страшится передать Лютера в руки церковного правосудия, означающего для монаха верную смерть на костре.
Попробовал спросить напрямик, нарочно перейдя на латынь, предполагавшую простоту обращения:
— Как ты поступишь, если Лютер приедет или не приедет на сейм?
Карл отвечал по-испански напыщенной и запутанной фразой, надеясь скрыть свои колебания, а он как раз угадал, что испанец ещё не решил, как ему поступить.
На другой день Карл долго беседовал с кардиналом Уолси, так же уклончиво и напыщенно, точно чего-то хотел, но прямо объявить не мог.
Карл вёл речь к тому, чтобы Уолси решительно и публично обличил ересь Лютера и тем помог ему принять окончательное решение, прежде чем встретится с Лютером в Вормсе.
Уолси с присущей ему наглостью требовал в обмен за услугу избрание римского первосвященника, которое в нынешних обстоятельствах зависело только от императора.
Карл не ответил ни согласием, ни отказом и распространился о том, что всё зависит от Господа — как наше положение в этом мире, так и сама жизнь.
Уолси не мог не поддакнуть, но был раздражён и с тех пор всегда отзывался о Карле с некоторой долей презрения.
Переговоры не ладились.
Они прогуливались, обедали, беседовали на разные темы, смотрели на состязания стрелков, копейщиков и конных бойцов.
Ни рыцарских турниров, ни пышных празднеств. Болезненно мнительный, даже пугливый испанский король никогда в них не участвовал, а потому терпеть их не мог.
Только перед самым прощанием Карл заговорил более определённо о военной помощи против французов и попросил его, как известного всем богослова, обличить ересь Лютера в умело составленном, лучше бы грозном трактате и распространить его по всем университетам Европы, однако за услугу и помощь не обещал ничего, как ничего не обещал Франсуа.
Генрих проводил Карла до пристани.
Монархи вновь обнялись, по-прежнему сухо и вежливо.
Карл ступил в лодку. Два солдата оттолкнули её. Гребцы налегли, и лодка помчалась к головному фрегату.
Английский государь долго стоял, надвинув шляпу почти на глаза, и смотрел, как причалила лодка к смолёному борту высокого корабля, как императора поднимали на палубу, поспешно ставили паруса.
Ему подвели коня и ждали.
Наконец раздался скрежет якорной цепи.
Генрих отвернулся, легко поднялся в седло и скакал без отдыха до самого Гринвича, прогоняя скачкой гнев.
Карл принял корону в конце октября.
На коронации, как подобает, присутствовали немецкие князья и курфюрсты. Тем не менее церемония прошла без размаха и пышности. Новый император на своих подданных глядел свысока, те сердились на своего владыку.
Положение Карла было опасно. Из Аахена он отправлялся в страну, которая была накануне восстания. По сведениям тайных агентов, девять десятых немецкого населения имя Лютера произносили с восторгом, а одна десятая усердно проклинала Рим и ждала его гибели. Немецкие князья колебались, остаться ли им на стороне Римского Папы и германского императора или принять сторону решительно настроенной нации. Многие из них понимали, что в тот миг решался великий, чуть ли не всемирный вопрос, что выше: католическое единство или национальные интересы, начало всеобщее или местное?
Карл нуждался в поддержке. Самым влиятельным среди немецких князей был Фридрих, правитель Саксонии, человек строгого благочестия, собиратель мощей и христианских религий и в то же время покровитель Мартина Лютера, возвысившего виттенбергский университет, Виттенберг, а вместе с ним и Саксонию, что льстило самолюбию Фридриха.
Расставаясь в Аахене, Карл точно бы мимоходом спросил, кого он поддержит на сейме, на чьей выступит стороне, хорошо понимая, что в руках этого человека или спокойствие Священной Римской империи, или мятеж.
Фридрих слыл мудрым недаром. Во всех случаях жизни действовал обдуманно, не спеша. И на этот раз не дал императору прямого ответа, а на возвратном пути встретился в Кельне с Эразмом, который всё ещё почитался высшим авторитетом в делах как богословских, так и мирских.
Фридрих задал Эразму вопрос: прав Лютер или не прав?
Вопрос был прямой, а Эразм был уклончив и не любил, когда ему задавали такие вопросы. Эразм попробовал отшутиться: мол, всё прегрешенье Лютера в том, что он слишком смело схватил папу за тиару, а монахов за брюхо.
Это умный Фридрих и сам понимал, но понимал также и то, что вопросы поднимались нешуточные и что решение многих из них зависит единственно оттого, что скажет он, правитель Саксонии, а он скажет то, что ответит Эразм.
Фридрих настаивал. Эразм уклонялся. Князь взывал к его чести и совести. Тогда Эразм набросал двадцать две аксиомы, в которых всё-таки не давал прямого, окончательного ответа, но подал дельный совет:
«Лучше всего, в том числе и для папы, было бы передать дело непредвзятым, уважаемым судьям. Люди жаждут истинного Евангелия, и к тому ведёт само время. С такой враждебностью противиться ему недостойно...»
Фридрих с должным вниманием оценил столь благоразумный совет и поступил согласно ему. На другой день так и объявил представителю папы: Лютера должны выслушать справедливые, свободные, непредвзятые судьи, а до тех пор его книги не должны подвергаться сожжению, как это следует из отлучения.
Это было предостережение папе и Карлу. Карл обещал, что суд, назначенный в Вормсе, будет свободным и справедливым. Возмущённый папа вступил в переговоры с Франсуа против Карла. Положение императора становилось критическим: против него могла быть вся Европа.
Тогда, может быть, ещё в первый раз, Генрих оценил преимущества стороннего наблюдателя, сидел в Гринвиче, в своём кабинете, с жадным вниманием изучал донесения, охотился в окрестностях Лондона, играл в мяч и ждал терпеливо, как вывернется этот мальчишка, что скажет Лютер, что сделает Фридрих, ввяжется ли в большую войну Франсуа. Ему тоже захотелось действовать обдуманно и не спеша. Вдруг ощутил, что не только у него имеются свои, личные интересы в Европе, в виде французской или испанской или германской короны, но свои, особенные интересы есть и у его королевства, которые ему надлежит защищать. Тут было над чем размышлять.
И не спешил.
И был прав.
Весть о суде взбудоражила немцев. Суд свободный и справедливый? Да разве бывает такой? Фридрих потребовал гарантий безопасности, а император их дал?
Но когда же короли, императоры или папы соблюдали гарантии? Разве не получал гарантий Ян Гус? И разве не был сожжён на костре?
Лютера отговаривали друзья: ни в коем случае ехать нельзя! Лютер был с ними согласен: скорее всего ему придётся взойти на костёр. Плоть его колебалась, но дух укреплялся новой верой в Христа. Отвечал:
— Если захотят прибегнуть к насилию, я отдам себя в руки Господа, ведь речь идёт не о том, что мне угрожает, и не о том, чего хотелось бы мне, — здесь речь идёт об Евангелии!
И прибавлял:
— Если они зажгут огонь на всём пространстве от Виттенберга до Вормса и его пламя достигнет небес, я пройду сквозь него во имя Господа, я всуну руку в глотку этого зверя, изломаю зубы его и буду исповедовать ученье Христа!
Выехал из своего дома в простой дорожной тележке, в каких разъезжают по своим делам бедные немецкие горожане. Его поездка стала триумфом. Жители городов, деревень высыпали навстречу, ждали у обочин дорог, с восторгом приветствовали и бросали в тележку цветы.
Генрих вздрогнул всем телом. Вскочил, опрокинув небольшую скамейку, на которой сидел, уставив на огонь невидящий взгляд.
Понял только теперь, какую ошибку совершил тогда Карл: Лютер живой был опасней, чем мёртвый!
Глава двенадцатая СУД
Должно быть, они опасались, что вокруг Мора соберётся народ, жаждавший справедливости, братства и равенства, как в древние времена учил сам Христос. Перемены, которые начал король, волновали народ. Чтобы выразить свои чувства, народу нужен был вождь.
Что ж, его вывели на рассвете и повели под конвоем к реке. Лейтенант широко и размеренно шагал впереди. По бокам, очень близко друг к другу, с копьями на согнутой в локте левой руке, шли четыре солдата в поношенных латах.
Неплотный туман висел над землёй, так что сквозь него солнце пробивалось мутным пятном. С тихим шорохом на землю падали тяжёлые редкие капли.
Ноздри его, трепеща, раздувались. Пленник жадно и глубоко втягивал пахучую терпкую свежесть, от которой успел отвыкнуть в своём заточении. Сладко теснило в груди, и голова очищалась от сна.
О предстоящем суде не думал, по опыту зная, что во время судебного заседания необходимо спокойствие духа, а не приготовленные заранее мысли, и потому наслаждался беспечно свежим воздухом, темнеющей зеленью, бодрым движением и людской суетой у реки.
К самому берегу были тесно причалены небольшие смолёные баржи, и грязные оборванцы с опухшими лицами сносили оттуда на берег корзины со свежими овощами, мясные туши и большие тюки, сваливали поклажу в крытые фуры на сплошных деревянных колёсах и возвращались вразброд за новыми корзинами, тушами и тюками, почёсываясь, передёргивая плечами, страдая, должно быть, после вечерней попойки.
Женщина средних лет в давно не стиранном, потемневшем от грязи чепце стояла на коленях перед опрокинутой лодкой, тянула из-под неё кусок мешковины, вывалянной в пыли, и устало просила:
— Поднимайся, Дик, уж пора.
Из-под лодки, подгнившей по килю, хриплый голос сквозь потревоженный сон отвечал:
— Отстань, говорят.
Рыжий подросток удил рыбу, стоя по колено в утренней тёплой воде, беспечно, медленно напевая:
При канцлере Томасе Море В судах дела решались споро. Такое видеть неудел, Пока сэр Томас не у дел.Его посадили в баркас с шестёркой молчаливых гребцов. Позади, задрав копья, поместились солдаты. Напротив сел лейтенант, левой рукой прижав к себе ножны, положив правую на крест стальной рукояти. Рассмеялся и дружелюбно сказал:
— Успокойтесь, лейтенант, я не собираюсь бежать. Подросток, глядевший на поплавок, задумчиво повторял:
При канцлере Томасе Море...Лейтенант отвернулся и угрюмо молчал.
Слышал тинистый запах шелковистой воды, видел идущие невысокие берега и бездумно следил за сильными и мерными взмахами вёсел.
Ни беспокойства, ни страха не было. Он приготовил себя, только внутренне весь подобрался.
Спокойно вышел на берег, ухватившись за руку, поданную лейтенантом. Спокойно вошёл под своды Вестминстера, куда прежде входил много раз без конвоя.
Оставив его в первом зале, лейтенант отправился доложить о прибытии.
Солдаты, молчаливые, равнодушные ко всему, загородили копьями выход.
Под высоким каменным куполом воздух был такой же знобкий и затхлый, как и в заточении. Минут через пять задрожали колени, и Мор догадался, что заметно ослаб.
Это было некстати.
Сжав кулаки, то заклиная, то проклиная себя, старался держаться как можно прямей. Не хотел, чтобы ему сделалось стыдно, если невольную немощь старого тела, надолго запертого без воздуха и движенья в каменной тесноте, примут за позорную немощь как будто угасшего духа.
Нет, дух не угас, но голова сама собой клонилась на грудь, и колени подгибались.
Старый привратник взял его под руку и подвёл к широкой деревянной скамье, беззубо шепча:
— Сядьте-ка, мастер, вам ещё долго нынче стоять.
Сел покорно, в ответ благодарно пожав сморщенную жёсткую руку.
Старик почтительно остался стоять, ещё крепкий, сухой, с выправкой бывшего воина, с опущенными вдоль тела руками в застарелых мозолях, заметных особенно там, где пальцы тёрлись о тетиву, с ввалившимся ртом и живыми глазами.
Посидев немного с опущенной головой, упрямо повторяя себе, что должен быть спокоен и твёрд, почувствовал себя лучше, уверенней и бодрей. Голова перестала томно кружиться, полегчавшее тело не обвисало больше к земле.
Поднял голову и негромко сказал:
— Спасибо тебе.
Старик ответил бесстрастно:
— Не стоит благодарности, мастер.
Ему понравилось это бесстрастие опытной старости. Философ угадывал в нём и холодное равнодушие к жизни, подходившей к концу, и какую-то редкую силу души, которой так в этот час не доставало ему.
Тяжело передвинувшись, прислонившись к стене, внимательно оглядел старика.
Тёмное лицо в глубоких и строгих морщинах. Низкий лоб был когда-то рассечён наискось в битве, но это случилось давно, и след удара мечом или боевым топором слабо мерцал, тонкий, прямой, как стрела.
Этот бледный мерцающий след и тяжёлые руки в застарелых мозолях от лука и стрел были почему-то знакомы.
Видел ли их мимоходом, когда что ни день являлся в Вестминстер? Или встречал их где-то раньше, эти мозоли и шрам? И кому они принадлежали тогда, если не этому молчаливому старику?
Отвечать на эти вопросы было некогда. Он внутренне весь торопился, ожидая, как распахнётся высокая дубовая дверь, как введут его, предварительно приказав держать слабые руки позади, как посреди огромного зала оставят стоять одного.
Кто его станет судить?
От этих торопившихся мыслей, набегавших одна на другую, разрасталось волнение, решительно неуместное здесь.
Гнал эти мысли ещё торопливее прочь, чтобы не растерять хладнокровие до суда, и было приятно, было необходимо глядеть на бесстрастное лицо привратника.
Морщины и шрам придавали этому человеку завидное мужество, и Мор невольно подумал о том, что, очутись на месте его, старик был бы так же спокоен и прост, каким оставался всегда и во всём.
В его душе шевельнулась горькая зависть.
Однако взгляд бывшего солдата показался ему слишком печальным, словно на самом дне неподвижных выцветших глаз таилось неизбывное одиночество старости или что-то ещё, о чём догадаться не мог.
Ощутил, что вдвоём им было бы хорошо: они могли бы подолгу молчать или неторопливо вспоминать о былом, как подобает людям старым или несчастным.
Лучше, разумеется, вспоминать и говорить не спеша.
Но уже ни на то, ни на другое не было времени, и торопливо сказал, продолжая сидеть неподвижно, с трудом шевеля сухими губами, давая понять, что в самом деле от всей души благодарен ему, благодарен не за одно позволение сесть перед трудной дорогой, но ещё за что-то иное, важное очень, о чём некогда говорить, но что само собой должно быть понятно:
— Ты можешь пострадать из-за меня. Я этого не хочу.
Твёрдо держась на расставленных крепких ногах, привратник ответил с тем же бесстрастием:
— Не убьют.
Вновь позавидовал этому хладнокровию, однако стало досадно, что тот не понял его.
Да, разумеется, не убьют, грех не так уж велик.
Стало быть, нужно было понятней выразить благодарность, даже зависть и восхищение силой жизни в старых костях, но он торопился и возразил:
— Тебя выгонят вон.
Старик произнёс, не дрогнув холодным лицом:
— Всё одно. Я не боюсь даже смерти.
Мор было собрался напомнить об ужасах нищеты, о бездомных скитаниях, представлявшихся ему много хуже мгновенной, освобождающей смерти, о законах против бродяг, да успел вдруг понять, что этого не надо говорить человеку, который действительно ничего не боялся, устав жить или что-то о жизни поняв, что ещё оставалось не доступно ему.
Заторопился найти какие-то другие слова, но уже ничего не успел.
Лейтенант строго выступил из высоких дверей, оглядел прихожую быстрым растерянным взглядом, увидел его, круто шагнул и резко сказал:
— Встать!
Когда поднялся и спокойно встал, лейтенант несколько сдержанней и тише прибавил:
— Пора.
Он знал весь порядок судебного заседания и сам пошёл, куда надо, стараясь глубоко и редко дышать, чтобы слабость вновь не одолела.
За ним следовал лейтенант, воинственно сжимая ладонью рукоять шпаги.
В большом зале, на возвышении, за чёрным длинным столом, молча высились те, кого своей волей назначил король.
Скрывая нетерпеливую жадность узнать, что готовят ему, исподволь оглядел их стремительным взглядом, но голова всё-таки мутно кружилась, глаза туманила слабость, издали виделись одни невнятные контуры лиц и фигур.
Сделал порывистый шаг, чтобы встать ближе, но от движения в глазах потемнело, сердце сжало колющей болью, побледнел.
Тогда глухо раздался голос канцлера Одли:
— Стул для Томаса Мора.
Обвиняемым не полагалось сидеть.
Должно быть, по этой причине лейтенант не понял или не захотел исполнить приказ и не сдвинулся с места.
Канцлер повелительно повторил:
— Стул, лейтенант!
Тот с растерянным видом оборотился к дверям, однако стражу позвать не решился, и сам, презрительно взирая стальными глазами, взял стул у дальней стены и молча со стуком поставил сзади него.
Едва держась на ногах, подумал, что случилось именно то, чего всё время боялся: может быть, они приняли истомлённого в заточении узника за обыкновенного труса, испытавшего животный страх перед ними.
От стыда и от гнева опустился неловко, на самый край, проронив едва слышно:
— Благодарю, лейтенант.
Офицер отступил, но остался стоять у него за спиной, расставив ноги, с руками на поясе.
Тем временем думал:
«Одли... новый канцлер... Этот, конечно, должен быть беспощаден... На это рассчитывал Генрих, избирая его председателем... Так-то верней...»
Теперь понял, что угрожало ему, и чувство неминуемой, близкой опасности подействовало верней, чем усилия воли. Слабость тотчас прошла. Голова прояснела. Медленно провёл рукой по седой бороде, выпрямляясь вместе с этим привычным движением.
Сел свободно и прямо и разглядел остальных.
Архиепископ Кранмер с плоским, плотно стиснутым ртом, с мрачным взглядом дальновидного, скрытного человека. Отец королевы Анны Болейн. Дядя королевы Анны Болейн. Брат королевы Анны Болейн.
С этими судьями всё было ясно.
По бокам и за ними — небольшая толпа, человек двенадцать или пятнадцать, ему некогда и незачем было считать. Лорд — хранитель печати, хранитель королевского гардероба, герцог Сэффолк. Томас Кромвель, секретарь короля.
С этими тоже понятно.
Два главных судьи королевства. Ещё судей пять или шесть, не известных ему.
Больше в этой толпе не обнаружил профессиональных юристов, знавших закон.
Не было Ропера, его зятя, который был обязан быть на суде.
Выходило, что его туманное дело король не доверил настоящим, известным законникам.
Выходило, что его не собирались судить.
Не оставалось сомнений: «Всякий обвиняемый в измене виновен!»
Формула беззаконная, однако в глазах этих бессловесных слуг короля она имеет безусловную силу закона. Её они со спокойной совестью и применят к нему.
Надежды на оправдание быть не могло: он был обречён.
Им сказали вчера или нынешним утром, перед самым началом суда, каким должен быть приговор. Новый канцлер, новый секретарь короля, отец королевы, дядя королевы и брат не имели причин возражать, без него будет спокойней хватать и присваивать всё, что можно схватить и присвоить. Они без рассуждений вынесут приговор.
Может быть, только ждут от него, чтобы подсудимый умолял о снисхождении, о пощаде, чтобы унизил себя, позволил себя растоптать и выставить на всеобщий позор, загубив свою душу ради того, чтобы спасти это бренное и без того уже слишком слабое тело.
Он не мог позволить себе ничего, что бы было похоже на унижение, и окончательно овладел собой.
Канцлер начал торжественно, важно зачитывать обвинительный приговор.
Вступление повторяло акты парламента о верховенстве короля, и философ почти не слушал его.
Да, едва ли могли быть сомнения: они намеревались растоптать и унизить его.
И как же должно теперь поступить?
Прикрывши глаза тяжёлыми веками, оглаживая время от времени длинную бороду, старался обдумать своё положение, беспокойно и властно отыскивая тот единственный выход, который оградит его честь, спасёт душу его, даже в этих безвыходных обстоятельствах послужит делу противодействия забывшейся, опрометчивой власти. Стремительно отбрасывал мысли одну за другой, не видя достойного выхода.
Канцлер всё ещё что-то читал.
То улавливая, то вновь пропуская слова, видел, что положение безнадёжно. Этого не мог не признать, ведь он был старый политик и хороший юрист. Но и самая безнадёжность не останавливала, не укрощала, вызывая наружу новые силы и новую злость, без чего не выигрывается никакое сражение.
Должен был сопротивляться им до конца.
Канцлер читал:
— «...отрицание этого или любого другого титула короля устно или письменно является высокой изменой...»
Старательно удерживал в памяти то, что с самого начала твёрдо запомнил, как и подобало запомнить юристу:
«Устно или письменно... устно или письменно... идиоты... нашли дурака...»
И с жутью почувствовал вдруг, что не должен, не сможет уклоняться, молчать, как поступал до сих пор на допросах, лишая Генриха законного права на обвинительный приговор, тот самый, окончательный, который обжалованью не подлежит.
Теперь они заставят его, в угол загонят, пристанут к горлу с ножом, и придётся доказывать свою невиновность.
Разумеется, знал, что и самые робкие доказательства его невиновности в сто крат опасней любого молчания, но они уже вынесли приговор до суда, и ему, в сущности, уже нечего было терять.
Осталось одно — уйти непреклонным, с незапятнанной совестью, с чистой душой. Очень бы хотел, чтобы эту его непреклонность заметили те, кто, подобно ему, не признавали новых титулов короля, как ни страдал оттого, что придётся отвечать за них перед Господом.
Это было необходимо.
Даже если не все... пусть даже только эти лакеи...
Что-нибудь надобно сделать...
Канцлер возвысил мелкий невыразительный голос:
— « Названный Томас Мор...»
Ещё не решившись, ещё не представляя себе, что может предпринять, с этого места попытался слушать внимательней и не сводил с нового канцлера рассеянных глаз.
Канцлер перечислял, важно вздёргивая широкие брови:
— «Во-первых, во время допроса седьмого мая, когда названного Томаса Мора спросили, признает ли он короля главой нашей церкви, названный Томас Мор злонамеренно и преступно молчал. Во-вторых, двенадцатого мая названный Томас Мор, заключённый в Тауэр, переслал епископу Фишеру, заключённому там же, письмо, в котором ободрил его, поощряя позицию епископа Фишера, отказавшегося признать верховное главенство его величества короля Генриха, а также сообщал, что сам он, названный Томас Мор, придерживается молчания. В-третьих, епископ Фишер семнадцатого июня признан виновным в государственной измене и обезглавлен двадцать второго июня в Тауэр-Хилле, согласно чему названный Томас Мор является его соучастником, ибо оба они на допросах говорили одно. В-четвёртых, в беседе с сэром Ричардом Ричем названный Томас Мор злонамеренно утверждал, дьявольски упорствуя в измене, будто король не может быть главой церкви, вопреки акту парламента...»
Их глупость раздражала. Философ иронически улыбнулся. Если бы подобное обвинение поручили ему, он бы составил его куда лучше... если бы согласился его составлять...
Сколько лазеек для проницательной мысли...
Ах, дураки, дураки...
Канцлер выпустил бумагу из рук, поспешно одёрнул манжеты и, недоумевая, важно произнёс:
— Несмотря на вышеизложенные явные доказательства виновности названного Томаса Мора в государственной высокой измене, его величество король Генрих Восьмой, король английский и король французский, готов даровать своё полное прощение названному Томасу Мору, если названный Томас Мор отречётся и изменит своё упрямое и своевольное мнение.
Его точно опалило огнём, встрепенулся, вскинул голову, оглядел судей растерянным, вопросительным взглядом, точно не верил ушам.
Ещё прямей сел на стуле, обхватил костлявые плечи руками, чтобы они не дрожали, и стиснул зубы так, что чуть приметно зашевелилась седая его борода.
Генрих, Генрих... противник достойный... Либо всенародное унижение — либо топор палача... Всё отрезано... и выбрать должен сам... а нечего выбирать...
Одного не дал Господь королю... одного...
Господь ему не дал величия...
Генрих лукав, Генрих умён, ах как умён, однако король... И король рассчитывал, как поступил бы сам... Король, стало быть, думал, что выбора нет, ибо сам... не захотел бы рискнуть своим бренным телом ради дела души...
А он должен, может, сумеет рискнуть своим бренным телом ради спасенья бессмертной души.
Да, вопреки здравому смыслу, выберет смерть и посмотрит, на что после этого решится государь.
Норфолк отчётливо повторил:
— Да, его величество король Генрих Восьмой готов даровать прощение Томасу Мору, если Томас Мор изменит своё упрямое и своевольное мнение.
Громко спросил:
— В чём я должен просить прощение у короля?
Норфолк ответил миролюбиво:
— Вам, Томас Мор, это известно так же хорошо, как всем нам, пришедшим сюда, чтобы даровать вам жизнь или смерть.
Спокойное лицемерие, мирный, увещевающий тон хлестнули по самому сердцу. Словно забыл и вдруг со злостью и горечью вспомнил, среди каких чужих, каких враждебно настроенных, бесстыжих людей находится, с кем так долго жил, питаясь слабой надеждой служить просвещённым советником короля, какую корыстную ложь вынужден был терпеть столько лет.
Вновь воскресла упрямая сила. Уйти от них без борьбы не мог, необходимо было, как прежде, служить своему идеалу, мечте, возможно, несбыточной, однако прекрасной.
Язвительно усмехнулся и хрипло, но с вызовом произнёс:
— Нет, клянусь Геркулесом, я не знаю вины за собой!
Вздрогнув, суетливо сморгнув, канцлер изумлённо переспросил:
— Вы не знаете никакой вины за собой?!
Почти потеряв голос в долгом одиночном молчании, сильно хрипя, язвительно усмехаясь, вдруг согласился:
— Я допустил, возможно, ошибку.
Нервно вертя головой, вопросительно взглядывая по сторонам на безмолвных своих соучастников, канцлер потребовал строго:
— Объясните суду, Томас Мор, какая из ваших ошибок имеется в виду.
Ответил презрительно, с явным вызовом, чуть приподняв иссушенную годами и лишеньями руку:
— Эта ошибка, мой лорд, связана с разводом и новым браком нашего короля.
Густо краснея мелким лицом, закрывая, должно быть, от страха глаза, канцлер взвизгнул пронзительно, тонко:
— Вопрос о разводе и браке не упоминается в обвинительном акте!
Откинулся всем телом назад, твёрдо опёрся худыми лопатками в резную деревянную спинку и с расстановкой, насмешливо возразил:
— А между тем, мои лорды, это один из самых важных вопросов, если не самый важный вопрос обвинения, и вы, мои лорды, не можете об этом не знать.
Кранмер вдруг подтвердил, по своему обыкновению почти не разжимая плоского рта:
— Да, все мы знаем, что вы, Томас Мор, не одобряете этого брака.
Следил, как старый писец, сидевший внизу, стремительно записывал каждое слово; знал, что все протоколы внимательно просмотрит король, и напомнил, снова с шипением в голосе обращаясь к суду:
— Но вы не знаете, мои лорды, что однажды наш король Генрих Восьмой сам спросил моё мнение по поводу этого брака, ещё до того, как тот совершился. Тогда я ответил ему, что не могу одобрить второй брак короля, если он пока не вдовец, и сам король обещал, что мои слова не будут иметь для меня никакого дурного последствия. Вот почему, мои лорды, я полагаю, этот вопрос не попал в обвинительный акт, однако он всё равно стоит в этом акте, и я беру на себя смелость напомнить суду, что больше никогда, особенно с преступным намерением, ничего не говорил против этой женитьбы. Всё, что было мной когда-либо по этому поводу сказано, говорилось в согласии с моей совестью и разумением. За это я уже поплатился свободой, меня лишили имущества и заточили пожизненно в Тауэр. Мои лорды, я уже несу своё наказание.
Растерянно перебирая короткими пальцами, перекладывая что-то перед собой на широком столе, канцлер наконец нашёл, как выразить своё возмущение:
— Это наказание, как видно, не пошло вам на пользу. Когда вас спросили, признаете ли вы все титулы короля, вы, Томас Мор, злонамеренно промолчали. Злонамеренно, злонамеренно! Этого вы не сможете отрицать!
Он даже развеселился, так и рвалось наружу прирождённое его озорство. Хотел бы спросить очень вежливо, очень спокойно, даже невинно всю эту шайку, которая жила подачками короля, что стали бы они говорить, если бы Генрих вдруг вздумал присвоить себе, скажем, титул Гомера.
Но спохватился. Загорелся желанием выиграть это дело даже в самом отчаянном положении. Стало быть, незачем было злить понапрасну несчастных приживалов, и ни о чём не спросил, зная и без колких реплик, что они-то величали бы Генриха Гомером нашего времени хотя бы за две строчки стихов, даже самым великим из всех Гомеров на свете, учредили бы в его честь золотую медаль, рукоплескали бы скудным стишкам, находили бы в них и премудрость, и стиль, и ещё что-нибудь, лишь бы монарх им за это платил.
Сдержался и рассудительно произнёс:
— Да, это верно, мой лорд, я молчал. Однако своей обязанностью считаю напомнить суду, что ни ваш закон и никакой другой закон в мире не способен справедливо и честно меня наказать, если вы ни словом, ни фактом не можете подкрепить выдвинутого против меня обвинения, ибо ни словами, ни поступками я не совершил ничего, что бы могло называться изменой. Кроме того, находите ли вы, мои лорды, правомерным и справедливым, что обвинение основано на законе, принятом тогда, когда я уже отбывал наказание в Тауэре? Разве закон имеет силу обратного действия?
Решительно ничего не понимая в законах, сбитые с толку, они ничего не могли ответить, и канцлер грубо перебил:
— Даже отбывая наказание в Тауэре, вы совершали всё новые и новые преступления!
С вызовом попросил:
— Пусть так, мой лорд. Тогда перечислите их.
Канцлер замялся, обхватил подбородок левой рукой и вдруг заспешил:
— Одно из них я уже называл: злонамеренное письмо, которое вы переслали епископу Фишеру.
Это уже начинало его забавлять. Он много раз выступал адвокатом в суде и снова загнал их в тупик:
— Это письмо, как вам известно, написано было в стенах тюрьмы и передано узнику в стенах той же тюрьмы. Кроме того, в нём не содержалось ничего из того, что бы выходило за пределы простого человеческого общения двух старых друзей, попавших в беду, и что бы содержало момент преступления, ибо, клянусь Геркулесом, каждый из нас, не имея возможности советоваться друг с другом, вполне сознательно поступал так, как подсказывала ему его совесть. Не говорю уж о том, что в этом письме решительно ничего не сказано о новых титулах короля.
Канцлер выпучил глаза и замолчал.
Отец королевы выставился вперёд и воскликнул возмущённо и зло:
— Да это дьявольская уловка! Вот это что!
Слегка качнул головой, изображая поклон:
— Благодарю вас, мой лорд, ваши слова очень кстати напомнили мне, что все обвинение очень плохо, очень неумело составлено. Если бы удалить из обвинительного акта такие пустые слова, как «злонамеренно», «изменнически», «дьявольски», которые якобы доказывают, что я виноват, а на самом деле ровным счётом ничего не доказывают, кроме того, что никакой вины за мной нет, станет вполне очевидным отсутствие в обвинительном акте каких-либо юридических оснований для нового и более сурового наказания.
Они довольно долго молчали.
Наконец зашевелился Томас Кромвель, новый секретарь короля, вскинул круглую голову и приказал:
— Лейтенант, введите Ричарда Рича.
Рич, в чёрном камзоле, в белом воротнике, отороченном тонкими кружевами из Фландрии, протянул над раскрытой Библией худые, слегка раздвинутые капризные пальцы и произнёс обычные слова присяги, какая даётся в суде:
— Клянусь говорить правду, только правду, ничего, кроме правды.
Не давая себе труда дослушать его до конца, Томас Кромвель с нетерпением обратился к нему:
— Ричард Рич, расскажите суду, что сказал вам Томас Мор, когда вы, будучи по делам службы в Тауэре, посетили его там.
Рич стоял прямо, спокойно и рассказывал с подобострастным достоинством:
— Я сказал ему: «Поскольку всем хорошо известно, мастер Мор, что человек вы учёный и мудрый, сведущий в законах нашего королевства так же, как и в других делах, позвольте мне быть настолько смелым, чтобы предложить вам вопрос. Мастер Мор позволил предложить ему этот вопрос. Тогда я спросил: «Допустим, сэр...»
Он слушал, как Ричард Рич старательно и громким голосом пересказывал их разговор, не упуская ни слова, как будто гордясь своей добросовестной памятью и неукоснительным исполнением долга.
Странным образом мешались в душе его разные чувства. Подобострастное достоинство, с каким Рич держался перед судом, представилось ему до крайности подозрительным. Угадал, что именно Рича новый секретарь короля вызвал в свидетели не без причины, но ещё оставалась надежда, что молодой хранитель короны, на вид человек приятный и честный, не покажет против него, главным образом потому, что решительно нечего показать, а хранитель короны юн и неопытен, невинен ещё, чтобы пуститься в откровенную ложь.
Так размышляя, с нетерпением ждал конца показаний.
Рич тем временем продолжал невозмутимо и чётко, словно читал:
— Тогда мастер Мор сказал так: «Предположим, парламент принял бы акт, по которому Господь не должен быть Господом, вы, Ричард Рич, согласились бы признать, что отныне Господь не является таковым?» — на что я ответил решительно: «Нет, сэр, я бы так не сказал, поскольку никакой парламент не мог бы принять подобного акта».
Рич остановился, обвёл молчаливо взирающих судей невинным взором красивых, чуть влажных, женственных глаз, прискорбно вздохнул и с сожалением заключил:
— Тогда мастер Мор мне сказал, что с таким же успехом парламент мог бы сделать нашего короля верховным главой нашей церкви.
Вертелся канцлер, возмущённо взмахивая коротковатой рукой, язвительно улыбался довольный отец королевы, лицо архиепископа сделалось мрачным и замкнутым, Томас Кромвель, вытянув губы, с издёвкой спросил:
— Что вы скажете, Томас Мор?
Стискивал зубы, глядел не мигая и прямо, потом ответил негромко, с презрительным гневом:
— Свидетель лжёт. Его слова не достойны доверия.
Рич спокойно стоял на свидетельском месте, склонив голову набок, оправляя дорогой воротник.
Канцлер выкрикнул:
— Как? Разве между вами не было этого разговора?!
Холодно, собрав волю в кулак, разъяснил:
— Разговор, разумеется, был. Однако всё, что я говорил свидетелю, было сказано лишь по поводу предполагаемых случаев, которые используются обыкновенно юристами в качестве примеров при обсуждении спорных юридических казусов. В качестве примеров. Не больше того.
Рич оставил воротник, с гордым видом уставился перед собой, усмехнулся и неожиданно предложил:
— При моём разговоре с Томасом Мором присутствовало двое слуг. Этих слуг можно было бы вызвать свидетелями. Я уверен, что они подтвердят истинность моего правдивого и чистосердечного показания.
Круглая голова Томаса Кромвеля властно мотнулась. В мгновение ока лейтенант ввёл приготовленных, заминавшихся, нерешительных слуг, переодетых в хорошие чёрные куртки.
Высокий, толстый, с мучнистым лицом, сложив пухлые пальцы на животе, равнодушно уставясь перед собой студенистыми немигающими глазами, медленно раздвигая толстые губы, с трудом выговаривая слова, ответил суду:
— Прощения просим... Мы не слушаем, об чём говорят господа... Не заведено привычки такой...
Маленький, юркий, с мелким бисером хитреньких глаз, сновавших, как мыши, с готовностью закивал головой:
— Не слыхать ничего, мы при деле, при деле, книг там, бумаг великое множество, все перебрать да сложить, рук никаких не хватает, нас только двое, некогда нам.
Слуг увели. Рич горделивой поступью удалился следом.
Мор повернул голову и бросил в спину ему:
— Ты далеко пойдёшь, Ричард Рич.
Канцлер поднялся, одёрнул добротный камзол и торжественно начал читать:
— «Суд его величества короля, признав Томаса Мора виновным в высокой измене, постановляет...»
Насмешливо перебил:
— Мой лорд, когда я имел дело с законом, в подобном деле перед вынесением приговора обвиняемого спрашивали обыкновенно, что может он сказать в своё оправдание.
Канцлер смешался, поспешно сказал:
— Вот именно, что бы вы, названный Томас Мор, могли сказать в своё оправдание?
Настал его час. Он должен был говорить, однако начал не сразу.
Ведь это написал:
«Даже и те, кто не согласен с христианской религией, всё же никого не отпугивают от неё, не нападают ни на одного из её приверженцев. Только одно лицо из нашей среды подверглось в моём присутствии наказанию по этому поводу. Это лицо, недавно принявшее крещение, стало, с большим усердием, чем благоразумием, публично рассуждать о поклонении Христу, хотя мы советовали ему этого не делать. При таких беседах он стал увлекаться до того, что не только предпочитал наши святыни прочим святыням, но подвергал беспрестанному осуждению все остальные, громко кричал, что они все языческие, поклонники их нечестивцы и должны быть наказаны вечным огнём. На эту тему рассуждал он долгое время, но был арестован и подвергнут суду как виновный не в презрении к религии, а в возбуждении смуты в народе. Он был приговорён к изгнанию. Именно среди древнейших законов утопийцев имеется такой, что никому его религия не ставится в вину...»
Вот именно: возбуждение смуты в народе...
Не ему её возбуждать, не ему... Нынче смуту в народе возбуждает король...
Ведь и ещё написал:
«Утоп не рискнул вынести о ней какое-нибудь необдуманное решение. Для него было неясно, не требует ли Господь разнообразного и разностороннего поклонения и потому внушает разным лицам разные религии. Во всяком случае, законодатель счёл нелепостью заставить всех признать то, что ты считаешь истинным. Но, допуская тот случай, что истинна только одна религия, а все остальные суетны, Утоп всё же легко предвидел, что сила этой истины в конце концов выплывет и выявится сама собой, но для достижения этого необходимо действовать разумно и кротко. Если же дело дойдёт до волнений и борьбы с оружием в руках, то наилучшая и святейшая религия погибнет под пятой суетнейших суеверий, как нивы среди терновников и сорняков, так как все скверные люди отличаются наибольшим упорством. Поэтому Утоп оставил весь этот вопрос нерешённым и предоставил каждому свободу веровать, во что тому угодно...»
Так должен поступать каждый мудрый правитель. Король Генрих не догадался так поступить, а ведь и на эту тему между ними случались беседы...
Верно, самодержцам такие беседы не впрок...
Объявил себя главой церкви и повелел всем и каждому это признать. И уже не осталось свободы выбора. Уже возбудилась ужасная смута в народе. Уже поднималось оружие, пока, слава Господу, только с одной стороны, со стороны короля, во имя того, что одному человеку стало угодно неподобающим образом возвысить себя над людьми...
О чём же должно было ему говорить?
Должен был говорить о заносчивой неразумности этого человека, возомнившего себя непогрешимым судьёй в тех делах, которые касались убеждений и совести каждого человека и более ничьему не подлежали суду; должен был говорить о той ужасной вражде, которую сеял этот человек своим неразумием. Ему надлежало напомнить о том, что во всех делах государства и церкви следовало бы поступать разумно и кротко.
Его бренному телу уже ничто не могло повредить.
Но кто бы понял его из жестоких и неразумных, присланных сюда королём не для торжества справедливости, а на защиту новых доходов, что получат они, когда не станет монастырей и все монастырские земли поступят в казну?
Когда-то уже пробовал действовать словом, когда-то уже всё написал, однако слова эти канули в бездну.
Ибо против корысти, обуявшей этих людей, не помогают никакие слова.
Пришлось говорить по-другому, и он сказал, напрягая свой слабый голос, который хрипел всё заметней оттого, что у него пересохло во рту:
— Мои лорды, этот приговор и сами обвинения, выдвинутые против меня, основаны на акте парламента, но сам этот акт противоречит законам Господа нашего Иисуса Христа и Его святой церкви, верховное управление ею не может взять на себя никакой государь, поскольку оно по праву принадлежит римскому престолу, и это верховенство Рима в управлении католической церковью является законом среди христиан.
Тут попробовал встать, чтобы речь его раздалась убедительней, но не хватило для этого сил, и тогда, весь подавшись вперёд, сверкая глазами, продолжал раздельно и страстно:
— Я убеждён, мои лорды, что Английское королевство, будучи лишь одним членом и небольшой частью церкви, не может издавать закон, который противоречит общему закону Вселенской католической церкви Христа, подобно тому, как город Лондон, где мы с вами находимся, будучи лишь ничтожной частью по отношению ко всему королевству, не может издавать закон, противоречащий актам парламента и обязательный для всего королевства.
В этом месте голоса не хватило, остановился, закашлялся, прикрывая рот дрожащей рукой.
Он настаивал на законности. Ведь если позволить хотя бы одному человеку, пусть им будет король, или даже представителям нации, собравшимся ради этого вместе, нарушать по своему произволу законы страны или всего человечества, все понятия пошатнутся в душах людей. Не останется совести. Не станет стыда. Один только страх наказания станет удерживать от дурного поступка. Ибо никому не дано будет знать, что нынче дурно, а что хорошо. И тогда одни примутся искусной хитростью обходить все законы, а прочие станут преступать их при помощи силы.
Должен был говорить и потому продолжал, задыхаясь:
— Но есть акт парламента, обязательный для всего королевства. Такой акт существует. Я говорю, мои лорды, о Великой хартии вольностей, обязательной для каждого английского гражданина, в том числе и для его величества короля, и для представителей нации, составляющих парламент, а в ней говорится: «Чтобы английская церковь была свободна и владела своими правами в целости и своими неприкосновенными вольностями». Вот что говорится в ней, и никто не может брать себе право посягать на эти неприкосновенные вольности.
За столом шевелились, шептались, и обвиняемый, сдерживая подступающий кашель, спешил:
— Самое отрицание власти Римского Папы в церковных делах находится в противоречии с текстом священной присяги, которую его величество король, как и любой другой государь христианского мира, торжественно принял при его коронации. И в этом смысле отказ королевства Англии в послушании папскому престолу не более правомерен, чем отказ ребёнка в послушании своему собственному отцу.
Канцлер, взметнувшись, в недоумении, в страхе перебил его речь:
— Как можете вы, Томас Мор, противопоставлять своё решение такого вопроса решению столь многих учёных людей, епископов и университетов?
Возразил возмущённо:
— Если, мой лорд, так уж важно число епископов и университетов, то я не сомневаюсь в том, что на моей стороне тоже немалое числе епископов и учёных, людей добродетельной жизни, как среди ныне живущих, так ещё больше среди тех, которые уже отдали жизнь за свои добродетели, а при жизни думали точно так же, как я. И потому я не обязан подчинять свою совесть решению совета одного королевства против общего совета всех христиан. На каждого вашего епископа я имею на своей стороне больше сотни, а не один ваш совет и парламент. На моей стороне все советы, действовавшие на протяжении последнего тысячелетия. И не одно это королевство — я имею в виду все другие королевства христианского мира...
Дядя королевы его перебил, вскочив на ноги, с торжеством прокричав:
— Вы всё сказали, Томас Мор, всё! Теперь мы ясно понимаем, как злонамеренны вы в своих преступных стремлениях!
Покачал головой и уже устало закончил:
— Нет, мои лорды, клянусь Геркулесом, нет. Сущая необходимость так много говорить побудила желание облегчить совесть. В свидетели я призываю Всевышнего, чей единственный взгляд проникает в сердце каждого человека.
Дядя королевы раскрыл от изумления рот и плюхнулся на скамью.
Канцлер поднял бумагу к глазам и стал поспешно читать:
— «Вернуть при содействии констебля Уильяма Кингстона в Тауэр, оттуда влачить по земле...»
Ужас сковал и точно обрезал его.
Судьи вставали, переговаривались, тянулись цепочкой в дальнюю дверь.
Он один, точно простреленный, остался сидеть.
Лейтенант, неслышно приблизившись, тронул за плечо.
Непонимающе медленно обернулся и поглядел на того, кто потревожил его, как смотрят на посторонний предмет.
Тот негромко сказал, наклонившись к самому уху:
— Вас ждут.
Тотчас покорно поднялся и зашагал на деревянных ногах впереди офицера, вновь сжимавшего рукоять шпаги, точно ждал нападения, но вдруг остановился и оглянулся в дверях.
В громадном сумрачном зале уже не было ни души. Только стул одиноко стоял посредине.
Ссутулился и вышел за дверь.
К нему кинулся Кингстон, хватая зачем-то его холодные руки, причитая срывавшимся шёпотом:
— Боже мой! Боже мой!
В строгом молчании неторопливо спустились к причалу и в прежнем порядке разместились в ладье.
Сидя против него, лейтенант глядел в сторону, на спокойно бежавшую воду. Старый друг Кингстон был рядом. По смуглому лицу его часто сбегали жёлтые катышки слёз, то и дело застревая и скапливаясь в глубоких морщинах.
Вдруг осознал, увидя эти слёзы, что всё окончательно решено и что совсем уж недолго осталось его бренному телу тащиться по грешной земле, забывшей совесть и стыд. Две недели. Может, чуть дольше. Сколько дозволит король.
Вихрем закружилось у него в голове. Вот и сделал всё и всё совершил, что успел и сумел. Никто не принуждал его во всю жизнь. Никто не в силах был помешать идти тем путём, который сам избрал разумно и кротко и который так же разумно и кротко прошёл до конца. Оставалось несколько дней, а там безумная казнь, что свершится над немощным телом, но это уже почти пустяки. Душа терзалась многие годы, наблюдая, как люди беспомощно бились в тенётах, добровольно скованных ими на самих же себя, но эти терзанья оставались уже позади. Его лишили свободы, но он выдержал и груз заточенья. Они не сломили его. Им его уже никогда не сломить.
Стало бодро и весело, засмеялся, хлопнул верного Кингстона по крутому плечу и ворчливо пообещал:
— Я поколочу тебя, Вилли.
Бедный Кингстон, вздрогнув от неожиданности, выговорил с трудом, пряча от него затуманенные глаза:
— Это верно, лучше поколоти меня, Том.
Улыбнулся и огляделся вокруг.
Воздух очистился, просветлел. Высокое солнце слабо бледнело сквозь редкие быстрые облака, то и дело набегавшие на него. Вниз и вверх по реке скользили баржи, баркасы и лодки, одни под парусом, другие на вёслах. С воды зелёные холмы правого берега казались очень высокими. Застывши, точно прилипнув к склонам эти холмов, пятнистые коровы молча глядели перед собой, размеренно и лениво жуя.
Всё это было необыкновенно, прекрасно, всё хватало душу до слёз, заставляя её трепетать.
Толкнул Кингстона в бок:
— Полно, Вилли, лучше-ка погляди.
Неохотно взглянув, лишь бы уважить его последнюю волю, Кингстон запричитал сквозь новые, бессильные слёзы:
— Что делать?! Что делать?!
Радостно отвечал:
— Всё вокруг нас точно раскрытая книга!
Кингстон ахал:
— Как же нам быть?!
Снова с дружеским чувством хлопнул его по плечу:
— Полно, Вилли, никак нам не быть, пусть оно движется своим чередом.
Кингстон зажмурил глаза:
— Страшно об этом подумать.
Ласково возразил:
— Ты не думай. Так тебе станет легче понять.
Кингстон пролепетал едва слышно:
— Господи, помоги!
Рассмеялся заливисто, от души:
— Твоя правда, мне поможет Всевышний.
Один за другим вышли на берег. Лейтенант неторопливо зашагал впереди. Копейщики, опустив копья, с безразличными лицами брели по бокам.
Поддерживал ослабевшего Кингстона под руку, на ходу слагая шутливый гекзаметр:
— Вот трезвый Мор пьяного друга ведёт.
Так прошли вдоль стены и уже поворотили к воротам, когда из-за выступа к нему бросилась женщина в чёрном платье и в белом чепце, обхватила его крепкую шею гибкими худыми руками и со сдавленным стоном прильнула к задрожавшей груди.
Выпустив Кингстона, он с нежностью провёл рукой по её трясущейся голове:
— Добрый день, моя Мэг.
Она же сквозь слёзы тоскливо звала:
— Отец... отец...
Остановился, отстав от Кингстона, и прижал дочь к себе, утешая:
— У тебя целый ливень, Мэг. Смотри, ты утопишь меня.
Дочь вскинула голову, отчаянно крикнув:
— Зачем ты это сделал, отец?
Улыбнулся неловко:
— Прости, уж так получилось.
Уже сзади подбредали молча солдаты, и он, обняв за плечо, повлёк её за собой, а Мэг прижималась к нему, мешая ровно идти, причитая недовольно и жалобно:
— Зачем было перечить, отец? Королю!
Коротко хохотнул:
— Скорей это мне перечил король.
Повторила:
— Это же ты, это всё ты, а короли не клонят ни перед кем головы! Они — короли!
Согласился:
— Это хорошо сказано, Мэг. Короли не клонят ни перед кем головы. Однако была ведь Каносса. Помнишь, я рассказывал тебе эту историю.
Дочь упрекнула с неизбывной тоской:
— Ты же не Папа!
Весело возразил:
— Зато я твой отец.
Спросила без сил:
— На кого ты нас покинул, отец?
Сказал, пытаясь по-прежнёму улыбаться, холодея внутри:
— Вот и ты, Мэг, не понимаешь меня.
Она вдруг встрепенулась и вскрикнула страстно:
— Я понимаю тебя, понимаю, но понять не могу!
Отец попросил:
— Давай больше не будем об этом ни слова.
Послушно кивнула:
— Хорошо, но скажи...
Лейтенант обернулся, остановился, подождал и легко тронул её за плечо:
— Вам дальше идти не позволено, мэм.
Сознавая, что уже никогда-никогда не увидится со своей любимицей, крепко обнял её, поцеловал в щемяще красивую шею и твёрдо сказал:
— Мертвее всего меня сделает то, моё любимейшее дитя, что я услышу не о своей смерти, но если узнаю о том, что ты, твой муж, моя жена, все мои дети и невиновные друзья остаются в опасности от того великого зла, которое может с ними случиться. И потому, моя Мэг, и ты, и все остальные, я вас прошу, служите Всевышнему и в Нём одном ищите поддержку и радость. И если это случится, молитесь Ему за меня и не печальтесь, не жалейте меня, а я всем сердцем стану молить Его за всех вас, чтобы мы могли встретиться на небесах, где мы будем всегда счастливы, веселы и где никогда уже не будем знать ни горя, ни бед.
Мэг зарыдала:
— Я стану, стану молиться, отец!
Помахал ей на прощанье рукой:
— Мы ещё встретимся, Мэг.
На этот раз узника отвели в Кровавую башню, чтобы оставить здесь одного.
Длинноносый служитель, с провалившимся ртом, завидя его, беззубо прошамкал с порога:
— Позвольте верхнюю одежду, мастер, она мне послужит вознаграждением за труды.
С готовностью стянул с головы и протянул старый колпак:
— Получите, любезный, это самая верхняя одежда моя, какую я только имею. Надеюсь, она будет служить вам хорошо.
Служитель обиделся и зло пробурчал:
— Нехорошо смеяться над бедняком.
В самом деле, нехорошо было смеяться, ещё хуже было ссориться с ним, и Мор примирительно возразил:
— Я не смеюсь. Остальное ты получишь потом.
Кингстон слабо пожал его руку:
— Мне так стыдно перед тобой.
Удивился, круто поворотившись к нему:
— Чего же стыдиться тебе?
Кингстон отвёл стыдливо глаза:
— Это мой долг был утешить тебя, но ты сам меня утешал, слабодушного, мерзкого. Я не достоин тебя.
Тоже пожал его слабую руку:
— Не казни себя, не казни. И прощай.
Железная дверь заскрежетала за ним на несмазанных петлях. С тем же скрежетом грохнул железный засов.
Тесная келья оказалась сырой и холодной.
Ему оставалось провести в ней всего несколько дней. Они летели, как птицы, и пролетели почти незаметно, хотя дел у него теперь не было никаких, одни только мысли о вечном.
Глава тринадцатая СБОРЫ
Наступала последняя ночь.
Всё ещё сидя в углу, Мор размышлял:
«Возможно, Мортон был прав, когда говорил... потому и в своей постели своей смертью умер в Ламбете...»
Усмехнулся невольно, напомнив себе, что смерть у каждого только своя, не похожая на смерти других, странно равная и всё же своя.
Умный, хитрый, бесчестный Уолси, отправляясь когда-то в Камбрэ, говорил почти то же, что Мортон, а умер совсем по-иному...
— Мастер! Мастер!
Открыл мгновенно глаза, но невольно продолжал свою мысль, уже вслух:
— Я только воротился оттуда, а мне со всех сторон говорят, что Уолси неверный, изменник...
Ему ответил испуганный голос:
— Ваш Уолси помер давно!
Собираясь старательно с мыслями, привычно приказывая себе хранить невозмутимое равнодушие на лице, Мор согласился:
— Умер он в Лестере, проклиная славу и земные соблазны.
Над ним клонилась и колебалась чёрная тень, громким шёпотом вопрошая его:
— Что с вами, мастер? Вы спите?
Мыслитель с трудом оторвал занемевшую руку, которой всё это время бесчувственно обхватывал замерзшие ноги, и с достоинством поднял её, давая этим понять, что слышит и никого не задержит, уверяя после долгого молчания несколько заплетавшимся языком:
— Не пугайтесь, со мной ничего.
Тень держала плошку с брошенной в масло светильней. Огонёк подрагивал озорно, неровными слабыми бликами освещая взволнованное лицо, которое, ещё ниже склонившись к нему, настойчиво переспросило:
— Совсем ничего?
Наконец разглядел, что над ним склонилась Дороти Колли, но всё же её не узнал. Иная мысль беспокойно вырвалась из густого тумана забытья, и философ проворчал недовольно:
— Рано ещё... Я полагаю, целая ночь впереди...
Дороти захлопотала тревожней и громче, присев перед ним:
— Вам плохо, мастер? Вам плохо, да?
Вскочив, швырнув на пол маленький свёрток, торопливо сунув дымившую плошку на стол, схватила его очень больно под мышки и с силой дёрнула вверх, отрывая от пола. Узник разгибался с трудом. Застывшие ноги слушались плохо. Поясницу ломило. Глаза едва различали предметы, освещённые слабыми вспышками маленького огня.
Очнулся лишь от этой скрипучей, ноющей боли и поневоле решил, что это прислужники палача прежде времени явились за ним и бессильного, не успевшего овладеть своей волей грубо тащат с собой.
В горле пересохло.
Хрипло выдавил, едва шевеля языком:
— Я ждал вас только утром...
Придерживая его непослушное, нестойкое тело, Дороти оправдывалась и причитала над ним:
— Утром нельзя. Я всегда прихожу в это время. Вы не помните этого, да? Комендант же страшится, что заметят меня и донесут королю. Вы же сами мне говорили об этом! А вам надо есть. Вы отощали совсем! Вы сделались легче котёнка!
Мор с удивлением поглядел на неё, неловко свесив на сторону тяжёлую голову, слабо пытаясь освободиться из крепких, натруженных рук, но вдруг заметил, что крупные слёзы радужно переливались в уголках добрых расширенных глаз, и узнал её по этим глазам, от вида которых стало вдруг так хорошо ощущать приветливое тепло мускулистых взволнованных рук и бешеный стук беспокойного доброго сердца.
Отстранил помощницу, упираясь ладонью в плечо, и постарался встать как можно прямее. Плотской, физической немощью не хотелось пугать, вновь воротилась решимость. Лишь взгляд, всё ещё ослеплённый внезапным огнём, оставался мертвенно-тусклым.
Вновь внезапно подумал о том, слишком сильно радуясь возвращению к жизни, что ему не остаться, если он не испросит милости короля.
Но спохватился, отогнал от себя эту враждебную, время от времени соблазнявшую мысль и заговорил тем насмешливо-бойким и дружеским тоном, каким всегда говорил, чтобы не давать ей почувствовать разницу в их положении:
— Прости меня, Дороти. Я принял тебя за кентскую ведьму. Глаза так и горят, и чернющая вся.
Она бережно выпустила его, смущённо обдёрнула смятый передник и поспешила оправдаться:
— Вы не двигались, не дышали, до смерти перепугали меня!
Усмехнулся, силясь выглядеть беззаботным, чувствуя себя совершенно беспомощным рядом с ней, удивительно мужественной и молодой:
— Обещаю тебе, что это в последний раз.
Оглядываясь поспешно, отыскивая что-то глазами, женщина с беспокойством спросила:
— Я принесла вам рубашки, где же они?
Благодарно подумал, что сегодня рубашки особенно кстати, и, позабыв осторожность, беспечно воскликнул, пронизанный признательным чувством:
— Отлично, Дороти, в самый раз. Мне бы очень хотелось переодеться.
Поглощённая пропажей рубашек, не тотчас уловив тайный смысл его слов, отыскав наконец, подняла узелок и протянула ему с неловкой, но милой грацией, вдруг застыдившись чего-то:
— Ах, вот они где!
Отступил несколько в сторону, держа в руке узелок, стесняясь раздеться при ней, ломая голову, как же укрыться в этом каменном ящике, куда засадили его перед тем, как убить.
Дороти сама отвернулась, простодушно сказав:
— Я не гляжу, не гляжу.
Сбросил одежду и посмотрел при слабом огне на своё обречённое тело.
Грудь была очень худой, но костисто-широкой. Обнажённые рёбра плавно проступали сквозь тонкую гладкую кожу. Впалый живот вычерчивал силу и худобу. Один пупок, торча неуклюже, выдавал, что он истощился опасно, чрезмерно на скудных казённых харчах.
Своё здоровое, ловкое, ослабленное только долгим недоеданием тело вдруг увидел изрубленным на куски. Вместо рук кроваво чернели обрубки. Из распоротого наискось живота красным комом висели кишки.
Зябкая дрожь пробежала меж лопаток, в растерянности подержал в руке ещё тёплую власяницу, но в следующий миг со злостью швырнул её на постель и с привычной быстротой оделся в чистое, вдохнувши при этом волнующий запах дома и свежести.
Попросил, давая понять, что может обернуться к нему:
— Что там, Дороти, дома?
Женщина застенчиво обернулась, всё ещё не смея взглянуть на него, ответила, помолчав:
— Всё то же.
Зацепил последний крючок, улыбаясь тоскливо:
— Все жалеют меня? Все бранят за упрямство?
Шагнула к нему, посмотрела прямо в глаза и поправила с грустью:
— Они страдают. Страдают за вас, за себя.
Скомкал бельё, которое снял, и поспешно, стыдясь, свернул его в плотный комок, выговаривая глухо и медленно:
— Я знаю об этом... Но они не понимают меня...
Дороти напомнила примиряющим тоном:
— Им кажется, мастер, что вы губите себя понапрасну. Вы уйдёте туда, но разве это изменит что-нибудь здесь?
Философ оживился, с интересом спросил, тоже глядя ей прямо в глаза:
— А что думаешь ты?
Бабья жалость вспыхнула и тут же исчезла в карих глазах, и она отвечала, с гордым мужеством оглядывая его:
— Вы знаете, мастер, что надо делать.
Положил узелок на видное место, чтобы она не забыла его, и признался с искренней простотой:
— Я ещё плохо знаю, вот в чём беда...
Женщина возразила с твёрдостью непоколебимого убеждения:
— Нет, мастер, вы знаете всё!
Помедлил, подумав, что она разревётся в голос, как обыкновенная деревенская баба, какой и была, но ему страстно, до боли захотелось оставить что-то на память семье.
Протянул ей ненужную власяницу, подал бич, сплетённый из сыромятных ремней, которым бичевал себя каждый день для смирения и укрепления воли, и с напускной небрежностью объявил:
— Возьми всё это с собой. Я решил, что довольно с меня, что теперь мне это больше не нужно.
В ту же минуту Дороти всё поняла. У неё дрогнули тонкие ноздри короткого носа. Напряжённо, глухо спросила, вновь пристально глядя прямо в глаза:
— Когда?
Смущённый, застигнутый неизбежным вопросом врасплох, сам ещё до конца не решив про себя, уйти ему туда с гордым достоинством или сделать вид, что уступил королю, чтобы воспользоваться на благо ближним ещё оставшейся властью над ним, властью образованности, властью ума, ответил спокойно, недовольный собственной нерешимостью:
— Не ведаю, клянусь Геркулесом, но может быть, что придут за мной завтра, с утра.
Было видно, как женщина сдерживала себя и только то выдавало волненье и страх, что спросила слишком ровным, слишком замедленным голосом:
— Что мне дома сказать? Надо ли знать им, мастер, об этом?
С сомнением покачал головой:
— Пожалуй, пока что не говори ничего. Я бы написал им несколько слов, да всё у меня отобрали, даже перо.
Служанка проворно выхватила из кармана передника заранее приготовленный, несколько помятый клочок и неловко сунула ему в руку похолодевшей рукой.
Прощальные слова писал торопясь. Они говорили о близком конце, а он всё ещё не верил в скорую, неизбежную смерть.
Не жене, а любимой дочери Мэг адресовал это письмо, в котором призывал благословение Господа на всех своих детей и друзей, обещал молиться за них, прощенья просил, что вынужден расстраивать всех своих близких, но уверял, что был бы печален, если бы это случилось не завтра, ибо завтрашний день приходился на поминовенье святого, его покровителя, имя которого он достаточно долго носил, и по этой причине этот день долгожданной встречи с Всевышним был угоден и удобен ему.
Мор сложил, почти скомкал письмо, как перед тем стыдливо комкал бельё, и сам опустил ей в карман, ласково говоря:
— Отдашь, но только тогда, когда это случится со мной. Раньше не надо, не отдавай.
Дороти прижала карман передника небольшой, узкой, некрестьянской ладонью к себе и твёрдо сказала, словно мужчина:
— Я буду на площади, мастер.
Этого несчастный хотел бы больше всего. Было бы величайшей поддержкой и счастьем в минуту нестерпимых мучений увидеть хоть одно родное, мужественное лицо.
Но всё-таки попытался отговорить:
— Зачем видеть тебе эту гадость?
Так же твёрдо Дороти повторила, умоляя глазами, чтобы он ей разрешил:
— Я буду на площади! Буду!
Не поднимая затуманенных глаз, благодарно похлопал её по плечу и решительно повторил:
— Нет, прошу тебя. Подумай, что, если это может мне помешать?
Она задышала порывисто, тяжело. Её молодые, крепкие, гладкие губы наполовину раскрылись. На смуглых щеках зарделся тяжёлый румянец. Большие глаза потемнели и сузились. Чистый голос звенел:
— Я непременно буду на площади, мастер!
Сжал выше локтя ей руку и с грустной нежностью попросил, чуть наклоняясь к её пылающему лицу:
— Не приходи.
Служанка только стиснула неровные белые зубы и упрямо мотнула гордой своей головой.
Мор хотел поцеловать её прямо в сочные губы, прижаться к горячему, сильному телу и не отпускать от себя, пока за ним не придут, чтобы, на глазах у близкого человека, встретить их с подобающей твёрдостью и мужественно ждать, когда искалечат его и вырвут кишки, но в его голосе раздался металл:
— Это моя последняя просьба. Ты исполнишь её. Так должно быть.
Дороти молчала мучительно долго, опустив рыжую голову в белом чепце с отворотами у подбородка, теребя широкий передник. Губы её плотно сжимались, точно были готовы, но не хотели что-то сказать; попробовала снизу взглянуть на него, но не смогла, порывисто схватила его потеплевшую влажную руку, жадно поцеловала в ладонь и согласилась чуть слышно:
— Будь по-вашему... если смогу...
Провёл другой рукой по её волосам, покрытым грубым полотняным чепцом, и сказал, силясь улыбнуться как ни в чём не бывало:
— Не стоит из-за меня убиваться, малыш. Смерть — это наше обычное дело, ибо все мы умрём. Я давно это знал и давно готовил себя.
Дороти вдруг всхлипнула громко, но тут же сумела удержать горькие слёзы и прошептала:
— Новы...
Подал узелок:
— Тебе уже надо идти.
Она вся поникла, прижала к груди этот свёрток с грязным бельём и выговорила едва слышно, почти одними губами:
— Прощайте.
Подвёл её к самой двери, сказав на прощанье, надеясь хоть этим утешить её:
— Ещё, может быть, до свиданья.
Мор остался один, и его чувства тотчас смешались. Ему был противен обман, который высовывал свой ползучий язык из каждого слова прощанья. Он мог преподнести в подарок жене фальшивые драгоценности, в поучение, чтобы этим излечить её слабую душу от напыщенного тщеславия, от смешного желания выглядеть как знатная дама и потом вместе с ней посмеяться этой шутливой проделке, но Дороти Колли он обманывал из жалости к ней, тогда как жалость была не достойна её, такой верной и стойкой во всех испытаниях. Вероятно, она догадалась, и этой сильной и гордой натуре эта ложь должна быть унизительна и противна. Несмотря на то, что девушка была у него в услуженье, он называл её своим другом, как называл всех своих слуг, и по этой причине ему не следовало бы так поступать.
Но обманывал ли только её? Не было ли в его фальшивом прощании другого лукавства? Не себя ли морочил этим змеиным «может быть, до свидания»?
И вновь с отчаянным трепетом взметнулась никогда не покидающая человека надежда. Подумать ни о чём зримом не успел. Все его мысли тотчас исчезли. В обезмысленном существе больше не было ничего, кроме рвущей душу утробной надежды. В душе кипело и рвалось одно безотчётное, дикое, наглое желание жить, существовать, прозябать в каком-нибудь жалком углу, лишь бы жить и дышать и не думать о безумной завтрашней муке.
Воля его развязалась этим страстным желанием жить. Гордость благородной души позабылась. Жестокая мука показалась невыносимой. Смятение закружило, жуткая картина встала перед мысленным взором.
Вот сошёл по высоким полустёртым ступеням. Стопудовая дверь проскрипела тягуче, пропуская жертву в душный подвал. Тусклые факелы зловеще дымили под закоптелыми низкими водами. Гадко смердело гарью и сыростью. У дальней стены возились молча чёрные тени.
На длинном деревянном столе наготове лежали плети, гвозди, шила, ремни, иголки, железные прутья, щипцы, молотки. В углу с душной вонью пылали угли раскалённой жаровни.
На круглом вертящемся табурете сидел человек, руки были туго скручены за спиной. Одна холщовая рубаха болталась на щуплом, мелко трясущемся теле. Отчаянное лицо, поросшее жидкой русой бородкой и круглыми реденькими усами, безумно молча кричало.
Мужчиной деловито занимался палач. Схвативши в жёсткий кулак жидкие косицы рыжеватых волос, срезал их большими овечьими ножницами, брезгливо отбросил косицы, швырнул ножницы и начисто выбрил маленькую головку, и головка забелела как мел.
Это был Джон, по фамилии Тьюксбери, который продавал в Лондоне кожи. Ходили тёмные слухи, будто этот Джон еретик, но при тщательном обыске умелых слуг кардинала Уолси этому слуху не нашлось никаких доказательств.
Теперь доказательства его отступления от истинной веры искали в душном подвале.
Размеренно и холодно падал вопрос:
— Где ты прячешь эти поганые книги?
Глаза Джона, казалось, размякли от ужаса. Голос срывался, чуть слышно шептал:
— Нет у меня! Ничего нет! Верьте мне, верьте мне! Умоляю вас, верьте мне!
Палач деловито приладил к голому темени тёмный мешочек с мелко наколотым льдом.
Джон сжался в комок. Взгляд его стал умоляющим. Губы поблекли, тоже побелели как мел. Зуб на зуб не попадал. В одно мгновение посинела нездоровая кожа лица.
Равномерно и холодно падал вопрос:
— Где ты прячешь эти поганые книги?
Джон беспомощно растягивал рот:
— Нннеее... нннееет у мммеееннняааа... нннеет...
Смахнув с головы подмокший мешок, сорвав с длинным треском рубаху, палач легко швырнул дрожащее тело на узкую низенькую скамейку, Прикрутив ноги и плечи ремнями, двое подручных торчком приподняли нижний конец скамейки и принялись вливать в беззащитного человека горячую воду.
Джон висел перед ними вниз головой. Его тощий живот набухал, превращаясь в неестественный шар. Глаза наливались мучительной кровью. Щёки пылали черно-красным огнём.
Равномерно и холодно падал вопрос:
— Где ты прячешь эти поганые книги?
Губы Джона зашевелились. Распухший язык издал какие-то невнятные звуки.
Равномерно и холодно падал вопрос:
— Где ты прячешь эти поганые книги?
Джон медленно прикрыл распухшие почерневшие веки и в знак отрицания повёл головой.
Палач рывком освободил его от широких ремней. Подручные подхватили под руки покорное тело и посадили верхом на острую крышку гранёного дубового гроба, изобретённого инквизицией для беседы с еретиками. Между ног покорного тела вонзилось остриё. Истекая горячей водой, страшно худея у всех на глазах, Джон рванулся, завыл, но его тут же придавили сильнее.
Размеренно и холодно падал вопрос:
— Где ты прячешь эти поганые книги?
Джон извивался, жалобно выл.
Подручные напялили на тонкие ноги рыжеватые сапоги, сшитые из сырой необделанной оленьей кожи, и поставили под ними жаровню таким образом, что сапоги задымились и просыхающая кожа сдавила живые ноги мертвящей манжетой.
Равномерно и холодно падал вопрос:
— Где ты прячешь эти поганые книги?
Глаза Джона безумно выкатились из тесных орбит. Лицо почернело. Слюнявая пасть величиной с мужскую ладонь взревела бешено:
— Вввааа...
Его почтительно тронули за рукав:
— Мастер, вас ждут в королевском совете.
Уронил:
— Продолжайте, пока не услышите правду.
И ушёл по стёртым ступеням нести несносимое бремя государственных дел.
А Тьюксбери не признался ни в чём. Неделю спустя его, обвинённого в ереси, сожгли на костре и три дня держали почерневшие кости на высоком обгорелом столбе.
Мор смахнул мелкий пот с похолодевшего лба. Громкой дрожью против воли стукнули зубы. Точно оледенели пустые глаза.
Не будет ли его мука страшней во сто крат?
На месте не сиделось. Ухватив за спиной кисть руки, сжав её, как тисками, но не чувствуя боли, узник метался по клетке, то кругами бежал, то из угла в угол, то от стены к стене, попеременно испытывая бессильную ярость и злое бессилие.
С трёх сторон наступали чёрные камни. Лишь с одной стороны неярко светлело высокое узкое боевое окно, приманивая и терзая его. Камни давили. Камни мешали. Камни не позволяли ускорить бешеный бег. Камни были повсюду. Камни сзади. Камни слева и справа. Камни внизу. Камни над головой. Не было силы, чтобы их сокрушить, но хотелось в ярости бить по камням кулаками.
Мор наконец испугался, поймав себя на этом смешном, неуместном и постыдном желании. Это бесновалось бренное тело, всё ещё полное жизни, несмотря на власяницу и бич, и желание от ярости биться об стену заставляло бояться, что это презренное тело не выдержит последнего испытания, раз уже накануне хитрой плотью овладело отчаяние, и Томас Кромвель завтрашним утром потешится вволю над ним.
Что же станется с ним через час, через два? Пересилит ли слабое тело душа, достанет ли мужества в ней, достанет ли сил? Поможет ли слабому телу с достоинством перенести завтра жестокую муку? Сможет ли уйти туда благородно, с гордо поднятой головой, как издавна готовил себя?
Не в состоянии был сомневаться и ждать, попросил Господа, Который для всех нас есть сама справедливость, тотчас послать ему смерть, сей же миг, чтобы на людной площади утром не опозорить себя непростительной слабостью действительно бренного, действительно слабого тела.
Припомнился Цезарь.
Несчастный страстно молил:
— О, мой Бог, дай мне внезапную смерть!
Это было бы прекрасно и просто. Старый камень, ослабевший от сырости, мог бы внезапно упасть с потолка. Эту крепость построили очень давно, её башню превратили в тюрьму для опасных преступников. Казна была вечно пуста, и никто не заботился привести это страшилище в подобающий вид. В башне всё обветшало, осыпалось и оседало, даже пол ходил под ногами, и чудились чёрные трещины в дальнем углу, так и манившем его встать там и ждать, когда явит милость Господь.
Облегчённо и пристально разглядывал их.
Старая штукатурка на его глазах шевельнулась и поползла.
Шагнул, торопясь подставить беззащитную голову под тяжкий обвал пудовых камней, и вдруг остановился в глухом раздражении.
Тут милосердный Господь ответил ему:
— Это крест твой, мастер Мор. Твой крест.
И наконец разгадал, что это сумасшедшее малодушие бренного тела пытает и дразнит его.
Именно так, малодушие нас сводит с ума, если дать ему волю, а он не должен терять головы, не должен утратить власть над собой, чтобы крест свой достойно нести и пронести сквозь зверские муки свою небесную Душу.
Но где, где взять ему твёрдости духа?
И прошептал, может быть, только подумал:
— Господи, укрепи... Дай мне сил.
Что говорить, слишком самонадеянно сочинил в юности афоризм:
«С первого часа нашего рождения жизнь и смерть идут равномерными шагами. Мы медленно умираем всю жизнь. Когда мы говорим, мы умираем в это же время...»
Твёрдо верил тогда, что непременно выполнит всё, что задумал.
И вот мы в самом деле медленно умираем, но ему предстоит умереть в один, уже назначенный миг.
Как же в этот один, уже назначенный миг умереть спокойно и твёрдо, пройдя сквозь зверские муки? Как с достоинством умереть насильственной смертью, не исполнив ничего из того, что задумал, в чём видел смысл и цель своего бытия?
Теперь, когда был уверен, когда с точностью знал, что через десять коротких, мгновенных, мучительно долгих часов его больше не станет на свете, не хотел, не мог со смирением думать об этом, утешая себя, будто, мол, с каждым дыханием он всё равно умирает, и чудилось, чудилось где-то в самой сути его естества, что всё ещё обойдётся, как обходилось не раз, когда дерзко играл с всевластной судьбой, надеясь вырвать победу.
С каким наслаждением медленно умирал бы всю жизнь!
Стоит попросить короля, которому философ всё ещё, видимо, нужен. Громко ударить в дверь башмаком и вызвать охрану. Тогда не будет разорвано слабое тело, не станут волочь его по грязной земле, не будет распорот у живого живот, не будут вырваны и сожжены его внутренности, не будут неторопливо отсекать руку за рукой, ногу за ногой, не будет унизительной смерти от топора палача. Жизнь и смерть потекут естественно рядом, как текли до сих пор, и могут мерно, беспрепятственно течь до того самого часа, нам назначенного не нами.
Только попросить короля...
Чутким ухом старого узника в гулком коридоре уловил слабый шум размеренных дальних шагов, и тревожная радость охватила его. Представилось вдруг, что это королевская стража несёт ему сладкую весть о свободе... Что сейчас вот... Сейчас!..
Различил шаги пятерых. Одни были полегче и более плавны. Они могли быть шагами коменданта.
Замер невольно и ждал с колотившимся сердцем. По спине пробегал колючий озноб.
Шаги становились всё тише и тише.
Наконец и последние оборвались где-то вдали, точно ушли в пустоту.
Догадался, что стража завернула в другой коридор.
Стало отвратительно, стыдно, до этого последнего дня держался спокойно и твёрдо.
С какой же стати теперь?
Одним непотребным поступком бесчестить всю свою жизнь!
В нём сшибались, стонали, корчились мысли:
«Ты должен остаться. Нельзя таким людям оставлять опасную власть над страной. Ещё раз обязан попробовать ты дать несчастным страдальцам благоденствие и покой. Кто же, кроме тебя, решится твёрдо сказать, что есть зло и что есть добро?»
«Положим, останешься, да что же ты сможешь после того, как тебя покинул король, запер в Кровавую башню и приговорил даже не к смерти, а к омерзительной смерти?»
«Полно тебе, он покинул тебя не совсем. Четырнадцать месяцев гниёшь ты в тесном узилище, и четырнадцать месяцев не решается разрубить тебя на куски и смахнуть твою дерзкую голову. Нынче утром посылает Томаса Кромвеля, чтобы запугать тебя новым чтением смертного приговора, который давно известен тебе. Ты всё ещё для чего-то нужен ему. Генрих явит милость свою, если ты только попросишь его».
«Покорный, ты не стоишь ни пенса».
«Мёртвый ты стоишь не больше».
«Позорная смерть — твоё последнее средство. Если бы не умер святой Иоанн от руки царя Ирода, может быть, мёртвым осталось бы его вещее слово».
«Но ты не святой».
«Разве надо думать об этом?»
Но он уже испугался своего безумного страха, уже не думать не мог, страшился не размышлять.
Одна холодная логика мыслей охлаждает слепое пылание безумных страстей.
Но чем же было занять свои праздные мысли?
Мор бессильно опустился на табурет.
В нём всё ещё продолжало сшибаться:
«Ты знаешь, чего боится король».
«Я только догадываюсь».
«И вот ты решил освятить...»
«Мне нечего освящать!»
«Разве не ты написал новую, справедливую жизнь, которая могла бы дать счастье ближним твоим? »
«Я написал, однако нынче известно каждому, кто умеет читать, что размышляли о возможности такой жизни ещё древние мудрецы и по сей день мечтает каждый крестьянин, когда обращается к заветам Христа».
«Правду сказать, новую, справедливую жизнь ты представляешь по-новому, не совсем так, как представляли и представляют они».
«В очень, на мой взгляд, немногом. Всё прочее ко мне от них перешло.
«И что же, ты согласился уйти, надеясь на то, что слово твоё станет вещим, если не завтра, то через тысячу лет? »
«Полно тебе, разве по своей воле становятся святыми апостолами? »
«Из чего следует, что тебе необходимо остаться!»
Узник вскочил и вновь пошёл, страшась таких мыслей, которые упрямо заводили его не туда, куда бы хотелось эти мысли направить.
Бессилие уязвляло его.
Наконец подумал о спасительном сне.
Сон всё дневное сотрёт, успокоит, ибо во сне накопляются новые силы и ободряются тело и дух.
Тотчас и лёг, завернувшись поплотней в одеяло, старательно зажмурил глаза.
Глава четырнадцатая СНЫ
Но не удавалось уснуть. Сквозь плотно прикрытые веки пробивался слабый свет огонька, ещё тлевшего в плошке, оставленной преданной Дороти Колли, отвлекая, непривычно раздражая его. Огонёк надо бы было задуть, но на это не решился, опасаясь проснуться во тьме.
Тогда спрятал голову под одеяло. У одеяла был кислый запах, запах тюрьмы. Стало душно. Прежние беспокойные мысли расползлись в проквашенной темноте:
«Ты взял на себя непосильную ношу».
«Мне завещал её Мортон, и я нёс её, как умел».
«Но ту ли ношу ты нёс?»
«Я нёс ту, что была на плечах».
«И, может быть, где-то в дороге оставил другую».
«Но я о ней не забыл».
«Чего же ради было ввязываться в церковные распри, к которым ты сам равнодушен?»
«Церковь объединяет людей. Я видел в монастыре, что монахи живут, как брат с братом. Почему же всем нам не жить, как они?»
«Церковь объединяет единоверцев, но отделяет их от всех остальных и даже приводит их к кровавой вражде, как случилось с несчастными немцами, подпавшими под мнения Лютера, а монахи потому и живут, как брат с братом, что стены монастыря спасают от жизни».
«Что станется с ними, когда они подпадут под власть короля?».
«Однако ты когда-то писал: «Царь из многих царей, кто единственным царством доволен, лишь и найдётся один, если только найдётся один. Царь из многих царей, хорошо управляющий царством, лишь и найдётся один, если только найдётся один».
«И я же писал:
«Добрый властитель каков? — Это пёс, охраняющий стадо: он отгоняет волков. Ну, а недобрый властитель каков? — Этот сам волк». Генрих как волк — сам перережет овец, да ещё напустит на них стаю волков, которые окружают его.
«Как видишь, Генрих не пёс, охраняющий стадо. Об охране стада с ним договориться нельзя».
«Я пробовал с ним говорить на другом языке. Он многое может понять, мог бы сделаться псом».
«Из чего следует, что тебе стоит остаться».
Сдёрнул с головы одеяло.
В глиняной плошке мирно помигивал крохотный огонёк, с застёжку булавки величиной. Жутко молчали чёрные стены, уставясь в упор, точно судили его.
«Мало написать справедливую жизнь. Необходимо выучиться по справедливости жить».
«По справедливости не научишься жить, если некому станет учить. Дело ведь не только во мне. В монастырях учились и учили по справедливости жить. Генрих возьмёт, разорит и разрушит. Кто же станет учить?»
«Может быть, не возьмёт?»
«Генрих возьмёт. Королю деньги нужны».
Слабо потрескивал толстый фитиль. Чуть слышно шуршало убывавшее масло светильни.
Куда деть свои мысли? Чем заслониться от них?
Вдруг досадно и гадко стало ему, опротивело тоскливое причитанье. По справедливости жить? Хорошо! Но нынче об этом придётся забыть. Уже настало чёрное время, и остался один. Ему остаётся возродить в себе силу духа, без которой завтра уронит себя, ибо завтра конец.
На память пришли два стиха, их в юности перевёл на английский язык:
Наг я на землю пришёл, и нагим же сойду я в могилу. Что мне напрасно потеть перед кончиной нагой?Свежей бодростью повеяло на него, с жадностью ухватился за них и вспоминал торопясь:
Если бы знанием мог избежать неизбежных страданий, — Знать хорошо наперёд и о страданьях своих. Если ж того возможности нет избежать, что предвидишь, Польза какая вперёд знать о страданьях своих? Тут из памяти высунулось нечто совершенно иное: Власть непомерная вечно с заботами жалкими рядом. Не прекращается страх средь постоянных тревог, Коль не оцеплен властитель оградой кругом из оружья, Коль не обедает он, прежде еду испытав.Что ж, Генрих получит непомерную власть...
Властно оборвал эту мысль, не желая возвращаться к причитаниям. В щедрой памяти поискал беззаботные стихи. Память была покорна, лёг повыше, выпростал из-под одеяла длинную бороду, по привычке погладил её и, засмеявшись жёстким, но искренним смехом, сказал:
— Если одна борода создаёт мудреца, что мешает, чтобы козел с бородой мог за Платона сойти?
Настроение вдруг изменилось. Перемена и жёсткий, но искренний смех расшевелили и укрепили его. Он всё ещё властвовал над собой. Всегдашняя беззаботность подхватила его на крыло. Из разыгравшейся памяти внезапно всплыл ещё один стих:
Лампу глупец погасил, которого блохи кусали. «Больше, — сказал он, — блохи не видят меня».Посмеялся над извечной уловкой глупца, смех прозвучал мягче и веселей. Смятенье свернулось клубком и стало таять, как снег. Разум воротился к нему, светел и чист.
Разум твердил, что было бы благом подальше уйти от ужасов завтрашней муки, лучше было бы позабыть и больше не думать о ней. Всё равно она явится завтра, а завтра думать не придётся уже ни о чём.
Никакие уловки Генриха и стаи волков за многие месяцы не сокрушили его. Нынче наступала последняя ночь. Ему ли перестать быть Томасом Мором в этот оставшийся миг?
Он прожил достойную жизнь, что бы стая волков ни говорила о нём. Нынче предстояло остаться достойным её, ибо, проживши подобную жизнь, человек обязан достойным дожить до конца.
Сам ли выбрал её? Иные ли, всеблагие и мудрые, силы ограждали его от бесчестья?
Редко задумывался над этим, не любя понапрасну заниматься собой, а в последнюю ночь в этом занятии и вовсе не было смысла.
Одно смущало его? Что, если вновь разжалобит, расслабит себя, а потом дрогнет перед лицом палача?
Генрих, Генрих...
Пусть его судит Господь.
И ухватился за прошлое, лишь бы за что-нибудь ухватиться и не упасть, своим паденьем навечно опозорив себя.
Многое с самого детства складывалось против него, однако родился он хорошо, в незнатной, но весьма почитаемой, честной семье. Дед его добросовестно торговал в своей булочной. Бабка была дочерью доброго пивовара. Неустанным трудом, без обману, проделок и ухищрений, скопили они хорошие деньги. Даже очень знатные моты прибегали к ним и оставались подолгу должны.
Отец, способный и гордый, не захотел продолжать низкое, по его мнению, дело. Его привлекла карьера юриста. Он служил королевским судьёй. Ему приглянулся дом в старом Лондоне. Молочная улица была небольшой, но почтенной. На ней селились самые уважаемые из зажиточных горожан.
Мальчик рос смышлёным и ласковым, как его мать, Агнес Гренджер, дочь почтенного горожанина, избранного позднее шерифом. В родительском доме был полный достаток. Во всей округе не ведали ни жестокости, ни вражды, ни простого обмана. Честность и честь были здесь законом для всех.
Честность и честь сами собой входили в его мягкую душу. Они были естественны для него, как солнце, воздух, вода, как сама жизнь. Всё сошлось так, что ребёнок рос непосредственным, искренним и беззаботно смешливым.
Смерть матери была единственным бедствием детства. Отец поспешил взять вторую жену. Однако на этом поприще отцу не везло. Ещё две жены скончались одна за другой. Лишь четвёртая прижилась и осталась в семье.
Они были добрые, честные женщины, но обзавелись своими детьми, он же был для них неродным.
Отец с годами становился всё суровей и строже, от него ему тоже не доставалось тепла, которое необходимо ребёнку, как солнце, воздух, вода, как самая жизнь.
По этой причине, живя в беспрестанно прибывавшей семье, слишком рано остался один, слишком рано горечь обыденной жизни коснулась его и схватила за самое сердце, слишком рано принялся размышлять, с ранних пор ощутив себя неприютно в родном доме.
Понятно, что способности его развивались стремительно, а прежде времени обиженная душа с горестной страстью мечтала о счастье, о сердечном родстве, о любви.
Крутой, самовластный отец, позабыв к тому времени сам, каким образом распорядился с нелюбезной родительской булочной, твёрдо решил, что первенец тоже станет юристом.
Шести лет его отвели в школу святого Антония. Она была за углом.
Ни свет ни заря отправлялся самой длинной в жизни дорогой, ибо любая дорога представляется чересчур длинной для маленьких ног, а дорога в школу длиннее вдвойне.
В шесть часов утра должен был войти в класс и занять своё место. Сначала пели хором молитву. Только после приступали к занятиям; сидел в тесном ряду на длинной деревянной скамье и затверживал наизусть каждое слово учителя.
С шести до одиннадцати не полагалось ни одного перерыва. Лишь в одиннадцать часов разрешался обед, и усталых учеников отпускали домой, но после обеда, вновь без единого перерыва, учились с часу дня до пяти.
Главным предметом был, разумеется, латинский язык. Кроме него преподавали начала логики и начала риторики, а также знакомили с первыми правилами греческого, мало на что пригодного, языка.
Ему повезло, что первым учителем оказался Никлас Холт, лучший из тогдашних лондонских латинистов. Невысокий, веснушчатый, рыжий, с добрым чистым лицом, Холт витийствовал увлечённо, повторяя свои объяснения столько раз, сколько было необходимо, чтобы и последний из лодырей помнил латынь во всю жизнь.
К тому же всякий промах неуклонно карался розгой по рукам, по плечам, сквозь штаны и, наконец, по обнажённому детскому заду. Учителя и даже ученики свято верили в древнейшее, через века прошедшее правило: «Тот лучше учит, кто больше бьёт».
Способный, живой, овладел латынью основательно и легко, однако запомнил горечь ученья до конца своих дней и в своём сочинении особенно указал, что в школе разумно устроенного, справедливого общества не должно быть ни розги, ни того вздора, каким под страхом её набивали его детскую голову.
Он писал:
«Учебные предметы они изучают на своём языке. Он не беден словами, не лишён приятности для слуха и превосходит другие более верной передачей мыслей... Они не изобрели хотя бы одного правила из тех остроумных выдумок» которые здесь повсюду изучают дети в так называемой «Малой логике», об ограничениях, расширениях и постановлениях. Далее, так называемые «вторые интенции» не только не подвергались у утопийцев достаточному исследованию, но никто из них не мог видеть так называемого «самого человека вообще», хотя, как вы знаете, это существо вполне колоссальное, больше любого гиганта, и мы даже пальцем можем на него показать. Зато утопийцы очень сведущи в течении светил и движении небесных тел...»
Значительно позже, уже по окончании школьных невзгод, отец поместил его в Ламбетский дворец в услужение к архиепископу Мортону, кардиналу и канцлеру Англии при старом Генрихе.
Добрый Мортон напускной строгостью испытал его, не затрепещет ли перед важной персоной, не струсит ли строгого взгляда.
Он выдержал испытание, и Мортон определил его на должность пажа.
Обретая привычное равновесие духа, Мор тотчас увидел длиннорукого отрока, в тесном сером трико с узорчато вышитым гульфиком, в голубой короткой приталенной куртке с малиновой оторочкой и в шляпе с пером.
Встряхивая бронзового оттенка подвитыми кудрями, покачиваясь из стороны в сторону от возбуждения, отрок стоял за спиной своего повелителя и заливисто, беззаботно смеялся, словно был в компании таких же мальчишек.
Радость, смешавшись с недоумением, вдруг наполнила воспрявшую душу. Морщины разгладились на суровом истомлённом лице, снова стал бодр и не стар.
От тревожных, недостойных колебаний ничего не осталось, кроме расплывавшейся муки, оседавшей где то на дне, то замолкавшей, то вновь зловещим шорохом напоминавшей о себе.
Мор окликнул весёлого отрока и протянул измождённую руку, однако, мимоходом взглянув на его длинную бороду, отрок, должно быть, его не узнал.
Философ открыто улыбнулся ему и великодушно простил невольное прегрешенье. Он словно бы вновь вступал в Ламбетский дворец, куда суровый отец его поместил, чтобы отрок приобрёл величие государственных мыслей, благородное воспитание и могучего покровителя.
У великодушного Мортона он слыл за любимца.
Может быть, это общее мнение согласовалось с действительностью. Сам же припоминал, как мгновенно расцвёл после вынужденного одиночества в доме отца, особенно после долбленья вокабул и розг. В один миг, точно своей палочкой взмахнула добрая фея, сделался остроумным, подвижным и озорным.
В чужих речах, которые подолгу велись за обеденным столом кардинала, часто улавливал забавные обмолвки и смешные созвучия и непринуждённо, как равный с равными, отвечал на них каламбурами.
И с кардиналом держался непринуждённо, хотя и почтительно, но тоже как равный ему, что, как он понял гораздо позднее, и привязало старого кардинала к нему.
В домашних спектаклях сам придумывал весёлые реплики, над ними смеялся весь зал. Без стеснения обращался с вопросами к самым важным и напыщенным из гостей и с непосредственной простотой возражал, если не мог согласиться с ответом, даже если перед ним были первые лица страны.
Обижаясь, высокомерно сердясь, вельможи пеняли на его непозволительную, невозможную вольность, однако Мортон, приближавший к себе независимых и отважных, возражал:
— Это дитя покажет себя выдающимся человеком, если вам удастся дожить до того, чтобы увидеть Томаса взрослым.
У него уши алели, пылали огнём, и сил прибавлялось от этих пленительных слов. Он во всём желал быть похожим на старого кардинала, мечтал о таком же блестящем и значительном поприще, и всегда прекрасным и славным его будущее представлялось ему наяву и во сне.
Мор улыбнулся невольно. Нечего говорить, красивой и звонкой была та мечта, и даже нынче, в последнюю ночь, на сердце от неё становилось теплей.
Господи, как умел он дерзать!
Мортоном восхищался, хотя в обхождении тот нередко бывал серьёзен и важен. Его покоряло тонкое умение старого кардинала, сурово встретив нового посетителя, внезапным трудным вопросом испытать находчивость, независимость, присутствие духа и самостоятельность мысли. Ему нравилось, что умный старик с презрением относился к слабодушным, неискренним искателям его покровительства и награждал и ласкал чистосердечных и смелых, только таких приближая к себе, только таких оставляя на службе и продвигая вперёд. Заслушивался его проникновенной образной речью старого латиниста, дипломата и мудреца. Его пленяло тонкое остроумие Мортона, безошибочно-дивная память, превосходное знание права, безграничный круг его интересов, вмещавший, казалось бы, всё, что добыто стараниями учёных людей. Рано приметил, что Мортон до старости лет старательно совершенствовал свои природные свойства ежедневными упражненьями и постоянным учением; любовался спокойной выдержкой кардинала и канцлера, которая была испытана много раз сокрушительными ударами немилосердной судьбы и выработана служением церкви; гордился советами кардинала и канцлера, им следовал сам король, вполне полагаясь на них, даже если советы были не совсем понятны или приятны ему.
Мортон попал ко двору в ранней юности, как и он в ранней юности попал в Ламбетский дворец, среди важных государственных дел провёл всю свою жизнь, испытав превратности заговоров, междоусобиц и тайных убийств, среди опасностей и сражений приобретая государственный опыт.
Мортона рано заметили, рано привлекли к важнейшим делам государства. В затянувшихся войнах между Ланкастерами и Йорками он принял сторону первых, способствовал коронации Эдуарда Шестого, при старом Генрихе достиг поста канцлера и почти единовластно руководил английской политикой. Ему принадлежал афоризм, позволивший наполнить казну, опустошённую гражданской войной:
— Те, кто много тратит, богаты и должны платить много налогов, а те, кто тратит мало, скрывают свои богатства и должны платить ещё больше.
Что скрывать, он был счастлив, что поселился в доме необыкновенного человека. Прислуживал Мортону в качестве пажа, когда за большим гостеприимным кардинальским столом собирались политики, учёные, путешественники, чужестранцы, поэты.
О чём только не говорилось за этим столом!
Навастривал уши, страшась пропустить не то чтобы слово, но умолчание или сдержанный вздох, а когда расходились случайные посетители, когда отпускали исполнивших свою обязанность слуг, а ему дозволялось остаться в числе самых избранных, самых близких, самых немногих, от этой милости у него кругом шла голова, расширялась душа, весь обращался в слух, чего в школе святого Антония с ним никогда не бывало.
Во все глаза глядел на бесподобного кардинала и канцлера, восхищался неисчерпаемым богатством его неисчислимых познаний, заслушивался изысканной прелестью его остроумных речей, и нередко представлялось ему, что в жизни народов и всего человечества уже не могло бы найтись ничего, во что бы кардинал не проник своим дерзким и гибким умом.
Без сомнения, приёмная кардинала была его истинной школой. По всей вероятности, именно там сделал свой первый решительный шаг, вступив на дорогу, с которой уже никогда не сходил.
Спрашивал себя по прошествии лет, отчего так щедр и внимателен был старый Мортон к нему, ещё отроку, но лишь спустя много лет сумел разгадать тайные мечты кардинала и канцлера.
Мор ещё раз с удивлением разглядывал умного старика, что спокойно и важно восседал перед ним в своём кресле.
Багряная мантия изящно спадала с прямых развёрнутых плеч. Сильное плотное тело не гнулось, не горбилось. Голова не клонилась на грудь, как бывает у стариков, а Мортону уже близко подходило к восьмидесяти. Морщинистый рот был решительно сжат, почти скрывая нехватку зубов. Хладнокровным, внушительным, умным было нестарческое лицо. Тяжёлые усталые веки наполовину скрывали пронзительные глаза, и казалось, что Мортон размышлял о чём-то бесконечно личном, своём, отрешившись от запутанных и грозных событий, потрясавших народы и королей.
Детский восторг внезапно возвратился, Мор вскинул голову и хрипло, но вызывающе громко сказал:
— Ваше преосвященство, всё сбылось, как вы хотели тогда: меня тоже сделали канцлером, как и вас.
Старик остался невозмутим, и стало ясно, как бывало ясно и в юные годы с первого взгляда, что своим возгласом помешал размышлять, может быть, о чём-то самом последнем, и сконфуженно пробормотал:
— Но я оставил мой пост, и меня решили казнить, тогда как вам была дарована своя смерть.
Не взглянув на него, старый Мортон безучастно сказал:
— Помнишь, я говорил тебе перед тем, как уйти навсегда, но ты не последовал моим наставлениям. Ты не захотел считаться с правилами игры, которую вёл. По этой причине тебе придётся заплатить за ошибку своей головой.
Ничего не ответил на это, ведь старик, пожалуй, был прав.
Собеседник тоже молчал, показывая всем видом, что теперь им не о чем говорить.
Была тишина.
Всмотрелся внимательней и увидел, что гости почтительно ждали.
Наконец глаза кардинала лукаво блеснули в щёлочках прищуренных век. Раздался сильный насмешливый голос:
— Могу сообщить, что мир в Этапле подписан. Наш нейтралитет Валуа оплатит деньгами.
Тишина сделалась нерешительной, гулкой. Лишь один из гостей, высокий, худой, моложавый учёный из Оксфорда, в длинном чёрном камзоле, с нервным лицом, развёл озадаченно длинные руки и насмешливо возразил:
— Это самая странная из ваших догадок.
Лицо старика оставалось непроницаемым. Даже веки не дрогнули. Ни одна черта не шевельнулась на нём. Голос прозвучал спокойно и ясно:
— Я пользуюсь предварительным опытом, а гадать предоставляю другим.
Молодой человек, поведя горделивым, несколько даже презрительным взглядом, со значением произнёс:
— Мы все, кто присутствует здесь, весьма восхищаемся вашей удивительной проницательностью, ваше преосвященство. Однако мир в Этапле не подписан и быть подписан не может, ибо важнейшие интересы французской политики издавна лежат в Нидерландах. Подписав договор, король Карл упустил бы нити торговли с преуспевающей на этом поприще Фландрией, а это едва ли поправимый ущерб для его королевской казны. Разве король Карл, по вашему мнению, заболел или, чего доброго, лишился ума?
Мортон ответил, равнодушно глядя перед собой:
— Курьер прибыл в полдень. Депеши я успел проглядеть. Так что не сомневайтесь, милорды: то, что должно было свершиться, — свершилось.
Учёный воскликнул с напряжённым лицом, озираясь по сторонам:
— Это было бы чудо! В него невозможно поверить!
Старик посоветовал:
— Не верьте, если хотите.
Тот вскричал, собирая морщинами лоб, растерянно перебирая пальцами по краю стола:
— Значит, король Карл действительно сумасшедший!
Кардинал слегка потянулся, легко поднял полную чашу и отпил вина:
— Разумеется, король Карл Восьмой не унаследовал ни практического ума, ни прозорливости родителя своего, к тому же, к несчастью, образован посредственно, что слишком неблагоприятно, отчасти даже рискованно для имущего власть. Ну, легкомыслен, это я вам уступлю. Окружён дурными советниками. Мечтает о славе, о рыцарстве, что в наше время довольно смешно. Слишком уверен, что ему суждено восстановить империю Карла Великого, даже расширить пределы её, что очень похоже на то, что он лишился ума. Подобный бред, если бредит правитель страны, одобрить, по меньшей мере, нельзя. Однако же вы слишком торопитесь называть его сумасшедшим. Скажем, ветрен, не очень далёк, но я убеждён, что даже он очень скоро сможет понять, что его дорогие мечты — пусты, не больше того.
Оксфордец вертел головой и снисходительно улыбался:
— Когда недалёк, так как же, по-вашему, сможет понять?
Старик медленно поворачивал чашу, разглядывая вино:
— Вы правы в одном: политика умного наставляет скорее, чем недалёкого чудака. Однако, заметьте, политика наставляет без исключения всех. Может наставить даже круглого дурака, а король Карл всё-таки не круглый дурак. У короля Карла нынешний день более трёх тысяч копейщиков, шесть тысяч бретонских лучников, столько же арбалетчиков, восемь тысяч гасконских мушкетёров и восемь тысяч первоклассных швейцарцев. Они слишком прожорливы, чего нельзя не понять, чтобы держать их без дела. Своим аппетитом они разорят любую страну, вдвое, втрое большую Франции. Эти пустые желудки необходимо куда-то вести. Куда же он их поведёт?
Молодой человек на мгновение замер, но вскинул узкую голову:
— Скорее всего это может быть Крестовый поход против турок, которые держат в осаде весь христианский мир.
Старик помедлил и сделал неторопливый глоток:
— Ну что ж, наш учёный друг, пожалуй, это не самая странная из ваших догадок.
Тот возмутился:
— Как, ваше преосвященство! Вы, именно вы, отрицаете всемогущество веры, что прямо обязывает всех нас до последнего вздоха сражаться с неверными?
Старик так спокойно поставил чашу на стол, что вино и не двинулось в ней, точно застыло:
— Господь с вами. Я не отрицаю всемогущества веры. Однако, кроме того, я не отрицаю всемогущества фактов, а факты мне говорят, что король Карл имеет кое-какие права на корону Неаполитании, что в этих притязаниях короля Карла поддержит миланский регент Лодовико Моро, которому не терпится убрать с дороги племянника, сильного единственно могуществом своей неаполитанской родни, что Испания, после договора в Этапле, Фердинанду помощи не пошлёт, что Венеция, в свою очередь, станет ждать, пока не разобьют её конкурентов на полуострове. Присовокупите к изложенному, учёный наш друг, что головорезы флорентийского Медичи умеют держать в страхе республику, тем не менее это не армия. Таким образом, вся Италию очень скоро окажется у ног французского короля.
Гость возродился, выпрямился, высоко поднял гордую голову и с прежним презрением уронил:
— Что ж, даже если вы правы и вся Италия окажется у его ног, это мало что ему даст, тогда как...
Кардинал улыбнулся одними глазами и решительно перебил:
— Напротив, это даст ему слишком много. Именно это беспокоит меня.
Собеседник изумился, высоко подняв редкие брови:
— Даже так? Каким же образом, позвольте узнать?
У старика и на этот раз ни одна черта не переменилась в лице. Голос остался спокойным, рассудительным, неторопливым. Лишь сборчатые веки опустились совсем, скрывая блеск глаз:
— Король Карл приобретёт итальянские порты, очень важные для французской торговли с Востоком, даст голодным солдатам насытиться грабежом, взыщет контрибуцию с побеждённых и возместит все издержки, в которые ему обойдётся наш договор. Во Францию хлынут перец, ладан и пряности, а это, согласитесь, чистое золото.
Помолчав, хозяин вдруг изменился в лице и громко спросил, твёрдо глядя оксфордцу прямо в глаза, брезгливо поджимая суховатые бледные губы:
— Именно это вы именуете сумасшествием?
Тот морщился, встряхивал головой в чёрной шапочке, надвинутой на лоб, нетерпеливо перебирал худыми нервными пальцами и, едва старик смолк, заговорил напористо, быстро, тоном несомненного превосходства признанной университетской учёности:
— Перед Фердинандом у Испании серьёзные обязательства. К тому же вы сами, если припомните, так остроумно устроили соглашение о будущем браке её высочества Катрин Арагонской с принцем Артуром, из чего следует, что нам надлежит принять сторону Испанского королевства. По этой причине Испанское королевство едва захочет примириться с захватами Франции. Таким образом, поход, так убедительно нарисованный вами, как все мы тут видим, не состоится.
Мортон сдвинулся в сторону, опустил руку на подлокотник кресла и веско, неторопливо ответил:
— В политике любые обязательства имеют слишком мало цены, если наши интересы пострадают от исполнения их. Больше того, нашему Артуру только шесть лет. Стало быть, женится он ещё очень, очень нескоро.
Юноша затряс головой, негодующе вопрошая, придерживая пальцами чёрную шапочку, которая готова была упасть на глаза:
— Вы хотите, ваше преосвященство, сказать, что наш король нарушит этот выгодный для нас договор?
Кардинал оставался невозмутим:
— Разумеется, мы без промедления нарушим его, если для нас он станет не выгодным.
Гремя стулом, стиснувши кулачки, спорящий возмущённо вскочил:
— И это вы, именно вы, канцлер и кардинал, называете высокой политикой?
Старик поиграл золотым узорным крестом, висевшим на тонкой цепочке и лежавшим на сильной груди:
— Вы правы, учёный наш друг. Именно это я называю высокой политикой. Она потому и высокая, что сообразуется не с мечтами, не с бредом заносчивых юношей, а с реальными интересами, которые всегда неизменны, если имеют в виду благо не одного короля, но благо страны. Или вы, учёный наш друг, изволите понимать под высокой политикой нечто совершенно другое?
Мортон... Мортон...
Не заметив того, Мор приподнялся и сел на измятой постели, покусывая жёсткие губы, слабо ощущая волосы бороды и усов на зубах, сосредоточенно думая о своём.
Кардинал отодвигался, поигрывая крестом, однако разбуженная воспоминанием мысль потекла, наводя его на догадку, пока что неясную, глухую и смутную.
Забывая о предстоящем, уже не видя перед собой кардинала, торопился её ухватить, задержать и осмыслить, ощущая невольно, с тревожной надеждой, что от этой догадки, быть может, зависела его жизнь и его смерть.
Догадка ему не давалась, ускользала, как ни старался, как ни бился над ней.
Узник снова звал учителя, возвращался к нему, как возвращаются к истинному наставнику всю свою жизнь, и вновь расслышал рассеянный говор:
— Благодарю всех, кто не побрезговал посетить старика. До новой встречи, друзья мои, если позволит Господь. Прошу меня извинить.
Гости поднимались неторопливо, привыкнув к неожиданным сменам его настроения, вполголоса переговаривались между собой, подходили к нему, чтобы сказать несколько дружеских слов или молча проститься.
Когда все разошлись, они остались вдвоём.
Мортон ласково улыбнулся, как улыбался всегда, когда оставались одни:
— Мой мальчик, ты не устал?
С горячностью отозвался, как отзывался всегда:
— Нет, не устал, ваша милость!
Старик прищуривал озорные глаза:
— Я тоже ещё не устал.
Спрашивал с неподдельным удивлением отрока:
— Отчего же так рано отпустили гостей?
Кардинал успокаивающим движением брал его за плечо, придвигал очень близко к себе, серьёзно разглядывая его, интересуясь с чуть приметной иронией, как делал всегда, чтобы проверить его:
— Было ли нынче интересно тебе?
Ирония больно задевала, смущался, не понимая тогда, что она предназначалась в искушение, но признавался бесхитростно:
— Очень!
Наставник качал головой:
— Не привыкай к праздным беседам, мой мальчик. Это в жизни людей, может быть, главное зло. Праздность ума погубит тебя, как уже погубила этих людей.
Стремился понять смысл наставления, строго хмуря чистый лоб отрока, соображая, по какой причине то, что было так интересно, могло бы повредить.
Ласковое сожаление слышалось в негромком, но твёрдом тоне наставника:
— Боюсь, сейчас тебе этого не понять. Разумеется, жаль. Но ты запомни этот совет. Может быть, после поймёшь.
Стыдясь своей недогадливости, жестоко краснея до самых ушей, невольно пряча глаза, признавался:
— Не понимаю совсем!
Учитель улыбался задумчиво и трепал его по мальчишеской гладкой щеке:
— Всё-таки помни. Когда-нибудь ты поймёшь. Я надеюсь. Именно ты.
И медленно говорил, словно рассчитывая на то, что юноша запомнит его слова навсегда:
— Нет смысла заглядывать так далеко, как поступает учёный наш друг. В политике чересчур быстро, чересчур неожиданно меняется всё, чтобы мы могли так безоговорочно поручаться за будущее. Нынче король Карл одержит победу. Завтра будет разбит. Как нам тогда поступить? Тогда и подумаем, что выгодней Англии, а не Римскому Папе или испанскому королю.
Мор бывал до крайности взбудоражен и ласковой теплотой суховатых старческих рук, и странным загадочным смыслом недоступных неокрепшему разуму слов, и этой властной надеждой, которую явственно различал в спокойном голосе старого кардинала и канцлера.
Всё слушал, всё следил, всё искал. Иногда юная голова даже болела от чрезмерного напряжения, но уже, должно быть, не было силы, способной остановить его, удержать на половине пути; с жадностью ловил отрывочные известия, случайно долетавшие, старательно складывал их воедино, как будто играл, но уже не играл. Изумлённый и зачарованный, узнавал, что старый канцлер бывал прав, как всегда.
Король Карл в самом деле вторгся в Италию со своими голодными лучниками, арбалетчиками, копейщиками и мушкетёрами и беспрепятственно прошёл весь полуостров до самого юга. Спустя год Карл замыслил повторить столь удачный поход, однако на этот раз события сложились точно во сне, когда не находится силы в уже занесённой руке или выпущенная стрела не желает лететь. Отряды голодных солдат уже стояли у альпийского перевала, а король отчего-то медлил с последним приказом. Его солдаты пили, бесчинствовали, грабили свои же селенья, а Карл не решался двинуть войска, ибо против него к тому времени сложилась Венецианская лига.
Однако кардинала лига нисколько не удивляла. Сидя спокойно и прямо в тесном кругу самых близких друзей согревая в ладонях любимую чашу с вином, умный старик со спокойной медлительностью вслух размышлял:
— Прошёл только год, но в политике это слишком долгое время. Многое успело перемениться. Карлу следовало бы с должным вниманием пооглядеться вокруг, прежде чем двинуть к перевалам войска. А ведь дело простое. Карл, владея Италией, чрезмерно усилился. Он стал опасен для всех государей Европы. И теперь те, кто охотно потворствовал ему в прошедшем году, нынче так же охотно постараются его раздавить, чтобы потом, вполне вероятно, схватиться друг с другом. Европейские государи боятся друг друга, как в смутные времена боятся отдельные люди. Каждому намного спокойней жить рядом со слабым, а не с сильным соседом. На этот раз Испания легко договорится с германским императором. Между ними не может не сложиться союз наступательный. Тем не менее этого союза маловато для победы над нынешней Францией, сильной своими победами. Они не обойдутся без Англии, обратятся к нам, и мы обменяем свою помощь в своих интересах.
Мор и гордился тем, что на него, как с ясного неба, пало расположение столь замечательной личности, ещё не заслуженное как будто ничем, и горько страдал оттого, что так мал и плохо понимает то, о чём при нём говорят.
Мог бы замкнуться в себе, но Мортон его поощрял, и он всё осмысленней, всё горячей осыпал кардинала быстрыми вопросами, и свято верил его неожиданным предсказаниям даже тогда, когда не верил никто из гостей и никто из друзей, и застенчиво в них сомневался, когда верили все, настолько невероятным представлялось их исполнение, и уже с укоренившейся страстью следил за малейшим колебанием запутанной европейской политики.
Наблюдал, как внезапно возвратились к почти позабытым переговорам о браке испанской инфанты и английского принца, как приданое возросло до двухсот тысяч флоринов, как старый Генрих, точно заворожённый такой кучей денег, достававшихся почти даром, внезапно вступил в Венецианскую лигу.
Этого было достаточно. Король Карл поспешно вывел из Италии французские гарнизоны, распустил лучников, арбалетчиков, копейщиков и мушкетёров и отказался на этот раз от похода к заманчивым портам, через которые шли восточные пряности и шелка.
Старик не ошибся...
Обхватив угловатые колени руками, уткнувшись в них подбородком, мирно освещённый всё ещё слабо мигавшим огнём, Мор сосредоточенно размышлял о давно ушедшем наставнике и, может быть, друге, как ему стало представляться впоследствии. Долго благоговел он перед всемогуществом старого Мортона, но даже теперь, когда его жизнь тоже неумолимо клонилась к концу, ему страстно хотелось понять, в чём состояла неотразимая привлекательность учителя.
Тот одним-единственным словом часто решал и судьбу государства, и судьбы многих людей, однако руководил ли он их жизнями, направлял ли туда, куда намеревался направить? Разве менял по своему разумению самый облик эпохи, полной захватов и грабежей? Разве остановил разрушительные набеги? Разве по своему усмотрению устанавливал мир в самый разгар кровавой войны? Разве обуздывал своей властной рукой безумную ярость непримиримых врагов? Разве выигрывал битвы?
Нет, нисколько. Ничего подобного мудрый старик не совершил. Тем не менее вокруг не было никого, кто бы добился для Англии большего блага, чем кардинал.
В чём тогда состояла его несокрушимая сила? В противоборстве или в покорности состояла она? Был ли всемогущ сам по себе, собственной волей, непостижимым умом, всеми признанной властью над миром? Или силён был слабостью, добровольным отказом от власти над миром, своеобразной бесхарактерностью? Менял ли русло реки или только умело плыл по течению? Был властителем или всего лишь смиренным рабом обстоятельств?
Как ни бился, как ни напрягал свой обогащённый многолетним опытом разум, ясный ответ не давался. Заснувшее беспокойство вновь возвращалось, глухо ворча. Рождённое смутным сознанием какой-то вины, какой-то странной ошибки, пока ещё слабое обещало стать мучительным, грозным, если ответа не найдёт до утра.
Насколько, в самом деле, свободен человек на земле?
Чувствовал, что ему необходимо ответить на этот проклятый, в нашей мятущейся жизни, может быть, самый важный вопрос.
Узник устал от сомнений, от душевных терзаний, угнетавших уже много дней. Покоя и ясности хотелось ему, хотелось быть уверенным в том, что был безошибочным и разумным сделанный шаг, приблизивший гибель бренного тела, что уйдёт не напрасно.
Может быть, сила Мортона состояла в том предварительном опыте, которым кардинал постоянно гордился перед своими друзьями, в особенности перед учёными Оксфорда? Может быть, она заключалась лишь в тончайшем умении всё видеть и всё доподлинно знать?
Глава пятнадцатая ПО ВЫБОРУ КАРДИНАЛА
Мортон... Мортон...
Простившись с гостями, поднявшись из-за стола, решив кое-какие дела с подчинёнными, кардинал однажды сказал, когда они, по обыкновению, остались вдвоём:
— Тебе пора серьёзно учиться, мой мальчик.
Стоя перед ним с запрокинутой головой, от внутреннего трепета вытягиваясь в струну, уже понимая, что они расстаются надолго, может быть, навсегда, что сладостной жизни в Ламбетском дворце приходит конец, вымолвил едва слышно, запнувшись:
— Отец говорил.
Мортон сказал, держа его за плечо, направляясь в свой кабинет:
— Он желает, чтобы ты стал юристом.
Становиться юристом не хотелось. Пленённый величием кардинала, часто грезил о чём-то ином, неясном, однако до крайности важном, чрезвычайно большом. Даже надеялся втайне, что тот не отпустит от себя, что в этом очаровательном доме всё самое лучшее непременно сбудется с ним, но гордость не позволяла об этом просить, и подтвердил, уже громче:
— Королевским судьёй. Подобно ему самому.
Вступив тем временем в кабинет, весь уставленный тяжёлыми шкафами с рукописными и новыми, печатными, книгами, опустившись в своё излюбленное рабочее кресло с жёстким сиденьем, которое и после долгих трудов не позволяло дремать, кардинал протянул ему том сочинений Светония, переплетённый в красный потёртый сафьян, и с чуть приметной усталостью попросил:
— Продолжим о божественном Августе.
Охотно раскрыв эту славную книгу, до нашего времени сохранившую жизнеописания великих и несчастных правителей Рима, держа костяную закладку в руке, без труда отыскав вчерашнее место, свободно и с удовольствием заговорил по-латыни:
— «Читая и греческих и латинских писателей, он больше всего искал в них советов и примеров, полезных в общественной и частной жизни; часто он выписывал их дословно и рассылал или своим близким, или наместникам и военачальникам, или должностным лицам в Риме, если они нуждались в таких наставлениях...»
Сидя несколько боком к пылавшим свечам, прикрывши с возрастом слабеющие глаза, кардинал в неторопливой сосредоточенности его перебил, задумчиво говоря:
— Вот остроумный обычай, мой мальчик. Хорошо бы и нынче его возродить, ибо невежество наших наместников, наших военачальников, наших представителей общин...
Почтительно ждал, поражённый этой, казалось бы, само собой разумеющейся мыслью, надеясь услышать что-то более важное, но кардинал не стал продолжать.
Привыкнув уже к его внезапным, часто обрывочным замечаниям, точно наставник предлагал ему самому додумывать мысль, выждав два-три мгновения, продолжал:
— «Даже целые книги случалось ему читать перед сенатом и оглашать народу в эдиктах: например, речь Квинта Метелла «Об умножении потомства» и речь Рутилия «О порядке домостроения»; этим он хотел показать, что он не первый обратился к такого рода заботам, но уже предкам они были близки. Всем талантам своего времени он оказывал покровительство...»
Тут кардинал, не шевелясь, неподвижно глядя перед собой, задумчиво произнёс:
— Мой мальчик, одной юридической школы, пожалуй, будет мало тебе...
Тотчас понял его и привычно читал:
— «На открытых чтениях он внимательно и благосклонно слушал не только стихотворения и исторические сочинения, но и речи и диалоги. Однако о себе дозволял он писать только лучшим сочинителям и только в торжественном роде и приказывал преторам, чтобы литературные состязания не наносили урона его имени...»
Мортон едва приметно качнул головой, точно принял решение:
— Это верно, мой мальчик. Знаний тебе нужно много. Впрочем, как и всякому человеку, которому предстоит вершить дела государства и граждан. Конечно, вовсе не обязательно прочитать все эти книги, собранные здесь, но понять главнейшее в том, что успеешь прочесть. Я поговорю о тебе с мастером Джоном.
И ожидал с замирающим сердцем, что ответит упрямый отец, был наблюдателен и не мог не угадать, как трудно будет отцу поступиться своими намерения ми и как не захочется отказывать могущественному покровителю.
Всё же, поколебавшись, должно быть обуздав уязвлённую гордость, суровый отец уступил и дал согласие поместить его в Оксфорд.
Явившись туда с небольшим узелком, где лежала смена белья, нашёл среди широких ровных стриженых зелёных лужаек тёмные корпуса для учебных занятий и красные домики с островерхими крышами, рассеянные вокруг, служившие жильём для профессоров и студентов.
Из многочисленных колледжей отец заботливо выбрал Кентербери, основанный бенедиктинцами в давние времена, отчего до сих пор корпорацией руководили монахи.
В предварительный курс входил тривиум, освящённый веками, состоявший из грамматики, логики и риторики. В преподавании преобладала традиция, которая тоже складывалась веками. Согласной этой традиции в качестве доказательства истины выдвигался давний, ни в коем случае не оспариваемый авторитет, ибо всякий авторитет, как гласил опыт монастырей, служит надёжными тисками для разума и ещё более надёжной уздой для души. Должно помнить и следовать, но не искать и творить.
Скоро заметил, что эта система доказательства истины порождала высокомерие и жестокость по отношению к ближнему, вопреки заветам Христа. Все профессора и студенты, способные мыслить, неизбежно делились на два враждебных разряда. На тех, кто соглашался с авторитетом, и тех, кто имел смелость в нём сомневаться. И те, кто соглашался с авторитетом, люто ненавидели тех, кто в нём сомневался, выдвигая против него свои аргументы. Так ему понемногу открылась причина костров инквизиции и поголовного истребления альбигойцев, заговоривших о братстве и равенстве.
После вольной жизни в Ламбетском дворце чувствовал себя неприютно и одиноко. После бесед с великим кардиналом умственная пища Кентербери казалась слишком скудна. Суровый отец, опасаясь, как бы молодой, обеспеченный средствами сын не сбился с пути, тоже держал его впроголодь. Он постоянно недоедал, ходил в изношенных башмаках, а в своей каморке сжимался от холода, не имея дров, чтобы её протопить.
Что ж, он без ропота вынес лишения, да и вынести их оказалось нетрудно, так что в памяти от них не осталось почти ничего, кроме привычки ограничивать себя в еде и питье.
Его опьянил новый свет, уже зародившийся в тёмном склепе угрюмой схоластики. Этот свет исходил от Уильяма Гроцина. Прослушав курс в Оксфорде, Гроцин пустился в Италию, поселился в славной Флоренции, сблизился с образованнейшими людьми великого города и два года учился у мессера Анджело Полициано, знаменитейшего философа. После многих трудов Гроцин воротился домой и добился права преподавать греческий язык в Оксфорде, вопреки тому, что знание греческого языка почиталось там худшей из ересей.
В сумрачном Оксфорде стало тревожно. Испытанные профессора теологии то прямо, то в прозрачных намёках осуждали иноземные бредни, открывавшие дорогу свободомыслию.
Гроцин в одиночку отбивался от них.
И мужество молодого профессора, и свежесть мыслей, которые передавались им с кафедры, и поднятый недовольными шум привлекли одарённых студентов. С теологами оставались лишь те, кто не отличался способностью разумения. Вокруг Уильяма Гроцина сплотился небольшой, но славный кружок. Единомышленники, энтузиасты, друзья.
Страсти в юном братстве и вокруг него кипели ключом. Мор заглянул в это братство раз и другой. В толках и спорах, в полночных беседах, которые велись на латыни и греческом, как будто почуялась далека, но не забытая родина. И вдруг осознал, что не может жить без неё.
Так вступил без колебаний в содружество, где закончилось воспитание, начатое во дворце кардинала.
Гонимый профессор им возвестил, что новая духовность, новая мысль нынче зреет в просвещённой Италии, что она светла, возвышенна и чиста.
В чём заключалась её возвышенность, её чистота?
А в том, что в человеке она видела человека. В соответствии с этим, новая просвещённость отказалась признать существенным в определении человека неравенство имуществ, сословий и даже познаний, видела во всех людях братьев, как завещал нам Христос, учение которого к нашему времени оказалось извращённым, или вовсе забытым. Вместо всюду царившей ненависти к тому, кто верил и мыслил по-своему, философы новой Италии призывали любить всякого человека без ограничений, без оговорок, кем бы тот ни был, только за то, что это был человек. Таким образом, они уравнивали королей и шутов, вызывали сочувствие и сострадание к тем, кто не сумел или не смог вскарабкаться на вершины познания, широко распахивали перед всеми, кто желал нового света, врата своих невидимых храмов, приходили на помощь с дружеским чувством и простотой, с благоговейным восторгом повсюду распространяли новые знания и новые мысли о сущности бытия, причём каждому предоставлялась свобода мышления.
Но превыше всего те философы почитали искусство, которое церковь прежде объявила бесовским. Открыли в искусстве средоточие Красоты и Добра, и были уверены в том, что Красота и Добро, заключённые в поэмах, картинах и статуях, способны исцелять души от извечных пороков и насыщать разум верным пониманием жизни. По их мнению, в искусстве таился источник всех добродетелей, более могучий и светлый, чем посты и молитвы, ибо сосредоточенное, неустанное, повседневное чтение и созерцание красоты взращивает и укрепляет в каждом из нас доброжелательность, терпимость и кротость. В общем, чтение и созерцание красоты — это терпеливое возделыванье души, способной творить Красоту и Добро.
Превыше всего эти философы почитали словесность. Они не знали ничего возвышенней, благодатней, желанней, чем приобщение к этой царице искусств, считали необходимым вырабатывать неусыпным трудом изысканный, гармонический стиль, воспитывать в себе возвышенную привычку наслаждаться от чистого сердца каждой новой строкой, пробуждать почтительным созерцанием Красоты и Добра счастливейшую способность вкладывать душу в благозвучные рифмы или в стройную прозу, в исторические труды или в жизнеописания великих людей.
С испуганным благоговением внимал студент неслыханным речениям Уильяма Гроцина. Даже привыкнув мыслить свободно в Ламбетском дворце, поневоле робел и подолгу взвешивал каждое слово учителя и тщательно обдумывал новую мысль. И его свежий разум жадно впивался в неожиданные понятия, и молодая душа открывалась навстречу высоким стремлениям нового духа, и страшно становилось подчас, до того не вязались эти стремления и эти понятия со всем налаженным строем привычной жизни в родительском доме, и где-то в самых глубинах души медленно зрело гордое мужество первопроходца.
А профессор разрушал горячо и безжалостно, убеждая прежде всего, что достойны сожаления люди и страны, где выше слава полководцев и слава политиков, чем благородная и светлая слава поэтов, ибо подвиги во время переговоров или на поле сражений совершаются лишь ради выгоды или славы, тогда как словесность, что вдохновляет нас на соревнование с героями древности, заслуживает бескровной и потому высшей почести, заслуживает славы бессмертия, которая в большей степени жизнь, чем сама наша бренная жизнь, бредущая по колее обмана и по колено в крови.
Ибо прав был мессер Балдассар Кастильоне, когда говорил:
— Помимо добродетели, истинное и главное украшение души составляет словесность.
И так же прав был мессер Пьерпаоло Верджерио, когда смеялся над привычными пороками непросвещённого люда:
— Мы считаем мудрыми, благими и счастливыми только тех, кого таковыми почитает толпа, полагаясь не на правильное суждение, а на общее мнение. Так же и в занятиях наших мы ищем не благородного и достойного, а выгод и почестей, взыскуемых алчностью и честолюбием.
Последнее было тем, что руководило суровым отцом, тогда он в Ламбетском дворце приучился искать благородного и достойного, и его всё неотвязней тянуло к профессору, внушавшему, что это единственно человеческое стремление в жизни, всё же прочее унизительно для человека, низводя его от Бога к животному.
Они постоянно встречались в аудитории колледжа, где впервые услышал сладкие звуки греческой речи, в тихом, сумрачном, но приветливом книгохранилище, где впервые раскрыл фолианты Гомера, Софокла и Эврипида, в мастерской переплётчика, где с благоговением трудились над изготовлением книг, или в кабинете учёного, где искал истину ум, освободившийся от тисков чужого авторитета.
Почти юный профессор, двадцати пяти лет, непоседливый, беспокойный, вечно в движении, заложив руки за спину, с разгорячённым лицом, с удивлённым радостным взглядом, нестойким срывавшимся голосом убеждал не покладая рук возделывать греческую учёность, неустанно бодрствовать в добродетели, искать истинной славы и всю свою жизнь учиться затем, чтобы, в свою очередь, научить ближних своих, современников, а также потомков.
Узнал от профессора пять непременных условий для успешного хода занятий: общение с истинно образованными людьми, изобилие книг, удобное место, свободное время и душевный покой, та опустошённость и незаполненность, та высвобождённость безмятежной души, которая делает её приготовленной к наполнению мудростью.
Однако, сокрушался наставник, подобные условия редко даются одному человеку, и тогда скверно приходится слабовольным, ибо только сама сила стремления к знанию одолевает все преграды на каменистом пути.
И профессор в исступлении страсти, с невольными слезами в часто прерывавшемся голосе, иногда застывая на месте, забыв обо всём, что окружало его, повествовал о невероятном почёте, каким окружали в просвещённой Италии каждого истинно образованного человека, о всеобщем увлечении лучезарным духом античности, о всепобеждающей мощи глубоко просвещённого слова.
Лектор повествовал, как скромную келью мессера Луиджи Марсильи переполняли молодые люди из самых достойных семей, их влекло к нему стремление подражать его жизни и нравам, как в эту малую келью стекались лучшие и достойные люди, которые прибегали к нему, как древние когда-то прибегали только к оракулу.
Гроцин с улыбкой радости на лице расписывал шумный успех во Флоренции лекций мессера Франческо Фидельфи по греческой философии, а когда мессер Франческо взялся читать о божественном Данте в церкви Санта Либерта по праздничным дням, чтобы удовлетворить аппетит сограждан к словесности, его чтения превратились в триумф, не шедший ни в какое сравнение со всеми триумфами полководцев и королей.
И профессор, облокотившись на кафедру, задумчиво глядя перед собой, точно вновь увидел расписанные своды Санта Либерта, непринуждённо процитировал письмо мессера Франческо Фидельфи, как будто говорил о себе:
— «Флоренция меня радует многим. Ведь это город, в котором нет недостатка ни в чём: ни в великолепии и привлекательности домов, ни в достоинстве и блеске граждан. Прибавь к этому то, что весь город расположен ко мне. Все меня уважают и почитают. Все возносят до небес высочайшие похвалы. Моё имя на устах у всех. Когда я иду по городу, не только первые граждане, но и благороднейшие женщины в знак уважения уступают мне дорогу и так превозносят, что мне неловко за такой культ. Слушателей что ни день бывает человек сорок и даже больше...»
Но представлялась увлекательнее других целая повесть о мессере Джанноццо Манетти, который уже очень поздно, лишь с двадцати пяти лет, стал приобщаться к античной словесности, тем не менее сумел овладеть всеми из древних и новых наук в кратчайшее время благодаря редкому прилежанию и умению бережливо, как скряга монеты, распределять своё время. Только пять часов отводил мессер Джанноццо Манетти для сна, а все остальные проводил в терпеливом учении, целые девять лет выходя из дома только затем, чтобы слушать лекции по логике и философии в монастыре Санто Спирито, и запоминал всегда всё, что узнал, ибо говаривал как нельзя справедливей:
— Всем нам в конце жизни придётся дать отчёт в том, как мы употребили отпущенное нам Господом время, а ведь всемогущий Господь поступает подобно оборотистому купцу, который, дав деньги кассиру, велит пустить их в оборот и затем желает видеть, как тот распорядился.
С великой пользой употребил своё время мессер Джанноццо Манетти, и не было по всей Италии никого, кто бы убедительнее, чем он, мог обратиться к согражданам с глубокой по содержанию и совершенной по форме импровизацией.
Когда же короновался Папа Николай Пятый, он как говорили, сделался папой лишь потому, что искусней других кардиналов произнёс слово на погребении своего предшественника Папы Евгения, Флоренция выбрала из наидостойнейших граждан послом на римские торжества не кого иного, как мессера Джанноццо Манетти, и речь мессера Джанноццо Манетти слушали сто пятьдесят тысяч человек, и во всей римской курии только и говорили, что об этой восхитительной речи, и венецианская делегация тотчас снеслась с родным городом, чтобы в её состав был включён человек, способный в латинском красноречии не уступить мессеру Джанноццо Манетти.
И когда мессер прибыл в Венецию флорентийским послом, то говорил, обращаясь к дожу Франческо Фоскатти, более часа, и никто не шелохнулся при этом, и при выходе его из Палаццо дожей многие вслух толковали:
— Если бы наша Сеньория имела такого человека, стоило бы отдать за него одну из наших главных земель.
И это была чистая правда, ибо Манетти, несомненно, стоил и большего. Вся Италия знала историю, навеки прославившую его. В самом деле, это была замечательная история. К Флоренции подступал неистовый кондотьер Сиджизмондо Малатеста, и до смерти перепуганная Сеньория направила навстречу ему мессера. Долго ходили перед слабыми стенами свирепый солдат и целомудренный книжник, беседуя о новых латинских и греческих манускриптах, приобретённых Козимо Медичи Старшим. Представьте, милорды, эта беседа привела жестокого кондотьера в восторг до того, что у него пропала охота сражаться, и тиран поворотил войска свои вспять.
Завершая поучительное это повествование, профессор воскликнул с воодушевлением в голосе:
— Для народов и стран важнее всех тиранов и кондотьеров хотя бы один-единственный действительно просвещённый, действительно добродетельный, действительно мыслящий человек!
Долгие часы продолжались эти беседы, и всё-таки расставался с учителем неохотно, слушал его с жадным вниманием, которое росло с каждым днём, не давая покоя, однако не всё понимал, хотя был смышлён, не со всем соглашался. Избалованный старым кардиналом, пробовал спорить, ещё не успев освободиться от вкоренившихся представлений о том, что в жизни добро, а что зло, и бывал поражён, когда его порой остроумные, порой дерзкие возражения таяли без следа, как снежинки, едва соприкоснувшись с невероятно разносторонними и глубокими познаниями молодого учёного, в речах его то и дело непринуждённо являлись сильные, точные, неопровержимые доказательства, подкреплённые мыслями Платона и Плотина, Демокрита и Эпикура, Цицерона и Сенеки, и профессор произносил их так просто, с таким убеждением, точно они принадлежали ему самому и только что зародились в его беспрерывно мыслившей голове.
Перед этим бесконечным потоком учёности ощущал себя малолетним ребёнком и потому приходил к профессору чаще других, оставаясь с ним дольше и дольше, восхищенный глубиной его мысли, продолжая сомневаться упорно во всём, мечтая на него походить, как мечтал когда-то походить на Мортона, никогда не насыщаясь вполне слишком кратким общением с ним.
Зарывался в книги и манускрипты, подобно мессеру Манетти и десяткам других, чью жизнь, проведённую в храме философии и словесности, Гроцин то и дело ставил в пример. Едва овладев первой сотней греческих слов, едва усвоив первые аксиомы старинной грамматики, просиживал над Гомером и Аристотелем целые ночи. Всё греческое пленяло его. Целые страницы заучивал наизусть и часто клялся именем Геркулеса.
Но слишком недолго упивался греческой мудростью. Пролетели два года, как птицы. Студент ещё только прослушал предварительный курс, и отец призвал его в свой кабинет.
Со стеснённым сердцем входил всегда в эту сумрачную комнату, встречавшую холодным безмолвием и запахом сырости. Дневной свет с трудом проникал сквозь глубокие узкие окна, забранные мелкой решёткой. Кряжистые шкафы громоздились вдоль серых, давно не обновлявшихся стен. В шкафах молча темнели толстые книги, прочно затянутые в кожаный переплёт, точно рыцари в панцирь, сбросить который было не так-то легко. Несколько стульев стояли тут и там в беспорядке. Для короткого отдыха был предназначен тесный и жёсткий деревянный диван.
Суровый отец стоял у конторки, неторопливо перебирая бумаги, когда тихо вошёл и остановился почтительно возле самых дверей, страшась помешать, ожидая, пока заметят и окликнут его.
Отец, видимо, ждал и тотчас, не оборачиваясь, властно бросил через плечо:
— Довольно!
В глубине души, по правде сказать, Томас всегда это знал и в чём дело понял без промедления, но этого не хотел, не в состоянии был отказаться от наставника и оксфордской кельи, а потому, хоть и страшился гнева отца, не мог не спросить:
— Почему?
Встав к нему боком, с листом прошения в суд, испещрённым чётким разборчивым почерком, как подобало судье, неприязненно глядя мимо него, тот сквозь зубы тоже спросил:
— Кем ты собираешься стать?
Не уверенный сам, что у него достанет прилежания и ума, чтобы овладеть в совершенстве бессчётными богатствами древней словесности, первый раз в жизни возражая отцу, испуганный собственной дерзостью, насильственным голосом, с явным страхом и сдержанным вызовом произнёс, употребивши латинское слово:
— Я хочу заниматься словесностью.
Ледяными глазами мимолётно взглянув на заблудшего сына, точно не желал его видеть, вновь изучая исписанный лист, саркастически улыбаясь, отец неторопливо, раздельно спросил, как спрашивал только тогда, когда сдерживал гнев:
— Это что?
Обыкновенно покладистый, сдержанный, мягкий, Томас вдруг настойчиво, сумбурно и громко, спотыкаясь, давясь иногда новым словом, которое услышал от профессора только вчера и осмыслить которое, принять в себя ещё не успел, увлекаясь по мере того, как текла его речь, пустился пересказывать необычайные мысли молодого философа, привёзшего из священной Италии столько пленительных, великолепных идей.
Терпеливо выслушав его до конца, выжидающе помолчав, склонив голову на плечо, глядя наискось вниз, очень внимательно разглядывал худые его башмаки, стянутые давно не чищенными медными пряжками, отец поинтересовался с холодной усмешкой:
— Это всё?
Растерянно подтвердил:
— Да, это всё...
Повернувшись к конторке спиной, опершись локтями на крышку, скрестивши ноги в чёрных чулках, на этот раз пристально глядя ему прямо в лицо, отец уверенно, властно проговорил:
— Я не понимаю, что такое эта ваша словесность. Я даже думаю, что этого ты не понял и сам. Если тому, что никому не понятно, учат в вас в колледже, тем хуже, или тем лучше, вернее сказать. Разве словесностью ты прокормишь себя? Разве, владея этой будто наукой, ты сможешь ввести в дом свой жену? Разве позволишь, чтобы у неё были дети, их ведь надо же чем-то кормить? Нет, тебе не на что будет содержать дом, жену и детей. Тебе придётся ютиться весь век одному. Разве ты вынесешь полное одиночество и к тому же презрение всех почтенных людей, которые имеют честь проживать на Молочной улице Лондона?
Рано лишившись матери, тоскуя по ласке, давно тянувшийся с тайной жадностью к женщине, любящий большую семью, ясно видя, что отец прав, холодея и сжавшись, неуверенно возразил:
— У меня будут друзья...
Отец воскликнул, поджав иронически губы:
— Вздор! — И прибавил уверенно: — Без денег не бывает друзей, а за деньги друзья не надёжны. Бескорыстно любят лишь малые дети, да и то не всегда, а корыстной любви не бывает.
Оскорблённый тем, что, уже заразившись чтением и жаждой писать, был вынужден принимать неправду и откровенный цинизм, твёрдо помня прекрасные истории, рассказанные профессором в колледже, выговорил, чуть не заплакав от унижения:
— Люди и без денег станут меня уважать. Их уважение зависит от меня одного. Чтобы они уважали меня, мне надо всего лишь стать человеком.
Отец высоко поднял брови, вновь иронически усмехаясь:
— Это за что же станут тебя уважать?
Возбуждённо принялся разъяснять, как возвышенна, как благородна для всякого человека глубокая, истинная, всесторонняя просвещённость, впитавшая в себя мудрость прошедших веков, терпеливо приумноженная, однако взращённая именно ею, и не докончил, отец его перебил:
— Всё это вздор, вздор и вздор. Уважать только за то, что прочитал много книг? Такого несчастья не бывало никогда и нигде!
Запальчиво крикнул, хотя до тех пор никогда не кричал на отца:
— Это несчастье, как ты говоришь, уже когда-то было у греков. Теперь это в Италии. Так говорят!
Отец рассмеялся скрипуче и холодно:
— Возможно, у итальянцев, у греков, что нам до них? У нас уважают человека по количеству денег, земли и овец.
Шагнул вперёд и твёрдо сказал:
— Да, это так, но я не верю тебе!
Снявши локти с конторки, вставши прямо, по-прежнему усмехаясь, отец спокойно уверил его:
— Вот поживёшь на свете, сразу поверишь.
Поклялся с тревожно и громко бьющимся сердцем:
— Нет, никогда! Лучше я уйду в монастырь!
Отец властно отрезал:
— Ничуть. Ты не уйдёшь в монастырь. Я сделаю из тебя адвоката. Я так решил.
И повернулся к сыну спиной.
Глава шестнадцатая ИСПЫТАНИЕ
Мор ещё видел его сутуловатую спину, в чёрном длиннополом камзоле, с широким белым воротником на плечах, и пристально размышлял о судьбе человека.
Свободен ли человек сам избрать себе жизненный путь? Или над ним тяготеет чуждая воля? Во всём и везде? Или не во всём, не везде? Тогда где и в чём открыта возможность проявить свою волю? И в таком случае в какой мере от нас самих, а в какой мере от обстоятельств зависима наша судьба?
Его взяли из колледжа, как берут вещь, не слушая возражений, принудили учиться в юридической школе, а он не подстригся в монахи, не ушёл в монастырь, как поклялся в пылу возмущения.
Был ли безволен и слаб? Суровая ли воля отца оказалась сильнее? Здравый ли смысл победил жажду чтения и писания?
Бесспорно было только одно: учиться плохо не умел. В подготовительной школе Нью-Инн на его способности обратили внимание. Два года спустя попал в Линкольн-Инн, в школу высшей ступени, считавшуюся во всей Англии лучшей.
Изучал законы и посещал судебные заседания. Его учили, что права граждан ограждались законами и что предназначается для тех, кто эти законы нарушил, по злому умыслу или случайно. Преступники проходили перед ним чередой, изо дня в день, мужчины и женщины, молодые и старые, вовсе чужие друг другу и в близком родстве, отцы и дети, деды и внуки, зятья и тёщи, ограбленные и ограбившие, жестокие, беспощадные, бессердечные, как дикие звери, обыкновенные, не примечательные ничем, как две капли воды похожие на сновавших по улицам горожан.
Скоро увидел, что для этой нескончаемой вереницы озлобленных и ужасно несчастных людей, преступивших закон, несмотря на страх сурового наказания земли, овцы и деньги служили единственным источником жизни, единственной солью, единственным смыслом её. Владеть этими привычными ценностями жаждали все. Чем больше, тем лучше. Золотые монеты, которые носит каждый из нас в кошельке, заботливо охраняя их от воров, вернее, чем дьявол, соблазняли, влекли, манили, распаляли зависть и алчность, совращали с истинного пути честного труда и заслуженного достатка, растлевали совесть, единую в нас, порождали все слыханные и даже неслыханные пороки, сеяли смуту в сердцах, разъединяли навечно связанных кровным родством, друг на друга натравливали самых близких друзей, приносили бесчестье, страданье и кровь. Кровь и кровь без конца.
Что видел юноша перед тем, как принуждён был волей отца что ни день являться в суд? Какие беды сокрушали его? Какие несчастья закалили юную, выросшую в неведенье душу?
Безвременная кончина матери явилась тяжким, непоправимым, но единственным горем. Единственным несчастьем была суровая воля отца.
Вот и всё.
Мальчик жил в трудолюбивой, достаточной, благополучной семье и знал только честных, бережливых, в высшей степени благородных людей, которые жили своими трудами и благоговели не столько перед неумолимым законом, сколько перед высокими и справедливыми заповедями Христа.
Ни в скромном родительском доме, ни в роскошном Ламбетском дворце, ни в бедной студенческой келье не явилось даже случайно предположения, что можно украсть или убить человека из-за горсти монет, клочка земли или пропавшей овцы. Нигде не встречал ни воров, ни убийц, всего лишь изредка слышал о них, и эти люди представлялись уродами или чудовищами, похожими скорее на исчадия ада, вроде тех, что искусные мастера издавна изображали на церковной стене в назидание слабым прихожанам.
Теперь увидел их своими глазами. В действительности убийцы и воры оказались простыми людьми, без особых примет, без позорного клейма преступления.
Они сидели на скамье подсудимых или стоя выслушивали суровый, нередко губительный приговор, и ничто не говорило ему, кроме неопровержимых улик, чтобы эти обыкновенные люди могли сделать то, за что их клеймили, отправляли на галеры или на виселицу.
Он был ошеломлён и раздавлен, терял голову, с замиранием сердца наблюдая этот вседневный кошмар. Спокойно слышать не мог, когда в классе, приступая к пространному разбирательству только что прослушанных дел, обнаруживал вдруг, что зверский удар топором с неумелым сокрытием кровавых улик в неглубоком соседнем ручье представлял собой всего-навсего юридический казус, имевший классификацию и порядковый номер статьи.
Утратил покой. Может быть, навсегда. Подозрительно оглядывал встречных и поперечных. Он? Или тот? Металась и никла его беспомощная душа, возделанная античной словесностью. Ему грезилась то рука, сбивавшая камнем амбарный замок, то спрятанный за пазухой нож. Камень был тяжёлым и грязным, а лезвие страшно блестело во тьме.
В исступлении иногда бормотал, часто вслух, если оставался один:
— Скрежет ненависти повсюду. Повсюду бормотание зависти, злобы. Повсюду боготворят своё чрево и служат только ему, позабыв о душе. Ибо дьявол властвует над людьми.
Так юноша увидел несчастных, погибавших у всех на глазах, может быть, уже бесповоротно.
Несчастны бедные, когда они имеют только на хлеб или вовсе не имеют на хлеб, когда они ежечасно унижены, ежечасно оскорблены, когда сами презирают и мучат себя, когда силой обстоятельств и слабостью духа склоняются к преступлению, лишь бы избавиться от холода, голода, оскорблений и мук.
Несчастны также богатые, когда слишком много имеют, чтобы спокойно уснуть, даже забрав сплошными решётками узкие окна, когда их душит низменный страх потерять то, что излишне для человека и христианина, когда им вечно мало того, что у них уже есть, когда их алчные души разъедает тщеславие, когда жаждут иметь ещё больше и тоже в жажде своей неизбежно склоняются к преступлению.
Все несчастны, и многие, слишком многие по этой причине преступны, если не в исполнении, то хотя бы в намерении, и по этой причине ещё больше несчастны.
Все мы, решительно все, попали в магический круг. Все вертимся, лишённые собственной воли, в этом неодолимом дьявольском круге.
Все страдаем.
Страдаем нещадно.
Глядеть на эти страданья и продолжать жить как ни в чём не бывало?
Он не мог. Его нежная, мягкая, отзывчивая душа, облагороженная чтением древних философов и рассказами Гроцина, страдала за них, страдала совместно с ними, страдала, может быть, даже больше, чем страдали они, доведённые до отупения, одни бедностью, другие богатством, ибо притерпелись к порокам и преступлениям, сделали правилом грех, приучились относиться к себе снисходительно, прощая себе прегрешения ради денег, земель и овец, находя поддержку в губительной мысли о том, что все мы таковы, что так уж устроена жизнь.
Однако лично его, отца, его дом пороки и преступленья обошли стороной.
Ни во что недозволенное, тем паче преступное он не был замешан.
Как же мог привыкнуть к недозволенному и преступному, даже если бы захотел, ибо многие грешные души о тернии жизни набили мозоли, а он свежей, от крытой душой окунулся в самую мерзкую житейскую грязь.
И больно, и страшно, и зябко становилось ему наблюдать эту жизнь. В его представлении она была ненормальна, уклонилась с пути, предписанного Христом. Всё запуталось в ней. Всё было нечисто и ложно. Эта жизнь неминуемо шла к катастрофе, ибо долгое время подобная мерзость преступления и греха длиться никак не могла, должна была рухнуть, провалиться куда-то от чрезмерности прегрешений, испепелиться, исчезнуть, да и могла каждый миг провалиться куда-нибудь в тартарары.
Не ведал, каким именно способом разразится эта беда, но был убеждён, что разразится у него на глазах, если бедные и богатые не остановятся в бешенстве алчности, если не поймут погибельности её и сами не переломят себя, ежечасно, ежеминутно ставя в пример себе то, чему учил нас Христос.
А что же делать ему?
Сложить руки и ждать?
Сидеть сложа руки не умел.
Но что мог сделать в двадцать два года, не заняв положения в обществе, не приобретя ни авторитета, ни власти?
Ему нужна была помощь. Он нуждался в мудром совете.
Так после долгого перерыва отправился к Мортону.
Неуютно, тревожно стало ему в Ламбетском дворце. Гулко раздавались каблуки башмаков в опустевших покоях. Знакомая мебель была сдвинута с мест.
В глубоком молчании старый слуга провёл его в кабинет.
В любимом кресле наполовину лежал, наполовину сидел непривычного вида, ссохшийся, помертвелый человек. Когда-то спокойное, но живое лицо сделалось маленьким, желтоватым и равнодушным к земному, точно застыло, закостенело. Под глазами широко расползлись чёрные тени. Светлые глаза, вспыхивавшие когда-то страстями, острым умом, потускнели и, казалось, не видели уже ничего.
Вместо алой кардинальской мантии на нём был теперь толстый белый халат. На ручках кресла лежала доска. На доске разместились серебряные тарелки и любимая чаша всё того же вина. В исхудалой, почти детской ручонке была зажата серебряная четырёхзубая вилка. Этой вилкой старик подбирал что-то тёмное с почти полной тарелки и медленно, осторожно, неловко просовывал в тяжело раскрывавшийся рот.
Стройный юноша с бледно-розовым здоровым гладким лицом, с ржаными кудрями, волнами спадавшими на прямые, но слишком узкие плечи, выдававшие человека умственного труда, стоял почтительно перед ним и задумчиво, ласково вопрошал:
— Вам это нравится, ваше преосвященство?
Старик приподнял набрякшие тёмные веки:
— О да, насколько это возможно для умирающего.
В кабинете было всё прибрано, аккуратно, по-прежнему чисто и чинно. В воздухе, прохладном и свежем, ощущался слабый запах сладких восточных курений.
И холодно и потрясённо стало на сердце. Очевидное приближение смерти с непривычки угнетало. Время от времени по спине пробегали мурашки, теснилось в груди, и слёзы готовы были выступить на глаза, но удерживал их, понимая, что это оскорбило бы умирающего, причинило бы боль.
Поспешил поклониться с внезапной застенчивостью и произнёс, невольно понизивши голос:
— Ваше преосвященство...
Устремив остановившийся взгляд, не дослушав, старик обратился к стройному юноше тихим, но приметно окрепнувшим голосом:
— Уберите это, мой друг.
Тот ловко нагнулся, широко раскинув длинные руки, легко подхватил широкую доску-поднос, переставил на стол и громко позвонил в колокольчик, так что в мёртвой тишине опустевших покоев вдруг показалось, что бронзовый язык заскрежетал обиженно и сердито.
Тщательно обтирая серые губы салфеткой, умирающий внятно, с усилием проговорил:
— Ты давно не был, мой мальчик, а у меня теперь секретарь, он же мой воспитанник. Вот, познакомься, Джон Холт. Ты должен бы помнить его по школе святого Антония. Ты учился грамоте у Николса Холта. Так то был отец. Теперь сын составляет латинскую грамматику для начального обучения. Название, может быть, несколько странное. — «Молоко для детей».
Кое-что я просмотрел. Мне показалось недурно. Я бы хотел, чтобы вы подружились. Помоги ему тут, без меня. Ведь ты латинист.
Указав беззвучно вошедшему слуге на тарелки, густо краснея, Джон сказал торопливо, трудно дыша:
— Его преосвященство высокого мнения о ваших познаниях. Ваша помощь была бы мне крайне нужна.
Так же торопливо ответил:
— Я готов.
Мортон пошевелился и задал вопрос:
— Как дела твои в колледже?
Оторопел, ещё не зная, что память понемногу предаёт стариков, и напомнил, в тот же миг ощутив, что не надо бы было этого делать, что своим не имеющим особенной важности замечанием может причинить больному тревогу и боль:
— Я не живу больше в Оксфорде, ваше преосвященство.
Старик прищурился. Высохший рот как будто тронулся прежней медлительной скользящей улыбкой:
— И что же, твой отец теперь доволен тобой?
Устыдясь, что подверг сомнению способности великого человека здраво мыслить и на старости лет, искренне радуясь, что ошибался, разглядывая его полное внимания и смысла лицо, потирая ладонь, неловко заговорил, не находя слов, которые бы вели к делу прямо, ожидая, что кардинал, как прежде, посмеётся над ним:
— Юридические науки увлекают меня.
На этот раз Мортон не понял его, наморщил лоб, раздельно переспросил:
— Так что из того?
Поспешил объяснить, сразу перескочив:
— Наши законы слишком суровы в отношении разбойников и воров. От смертной казни ускользает незначительное число. Однако многие всё же, в силу какого-то рока, занимаются повсюду грабежом и разбоем.
Старик покачал головой:
— Люди порочны, мой мальчик. Суровость законов должна быть усилена. С этой целью ты и увлёкся юридическими науками?
Возразил:
— Вовсе нет.
Мортон поднял глаза:
— Тогда отчего?
Заговорил увлечённо, как говаривал прежде:
— Я нашёл, что подобное наказание воров и разбойников заходит за границы справедливости и вредно для блага королевства и граждан. Простая кража из-за куска хлеба не такой дурной проступок, чтобы за него платить головой. С другой стороны, никакое наказание не является достаточно сильным, чтобы удержать от воровства и разбоя того, у кого нет другого способа снискать себе пропитание. В этом отношении наши законы подражают плохим педагогам, которые охотнее бьют, чем учат учеников. В самом деле, преступникам назначают тяжкие и жестокие муки, тогда как гораздо мудрее следовало бы позаботиться о каких-либо средствах к жизни, чтобы необходимость никого не толкала сперва грабить и убивать, а потом кончить жизнь с верёвкой на шее.
Собеседник не замедлил с ответом:
— Ты заблудился, мой мальчик. В этом отношении принято достаточно мер. Существует земледелие. Существуют ремесла. Стало быть, имеются средства поддержать свою жизнь.
Это был довод всех известных юристов. Мор не нашёл, что возразить, и промолчал.
Тотчас потеряв интерес к этой теме, издавна ясной ему, кардинал ещё раз спросил:
— Так что же, тобой доволен отец?
Краснея, что, начав разговор, не сумел довести его до конца, сказал, точно желал оправдаться:
— Я всё-таки занимаюсь словесностью, читаю, пишу, и отец почти отрекается от меня: страшится, что я испорчу здоровье, ведь очень часто я провожу в этих занятиях целые ночи.
Глаза больного тревожно раскрылись:
— Он прав, твой отец. Джон что-то рассказывал. Будьте добры, напомните мне.
Резко повернув голову к ним, отбрасывая мягкие кудри со лба, секретарь с готовностью переспросил:
— О чём напомнить, ваше преосвященство?
Сцепив пальцы высохших рук, рассеянно взглядывая на них, точно что-то припоминал, покусывая губы опустевшими дёснами, старый кардинал нахмурился и подсказал:
— Нечто о молодом человеке. Какая-то рукопись. Молодой человек опасно болел.
Джон напомнил, широко улыбаясь:
— А, та рукопись? Я получил её на одну ночь. Мне пришлось перечитать её несколько раз, чтобы затвердить наизусть. Потом я решил заплатить переписчику. Скоро у меня будет свой список.
Мортон кивнул одобрительно:
— У вас отличная память, мой мальчик.
Мор чуть было не засмеялся от счастья, уловив в хорошо знакомом тоне сдержанное лукавство, всегда восхищавшее его в добром наставнике. Томас с любопытством поглядывал на того и другого, несколько раз с волнением повторив про себя, что старик-то, несмотря на преклонные лета, истощившие силы телесные, сохранял, даже перед лицом надвигавшейся смерти, незамутнённым ум и оставался верен себе.
Да, да, сомнений быть не могло. Глаза кардинала тихо смеялись.
Круто поворотившись всем телом, неловким движением уронив на пол книгу, упавшую с жалобным всхлипом, видимо, не приметив иронии в похвале своей памяти, Джон продолжал увлечённо рассказывать:
— Это латинское сочинение неизвестного автора, Автор излагает с почтением и любовью знаменитую жизнь мессера Леона Батисты Альберти, сначала юриста, потом архитектора. Больше мне ничего неизвестно.
Мортон прошелестел, не отрывая взгляда от сцепленных рук:
— Благодарю вас, Джон. Это всё, что мне было нужно от вас.
Холт поспешно поднял упавшую книгу, с виноватым видом разглаживал помявшиеся листы, держа её у себя на коленях, и с недоумением посмотрел на кардинала.
Старик продолжал едва слышно, напрягая ослабевший, надтреснутый голос:
— В твоём, кажется, возрасте, Томас, этому Альберти недоставало ума почаще отрываться от книг, он забывал о сне и даже о голоде, так что буквы начинали плясать перед глазами. У тебя, надеюсь, пока что этого нет?
Любуясь спокойным, сосредоточенным, милым лицом, угадывая, какая тревога в самом деле таилась в любящем сердце, весь обмирая от бесконечной доброты, благодарный, ответил, стараясь казаться весёлым и твёрдым:
— Разумеется, нет!
Искоса взглянув на него, кардинал вдруг с лёгкой завистью произнёс:
— Молод был этот Альберти, сущий младенец.
Поймав затаённо-тоскующий взгляд, угадав, какая трудная, быть может, мучительная борьба велась в этой стойкой душе с немощью старости, не желавшей смириться с медленно подступавшим неизбежным концом, дивясь его спокойному мужеству, не представляя себе, чем помочь, без цели, но бодро спросил:
— Сколько же было ему?
Мортон ответил с радостью и как будто с упрёком:
— Почти как тебе. Ведь я уже говорил.
Поглаживая тугой переплёт, точно просил у книги прощение, Джон подтвердил:
— Кажется, двадцать четыре.
Долго сгибаясь вперёд, непослушными пальцами поправив полу халата, почти неприметно подчеркнув любимое слово, кардинал то задумчиво, то взволнован но продолжал:
— Видно, от природы этот Альберти был юношей здоровым и сильным и ещё укреплял своё тело, как должно... — Тут прервал себя и неожиданно громко спросил: — Вот скажи, как высоко ты подбросил бы яблоко?
Томас тоже спросил, удивлённо, растерявшись от неожиданности:
— Зачем бросать яблоки?
Кардинал покачал головой:
— Я так и знал, что ты не послушал меня, а этот Альберти зашвыривал яблоки выше самого высокого собора Флоренции, а они, как меня уверяли, достаточно высоки.
Помолчал и подчеркнул назидательным тоном, точно он снова был мальчиком и пажом:
— Всё-таки и это занятие его не спасло. Мальчишка досиделся над своими книгами до того, что голова у него кружилась от слабости, имена близких забывал, в ушах шумело, желудок болел. Едва не уморил себя этот учёный глупец.
Томас понял намёк, улыбнулся и решился напомнить:
— Альберти прожил семьдесят лет.
Кардинал с презрением уточнил:
— Всего шестьдесят семь или восемь, и то лишь потому, что вовремя взялся за ум. Так что, мой мальчик, твой отец прав: ты тоже погубишь себя.
Мор улыбался всё шире:
— Кто слишком много спит, тот понапрасну теряет бесценное время, данное нам. Жизнь коротка, и надо спешить, чтобы возвыситься духом, а кто мало спит, тот пренебрегает внешним и суетным.
Джон горячо подхватил:
— Так будем усидчивы!
Больной с трудом повернулся к секретарю:
— Что вы сказали, мой мальчик?
Джон смутился:
— Ваше преосвященство, это не я, это мессер Альберти в той книге сказал.
Распрямляясь в кресле, как бывало в прежние годы, развернув грудь, с тенью прежнего гнева в оживших глазах, умирающий возвысил слабый голос:
— Такой усидчивостью вы насилуете природу, а природа не терпит насилия!
Томас возразил:
— Природа бросает в нас семена, а что из них вырастет, зависит от наших усилий.
Кардинал поморщился и ещё громче сказал:
— Если усилия будут чрезмерны, ничего хорошего не произрастёт. Всё излишнее приносит нам вред.
Мор засмеялся:
— Справедливо! В Оксфорде отец держал меня впроголодь, и за это я благодарен ему.
Тогда Мортон внезапно спросил, ещё раз хмуро взглянув на него:
— И ты, мой мальчик, смирился с тем, что тебя взяли из Оксфорда?
Расслышал в этом вопросе скрытую боль, нагнулся и ласково тронул холодную руку:
— Конечно же, нет. Всем королевским сокровищам я предпочёл бы образование, но образование, соединённое с добродетелью, ибо образование само по себе, не соединённое с доблестью духа, ведёт человека к тщеславию и часто к позору. Суровость отца предотвращала меня от пороков и праздности, избавляя от опасных для души наслаждений, которые так нравятся нашему телу.
Кардинал покачал головой:
— Счастье добродетели не только в лишениях, не только в неустанных трудах. Счастье добродетели больше всего как раз в наслаждении.
Мор стал серьёзен, в душе проснулось упрямство, унаследованное от отца, возразил:
— В наслаждении также счастье скота, ибо лишь разум, погруженный в познание истины, охвачен таким удивительным наслаждением, которое превосходит все иные, привычные наслаждения человека, а утехи любви, публичные бани, вино ускоряют дорогу в ад. По этой причине я пришёл к вам спросить, не эти ли скотские наслаждения тела мешают людям жить, как живут братья, и любить друг друга по слову Христа?
Мортон, потянувшись с трудом, взял его руку в свою и слабо пожал её своей доброй, но холодной рукой:
— Я слишком стар, чтобы прямо ответить тебе. Может быть, я слишком устал. Верно, мне пора уходить, освободить место для молодых. Вероятно, молодые уже видят дальше и лучше, чем я.
Ответил жарким пожатием, собираясь сказать, как всегда говорят, что тот достаточно бодр, что по этой причине ещё слишком рано думать ему об уходе, но кардинал, раздвинув сухие губы в слабой улыбке, его перебил:
— Не утешай меня, полно. Уходить не так страшно, как видишь. Исполнены труды мои. Я сделал, конечно, не много, но не потому, что всегда крепко спал по ночам. Вовсе нет. Об этом узнаешь когда-нибудь сам. Скажу только, что в юности мечталось о большем. Утешаю себя только тем, что служил благу Англии как умел. Благу Англии прежде всего. Ради этого я охотно отсрочил бы смерть.
Пытаясь ободряюще улыбнуться, пряча влажные глаза, припал губами к холодной руке, и наставник, высвободив её лёгким движением, провёл по его волосам:
— Вот видишь, мой мальчик, не прежние годы, устаю говорить.
Отшатнулся невольно, заметив, как грудь больного высоко поднялась и опала, глаза стали угрюмыми, голос заколебался, но, к счастью, остался ясен и твёрд:
— Я тебя, мой мальчик, любил. Любил как отец. Любил также Англию, которой служил. Больше всего любил жизнь. Хочу верить, что со временем и ты разглядишь, как прекрасна жизнь даже в безобразии, в уродстве. Надеюсь, это открытие спасёт тебя от уныния, ибо всегда можно что-нибудь сделать. Разумеется, не всё из того, что задумал, когда был молодым. Но сделать что-нибудь можно всегда. Ты мне поверь, ибо мне удалось прекратить гражданские смуты и наполнить казну. Хочу верить, что ты пойдёшь дальше меня. Так должно быть.
Прикрыв глаза, долго молчал, и Томас сказал пришибленным голосом:
— Я хочу сделать хоть что-нибудь, но не вижу, куда мне идти.
Глаза умирающего в то же мгновенье раскрылись и опалили его прежним огнём:
— Я хочу, чтобы со временем заменил меня ты. Очень жаль, что в Оксфорде удалось тебе мало пробыть, ведь в нашем деле зависит почти всё — если не всё, — от познаний, от их разнообразия и глубины.
Со сдавленным сердцем, не представляя, как ему быть, боясь своим несогласием огорчить старика, решился успокоить его и неопределённо сказал:
— Ради познаний я и не сплю по ночам.
Наставник насупился и перебил раздражённо:
— Ваша словесность погубит тебя, ибо словесность, древняя или новая, всё равно, распаляет воображение, а ты и без неё слишком много и пылко мечтаешь, это я заметил давно.
Зачем-то поспешил оправдать своё увлечение, хотя не видел в этом нужды:
— Ещё тогда, когда я был ребёнком, я слишком часто оставался один.
Склонив голову, сложив руки на животе, кардинал медленно продолжал, точно не слушал его, а вслух размышлял, может быть не подозревая об этом:
— Ты слишком горяч. Можешь увлечься мечтами. Тебе бы надо заняться историей. Только занимаясь историей, можно понять, что истина и добро, не нами открытые, известные людям с древнейших времён, не исцеляют человечество сами собой. Мир изменяет только политика. Понемногу, но изменяет. По этой причине государственный человек должен быть добродетельнейшим и просвещённейшим из людей.
Томас не собирался становиться государственным человеком и нерешительно возразил, для чего-то оглянувшись на Джона:
— Политики редко сомневаются в том, что стремятся к добру, но чаще всего изменяются в худшую сторону.
Мортон беспокойно пошарил рукой, судорожно схватил подлокотник кресла, пытаясь, должно быть, подняться, этого сделать не смог, обессилел мгновенно и прикрыл вновь глаза, застывшие от сознания слабости, и голос его едва шелестел:
— Ты прав, мой мальчик. Ты прав. Государственный человек обязан быть внимательным и осторожным. Это запомни. Делать следует только то, что созрело. Мечтать хорошо по ночам, пока молод. При свете дня необходимо забывать о мечтах. Не торопи яблоню. Она зацветает весной, а плоды даёт только осенью... только осенью... да...
Мор же сказал:
— Яблоня давно отцвела, но вместо плодов на ней завязались пороки.
Кардинал ответил прерывисто, быстро:
— В своих делах будь честен, мой мальчик, будь добр, как завещал нам Христос, как ты есть по природе своей. Но Христос никогда не занимался политикой, и потому, может быть, политика стоит вне морали. Политика признает только то, что полезно. В государственных делах не уместны ни честность, ни доброта. По этой причине, мой мальчик, я и страшусь за тебя. Ты слишком добродетелен для нашего дела, а наше дело сурово, гадко, грязно порой. Убей, если это пойдёт государству на пользу, обмани, подлог соверши, если этого требует государственный интерес, или близко не подходи, не берись: и дела не сделаешь, и совесть замучит тебя.
Тогда прямо сказал:
— Я не хочу заниматься политикой!
Старик даже не взглянул на него и продолжал шелестеть:
— И я не хотел, я это помню. Я постригся и только церкви мечтал посвятить всю жизнь. Беда наша в том, что выбираем не мы. Когда-нибудь и у тебя не останется выбора, если тебе дорого благо отечества, а над отечеством нависнет беда. Очень скоро, по-моему. Ведь ты уже приближаешься к ней, ибо не умеешь оставаться равнодушным, когда видишь преступление, зло. Ты не способен с безразличием затворника наблюдать, как мир погрязает в пороках и воровстве. Если внимательно разобрать, безразличие затворника не меньший грех, чем грехи людей государственных, может быть, даже больший. Мне всё-таки верится, что ты не останешься сидеть сложа руки над книгами, как приходится сидеть теперь мне, когда мои руки стали бессильны, непослушные, старые. Вот если бы... но я хочу верить, мой мальчик.
Лоб умирающего покрылся испариной, лицо побледнело, голос прерывался, становился чуть слышен:
— Ко мне больше не приходи... В твои годы не стоит смотреть на последние дни... Время придёт — наглядишься ещё... Ты помни: мы не вольны поступать так, как нам хочется... и лучше тогда забывать... о добродетели... поневоле станешь суров... да... суров...
Глава семнадцатая В ТУПИКЕ
Ушёл со страхом и жалостью, с беспомощной головой.
Наставник его запугал.
Искал ясности в Ламбетском дворце, но тяжёлый вопрос так и остался тяжёлым: что избрать, по какой дороге пойти?
Ответа не нашёл. Пока что его обязанностью было сидеть в зале суда, сидел, и каждый день дарил его новыми преступлениями.
Всё острей ощущал, что в самом деле бессилен, ничтожен и мал перед лавиной порока и зла. Совесть терзала его, как предрёк старый канцлер. Совесть винила в бездействии, а действие представлялось немыслимым: что бы он мог совершить?
Обратился за помощью к Господу, изнурял себя постом и молитвой, в жажде очиститься от сомнений в людях, умолял вразумить неразумного, вопрошал, отчего земная жизнь того, кого сам Господь наделил разумом и совестливой душой, превратилась в клоаку бесстыдного смрада. Ждал указания, искал прибежища и утешения.
Стоял заутрени и обедни то в соборе Святого Павла, то в соборе святого Лаврентия, зачастил в монастырь и подолгу оставался между молящейся братии.
В странно клубящейся тишине торжественно, грозно лилась зовущая к покаянию проповедь настоятеля. Хор иноков, мерный и гулкий, то сурово, то ликуя вторил ему. Грозно рокотали трубы органа, и всё утопало в этом тоскующем рокоте.
Тогда измаянная смутой душа омывалась слезами. Само собой прерывалось терзание беспомощной мысли. Неприметно, безбольно лёгким паром уплывали сомнения. Покрывалось туманом забвения смрадное гноище грешного мира, которое только что отравляло, доводило до отчаяния.
В обновлённой душе оставалось одно благодарение Господу, всеблагому и милосердному, принимавшему без упрёка, без наказания чистое покаяние слабого духом раба своего, с поразительной добротой разрешавшему от тяжкого бремени житейских тревог.
Уже не хотелось покидать чудотворные стены, чтобы возвратиться в стан преступных и алчных, ненавидящих, поедом заедающих ближних своих. Уже был готов с просветлённой молитвой душой затвориться в них навсегда.
С лёгким сердцем, переполненным ликованием, бродил по окрестным рощам, лугам, вдали от пыльного шума, вдали от безобразий и гнусностей города. Ему грезилась новая жизнь, протекающая в чистоте и в покое.
Эту безмятежную жизнь посвятит разрешению величайшей из тайн: почему, невзирая на страх жестокого и жесточайшего наказания, преступлений против жизни и собственности совершается с каждым днём больше, и с каждым днём меньше становится честных людей.
Томас знал, где искать. Там, затворившись в каменной келье, изучит древние манускрипты, Священное Писание и творения первых философов, учения первых христиан и жития первых святых. В тех манускриптах, в тех учениях и житиях непременно отыщет исцеляющие душу ответы.
Обязан, должен искать.
Ещё только готовясь начать свой подвиг познания, понемногу знакомился с монашеским бытом. Его узнавали, как только вступал за ограду, встречали поклонами и тихими словами привета, молча благословляли, если не хотел говорить, давали советы, если спрашивал их.
Преображался среди братьев чистых, безгрешных, как представлялось ему, ничем не запятнанных ни перед Господом, ни перед людьми. Всем сердцем полюбил преданных служителей Господа и тайно завидовал им, ибо их жизнь себе поставил в пример.
Юноше особенно нравился один старый монах со вздутой щекой и выбитыми сбоку зубами. Монах сновал с суетливой поспешностью, с покорной готовностью глядя на всех. Порыжелая ветхая ряса мешком висела на широких плечах, и бывал он бос от ранней весны до самого зимнего холода.
Часто встречал монаха в лесу, где тот усердно молился, укрывших от всех остальных. Его самого манила прелесть одинокой молитвы, и в этом бедном монахе чувствовал самого близкого, самого сердечного брата. Тянуло хоть раз подойти, преклонить рядом с ним колени на пожухлой осенней траве, чтобы вместе помолиться Всевышнему, помолиться славно и горячо, всей душой, но что-то мешало, может быть, деликатность, опасался спугнуть, помешать, застывал, случайно набредя на него, старался оставаться не замеченным.
Однако чуткий монах примечал его сразу, как будто видел склонённой спиной, испуганно поднимался с колен и торопливо исчезал в глухомани, словно провалившись куда-то. Потом стал привыкать, оставался на месте, прекращая всё же молиться, делая вид, что собирает грибы. Потом разговорились с братом Джеромом и нередко вместе возвращались в обитель, шагая через луга по узкой тропе.
Бабье лето уже отсняло. Стояла ядрёная чистая осень. Свежий воздух до того был прозрачен, что становился невидимым, так что сквозные неоглядные дали открывались ясно и близко, словно всего в двух шагах. Начинало слегка холодать. Подсыхала земля. Мелкие лужицы иногда белели ледком.
Брат Джером шёл босиком. Неправильное лицо оставалось суровым и сумрачным. Глухие глаза были поставлены близко, как близнецы. На голове нечёсаной гривой спутались грязные волосы. Посреди гривы, смуглая от загара, глядела в небо тонзура.
Держась несколько боком, трогая грубый рукав его рясы, рассказывал брату Джерому с удивлённым счастливым лицом, сам ощущая это выражение необыкновенного счастья, какое великое чудо свершилось в его измученной, потрясённой душе, как близки и дороги ему эти люди, добровольно оставившие суету и раздор, покинувшие дома и земли, не имеющие ничего своего, посвятившие себя служению Господу, возвышенные этим служением, очищенные верой своей, сроднившиеся, как древние Кастор и Поллукс.
Сосредоточенно оглядывая молчаливое стадо и старательно убранные поля, не выбирая грязными босыми ногами дороги, брат Джером отозвался шепеляво и тонко:
— Нынче хорошо уродилось, и травы случились, и хлеб, а с братьями сравнил нас напрасно, не гоже, не туда своротил.
Спросил не без робости, не понимая его, стыдясь, что обидел святого слишком лестным или вовсе непонятным сравнением:
— А что, разве это не так? На земле ещё что-нибудь есть тесней и дороже такого родства духа и душ?
Отвечая ему, брат Джером поинтересовался отрывисто, не повернув головы:
— Я наблюдаю, ты недавно у нас?
Виновато сознался:
— Не очень давно, но хотел бы остаться совсем, навсегда.
Брат Джером засмеялся каким-то лающим смехом, пряча зазябшие руки в просторные рукава:
— Не видя явного, не говорю об изнанке.
Торопливо соображая, в какую нелепость тут угодил, поёживаясь невольно, точно тоже от холода, дружелюбно посетовал:
— Темно говоришь. Я тупее пестика перед твоими словами. Настоящий чурбан.
Брат Джером подивился негромко:
— Так вот оно что!
Повторил:
— Как в дождливую ночь.
Споткнувшись о кочку, болезненно сморщась, попрыгав на левой ноге, монах внезапно спросил:
— И гладко говоришь по-латыни?
Застенчиво улыбнулся:
— Говорю как могу.
Не глядя по-прежнему под ноги, резко кивнув на близкие уже монастырские стены, Джером бросил, неторопливо и глухо:
— В этом доме братьев свыше двухсот, однако будь проклят я, коли отыщется хотя бы парочка истинно дружных между собой, братьев истинных во Христе.
Прибавляя шагу, желая заглянуть в его глухие глаза, осторожно возразил:
— Не так явно, по-моему, как ты говоришь.
С преувеличенным вниманием глазея по сторонам, протиснув ладони в рукава рясы до самых локтей, собеседник согласился сквозь зубы:
— На молитве все братья, как есть. Правда твоя.
Теряясь, плохо веря, однако ж в его голосе улавливая застарелую боль, сбитый с толку именно этой непридуманной болью, с тревогой и любопытством спросил:
— Почему не уходишь отсюда?
Брат ответил загадкой:
— Ведь это ты говоришь по-латыни.
После этой беседы, внезапно оборванной у самых монастырских ворот, повнимательней стал приглядываться к тем людям, что именовались братьями во Христе, и в самом деле, понемногу явное приоткрылось ему, а спустя немалое время различил в явном изнанку, и открытие было невозможным, чудовищным.
Простые люди, которых наблюдал в зале суда, убивали и грабили не из любви к преступлению. Изверги попадались, конечно, однако изверги бывали редкостью. Большинство преступало суровый закон из зависти, из алчности, из нужды, в порыве тёмных страстей или в силу невежества. У одних не было насущного хлеба для себя и детей, другие не ведали нравственной жизни, принимая неправедный путь, ведущий к достатку или богатству, за единственный в жизни, как несомненное добро для себя и детей. Несчастных привлекали к суду, и они большей частью сполна отбывали своё наказанье.
Обитатели келий открывались иными. Они не страдали от унижения, не знали нужды. Истина праведной жизни, противоположность между злом и добром была им открыта. Больше того, монахи повсюду восставали на зло, громко бичуя его, проповедовали добро везде, где могли. Превозносили справедливость и равенство, отзывчивость сердца и доброту, любовь к ближнему и всеобщее братство между людьми. Осуждали насилие, невежество, алчность, подкупность и ложь. Клеймили злоупотребление, вымогательство и обжорство. Проклинали стяжание, пьянство, разврат. Угрожали чистилищем всем, кого обличили в грехе.
Не наказывали и не обличали только себя, хотя, как видел, заслуживали стократного наказания и обличения именно потому, что ведали, что есть зло и что есть добро.
Проклиная пьянство, обжорство, разврат, обжирались и упивались и соблазняли многих женщин окрест. Осуждая алчность, подкупность и ложь, скапливали большие богатства, любили злато, продавали церковные должности, как хлеб или шерсть, брали мзду и сами давали высшим властям, устремлялись на высокие должности, нередко прибегая к предательству и обману, понося всех тех, кто оказывался у них на пути, или убирая неуступчивых с помощью силы.
Невежество многих открылось неописуемое: не читали даже тех книг, которые сами объявили священными, а прочие запрещали читать и другим, объявляя те книги греховными или преступными; не ведали, в сущности, ни о чём, зато обо всём на свете имели суждение и право суда.
Объявляли гордыню тяжким грехом, однако себя почитали праведнее и чище всех остальных. В их душах не обнаружилось ни святости, ни благочестия, ни бескорыстных поступков, ни сердечной любви. Лицемерие и обман, жестокость и зло, несправедливость и ханжество, бесчестье и духовная нищета под видом пастырей, наставников душ.
Ужас египетский и кромешная тьма. Ведая истину, топтали её. Поставленные учить, извратили священное слово Учителя, приспособив его к своим житейским, низменным нуждам. Призванные служить нищим духом живым примером добродетели и нравственной чистоты, сами погрязли в пороке, в грехе. Затворившись за монастырскими стенами во имя утверждения братства между людьми, оказывались недружелюбнее тех, кто оставался за стенами; бывали подчас отвратительны, гадки, но повсюду кичились своей непорочностью, которая им не далась.
Кому и чему служили? Какой подавали пример? Куда вели тех, кто слепо верил, будто истина с ними, у них? Какой непоправимый урон наносили столь благородному, столь достойному делу братства, любви и добра?
Томас обомлел, слушал лекции в Линкольн-Инне, часами просиживал в зале суда, выучивал от слова до слова гражданское и уголовное право, стоял на молитве, читал древних классиков и сам понемногу писал, однако всё сущее становилось хладно, мертво, безразлично ему. Цель жизни как будто с каждым днём прояснялась, становилась всё очевидней, а дорога к ней глохла, путь зарастал крапивой, репьём.
Глава восемнадцатая БРАТСТВО
Воспоминания отвлекли. Но как только дошёл до невыразимых страданий тех дней, Мор безотчётно и властно отодвинул их от себя.
Ему было необходимо надолго забыть о том, что предстояло ему, и прежние муки, терзавшие прежде душу и ум, были теперь ни к чему.
Уже своей волей вызывал в памяти прошлое, тайным чутьём выбирая счастливое, светлое, поспешно забывая о том, что помнить нынче представлялось ему не по силам.
Узник вновь прилёг на постель и закинул руки под голову. Ему отчего-то стало уютно, тепло. Слабый свет не дрожал. Темнота по углам не пугала.
Припомнился один парадный обед, устроенный кем-то из отцов города, кажется, мэром. На тот обед, разумеется, пригласили отца, который был королевским судьёй, а он оказался там лишь в качестве сына.
После первых непременных, скучных речей сделалось, по обыкновению, шумно. Столы ломились от лакомой снеди. Слуги, безмолвно встав за спиной, подливали в чаши вино. Здоровые, крепкие горожане с розовыми щеками вкусно ели, с удовольствием пили, всё чаще обращались к соседям с вопросом, с замечанием к месту, с непритязательной шуткой. Пьяных, разумеется, не было за столом, однако голоса час от часу становились всё громче, а смех всё развязней и веселей.
Его посадили рядом с незнакомым голландцем. У незнакомца было умное, тонкое, впечатлительное лицо, а в глазах беспрестанно сменялись то неожиданная печаль, то странное, точно бы детское озорство.
Подставляя чашу слуге, сосед сказал по-английски, довольно сильно ошибаясь в произношении:
— Дешёвое бы было вино, когда бы все пили, как ты.
Поддаваясь общему настроению, весело ответил на чистейшей латыни, ей он старательно обучался у самого Марка Туллия Цицерона, пристально читая и перечитывая многие трактаты и речи:
— Напротив, оно было бы дорого, если бы все пили так, как пью я: ведь я пью ровно столько, сколько мне хочется.
Сделав несколько длинных глотков, блестя влажным ртом, голландец с удовольствием подхватил латынь, которая знакома была ему много лучше:
— С детства у меня болят почки, так одна старуха в Италии посоветовала пить побольше вина, а ты, я смотрю, происходишь от Ромула, если отвечаешь, как он.
Смеясь шутке, зажигаясь тем, что незнакомец, к его удивлению, верно понял его, отозвался легко и свободно:
— Я происхожу от судьи.
Сосед слегка отстранился, оглядел, делая вид изумления, и важно спросил:
— Разве английские судьи не пьют?
Засмеялся, негромко и радостно:
— Если не судьи, то дети.
Незнакомец размеренными глотками допил до самого дна и вновь подставил чашу слуге:
— До сей поры мне попадались только пьющие дети, даже если судья всю свою жизнь пил только воду, и я полагал, что эта привычка передаётся у них по наследству.
Сказал, кивнувши на полную чашу:
— Я вижу, твой отец оставил тебе солидное состоянье.
Придерживая чашу, чтобы слуга не пролил мимо вина, голландец озорно подмигнул:
— Едва ли это отец. Говорят, что отцом моим был служитель Христа.
Поднял руку, сделав испуганное лицо:
— И тебе попадался непьющий прелат?
Мужчина шутовски огляделся по сторонам, пригнулся к самому уху и доверительно прошептал:
— Одного видел. Правда, в гробу. В гробу он не пил. Только нос у него так и не смог побелеть.
Тогда спросил, изображая горячее любопытство:
— Сколько часов прошло после печальной кончины прелата?
Блестя одними глазами, собеседник ответил серьёзно:
— Целых два дня!
— Покачал головой и укоризненно произнёс:
— Надо было подождать хотя бы неделю. Это был такой редкий случай в истории медицины, а ты его упустил!
Незнакомец оросился хорошим глотком и воскликнул:
— В другой раз клянусь быть умным, как ты!
Сурово спросил:
— Разве ты так уверен, что явление, столь непонятное, повторится ещё раз?
Голландец пришёл в неподдельный восторг:
— Ты или Мор, или никто!
Улыбаясь ему, ответил:
— А ты или Бог, или дьявол, или Эразм!
Вскоре они оставили затянувшийся пир и долго, в сопровождении слуг, освещавших им путь фонарями, бродили по городу, петляя по узеньким улочкам, не в силах расстаться, вызывая подозрение стражи, своим появлением нарушавшей время от времени тишину. Ночь была тёмной и влажной. Эразм рассказывал своим мягким наполненным голосом:
— Моё детство прошло в Роттердаме. Я рос без отца. Мы жили с матерью в небольшом, стареньком, низеньком доме.
Мор отозвался на это, стеснительно отвернувшись:
— Всё же у тебя была мать.
Внезапно встав перед ним, заглядывая в лицо, должно быть, плохо видя в темноте, потому что и сам он лишь смутно угадывал бледный овал с провалами глаз и жест изумления взволнованной тоже бледной руки, Эразм тронул его за плечо и приглушённо спросил:
— А что у тебя?
Его откровенность была так внезапна, что тотчас о ней пожалел, но уже через миг ощутил, что искренность сближает его с этим чрезвычайно изящным, слишком даже изысканным человеком, о котором до него доходили самые разнообразные толки, и обронил неохотно и кратко:
— Да, она умерла.
Нервно, слишком неровно шагая, покачиваясь на высоких изогнутых каблуках, часто касаясь его плеча в городской тесноте, то сжимая, то разжимая длинные пальцы, Эразм выговорил звучно и страстно:
— Тогда ты поймёшь, как я любил её, не имея отца! Я любил её, только её, единственную, любил беспредельно, любил исключительно, требовательно, порою капризно, я тиранил её! У матери тоже не было никого, только я, и она сносила эту любовь, как подарок судьбы, а подчас, возможно, и так, как несчастные сносят галеры. Она вся испуганная была, с потупленным взглядом, всё как будто ожидала беды, опасалась всего. Наденет мантилью, потупит голову, накрыв её капюшоном, смотрит в землю, жмётся к стене, сторонится, торопится закончить дела, и тотчас домой, как в нору. Соседи смеялись над ней. Мать с ними не зналась и меня от них берегла. Я был подвижный, хотелось бегать, камни бросать, а она нежно гладит по голове, жалобно говорит: «К ребяткам-то не ходи, задразнят тебя, у крылечка играй». Я играл у крылечка и жил от всех в стороне. Должно быть, за это мне всё и прощала, и капризы и озорство, избаловала, занежила, заласкала. Очень было мне с ней хорошо!
И завидовал Томас этой неиспытанной неге, и содрогался, вдруг угадав, какой невозвратимый болезненный след могла эта бездумная ласка оставить в но опытной детской душе, и жутко становилось ему от предчувствия, что впоследствии могло приключиться с этой без смысла, без умысла изнеженной детской душой, не принадлежи она блестяще одарённому человеку. Стало неловко от неожиданной откровенности, а Эразм стеснённо вздохнул, весь разом поник, и даже мягкий голос упал, так что нелегко было слова разбирать:
— Умерла она рано. Я остался один.
У него сердце дрожало от приступа сострадания, ещё оттого, что тоже рано остался без матери, с суровым отцом, который никогда его не ласкал, и негромко спросил, как будто это имело значение, спотыкаясь, неловко сбиваясь с ноги:
— Много ли было тебе?
Встряхиваясь, свирепо глядя перед собой, Эразм ответил с неожиданной злостью:
— Мне было двенадцать, и больше в жизни моей не было ничего! Я не знал, что мне делать, чем и как жить! Я, конечно, уже говорил и писал по-латыни, как римлянин, но за это уменье никто не взялся кормить. Жизнь устроена так, что все пути заказаны незаконному сыну. Мирские пути. Все мирские пути для вознесённых судьбой. Тому же, чей отец неизвестен, у кого в кошельке ни гроша, тот сброшен в самую грязь, тот на каждом шагу оплёван и оскорблён. Равны мы лишь перед Господом, и я тринадцати лет ушёл в монастырь. Ещё ничего не узнав, ещё не изведав по-настоящему сладости жизни.
Этот взрыв оскорблённого чувства, казалось, разъяснил всё. Внезапно, с острой болью в душе представил себе, сколько унижений, сколько нужды пришлось испытать болезненно-хрупкому человеку, сколько ненависти, сколько отчаянья было накоплено им, как жестоко все чувства были изломаны ещё в невинном ребёнке обыкновенной несправедливостью неразумно устроенной жизни, как всё исстрадалось и спуталось, чтобы не утихнуть и не распутаться уже никогда. Понял этого человека и стал его другом.
Ранимость и нежность, слабость и ум, изящество и гордыня, искренность и лукавство, сила и робость, озлобленность и любовь, эгоизм и возвышенность, скромность и честолюбие, способность прощать и ненависть ко всем, имеющим власть. Не равновесие духа, присущее высшим натурам, высшим умам, а вечная схватка противоположных страстей.
И припомнил своё детство в обеспеченном, уважаемом доме, старого кардинала и Ламбетский дворец, и собственное сиротство показалось ничтожным, как ещё более ничтожными представились и лишения студенческих лет, и жестокая воля отца, избравшая для него безрадостный путь. И стыдно, мучительно стыдно сделалось перед Эразмом ему, и полувнятно сказал:
— Вот видишь, я тоже готовлюсь дать обет послушания.
Схватив его порывисто под руку, прилаживая свой шаг, Эразм воскликнул, громко и с жаром:
— Отлично!
Ощущая сквозь лёгкий летний камзол острые грани красного камня, вделанного в перстень тончайшей работы на среднем пальце Эразма, невольно сбиваясь с ноги, от чистого сердца признался:
— Целые ночи провожу в молитвенном бдении, однако всё ещё не решил, как же мне поступить.
Сжимая его руку цепкими пальцами, беспокойно смеясь, Эразм посоветовал, внезапно сделавшись настойчиво нежным:
— Надо, очень надо пойти! Покой и свобода в обители! Свобода, покой, которые необходимы для пристального знакомства, для ликующего, сердечного изучения греческих классиков и подлинной, неподправленной, безошибочной Библии, этих двух нетленных источников мудрости! Покой и свобода, которые всецело отдаются познанию! В этом мире покой и свобода исчезли давно, их обретаешь, лишь окружившись оградой из камня. Ради покоя, ради свободы, поверь мне, многое, что есть за оградой из камня, можно стерпеть!
Ласка нежности, им ещё не испытанная, окончательно растопила его мягкое сердце. Слабо морщился от боли в руке и ощущал, как вырастала решимость отбросить все колебания и уйти, уйти туда, где покой и свобода, и был отчего-то смутно не доволен собой, скоро шагал по влажной предутренней пыли узенькой улочки, стиснутой с обеих сторон безглазой вереницей тёмных домов, и вдруг поделился своими сомнениями:
— Покой и свобода — и моя тоже мечта. Но ведь покой и свобода и между друзьями, не только в монастыре.
Эразм легко рассмеялся, не выпуская руки, часто толкая его на ходу:
— Кого ты называешь друзьями?
Не понимая, отчего тот смеётся, пытаясь разглядеть выражение Эразмовых глаз, ответил, куда-то спеша:
— Друзья те, у кого общее всё, решительно всё. Святой Иероним так утверждал.
Качнув с сомнением головой в чёрной шапочке, надвинутой на самые брови, мило улыбаясь ему, голландец подхватил:
— Всем нам дан закон всепрощения и добра. Сами государи не должны стыдиться повиноваться закону, которому, как я полагаю, повинуется даже Господь, давший его. И потому никто не может быть хорошим правителем, если он плохой человек. Однако не повиновения закону, не всепрощения и добра ищи ты в наших обителях. Там ничего подобного нет. Наша чёрная братия не подвластна закону всепрощения и добра, ибо высшим проявлением благочестия почитает полнейшее удаление от наук, так что простую грамоту многие принимают за высшее знание. И эти милейшие люди тщатся напомнить нам первых апостолов! Что может быть смешнее, как видеть, с какой математической точностью они рассчитывают каждую житейскую мелочь, почитая за грех малейшее отклонение от предначертанного себе: каким количеством узлов должно завязывать башмак на ноге, какого цвета перевязь, как скроено платье, из какой материи и какой ширины должен быть пояс монаха, какого вида и какой вместимости капюшон, какой величины и округлости должна быть тонзура на темени, сколько часов можно спать. И, представь, громадное большинство придаёт такое значение всем церемониям и соблюдению буквы уставов, что и царство небесное почитает незначительной наградой за столь большие труды. Они не хотят и подумать о том, что, пожалуй, Христос не обращает на этот вздор никакого внимания и потребует от них, как и от каждого смертного, исполнения своей единственной заповеди, которая состоит в том, что как самих себя нам надо любить наших ближних. Они искусственно отделились от всех, возомнили, что ближе к Господу, чем все остальные, и потому погрязли в грехах. Я натерпелся за те восемь лет, что жил между ними, и возвращаться туда не хочу, но одно среди них исключительно хорошо: братья до того заняты своими уставами, что оставляют душу свободной, если владелец её не нарушает внешнего благочестия, которое для них превыше всего. За те восемь благостных лет я так обогатился познаниями, как не смог бы обогатиться нигде, и потому повторяю тебе: иди, мой брат, смело иди в монастырь!
Раздумчиво не согласился:
— Можно в любом другом месте хранить свободу души, как в любом другом месте можно приумножить познания.
Эразм подхватил:
— Особенно здесь, на вашем очаровательном острове! Здесь столько учёности, доброты! И не поверхностной, пошлой учёности выскочек, самодовольных и от самодовольства пустых, но глубокой, истинной, доподлинной, древней, как в латинском языке, так и в греческом. Как ни странно, я и думать почти перестал о своей поездке в Италию. Если поеду, то разве только за тем, чтобы там побывать. А ещё для чего? Когда я слушаю Колета, моего здешнего друга, сдаётся, что я слышу Платона. А кто не подивится обширным познаниям Гроцина? А как утончённы и глубоки суждении Линакра! Клянусь, я изумлён, сколь велики плоды древней учёности в этой стране! Архиепископ Уорхем, благодарю Господа, назначил мне пенсию, чтобы я мог подготовить к изданию Новый Завет в первоначальном исправленном греческом виде с переводом на латинский язык! Все клянутся нынешним текстом, даже в суде, а он так не исправен, что должно быть стыдно поклясться!
Томаса ошеломила грандиозность работы, предстоявшей Эразму.
Он и сам размышлял о необходимости возвратиться к незамутнённым истокам учения, к тем чистейшим началам, которые возвестил грешному миру Христос. Не мог не убедиться, читая и перечитывая, что с течением времени эти истины были искажены и полузабыты, но сознавал, что к подобным трудам ещё не готов.
И вдруг в этом не совсем ясном, словно бы сбивчивом человеке, так легко, так непринуждённо то и дело противоречившем себе, ему открылась подспудная и несокрушимая сила.
Восхищенный, растроганный, неуверенно, негромко сказал:
— Труд бессмертный. Святой.
Тихонько смеясь, толкнув его дружески в бок, Эразм загадочно плёл кружева слов:
— Пенсию станут выплачивать до той счастливой поры, пока исправный текст не будет готов, да ещё к нему исторический комментарий, языковый, литературный. Это же целая жизнь! Куда мне спешить? Я теперь обеспечен по гроб!
Морщась от боли в боку, не поспевая следить за капризно менявшимся тоном и смыслом речей, с неудовольствием поспешно воскликнул:
— А надо же, прямо необходимо спешить и спешить!
Неожиданно выпустив его руку, остановись под выступавшим глубоко в улицу вторым этажом трёхэтажного дома со слабо мерцавшим светом в верхнем окне, пробивавшемся сквозь щели старых, рассохшихся ставней, странно вытянув тонкую шею, Эразм изумился:
— Я-то спешу, я-то аллюром вперёд, а источник иссякнет, и, блудный сын, возвращайся к монахам, которые громко требуют подаяния по всем придорожным трактирам, постоялым дворам, на пристанях и под конами крестьянских домов, к немалому ущербу остальной нищей братии! Уж нет! С какой же стати себе-то вредить? Сам рассуди.
Тоже остановись перед ним, разглядывая его в полутьме, ощущая, как бешенство поднимается мягкой волной, застилая глаза, рассердился, сжав кулаки:
— Мы утратили что-то самое главное! С каждым днём мы всё больше запутываемся! Мы всё дальше отступаем от цели! Мы, должно быть, двинулись в обратную сторону! А что ты? Ты должен, ты прямо обязан спешить, ибо это не одно лишь твоё, это общее дело!
Легко подскочив, достав рукой до карниза, обтирая пальцы белоснежным платком, сверкавшим в ночи, как пылавший костёр, Эразм с сожалением проговорил:
— В Англии у меня нет под рукой необходимых пособий. Если спешить, пришлось бы уехать от вас.
Мор настойчиво торопил:
— Надо ехать! Вели скорее седлать. Я провожу тебя до заставы, если пожелаешь, провожу до самого Дувра и там посажу на корабль.
Встряхивая платок, метавшийся в воздухе белым крылом, Эразм беззаботно отнекивался:
— С вашего острова жаль уезжать. Климат приятный, для здоровья полезный. Экая благодать!
Вдруг осознав, что ловкий Эразм лишь с тончайшим искусством морочит его, мрачным голосом возразил:
— Скоро туманы, дожди. Ноги простудишь. С больными почками прямо беда.
Изящным движением складывая платок, склонив голову на бок, голландец, притворно вздыхая, спросил:
— Что туманы, дожди, даже почки, когда среди новых друзей я встретил тебя, с твоим счастливым, нежным характером, благородней которого едва ли когда прежде создавала природа, а ведь природа щедра не только на злое, но и на доброе.
Сдерживал смех, прищуривая глаза, приблизился совсем близко к нему и ответил:
— Тогда я запру тебя и не выпущу никуда, пока подвиг твой во имя Христа не свершится!
Тут приятели заржали, как кони.
Вверху с треском поднялось окно, скрипнули ставни в давно не мазанных петлях, сердитая голова в ночном колпаке громко взвизгнула, перегнувшись во тьму:
— Стража!
Почтительно ожидавшие слуги, приняв этот крик за сигнал, вздёрнули вверх тускло горевшие фонари.
Они зашагали вперёд.
Это была благословенная встреча. Они сблизились тотчас, тесно сдружились. Томас пригласил Эразма в свой дом, и тот с охотой у него поселился.
Вокруг Эразма точно сами собой собирались друзья.
Оставив преподавание в Оксфорде, Уильям Гроцин стал каноником в церкви Святого Лаврентия.
К ним присоединился школьный учитель Уильям Лили, получивший в Оксфорде учёную степень, совершивший паломничество в Иерусалим, на Родосе изучивший язык Перикла и Демосфена, работавший над составлением школьной грамматики.
С ними был Томас Линакр, лейб-врач короля, изучивший греческий язык под руководством Полициано, читавший Гелена и Гиппократа в оригинале, прослушавший курс медицины в Ферраре, получивший степень доктора в Падуе, издавший в Венеции у мессера Альдо Мануцци в греческом подлиннике труды Аристотеля, взявшийся переводить «Метеорологию» на латинский язык, но увлёкшийся вскоре переводом Гелена.
К компании примкнул Колет, сын мэра, изучавший теологию в университетах Франции и Италии, приходивший в негодование от крови и грязи, которыми
Александр Борджиа позорил папский престол, слышавший грозные проклятия Джироламо Савонаролы, вскоре сожжённого на костре, увлёкшийся трудами мессера Джованни Пико делла Мирандолы, заслуживший дружбу Марсилио Фичино, восхищавшийся божественным Плавтом, читавший лекции в Оксфорде, позднее ставший деканом собора Святого Павла.
Это было спасительное содружество, спаянное общими чувствами и общими помышлениями. Едва возникало новое впечатление, едва зарождалась новая мысль, их влекло неудержимо друг к другу. Они спешили рассказать, поделиться, поведать другим, чтобы доставить им ту же радость, развеять печаль, проверить себя, всесторонне и обстоятельно обсудить и развить любую догадку или отбросить её, вместе ступить на любую тропинку познания.
Друзья торжественно обставляли каждую встречу, служили благодарственную обедню, чинно рассаживались по деревянным скамьям, угощались плодами земли и пили лёгкие вина, избирали тему беседы, и кто-то один рассудительно обосновывал тезис, сопровождая всякую мысль многими ссылками на латинских и греческих авторов, а кто-то другой неторопливо и обстоятельно, с такими же ссылками на тех же латинских и греческих авторов выдвигал антитезу. И жарко вскипала беседа, то превращаясь в яростный спор, то затихая в глубокомысленном синтезе. И роились новые мысли, со звоном сшибались новые доводы, выступала во всём блеске необъятная эрудиция. Всё ближе и ближе казалась неуловимая истина, которая указала бы им, как должна быть устроена жизнь, чтобы восторжествовали справедливость, образованность и добро.
Наконец их утомляла словесная битва. Тогда кто-нибудь брал тихострунную лютню, где изображён был непременный Орфей, и молодые люди танцевали и пели для отдыха. Потом с обновлёнными силами спешили на новые поиски истины.
А если задушевного друга не было рядом, если не с кем было поделиться и обсудить, жадно хватали перо и бумагу и писали тридцать, писали сорок страниц в соседний дом, на соседнюю улицу, в соседний город, в деревню, в другую страну, хоть за тридевять земель в тридесятое царство. Эпистола была для них то же, что для говорящего бывают глаза. Тех, кто отсутствовал, она делала зримым, и становились ещё более близкими те, кто был далеко.
Благодаря этим белым или чуть желтоватым листам, исписанным торопливой рукой, единомышленники соединялись в нерушимое, хоть и не видимое постороннему глазу содружество, которое охватывало тонкой сетью весь континент. И вот ещё замечательно что: в их содружество втеснялась даже история, потому что эпистолы обращались не только к живым, но и к тем, с кем их навеки разделили века. Многие из собратьев ни разу не видели друг друга воочию, но каждый знал почти всё обо всех остальных, не покидая своего захолустья. Каждая эпистола списывалась и переправлялась к другому, точно она была адресована всем, да она и была адресована всем, так что каждая мысль доходила до каждого члена содружества и существовала для всех.
Тогда, забросив латинские книги, с упорством и страстно схватился за греческие. Уроки языка давал ему Гроцин. Линакр читал ему вслух Аристотеля, сопровождая каждый параграф своим толкованием. Колет знакомил с любимым Платоном.
Но самым главным, самым важным, самым интересным для всех явилось раннее христианство. Воруя время у сна и обеда, отыскивали в пёстрых писаниях первых подвижников, сменявших вереницей друг друга в служении Господу, не догматических тонкостей, а истинных норм послушания, испытанных принципов жития, приводивших людей стойкой, неколебимой, неукоснительной веры к честной и праведной жизни. Заражались неукротимой энергией, которой так не доставало простым смертным во все времена, чтобы неутомимо трудиться над воплощением светлого идеала справедливости, равенства и добра.
Томас полюбил Откровение Иоанна. С благоговением открывал эту трудную книгу, откладывал в сторону костяную закладку с тиснёными строками благодарной молитвы и придирчиво схватывал разгоравшимся взором каллиграфическую вязь спокойно струившихся строк. Тончайший аромат плесени, пыли и грызущих мышей свидетельствовал о том, что столетия пронеслись с того дня, когда впервые стило коснулось пергамента. Ему начинало казаться, что утомлённая рука переписчика, безымянно корпевшего над изготовлением манускрипта, дружески пожимала его благодарную руку, охватывало счастливое нетерпение. С азартом страстного искателя истины вникал в каждое слово. Мысли бились всё об одно, об одно. Время летело как неслышная птица. Перечитывал и хмуро твердил:
«Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего, ибо время близко...»
Неотвратимая вера звучала в сих спокойных словах. Она передавалась ему, сокрушая сомнения, рассеивая тьму, возвращая надежду на возможность и в этом мире справедливости, равенства и добра. Разгибался, откидывался назад на деревянной скамье, прикрывал глаза припухшими веками и мучительно размышлял.
Да, ошибаются даже святые, ибо время оказалось не близко. Пятнадцать веков проползло своей чередой в жестокости войн, в преступлениях, в алчности, в предательствах, в казнях, бесчеловечность которых могла бы испугать и зверей, а жизнь человека не делалась чище, и всё ещё не было видно, когда этой грязи настанет невозвратимый, законный конец.
С горечью вопрошал, сколько веков оставалось ещё впереди, но не решался ответить, предполагая, что может приключиться даже на днях, явись мудрый и просвещённый правитель, а может растянуться и на век, и на два, и на три, ибо правители просвещённые, мудрые до крайности редки в обозримой истории, подобно великим творцам.
Доходил до отчаяния, когда не обнаруживал в старом Генрихе такого правителя, однако властные, неумолимые речения Иоанна неизменно, даже не сбывшись пока, возрождали самые светлые его упованья.
Узнавал по отрывкам, дошедшим до наших времён, каким тяжким было то далёкое, но словно бы близкое время, когда, казалось, рушился миропорядок, рушилась жизнь, грозя неминуемой катастрофой, когда римские принцепсы травили львами и тиграми христиан, жгли огнём, как позднее христиане сжигали еретиков, распинали на придорожных столбах, как на старом мосту через Темзу ежедневно выставляли смердящие трупы повешенных, когда толпы нищих ожидали выдачи хлеба, подобно бродягам, которых сам часто встречал на путях и перепутьях страны, когда землепашцы бежали от долговой кабалы, не ведая, где преклонить нагое голодное тело, тоже превращаясь в бродяг, когда рабы терпеливо клонили спины под сыромятной плетью надсмотрщика, когда в беспутстве, в безделье римские богачи, подобно английским аристократам, утрачивали совесть и честь, опьяняясь прожитым днём, что мог оказаться последним для них, ибо все без исключения подлежали власти безумного кесаря, когда тяжелоголовый Гальба с презрительным ртом поднимал испанские легионы и двигал на Рим и в ужасе бежал от него мнивший себя непобедимым и всемогущим Нерон, и никто не встал на защиту самодурного императора, и тот, заметавшись, как мышь, повелел отпущеннику зарезать себя, когда кровавая смута охватила империю, казалось, всесильную, против победившего Гальбы плели заговоры преторианские офицеры, восставали провинции, тучный Виттелий с тройным подбородком бунтовал легионы на Рейне, и близким представлялось падение великого Рима, когда у многих иссякало желание жить, и тогда избирали добровольную смерть, отворяя вены или бросаясь на меч.
Тогда сказал Иоанн о небесном Иерусалиме, который образует квадрат из сторон, равных двенадцати тысячам стадий. Сей град возведён из чистого золота и драгоценных камней. Сам Господь обитает в том граде среди верных Ему и светит им вместо солнца. И в том граде нет ни страданий, ни скорби, ни смерти, ибо сквозь самый град протекает животворный поток, а по берегам потока цветут древа жизни, плодоносящие раз в месяц.
А люди были разъединены, как во все времена. Им не доставало только единства, чтобы достигнуть священной обители. И гневно обрушивался святой Иоанн на тех, кто сбился с истинного пути, указанного Христом, и пророчил им неисчислимые кары и ужасные бедствия. И воздел над ними железный жезл Вседержителя. И в исступлении повторял:
— Не запечатывай слов пророчества книги сей, ибо время близко!
Но что могло само по себе и самое громкое, самое исступлённое слово, гремевшего из бедной обители на крохотном островке, когда в яростных битвах сшибались ожесточённые легионы, когда и пятнадцать истекших веков не очистили человека от скверны греха, когда вновь голодные, безработные, нищие рыскали в поисках пищи, прозябали в трущобах, гнили в придорожных канавах, хоронясь от плетей, от верёвки, от топора палача, а нанятые за деньги солдаты раздавали короны, как было прежде, как было всегда?
Что могли изменить несколько сотен не всегда внятных, не всегда вразумительных слов?
И когда же, когда бестелесное слово было убедительней стального меча?
И всё-таки... всё-таки...
Бестелесное слово тоже что-то могло, ибо поразительно было воздействие этих туманных, загадочных слов, которые скоро услышали те, кто устал, кто был истомлён и растерян.
Тогда многие встрепенулись. Тогда многие оживали поникшей душой, обретая надежду на лучшую жизнь, о ней знали лишь то, что она лучше той, какой жили они, и что в жизни той не будет ни страданий, ни скорби, ни даже смерти.
Пусть не достигли они Небесного Царства, пусть вечное блаженство осталось неведомо им, но спаслись от растления, от погибели духа. По катакомбам и пустырям, в заброшенных домах и селениях, опустошённых беспрестанной войной, собирались в общины верующих, презрев преходящие блага, отрёкшись от всякого рода имущества, которое ещё оставалось у них не разграбленным от властей и солдат, и жили так, точно были кровными братьями.
Вместе трудились на общих полях. Всем добытым владели сообща, разделяли поровну каждый кусок испечённого хлеба, каждую чашу вина.
И не было среди них ни страждущих, ни обездоленных, ни обделённых.
И куда бы ни пошли, гонимые ветрами войн, всюду находили одноверцев своих и кров, и хлеб, и вино, и любовь братьев своих во Христе.
Вот какое чудо свершилось однажды, очень давно, и длилось оно не век и не два, пока новые смуты не погубили его.
Над этим чудом подолгу размышлял юноша в своём одиночестве, устремившись понять, отчего исчезло оно без следа, как только те славные, те бескорыстные и непорочные дети земли объединились и создали Церковь?
Но не удавалось понять.
Смятенный, подавленный ношей своей торопился к друзьям.
Друзья его, и всех прежде Эразм, причины видели в том, что позабылись извечные истины, которые учили бедных страдальцев, как надо жить для добра. Эразм утверждал, что благие истины с течением времени извратили и отступили от них.
Что было делать?
Необходимо было вернуться к первоначальной нравственной чистоте, что первых, истинных христиан привела в катакомбы и повелела совместно трудиться на общих полях.
Им на счастье, друзьям его открытой трибуной служила церковная кафедра. С жарким словом новых апостолов обращались к несчастным своим современникам в сладостной жажде внушить, в какую бездну порока скатились они, погрязли в алчности и стяжании, в воровстве и мошенничестве, растерявши совесть и честь.
В своих лекциях Уильям Гроцин доказывал, что те сочинения, которые позднее были приписаны Дионисию Ареопагиту, ученику апостола Павла, не могли быть написаны им.
Джон Колет, сравнивая текст «Посланий святого Павла» с «Деяниями апостолов» и с достоверной историей Рима, уверял своих слушателей, что догматики превратили христианское вероучение в огромную и запутанную массу мрачных и безжизненных хитросплетений, и грозно требовал от поражённых слушателей своих:
— Твёрдо придерживайтесь Библии! Предоставьте богословам, если они желают, спорить об остальном!
Затем обращался к английским прелатам:
— Я хотел бы, чтобы вы без промедления вспомнили ваше звание и ваш сан и подумали о реформе, в ней нуждается церковь! Никогда ещё её положение не требовало более энергичного действия! Вас беспокоят еретики, но ни одна ересь не может быть страшна так, как опасна для всех нас извращённая и порочная жизнь самого духовенства! Это худшая ересь из всех!
Увлечённый страстными проповедями близких друзей, Томас принялся изучать труды блаженного Августина, жившего за тысячу лет до него. Символическое сходство эпох поразило его. Оказалось, что и в те времена только ничтожные, только слабые люди держали власть в своих бесчестных руках и великая империя расползалась, как старая ветошь. Властители попадали в рабы к своим фаворитам, и далеко не всегда этими фаворитами бывали такие проницательные, просвещённые люди, как Мортон. Потомки великих фамилий, прославленных в годы республики нетленными подвигами в сенате или на форуме, свершёнными на благо отечества, подобно английским баронам, жаждали одних удовольствий, погрязнув в разврате и алчности. Измельчавшим потомкам давно уже не было дела до блага отечества. В погоне за богатством и властью они интриговали, доносили, убивали друг друга исподтишка.
И тогда готский конунг Аларих двинул свои отряды на Рим, и даже в ту роковую минуту великой истории богатым и знатным недостало чести, недостало ума пожертвовать всем своим достоянием на спасение Вечного города. Среди них продолжались раздоры и распри, и рабы ночью открыли ворота врагу. Полчища гуннов и готов затопили тёмные улицы, и три дня и три ночи, по обычаю штурма, громили варвары побеждённых, полудикие бородатые воины врывались в древние храмы, во дворцы и в простые жилища, срывали со стен украшения и драгоценные ткани, жадными руками хватали золотую и серебряную утварь, статуи великих богов разбивали железными палицами и отправляли их в переплавку, и ещё три дня и три ночи исходили варварские обозы с награбленным из опустошённого Вечного города.
Всемирная катастрофа потрясла, но не научила ничему побеждённых. Она вселила мистический ужас в самих победителей, их тоже не научив ничему. У всех на глазах вершились неслыханные дела. Все, кто мыслил, с немым содроганием пытались понять, чем вызваны столь невероятные бедствия и что могло бы в будущем подобные бедствия отвратить.
Тогда Августин, епископ Гиппона, вырванный из безумного вихря земных наслаждений книгой «Об обязанностях», принадлежавшей перу Марка Туллия Цицерона, да святится имя его, воспитавший себя на диалогах Платона, после обряда крещения раздавший всё имущество бедным, создал трактат «О граде Господнем» в стремлении развеять мистический ужас и указать прямую дорогу к спасению.
Четырнадцать лет трудился епископ над этим трактатом и умер в то время, когда племя вандалов осаждало Гиппон, а спустя ещё сорок шесть лет великая Римская империя окончательно пала, превращённая в пепелища, в груды развалин, и развалины пустовали потом и триста, и четыреста лет.
Напитанный мыслями блаженного Августина, каждое воскресное утро являлся он в собор Святого Лаврентия, каждое воскресное утро поднимался на кафедру проповедника, каждое воскресное утро с тревогой и убеждением обращался к молчаливо склонённым согражданам, с восторгом и горечью приводил им слова:
— Две любви создали два общества: любовь к себе, доходящая до забвения Господа, создала общество земной суеты, любовь к Господу до забвения себя создала Царство Небесное!
Развивал эту мысль логично и стройно, в соответствии с правилами риторики нанизывая довод за доводом, точно камешки чёток, страсть, убеждённость вкладывая в каждое слово. С болью в сердце, в священном негодовании обличал греховное общество алчности и стяжания, в котором до последней крайности возлюбили только себя, уже не видя ближнего во Христе, и по этой причине без покаяния, без труда прощали себе свои прегрешения; поносил тщеславие, источник многих наших пороков, обрушивался с проклятиями на губительный наш эгоизм.
Его слушали с глубоким вниманием, а проповедник всё-таки не находил себе места. Ни молитвы, ни пост, ни книги и проповеди в соборе Святого Лаврентия не заглушали тоску, иссушавшую его. Трепетал от предчувствия катастрофы, наблюдая то же невежество, те же войны, тот же разврат, которые подвигли блаженного Августина на подвиг труда.
Убеждался на каждом шагу, что алчность и себялюбие не имеют границ, видел, как и самых достойных пожирает чума накопительства.
Диву давался, каким образом уживаются вместе в умах и душах его современников жажда наживы и заповеди Христа. Ничто, кроме жажды наживы, им не знакомо, ничто благородное не способно сдвинуть их с места. Приобретение, одно лишь оно, любыми средствами, любыми путями, отступничеством от любых идеалов, позорным забвением заповедей Христа.
К стяжательству направлены мысли, накоплением переполнены чувства.
И болезнь духа простёрлась так далеко, что уже никого не излечишь словами. Нет, никого и ничто не остановят, не образумят никакие слова.
Что было делать ему?
Всё с большим трудом переносил своё одиночество. Эразм, как на грех, уехал в Париж. Колет время от времени перебирался в деревню, чтобы отдохнуть от городской суеты. Гроцин их заменял, но только отчасти. С Линакром он изредка погружался в науки, уже не приносившие ему утешения. Лили был его исповедником и партнёром в делах.
Но ни один из друзей не мог дать ответ на жестокий запрос: что же делать ему?
Глава девятнадцатая ИСПЫТАНИЕ
Тем временем внешняя жизнь текла своим чередом. Срок обучения благополучно истёк. Его торжественно приняли в корпорацию адвокатов. Его имя и звание чинно вписали в корпорационный матрикул, сделав надлежащую ссылку на официальную санкцию и регламент, взыскали членские взносы, обязали участвовать в благотворительных делах корпорации и чтить святого, её покровителя. Взамен корпорация обязывалась защищать его интересы от нападения обывателей и властей. Находя успехи студента в юридических науках незаурядными, ректор Линкольн-Инн рекомендовал его лектором прав в юридическую школу низшей ступени.
Так стал педагогом и адвокатом, а позднее и королевским судьёй.
Был неподкупен и справедлив, в добросердечном совете не отказывал никому, против обыкновения заботясь более о чужой выгоде, чем о своей, и никто чаще, чем он, не разбирал в суде дел, решая их на основе закона и справедливости, никто чаще, чем он, не снижал плату, которую ему полагалось получать с обеих тяжущихся сторон, никого так искренне и горячо не любили, не уважали сограждане и вскоре избрали его в палату общин представителем нации.
Женился на Джейн Колт, старшей из двух сестёр, несмотря на то, что ему нравилась младшая. Не хотел, чтобы старшая, Джейн, позавидовала слишком раннему замужеству младшей. Один за другим в семье пошли дети. Детей очень любил. Его семья была вполне обеспечена. Им стал доволен даже суровый отец.
А он всё искал. У него словно стали две жизни. Одной жил по возможности благодетельно, благородно и честно, строго блюдя заветы Христа, но это была как бы малая, неглавная жизнь. В другой жизни желалось ему развернуться во всю мощь, которую в себе ощущал с каждым днём всё сильней.
Всё старательней урезывал минуты обеда, всё меньше часов дозволял себе спать, часто обзывая себя лежебокой. Усердно выкраивал отрадный досуг, чтобы время его проводить недосужно. Стремился ни в той, ни в другой жизни не терять ни секунды. Едва принимались горланить первые петухи, был уже на ногах. Едва ударял первый колокол, затепливал большую свечу и погружался в приготовленный манускрипт, чтобы прибавить к прежним знаниям ещё новые и новые знания, улавливая и просеивая всякую незнакомую или необыкновенную мысль.
Это были светлые бдения в тёмной ночи. Томас принадлежал только себе, занимался лишь тем, чем заниматься хотел, а не тем, что предусмотрено суровым регламентом корпорации адвокатов. В эти часы служил человечеству, надеясь понять, как спасти этот мир от его заблуждений.
Впрочем, никаких разногласий между служением человечеству и обязательной службой, где оказывал помощь не всему человечеству, а лишь одному человеку, между призванием и профессией, между миром внешним и внутренним, между возвышенным и обыденным, как ни странно, не испытывал.
Тут и там жил согласно своим убеждениям.
Одно постоянно беспокоило, смущало: было мало судить по совести и не брать ни гроша с бедняков. Для того и прогонял сон и покой, чтобы избавить людей от преступлений, а стало быть, и от судов, адвокатов и судей, точно искал волшебного заклинания, как алхимики искали философского камня.
Вскоре его увлекла жизнь и учение мессера Джованни Пико делла Мирандолы, который, подобно ему, с трагической настойчивостью тщился найти одно-единственное начало, начало начал. Это начало начал должно было обновить, перестроить всю современную жизнь.
Мессер Джованни искал его в сфере морали, прослеживая, что именно объединяло Аристотеля, Платона, Плотина, Христа, Зороастра, Моисея, Гермеса, Магомета, аль Фараби, Аверроэса, Авиценну, всех поэтов и всех мечтателей протёкших времён в нечто единое, всегдашнее, цельное.
Мессер Джованни был убеждён, что этим общим началом, началом начал, было начало добра, и проповедовал это начало с таким пылким энтузиазмом, с каким проповедовал он с кафедры церкви Святого Лаврентия необходимость духовного очищения англичан.
Сделав такое открытие, перевёл на английский язык жизнеописание мессера Джованни и отдал в печать, наименовав его так:
«Жизнь Джона Пико, графа Мирандолы, вельможи Италии, знатока всех наук, человека добродетельной жизни, с различными письмами и другими творениями названного Джона Пико, полными высоких знаний, добродетелей и премудростей; жизнь его и творения очень ценны и следует читать их почаще и вспоминать».
А пока мирно беседовал по ночам с итальянцем, человеком добродетельной жизни, старый Генрих потребовал от парламента разрешить особую подать по случаю посвящения в рыцари его старшего сына Артура, а заодно и по случаю замужества дочери.
Вместе с прочими депутатами явился на заседание общин. Председатель палаты, облачённый в длинную мантию с широчайшими рукавами, с несравненным достоинством восседал на полном шерсти мешке, главном богатстве страны. Представители нации приглушённо молчали на отполированных до зеркального блеска скамьях. Дневной свет едва пробивался сквозь два небольших окна, точно затем, чтобы скрыть их мрачные мысли от них же самих.
Только Мор, единственный из всех представителей нации, поднялся посреди гробового молчания и негромко, но чётко и непреклонно сказал:
— Джентльмены, слуги народа, его величество король не имеет права требовать с нации этих денег, ибо королевство не имеет такого закона, согласно с которым мы должны оплачивать посвящение в рыцари королевского сына. Когда-то давно существовал такой старинный обычай, однако в последний раз он применялся полтора века назад. Кроме того, принц Артур, старший сын короля Генриха, как, джентльмены, известно всем вам, умер три года назад.
Председатель смутился и объявил перерыв.
В перерыве ему жали руки, восхищались, благодарили за смелую речь. Тем не менее во всё продолжение заседания открыто поддержать не решился никто. Храбрости и достоинства представителей нации достало только на то, что подать урезали на восемь тысяч английских фунтов.
Старый Генрих мог быть доволен. Однако король был жаден и тех восьми тысяч фунтов ему не простил. В качестве представителя нации он пользовался правом неприкосновенности, арестовать его было нельзя, и Мор оставался спокойным.
Не учёл, что старый Генрих был не только жаден, но и хитёр. Король отправил в Тауэр ни в чём не повинного Джона Мора, отца, заточением наказав старика за прегрешение непокорного сына.
Государь был вероломен. Ждать можно было всего: нечаянной драки на узких улицах Лондона или удара кинжалом из-за угла.
На всякий случай скрылся, поселившись в аббатстве, где в давние времена было даровано право убежища, не нарушенное ни одним из самых кровавых тиранов, даже из тех, которые, как говорили, были обуяны дьяволом.
Довольно долго прожил там среди всякого сброда. Распутные и не распутные жёны скрывались в аббатстве от рогатых или жестоких мужей. Злонамеренные должники принуждали одураченных заимодавцев свистать под стеной. Удачливые воры хранили в святых стенах награбленное добро, замышляли новые преступления и по ночам покидали обитель, чтобы грабить и убивать. Бездомные бродяги имели крышу над головой и похлёбку.
У бродяг и воров были загорелые грязные лица, тяжёлые плечи, мускулистые ноги, сбитые пальцы, ладони в мозолях, одинаково потухшие голоса, застывшая скорбь в потускневших глазах, усталость, озлобленность и поникшие головы, которые ожидала верёвка.
Его слава добропорядочного судьи проникла даже сюда, и многим невольным питомцам аббатства помог дельный совет адвоката. Улучивши минутку, поджидая в пустующих переходах, увлекая в укромные уголки, они торопливо рассказывали ему о себе и ждали совета.
Увядшая белокурая женщина с заплаканными голубыми глазами и мятым морщинистым ртом, едва разжимая бескровные губы, скрывая недостаток передних зубов, прерывисто жаловалась:
— Я боюсь, я очень боюсь, что меня выдадут мужу, а я не хочу, не хочу!
Успокаивал, это было легко:
— Не надо бояться. Монахи не выдают никого. Разве что вы захотите уйти добровольно.
Нерешительно касаясь его горячей рукой, недоверчиво ловя прямой взгляд, громко шептала:
— Если выдадут, он убьёт меня, мастер, убьёт. Он поклялся, он ненавидит меня.
Осторожно спросил:
— Что же, он пьёт?
Несчастная прижалась к стене:
— Ещё хуже, разоряется.
Утешил, уже не уверенный сам:
— Дела могут поправиться. Такое тоже бывает.
Просительница покачала несвежим чепцом:
— Говорит, что на всех торговых людей не хватает товара, что его обходят другие, более ловкие, более сильные, потому что я много трачу, что это из-за меня.
Рассудил:
— Женщина не может не тратить. Кто женится, тот должен приготовить большой кошелёк.
Она подхватила горячечным голосом:
— Да, это верно! Собрался жениться ещё раз, на богатой, но говорит, что я мешаю ему, потому что у меня ничего не осталось. Мой отец был большим человеком в торговых делах. Вы могли слышать о нём, ведь отец ваш королевский судья и сам вы тоже королевский судья. Отец дал за мной большое приданое, но уже умер, и меня некому защитить. Мне советуют обратиться в суд, но я не знаю, что и как надо делать.
Подсказал:
— Суду нужны доказательства.
Женщина оживилась:
— Глядите, мастер, глядите, у меня всё лицо в синяках, на груди, и вот здесь, и вот здесь!
Пришлось объяснить:
— Синяки могут быть от разных причин. Они не являются доказательством для судьи. Суду необходимы свидетели. Кто-нибудь видел, как муж вас бил?
Возвысила голос, хриплый и жалкий:
— Вы не знаете этого человека! Даже компаньоны не доверяют ему и тоже не могут ни в чём уличить. Когда подлец меня бьёт, то закрывает ставнями окна и отпускает всех слуг.
Погладил её горячую руку:
— Тогда вам лучше остаться здесь навсегда.
Воскликнула с отчаяньем в голосе:
— Я не могу оставаться здесь вечно! В этой тюрьме!
С трудом выдавил:
— Всё ещё может перемениться. Муж образумится или умрёт.
Посмотрела с упрёком в выплаканных глазах:
— Я не девочка, мастер. Ждать его смерти? Я сама скорее умру.
Худощавый учитель с крупным носом на смугловатом лице, с небольшими глазами, с чувственным ртом говорил со странной усмешкой:
— Моё имущество должно было пойти на погашение долга: две кровати, посуда, что-то ещё. Вдова Крапп, моя кредиторша, то есть её кучер и возчик, должно сказать, погрузили всё это и увезли, а после мадам объявила в суде, что я от неё имущество скрыл, и потребовала, чтобы ей возместили убытки. А мне больше нечем платить. Ведь я всего лишь учитель, что значит бедняк.
Сказал, дивясь неосведомлённости учёного человека в обыкновенных житейских делах, во всех тонкостях, известных любому мошеннику:
— Подобные операции производятся только в присутствии судебного исполнителя.
Учитель возразил, усмехаясь с презрением:
— Я говорю и пишу по-латыни, как Цицерон, однако о судебных исполнителях мне ничего не известно.
— У вас должны были быть хотя бы свидетели.
Мужчина широко улыбнулся, приоткрывая желтоватые зубы:
— Ведь возчик и кучер были свидетели, их руки тоже, когда выносили кровати и посуду. Так вот, они показали согласно, что в тот день лошадки мадам были не кованы, а повозка стояла без колеса, и мадам объявила суду, что знала всегда, что я негодяй и подлец.
— В этом случае у вас было право привлечь миссис Крапп за оскорбление личности и требовать возмещения моральных убытков.
Учитель признался, дёргая себя за нос, иронически прикрывая глаза:
— О своём праве я узнал только здесь. Мне мои права разъяснил один вор.
— Не знать своих прав! Господи, воля твоя! Да ведь вашу вдову должны были видеть соседи в тот день!
Бедолага покачал круглой, коротко остриженной головой:
— Вы же знаете, мастер, что я должен быть в школе к шести, там меня ждут сорванцы. Вдова Крапп тоже знает об этом и потому изволила пожаловать ко мне в пять утра, когда абсолютно темно и никто из соседей не выходил из дома, я же спешил, боясь опоздать, ведь когда я опаздываю, они ходят на головах. И вот меня ждёт долговая тюрьма.
Посоветовал сухо:
— Тогда вам лучше остаться здесь навсегда.
Тот коротко засмеялся:
— Я бы не прочь. Здесь тишина и покой и можно вдоволь читать. Чего бы ещё? Да у меня молодая жена, как на грех. Разве она согласится жить со мной здесь?
После рассказывал жилистый вор:
— У меня было большое хозяйство. Пашни много. Луга. Овец годами выходило голов до семидесяти. Лошадей имел на два плуга. Пятнадцать коров. Хлеб продавал. За шерстью перекупщики приезжали из города. Арендаторы мы, земля не своя, но мы на ней сидим незапамятно, исстари, в год платили исправно два фунта и считали землю своей. Так всё и шло, пока жив был старый лорд. Он был рьяный охотник. Однажды лису заскакал да свалился с коня. Там и отдал Господу душу, без покаяния, такая беда. Так сын его вызвал мена и сказал, что два фунта не деньги по нынешним временам. Я имел кое-что, от такого хозяйства как не иметь, и сказал, что могу платить и побольше. Тоже и у нас своя гордость. Мы сами подавали много на бедных. Так наследник мне сказал, что ему моих денег не надо, и приказал убираться, земля, мол, его. Я спросил, куда мне идти с женой и детьми. Он отвечал, что это его не касается. Я не пошёл никуда, однако вскоре явился судья, и стража вывела нас на дорогу в чём были. Через неделю жена повесилась в соседнем лесу. Мальчонку не удалось уберечь, да и как? Старшая дочь теперь в нехорошем дому. Я её выкуплю, нынче понабрал кое-что, но так мы с ней пропадём. Надо нам вертаться домой, а вы, говорят, понимаете в этих делах.
— У вас был договор?
Вор взглянул из-под рыжих бровей:
— Мы рядились давно. Ещё прадеды наши. В те времена не составляли бумаг, ибо слово было крепче её.
— Без бумаги не сделаешь ничего.
Проситель стиснул костистый кулак:
— Что же нам с дочерью делать?
И этому посоветовал хмуро:
— Лучше остаться вам здесь.
— Вместе с дочерью? Так?
Подтвердил:
— Вместе с ней.
— Ну и останемся мы...
Рассказывал старый бродяга, вертя в тёмных руках дырявую шляпу, не поднимая лохматой седой головы:
— Он сдавал эту землю и брал за неё десять фунтов. Десять фунтов было трудновато для нас, однако мы всё-таки жили. Хлеба хватало и молока, а всю одежду делали сами. Но вдруг обмерил участок и потребовал вдвое. Это превышало стоимость фермы. Я пошёл в суд и попросил господина судью заступиться за нас. Так господин судья мне сказал, что нет такого закона, который запрещал бы увеличить арендную плату. Я спросил, что мне делать. Господин судья возразил — ведь он с господами, если сам господин, — что я должен выложить все двадцать фунтов сполна или уйти с этой земли, как бы ни был я честен, трудолюбив, какую бы нужду ни терпел. Тогда я и понял, что господа все тираны, похуже турецких.
Жаловался растерянный парень лет двадцати с испитым тонкогубым лицом:
— В нашей округе осталось три пастуха, а прежде жили и землю пахали человек двести, не меньше. Так выгнали всех. Куда ж нам идти?
Разглядывая эти озлобленные или унылые лица, исстрадавшись душой оттого, что им невозможно помочь, допытывался у них:
— Кто эти люди, которые вас сгоняют с земли?
Ему беспомощно отвечали:
— Это грабители.
Допытывался опять:
— Кто они, эти грабители?
— Они подлецы.
Стоял на своём:
— Кто эти подлецы? Почему они гонят вас?
Ему резко бросали:
— Они кровопийцы!
Всё-таки старался понять:
— Кто эти кровопийцы?
Говорили с негодованием:
— Это разбойники!
Спрашивал:
— Кто они, эти разбойники?
Сообщали с мучительным взглядом, который лучше слов говорил, что эти несчастные, изгнанные, ограбленные не понимали его:
— Опустошители.
Не терял надежды добраться до истины:
— Кто они, эти опустошители?
Собеседники отступали на шаг и глядели на него с нескрываемым удивлением, точно укоряли, что дело такое простое, а он его не способен понять:
— Они — богачи!
Всё-таки продолжал:
— Кто они?
Отмахивались:
— Это наши обидчики.
В сущности, эти люди, несчастные и обобранные, пущенные злой волей по миру, были правы: на них шла стеной и ломала их безымянная, многоликая сила.
Владелец гнал их с земли и сдавал эту землю торговцу из Лондона. Он тотчас, получив свой барыш, сдавал её пришельцам из Йорка, Ноттингема, Бристоля и Норвича, случайным людям без роду и племени, без определённых занятий, не записанных в цехи и корпорации. Пришельцы запускали исконную пашню, бывшую в этих местах с непочатых времён, обращали в пастбища обширные земли и разводили овец в невиданных дотоле количествах.
Год проходил, всего только год, и округа меняла лицо. Вместо переливавшихся волнами клиньев поспевающей ржи, вместо красневших полосок гречихи всюду пестрел однообразными головками клевер, зеленели высокие травы, цвели васильки. Вместо благополучных, зажиточных, сытых людей по зараставшим дорогам бродили грязные полчища неприкаянных, беззащитных, голодных бродяг, которые понять не могли, что с ними стряслось, и не ведали, чем и зачем дальше жить.
Становилось стыдно, больно, бессильно, но отчего-то только ему, а не тем, кто сгонял землепашцев с родимой земли. Его конфузил собственный дом, обеспеченность, сытость, твёрдый доход, стал одеваться до крайности скромно, однако это не успокаивало, не утешало. Безжалостно ущемлял свои самые насущные нужды, сокращал расходы возраставшей семьи.
А беспокойство росло и росло. Душа продолжала страдать. Ей всё казалось, что именно он в ответе за тех, кто ютится в жалких лачугах, в заброшенных пепелищах, в придорожных лесах, у кого не находилось к обеду ни мяса, ни сыра, ни молока, кто одет кое-как и в любую минуту может быть бит, как бродяга, клеймён, отправлен на виселицу.
Несчастия и пороки, преступность и нищета, разврат и беспробудное пьянство, бесправие и жестокость, выгода и безнравственность переплетались в один тугой узел, который он должен, призван был развязать.
Кто призвал его?
Должно быть, Господь, ибо ничего не делается без воли Его.
Почему был призван именно он?
На этот запрос сколько-нибудь определённо и внятно ответить, как ни бился, не мог.
Тем не менее всё острей ощущал с болезненной, раздирающей мукой, что именно ему предстоит одним разом решить все вопросы, каким-то очень простым удивительным способом избавить несчастных и обездоленных от бесчисленных бед или больше не жить.
А один юрист был бессилен разрешить все вопросы, видел замкнутый круг. Его мысль неизменно ударялась о стену: выгода — несправедливость — бессердечие — зло.
Тем временем Джон Мор выплатил под видом штрафа неизвестно за что сто фунтов стерлингов, и старый Генрих выпустил отца из Тауэра.
Томас тотчас покинул аббатство, гостеприимство которого благословил в прощальной молитве, и возвратился в свой дом, где его, благодарение Господу, охраняла от монаршего гнева Великая хартия вольностей.
Однако в возвращении был новый укор: дом был полная чаша.
Ужасно захотелось встретиться с Колетом, в надежде на добрый совет, поторопился к нему, однако Колета не было в Лондоне.
Не мешкая собрался в дорогу и выехал за городские ворота, непроспавшимся, утром.
Мирно поскрипывало доброй кожей седло. Грустный дождь мочил голову, плечи и спину, прикрытые старой попоной. Дорога была едва различима. Стальные подковы громко чмокали по намокшей траве, за полнившей старые колеи. Пахло сыростью и сытой землёй. В росистых лугах, плотно прижавшись друг к другу, дремали неподвижные овцы. Пастух сидел под кустом, опираясь на посох, укрываясь от непогоды шляпой. На одинокого всадника грозно рычали рослые псы, но ленились бежать за ним по мокрому лугу.
Томас размышлял:
«Эти кроткие овцы, довольные очень немногим, вдруг стали такими неукротимыми, такими прожорливыми. Они поедают даже людей, опустошают поля. И вот в тех частях королевства, где добывается более ценная шерсть, бароны и лорды, даже аббаты, люди святые, сами себя призвавшие к аскетической жизни, не довольствуются теми доходами и процентами, которые обычно нарастают с имений. Не удовлетворяются тем, что их праздная, их чрезмерно роскошная жизнь не приносит никакой пользы для общества, даже вредна для него. Нет, они в своих владениях сносят дома, а храмы превращают в убежища для овец. Эти милые люди обращают в пустыню все поселения и каждую пядь возделываемой трудами многих земли, как будто и без того у нас её мало теряется под загонами для лис и зверинцами. Таким образом, с той поры, как всего один обжора, ненасытная и жестокая язва отечества, уничтожает межи полей, окружает единым забором тысячи акров, он выбрасывает вон арендаторов...»
Погруженный в свои размышления, неприметно добрался до Степни, сельского городка в чреве Англии, спешился у трактира, привязал коня у столба и прикрыл его намокшей попоной, чтобы тот не простыл.
В просторном зале не было почти никого. Коротконогий трактирщик в сером фартуке, с молотком, с гвоздями в почернелых зубах, возился у лестницы, ведущей наверх, поправляя перила, повреждённые, должно быть, вчерашней пирушкой.
За дальним столом у камина высокий мясник с повязкой на голове вместо шляпы громко выкрикивал, негодуя, брызжа слюной:
— Ты что, сукин сын, опять с десятки пошёл? Сколько тебе, подлецу, говорить, по маленькой надо, по маленькой! Что за пень!
Широкоплечий кряжистый мельник невысокого роста, с сивой густой бородой на гладком, сытом желтоватом лице, застенчиво улыбался одними глазами, принуждённо смеясь, склоняя кудлатую голову, пригибаясь к столу, точно ждал, что мясник ударит его, мягко бубнил в оправданье себе:
— Это верно, сукин я сын, не в укор моей матери, надо сказать... Да знаешь ли ты, отчего?
Подсучив рукава домодельной рубахи на толстых руках, шумно хлебнув из стоявшего рядом почти пустого стакана, мясник зло оборвал:
— И знать не хочу!
Курьер с медной бляхой, с широченной приглуповатой улыбкой на худом обветренном смуглом лице рассуждал сам с собой:
— Хороший мог бы быть ход. Очень даже хороший. Ещё ладно, что случился туз у меня. Однако кто же мог знать. Это я говорю про туза.
Джон Колет перемешивал карты, когда он подошёл и поздоровался, сначала с другом, потом с остальными, которые спокойно и просто поклонились в ответ.
Хмуря широкие брови, покусывая толстые губы, зорко взглядывая вслед каждой сброшенной карте, Колет сказал, не подняв головы:
— Погоди, доиграем.
Выплюнув гвозди в ладонь, положив молоток и высыпав влажные гвозди на чистую тряпку, обтирая фартуком потные руки, трактирщик подошёл неторопливо к нему и спросил с достоинством человека, независимого и уважаемого в целой округе:
— Что станете пить, ваша милость?
Его обычная трезвость в придорожном трактире представилась неуместной, даже смешной.
Спросил кружку тёмного эля.
Мельник, рассеянно держа карты на обозрение игроков, примериваясь, какой бы сходить, чтобы верней, опасливо взглядывая на мясника, неожиданно спросил себе молока.
Отодвинувшись со своим табуретом назад, барабаня пальцами по крышке стола, поглядывая полуприкрытыми хитрыми глазками в карты соседа, курьер насмешливо бросил, искажая латынь:
— Фалернского одни собаки не пьют.
Поспешно сбрасывая туза, точно не знал, что делать с ним, улыбаясь беззлобно, мельник спросил:
— Отчего ж ты не пьёшь?
Швырнув карты, ударив кулаком по столу так, что подпрыгнули кружки, рявкнул на весь трактир:
— А, ты опять!
Мельник на мгновенье застыл, расширил глаза и задумчиво почесал в бороде:
— Вот те на! Как же он подвернулся?
Колет поднялся. Он вышел за ним, оставив не тронутым эль. Дождь прекратился. Сквозь редевшие тучи бледнело пятно, собираясь, должно быть, когда-нибудь сделаться солнцем. Становилось теплей. Джон подержал ему стремя и, как только он поднялся в седло, двинулся рядом, негромко сказав:
— Я тебе рад.
Мор сел несколько боком, так, чтобы по возможности наклониться к нему, и сообщил:
— А я за тобой.
Вскинув голову, пристально глядя на него снизу вверх из-под своего капюшона, похлопывая его по колену, Колет дружелюбно ответил:
— Лучше бы ты отдохнул здесь со мной. На тебе лица нет.
Возразил улыбаясь:
— Лицо ещё, кажется, есть, а времени нет.
Друзья поворотили в дубовую рощу. Густо запахло грибами и сыростью старого леса. С широких изрезанных листьев, неторопливо стекая, падали крупные капли и тяжело ударялись о чёрную землю. Колет говорил, оглядываясь по сторонам:
— Не думай, что бежать от толпы, стараться не видеть эти прекрасные вещи, а запираться в монастыри или укрываться в скиту — это есть самый верный путь к совершенству.
Вдыхая влажный густой чистый воздух, не стал возражать, а только заметил:
— Нынче, брат, не запрёшься в монастыре от толпы.
Стянув капюшон, отбросив назад, друг возразил, широко улыбаясь:
— Ты не запрёшься, ты меня не прочь запереть. Разве ты твёрдо веришь, будто Господу более угоден одинокий, бездейственный Павел, хоть и святой, чем трудолюбивый Адам, изгнанный из Эдема именно для того, чтобы хлеб свой добывал в поте лица, а не снимал барыши с пота других?
Ответил, увёртываясь, вовремя пригибаясь под нависшими ветками:
— Не верю, потому и приехал.
Отстав от него, подпрыгнув легко, пригнувши высокий орешник, догнав его быстрым шагом, протягивая полные пригоршни спелых орехов, дары щедрой земли, Колет протестовал с весёлым лицом:
— Здесь я целыми днями в трудах.
Оставив поводья на луке седла, перебирая бархатистые гроздья, улыбнулся:
— Это я видел.
Раскрывая крепкими пальцами зелёную сумку, с хрустом разгрызая орех, старательно выбирая из скорлупок ядро, Джон полушутливо рассказывал:
— Я встаю очень рано, до петухов, провожу утро в лесу, читаю Данте, Петрарку, Овидия или Тибулла. Ручей журчит. Птицы поют. Я узнаю о тех горестях, какие переживали великие люди в прежние времена, о привязанностях, которые были у них, и думаю о своих. После обеда иногда заглядываю в трактир. Мне любопытно выспрашивать у проходящих о том, что делается в разных краях. Благодаря их рассказам я наблюдаю разные вещи и узнаю людские фантазии.
Убрав орехи в перемётную сумку, перебил:
— Я думаю, нынче проходящих не много.
Колет согласился, очищая новый орех:
— Говорят, прежде трактир был полон чуть не до крыши, а нынче пустеют места. И у мельника, и у мясника тоже стало меньше работы, чем было ещё лет пять или десять назад. Изредка я с ними играю, ты видел. Изредка между ними возникают мелкие ссоры, бывает смешно, а к вечеру я возвращаюсь усталый домой.
В такой жизни была своя прелесть, он это знал. К такой жизни его часто тянуло. Он бы и сам бродил по осенним полям, сам бы сидел у лесного ручья с Аристотелем или Платоном, играл бы в карты с мельником против курьера и мясника, вместо горьковатого эля просил бы стакан молока и выслушивал бы шутки о том, что доброго вина не пьют только собаки, а к вечеру возвращался бы с миром домой, к любимым книгам, к любимым детям, к нелюбимой жене. Образ жизни не затворника, но спокойного созерцателя жизни лучше всего подошёл бы его тихому, мирному нраву. Был бы безоблачно счастлив, если бы только не долг, тяготевший над ним, который томил и шептал, что он в ответе за всех, и пугался подобного счастья, ибо не мог не считать, что для него подобный образ жизни был бесчестьем. Сдерживая коня, прибавлявшего шаг, горбясь в седле, произнёс горько:
— Мне тоже нравится здесь, клянусь Геркулесом, однако тут мы с тобой никому не нужны. В деревне люди больше частью невинны, по крайней мере значительно меньше запутаны в сети порока, чем в городе, и для врачевания этих слегка и случайно запятнанных душ годится и менее опытный врач.
Швырнув скорлупки ореха в кусты, Джон поднял на него большие глаза и вновь ухватился за стремя, чтобы легче было идти:
— Моя мать разрешалась от бремени двадцать два раза, но лишь я один остался в живых. С той поры, как помню себя, привык думать, что предназначен на служение Господу, а Господу можно успешно служить в любом месте и различными средствами.
Внезапно отброшенный в непроходимое, неотвязное одиночество, ощущая детскую жалость к себе, чуть не до слёз, настойчиво продолжал:
— Ты прав, однако честному человеку надлежит занять своё место. Я думаю, что в большом городе мы больше нужны, чем в малом или в деревне. В большом городе соблазны на каждом шагу и пороки слишком глубоко въелись в каждого жителя. По этой причине я полагаю, что Господу много угодней, чтобы именно в этом вертепе греха находился более опытный врач.
Хмуря брови, потирая висок, точно прогоняя боль в голове, Колет задумчиво возразил:
— В деревне я могу служить двум богам, Христу и словесности, а в городе служу только Христу.
Встрепенулся, уловив его колебание:
— Люди слушают не всякого пастыря, и доверие имеет возможность снискать только тот, кто свободен, как ты, от страстей и пороков, а самые истинные слова, которые говорит им наставник, вызывают втайне противодействие, ибо люди не терпят обмана, когда видят и слышат его.
По лицу друга прошла тень. Джон усмехнулся чему-то, машинально дёргая стремя:
— И с неистребимой любовью к тому же пороку с большим удовольствием обманывают других.
Сказал рассудительно:
— Что делать, простые люди часто колеблются между злом и добром, как трава на ветру. Каждый день им нужен пример, он обращал бы их к добродетели.
Колет подхватил, останавливаясь на повороте узкой тропы, пропуская вперёд, звучно шлёпнув ладонью по гладкому крупу коня:
— Простые люди слишком невежественны, чтобы у них сложились убеждения истинные, даже с добрым примером. Ты не поверишь, в этой округе с каждым днём прибавляется еретиков, и кое-кто настроен очень воинственно.
Удивился:
— Откуда в этой глуши?
Джон, может быть, не расслышал, отстав шага на два:
— И знаешь ли, что они говорят?
— Откуда мне знать?
— Они говорят, что не должно быть ни пап, ни королей, ни каких-либо иных духовных и светских властей, что все должны стать друг другу братьями, ещё здесь, на земле, что каждый должен вырабатывать хлеб свой трудами своих, мозолистых рук и что никто не должен иметь больше того, что имеет брат его во Христе.
— И ты не почитаешь их убеждения истинными?
— Нисколько!
— Но почему?
— Прежде всего потому, что истинные убеждения складываются только у тех, кто настойчиво овладевает словесностью, кто много читает и пишет, ибо те, кто напитался учением Аристотеля, Платона, Христа, редко совершают дурные поступки и не желают ничего сверх того, что необходимо, тем более не желают присвоить чужое добро: в них чувствительней становится совесть, залог добродетели.
Просека всё расширялась. Впереди появился просвет с клубившимся небом. В воздухе прибавилось свежести и остроты. Они выходили из леса. Придерживая коня, чуявшего отдых и сытное стойло, дождавшись, пока учёный друг догонит его, взволнованно возразил:
— Однако должно признать, что не каждому доступно такого рода познание.
Колет добродушно напомнил:
— Господь создал равными всех.
Соскочивши с коня, ведя его в поводу, разминая затёкшие ноги, устало, тяжело объяснил:
— Господь создаёт всех нас по образу и подобию Своему, однако, как ты не можешь не знать, семена Его всходят по-разному. Как рождаются высокого, среднего и низкого роста, так одни растут малодушными, другие держатся середины по скромности, а третьи стремятся к возвышенному, к прекрасному, словом, к тому, что заслуживает особого восхищения, тогда как многие стремятся только к богатству, а к богатству, по их мнению, все пути хороши. Это нетрудно заметить, но это невозможно понять.
Дёрнув за повод коня, потянувшегося мордой к придорожной траве, угрюмо спросил:
— Вот скажи, почему?
Колет приблизился и обнял его за плечо:
— Напрасно удручать себя тем, что неподвластно уму, ибо сказал Златоуст: «Отчего происходит, что тот или иной человек богат? Я вам отвечу: одни богаты по дару Господа, другие с Его разрешения, иные, наконец, в результате распределения благ, тайна которого нам не известна. Итак, если Господь распределяет богатство или разрешает его, не приобретает ли оно тем самым священный характер, не подкрепляются ли в этом случае мирские дела делами божественными?»
Резко поворотившись, освободившись от мягко лежавшей руки на плече, тыча указательным пальцем в его костистую грудь, потребовал почти зло:
— Чем, скажи, чем именно заслужил перед Господом тот, кто беден, и тот, кто богат?
Колет придержал его нетерпеливую руку:
— Я полагаю, один гордыней и пустыми речами, а другой смирением и молитвой, ибо речёт Августин, который с недавних пор по сердцу тебе: «В человеке осуждаются не деньги, но только скупость».
Уже выйдя из леса, безразличный к виду простора, вдруг хлынувшего на них, не глядя по сторонам, неприязненно усмехаясь, возмущённо кричал:
— И с той поры, как оный решил, что заслужил перед Господом, один ненасытный обжора, эта жестокая язва отечества, уничтожает межи полей, окружает единым забором несколько тысяч акров земли, выбрасывает вон арендаторов, лишает их, подавив насилием или опутав обманом, даже достояния или, замучив обидами, вынуждает к продаже его за гроши. И вот переселяют несчастных: мужчин, женщин, малых детей. Гонят с привычных, насиженных мест. И вот те, кто не заслужил, как ты говоришь, не знают, куда им деваться. Те, кто не заслужил, продают за бесценок всю свою утварь, и без того имевшую мало цены, даже если бы она могла дожидаться хорошего покупателя. А когда те, кто не заслужил, в своих странствиях по белому свету потратят эти гроши, то что им остаётся, как не воровать и попадать на виселицу или скитаться и нищенствовать, ходить в отрепье и питаться отбросами? Ты скажи, чем эту участь заслужили они?
Собеседник легко рассмеялся:
— На всё тебе ответит словесность, наш другой бог и верный учитель наш.
Вспыхнул:
— Я вопрошал Господа, искал света в словесности, однако ни Господь, ни словесность не ответили мне! Или я тоже не заслужил перед ними?
Колет рассудил дружелюбно, опережая на шаг и взглядывая сбоку в глаза:
— Возможно, ты ищешь ответа, которого нет, ибо, как должно быть известно тебе, не всё земное подвластно земному, то есть ограниченному уму.
Сморщился, точно от боли, и отвернулся:
— Ответ должен быть!
Джон повёл широким жестом окрест:
— Ты лучше взгляни.
Взглянул, повинуясь, уже понимая, что напрасно искал встречи с ним, что ответа не найдёт.
Они спускались с холма. В сизых далях клубился закат. Сквозь пышные облака, отыскав золотое окно, высунулось чистое солнце и бросило свет и длинные тени, которые как будто поднимались, шагая, навстречу. Налево искрилась река. Крылья мельницы слабо кружились. Направо лежала усадьба. Перед усадьбой расстилался свежий, зелёный, гладко стриженный, точно изумрудный газон. Отвернулся:
— Что ж из того?
У Колета заблестели глаза:
— Если бы ты был похож на осла, ты бы задвигал ушами.
Томас умел это делать, о чём Джон знал, и нарочно подвигал, сказав:
— Я даже глупее осла, если хочешь.
Лицо друга оставалось спокойным, но большие глаза блестели всё ярче, и голос немного дрожал:
— Едва ли глупее, а вот упрямей наверняка.
Нехотя согласился:
— Должно быть.
Колет взял его под руку и склонился к нему:
— Сейчас мы войдём в этот дом, где сбросим будничное, обыкновенное платье, полное грязи и сора. На кухне, где под потолком висят связки лука и закопчённая ветчина, обмоемся тёплой водой, облачимся в царственные одежды, сшитые по рисункам на греческих амфорах, и в этих одеждах войдём в греческие дворцы, принятые с любовью греками. Там станем вкушать ту обильную пищу, что единственно наша, для которой мы с тобой рождены. Без стеснения побеседуем с ними и расспросим с должным вниманием о разумных основаниях всех наших поступков, и они нам ответят, как смогут. Тогда мы позабудем печали, позабудем бедность и смерть, перенёсшись к ним если не телом, так духом.
Мор же сказал:
— Друг Джон, я благодарен тебе, но поверь, это мне больше не помогает, не прогоняет печаль.
Колет остановился и спросил удивлённо:
— Томас! Томас! Разве эти занятия уже не наставляют тебя в добродетели?
Ответил:
— Я не о том.
Так жил в постоянной тревоге, искал ответа, мечтал, чтобы исчезли пороки и преступления, а это значило, чтобы не стало богатых и бедных, но ответ не давался ему.
Тем временем его выступление против старого Генриха не забылось, государь был мстителен, хоть и откладывал месть. Арестовать его могли в любую мину ту. Каждый день по велению короля происходили аресты и казни, главным образом потому, что имущество казнённых беспрепятственно поступало в казну, а их жалкие трупы долго смердели у всех на виду в назидание тем, кто покупал много или покупал мало, но давать в казну не хотел и оставался пока на свободе, и те, кто покупал мало, чаще тех, кто покупал много, попадали под острый топор палача. Ему посоветовали скрыться во Франции — побывал в Лувене, пожил в Париже. В тамошних университетах слушал лучших европейских профессоров, но и лучшие профессора ничем ему помочь не смогли. Томас не зажился на чужбине, потянуло домой.
Летели в исканиях быстрые годы. Появились морщины в уголках глаз и вокруг рта. Всё больше дел становилось в суде. Всё меньше оставалось досугов для тихой беседы с мудрецами Афин или Рима. В деловых кругах Лондона имя его становилось всё популярней. Именитые граждане приглашали на свои семейные торжества. На приёмах иноземных торговых посольств ему поручались ответные речи. Едва старый Генрих отдал Господу душу, Мора вновь избрали в парламент представителем общин, предложили должность помощника лондонского шерифа, и он сделался юридическим советником шерифа и мэра, включили в посольство, отправлявшееся во Францию, чтобы урегулировать торговые отношения.
Юный Генрих, новый король, едва ступив на престол, искал прочной дружбы с Испанией, надеясь на то, что со временем его дочь займёт испанский престол по праву родства. По этой причине, когда ему пообещали вернуть французскую корону и бывшие владения Плантагенетов, монарх вступил с королём Карлом в военный союз. Английские солдаты вошли в Пикардию. Французский король был в очередной раз побеждён. Французский престол стал как будто свободен. Генриху представлялось, что ещё миг — и французская корона возвратится к нему. Он пустился в двойную игру. Надеясь укрепить испанский союз, Генрих обещал Карлу в жёны сестру, а из-под руки вёл переговоры с французами. О переговорах донесли королеве. Королева продала тайны Генриха Карлу. Карл женился на португальской инфанте, не считаясь с тем обещанием, которым втянул тщеславного Генриха в военный союз. Охваченный благородным негодованием, монарх запретил английским купцам вывозить во Фландрию шерсть и ввозить в Англию фламандские ткани, чтобы подорвать ремесло и торговлю во Фландрии, этой жемчужине испанской короны. Этот безумный запрет больно ударил по Англии. В этом деле переплелись и запутались многие интересы. Переговоры оказались нелёгкими. Нужно было не только согласовать интересы двух враждующих стран, но и не задеть капризного самолюбия ни одного из самолюбивых монархов, претендовавших на единоличное господство в Европе. И то и другое ему удалось. Возвратился он с новым почётом. Генрих принял его благосклонно. Его поспешно провели в небольшой кабинет. Король поднялся навстречу, широко улыбаясь, дружелюбно спросил:
— Сколько лет я не видел тебя?
Разглядывая с любопытством молодого правителя, сохраняя почтение на спокойном лице, ответил, мысленно подсчитав:
— Почти восемнадцать, должно быть.
Взглянув недоверчиво, точно тоже прикидывал быстро в уме, Генрих с удивлением протянул:
— Но ведь ты не изменился совсем.
Отозвался:
— Зато вы повзрослели, ваше величество.
Сильно тряхнув тогда ещё длинными волосами по моде рыцарей прежних времён, Генрих воскликнул сердито:
— Повзрослел, да, видно, не набрался ума! Ссориться с Карлом, торговаться с французскими лордами, всегда готовыми поднять оружие на своего короля, позволительно сколько угодно, а шутить с торговлей, как видно, нельзя!
Подтвердил:
— Торговля, земледелие и ремесла составляют благосостояние Англии...
Король не позволил договорить:
— Мой первый опыт оказался очень тяжёл, но я повинуюсь ему. Он мне помог разглядеть, что нынче и земледелие, и ремесла в руках у торговых людей. Они заводят мануфактуры и покупают земли у лордов.
Мор подсказал:
— И дают деньги казне.
Генрих подхватил оживлённо:
— Мало, мало дают! Мне необходимо в десять раз больше. Деньги нынче решают всё!
Поправил:
— Многое, но не всё, ведь во Фландрии я никому ничего не платил. Больше того, справедливо сказать, что ими питается земледелие и торговля, строятся города, создаётся армия, флот, но ещё больше в них таится разрушительных сил.
Раздвинув крепкие ноги бегуна и борца, откинув молодое мускулистое тело назад, обхватив руками широкую грудь, Генрих переиначил слишком легко:
— Вот и я говорю, нужда в них поправила то, что мы чуть не испортили с Карлом.
Карл тут был ни при чём, Генрих сам чуть было всё не испортил, и Мор напомнил ему:
— Цена на хлеб поднялась во многих местах. Шерсть возросла в цене так, что стала бедным не по карману, а ведь бедным она идёт на одежду, и потому многие остаются без дела и становятся праздными.
Король рассмеялся легко и свободно:
— Полно, полно об этом! Беда миновала. Своё поручение ты исполнил блестяще. Курьеры всякий день доносили о ходе переговоров, и я, следя за твоими шагами, тоже кое-чему научился, а за науку надо платить. Так вот я плачу, я плачу! Я назначаю тебе ежегодную пенсию!
Монарх улыбнулся лукаво, точно вспомнил о чём-то очень смешном, и прибавил смеясь:
— Скажем, сто фунтов. Надеюсь, этого будет довольно, чтобы мы были в расчёте?
Вдруг что-то понял, скорей угадал, но в тот миг разобраться не смог, что именно угадалось ему в характере короля. Лишь ощущал, что угадывалось самое главное, но не в том, о чём подумал сначала, не в характере. Угадывалось именно то, что искал все эти годы. По этой причине ответил он почти машинально, страшась упустить мелькнувшую мысль, пытаясь тотчас схватить и обдумать её, с дрожью в голосе понимая, что ответ каким-то образом является лишь продолжением его неосознанной мысли:
— Я польщён вашей милостью, благодарен вам за неё. Надеюсь, вы простите меня, однако, к несчастью, принять её не могу.
Генрих рассмеялся язвительно, кротко, разводя с досадой руками:
— Тебе мало ста фунтов?
Ему не надо было считать, знал и так, что эти сто фунтов, соединённые с его прекрасными заработками, навсегда обеспечили бы достаток огромной семье, как знал и то, что не взял бы и тысячи фунтов, даже если бы прозябал в нищете, но ощущал до боли в висках, что не может принять этой пенсии не только из гордости, но ещё по какой-то иной, более важной причине, и ответил сухо, глядя самодержцу прямо в глаза:
— Вполне достаточно, ваше величество. Даже слишком выгодно для меня.
Генрих нахмурился, замолчал, теребя свой странный, тонкий, без переносицы нос, прикрывая глаза, и вдруг почти виновато спросил:
— Разве пенсия унижает тебя?
Ответил просто и честно:
— Нисколько. Я не считаю для себя оскорбитель ной пенсию, которую вы готовы назначить мне за труды.
Тогда на него уставились голодные выпуклые стальные глаза, точно пронзали насквозь:
— Тогда что?
Нечто важное упорное ускользало. Преследуя по пятам это нечто, ухищряясь вот-вот догнать его и схватить, нерешительно выдавил из себя, точно отчёта не отдавал, что говорит:
— Зачем вам новый слуга?
Король усмехнулся, прищурился:
— Как зачем? Вокруг меня слишком много глупцов. Мне необходимы умные слуги. Хотя бы один.
Показалось, что близится к цели, медленно, в раздумье сказал, вдруг почти с вызовом взглянув в эти выпуклые стальные глаза:
— Приняв пенсию из рук короля, я буду вынужден отказаться от нынешнего моего положения, которое любого другого предпочтительней для меня, даже лучше всех остальных. Или, чего ни под каким видом я не желаю, рискую восстановить против себя многих сограждан.
Генрих вздрогнул и вскинул голову, как норовистый конь, оскорблённый прикосновением шпор:
— Ты дорожишь мнением черни? Ты боишься её?
Его глаза слегка улыбнулись, открыто поглядел на короля и твёрдо сказал:
— Да, именно так, мнения моих сограждан я ужасно боюсь, потому что уважаю их.
Генрих откинулся, переменил позу и произнёс, надменно складывая тонкие губы:
— Тебе не следует опасаться мнения черни. Я умею защищать моих слуг.
Казалось, был уже близко:
— Может быть, ваше величество, я выразился неточно. Я хотел только сказать, что если между моими согражданами и моим королём вновь возникнут недоразумения и разногласия относительно привилегий и прав, сограждане, зная, что я получаю пенсию из казны, не смогут считать меня искренним и справедливым защитником их интересов, они перестанут мне доверять.
Генрих сморщился, потеребил ухо и с презрением буркнул:
— Мнение черни? Что мне до него? И что мне до твоего отношения с теми, кто обязан повиноваться, а не противиться повелениям своего владыки?
Возразил:
— До этого есть дело мне.
Монарх вздёрнул рыжеватые брови:
— Однако же почему?
Плечами пожал, в свою очередь удивляясь, как может умный Генрих этого не понять:
— Ведь должен же кто-нибудь защищать привилегии и права ваших подданных верой и правдой, а не только за деньги, которые они готовы платить.
Король коротко рассмеялся и пренебрежительно бросил:
— Вот и защищай их привилегии и права, но не за деньги, что они платят тебе, но служа мне верой и правдой, тоже за деньги, которые даю тебе я.
Спокойно ответил:
— Чтобы служить им верой и правдой, я должен быть независим в одинаковой мере от короля и от них самих и не брать денег ни у одной стороны.
Его величеству надоел этот спор. Генрих попросил, принуждённо смеясь:
— Что ж, подумай, время у тебя есть, а пенсия останется пока за тобой.
Поклонился:
— Да, мне о многом надо подумать.
Глава двадцатая ДВА МУДРЕЦА
Томас тогда почти понял, но всё ещё не был уверен в себе. Свои догадки надо было проверить. Вновь погрузился в нетленные сокровища древних философов, порой проводя за столом целые ночи без сна, то перелистывая спасённые от истребления фолианты, то отрываясь от них, прикрывая уставшие от напряженья глаза, размышляя. Ему хорошо говорилось и спорилось с ними. Философ видел их точно выбитые на меди мудрые, умиротворённые лики, слышал приглушённые их голоса. Порой забывал, что прах древних давным-давно перемешался с ещё более древней землёй, кото рая когда-то носила их, как теперь носит его, чтобы потом принять его прах. Воображение разгоралось, видел себя среди них. Они были живы, и негромкими голосами делились своими мыслями.
Чаще других являлся к моложавому старику с поредевшей ухоженной бородой, заплетённой в косички, как уже нынче никто бород не носил. У этого человека был чрезмерно широкий низкий выпуклый лоб, так же чрезмерно широкая сильная грудь, точно тот был водоносом, и костистые плечи, покрытые изношенным серым плащом. Старик неподвижно сидел у подножия статуи. Статуя изображала мужчину в расцвете лет. Лоб мужчины был ещё шире, однако высокий и гладкий, совсем молодой, грудь тоже широкая и мускулистая, как у атлета. На подставке статуи было начертано:
«Митридат персидский, сын Ротобата, посвящает Музам этот образ Платона, работу Силаниона».
Философ восседал на обтёсанном камне, точно на троне. Перед ним на зелёной траве, поджав ноги, сидел ученик, только один, а прежде, предание говорит, ученики приходили к камню десятками. Между ними на свободном пространстве беспечно прыгали воробьи, похожие на всех других воробьёв, что ужасно удивило его. Собрав лоб морщинами, подозрительно хмурясь, Платон слабым голосом говорил:
— Странный я видел сон: будто превратился я в лебедя, летал над деревьями сада, садясь то на одно, то на другое, доставляя много хлопот птицеловам. Скажи же мне, Симмий, что бы это могло означать в моей жизни?
Глядя пристально на прыгавших воробьёв, что-то выклёвывавших у его ног из травы, ученик негромко сказал:
— Этот сон в твоей жизни, учитель, я думаю, не имеет никакого значения. Его смысл, должно быть, указывает на те времена, надеюсь, очень далёкие, когда тебя призовут великие боги и ты нас покинешь, твоих верных и преданных учеников.
Прикрыв большие, слишком близко поставленные друг к другу глаза прозрачными, бледными веками, тоже глядя на прыгавших воробьёв, подступавших ближе к нему, старик неторопливо задал вопрос:
— Почему ты так думаешь, Симмий?
Подняв с земли сухую веточку пинии, обломав её, чертя на земле силуэт широко парящего лебедя, юноша рассудил так:
— В диалоге «Фёдр» ты сам назвал себя соневольником лебедей. Все знают также о том, что эта птица принадлежит Аполлону. Люди о тебе говорят, будто однажды ночью бог Аполлон возлёг с твоей матерью Периктионой, а потом предстал перед мужем её Аристоном и повелел ему не сочетаться более с ней до тех пор, пока она не разрешится младенцем. Говорят ещё, что так оно и случилось, и ты сам, сколько ведомо мне, никогда не опровергал таких слухов. Сопоставив с этими слухами сон твой, я прихожу к заключению, что после кончины твоей бог Аполлон, твой отец, превратит тебя в лебедя.
Подставив ладонь, опущенную до самой земли, подманивая к себе воробьёв, нисколько не пугавшихся его, философ раздумчиво произнёс:
— Я нахожу, что в своём доказательстве ты воспользовался индукцией по следствию. Скажи мне теперь, будет ли эта индукция риторической или диалектической, и, сделай милость, выведи заключение.
Отбросивши веточку, разглядывая широко парящего лебедя, очень верно изображённого им, старательный ученик так заключил свою мысль:
— Эта индукция отчасти риторическая, отчасти диалектическая, ибо я здесь иду от частного к частному, однако в этом частном всё-таки скрывается общее. Частное состоит в том, что, превратившись в лебедя, ты доставишь много хлопот птицеловам, ибо эта царская птица слишком редко попадает в их жалкие сети. Общее же состоит в том, что этим лебедем для потомков станет твоя философия, а её толкователи будут подобны тем птицеловам, которые постараются выследить твои мысли, только твои мысли так и останутся неуловимы для них, ибо твои сочинения, мой учитель, как и поэмы старца Гомера, допускают толкования и физические, и этические, и теологические, и множество иных, отчасти говорят, что эти души всесторонне гармоничны и потому восприниматься могут весьма разнообразно, как и должна восприниматься всякая великая мысль.
Заслушавшись беседой учителя с учеником до того, что забыл, где он и каким образом залетел в эту даль, Томас внезапно вмешался в чужой разговор, в волнении заговорив по-латыни:
— Всё верно, клянусь Геркулесом!
Старик не пошевелился, только пристально взглянул на него из-под седых клочковатых бровей, почему-то понимая золотую латынь:
— Ты разумеешь Геракла?
Смутившись, что ошибся так глупо, торопливо выговаривая слова, перешёл на язык сладкозвучной Эллады:
— Прошу прощенья, милорд, я всего лишь хотел подтвердить, что мысли твои в самом деле не всегда уловимы для толкователей, мой Аристокл, сын достопочтенного Аристона, за крепкое сложение ещё в юности получивший громкое имя Платон.
Философ не повернулся, только угрюмо заметил, приманив наконец воробьёв, один безбоязненно вскочил к нему на морщинистую ладонь:
— Истинно так, и по-нашему говоришь ты неплохо, однако не все слова произносишь, как должно, вставляешь чужие слова, а это означает только одно: ты чужестранец, без права гражданства. Откуда же тебе известно моё всеми забытое первое имя?
Опять заспешил, стараясь чище выговаривать чужие слова, звука которых в его время уже никто не слыхал, стыдясь, что произносит неверно, зная его по одним только книгам и лекциям Гроцина:
— Время сохранило и многие твои сочинения, как сохранило и некоторые записки, написанные теми гражданами Афин, кто мог слышать тебя или позднее читать о тебе.
Тут ученик, терпеливо молчавший, радостно вставил:
— Учитель, ты всегда говорил: было бы доброе имя, а записок найдётся довольно. И ещё говорил много раз, что плотские родители забываются, тогда как речения великих законодателей и великих поэтов, творцов бессмертных созданий, пребывают вовек.
Горячо подтвердил:
— Твоя слава, милорд, пребывает более тысячи лет, и записок о жизни твоей и творениях осталось довольно, однако число ещё большее погибло в огне, когда дикие племена разрушали на своём пути всё, чего не умели понять, и нам о тебе, к несчастью, стало известно не так много, как нам бы хотелось.
Теперь Платон поднял голову, согнав с руки весёлого воробья:
— Ты говоришь, мои сочинения погибли в огне?
Коротко поспешил рассказать то, чего старик, на счастье ему, уже не увидел:
— Были страшные, многие войны. После тех войн веками пустела земля. Великие города лежали в развалинах. В развалинах жили только бродячие псы. Были разрушены храмы, дворцы, погибли знаменитые статуи, сгорели великие картины, великие книги. Из девяти десятков трагедий Эсхила спаслось только семь. Столько же из ста двадцати трагедий Софокла. Из трудов Демокрита и Эпикура нам известны только отрывки. Многих авторов знаем мы по одним именам. Потеря для потомков невосполнимая.
Кротко наблюдая за тем, как другой воробей, так же бесстрашно вскочивший к нему на ладонь, клевал его загрубевший от времени палец, быстро и коротко дёргая головой, наставник невозмутимо разъяснил:
— Всему причиной неравенство, чужестранец. Ныне в каждом государстве стало два государства: одно государство бедных, другое государство богатых. Богатые жаждут ещё больших богатств и затевают войны ради приобретения их. Бедные тоже хотят и потому идут воевать, надеясь насытиться грабежом. После твоего рассказа нечего спрашивать, что происходит у вас. Я думаю, то же, что и у нас.
Согласился, не переставая дивиться невозмутимости философа, прозревшего причину разрушений и бедствий, которые не миновали Афин:
— Ты прав. Ничего не меняется. Те, кто у власти, владеет всем. Прочие неё граждане — лишь тем, что осталось.
Тут вмешался опять ученик, старательно морща маленький лоб, подражая в том учителю, сосредоточенно глядя перед собой, тоже к самой земле опустивши гладкую, ещё розовую ладонь:
— Всё сущее может быть или злом, или добром, или безразличным всему. Злом мы называем то, что вред приносит всегда: безрассудство, неразумие, несправедливость и подобное прочее. Добром же мы называем противоположное этому. Ни зло, ни добро — это всё то, что иногда полезно, иногда вредно, например, гулять, сидеть или есть.
Платон взглянул исподлобья и странной улыбкой улыбнулся ему:
— Во всей Элладе существовал лишь один человек, обладавший важнейшим знанием единой и единственной дели существования. За эти знания неразумные граждане убили его.
Ученик важно спросил:
— Ты говоришь о Сократе, учитель?
Вновь поглядывая добродушно на весёлого воробья, который подпрыгивал, охорашивался и чистил пёрышки на его морщинистой тёмной ладони, старик вспоминал:
— Я собирался выступить с трагедией на состязании актёров в театре, но послушал беседу его и бросил листки со стихами в огонь. С той поры я не занимаюсь искусством, такой силой внушения он обладал.
Юноша выпрямился и не мешкая перечислил, как отвечают урок, истово загибая палец за пальцем:
— Услуги разделяются на четыре раздела: или деньгами, или личным участием, или знанием, или словом. Таким образом, великий Сократ оказал тебе одной беседой в одно время три рода услуг: и личным участием, и словом, и знанием. Денег же у Сократа не было никогда.
Томас внезапно признался:
— Я тоже почти далёк от поэзии и риторики, хотя и пишу для себя понемногу плохими стихами.
Сжав стремительно пальцы, поймав воробья, поглаживая его трепещущую головку свободной рукой, Платон слабым сдержанным голосом продолжал:
— Из этого поступка сограждан я вижу, что наша общественная жизнь утратила свою цель, оторвалась от первоначального смысла. Наша общественная жизнь представляется мне кораблём, с которого бросили за борт кормчего, единственно способного, единственно знающего, куда следует плыть. Нынче между оставшимися поднялся спор, кому из них управлять кораблём. Это зовётся у них демократией. К управлению почитает себя призванным и способным всякий обученный и необученный, точно управление кораблём дело проще простого. За руль хватаются все, и каждый успевший схватиться преисполнен лютой злобы к тому, кто в делах управления считает необходимым глубокие и всесторонние знания. Обыкновенный сведущий мореплаватель слывёт среди этих безумцев мечтателем, звездочётом. Что бы сказали они, если бы между ними явился мудрец? Они сказали бы: изверг, тиран. Повсюду у кормила правления стоят смельчаки, они руководятся не знанием, но обманчивым мнением, и потому из существующих форм государственного устройства ни одна не достойна философской природы её.
Ученик был тут как тут и с готовностью перечислил:
— Государственная власть бывает пяти родов: аристократическая, царская, олигархическая, демократическая и тираническая. При аристократической власти правят не богатые, не бедные, не знаменитые, но лучшие люди. Царская власть бывает по происхождению или по закону, когда она продаётся с торгов. При олигархии власти избираются по достатку, и потому правят немногие: ведь богатых всего несравнимо меньше, чем бедных, а все богатыми не могут стать никогда. При демократии правит большинство, по своему усмотрению назначая правителей и принимая законы. Тирания — это власть одного, достигнутая хитростью или силой, редко достоинством и умом.
Разжав пальцы, наставник с мягким вздохом сказал:
— Ну, брат, гуляй, не знающий власти.
Наблюдая, как стремительно выпорхнул воробей и умчался куда-то, исчезнув из глаз, удивлённо заметил:
— Я вижу, что ваши определения относятся также и к нам, живущим спустя две тысячи лет после вас. Только слово «аристократия» нынче мы понимаем иначе.
Потирая ладонь, на которой сидел воробей, философ молвил устало:
— Из этого я заключаю, что и у вас кормило правления попало в руки слепцов. Они тоже руководятся не знанием, но ложными целями и обманчивым мнением.
Кусая губы, подтвердил:
— Да, учитель, и наши правители жаждут только славы и почестей, но ещё больше богатства.
Платон собирался что-то сказать, но тут юноша вмешался уверенно, дерзко, как не подобает ученику:
— Я нахожу, что правят у вас олигархи, то есть очень, очень немногие, кто владеет всем, чем можно владеть.
Томас с некоторым сомнением покачал головой:
— Пожалуй, нашу форму правления одним словом трудно определить. Отчасти у нас власть олигархов, то есть немногих, отчасти царская власть, после многих раздоров купленная с торгов, отчасти уже тирания, то есть власть одного, отчасти и демократия, то есть власть, как представляется непросвещённым, большинства, поскольку представителей нации избирают в парламент.
Прикрыв бесхитростные глаза, как будто пристально разглядывая ладони в паутине глубоких морщин, останавливаясь, трогая языком суховатые толстые губы, философ размышлял сам с собой:
— Переходное время всегда бывает крайне запутанным. Его не тотчас удаётся познать. Однако всё сущее стоит и в то же время не стоит на одном месте. По этой причине для философа и для всякого, кто превыше всех добродетелей ценит полное знание, абсолютно необходимо не принимать вселенную неподвижной. Ведь было же время, когда у власти стояли лучшие люди, аристократы, как принято называть их у нас, которые следовали советам богов, и тогда всё было общее, и люди не знали раздоров. Правда, они не удержались на месте. Страсть обогащения исказила их души. Охотники для ценных металлов стали копить золото и серебро, с помощью жён скрывая их в стенах жилищ. Лучшие люди превратились в царей, пользовавшихся ещё почётом и уважением граждан. Но богатства росли и росли. В первую очередь богатели преступники, святотатцы, отрезыватели чужих кошельков. Они образовывали власть для немногих, чтобы им было удобнее грабить сограждан. Богатые злоумышляли против бедных, собираясь обобрать тех до нитки. Бедные злоумышляли против богатых, мечтая когда-нибудь перерезать их всех до единого, лишь бы завладеть богатствами, которые те успели награбить. Бедным удалось победить. Они отчасти уничтожили, отчасти изгнали богатых, и богатство потеряло устойчивость. Оно слишком легко переходило из одних рук в другие и становилось соблазном для всех. Демократия даёт равные возможности обогащаться, но обогащает немногих, потому что богатства только одного, как ни дели, не хватит на всех. Власть достаётся по выбору, в голосовании участвуют все свободные граждане, и тот, кому, подкупом или по случаю, достаётся кормило правления, действует именем на рода, которым он избран, убирает противников и набивает свои кладовые из общественных сумм. Народное собрание иногда сменяет его, избирая другого, однако и тот, другой поступает таким точно образом, как и прежний, и вскоре гражданам становится безразлично, за кого отдать голос в следующий раз и стоит ли его вообще отдавать. Тогда демократия неизбежно превращается в тиранию. Первое время тиран всех обнимает и широко улыбается всякому, кого ни встречает, себя, натурально, не именуя тираном, обещает многое в частном и общем, освобождает кое-кого от долгов, раздаёт земли народу, а заодно и близким ему, притворяется кротким и милостивым ко всем. Он постоянно затевает войну, чтобы народ чувствовал потребность в сильном вожде, исподволь убирая своих осудителей, пока не останется у него ни друзей, ни даже врагов, от которых можно было бы ожидать хотя какой-нибудь пользы. Если общественная жизнь вашей страны к таким последствиям ещё не пришла, то не сможет со временем не прийти, ибо только одно из двух: великое или убегает или удаляется, когда подходит противоположное ему малое, или исчезает, когда последнее уже подошло.
Откинувшись на своей деревянной скамье, скрестив на груди бессильные руки, Мор с горечью подтвердил:
— Великое от нас уже давно удалилось.
— Я вижу, и вы, чужестранец, утратили свои добродетели, как и мы.
Ученик, исчезнувший было куда-то, вновь сидел перед ним на свежей зелёной траве, омытой дождём, поджав под себя худые гладкие голые ноги, и оживлённо жестикулировал, точно выступал перед народным собранием:
— Совершенная добродетель имеет четыре рода: разумение, справедливость, мужество и здравомыслие. Среди них разумение есть причина, заставляющая правильно делать свои дела. Справедливость есть причина правильного поведения в товариществе и в торговых сделках. Мужество есть причина стойкости и неотступности в опасностях и тревогах. Здравомыслие есть причина того, что мы властвуем нашими желаниями, не позволяем наслаждениям поработить нас и живём упорядоченно, как должно.
Отворотившись от назойливого юнца, лишь бы тот ему не мешал, Томас почтительно сказал:
— Я пришёл к тебе за советом, учитель.
Как-то странно дёрнув крепкой, красивой, прославленной в веках головой, указав на двух безусых, ещё не тронутых пороками юношей, они со значением, написанным на их важных лицах, о чём-то беседовали с обрюзгшим мужчиной пожилых лет в старом грязном плаще, старик усмехнулся:
— Всего трое осталось учеников, да вот этот весёлый болтун, который в минуты горьких раздумий развлекает меня. Более никому не нужна моя истина. Многие граждане Афин уже почитают меня сумасшедшим, однако я, чужестранец, не жалуюсь и не обижаюсь на них.
Мор был удивлён и поспешил утешить его, протягивая руку вперёд:
— Это неправда, большая неправда, учитель. Все те, кто просвещён и обогащает ум свой словесностью, почитают тебя как великого мудреца.
Что-то вроде испуга промелькнуло в выцветших, однако живых глазах:
— Я полагаю, ты смеёшься надо мной, чужестранец, употребляя множественное число там, где употребить было бы должно единственное.
Хотел дотянуться до философа, чтобы сочувственно тронуть согбенную спину и плечи приветной рукой:
— Нас и вправду немного. Однако же я не один твой почитатель и ученик. У тебя есть верные поклонники в будущем, его тебе не было дано увидать.
Старик пожевал губами, подумал и молвил:
— В твоё будущее, как ты хочешь, трудно поверить, наблюдая, какие мерзости творятся кругом.
— Однако истина незыблема и прекрасна. Истина на все времена.
— Истина, конечно, незыблема и прекрасна, о чужестранец, но думается, внушить её нелегко, когда большинство ищет не истины, а только богатства. Я пробовал много раз проповедовать истину разжиревшим Афинам и не успел ничего. Ты что-нибудь слышал об этом в твоём, как вижу, таком же безрадостном будущем?
— Да, я слышал, поверь мне. До нас дошли рассказы о том, как ты учил и как поучал. По этой причине я и захотел увидеть тебя, с тобой говорить.
Платон недоверчиво протянул:
— Что же повествуют о моём учении в ваших записках?
Поспешил рассказать, ласково улыбаясь ему, как ребёнку:
— Твой комментатор Олимпиодор, живший в египетском городе Александрии назад тому около тысячи лет и почти столько же после тебя, повествует о том, что в Сицилию ты отправился из желания видеть огнедышащее жерло как раз тогда бесновавшейся Этны, так как философу, говорил ты, подобает быть любознательным зрителем явлений природы, а вовсе не из любви к сицилийской кухне, как утверждал до него достойнейший Аристид.
Собеседник рассудительно вставил:
— Всё-таки истины ради, надо прибавить, кухня в Сицилии проще и здоровей, чем у нас, а у меня с ранней юности слабый желудок.
Продолжал, нисколько не удивившись внезапному замечанию, хотя у него самого желудок был с детства здоров:
— Далее, сообщает твой комментатор, ты пошёл в Сиракузы, когда в том славном городе правил жестокий тиран Дионисий, и попытался превратить тираническую власть в аристократическую, то есть хотел, чтобы к власти пришли лучшие люди, как я теперь понимаю тебя. Однако же, если верить твоему комментатору, ты избрал странный и не совсем удовлетворительный путь к умам и сердцам граждан.
Перебирая заплетённую бороду, беззащитно помаргивая глазами, философ всполошился:
— Что такое он наплёл про меня, этот учёный дурак из страны пирамид?
Спросил, рассчитывая на снисхожденье:
— Отчего же дурак?
— Ты же сказал мне, что он комментатор!
Рассмеялся:
— Твой учёный дурак утверждает, что Дионисий Старший, если не ошибаюсь, тебе тогда задал вопрос: «Кто, по-твоему, счастливец между людей?» Ты же как будто ответил, что первый счастливец — Сократ. После этого Дионисий снова спросил: «В чём, по-твоему, задача правителя?» Ты же будто бы ответил на это: «Задача правителя в том, чтобы сделать из подданных хороших людей». Дионисий задал и третий вопрос: «Скажи, а справедливый суд, по-твоему, ничего не стоит? » Ты будто бы к тому времени уже знал, что Дионисий имел слабость гордиться своим справедливым судом, и потому ответил ему: «Ничего не стоит или стоит самую малость, ибо справедливые судьи подобны портным, дело которых состоит только в том, чтобы заштопывать дыры на порванном платье». Тогда Дионисий задал последний вопрос: «А быть тираном, по-твоему, не требует храбрости?» Ты же ответил на это: «Нисколько, ибо из людей это самый боязливый на свете, потому что тирану приходится дрожать даже перед бритвой цирюльника в страхе, что тот зарежет его». Дионисий на это разгневался и приказал тебе уехать из Сиракуз. Вот что поведал нам твой комментатор.
Платон усмехнулся:
— Он не так уж много наврал про меня, твой учёный дурак, спасибо ему.
Томас искренне подивился:
— И ты в самом деле подобным образом отвечал па вопросы тирана?
— Приблизительно так, если не изменяет мне па мять. Что же странного ты находишь в ответах?
— Какой смысл раздражать тиранов такими советами?
— Может быть, ты прав, чужестранец, но я до смерти ненавижу тиранов.
— Чего же ты добивался такими ответами? Ты же почитаешь себя мудрецом?
— Тиранам следует всё-таки знать, во что их ценят философы, раз уж философам не дано средств отрешать их от власти и предавать заслуженной каре.
— Ты тоже, может быть, прав, великий мудрец. Может быть. Однако, выпади такой случай мне, я поступил бы иначе.
Старик сел поудобней на своём камне, до блеска вытертом временем, и опустил расслабленные руки между колен:
— Поначалу я тоже пробовал действовать по-другому. Твой комментатор из страны пирамид, должно быть, не всё рассказал, как это свойственно дуракам.
Припомнил в ответ:
— До нас дошла ещё одна версия о твоей встрече с тираном на острове олив и пшеницы.
Философ почти безучастно спросил:
— Ещё один комментатор?
Возразил улыбаясь:
— Скорее биограф. Он жил и писал после тебя спустя лет пятьсот.
— Долгонько, однако.
— Что делать! Твои современники, может быть, что-то о тебе и писали, но многое из написанного, как я тебе говорил, погибло в пламени войн.
— Как его имя?
— Звали его Диогеном, но прозвище у него было Лаэрций. Он по-своему передаёт твой спор с сиракузским тираном. Он говорит, будто бы Дионисий, сын Гермократа, заставил тебя жить при себе, однако же ты оскорбил его своим суждением о тиранической власти, сказав, что не всё то к лучшему, что на пользу тирану, если тиран не отличается добродетелью. «Ты болтаешь вздор, как старик!» — будто бы в гневе крикнул тебе Дионисий, а ты ему отвечал: «А ты как тиран».
Платон не пошевелился, только наморщил лоб и едва слышно сказал, при этом лицо его сделалось неприступным, чужим:
— Этот, биограф, кое-что слышал, но слышал не так, как это было. В самом деле, мы рассуждали о пользе тиранов для граждан. Я был неблагоразумен, ибо говорил ему то, что действительно думал. В казне Дионисия не было денег, как и случается постоянно с тиранами, и Дионисий призвал царедворцев, призвал и меня вместе с ними, чтобы мы дали ему верный совет, каким образом наполнить казну и благополучно уйти от банкротства. Один сказал, что надобно без промедления увеличить налоги. Второй сказал, что надобно повысить цену самых ходких товаров. Третий посоветовал пустить слух о войне и собрать с народа будто бы на закупку оружия и наем солдат. Четвёртый предложил выпускать более лёгкие деньги, чтобы ими покрыть государственный долг.
— Все подобные меры ещё более разоряют страну и наполняют казну лишь на время.
— Что полезного может родить пустая голова царедворца? Меньше, чем мышь, потому что она не гора. Я же сказал: «Эти меры бесчестны и гибельны, потому что плодят нищету. Как полнейшим неучем является врач, умеющий вылечивать болезнь болезнью же, так и тот, кто не может поправить жизнь граждан иным путём, как только обманывая их или отнимая у них блага жизни, должен признаться в своём полном неумении управлять. Чтобы казна всегда была полной, необходимо сократить расходы двора, уничтожить излишества, сделавши так, чтобы у придворного имелось не больше, чем у любого другого, обязать всех трудиться на полях или же в мастерских, по желанию, освободив от труда одних тех, кто охраняет государство или им управляет, и ввести равное распределенье продуктов, как это было тогда, когда государство только ещё начиналось и у власти стояли лучшие люди. Тогда никто не будет иметь больше, чем ему нужно для жизни, и все излишки можно будет употребить на общее благо». Однако же я проповедовал, как оказалось, перед глухими. Ты слышал от моего комментатора, что со мной сделал тиран за мой добрый совет?
Мор, конечно, читал и глухо ответил, вдруг предчувствуя что-то:
— Диоген говорит, что тиран выдал тебя спартанцу Поллиду, который отвёз тебя на Эгину и вывел тебя на продажу, как скот, но тебя выкупил Анникерид, мечтавший прославиться в скачках на колесницах, и этим прославил себя, так что потом говорили долгие времена: «Никто бы не знал об Анникериде, если бы он не выкупил из рабства Платона».
Философ кивнул в знак согласия, что всё так и было, и углубился в себя, размышляя неторопливо и вслух:
— Тиран ещё может снести оскорбление, но никогда не возымеет желания жить так, как другие, ибо ни малейшего признака равенства деспот не выносит, без различия, большой или малый, в руках у него золото или власть.
— Потому и не следует давать такие советы, что не могут принять. В дружеской беседе подобные рассуждения не лишены привлекательности, однако же в совете тирана для них не может быть места, следует знать сцену действия, приспосабливаться к той именно пьесе, которая у тебя на руках, и благопристойно выдерживать свою роль. Если нельзя с корнем вырвать превратное мнение, нужно пойти окольным путём и сделать возможно менее плохим то, что не можешь повернуть на хорошее, ибо нельзя, чтобы всё было хорошо, раз нехороши все люди вокруг, а я не ожидаю, что они станут добродетельны завтра или через несколько лет.
Ученик вновь подвернулся, воздел руку вперёд и не без гордости вставил своё слово в беседу:
— Добродетельный человек всегда найдёт подходящее место для подвига!
Платон же неприязненно пробормотал:
— Всё дело именно в том, как человеку сделаться добродетельным, когда добродетели попираются, когда добродетельный человек осмеян, презрен или забыт, а недобродетельный вкушает почёт.
Томас спросил:
— Ты что же, не согласен со мной?
Старик не взглянул на него, но ответил:
— Ничего хорошего из этого выйти не может. Стремясь вылечить бешенство других своей верной игрой, ты сам же сойдёшь с ними с ума. Философ должен говорить одну только правду. Тогда только он сохраняет спокойствие и делает своё дело, подобно человеку, который от града и бурного вихря спрятался под стеной. Наблюдая, как исполняются беззаконием те, кто окружает его, он рад, если хоть он один остаётся чистым от неправды. Проводя таким образом здешнюю жизнь, с прекрасной надеждой, кротко и весело ожидает своего исхода в вечное царство Аида. Я могу сказать тебе ещё по-иному: если философ видит, что народ попал под всё смывающий ливень грабежа и обмана и не может уговорить его укрыться под крышей, то уж лучше оставаться философу дома, по крайней мере останется сам сухим.
Не удержался от горькой усмешки:
— Ты говорил хорошо, но вымок насквозь.
— Я всего лишь человек, едва ли достойный именоваться философом, званием слишком высоким. Я видел, конечно, что вокруг меня преувеличенно ценят только грубую силу, презирают искусства, предпочитают им развлечения, влекутся к деньгам и к богатству и любят деньги много больше, чем доблесть и честь. Я правильно вывел из этого, что должен бе жать и скрываться, потому что перед этим злом я бессилен, как тот воробей, которого я сжал в кулаке, однако ж бежать я не смог, желание остаться оказалось сильнее меня. Я во второй раз отправился в Сиракузы, надеясь сделать мыслителя на троне из Дионисии Младшего. Я просил у него земель и людей, чтобы жить по законам моего государства, рождённого моим размышлением. Я так сильно подействовал на него, что он обещал, потом одумался и не сдержал своих обещаний, а меня обвинил, будто я побуждал Дионн и Феодота к освобождению острова олив и пшеницы от тирании. Я вновь убедился, что кормило правления нисколько не располагает к философским поступкам, но ученик мой Каллип был убеждён, что я не так, как бы следовало, принялся за дело. Совместно с Дионом он поднял мятеж, и они одержали победу, но и Дион не создал идеального государства, рождённого моим размышлением, и Каллип убил его и взял власть в свои руки и всё-таки произвёл не больше других для торжества справедливости. Я же с тех пор отрешился от государственных дел.
— Но ты поторопился, учитель. Слава твоя уже разнеслась по предвечной Элладе, и когда аркадяне с фиванцами основывали свой Мегалополь, в законодатели они пригласили не кого-нибудь, но тебя.
— Я предложил им поровну наделить всех сограждан землёй, ни для кого не делая исключения, но они отказались. Из этого я заключил, что они слишком свыклись с иными установлениями, чтобы принять мой совет, и отказался предлагать им законы.
Вскочив со скамьи, стремительно вышагивая по кабинету, почти не видя грустного старика, заспорил с ним напористей, громче:
— Как же ты мог? Ты ведь увидел, что именно деньги развращают души людей, что именно собственность превращает многих, если не всех, в непримиримых врагов, что богатые всё забирают себе, что только могут забрать, не всегда оставляя бедным даже мясо и хлеб, а бедные при первой возможности готовы перерезать глотки богатым, чтобы забрать у богатых то, что богатые забрали у них, и сделаться тоже богатыми. Зачем же ты предлагал им равную долю земли? Ведь равная собственность всё же останется собственностью, а собственность, даже поделённая равными долями, разъединяет и отравляет души людей. Нет, если так, то необходимо уничтожить деньги и собственность навсегда. Только в таком случае все будут в самом деле равны. Лишь отсутствие денег и собственности сделает каждого человека справедливым и честным. Почему ты не предложил им отказаться от собственности?
Платон равнодушно ответил:
— Они бы убили меня, как собаку.
Мор возмущённо воскликнул:
— И ты испугался, мудрейший из мудрых?
— Философу смерть не страшна.
Он сам был философом и разделял это мнение, но не тотчас поверил в искренность старшего мудреца и громко спросил:
— Может быть, ты и образ Сократа создал себе в назидание, предостерегая себя, что все советы твои порочным согражданам могут окончиться горькой чашей цикуты?
— В назидание, в назидание. Ты угадал, чужестранец. Однако же в назидание не себе самому. В назиданье другим. К примеру, тебе.
Мор крикнул враждебно, меняясь в лице:
— Стало быть, ты утверждаешь, что справедливость на земле невозможна?!
Старик не вздрогнул от крика, не изменился в лице, и голос его оставался невозмутимым и ровным, точно он говорил по-писанному:
— Доколе философы не станут властвовать в государствах или те, кого справедливо именуют тиранами, не обучатся воистину и правильно философствовать, так что философия и власть совпадут, пока не упразднится зловредное разделение того и другого, не будет спасения от страшных бед ни государствам, ни роду человеческому, ни отдельному человеку.
Слыша истину, бесспорную, давнюю, не принимая сердцем её, негодуя, нетерпеливо настаивал, подступая к одиноко сидевшему собеседнику:
— Хорошо, хорошо! Положим, что я согласен с этим твоим положением. Вот только ты мне скажи, каким образом должно соединить мудрость и власть, если и до нашей поры, через две-то тысячи лет, они решительно никогда не жили в дружбе друг с другом?
Поглаживая камень, на котором сидел, Платон отвечал едва слышно, почти не раздвигая бескровные губы, не шевеля точно каменной бородой:
— Ты не бойся того, что я скажу тебе, чужестранец, но соединить мудрость и власть невозможно. Мудрец с юных лет не знает дороги на площадь, не ведает, где судьи творят свой неправедный суд, постановления и законы ему ненавистны, потому что он не находит в них справедливости, а подчас и здравого смысла, участвовать в союзах, в собраниях, посещать политические обеды, добиваться политической власти ему не пригрезится и в мрачном сне.
— Власти добиваться и я не хочу, но я вот знаю уже, где творят суд, и ведаю дорогу на площадь.
— Тогда, чужестранец, ты не мудрец, ибо истинно мудрый живёт в действительной жизни лишь бренным телом и доволен вполне, если имеет хлеб, жилище и плащ, даже если тот плащ давно износился, а жилищем ему служит старая амфора из-под вина, как Диогену, не моему комментатору, нет, настоящему Диогену, а деньги и славу мудрый не ставит и в грош. И по этой причине ум мудреца, освобождённый от пут, проникает повсюду, измеряет недра земли и то, что скрыто в ней и над ней, повсюду исследуя сущее. Сначала он любит отдельное прекрасное тело, пока ещё молод и глуп. Затем, постигая сродство всех живых тел, начинает любить все прекрасные формы. Затем научается любить духовную красоту и прилепляется наконец своим сердцем к той единственной безотносительной красоте, которая проявляется одинаково и в мире телесном, и в мире духовном. В созерцании красоты этого мира и проходит жизнь мудреца. Лишь она одна даёт в его глазах цену жизни. Лишь ради неё стоит мудрому жить. Подумай об этом наедине.
— Но позволь, мудрый обязан к тому же приобщить всех остальных к открытой его размышлением красоте!
— Все прочие никогда не поверят ему. Даже самого мудрого все прочие не поймут. Они только увидят, что тот, кто зовёт себя мудрым, не умеет должным образом увязать свой дорожный мешок, ни в меру приправить кипящее кушанье, ни произнести, когда это выгодно, льстивую речь, всегда сладостную как для уха тирана, так и для уха толпы. Для них он всего лишь посмешище, слабоумный глупец. Они же любят под именем красоты пылких женщин, жирную пищу и хмельное вино. В пище, в женщинах и в вине для них вся радость, вся ценность, вся привлекательность жизни. Они уважают и готовы слушать лишь тех, кто сам имеет в избытке и обещает, что они также когда-нибудь станут иметь много пищи, много женщин и много хмельного вина.
С этим не спорил, поскольку каждый день видел всё это на торге, в суде, в парламенте, даже в монастыре, только добиться хотел:
— Может быть, правы всё-таки те, кто жаждет только пищи, только женщин, только вина? Ведь люди не боги. Они только люди. С бренным телом, но всё-таки с телом. Так пусть все одинаково трудятся, одинаково удовлетворяют людские потребности, все имеют женщин, пищу, вино и крышу над головой и будут счастливы своим земным счастьем с хорошей пищей, с верными жёнами, с добрым вином? Может быть, ничего другого им и не надо для счастья?
— Ишак тоже счастлив, когда имеет много колючек. Ишак тоже не верит, что истинная красота не в колючках, ибо лишь свободное созерцание превращает скота в человека, а жирная пища, пылкие женщины и хмельное вино превращают человека в скота. Или ты думаешь об этом иначе?
Взмахнул возбуждённо рукой:
— Это я знаю, так что? По-твоему, остаётся только, помолясь Господу, броситься своей волей на меч или самому отворить себе жилы?
— Зачем, чужестранец? Мудрецы должны жить, ибо лишь великие боги решают за нас, когда нам надлежит отсюда уйти в подземное царство Аида.
Воскликнул победно:
— В таком случае я должен действовать, если Господь ещё не решил, что для меня настало время уйти! Пусть я сделаю мало для превращения скота в человека, но кому-то после меня станет полегче сделать что-то ещё, а это само по себе уже будет много, то есть больше, чем есть, хочу я сказать!
Старик же напомнил бесстрастно, должно быть давно привыкнув к бессмертию:
— Пройдут тысячи лет.
Отрезал решительно:
— Пусть проходят! В том вина не моя!
Наконец мудрец взглянул на него, взглянул, как показалось ему, испытующе:
— Я всё сказал тебе, чужестранец, что думаю об этом предмете после долгого и упорного размышления. Не ты первый слышишь меня. Не ты первый всё решаешь по-своему.
Протянул к нему руку:
— Да, я как будто решил. Но ты, мудрейший из мудрых, мне очень помог. Большое спасибо, учитель.
Ученик выдвинулся откуда-то сбоку, склонился над зелёной травой и вежливо сказал:
— Мудрейший из мудрых, нынче ты зван на свадебный пир. Тебе уже надо идти.
Хотел закричать, что как раз и не надо идти на свадебный пир, что великие боги уже готовы решить, что учитель не вернётся с этого пира живым, но старик вдруг исчез, точно с помощью волшебства ученик перенёс его куда-то с древнего камня, лежавшего у подножия мраморной статуи, и он вновь увидел себя в своём кабинете.
Глава двадцать первая НА СЛУЖБЕ КОРОЛЮ И ОТЕЧЕСТВУ
Нагорела свеча. Колебалось красноватое пламя. Дымил чёрный шлейф над загнувшимся крючком фитилём. На прежнем месте лежала раскрытая книга. На той же странице лежала костяная закладка. Буквы, построенные в ряды умелой рукой, были готовы продолжать давний-предавний, затянувшийся спор. Он устал и не хотел продолжать, размышлял над трактатом, в котором страстно хотелось изобразить идеальное государство а также исправить ошибки мудрого грека, что научил его размышлять. Трактат писался урывками, однако просто, легко, потому что заранее было обдумано всё и всё решено.
Открыв наконец, бывая на торге, заседая в парламенте и в суде, что самый корень добра утаился от многих отуманенных алчностью, логически выводил, как поступал в своих диалогах Платон, все возможные следствия, которые при одном этом условии стали бы неизбежны. Следствия выводились точно бы сами собой: каждое новое заключение естественным образом вытекало из предыдущего, воображение тотчас подхватывало его на своё остриё, картины жизни счастливых, но пока что неведомых граждан рисовались одна за другой, повествование с удивительной стройностью продвигалось вперёд. Разумеется, не мог не взять за образец монастырь, общежитие иноков, они не владели ничем, ведь всё, что имели в стенах обители, было общим для всех, и труд, и пища, и стол. Тем не менее прямо сказал, что подобного образа жизни не существует между мирянами, и наименовал трактат свой «Нигдеей», а по-латыни «Утопией», указывая на то, что это всего лишь мечта, быть может, мечта на тысячу лет.
Из опытов торга, суда и парламента имел довольно верное представленье о том, как устроены люди, как нерасчётливо было бы обманывать их, не объявив напрямик, что это всего лишь мечта, ибо, открыв ужасный обман, они отшатнутся от правил, добровольно принятых иноками, которых люди мирские не хотят на себя принимать. Ещё нерасчётливей было бы их уверять, что это всего лишь заоблачная мечта, ибо во имя мечты способны отказываться от своего, нажитого только немногие, тогда как мыслитель желал вселить твёрдую веру, что общий труд и общая собственность могут распространиться у всех, и нужно не чудо, чтобы ввести справедливость и равенство, как испокон века мечтает народ, а всего лишь мудрый правитель.
Над этим положением пришлось потрудиться. Долго бился над тем, каким способом свести мечту и действительность, каким образом показать, что такая мечта могла бы воплотиться в реальность. Проще всего было бы прямо указать на образ жизни в обителях, где впервые явился идеал. После долгого размышления увидел, что это было бы крупной ошибкой. Простота и добродетели первоначального христианства давно покинули обиталища монахов. Добровольные служители Господу, подобно мирянам, вспоминали о заповедях Христа только во время молитвы. В море наживы их общая собственность явилась не более чем островком, и они поддались соблазну алчности и стяжания. Их богатства росли, а с богатствами росло и растление душ. Обжорство, пьянство, разврат стали их образом жизни, на это указывали все просвещённые люди Европы. Мог ли он представить читателям такой образец?
Своей вымышленной стране придумал дать очертания Англии, указав таким способом самое место, где скорее всего могла осуществиться мечта. Этого было, разумеется, мало. Тогда решил описать своё невольное путешествие в Брюгге, нечаянную встречу с Питером Джейлсом, которого образованные друзья на латинский лад именовали Эгидием. Назвал своего тогдашнего спутника Кутберта Тунсталла, начальника королевских архивов, упомянувши его учёность и доблесть, уверенный в том, что это известное имя лишний раз засвидетельствует правдивость рассказанной истории. С той же целью поименовал Темзиция, славного своим красноречием, настоятеля собора в Касселе, упомянул свою поездку в Антверпен. Его посольство во Фландрию ещё было у всех на устах, благодаря чему имена его спутников и названия городов сообщали видимость подлинности новому устройству и новой жизни людей, описанной им.
Выдумка его вдохновила. Одно за другим вводил имена живых современников, от итальянца Веспуччи, торговца и морехода, до англичанина Мортона, кардинала и канцлера. Одну за другой упоминал недавно открытые, но уже многим знакомые земли. Называл события, памятные всем. Сообщал всем известные факты. Повествовал о бедах и происшествиях, приключавшихся у всех на глазах всякий день. Из столь истинных происшествий составилась первая книга трактата, не без лукавства названная «Первой книгой беседы, которую вёл выдающийся муж Рафаил Гитлодей о наилучшем состоянии государства, в передаче знаменитого, мужа Томаса Мора, гражданина и виконта славного британского города Лондона». Наконец, всему сочинению предпослал письмо, адресованное Эгидию. В том письме Эгидий именовался свидетелем будто бы и в действительности происходившей беседы его с Гитлодеем. Непринуждённо писал:
«Дорогой Пётр Эгидий, мне, пожалуй, и стыдно посылать тебе чуть не спустя год эту книжку о государстве утопийцев, так как ты, без сомнения, ожидал её через полтора месяца, зная, что я избавлен в этой работе от труда вымысла; с другой стороны, мне нисколько не надо было размышлять над планом, а надлежало только передать тот рассказ Рафаила, который я слышал вместе с тобой. У меня не было йричин и трудиться над красноречием изложения, речь рассказчика не могла быть изысканной, так как явилась без приготовленья, экспромтом; затем, как тебе известно, эта речь исходила от человека, не столь сведущего в латинском языке, сколько в греческом, и чем больше моя передача походила бы к его небрежной простоте, тем она должна была быть ближе к истине, а о ней только одной я в данной работе должен заботиться и забочусь...»
Небылица получилась прекрасная, трактату придав убедительность, живость и какой-то особенный блеск, каким так восхищался в словесности, созданной греками. Воодушевлённый удачей, передал трактат в типографию. Он издавался в Лувене, и уже там его нарекли «Золотой книгой, столь же полезной, как и забавной, о наилучшем устройстве и о новом острове Утопии».
Живость и блеск книги, её глубокие мысли в самом деле пленили многих читателей. Они без преувеличения нашли её золотой. Её читали и перечитывали, пытались вытверживать наизусть. Обнаружились смельчаки, готовые отправиться на поиски славного острова. Новые издания следовали одно за другим. Имя автора стало известно всей просвещённой Европе. Слава его расшумелась.
Гийом Бюде признавался: «Я люблю и высоко почитаю его за всё то, что он написал об этом острове Нового Света. Наш век и будущие века будут иметь в этой истории драгоценный источник практически пригодного законодательства для всех, кто хотел бы воспользоваться им и применить его в своих государствах...»
Восхищался милый Эразм: «Мне кажется, что природа вряд ли когда-нибудь сотворила что-нибудь равноценное его тонкому, ясному, живому уму и что трудно сыскать человека с большими достоинствами, чем он. Прибавьте к этому могучий дар слова, вполне соответствующий его интеллекту, удивительную бодрость духа, остроумие и то, что по своему характеру он чрезвычайно деятелен, и вы не упустите ничего из тех качеств, которые должны быть присущи отличному адвокату...»
Уиттингтон уверял: «Мор — человек редкостной учёности и ангельского ума. Равных ему я не знаю. Ибо где ещё найдётся человек такого благородства, скромности и любезности? И если то ко времени — предающийся удивительной весёлости и потехе, в иное же время — грустной серьёзности. Человек на все времена...»
Его слава докатилась до самого короля. Генрих, если правду сказать, в отличие от других монархов, умел восхищаться величием творящего духа. Передавали, как однажды некий напыщенный лорд пожаловался ему на Гольбейна. Тогда Генрих громко ответил, чтобы слышали все:
— Я могу сделать семь лордов из семи мужиков, однако же я не смогу сделать одного Гольбейна из семи лордов.
Писателя потянули на королевскую службу. Он был введён в королевский совет. Ему поручили докладывать о прошениях, поступавших на высочайшее имя. Так мудрый Генрих отдал дань его талантам и добродетели и превратил его в ходатая за обиженных и оскорблённых, и Мор стал им с удовольствием. Но и в королевском совете сохранил свою независимость, как сохранял её в парламенте и в суде. Когда кардинал и канцлер Уолси потребовал назначить себя верховным констеблем, он один во всём королевском совете выступил против подобного назначения, которое могло дать тому непомерную власть. Уолси в гневе воскликнул:
— Как вы не постыдитесь, мастер Мор, будучи ниже всех по должности и званию, быть несогласным со столь многими благоразумными и благородными людьми? Вы показываете себя бестолковым и глупым советником!
Весело ответил ему не смутившись:
— Благодаренье Господу, что его величество имеет лишь одного глупца в королевском совете.
Его независимость тоже нравилась Генриху. Его возвели в достоинство рыцаря, предоставили должность помощника казначея. Он сопровождал кардинала и канцлера в его дипломатических миссиях. За достойную службу Генрих наградил его землями в Кенте и Оксфорде. Его избрали председателем палаты общин по предложению когда-то оскорблённого кардинала, с одобрения просвещённого государя, и он тотчас провалил утверждение новых налогов, что не могло доставить удовольствия Генриху. Монарх вызвал его и надменно спросил:
— Я тебя назначаю послом. Ты должен без промедления отправляться в Мадрид.
Ответил поклоном на нежданную королевскую милость, которая в этом деле была неприятна:
— Я всегда весь к вашим услугам, милорд, однако здоровье моё слишком расстроено, чтобы безнаказанно выдержать жаркий климат Испании.
Генрих улыбнулся невольно:
— Ну что ж, я подыщу для этой поездки другого, а твоими услугами воспользуюсь в каком-нибудь ином месте.
Его назначили канцлером в графство Ланкастер. Затем Генрих поручил ему сопровождать кардинала, и философ вёл переговоры в Амьене с представителями французского короля.
Два года спустя его величество призвал его вновь.
Глава двадцать вторая КРУШЕНИЕ НАДЕЖД
Генрих мерил шагами свой кабинет, слегка припадая на правую ногу. Решение не давалось ему, а времени оставалось всё меньше. Он был возбуждён и сердит.
Вдруг в кабинете стало темно. Стремительно повернулся и встал у окна. Над парком стояла чёрная туча. Ветер прошёл по вершинам деревьев. Листва зашумела. Длинными толстыми струями пролился спорый дождь. Они точно стояли в окне, сверкая в лучах заходящего солнца, и вдруг пали на землю, словно скошенная трава. Дождь прекратился. Радуга встала над парком дугой, обещая назавтра солнечный день.
Судьба узника висела на волоске, и Генрих размышлял, себе в поучение, о Карле и Лютере, о короле и мятежнике, которого государь пощадил, тогда как обязан был наказать. Тогда Карл был занят другим. Карл представился своим новым подданным с большим опозданием. Он прибыл в Вормс в конце января. В Германии уже царила анархия. Карл её не видеть не мог, но остался к ней равнодушен. Его приветствовали буйные толпы. С малой свитой и без охраны проезжая по улицам города, глядя на мятущиеся либо обнажённые, либо покрытые шляпами головы, Карл молчал и держал себя с холодным величием. В резиденции императора был устроен скромный приём. Германские князья представились своему новому государю. Они с нарочитой дерзостью приветствовали его по-немецки. Он не понимал их и бросал в ответ несколько общих слов по-латыни. Друг другу они не понравились. Запахло открытой враждой. Карл не обратил на это внимания, поспешил учредить совет регентства, избавлявший его от необходимости бывать часто в Германии, тем более постоянно жить в нелюбимой стране. Это пришлось по вкусу князьям. В отсутствие императора они получали большую свободу, почти независимость. Любая власть их уже тяготила. Священная Римская империя германской нации готова была развалиться. Казалось, Карл оставался к этому равнодушен.
Далее начались неприятности. Карлу нужны были деньги на войну с Франсуа, на содержание регентства тоже. Он потребовал от каждого князя внести в его казну по пятьдесят тысяч флоринов. Деньги были большие. Одни князья их не имели, другие не захотели внести. Карла это не тронуло. Взамен этих денег потребовал от каждого князя солдат и в придачу небольших сумм, что были ему для захвата Италии и коронации в Риме.
Ну, такого добра в Германии было сколько угодно. Разорённые крестьяне оставались без пропитания. В городах было полным-полно безработных. Те и другие готовы были под любым предлогом восстать, и князья с удовольствием вербовали их в армию Карла, рассчитывая тем самым снять напряжение, в котором были сами виновны своей неумеренной жадностью, и восстановить порядок в княжествах и городах.
Таким образом, Лютер добрался в своей тележонке. когда стороны понемногу приходили к взаимному пониманию. Трубач с башни городского собора подал сигнал. Загудел колокол. Городишко насчитывал не более семи тысяч жителей. Не менее двух тысяч высыпало на улицы, чтобы приветствовать и ободрить вождя.
Произошло это утром в середине апреля. Карлу доложили после позднего завтрака, и король повелел, чтобы вероотступник на другой день явился в зал епископского дворца в четыре часа пополудни и предстал перед кайзером и империей.
Лютер посчитал должным идти пешком как простой горожанин. Улицы снова были забиты народом. Ему не давали пройти. Герольд и рейхсмаршал вынуждены были провести его обходными путями. Всё-таки во дворец удалось попасть вовремя. Тем не менее его заставили ждать два часа.
Наконец монаха ввели в зал заседаний. Депутаты сейма с любопытством уставились на него.
Лютер был одет в поношенную чёрную рясу. Смуглый, кареглазый, темноволосый, твёрдо стоял на коротких ногах. У него были широкие плечи, крутой подбородок, толстый загривок и проницательный взгляд.
Карл сидел на возвышении в качестве председателя. На нём был чёрный испанский костюм. Маленькая голова была обрамлена белыми плоёными брыжами. У ног стояли два папских посла. Ниже расположились курфюрсты, светские и духовные, рыцари и бургомистры. Толпа тысяч в пять окружала дворец и негромко непрерывно гудела.
Герольд провёл Лютера на середину зала к низкой скамеечке и заставил преклонить колени в знак приветствия императору. Прокурор церковного суда из города Трира громко, отчётливо, с паузами прочитал список книг, не менее двадцати, и спросил, признает ли тот их своими. Лютер признал. Тогда прокурор с грозным видом спросил, готов ли тот полностью или хотя бы частично отречься от них. На этот вопрос невозможно было ответить, либо любой ответ, положительный и отрицательный, грозил ему смертью.
В зале установилась полная тишина. Все ждали прямого ответа, который приведёт его на костёр, или жаркого богословского диспута, на них Лютер был большой мастер, как праздные обитатели захолустного замка ждут представления заезжих актёров.
Диспута не было.
Лютер показался смущённым и долго молчал, но ответил, как подобает человеку большого ума: он должен подумать. Зрители были разочарованы. Замешательство промелькнуло на холодном лице юного императора, но Карл тотчас взял себя в руки, отпустил вольнодумца кивком головы и с презрением сказал ему в спину:
— Нет, это не тот человек, который способен из меня сделать еретика.
Говорили, что Лютер провёл бессонную ночь в молитвах, время от времени восклицая с тоской:
— Как немощна плоть! Как могуч сатана!
Однако вечером восемнадцатого апреля вступил в зал заседаний уверенным в себе и спокойным. Прокурор повторил свой вопрос. Все были уверены, что монах обречён. Лютер ответил кратко и ясно, сперва по-немецки, потом по-латыни, зная, что император не понимает его языка:
— Во всём, что я писал до сих пор, я имел в виду только славу Господа нашего Иисуса Христа и вечное спасение христиан.
Он уклонился с удивительной ловкостью, не отрекаясь от своих сочинений и не признав их за выражение истины. Все были изумлены. Даже Карл пошевелился на своём возвышении. Тогда прокурор церковного суда из города Трира повторил свой вопрос, добиваясь прямого ответа. Лютер уклонился ещё раз, объявил, что может разделить свои сочинения на три разряда: на те, которые не были осуждены ни его противниками, ни папой и от них, стало быть, отрекаться не было надобности, на полемические статьи, которые, может быть, написаны слишком резко, в чём готов принести покаяние, если его противники тоже покаются, и на те, в которых излагал жалобы немцев на пап скую тиранию и от них не может отречься, поскольку не намерен изменять ни истине, ни своим соотечественникам. Прокурор церковного суда из города Трира не нашёл что возразить и в третий раз задал тот же вопрос, ответ на него должен был Лютера погубить.
Лютер поднял голову, уже чувствуя себя победителем:
— Так как ваше императорское величество и ваши княжеские величества хотели бы иметь простой и точный ответ, я дам его без околичностей. Я думаю, что лучшим моим оправданием будет подражание примеру Спасителя, который, получив за свой ответ заушение от служителя прокуратора, обратился к нему и сказал: «Если я говорил дурно, то докажи, что это дурно, а если я говорил хорошо, то зачем же ты меня бьёшь?» Я не могу в моих верованиях подчиниться ни собору, ни папе, ибо ясно, как день, что они заблуждались. Итак, если меня не убедят ссылками на Священное Писание, то я не могу и не желаю отрекаться ни от чего, потому что христианину не следует ничего говорить противно совести.
Лютер остановился и произнёс слова, вскоре ставшие знаменем восстания против папы:
— На том стою и не могу иначе! — И заключил: — Помоги мне Господь! Аминь!
Никто не знал, что ему возразить. Карл с невозмутимым лицом отпустил его кивком головы. Стража окружила монаха и вывела из дворца. Многие в зале подумали, что тот арестован, что его уводят в тюрьму. Раздались возмущённые крики. Лютер их понял и успокоил, крикнув, что ему дали свободу. Тогда многие депутаты хлынули за ним шумной толпой и поднимали вверх большой палец руки, как во время ристалищ делали римляне. Они же одумались на другой день. Ведь это была ещё не победа. Карл мог нарушить свою охранную грамоту и отправить нераскаявшегося еретика на костёр, как в подобной обстановке отправили на костёр Яна Гуса. К Лютеру явилась депутация из дворян. Его уговаривали не губить всего дерева, а отсечь только ветви, то есть раскаяться кое в чём, но не во всём. Предложение не лишено было мудрости. Частичное раскаяние позволило бы императору и сейму отказаться от исполнения папского осуждения как полностью и окончательно изобличённого еретика, ведь еретик был бы изобличён только отчасти. Соблазн был велик, так как велик был и риск, что из Вормса он будет выпущен, но схвачен и казнён по дороге. Лютер попал в ещё более трудное положение, чем перед лицом императора, но и тут устоял, повторив, что не может идти против совести.
В те же часы папский посол уговаривал Карла применить к Лютеру пытку и тем принудить его к отречению, после чего костёр был бы ему обеспечен.
Тогда ночью на площади города появился плакат, в нём четыреста благородных представителей нации клялись не оставлять в беде Лютера и объявить войну князьям и папистам, как стали называть сторонников папы.
«Я плохо пишу, но могу причинить серьёзный ущерб. Восемь тысяч человек я поставить могу под ружьё».
И странная подпись, символ восстания:
«Башмак».
Карл не обратил на это внимания. Помеченный восьмым мая двадцать первого сейму был прочитан эдикт. Учение Лютера объявлялось собранием старых, давно таившихся ересей. На этом основании эдиктом предписывалось, что по истечении двадцати дней, считая от восьмого числа, во время которых ещё действовала охранная грамота, Лютер должен быть арестован в любом месте любым представителем императорской власти, всем и каждому запрещалось давать ему постой, приют, пищу, питье и лекарства, его сообщники должны были низлагаться, арестовываться и лишаться имущества, а его сочинений никому не дозволялось ни продавать, ни покупать, ни читать, ни держать в доме, ни переписывать, ни печатать, ни дозволять печатать другим. Эдикт предписывал сжечь все двадцать сочинений непокорного проповедника. Фридрих Мудрый и тут остался верен себе. Выходя из дворца в окружении слуг, бросил как бы в неопределённом раздумье:
— Бедолаге надо бы чем-то помочь, только чем?
Офицер его личной охраны поспешил подсказать:
— Можно куда-нибудь спрятать, только куда?
Глаза Фридриха заблестели, но он буркнул строго:
— Это меня не касается.
И в самом деле, Лютер поспешил выехать из Вормса в своей тележонке. Его спутником был монах-августинец. Два дня они были в пути. На третий их догнал отряд всадников в масках. Августинец, уподобившись зайцу, прыснул в кусты. Лютер остался недвижимым, как щитом ограждая грудь свою Библией. Его схватили грубые руки и поволокли за собой. Только проскакав несколько миль, всадники открыли лица, принесли ему извинения, сказав, что это дело должно держаться в тайне, дали коня и привезли в замок Фридриха, скрытый в горах. Комендант приветствовал его как почётного гостя. Его поселили в удобном покое под именем рыцаря Георга. Стало известно много позднее, что Господь наслал на Лютера ещё более тяжкие испытания, чем до сих пор. Это было испытание праздностью. Воображение разыгралось, всюду мерещился дьявол. Однажды запустил чернильницей в его голову, чтобы избавиться от него, и позднее чернильное пятно на стене в замке Вартбург показывали как реликвию почитателям Лютера. Позднее же признался:
— Опасны не плотские искушения, а те, которые касаются вечности, да предохранит нас от них Господь!
Скоро понял, что праздность губительна, и принялся переводить Библию на немецкий язык.
Тем временем исчезновение Лютера переполошило Германию. Подозревали Фридриха Мудрого и обратились к нему, но Фридрих с чистой совестью объявил, что ему ничего неизвестно. Только позволил себе намекнуть, что монаха и в самом деле следовало бы куда-нибудь спрятать на несколько лет, а там, глядишь, Карл подрастёт и станет умнее. Рождались самые странные слухи. Передавали, что Лютер захвачен папистами и тайно распят. Другие уверяли, будто мёртвое тело еретика обнаружено на брошенном руднике с колотой раной в груди. Горожане Вормса были возмущены и угрожали смертью представителю папы на сейме. Карл не обращал на беспорядки никакого внимания и тем губил дело веры. После того как он получил ландскнехтов и деньги, Германия его больше не занимала, он был убеждён, что ему надлежит овладеть всей Италией, чтобы в самом деле быть императором.
Но прежде предстояло покончить с угрозой на западе. Принц де ла Марк послал ему вызов на бой. Карл двинулся против него. Франсуа, опасаясь возвышения принца, не прислал ему помощи. Принц был наголову разбит. Франсуа и Карл стояли друг против друга, но ещё колебались.
Генрих попал в трудное положение. Кого ему поддержать? Он не оставил мысли о французской короне. Стало быть, с Франсуа они были соперники. Французскую корону можно было получить только с помощью Карла, однако этот счастливчик, ни за что ни про что получивший империю, где, как хвастался Карл, солнце никогда не заходит, нравился ему всё меньше и меньше. Выход был найден. Предложил быть посредником между Карлом и Франсуа. Совещания происходили в Кале. Уговаривал обе стороны решить все разногласия миром, однако не очень старался, предпочитая, чтобы они обессиливали друг друга, воюя между собой.
С того времени начались его тайные переговоры с коннетаблем Бурбоном. Коннетабль считал себя выдающимся полководцем, тогда как был только храбрым солдатом, мало что понимая в военном искусстве. У него был слабый характер. В соответствии с ним был честолюбив, завистлив и горд. Главное, коннетабль был очень беден. Ради богатства женился на дочери Петра и Анны Боже, единственной наследнице громадных владений целой династии, что сделало его почти независимым от короля Франсуа. К тому же Бурбон обладал правом на бургундский престол. Это право не давало коннетаблю покоя. Он мечтал возродить под своей властью королевство Бургундию, чтобы возвыситься и сохранить свои земли во Франции. Земли всё-таки принадлежали жене на правах лена. Они могли остаться за коннетаблем только в том случае, если у него будет сын, иначе все земли отойдут французскому королю. Бурбон старался изо всех сил. Сюзанн родила сына, но мальчик вскоре умер. Здоровье Сюзан было слабым. Она тоже могла умереть. Тогда бурбонские владения могли перейти к Луизе Савойской, которую не мог не поддержать Франсуа. В этом случае коннетабль возвратился бы в своё прежнее состояние безвестного дворянина. Эта мысль мучила и угнетала, одна надежда оставалась на корону Бургундии. Её поддерживали все его приближённые. На смертном одре тёща внушала ему:
— Не теряйте из виду, что наша династия была союзницей бургундской династии и всегда находилась в цветущем положении, пока продолжался этот союз.
Бурбон это помнил и был готов к измене.
Генрих умело подсказывал коннетаблю, что только в союзе с Англией он может достигнуть желаемой цели. Тогда они поделят Францию на две части. Он возвратит Англии корону Плантагенетов, а коннетабль получит Бургундию и присоединит к ней земли Бурбонов. Идея союза для обоих была соблазнительна, и в Кале Генрих вёл переговоры уклончиво, лишь бы тянуть время и ждать, на чью сторону склонится военное счастье. Первое время оно было на стороне Франсуа. Разгромив де ла Марка, Карл приблизился к границам Шампани. Герцог Алансон был вынужден выступить против него. Карл был этому рад. Ему дали повод обвинять Франсуа в том, что тот первый начал войну. Карл был заносчив и мечтал овладеть всей Европой; громко заявил в том кругу, который разносит каждое слово по свету:
— В скором времени или я буду очень плохим императором, или он станет плохим королём.
Такое высокомерие было очень скоро наказано. Мезьер защищался. Франсуа вместе с Алансоном и коннетаблем, пока ещё верным, с успехом продвигался по Фландрии, родине Карла. Карл поспешил ей на помощь и чуть не попал в плен под стенами Валансьена.
Переговоры стали бессмысленны. Генрих покинул Кале и вернулся к себе, размышляя, что ему предпринять. Поддержать неблагодарного Карла? Встать на сторону неверного Франсуа? Что он мог от каждого из них получить?
Генрих неожиданно усмехнулся.
Какие уроки преподнесла ему с того времени жизнь! Мог ли хотя бы случайно подумать тогда, что спустя десять лет станет непримиримым противником папы и сам чем-то вроде папы станет для Англии? Могла ли столь невероятная мысль прийти тогда в голову кому-нибудь из его сподвижников или близких друзей? И подумать не мог. И Уолси, и Фишер, и Мор не могли такого увидеть даже во сне. В первом же докладе кардинал Уолси с некоторым беспокойством довёл до сведения своего короля, что в Англии уже появились первые признаки тлетворного влияния Лютера, и зачитал ему тревожную жалобу епископа Линкольнского, извещавшего, что в его епархии завелось довольно много еретиков лютеранского толка, и вопрошавшего, какие меры он должен принять против них.
Генрих издал прокламацию на имя епископа, в которой предписывал всем королевским властям разыскивать беспокойных смутьянов и строго наказывать их. Этого было, разумеется, мало. Монарх всё-таки был богословом и понимал, что суды и костры, конечно, необходимы, однако главное в борьбе против тлетворных идей борьба за умы.
Первая мысль, что пришла в голову, была призвать на помощь Эразма. Авторитет мыслителя стоял так высоко, что к нему за советом обращались папы, кардиналы и короли, и каждое слово Эразма почиталось за истину. Отправил Эразму письмо и скоро понял, что это была неудачная мысль. Философ отвечал, что отлучение папы и эдикт императора уже положили конец возмутительной пропаганде и что сам Лютер исчез. Таким образом он, Эразм, считает вопрос этот закрытым. Любое возобновление этого спора грозит, по его мнению, открытым бунтом против государства и церкви и новым гуситским движением, которое, без сомнения, будет подавлено с той же жестокостью, как и прежнее. Ввиду столь грозного будущего Эразм не чувствует желания раздувать уже угасший огонь, желает жить тихо, смиренно служить науке и изящным искусствам, потому что лишь там царит вечная ясность и вечный покой. Не хочет иметь дело с богословами, с государями, с политикой, с церковными распрями, даже спорить с кем бы то ни было в своём кабинете, возвращается к своим книгам, ведь только на этом поприще может приносить пользу словесности. Большую цену приходится заплатить бедному мудрецу за удаление в свой кабинет. Богословский факультет университета в Лувене, где Эразм благополучно пребывал в своей тишине, вдруг громогласно объявил его главным зачинщиком Лютеровой чумы. Возмущённые студенты отказались слушать мыслителя, почитаемого ими вчера, и опрокинули кафедру, с которой он возвещал им великие истины. Его поносили во всех соборах Лувена, отворачивались на улице, покидали друзья.
Эразму оставалось только бежать. Мыслитель поселился в Базеле, городе вольных швейцарцев. Горячие почитатели отвели ему целый дом. Старые друзья были рядом. С ним подружился Гольбейн. Знаменитый Фробен издавал его книги, и он сам заходил в его типографию и держал корректуры. Его окружили ученики. Со всех концов приезжали учёные люди, чтобы только взглянуть на него и сказать несколько слов. Мудреца всё ещё пытались втянуть в борьбу папистов и лютеран. Эразм уклонялся. Его бранили и те и другие. Грозные события потрясали Европу, и Эразм был скоро забыт.
Что ж, надлежало обойтись без Эразма. Призвал кардинала Уолси и предложил ему выступить против ереси Лютера. Кардинал был готов хоть сейчас. Такое выступление могло бы сослужить ему хорошую службу во время новых выборов папы, ожидавшихся в ближайшее время, как ему доносили из Рима. К изумлению монарха, беседа с кардиналом оказалась короткой. В богословских вопросах Уолси оказался сущим младенцем. Пришлось в этом деле от него отказаться.
Решил сам приняться за труд, ведь усердно учился и был неплохой богослов, разложил книги, бумаги и взял в руку перо. Поначалу работа пошла хорошо. Он получал удовольствие от каждой строки. Учёные занятия всегда увлекали его. Прежде всего надлежало опровергнуть суждения Лютера по поводу таинств. Углубился в значение евхаристии как жертвы, отстаивал необходимость устной исповеди и несомненную законность разрешающей миссии церкви. Учение о таинствах влекло за собой вопросы не менее важные. Доказывал божественность и законность власти римского папы, отстаивал канонические достоинства послания апостола Иакова, то и дело подкреплял свои мысли, как этого требовал Лютер, Священным Писанием, творениями отцов церкви и решениями церковных соборов, которые знал хорошо.
Всё-таки трудности возникали на каждом шагу. Приходилось признать, что за многие годы войн и дипломатических хитростей знания потускнели, а от богословских диспутов просто отвык. В таких случаях призывал в свой кабинет епископа Фишера и Томаса Мора, людей не только авторитетных в учёных кругах, но и крупных учёных. Втроём обрабатывали его сочинение, составили предисловие, обсудили послание папе, которым сопроводил сочинение. От своего имени изъяснял он папе Льву, что побудило взяться за труд: стремился защитить веру и доказать религиозную ревность. О Фишере и Море умолчал. Их отношения были приятельские, чуть ли не дружеские, насколько могут быть друзьями король, епископ и европейски известный философ. Правда, намеревался упомянуть их звучные имена, но оба, смеясь, отказались, предоставляя честь ему одному.
В самом деле, Генриху была оказана великая честь, сочинение рассматривалось собранием кардиналов. По настоянию папы кардиналы постановили отблагодарить его редким титулом защитника веры. Этот титул закреплялся за ним специальным папским посланием. Папа Лев счёл послание недостаточным, обратился к нему с личным письмом. В письме папа превознёс заслуги английского короля до небес и утверждал, что его сочинение было написано не иначе как по наитию, ниспосланному ему Святым Духом.
Генрих был, конечно, в восторге. Уже в качестве защитника веры обращался к богословским факультетам, к немецким князьям с требованием осудить ересь Лютера и в самом зародыше пресечь еретическое движение, которое, подобно гангрене, расползалось по северу Священной Римской империи, проникало в Голландию и тревожило Англию.
Уолси воспрял было духом. Бессовестный кардинал из-под руки распространял лукавые слухи, будто он лично выполнил большую часть работы за короля, уверенный в том, что эта заслуга прибавит ему голосов. По его мнению, выборы приближались, и кардинал мысленно уже прикладывал папскую тиару к своей голове.
В самом деле, папа Лев близился к смерти. Какой-то монах предупреждал его в конце ноября, что кто-то из его приближённых замышляет вложить в его белье яд. В то время папа жил возле Остии. Вскоре после разговора с монахом его известили, что Милан сдался испанскому полководцу Пескаре. Лев вскоре мог потерять Пьяченцу и Парму. Успехи императорской армии его напугали. Папа до поздней ночи расхаживал по своему кабинету и на другой день отправился в Рим. Там странная боль пронзила его. Папа попросил своих верных слуг:
— Молитесь за меня для того, чтобы я ещё долго мог делать добро всем вам.
Но уже не помогли никакие молитвы. Папа внезапно скончался, не успев приобщиться святых тайн. Тело его почернело. Доктора подозревали отраву. Покойный не получил ни прощения, ни снисхождения от сограждан. Не только учёные, но и многие кардиналы упрекали его:
— Ты вкрался к нам как лисица, царствовал как лев, а умер как пёс.
Уолси оживился, ведь Карл обещал ему похлопотать за него. Его представители в Риме сыпали деньги. Казалось, иного решения быть не могло. Но Карл обманул, и деньги не помогли. Карл предложил своего наставника, кардинала из Фландрии, и наставник был избран под именем Адриана VI. Это был дряхлый старик, последователь древнего благочестия. Папа явился в Рим только в сопровождении своей старой служанки и первым делом взялся очищать нравы развращённого римского духовенства. Планы Адриана были широкие. Им предполагалось прекратить торговлю церковными должностями, отменить передачу бенефиций в наследство. Он взял под защиту Эразма от нападок схоластов и оказал покровительство итальянским учёным. Казалось, римская церковь была на пороге воскрешения, но только казалось. Сам Адриан очень скоро увидел, что ему не одолеть сопротивление, которое он ощущал даже рядом с собой, в папском дворце. Известие о взятии турками Родоса доконало его. Адриан тихо скончался, не успев принести пользы и причинить вред. На его гробнице было начертано:
«Такие случаются времена, когда самый лучший в мире человек не может не изнемочь».
Теперь Уолси не сомневался в победе. Кто же ещё, как не он? Разве его казна оскудела? Разве император не дал ему обещания? Но Карл обманул английского кардинала во второй раз. Папой был избран племянник Льва из рода Медичи под именем Климента VII. Климент был человек бережливый, честный и робкий, увлекался богословием и механикой и мало что понимал в церковных делах. Высокой цели у него не нашлось, был нерешителен и терялся в крутых обстоятельствах. Венецианский посол о нём говорил:
— Это государство держится на волоске. Дай Господь, чтобы мы снова не были прогнаны в Авиньон. Я предвижу падение духовной монархии.
Венецианский посол был наполовину пророк. Дела римской церкви шли всё хуже и хуже. Лютер уже мог скрываться сколько угодно. Его идеи владели умами. Литургия была переделана. Приобщение святых тайн приняло новые формы. Монахи толпами покидали монастыри и проповедовали учение Лютера. Безбрачие было порушено. Аббаты женились и открыто имели детей. Проповедники нового учения бродили по Вестфалии и Верхней Германии. Не могло не пугать, что эти проповедники были людьми из народа, что напоминало гуситов и Жижку. Учение Лютера покоряло город за городом. В руки лютеран уже перешло городское управление в Нюрнберге. В Аугсбурге и Ульме проповедники открыто толковали Евангелие. Новым учением заразились Магдебург, Гамбург, Бреславль. Раскол пустил корни в Швабии и в Силезии. В Виттенберге проповедовал Мюнцер и подбивал горожан на восстание. Опекунский совет, учреждённый императором Карлом, во главе с его братом Фердинандом Австрийским оказался бессилен. Властью не было принято никаких мер, ни должных, ни малых, чтобы привести Германию в чувство и восстановить необходимый порядок.
Вести о смуте докатились до Вартбурга, скрытого в горах и лесах. Обеспокоенный Лютер спешно покинул убежище, которое гарантировало ему безопасность, явился вдруг в Виттенберге. Сторонники встретили его бурным восторгом. Восемь дней произносил громокипящие проповеди и успокоил народ. Смутьяны во главе с Томасом Мюнцером вынуждены были бежать. Томас Мюнцер был мистиком и коммунистом, клеймил пороки, которые видели все: церковь пала, мир развращён. Он пророчил на ближайшие дни Страшный суд и Тысячелетнее царство, где от пороков и бед избавит общая собственность, как она установилась в монашеских орденах, равенство имуществ и равенство прав. Его с дрожью радости слушали разорённые крестьяне и подмастерья в Орламюнде, в Альштадте, в Мюльгаузене, ожидая скорого пришествия новой эры, когда не станет ни богатых, ни бедных. Прежние распри были забыты. Проповедь Мюнцера делала из них не только единомышленников, но и братьев, как заповедал Христос.
Карл точно не слышал, что делалось у него за спиной, и стремился в Италию. Там ждал его новый успех. Французский маршал, изгнанный из Милана, остался без денег, которые застряли на перевалах. Швейцарцы потребовали жалованья или сражения. Французы принуждены были вступить в битву возле Бикона в позиции, им не выгодной, и были разбиты. В Италии французская армия перестала существовать. Коннетабль Бурбон решил, что его время настало, составил заговор против французского короля и известил об этом своего союзника в Лондоне, намеревался внезапно напасть на Франсуа и арестовать его, после чего французская корона станет свободной.
Генрих тотчас прервал переговоры в Кале и открыто перешёл на сторону Карла. Корона Плантагенетов по-прежнему манила его. Она стоила жертв. Война была неизбежна. Правда, казна оставалась скудна. Пришлось ввести новый военный налог. Англичане не желали расставаться с деньгами, и налог собирался почти целый год. По счастью, охотников испытать судьбу на поле сражения оказалось больше, чем надо. К нему шли разорившиеся крестьяне и беднота городов, которым солдатская служба представлялась единственным заработком. Так ему удалось собрать армию и посадить её на суда.
Тем временем нашёл деньги и Франсуа. Французская армия набиралась в Лионе. Коннетабль Бурбон готовился к нападению, но оказался слаб и труслив. Заговор успешен только тогда, когда в него замешано мало людей, а коннетабль имел намерение вовлечь в него чуть ли не всех французских дворян.
Нетрудно понять, что скоро о заговоре стало известно. Первой узнала Луиза Савойская, мать Франсуа. Она привлекла коннетабля к суду, однако следствие затянулось, и Бурбон оставался пока на свободе. Многие подробности в конце концов стали известны сенешалю Нормандии. Сенешаль предупредил своего короля. Франсуа вызвал коннетабля в Лион. Тут мужество ему окончательно изменило. Вместо нападения на короля пустился в бега. В сопровождении трёх дворян, оставшихся верными, ему удалось пробраться из южных провинций в Италию и перейти на сторону Карла.
Это было предупреждение. Карлу Генрих не доверял никогда, коннетабль оказался ничтожеством, о короне Плантагенетов надлежало забыть, остановить отплытие кораблей и распустить солдат по домам. Однако мечта была слишком сильна. Слабая надежда всё ещё тлела в душе, которая, что ни говори, была душой рыцаря. К тому же обстоятельства представлялись благоприятными. Измена Бурбона потрясла Франсуа, тот был испуган. Ему представлялось, что в самом деле в заговор вовлечено всё дворянство. Он предпринял расследование, не приведшее ни к чему, и осыпал упрёками парижский парламент, ведший следствие с преступной медлительностью. Так Франсуа потерял драгоценное время. Войска Карла стояли в Милане. Испанцы одолели перевалы горной Наварры и угрожали Лиону. Двенадцать тысяч немецких наёмников ждали только коннетабля, которого Карл без промедления принял на службу, чтобы ворваться в Бургундию.
Победа всё ещё представлялась возможной и близкой. Генрих отдал приказ. Его корабли пристали к французскому берегу, солдаты высадились в Пикардии. Королевская армия была далеко. Англичанам сопротивлялись немногочисленные отряды местных дворян, но не имели успеха. Английские солдаты проникли в долину Уазы и шли почти беспрепятственно по французской земле, неся в ранцах корону Плантагенетов своему королю, который им за это платил. До Парижа оставалось, как говорили, одиннадцать миль. В ясную погоду уже были видны его башни с окрестных холмов. Победа и в самом деле казалась близка. Но Генриха преследовал рок. Самым неожиданным образом провалился и третий поход за короной Плантагенетов. Англичане оказались бесстыдно корыстны и лишены возвышенных, тем более рыцарских чувств. Им, видимо, было плевать на корону Плантагенетов, на величие их короля, а вместе с ним на величие Англии.
В завоевании Франции они не видели выгоды для себя, зато видели, как военный налог истощает их кошельки. Он требовал от них жертв, но они не хотели пожертвовать даже пенсом. Кое-где начинались волнения, их государь опасался, помня рассказы старых людей о смутном времени, когда Ланкастеры и Йорки резались между собой. Во многих местах переставали вносить проклятый налог. Казна истощалась. Наёмным солдатам нечем было платить, а без жалованья солдаты отказывались идти на Париж. Париж оставался недосягаем, хоть и был на виду. Корона Плантагенетов вновь уплывала из рук.
Тем временем изворотливый Франсуа отбился и от испанцев, и от немцев коннетабля. Потери французов были значительны, но они готовы были повернуть против своих заклятых врагов англичан и сражаться как львы, точно возвращались героические времена Столетней войны.
Что ему оставалось? Отдал приказ отступить. Солдаты возвратились на корабли, высадились три дня спустя на английской земле и разошлись по домам.
Зажил в Гринвиче, будто ничего не случилось, выезжал на охоту, перечитывал любимые мемуары Филиппа Коммина, тогда как на душе кошки скребли. Надлежало расстаться с мечтой о короне Плантагенетов, но это было целью его жизни, и расстаться с ней было нельзя. На дне души всё ещё тлела надежда, неопределённая, смутная, но всё-таки тлела, то вспыхивая вновь, то почти совсем угасая. С этой последней надеждой пристально следил за ходом войны, в которой уже не участвовал, но которая всё ещё могла ему что-то дать, хотя что именно, уже не мог бы сказать.
Вероятно, Франсуа тоже устал и пал духом. Французского короля манила Италия, как его самого манила корона Плантагенетов. Отказаться от похода в Ломбардию было нельзя. Солдаты, собранные им под знамёна, рассчитывали разграбить богатые торговые города и Милан. Как можно было им отказать? Франсуа не отказывал, но не нашёл в себе сил возглавить поход и назначил главнокомандующим своего адмирала. Гарнизон Милана был незначителен. Солдат Карла французы застали врасплох. Милан должен был пасть, как переспелая груша. Милан бы и пал, если бы французами командовал не адмирал.
Адмирал Бонниве, в отличие от своего короля, был медлителен и малодушен. Вместо стремительного нападения и приступа решил взять город в осаду, невзирая на то, что для этого у него было слишком мало солдат. Осада оказалась неполной. Бурбон и Пескара успели подвести подкрепления. Адмирал сам оказался в осаде и вместо нападения предпочёл оборону. Солдаты императора напали на него ночью, потеснили и угрожали полностью его окружить. Адмирал предпочёл отступить и отвёл свои войска к границе Пьемонта, рассчитывая найти здесь отдых и подкрепления, однако нашёл лихорадку и голод. Армию пришлось отводить. Её по пятам преследовали Пескара и коннетабль. В стычке Бонниве был ранен в руку выстрелом из мушкета. Рана была незначительной, но адмирал нашёл в ней хороший предлог и передал командование Баярду, полководцу более решительному и более способному. Перемена командования французов уже не спасла. Как на грех, в новой стычке Баярд получил смертельную рану. Говорили, что коннетабль склонился над ним и выразил ему сожаление и что Баярд презрительно отвернулся и умер в суровом молчании, как подобает благородному рыцарю.
Кончина Баярда потрясла. Он считал себя храбрым воином, отлично владел мечом и копьём, без промаха стрелял из лука и аркебузы, много раз выигрывал поединки в турнирах. Его тянуло в походы, участвовал в войнах. И что же? Мог пасть, без славы, без пользы для угасшей династии, от случайной пули ландскнехта! Ради чего? Сомнения росли что ни день. Донесения становились мрачней и мрачней. Остатки недобитых французов растянулись, одолевая альпийские перевалы, и растаяли там, как снежный ком. Перед Карлом лежала беззащитная Франция. Император отдал приказ Бурбону, и ландскнехты вторглись в Прованс, нигде не встречая сопротивления.
Франция могла быть повержена, если бы коннетабль не совершил очередную ошибку. Перед ним открывался путь на Париж. Бурбон тем не менее медлил и зачем-то затеял переговоры с английским представителем, на всякий случай ещё не отозванным. Бурбон навязывал английскому королю новый союз, обещал ему власть над всей Францией, если согласится на повторение чего-то вроде Столетней войны, и доходил до того, что давал ему титул «нашего общего государя», и клялся, что вступил в пределы Франции единственно с целью короновать Генриха Английского французской короной.
Соблазн был слишком велик. Он всё ещё колебался. По счастью, завидные предложения шли слишком долго из Прованса до Гринвича. Ожидая ответа и новой высадки английской армии на северо-западе, в которой был абсолютно уверен, коннетабль решил взять беззащитный Марсель, где не было французских солдат. К изумлению Бурбона, на защиту встали беззащитные горожане. Они сожгли городские предместья и спешно исправили обветшавшие укрепления. Коннетабль навёл пушки и вскоре пробил ядрами брешь. Ему следовало тотчас командовать приступ, но он, по обыкновению, его отложил. Этого было достаточно. Простолюдинки Марселя трудились несколько дней и ночей, сменяя друг друга, и закрыли её Дамским валом, как они его называли. Королевский флот доставлял им порох и продовольствие. Вновь набранная армия собиралась в окрестностях Авиньона. Коннетабль мог быть раздавлен. Пришедший на помощь Пескара уговорил его снять бессмысленную осаду и отступить. Бурбон согласился, казалось, с большим удовольствием и стал отводить своих ландскнехтов в Италию. Королевская армия преследовала его по пятам. Французские крестьяне опустошённой ими провинции тут и там неожиданно нападали на отступавшего неприятеля. Ландскнехты в панике разбегались. От армии коннетабля не осталось следа.
Италия праздновала поражение как собственную победу. Римляне останавливались на площадях и на улицах и с громким смехом сообщали друг другу:
— А в горах вблизи Генуи пропала целая армия!
Когда армия Франсуа втянулась в Ломбардию, её встречали как освободительницу от испанского гнёта. Милан открыл городские ворота. Остатки императорских войск запёрлись в нескольких крепостях и с ужасом ждали неминуемого конца. Решительный Франсуа окружил Павию и начал осаду. Это была сильная крепость, и осада продолжалась несколько месяцев. Понимая свою обречённость, осаждённые сражались с неслыханным мужеством. Они голодали, но не складывали оружия, а Франсуа топтался на месте и беспечно пировал в своём лагере, ожидая, что плод созреет и сам упадёт к его победоносным ногам.
Плод созрел, но не упал. У Карла, которому принадлежало две трети Европы, было достаточно денег, а стало быть, много солдат. Новая армия была набрана. Коннетабль и Пескара привели её к Павии. Положение Франсуа неожиданно стало опасным. Теперь испанцы могли его раздавить, зажав с двух сторон, как сам намеревался раздавить их под Марселем. Он перенёс свою ставку в старинный замок, где можно было продержаться несколько месяцев. Его престарелые полководцы уговаривали своего слишком пылкого короля терпеливо ждать за крепкими стенами, пока у неприятеля кончится хлеб и враг будет вынужден сам отступить. Его молодые соратники, воспламенённые духом рыцарства, как и он, призывали своего короля выступить из укреплённого замка с развёрнутыми знамёнами и сойтись с неприятелем грудь в грудь.
Казалось, противник сам обрекал себя на голодное истощение. Коннетабль и Пескара совершили ошибку, которая вела их прямым путём к поражению. Им следовало сговориться с офицерами Павии, совместными силами окружить замок и взять его либо приступом, либо измором. Вместо этого повели свою колонну мимо замка, чтобы затвориться со своими солдатами в Павии и тем усилить её гарнизон. Чем они собирались кормить их, осталось неизвестно. Колонна двигалась через парк. Со стен замка заговорили французские пушки, но за деревьями причиняли неприятелю мало вреда.
Тогда, со своей стороны, совершил ошибку французский король. Дух рыцарства не позволял ему отсиживаться за прочными стенами на виду неприятеля. Он пустил против ландскнехтов свою кавалерию и лично возглавил её, не подумав о том, что кавалерии для успеха необходимо чистое поле и сильный разбег.
Испанская пехота тотчас перешла в наступление. Часть всадников была окружена и сбита с коней. Другая, во главе с герцогом Алансоном, бежала.
Франсуа мужественно сражался в первых рядах. Подле него пали смертью храбрых престарелые полководцы. Он два раза раненный, вынужден был отдать свою шпагу.
Ошибка оказалась роковой. Два часа изменили весь ход войны. Французская армия разбежалась. Король был в плену. Победители позволили ему написать своей матери. Он назначал Луизу Савойскую регентшей и признался:
«Всё погибло. У меня остались только честь и жизнь».
Франция погрузилась в печаль. Беглецов окружило презрение. Герцог Алансон не вынес позора и умер внезапно, наконец догадавшись, что честь воина в том, чтобы пасть на поле сражения. Франсуа стал пленником Карла. Год его держали в Италии, потом заточили в одной из башен мадридского замка. Он жил в большой сырой мрачной комнате. В ней было только одно окно, забранное толстой решёткой.
Когда дошла весть о победе при Павии, Генрих повелел устроить в Лондоне празднества. Богатые финансисты и торговые люди, не желавшие давать денег своему королю на войну, с большой щедростью украсили город и выкатили на площади бочки крепкого эля. Народ пил и плясал, не помышляя о горькой судьбе французского короля. Зато она долго занимала все мысли Генриха. Монарх считал себя храбрым воином, под стать Франсуа, отлично владел копьём и мечом, стрелял без промаха из аркебузы и лука, и мысли не мог допустить, что отсиживался бы за крепкими стенами ввиду неприятеля, тоже атаковал и бился бы в первых рядах. И его судьба могла быть такой же, если не хуже: плен или шальная пуля ландскнехта. Печальный итог. Какой же тогда в этом смысл?
Тяжёлые размышления были прерваны французским посольством. Луиза Савойская, регентша, предлагала ему мир и союз. Она была женщина, и умная женщина. Ей прежде пылкого сына стало понятно, что войны в Италии могут длиться целую вечность и всё-таки не принесут Франции новых владений, а только окончательно её разорят.
Генрих тоже начинал понимать, что никакие войны во Франции не вернут ему ни короны, ни владений Плантагенетов, но разорят Англию не меньше, чем Францию разоряют войны в Италии. Он был английский король — все его помыслы должны обратиться на Англию. Её судьба отдана ему в руки Господом и отцом, от судьбы страны зависят он сам и династия. Настала пора, необходимо остановиться.
Луиза Савойская ему помогла: за мир и союз предложила громадные деньги. Правда, первое время он колебался. Победа при Павии была слишком громкой. Ожидал, какие предложения сделает Карл, и отослал французских послов. Карл уже мнил себя властелином Европы и не предлагал, не просил, а потребовал, чтобы английская армия снова вторглась во Францию. Этот тон оскорбил, но разрыва с Карлом опасался, ибо могущество Карла было для него очевидно. Запросил у Карла субсидий, без них не мог обойтись для вербовки солдат. Карл ему отказал.
Тогда Генрих обратился к Луизе Савойской, та направила в Лондон новых послов. Франция обязывалась выплатить ему два миллиона флоринов, по сто тысяч в год. За аккуратность выплат поручились провинциальные штаты и крупные города. Согласился, но не одни деньги соблазняли его. Деньги, конечно, были очень и очень нужны. Но не меньше тешила мысль, что союзом с Францией он отнимал у Карла победу, поскольку Карл теперь был не властен над Францией.
Глава двадцать третья ВОЙНА ИЛИ МИР
Воспоминания становились всё ярче и красочней, завораживая, зачаровывая. Томас Мор следил за ними всё пристальней, поражаясь, как легко они выступают из тьмы, точно стремятся что-то ему объяснить. Прежняя жизнь проходила перед мысленным взором непривычной и странной, как будто чужая, как бывает у человека, который мало думает о себе, пока жив. Почти забыл, что наутро ожидало его, и всё то, что было вокруг. Одни старые тени проплывали перед глазами, и по-новому звучали слова, сказанные кем-то, когда-то, словно говорились впервые.
То были годы разорений и войн. После битвы при Павии французский король попал в плен. В плену заболел от одиночества и унижения, и его болезнь уже представлялась смертельной. Обеспокоенный Карл посетил пленника и выслушал жалобы на отсутствие свежего воздуха и хоть сколько-нибудь близких людей. К нему была допущена Маргарита Валуа. Она начала переговоры о мире. Условия были тяжёлыми. Карл требовал, чтобы Франсуа отдал Бургундию. Франсуа был возмущён и отправил во Францию формальное отречение от престола. Французы были растроганы самоотвержением своего короля, но ничем ему помочь не могли. Договор был подписан. Карл получал Бургундию и давал свободу французскому королю. Франсуа возвратился во Францию и нашёл союз с Англией и готовую армию, что набрала его мать. Воспрял духом и выздоровел, в качестве заложников должен был послать в Мадрид своих сыновей и отказался это сделать, должен был передать Карлу Бургундию, но прежде собрал нотаблей и пригласил выслушать их представителя Карла. У нотаблей был выбор: присоединиться к чуждой Испании или остаться в составе родственной Франции. Они постановили, что не могут подчиниться мадридскому договору, тем более что он был подписан в тюрьме. Карл остался ни с чем.
Европа успокаивалась. Становилось возможным равновесие сил. Генрих и Франсуа перестали стремиться к мировому господству. Италия перестала страшиться постоянных нападений французского короля. Больше того, итальянцы просили его помочь им избавиться от тирании императора Карла. Карл колебался, не зная, что ему предпринять, предчувствуя объединение против него всей Европы. Один коннетабль Бурбон нарушал равновесие, пока ещё зыбкое. Его ландскнехты стремительным приступом взяли Милан и устремились на Рим. Вечный город был взят и разграблен, а папа Климент осаждён в замке святого Ангела.
Вскоре внезапная смерть настигла коннетабля, точно сам Господь карал его за бесчинства. Папа Климент вынужден был отдать себя под покровительство Карла, и бесчинства его полководца пали на голову императора. Ему сообщал начальник папской охраны:
«Против вашего величества вопиют камни, положенные в основание христианства».
Генрих и Франсуа вступили в более тесный союз и потребовали немедленного освобождения папы Климента, проклиная богохульного Карла. Генрих демонстративно порвал все отношения с ним и потребовал развода с женой, приходившейся беспокойному императору тёткой, чтобы, по всей вероятности, заставить его купить английскую помощь против окрепших французов, не предвидя, конечно, к каким последствиям развод приведёт. Разрешение на развод Генрих испрашивал у папы Климента. Без сомнения, бедный папа Климент охотно подарил бы ему эту малость, однако папа находился у Карла в плену. Карл, узнав эту новость, побеседовал с ним с глазу на глаз, и папе пришлось отказать в разрешении на развод.
Союз Генриха с Франсуа стал ещё более тесным. Тогда Карл упрекнул Франсуа в вероломстве. Тот отвечал, что не может считать себя пленником императора, поскольку ни разу не встречался с ним лицом к лицу на поле брани, как полагается рыцарям. Карл направил к нему герольда с вызовом на поединок. Франсуа, не позволив ему рта раскрыть, отправил его назад и направил своего полководца на помощь Италии. Французы вошли без сопротивления в Геную и вскоре освободили Рим. Они гнали ландскнехтов коннетабля Бурбона на юг. Ландскнехты укрепились в Неаполе, которым владели испанцы. Сопротивление Неаполя было упорным. Французам пришлось отступить. Эпидемия стала косить их ряды. От неё умер их полководец Лотрек. Правда, Франсуа успел направить на помощь им подкрепления, но они были разбиты испанцами. Карл не имел возможности развить свой успех. Внезапно сто двадцать тысяч турок Сулеймана Великолепного вторглись в Венгрию и угрожали Вене осадой. Карл, почитавший себя вождём всего христианского мира, был обязан ответить на вызов Крестовым походом, но прежде было необходимо достичь мира в Европе. Он собирал огромную армию и склонял на свою сторону папу, а его тётка Маргарита Бургендская, управлявшая Фландрией, предложила Франции начать переговоры о мире в Камбре.
Философ увидел Генриха в его кабинете. Монарх увлёкся игрой с чёрным любимым породистым догом. Стоя на задних, круто и сильно расставленных лапах, огромный сытый кобель навалился передними на широкую грудь короля, оскалясь кривыми клыками, пытаясь повалить хозяина на пол. Генрих широко расставил толстые ноги в остроносых сафьяновых башмаках с резными пряжками чистого золота. Сильное тело пружинило, тужилось, то подаваясь назад, то с натугой налегая вперёд. Сквозь чёрный бархат распахнутого камзола выпирали тугие узлы вздутых мышц хорошо подготовленного атлета. Пёс был могуч и силён. Генрих жаждал победы. Стальные глаза горели безумно. Тонкие губы кривились жестокой усмешкой. Стиснутые крупные белые зубы с трудом пропускали хриплые злые слова:
— А ну, дьявол, ну!
Тупая пасть кобеля уже была окрашена пеной. В чёрных веках белели звериной злобой большие зрачки. Длинный живот был крепко втянут, казалось, до самого позвоночника. Вздымалась широкая грудь, II спина лоснилась от пота.
Они, должно быть, боролись довольно давно, уже позабыв, что столкнулись всего лишь в забавной приятельской стычке. В каждом уже пробудился животный инстинкт.
Однако им помешали, к огорчению того и другого, как Мору показалось. Генрих засмеялся коротко, хрипло, нехорошо, вдруг схватил пса под передние лапы и властным движением отшвырнул прочь. Кобель зарычал и снова бросился на хозяина. Генрих ударил пса резким криком, точно хлыстом:
— Место!
Пёс испуганно замер, дрожа гибким телом, и покорно прыгнул в угол дивана. Довольный победой, с высоко вздымавшейся грудью, с разгорячённым, румяным, задорным лицом, Генрих выговаривал с остановками, неловкими руками оправляя камзол:
— Проклятье! Все дела да дела! Засиделся! Закис! В поле пора! Конь и лук!
Вертя головой, спеша вернуться к ненавистным делам, государь опустился на диван рядом с догом:
— Завтра ты едешь в Камбре!
Глядя пристально, прямо в глаза, с расстановкой сказал:
— Прошу вас, пошлите другого.
Генрих вспыхнул:
— В чём дело?
Ответил спокойно:
— Меня тяготят обязанности посла.
Король отвалился к стене:
— Прошу тебя, не валяй дурака! Ты едешь как председатель палаты. Я знаю, палата домогается мира, денег им жаль, чёрт побери. Деньги, деньги везде. Однако в интересах короны на тебя возлагается обязанность помешать соглашению между Карлом и Франсуа. Я заготовил письмо. По нему ты получишь деньги у Фуггеров. Можешь истратить двадцать тысяч дукатов.
Генрих сжал кулаки.
Верно, денег было всё-таки жаль.
Вздохнул тяжело и решительно приказал:
— Сори деньгами, но перессорь всех со всеми. Так надо мне!
— Тогда снова война.
Вытягивая короткую шею, взблескивая стальными глазами, король яростно бросил:
— Я отвоевал то, что мне было написано на роду. Угомониться пора. Да и денег никто не даёт на войну. Палата опять заартачится! Разве не так? Платит одна королева Луиза, но платит за мир. Но если понадобится, значит, война и война! Усиление либо Франсуа, либо Карла одинаково губительно для моих интересов на континенте!
Тихо напомнил:
— Война противна моим убеждениям. И палата точно денег не даст.
— К чёрту палату! К чёрту твои убеждения! Одна французская крепость дороже всех твоих убеждений! Помни об этом в Камбре!
Отметил, точно рассуждал сам с собой:
— Дороже даже моей головы.
— Может, и так, но потом, а теперь твоя голова ещё мне пригодится.
— Сомневаюсь в этом, милорд.
Схватив за ошейник, Генрих потянул тяжёлого дога к себе:
— Тут вот в чём секрет. Ты должен добиваться мира, как того жаждет палата, которой деньги дороже, чем честь, но привезти войну между Карлом и Франсуа. Пусть они истребляют друг друга! Поверь, у меня нет никого, кто бы справился с такой мудреной задачей. Мне нужен верный успех. А для того необходимо успокоить палату, как необходимо и то, чтобы папа был на моей стороне. Подробности скажет Уолси. И помни в Камбре: в руках у тебя моё счастье!
Возразил:
— Для такой миссии я не гожусь.
Генрих в то же мгновение изменился в лице и с потеплевшим взглядом, с рукой, растерянно теребившей застёжку камзола, просто, но глухо сказал:
— Помоги мне, Мор, помоги!
Знал эти мгновенные переходы и принимал их за чувство вины, не чуждой совестливой душе короля. Генрих был добр и умён. Философу доводилось наблюдать много раз, как часто тот колебался между искренним сознанием справедливости и разнузданным своеволием избалованного властителя. Вся беда была в том — не для него одного, а для страны, для всех англичан, — что этот сильный, талантливый человек то и дело сбивался с пути, предписанного ему здравым смыслом. Монарху, способному делать добро, но часто творившему зло, готов был помочь как председатель палаты, как обременённый многим познанием человек, как друг.
Ради помощи человеку приходилось идти наперекор королю, и мыслитель произнёс:
— Смогу обещать только одно: если между Францией и Испанией установится мир, его подпишут на условиях самых тяжёлых.
Генрих порывисто погладил голову пса и отпустил его кивком головы.
Мор ехал верхом к кардиналу. Было сыро, но ясно. В слишком узких непросыхающих улочках густо воняло конским навозом и хлюпала под копыта желтоватая вязкая грязь. Прохожие прижимались к склизлым стенам домов, чтобы его пропустить. Дома мрачно глядели узкими окнами. В очень немногих блестело стекло. Остальные были затянуты бычьим пузырём или промасленной толстой бумагой.
Ему нужен был только мир. Довольно истреблять понапрасну людей, пускать на ветер силы и средства, которые можно направить на процветание Англии.
Что бы он сделал? Да в первую очередь перестроил бы весь этот город, заложил бы новые улицы, и в тех улицах царили бы свежий воздух, чистота и простор.
Опустив голову, бросив поводья, не понукая коня, припоминал:
«Расположение площадей удобно как для проезда, так и для защиты от ветров. Здания отнюдь не грязны. Длинный и непрерывный ряд их во всю улицу бросается в глаза зрителю обращёнными к нему фасадами. Фасады разделяет улица шириной в двадцать футов. К обратной стороне домов на всём протяжении улицы прилегает сад, тоже широкий, отовсюду загороженный задами улиц. Нет ни одного дома, у которого бы не было двух дверей: спереди — на улицу, сзади — в сад. Двери двухстворчатые, скоро открываются при самом лёгком нажиме и затем, затворяясь сами собой, впускают всех, кому угодно войти...»
Потянуло запахом тления. Проворный нищий схватил его за колено, истошно вопя, выставляя кровавую рану, намалёванную на плече.
Бросил ему целый пенс и поспешно вернулся к своим мыслям:
«Стены построены снаружи из камня, песчаника или кирпича, а внутри полые места заполнены щебнем. Крыши выведены плоские и покрыты какой-то замазкой, не стоящей ничего, но такого состава, что она не поддаётся огню, а по сопротивлению непогоде превосходит свинец. Окна защищены от ветров стеклом, а иногда полотном, смазанным прозрачным маслом или янтарём, что представляет двойную выгоду, именно: таким образом они пропускают больше света и менее доступны ветрам...»
На виселице колыхалось под ветром гниющее тело. Отрубленные головы были выставлены на общее обозрение при въезде на мост.
Пришпорил коня и поскакал.
У входа в Ламбетский дворец стояли копейщики, охранявшие жизнь и покой кардинала и канцлера. Как ему показалось, они служили недавно. Тот их часто менял, страшась покушения на свою драгоценную жизнь. Во всяком случае, они не узнали его.
Спешился и назвал своё имя, однако солдат преградил дорогу копьём, а другой не спеша скрылся за тяжёлой одностворчатой дверью. Долго ждал, держась рукой за седло.
Наконец, блестя фиолетовым шёлком, навстречу вышел викарий и подал знак. Его пропустили.
Миновали знакомую с давних пор анфиладу. Беззвучно и ловко распахнув перед ним широкую дверь, викарий сообщил, казалось, одними губами:
— Монсеньор ожидает.
Так же беззвучно дверь затворилась у него за спиной.
На стенах ровно горели восковые толстые свечи в золотых узорчатых бра, заливая апартаменты мягким рассеянным светом. Сладко пахло дорогими восточными благовониями. Было уютно, умиротворённо и тихо. Не двигались широкие копья свечей.
В высоком кресле, до боли знакомом, дремал другой канцлер. Массивная голова опустилась на заплывшую грудь. Дряблые щёки, словно сырые, обвисли на белый ворот роскошной сутаны. Квадрат золотого креста мерцал бриллиантами. На указательном пальце пухлой руки тлел аметистовый перстень.
Застыл на пороге, не решаясь потревожить чуткий сон старика.
Может быть, притворяясь или ощутив на себе его ждущий пристальный взгляд, кардинал открыл разом глаза и вскинул римскую голову, вылитый кесарь ушедших веков. Лицо тотчас настороженно сжалось, и сделалась почти неприметной дряблая округлость раскормленных щёк. Хозяин неожиданно улыбнулся, легко поднялся с удобного кресла и сделал навстречу несколько неторопливых важных шагов, выразительно говоря:
— Я ждал вас, Томас Мор.
Склонил рыжеватую голову:
— Благословите, отец.
Кардинал взмахнул перстами над его головой, коротко ткнул ему тёплую руку для ритуального поцелуя и в самое темя весело произнёс:
— С вами необходимо быть откровенным, и я вам по чести скажу, что вашему назначению я вовсе не рад.
Гость подхватил, выпрямляясь:
— Чего хорошего быть послом в тёмном деле? Для нас, людей мирских, быть послами далеко не так просто, как для вас, смиренных служителей Господа, ведь вы не имеете ни жён, ни детей.
Кардинал улыбнулся мимолётной улыбкой:
— Вы льстите нам, Томас Мор.
С лёгкой иронией поправил себя:
— То есть не должны бы иметь по обету, тогда вам было бы некого оставлять в своём доме, вы были бы повсюду одни. Когда же мы, безрассудно предавшиеся соблазнам мира сего, хотя бы на короткий срок уезжаем из дома, наше сердце тоскует и рвётся обратно, к объятиям жён, к поцелуям детей. К тому же в поездке приходится жить на два дома, а это очень и очень накладно, вы и представления не имеете о подобного рода вещах.
Кардинал выпрямился, толстый, с розовыми щеками, стараясь выглядеть как можно величественней, и с пониманием взглянул на него:
— Ну, я-то имею представление обо всём и уже подумал о ваших расходах. Вот вам указ, король подпишет его, я с ним говорил. Согласно указу вам назначается пенсия в возмещение понесённых убытков... нет, не в сто фунтов, от них вы отказались, мне это известно, а всего в пятьдесят, — церковь, как видите, поступает мудрее, чем короли.
Отрицательно покачал головой:
— Церковь мудра, однако и от неё этой пенсии я принять не могу.
Кардинал с удивлением поглядел на него:
— Позвольте узнать, почему?
Переступил с ноги на ногу и ответил скучающим тоном, не желая продолжать разговор о деньгах, которыми его хотели связать:
— Мудрая церковь понять должна бы и то, что уже понял государь: мои сограждане сочтут меня подлецом, на этот раз продавшимся церкви.
Кардинал потёр тыльную сторону левой руки и усмехнулся язвительно:
— Но вы приняли земли в Кенте и в Оксфорде.
Вынужден был объяснить:
— Я взял только то, что полагалось месту, которое я занимаю. В противном случае сограждане сочли бы меня лицемером.
Собеседник поморщился, поглаживая на этот раз крест, переливавшийся цветными огнями из-под руки:
— Именно по этой причине я предпочёл бы другого посла. Всегда лучше иметь дело с тем, кто безразличен к мнению сограждан.
Напомнил, прищурив глаза:
— Вы могли бы легко воспрепятствовать неугодному назначению. Известно последнему нищему, что вам по силам и не такие дела.
Канцлер вдруг раздражился и резко бросил, сжав сильно крест так, что побелели костяшки небольшого, но крепкого кулака:
— Я и препятствовал как умел, уж поверьте. Но мне оказались не по силам дела, которые касаются именно вас!
Поднял рыжеватые брови:
— Вы так плохо старались?
Тотчас смахнув раздражение, приветливо улыбаясь всем своим мгновенно просветлевшим лицом, мягко взяв его под руку, ведя вдоль огромного зала, украшенного полотнами прославленных мастеров, точно наводнивших Италию, эту родину новейших искусств, кардинал заговорил располагающим дружеским тоном:
— Поверьте же мне, повторяю, я очень старался. Тем не менее наш король проявил удивительное упрямство, как бывает всегда, когда у него что-то своё появляется на уме, то есть то, что он хотел бы скрыть от меня. Хотел бы я знать, что именно нынче втемяшилось в его капризную голову?
Сказал откровенно:
— Его величество мне сказал, что желает войны между Карлом и Франсуа.
Медленно двигаясь, приятно шурша широкой сутаной, кардинал задумался и негромко спросил:
— А казна его пустовата? И ему необходимы субсидии? А ссориться с палатой на этот раз не решился? И отправляет на переговоры в Камбре не мастера Томаса Мора, а её председателя, чтобы польстить дуракам-депутатам, которых в любом случае недорого можно купить? И это, по-вашему, всё?
Разглядывал «Снятие со креста», к которому они приближались медленным шагом, останавливаясь пристальным взглядом то и дело на исполненных неумело, но ужасно скорбных руках, и ему казались пустыми эти запросы, и обронил, упрекая своего собеседника:
— Вы же знаете, что это не так.
Поймав его пристальный взгляд, обращённый к картине, собеседник вымолвил словно для себя:
— Страшусь, что в последнее время наш король по каким-то причинам перестал мне доверять. Может быть, не во всём, а всё-таки перестал. Но почему?
Разглядывая измождённую грудь и втянутый впалый живот распятого мученика, резко белевший на полотне, подтвердил безучастно, тоже думая о своём:
— Всё может быть без всякой причины. На то ом и король, чтобы решать, кто достоин доверия, а кто ею потерял.
Кардинал вздрогнул, сбился с ноги и внезапно перевёл разговор на другое:
— Вам, я вижу, очень нравится эта картина?
Невольно взглянул в спокойное лицо канцлера, и в раздумье сказал:
— Скорей всего нет.
Тот любезно склонился к нему:
— Вам не нравится, что Спаситель здесь слишком мало похож на Всевышнего?
Освободив руку, шагнул в сторону, чтобы вся картина стала видней:
— Я думаю, художник удачно передал смерть и покой, однако вовсе не показал нам страдание, а без страдания в каждой черте его картина теряет свой смысл.
Кардинал тоже остановился и безразличным тоном спросил, прикрывая глаза:
— Быть может, по этой причине в ней иной смысл, чем вам бы хотелось?
— Вы правы.
Широким жестом приглашая к столу, накрытому на два прибора, его преосвященство вдруг перебил:
— Неужели король угадал?
Подумав о странном соседстве именно этой картины и этого овального столика на причудливо изогнутых тоненьких ножках с инкрустацией из перламутра, с дорогой заморской посудой на нём, неторопливо ответил:
— О чём вы?
Хозяин опустился медленно в кресло и поднял за тонкую ручку бронзовый посеребрённый кувшин:
— Его развод чересчур затянулся. Разве не так? А ему не терпится развестись. Его мучит мысль о наследнике. Разве и это не так? Заодно государь этим разводом хотел бы насолить императору Карлу, а Карл указывает ему, кто нынче хозяин в Европе и в Риме. Разве и это не так? Король рассчитывал на мои связи, но папа теперь под арестом у Карла. В таких обстоятельствах я бессилен помочь, и монарх попробует свою неудачу свалить на меня.
— Это естественно. Его в два счета развёл бы наш суд, стоило бы лишь приказать и кое-кому заплатить.
Однако именно вы, монсеньор, настояли, чтобы Генрих обратился к Римскому Папе, может быть, зная заранее, что папа Климент на этот развод никогда не пойдёт.
Кардинал задержал кувшин в воздухе и рассмеялся мелким, тихим смешком:
— Мне приятно, что вы разгадали мой ход.
Продолжал наблюдать, как холёная рука кардинала уверенно переносила кувшин:
— В таком случае наш король получит развод только тогда, когда Римским Папой подкупленный вами конклав изберёт английского кардинала Уолси.
Кардинал принагнул кувшин над высокой выпуклой чашей, и темно-малиновая струя, переливаясь в теплом свете свечей, тяжело пролилась из длинного узкого горла:
Именно так!
По цвету вина ему показалось, что это марсала, которой не любил:
— Под каким же именем, монсеньор? Вы решили?
Поставив на место кувшин, уронивший каплю вина, которая упала на стол точно кровь, кардинал, хитро улыбнувшись, подал ему его чашу:
— Скажем, под именем Юлия Третьего. По-моему, очень неплохо. А что скажете вы?
Держал полную чашу в обеих руках, ощущая слабый холод её, дивясь змеиной хитрости кардинала:
— Может быть, может быть, однако ж, клянусь Геркулесом, вам скорее подошёл бы Маркел.
Полуприкрыв глаза, поглядывая на него с подозрением, видимо ещё не решив, друг он ему или враг, собеседник сделал неторопливый глоток:
— Э, полно вам. Я согласен именоваться Сикстом, Иннокентием, Евсевием, Пием. В прошлый раз пообещал конклаву сто тысяч флоринов, но Карл прикрикнул на них, и они предпочли мне этого труса, худшего из всего славного племени Медичи.
Из вежливости тоже пригубил вино:
— Ста тысяч флоринов им было мало?
Свободно, красиво держа золотую чашу в бледной пухлой руке, влажно поблескивая сочным, не успевшим увянуть окончательно ртом, канцлер снисходительно улыбнулся наивности, с какой он об этом спросил:
— Ну, конклаву мало всегда, но больше им никто не давал. Тогда они мне сказали, что я был чересчур откровенен со своими флоринами. Признаюсь, это единственный мой недостаток, который всё ещё мешает мне сделаться папой. Придётся в ближайшее время избавиться и от него, дав им двести тысяч флоринов, но так, будто бы ничего не давал.
Весело взглянул на умного циника, тому несколько раз не везло:
— Отныне вы учитесь быть лицемером?
— Вовсе нет!
Сказал ещё веселей, не спрашивая, а скорей утверждая:
— Стало быть, вы придумали какой-то новый приём задобрить конклав, который наконец приведёт вас на римский трон, слишком соблазнительный не только для вас.
Кардинал вместо ответа приподнял свою чашу:
— За вашу удачу во Фландрии!
Тоже приподнял свою чашу и ещё внимательней вгляделся в весёлое лицо собеседника:
— Вы отправляете меня на заклание?
Кардинал с лёгкой усмешкой спросил, мелкими глотками попивая вино:
— Томас Мор испугался?
— Скорей всего нет, однако же смею напомнить, что я не Христос.
— Помилуйте: это не новость.
— И моё падение не искупит ваши грехи. Они не мешают сделаться папой, но могут лишить вас должности канцлера.
Кардинал спросил, допивая вино:
— И по этой причине вы не пьёте со мной?
Парировал:
— Для меня слишком крепко ваше вино.
Тот посоветовал добродушно:
— В таком случае моё вино разбавьте водой.
Шутя попросил:
— Не стоит портить ни вина, ни воды. Лучше прикажите подать молока.
Кардинал доверительно продолжал:
— Папа Климент может испустить дух со дня на день, в особенности в том случае, если его основательно попугать, а наш король уже объявил, что сделает меня своим папой, если конклав и на этот раз не проявит должного уважения к его титулу спасителя веры и к моему способу добросовестно платить за тиару. Таким образом, моя тиара нынче в ваших руках.
С сомнением покачал головой:
— Вы ошибаетесь на мой счёт, монсеньор. Я не намерен добывать вам римский престол.
Кардинал понимающе кивнул головой, широко улыбнулся и вновь налил из кувшина вина:
— Ну, разумеется. Я понимаю, что моя тиара была бы вам ни к чему. Однако же, обратите внимание, если я сделаюсь папой под каким-нибудь именем, я превращу Англию в могущественнейшее государство Европы, а для вас уж это-то не может быть безразличным.
Поставил чашу на стол:
— Могущество государства я понимаю иначе.
— Да, это я знаю. Представьте, тоже читал, что именно вы разумеете под могуществом государства. Было занятно.
— Занятно?
Кардинал повертел чашу в руке, сосредоточенно глядя мимо неё:
— Как незанятно? Царство Божие вы намереваетесь основать на грешной земле.
Поправил:
— Ну, мои намерения намного скромней. Я только хотел показать, что справедливость и равенство возможный на земле, которая именно по этой причине перестанет быть грешной. Ведь причина её грешности в несправедливости и в неравенстве.
Его преосвященство небрежным движением сунул ненужную чашу на стол и указал кивком головы на картину:
— Ваше намерение и благородно, и хорошо. Если хотите, я под ним подпишусь. Однако осмелюсь напомнить, что всё это мирское, телесное, тогда как нам заповедано свыше радеть о чистоте, о благолепии душ.
Поинтересовался с насмешкой:
— И как же вы намерены могущество государства превратить в чистоту, в благолепие душ?
Хозяин неторопливо поднялся.
Гость тоже должен был встать.
Кардинал снова повёл его через зал, на этот раз не прикасаясь к нему:
— Я удивлён! Разве вы не догадались ещё? Ведь вы же пророк!
Собеседник глядел на него иронически, и ему становилось неловко под этим испытующим взглядом:
— Вы мне льстите. Я не пророк. А догадаться нетрудно, правда, в самых общих чертах.
Кардинал ухватил его локоть крепкой, властной, нестарческой, как оказалось, рукой:
— Ваша догадка верна. В самом деле, если у Англии будет свой папа, англичане к Господу станут значительно ближе, в отличие от испанцев или французов, и уж поверьте, моя мысль ничуть не глупее вашего острова, где от сытости, равенства и справедливости не нуждаются ни в благолепии, ни даже в Господе нашем Иисусе Христе.
Этот откровенно циничный, скользкий, безнравственный человек начинал его раздражать, и поневоле стал возражать, втягиваясь в ненужный спор:
— Однако граждане того острова искренне просят просветить их истинной верой.
— Ну, это долгая песня, надеюсь, это вы понимаете сами. Клянусь, путь, выдуманный мной, прямей и короче того, который однажды придумали вы.
Сдержал раздражение и постарался задать вопрос мягче, хорошо понимая, что резкость была бы неуместной и даже смешной:
— И вы надеетесь, что именно по этой причине я соглашусь способствовать вам?
Кардинал кольнул его острым взглядом, точно проверить желал, в самом ли деле он понял его, или только шутил:
— Вы не пожелаете служить моим интересам, к истине такое суждение было бы ближе. Однако должен вас успокоить: вам придётся служить мне вопреки вашей воле. Понимаю, что такой поворот дела прискорбен для вас, но это, к несчастью для вас и к счастью для меня, факт.
Вскинул голову:
— Я вас не боюсь!
Канцлер выпустил его руку и ласково обнял за талию:
— Разумеется, вы меня не боитесь. В этом я убедился давно. По этой причине я вам не угрожаю ничем, не пугаю и не стану пугать. В моём положении это было бы чересчур нерасчётливо. Согласитесь, что и глупо ужасно. Конечно, я не так образован, как вы. Тем не менее, неужели вы отказываете мне даже в уме? Я же сказал и ещё раз повторю: вам придётся служить моим интересам. В этом секрет моего мастерства. Прибавлю ещё: вы неизбежно встанете на защиту моих интересов именно потому, что вы образованный, рассудительный и проницательный человек. Возьмите в расчёт: если мне не сделаться папой, меня сгонит в могилу жадная родня нашей милейшей Анны Болейн. Вы спросите, почему? Причина проста: родне милейшей Анны очень хочется завладеть моими богатствами, разграбив эти картины, эти ковры и ещё кое-что, что скрыто от глаз. К тому же, всем им грезятся церковные земли, так что вместе со мной может пасть и сама английская церковь. Я уже не упоминаю о том, что после меня они непременно возьмутся за вас.
Уловил протестующий жест Мора и заспешил:
— Да, да, я понимаю, что вы за себя не боитесь и что у вас им нечего взять. Однако ж подумайте, что станет с Англией, если восторжествует Болейн и во все щели попрёт её ненасытное племя, точно клопы! Да они источат казну, как моль источает сукно!
Его преосвященство вдруг воскликнул, указав рукой на распятие, где высеченный из слоновой кости Христос бессильно поник на кресте, искусно вырубленном из чёрного мрамора:
— Вы видите, Мор?
Воздев руку, похожий на зверя, который сжимается, готовясь к прыжку, не дожидаясь ответа, заговорил с какой-то восторженной искренностью:
— И Он не хотел, но взял на себя прегрешенья и зло этого жестокого, этого грязного мира! И Он не хотел! Вдумайтесь-ка, именно не хотел, не хотел, а пришлось ему взять на себя! И все мы противимся, противоборствуем, не хотим, не желая понять, что есть нечто высшее нас, что заставляет нас действовать вопреки нашим чувствам и нашим намереньям! Обстоятельства — вот наш истинный бог, наш тиран и наше проклятие! Если пошатнётся церковь по вашей воле, по воле короля или по воле Анны Болейн, кто с негодованием укажет смертным на их возмутительные, неиссякаемые пороки? А если они останутся в вечном неведении на сей счёт, как же они поплывут на ваш сказочный остров?
Изумился и возразил, почувствовав страстную силу в этих словах:
— Церковь существует более тысячи лет, напоминает, напоминает, корит, а люди всё равно остаются порочны. Лишь на том острове они смогут очиститься от грехов и не станут порочны на вечные времена.
Поворотившись круто к нему, встав очень близко, глядя в упор, собеседник заговорил примирительно, однако по-прежнему страстно:
— Так пусть же Франция и Испания увязнут в вечной войне! Только всечасно пожирая друг друга, Англию они оставят в покое, вынуждены будут оставить, хочу я сказать. Чего ж вам ещё? Разве вы этого не хотите?
Напомнил:
— Если они завязнут в вечной войне, наш король снова вспомнит о короне Плантагенетов и ради неё станет помыкать то одной, то другой стороной, как он делает это почти двадцать лет, понемногу истощая страну.
— С такого рода наивной политикой будет покончено, если именно меня сделают папой. Я помогу ему позабыть о короне Плантагенетов, позабыть навсегда.
Тоже примирительно попросил:
— Лучше оставим наш диспут. Я выполню поручение короля, как смогу, в меру моих слабых сил, ведь силы мои ограничены, монсеньор, в особенности если помнить о ваших пророчествах.
Кардинал облегчённо вздохнул и смахнул с лица пот белоснежным платком:
— Вот и чудесно! Позвольте дать вам совет, разумеется не помышляя о превосходстве моих сил над вашими, это оставим другим. Так вот, Карл находится в безвыходном положении. В Венгрию, как вы знаете, вторглись полчища турок, а Карл связан рыцарским словом начать против них Крестовый поход, ведь все они ещё бредят рыцарством и рыцарской честью. Испанская казна истощилась, несмотря на постоянный и щедрый приток из колоний, где испанцы ничем не стесняют себя, то есть грабят и убивают несчастных туземцев почём зря. Его армия завязла в Италии. На севере Карлу угрожают мятежные лютеране, которых он не догадался вовремя усмирить. Вот, помня об этом, вы только шепните французам от имени нашего короля, что мы, мол, готовы высадиться, скажем, во Фландрии. В таком случае, французы не уступят ни пяди, Карл же, связанный ими и с запада, не сдержит своего королевского слова и в какой раз отложит обещанный Крестовый поход. Римская курия вынуждена будет оставить его как отступника. Франсуа утвердит своё влияние в Риме. Я сделаюсь папой. Генрих получит долгожданный развод. Англия благополучно останется в лоне католической церкви. В католическом мире сохранится единство, отчасти ослабленное уже лютеранами. Ваша заслуга во всех столь важных благодеяниях станет очевидна и неоспорима. Вы только шепните эти несколько слов.
Громко спросил:
— И мы не высадимся во Фландрии?
Кардинал многозначительно подмигнул:
— Фландрия, мастер, и без того будет наша, дайте только срок.
Привыкнув таить свои сокровенные мысли, досадовал на свои возражения, понимал, что пора прекратить этот бесполезный, слишком затянувшийся разговор о тиарах, коронах и рыцарстве какой-нибудь шуткой, но никакая шутка не шла с языка. Серьёзно сказал:
— Вы изложили ваши планы откровенно и ясно. Я понял вас. Хочу только напомнить вам ваши же уверения: дело будет зависеть не от меня, не от этих нескольких слов, а от самих обстоятельств, в которых мы, как вы говорите, не властны.
Кардинал взглянул на него повелительно, строго:
— Применяйтесь к обстоятельствам, чтобы властвовать ими!
Поклонился:
— Если смогу, монсеньор.
Собеседник неожиданно прильнул к его уху и чуть слышно произнёс французское имя:
— Это мой человек, запомните хорошенько. Вы отыщите его в свите Луизы. Он вам поможет примениться к обстановке переговоров, как приятно и выгодно для всех нас.
Вновь нагнул рыжеватую голову:
— Благословите меня.
Кардинал благословил, отпустил наконец и громко прошипел ему вслед:
— Только бы нас не опередила эта драная сучка Болейн!
Мостовые Камбре звенели и цокали под железом подков. Кривые узкие улочки переполнились пёстрыми всадниками. В каждой свите был свой фамильный, избранный цвет. С утра до вечера оглушительно перезванивались колокола всех городских и окрестных соборов. Гремели салюты и фейерверки. Бесновалась и орала толпа.
Ритуальная церемония открывала каждое заседание враждовавших сторон. Две королевы в парче, в жемчугах и каменьях появлялись друг против друга, обменивались призрачными улыбками, произносили затверженные с малолетства приветствия и представительно усаживались в золочёные кресла, почтительно воздвигнутые на возвышениях, покрытых красным сукном. По обе стороны от владычиц, понижаясь рядами, рассаживались советники. Вышколенные писцы ловили каждое слово, оброненное одной из сторон. На площади рокотал беспечный народ, довольный устроенным зрелищем и бесплатным вином.
Карл сказался больным. Франсуа охотился в заповедных лесах. Две королевы яростно защищали интересы и честь, одна сына, другая племянника. Луиза Савойская нервно сжимала ручки тяжёлого кресла. Её сухое стройное тело в порыве злобы порывалось то и дело вперёд и в бессилии неудовлетворённой жажды повелевать откидывалось назад. Лютая ненависть ко всему испанскому металась в сверкающих жёлтых глазах. Сморщенное лицо, как печёное яблоко, пожелтело от разлитой желчи. Говорила она слишком громко, вызывающе, резко, рождая желание ударить её, чтобы привести в чувство. Маргарита Бургундская замыкалась в испанской непроницаемой гордости, сидела напротив ненавистной противницы преувеличенно прямо, с высокомерно откинутой, язвительно-холёной головкой, в презрительной усмешке часто кривя свои плоские бледные губы. Обе грозили друг другу войной, опустошительной и беспощадной. Обе были готовы взвиться из своих кресел и сами царапаться и кусаться, если не разить одна другую мечами, лишь бы не уступить, лишь бы настоять на своём. Всем казалось, что переговоры непременно прервутся, в самом деле обернутся новой, ещё более жуткой, непримиримой враждой и опустошением целых провинций и городов, но они возобновлялись снова и снова.
Масло выгорело в плошке, оставленной верной Дороти. Слабый огонь подёрнулся и угас.
Узник не заметил, что сидит в непроницаемой тьме.
Вперился в своё прошлое с увлечением, хорошо узнавая и как будто не узнавая, хотя твёрдо помнил каждое слово, и шум городка, переполненного чужими людьми, звучал неумолчно в ушах.
Что-то внезапное, необычайное открывалось в прошлом, беспокойное, смутное, наводившее на какую-то важную мысль.
Повсюду в зале заседаний и в прочих людных местах занимал первое место, ни на дюйм не дозволяя умалить свой престиж, который был там престижем страны и короля. Требовал поместить его тотчас после двух королев. Его поселили на подворье курфюрста, а в зале переговоров отвели самую высокую, самую почётную из скамей, так что выше сидели одни королевы. Был немногословен и строг, как подобало представителю великой державы и могучего монарха, союза с ним добивались и Луиза и Маргарита. Но, поразительно, ему почти не приходилось вмешиваться в эти боевые переговоры о мире, которые каждый день могли завершиться новой войной. Переговоры складывались по его желанию как-то сами собой, не требуя ни королевских денег, ни кардинальских интриг.
С нарастающим любопытством следил, как эти бранчливые дамы, ежеминутно готовые вцепиться одна другой в глотку, лишь бы не уступить сопернице ни слова, ни буквы в мирном трактате, в конце концов уступали, не в силах не уступить, и соглашались сквозь зубы на предложение заклятого, жаждущего победы противника, в самом деле повинуясь, как предрекал кардинал, немилосердному сцеплению самых неожиданных обстоятельств и продвигаясь против воли своей к нелюбезному, но неизбежному миру. Видел, как с разных сторон прибывали гонцы, по два и по три на дню. Знал, что курьеров поджидали в засадах, выкрадывая бесценную почту, иногда убивая посланца, лишь бы вырвать необходимую тайну. Ему самому предлагали продать или перепродать секретные вести, которые он получал то из Ламбетского дворца, то из Гринвича, то от послов в Испании, Франции и Италии. Доносили, что французы медленно откатывались от Неаполя, не имея ни пороха, ни физических сил, чтобы продолжить осаду. Между солдатами началась эпидемия. Внезапно умер Лотрек. Главнокомандующим был назначен Сен-Поль, но он уже ничего не мог изменить. Двадцать первого июня он был разбит. Вновь, как при Павии, Франция всё проиграла в Италии. Путь на Париж был открыт. Вторжение испанцев представлялось решительно всем неминуемым. И было немыслимо слышать, как Маргарита Бургундская, ещё презрительней кривя плоские бледные губы, предлагала не безоговорочную капитуляцию с потерей Бургундии и контрибуцией в несколько миллионов флоринов, а самый незамедлительный мир. И было ещё немыслимей слышать, как разъярённая Луиза Савойская кричала, подпрыгивая, брызжа жёлтой слюной, что великая Франция никогда, вы слышите, никогда, никогда и ни при каких обстоятельствах не склонит гордой своей головы ни перед кем, вы слышите, ни перед кем, ни перед кем, ни перед чьим-то императором и королём.
В ответ Маргарита, презрительно щуря глаза, просила Бургундию, чтобы приобретением этой провинции возместить те убытки, которые племянник её понёс в победоносной войне.
Привскакивая на месте, Луиза злобно пищала, что эта исконная земля галлов никогда не отойдёт к паршивым испанцам и глупым немцам, вы слышите, никогда, никогда.
Королевы покидали зал переговоров разгневанные, ночью принимали гонцов и советников и наутро встречались как ни в чём не бывало, непримиримые как никогда, всё больше и больше уступая друг другу.
Ему было известно, что со дня пленения сына Луиза вела переговоры с Сулейманом Великолепным. Её не страшил тот позор, какой она навлекала на христианскую Францию, обращаясь за помощью к мусульманам, ради спасения сына любой позор она готова была взять на себя.
Столетия перед тем французские короли мечтали наяву и во сне о крестовых походах против неверных. Карл Шестой в своё время ходил против турок, но был ими разбит. Карл Восьмой грезил осадой Стамбула. Людовик Двенадцатый проповедовал священный поход, но так и не собрался его совершить. Теперь король Франсуа носился с грозным проектом объединить всю Европу для окончательного разгрома империи зла и, добиваясь имперской короны, клялся германским курфюрстам:
— Если меня изберут императором, то три года спустя, не позднее, я буду в Константинополе или меня не будет в живых.
И вот буйный сын в качестве пленника томился в каменном мешке мадридского замка, а Луиза, повинуясь слепому материнскому чувству, поправ вековые традиции французской политики, с молчаливого согласия сына, павшего духом, толкнула турецкую армию на беззащитную Венгрию. Тридцать тысяч венгерских солдат легли костьми на Могачской равнине. Буда пала. Венгрия была опустошена и включена в обширные владения ненасытного Сулеймана. Австрия стояла перед угрозой вторжения. Напуганный Карл поспешил выпустить Франсуа на свободу, потребовав вместо него заложниками его сыновей. И вот потерявший достоинство сын охотится в своих заповедных лесах на оленей, а потерявшая голову мать вновь науськала турок на Карла, подобно львице защищая детёныша.
В мае Сулейман Великолепный, снарядив двести пятьдесят тысяч солдат, вновь прокатился по Венгрии. Главный удар и на этот раз прошёлся по Вуде. Нерегулярные турецкие части грабили Австрию, регулярные части угрожали сиятельной Вене. Около тысячи вооружённых фелюг наводнили Дунай. И чем ближе мусульманские полчища подплывали к христианской столице, тем уступчивей становилась непреклонная Маргарита, по-прежнему кривя в злой усмешке плоские бледные губы. И тем неустрашимей становилась Луиза, и бешеным злорадством кипели её жёлтые рысьи глаза и ещё глубже становились морщины на сморщенном до уродства лице.
И вот в августе нежеланный мир был подписан обеими сторонами. Франция сохраняла Бургундию, но отказывалась от сюзеренных прав на Фландрию, Лилль, Дуэ, Артуа и уступала важную крепость Гездин. Карл отпускал заложников, сыновей Франсуа, за два миллиона экю, а Франсуа женился на испанской инфанте Элеоноре, сестре ненавистного Карла, отныне кузена, лишь бы проклятый кузен не поднимал на него меча.
Лет по крайней мере на двадцать, а может быть, и на тридцать в несчастной, разорённой непрерывными войнами и грабежами Европе не предвиделось династических войн.
Он получал мир, как и хотел.
Это был настоящий успех.
Но несмотря на этот настоящий успех, возвращался смущённый, взволнованный: уж слишком легко получил всё то, что хотел, о чём скорбно мечтал все эти долгие годы. Мир воцарился. Чем отныне займут себя короли? Не уразумеют ли они наконец, что пора заниматься внутренним устройством вверенных их попечению народов и государств?
Сердце колотилось сильнее. Мысли кружились и путались. Настроение капризно менялось, не сиделось в пышной карете посла, потребовал коня после первой ночёвки. Сутулясь, опустив узкие плечи, ехал далеко впереди охраны и свиты. Его невольные спутники молчали и не решались догонять. Почтенные люди, которым выпала честь составить посольство, ехали шагом. За ними пылили копейщики в потемневших кирасах. Бесшумно катила пустая карета. С высоты седла во все стороны расстилались тучные фландрские нивы. Узорчатые соборы белели на пологих холмах. Уютные домики, сложенные из красного кирпича, алели на солнце черепицами островерхих, высоко вздёрнутых крыш. Плотные мужики в суконных жилетах и шляпах сноровисто убирали поля. Весёлые женщины в длинных юбках и кокетливых чепчиках ставили крутобокие бабки уродившейся ржи. Сытые коровы паслись на зелёных лугах. Довольство сияло вокруг. Вид довольства и сытости рождал в душе его лёгкую зависть. Его родина такой довольной и сытой грезилась ему только в мечтах.
И он трогал шпорой коня. Серый в яблоках конь вздёргивал сухую узкую голову и сразу переходил на галоп. Позади него свита переходила на рысь. Прибавляли ходу копейщики с пропылёнными лицами. Пустая карета с дремлющим кучером оставалась далеко позади.
Нетерпение им овладело, хотелось прискакать поскорее домой, пришпоривала надежда, что на родине что-то двинется с места, что на родине, получавшей, без его усилия, мир, должно начаться что-то хорошее, непременно счастливое, и чудный остров, как призрак в тумане, вновь рисовался в мечтах.
Ведь он вёз людям мир, и люди должны оглянуться вокруг и поглядеть наконец, как нерасчётливо, скудно живут, в грязи, в раздорах, в грехах.
Только фламандцы отчего-то смущали. Стирая с лица пот ладонью, то один, то другой сердитыми глазами провожал английский конвой. Их глаза прибавляли к нетерпению горечи, сочившейся, как липкая грязь, отравляя бодрость, принуждая взволнованно вопрошать, что станет делать, с чего начнёт мирную жизнь, когда возвратится домой. Тосковал по родимым местам, по домашнему очагу, по детям, даже по старой некрасивой жене. С тревогой ждал свидания с ними. Здоровы ли? Он так давно уехал из дома. И серый в яблоках конь вновь поднимался в галоп, и встречный ветер сердито освежал разгорячённое тревогой лицо. Но сердце продолжало торопливо стучать, и в голове не находилось тех надёжных, тех неоспоримых ответов, которые могли бы успокоить, и недоставало сил не мечтать. Одно знал хорошо: теперь, когда мир заключён, непременно сделает что-то.
В узком проливе свирепствовал норд. Крохотный шлюп, поджидавший его в тихой гавани, то взмётывался на самый гребень ревущей волны, то валился беспомощно вниз, грозя развалиться на части. Паруса, потерявшие на мгновение ветер, неожиданно хлопали, точно палили из пушек. Деревянные переборки скрипели и охали. Утомлённые переходом солдаты храпели на все голоса, повалившись и скорчившись в душном и тесном проходе. Его верный спутник Тенстал катался на койке и вскрикивал точно в испуге. В круглом корабельном окне стояла кромешная чернота. Он то задрёмывал, убаюканный качкой, то пробуждался внезапно от внутреннего толчка. Под вой налетевшего вихря падал в пропасть бесхитростный шлюп. Его затискивало этим падением в угол; с отчаяньем ждал, точно это снилось во сне, что вдруг лопнут прогнившие доски тонких бортов и всё сущее пожрётся бездонной пучиной. Уже представлялось, что сам всего лишь бессильная щепка, брошенная в бескрайнее, как жизнь, море, и кто-то, всесильный, властно швыряет его по крутобоким волнам, то ли Всевышний, видящий решительно всё, то ли эта слепая стихия. Тогда полусонная мысль устремлялась в другом направлении, и думал о том, что его ожидает, по всей вероятности, суровая встреча, что Генрих едва ли простит ему этот мир и что едва ли у него будет возможность что-нибудь сделать для ближних, то есть для всех англичан.
Генриху мир не мог не представляться провалом всей внешней политики. Король теперь едва ли получит от Римского Папы развод и всё-таки не откажется от Анны Болейн. Отныне ему нечего делать на континенте: Карла, должно быть, засосёт, как трясина, война с Сулейманом Великолепным, а Франсуа, наголову дважды разбитый, женатый на испанской инфанте, нескоро осмелится вновь воевать. Да и с кем? Со своим новым кузеном? А Генрих? Осмелится ли в одиночку двинуть против папы войска, как обещал?
Долгие годы Генрих упражнялся в военном искусстве, носился в полном вооружении на приученном к строю коне, занимался вольтижировкой, ломал тяжёлые копья, поддевал на скаку чугунные кольца и латные рукавицы, учился владеть алебардой и пикой, фехтовал испанским мечом, бился в кольчугах и без кольчуг, со щитами и без щитов, почитая единственно битву истинно рыцарским, истинно королевским занятием. Что останется ему в годы мира? Только одно: заниматься государственными делами, обустраивать Англию, учреждать правосудие и справедливость, радеть о благоденствии и процветании той страны, которую он так жаждет осчастливить наследником. Возьмётся ли монарх за это непривычное и утомительное занятие? Придётся ли по вкусу неугомонной королевской душе негромкое и трудное дело строительства жизни после того, как столько раз мысленно примерял на себя утраченную корону Плантагенетов? Ненадёжны, самолюбивы все правители, будь то император или король.
Размышляя о возможных последствиях мира, не беспокоился о себе. Опала или возвышение были бы ему безразличны. С полным равнодушием мог оставить все должности, все занимаемые места, лишь бы обстоятельства сложились так, как было задумано. Но отчего-то после переговоров двух королев пропадала уверенность, что жизнь пойдёт именно так, как представлялось в размышлениях. Вёз прочный мир, однако не в силах был предсказать, что уже завтра может приключиться в беспокойной Европе, жадной до захватов и грабежей, и каким образом потянется далее всё наше спутанное нестройное грешное существование. Таилось что-то неодолимое в ней, не постижимое и самым образованным разумом, не подвластное воле ничьей. Именно это ощутил, безучастно наблюдая жестокую схватку двух злобных соперниц, которые вопреки всем выкладкам его разума пришли к разумному соглашению, вопреки собственной воле помирились друг с другом.
Что же в ближайшее время ожидает наш мир? Может быть, Карл одним могучим ударом сокрушит уже истощённого долгой войной Сулеймана Великолепного и, повернув победоносную армию, всей мощью обрушится на Франсуа? В таком случае расчётливый Генрих придёт ли нелюбимому Карлу на помощь, как приходил уже несколько раз? Может быть, Франсуа, одурачив кузена женитьбой на этой самой инфанте, договорится с германскими протестантами и ударит Карла в беззащитную спину, как тать? Поможет ли тогда Генрих непостоянному, лукавому Франсуа? Возможным теперь представлялось и то и другое. Стало быть, снова война. Стало быть, вновь будут задвинуты в долгий ящик все разумные планы благоустройства истощённой, уставшей страны. А если на этот раз обойдётся всё же без войн, в какую сторону строптивый характер увлечёт короля? Не сменит ли Генрих лихие забавы войны на столь же лихие забавы охоты, эспадрон на мушкет и женщин на боевого коня?
Философ верил во всемогущество человеческой воли и добрых желаний, но после переговоров в Камбре неожиданно начинало казаться, что в нашей переменчивой жизни возможно решительно всё, потому что повсюду струятся, сплетаясь и расплетаясь, тысячи невидимых, неведомых, не узнанных разумом сил, от соединения и разъединения, затухания и взрыва которых в нашем мире приключается одно непредвиденное. А ему так хотелось, чтобы внезапно обретённый мир был вечным, миром на все времена, и тогда-то... наконец...
Глава двадцать четвёртая ОДИНОЧЕСТВО
Кто-то негромко, вежливо кашлянул за спиной.
Генрих вздрогнул и обернулся.
Возле дверей истуканом торчал Томас Кромвель, держа трубку свитка в правой руке.
Король неприветливо бросил:
— Тебе что?
Кромвель склонился в низком поклоне и отчётливо, громко сказал, точно подозревал короля в глухоте:
— Я сделал наброски. По вашему повелению.
Его величество нахмурился:
— Какие наброски?
— Парламентского акта.
— О чём?
— О монастырях.
Генрих вспомнил, отошёл от окна и сел, недовольный, что так некстати помешали:
— Изложи. В двух словах.
Кромвель стал поспешно разматывать свиток:
— Лучше я прочитаю...
Генрих резко оборвал:
— Я же сказал: в двух словах!
Посетитель вытянулся и заспешил:
— Мои помощники, направленные для проверки монастырей, доносят, что многие монахи праздны, а работы, нужные им, исполняют наёмники. Другие пребывают в глубоком невежестве, часто пренебрегают богослужением и отправляют его кое-как или не отправляют никак. Многие предаются попойкам, кутежам и карточным играм, проводя таким образом целые ночи. О братской любви, которую они проповедуют, почти нигде не слыхать. Часто ссорятся, интригуют друг против друга, доходит до драк. Многие здания находятся в полном пренебрежении, сокровища расхищаются. В одном монастыре приор прижил от разных женщин шестерых детей и дал им хорошее воспитание. В женском монастыре приглашали для исповеди бродячих монахов, а они вместо исповеди...
— Довольно! Это не ново. Но кто же поверит твоим людям? Ты набираешь их из подонков.
— Где же взять честных людей на такие дела?
— Может быть, ты и прав: грязное дело делают грязные люди. Придётся эти гадости опустить.
— Милорд, представители нации охотно поверят всем этим мерзостям. Они и сами могут порассказать и о брюхатых монахинях, и о фальшивых монетах, изготовляющихся в тихих обителях. А мы для верности напомним им буллу папы Иннокентия Восьмого против монахов и о пастырском наставлении Мортона, который всё ещё пользуется большим уважением.
— А другого Мортона нет.
— Затем я предложу им на утверждение парламентский акт: в силу того, что в малых приориях и аббатствах образ жизни плотский, греховный и гнусный, малые приории и аббатства с доходом не более двухсот фунтов стерлингов в год упразднить, а их здания и владения передать королю, причём государю предоставляется право раздавать эти владения посредством особых патентов, кому он захочет и сочтёт нужным. Корона станет очень богатой, милорд.
— Это хорошо, а что станет с монахами? Их десятки тысяч, если не больше. Мне нужен мир, а не бунт.
— Я подумал об этом, милорд. Мы переселим их в большие приории и аббатства, где ещё кое-как соблюдают устав. Чего ради им бунтовать? А время пройдёт, они успокоятся, и мы возьмём в казну и большие монастыри.
— Может быть, может быть...
— Наверняка!
— Ты всё спешишь. Не наделай хлопот. Надо хорошо подумать об этом.
— О чём же думать, милорд? Я подумал уже!
Генрих пристально поглядел на него, точно прожёг, и бросил сквозь зубы:
— Ступай!
Кромвель продолжал стоять истуканом.
Лицо Генриха сделалось недовольным:
— Что ещё?
Томас негромко, но твёрдо сказал:
— Аббатство, милорд. Вы обещали дать мне аббатство, после того как я подготовлю парламентский акт. Я подготовил, в общих чертах. И я вам ручаюсь, что проведу его через обе палаты. Если вы мне дадите аббатство, они скорей согласятся: ведь каждый из них захочет получить кое-что.
Было неприятно, что мерзавец так спешит урвать кусок, было ещё неприятней, что тот был прав, когда уверял, что акт утвердят, не из повиновения королю, а из жажды поделить монастырские земли как можно скорей, и Генрих брезгливо бросил, как кость:
— Выбери и возьми.
Проситель склонился чуть не до самой земли, рассыпался в благодарностях, клялся в самой преданной верности, которая ни преданной, ни верной быть не могла, потому что куплена была за аббатство.
Государь остался один.
Не любил он Кромвеля, всегда не любил, а порой презирал. Томас был человек кардинала Уолси и служил у него казначеем. Впервые заметил этого крепыша с круглой головой и мускулистыми ногами солдата лет десять или двенадцать назад. Тогда кардинал учредил при Оксфорде новый колледж для изучения древней словесности, по примеру папского Рима, и назвал его Колледжем Кардинала, не из любви ни к древней, ни к новой словесности, но из тщеславия. На содержание колледжа нужны были деньги. Уолси был очень богат, многие подозревали, что богаче самого короля. Кардинал был также до крайности жаден и скуп и собственных денег давать не хотел. Изворотливый ум казначея надоумил его просить разрешение у папы Климента упразднить несколько английских аббатств, аббатства продать с молотка. Папа Климент по своему слабоумию разрешение дал, не приняв во внимание, какой дурной пример подаёт, дурной вдвойне и втройне, поскольку и без того колебались умы и Лютер громил монастыри и монахов в страстных проповедях. Кардинал поручил заняться аббатствами Кромвелю. Бывший приказчик и ростовщик распорядился умело и без малейшего шума. Монахов переселили в большие монастыри, где были выше доходы и, стало быть, сытная жизнь, монастырские кельи и земли были проданы за хорошие деньги и вскоре превращены в замки лордов. Вырученные средства действительно поступили на содержание студентов и педагогов Колледжа Кардинала, но мало кто сомневался, что кое-что застряло в кошельках казначея и самого Уолси.
Король нуждался в дельных помощниках, а вокруг него теснились бесталанные и ленивые лорды, они выпрашивали у него привилегий и пенсий и проваливали пустейшее дело, если его кому-нибудь поручал. Немудрено, что заинтересовался Кромвелем. Казначей кардинала был представлен ему Джоном Расселом. Генрих просил передать ему все подробности сделки. Кромвель оказался человеком словоохотливым, даже нахальным. Государь внимательно выслушал казначея, задумался и отпустил движением головы. Такого знака было достаточно для любого придворного, чтобы немедленно удалиться тихо и скромно и в полном молчании. Казначей сделал вид, что не понял, и остался. Больше того, стал давать советы своему королю, которых тот у него не просил. Его первым движением было выгнать наглеца чуть не взашей и больше никогда к себе не пускать, но он и рта раскрыть не успел: советы поразили его своим здравым смыслом и прямотой, он не мог не слушать его, к тому же мерзавец стоял с таким видом полной покорности, таким истуканом, что гнев тотчас прошёл. Казначей задавал вопрос за вопросом. Знает ли его величество, какие громадные деньги каждый год утекают в наглый, распущенный Рим, обогащая Римского Папу и разоряя Англию? Почему бы государю не пресечь этот несправедливый обычай и не оставлять эти громадные деньги в казне? Почему английский монарх должен зависеть от решения Римского Папы? Почему должен мириться с тем, что нынче у Англии два повелителя, в Риме и в Гринвиче? Почему бы не последовать благому примеру немецких князей и не свергнуть папское иго? Почему бы не обратиться к парламенту и постановлением представителей нации не объявить себя главой своей церкви, с тем чтобы прелаты, теперь от него не зависимые, стали подчиняться только ему и с должной покорностью исполнять волю его величества?
Отпустил казначея, пообещав, что не забудет его. И не забыл. И приблизил к себе. Понять причину его благоволения было нетрудно. Как только прозвучала первая проповедь Мартина Лютера, задал себе те же вопросы и, не колеблясь, отвечал на них положительно. Но Генрих был не бывший приказчик, торговавший шерстью во Фландрии, не ростовщик, не казначей, а король. Видел преграды, которых не мог видеть алчный ум Кромвеля, преграды, казалось, неодолимые.
Проповеди Лютера и нравились и возмущали. Соглашался, как соглашался в Европе каждый образованный человек, образ жизни пап и монахов заслуживает самого полного, самого непримиримого осуждения, но чутьём богослова угадывал ересь, а ересь не может не кончиться бунтом. Давно хотел отделиться от Рима и возглавить английскую церковь, прежде всего для того, чтобы часть её доходов поступала в казну. Был не прочь завладеть монастырскими землями и распоряжаться ими по своему усмотрению, опять-таки в интересах казны. Но как было отделиться от Рима и завладеть монастырскими землями и в то же время не допустить в Англию ереси Лютера, как избежать бунта, как не допустить новой гражданской войны? Одно без другого быть не могло, и ему надлежало стать мудрым змием, чтобы избежать зла, но овладеть добром, которое непременно вызовет зло.
Размышлял приблизительно так, когда бунт разразился в Германии. Ему представлялось как аксиома, что крестьяне недовольны всегда и везде. Им мало земли. Арендная плата высока, цены на хлеб слишком низки, налоги слишком обременительны и несправедливы. Владения лордов представляются им незаконными. В этом случае землепашцы обыкновенно ссылаются на Христа, который заповедовал всем без изъятия в поте лица трудиться на этой земле и нигде не сказал, чтобы одни не пахали, не сеяли, но имели много земли, а другие пахали и сеяли, но имели мало земли или вовсе не имели её. Положение крестьян что ни год ухудшалось, и в Англии, и в Испании, и во Франции, в особенности в Германии. Знал это, но не понимал, что можно сделать, а потому и понимать не хотел. Немецкие князья ещё меньше, чем он, хотели делать и понимать. Арендная плата росла непомерно и быстрыми темпами, поборы и подати становились чрезмерными. Причина была очевидна. Жажда роскоши охватила высшие классы, Мор был в этом прав. Роскошь требовала денег и денег, а деньги можно было взять только с тех, кто пашет и сеет и от темна до темна спину гнёт в мастерских.
Таков порядок вещей. Принимал этот порядок вещей и не мог не принять. Так установилось издревле. Всегда, насколько мог заглянуть в коридоры истории, одни были богаты, другие бедны, третьим назначена была нищета. И всегда роскошь богатых возмущала бедных и нищих и вводила в соблазн. Бедные и нищие иногда бунтовали, но большей частью жили в смирении.
Вина лежала на Лютере. Проповедник из Виттенберга публично именовал Римского Папу Антихристом, обличал князей и самого императора и молил Господа, чтобы избавил мир от этих вредных, неугодных людей. Хуже всего было то, что Лютер напомнил бедным и нищим, что они тоже искуплены святой кровью Христа. Тогда бедные и нищие сами обратились к Евангелию и находили в Священном Писании слова о свободе и равенстве всех перед Господом, о нуждающихся и обременённых и вопрошали друг друга, на каком же основании богатые забирают у них большую часть того, что добыто ими в поте лица. Крестьяне восстали в Верхней Швабии, в долинах Шварцвальда, в Зальцбурге, Франконии, Эльзасе, Пфальце, Саксонии, Гессене. К ним присоединились безработные Мюнстера, Оснабрюке, Мюльгаузена. Они требовали уменьшить барщину и отменить десятину, даровать свободное пользование лесами и водами, сократить земельный налог и денежные штрафы за потравы и другие повинности, а главное, чтобы соблюдались законы Христа и проповедь Евангелия всюду стала свободной.
Начали относительно мирно, не посягали на жизнь владетельных лиц, однако в течение нескольких недель срыли до основания сотни монастырей, разграбили замки, разорили библиотеки. Положение изменилось, когда между ними явился Мюнцер, доктор богословия, проповедник и вождь, и объявил что Царство Божие следует учредить на земле, с свободой, равенством и братством, как говорится в Евангелии, и ниспровергнуть всё, что станет препятствием на пути. Единственным препятствием, по мнению Мюнцера, были только попы, монахи, князья и вообще все богатые люди. Бунтовщики с неистовым восторгом приветствовали вождя, и тот требовал, чтобы они давили жалость в сердцах, не поддавались на вопли безбожных и не давали крови остыть на мечах. Народ толпами стекался к нему, угрожая смести в Германии всё и всех, кроме крестьян, крестьянских домов и крестьянских земель.
В ужас пришли аббаты и приоры, князья и простые дворяне. Они спешно объединились и выступили против бунтовщиков. Решительное сражение произошло вблизи Франкенгаузена. Бунтовщиков было немного, тысяч восемь или десять, не больше. Они были вооружены кое-как и не имели понятия о военном строе и дисциплине. Армия союзников превосходила их чуть ли не вдвое. У неё был боевой опыт, кавалерия, артиллерия и умелые командиры. Всё-таки князья не решили сразу атаковать. Мятежникам предложили сдаться на милость и выдать зачинщиков. Ряды их распались. Беспорядочными криками решали они, как поступить. Один Мюнцер не терял головы и призывал соратников не страшиться ничего, даже смерти. Короткий дождь смочил землю перед тем, как её напитает кровь. Тучи быстро рассеялись. Солнце озарило равнину. Весёлая радуга встала из края в край. Вождь указал на неё как на знамение свыше. Бунтовщики так и не успели решить, сражаться им или нет, когда князья внезапно напали. Пушечные ядра привели их в замешательство. Не успели взять в руки оружие, как вражеские солдаты уже овладели обозом и угрожали с тыла. Они ждали помощи Господа и пели нестройным хором:
— Прииде Боже святый, Боже правый.
На восставших ринулась кавалерия, и они побежали, надеясь скрыться в горах или в соседнем лесу. Всадники рубили бегущих, началась резня. Пощады не было никому. Равнина была завалена трупами. Ручей, пересекавший её, окрасился кровью. Мюнцер укрылся на чердаке одного из домов. Его отыскали и отдали в руки князей, пытали, требуя отречься от своих заблуждений. Мюнцер отрёкся, не выдержав пыток. Несмотря на это, его осудили на смерть. Когда вождя вели на казнь, бодрость духа к нему воротилась, снова стал проповедовать, напоминая о милосердии, советуя своим палачам почаще обращаться к Евангелию и читать Книгу Царств. Генрих Саксонский сам прочитал ему «Символ веры», как установил его Лютер. Мюнцер повторил его слово в слово и был повешен.
Бунтовщиков обложили со всех сторон. Вюрцбург был взят, и все его защитники казнены. Эльзас покорен был герцогом Лотарингским, казнившим более восемнадцати тысяч мятежников. Князья охотились за отдельными шайками, которые нигде не находили убежища, и истребляли всех до единого. Казалось, к лету всё было кончено. Тем не менее кровавая бойня продолжалась ещё целый год. В одной только Швабии было казнено около десяти тысяч тех, кого подозревали в причастности к бунту.
Само собой разумеется, убитых никто не считал, их тела не всегда предавали земле, оставляя на съедение диким зверям, однако многие хвастались, что в общей сложности предали смерти до ста тысяч непокорных крестьян.
Когда все эти сведения были собраны в Гринвиче, Генрих был потрясён. В его памяти возродились рассказы отца об ужасах гражданской войны. Хотел одного: любыми средствами не допустить в Англии того, что случилось в Германии. Пришлось на время оставить мысль о монастырских владениях, следовало действовать осмотрительно и осторожно. Прежде всего надлежало закрыть все двери и щели, через них в страну проникали еретические учения. Запретил проповедь этих учений под страхом суда и казни, покупку и продажу каких-либо книг, в которых содержалась бы критика католической веры, очистил Оксфорд от тех, кто был заподозрен в наклонности к ереси, перевод Евангелия на английский язык был запрещён.
Еретические учения всё-таки проникали, как ни бился. Монарх считал необходимым принимать самые суровые меры, ибо, полагал, малая кровь остановит большую. Еретиков осуждали за непочтительные речи, направленные против папы и роскоши. По этому поводу Уолси устраивал в Лондоне театральные зрелища. Он восседал на возвышении, облачившись в мантию кардинала. Под ним ставилось большое распятие, у подножия складывали экземпляры Евангелия в английском переводе Тиндала. Еретиков выстраивали в покаянных одеждах. Сломленные пытками публично отрекались от своих заблуждений. В присутствии глазевшей толпы сжигались экземпляры Евангелия. Епископ Фишер и Томас Мор произносили речи, в которым разоблачали лжеучение Лютера. Так удалось остановить распространение ереси в Англии.
Оставались монастыри. Государь по-прежнему не знал, как к ним подступиться, чтобы не вызвать народного гнева, а пока затеял развод и неожиданно для себя вызвал недовольство сословий. Простой народ, проникнутый католической верой, был возбуждён, находя развод и второй брак при живой первой супруге тяжким нравственным преступлением. Торговые люди были испуганы, что вновь будут прерваны торговые отношения с Фландрией. Все страшились, что он женится на французской дофине и втянется в большую войну на стороне французского короля, тогда как англичане считали Францию своим вековечным врагом и не могли одобрить этой войны, за неё им к тому же пришлось бы платить.
Генрих растерялся, не знал, как поступить. Неожиданно на помощь пришёл Римский Папа, не давший благословения на развод. Англичане были оскорблены: с какой стати итальянец вмешивается в их внутреннее, чисто английское дело? Не сразу понял, в чём его выгода, несколько раз обращался к святому отцу, подсылал к нему адвокатов и заключения учёных мужей, признававших первый брак незаконным и противоестественным. Папа отказывал, и чем дольше упорствовал, тем быстрее росло недовольство против засилья Рима. Только тогда стало ясно, как много может выиграть на этой волне. Поспешил заверить, что после развода не женится на французской дофине, а женится на англичанке Анне Болейн, и тем успокоил умы. Затем стал медленно, шаг за шагом ущемлять права папы на английской земле. Тотчас англичане перешли на его сторону, король получил поддержку парламента, и парламент своими актами последовательно запретил отдавать папе весь доход за первый год поставленья в епископы, отказал ему в праве суда, в праве продавать церковные должности, отменил на территории Англии отлучения и запреты на богослужения, наконец принял акт о верховенстве и привёл всех епископов и архиепископов к присяге не Римскому Папе, но английскому королю. Все сословия его поддержали. Немногие епископы, монахи и учёные люди не захотели, из упрямства или по совести, признать его новые титулы. В соответствии с парламентским актом они становились государственными преступниками, и были казнены без пощады. Так предотвратил народные бунты.
Оставался ещё один шаг, и Генрих колебался.
Там, в парадных залах дворца, собирались придворные в пышных одеждах, в бриллиантах, перьях и жемчугах, чтобы сплетничать, интриговать, танцевать и веселиться весь вечер. Нынче не хотелось туда. У кого мог найти достойный совет? Между ними не оставалось теперь никого, кто был близок, кому мог вполне доверять. Кромвель, его новый канцлер и главный викарий? Этот ненасытный приобретатель, этот палач?
Государь остался один и долго бродил по кабинету, размышляя и не находя окончательного решения.
Потом оделся солдатом и незаметно выскользнул из дворца.
Глава двадцать пятая ПРОЩАЛЬНЫЙ УЖИН
Дверь распахнулась ударом ноги.
Мор вздрогнул и побледнел.
В дверь, набычившись, вдвинулся старый солдат с медным подносом в вытянутых руках. На подносе горели высокие свечи. В их свете что-то виднелось. Солдат ступал осторожно. Лицо, освещённое снизу, было сосредоточенным. Провалы глаз смотрели прямо перед собой. Непривычные руки приметно дрожали. Солдат был без кольчуги и шлема, с голым черепом, в одной застиранной холстинной рубахе, и потому казался ещё простодушней, чем прежде. Узник приподнялся и сел, поджав ноги, ожидая, что объявят ему. Солдат весь напрягся и осторожно, со стиснутыми зубами водрузил ношу на стол, выпрямился, облегчённо вздохнул и произнёс, дружески улыбаясь всем ртом, в нём недоставало передних зубов:
— Посмотри, какие богатства, мастер, жалует тебе наш щедрый король!
Томас медленно, без желания встал, подошёл и увидел высокий кувшин, большое блюдо с кусками варёного мяса, блюдо поменьше с тушёными овощами, ещё одно с жареной рыбой, горку фруктов и довольно много сластей, к которым был всегда равнодушен. Давненько ничего не едал, кроме хлеба, холодной воды да варёной говядины, которую Дороти приносила ему потихоньку от стражи, и потому угадал, что означала для него эта пышная трапеза. Пора было в самом деле собираться в дорогу, и философ испытал облегченье. Бодрость духа вернулась. Мор ощутил внезапный прилив свежих сил, и надо было что-нибудь сделать, чтобы ослабить энергию, излишнюю в эту минуту. Что ж, решительно уселся за стол. Аромат жаркого ударил в затрепетавшие ноздри. Сделалось влажно и сладко во рту от набежавшей обильной слюны. В пустом желудке тоскливо заныло, какие-то странные судороги пробежали по впалому животу. У него обнаружился аппетит голодного льва.
Лицо солдата наполовину в густой бороде расплылось ещё шире:
— Есть чем поживиться, не правда ли, мастер?
Ответил почти машинально:
— Спасибо тебе.
И в ту же минуту подумал о том, что от этого сочного мяса, пожалуй, голова завтра утром окажется слишком тяжёлой, и взялся за рыбу. Неровные большие куски были покрыты маслянистой коричневой коркой, приятно захрустевшей на жадных зубах, белое мясо было пленительно мягким и свежим, чуть припахивая тиной реки, где часов пять или шесть перед тем ещё мирно пасся этот жирный судак. Пленник торопливо хватал кусок за куском, жуя кое-как, сразу отыскивая глазами другой, ещё зажаристей, смачней, выплёвывая тонкие кости, и тут же глотал, мучительно наслаждаясь этой последней радостью жизни.
Старик застыл перед ним в нерешительности.
Может быть, осточертело торчать в кордегардии в ожидании смены. Ему тоже не хотелось, чтобы охранник уходил. Испытывая ласковое тепло первого сладчайшего насыщения, взглянув на припухлые красноватые веки солдата, сказал первое, что пришло в голову, как только завидел, что тот наконец поворотился спиной, намереваясь уйти:
— Ты бы поспал. Вид у тебя утомлённый. Ведь я не сбегу.
Воин с готовностью переступил на прежнее место, широко расставил мускулистые ноги в чёрных чулках и стоптанных башмаках, оправил рубаху и сокрушённо покачал головой:
— Ты, конечно, не убежишь. Куда бежать-то тебе? Однако нам этого не положено, мастер. До смены ещё далеко. Как тут уснуть?
Вытянув двумя пальцами кость, застрявшую между зубами, ещё раз шутливо заверил верного стража:
— Клянусь Геркулесом, что не сбегу. Так что усни.
Тот сложил руки на животе:
— Это верно, только нашему лейтенанту на это плевать. Если застукает спящим, даст по зубам или прикажет плетей. Так уж лучше я потерплю до рассвета.
Налил вина в серебряный кубок, вдруг приметив, что на подносе стояло их два:
— Тогда выпей немного, и, может быть, ночь пройдёт для тебя незаметно.
Солдат не чинясь, взял кубок, выпил неторопливо, прижмурив глаза, постоял так с минуту, поставил кубок на прежнее место, неожиданно звонко звякнув по серебру серебром, смутился и виновато сказал:
— Хорошее вино. Спасибо тебе. Мягкое, бархатистое, крепкое. Нам нечасто достаётся выпить такого. Одним господам. Только во Франции такого вина было вволю.
Спросил, размышляя о том, почему вместо одного кубка ему подали два:
— А ты был и во Франции?
Старик провёл ладонью по бороде и усам, должно быть, вытирая таким образом влажный рот:
— Был, конечно. Как же не быть? Правда, это было давно. Очень давно. Почти мальчонкой ещё.
Какая-то внезапная глупость виделась в этих двух кубках, и Мор обронил:
— Так ты служишь давно?
Охранник ухмыльнулся, выказывая этим достоинство, повторил с расстановкой:
— Очень давно. — Подумал и подтвердил: — С каких пор и не помню.
Это поразило почему-то, взглянул на собеседника внимательней, чтобы по крайней мере узнать, чем же кичился старый ратник перед ним, в чём причина столь важной ухмылки.
Голова облысела не от излишеств, а от старости, вероятней всего. Густая борода ещё не начинала седеть. На обветренном грубом лице почти не появилось морщин. Лишь сизые мешочки под серыми небольшими глазами и застарелые мозоли стрелка всё ещё не сошли с пальцев правой руки, а больше и не было ничего, что бы свидетельствовало о долгих походах, ранах или лишениях.
Усаживаясь попрямей на своём табурете, чтобы передохнуть и решить, не съесть ли ему ещё узенький кусочек хвоста, который уже присмотрел, но съесть уже хотелось как будто одними глазами, и не выпить ли глоточек вина, которые одобрил старый вояка, только во Франции пивший такое вино, с любопытством спросил:
— Почему ты сделался воином?
Тот покачал головой:
— Теперь уже трудно сказать. Отец мой — вольный фермер. Правда, своей земли было мало. Отец арендовал большой участок у лорда. Тогда во Франции была большая война. Лорд воевал, и ему было не до земли. Арендная плата была снисходительна и с годами всё понижалась, потому что цены росли. Отец продавал мясо и шерсть и получал за них хорошие деньги. У него было сорок коров и около сотни овец. Всё остальное было своё. Мы не считались богатыми, потому что в округе жили такие же фермеры, но жили в достатке, так говорил отец и соседи. Мне жить бы и жить, работать на ферме отца, потом жениться, завести свою ферму. Так поступил в своё время отец. Так поступали соседи. Беда в том, что родитель был крут и строг. Всё было не так, всё не по нём. Я был строптив, не повиновался ему, точно бес вселился в меня. Папаша бивал меня, пока я был мальцом, а когда вырос, бить опасался и однажды выгнал из дома. Я мог бы вернуться, повиниться, пасть в ноги, но гордость оказалась сильней. Я был здоровый и сильный, пришёл в Лондон, готов был делать любую работу, а работы не было никакой. Обносился, оголодал тут рябой сержант кликнул клич: мол, война, солдаты нужны, хорошая плата. Что было делать? Я подошёл, поставил крест на какой-то бумаге, получил на руки несколько шиллингов и пошёл воевать. Наши фермеры все были отличные лучники, стреляли оленей в королевских лесах. Был хороший лучник и я. Меня определили в пехоту. Во Франции наши лучники были лучше французских, а всё-таки мы проиграли войну. Нас погрузили на корабли и в порту отправили по домам. Что было делать?
Удивился:
— У отца твоего было большое хозяйство. Разве ты не мог возвратиться к нему?
Солдат провёл по лицу заскорузлой рукой:
— Какое хозяйство? Хозяйства не было и в помине! Когда воротился я из похода, ведя в поводу второго коня, старик уже умер. Совсем древний стал, говорят. А лорд, тоже пришедший с войны, огородил наш участок, огородил и другие, что граничили с нашим, и принялся овец разводить. Целые тысячи. Говорили, тысяч до двадцати. Никто в округе не понимал, из какой ему надобности столько овец. Нашей сотни нам хватало вполне, на продажу, на одежду и на еду, благодарение Господу. Мы могли бы иметь ещё голов пятьдесят, однако отец говорил, что это было бы лишнее для одного человека. Мать, оказалось, жила у сестры, которая вышла к тому времени замуж. У её мужа была мастерская. Он выделывал кожи, шил хомуты и перчатки. Тоже честный был человек, порасширил на приданое дело и платил подмастерьям в день целых пять пенсов, хотя в других мастерских платили всего по четыре, а в некоторых даже по три, но таких мастеров, что платили так скудно, было немного. Правду, сказать, таких скупердяев осуждали в округе, хотя на три пенса тоже можно прожить, однако же зять полагал, что человек не должен считать каждый грош, и потому не скупился, хороший был человек. Нечего делать, постоял я на том месте, где была наша ферма, пришёл к ним, прожил несколько дней. Вижу, счастливые люди, в достатке живут, дети у них. Зять предложил мне остаться, хотел в долю взять, если бы я продал второго коня, но мне это было уже не по вкусу. Жизнь солдата мне представлялась вольней, вот я и сел опять на коня и уж больше никогда не виделся с ними.
Подумав о том, до чего же слаб человек, всё-таки взял кусочек хвоста, вдохнул чудный запах и открыл было рот, да тотчас положил обратно на блюдо и внезапно спросил:
— А дети-то есть у тебя?
Переступив с ноги на ногу, разводя виновато руками, рассмеявшись коротко, хрипло, охранник ответил как-то слишком беспечно:
— Может, и есть где-нибудь.
Почему-то отведя глаза в сторону, задумчиво, почти безразлично проговорил:
— Когда у человека есть дети, ему легче жить, зато тяжелей умирать.
Охранник покачнулся неловко, и широкие тени испуганно прыгнули по стене, похожие на чьи-то длинные, дразнившие языки:
— Семья для солдата обуза, смерти всё одно не минуешь, хоть Мадонне, хоть чёрту молись, так помереть бы нашему брату уж лучше в бою.
Вздрогнул и пристально взглянул:
— Ты сказал, что хорошо бы в бою?
Тот объяснил простодушно:
— Это верно. Насмотрелся я, как помирают от ран, а лучше было бы не глядеть. Как особенно слабый плачет, кричит. Пока молод был, так глядел, что с молодого возьмёшь. Так если по правде, чисто, славно в бою помирать. Ты только представь: стоял человек, обязательно босиком, ты это учти, чтобы, значит, пальцами в землю вцепиться, силы побольше набрать и выбить стрелу ярдов на пятьсот, на шестьсот. Так вот стоял, натягивал лук, тут стрела прямо в лоб, он и застонать не успел. Однако ж по мне в самый раз на полном скаку. Этак мчишь не помня себя, даже понять не успеешь, а уж и нету тебя, один прах. До скольких разов так скакал, а ни разу не видел, как падали рядом, не до того. Лишь после, как проедешь тихим шагом обратно к обозам своим, всюду лежат, все почти мёртвые, редко кто жив: не меч, не стрела, так затоптали конём. Славно так-то бы помереть, да уж не придётся теперь. Всё больше в охране я. Старый стал. Да и о походах что-то теперь не слыхать. Король-то наш, что ли, утих?
Ему бы тоже сейчас на коня, да тоже стал стар, и всё последнее время охраняют его:
— Может, ещё повоюешь, солдат.
Серые глаза так и блеснули в ответ:
— Вот это бы хорошо! Так хорошо! Затаскался я тут, заскучал.
— Я смотрю, тебе в офицеры пора.
— Нет, зачем в офицеры? В офицеры мне ни к чему.
— Не любишь командовать?
— Ты, как я понимаю, в бою не бывал никогда?
— Не бывал.
— Тотчас видать. А я вот бывал, и моё мнение таково, что ни один человек не может командовать, когда имеет дело с такой массой людей. На поле-то боя события всегда разворачиваются иначе, чем придумали перед тем командиры, и если кто возомнит, будто способен предвидеть, кто куда повернёт да кто в кого попадёт, тот погрешит против Господа. Каждый должен делать, по моему разумению, только то, что может и к чему призван, да при этом не забывать, что всё, что содеял, лишь исполнение Замыслов Господа, которое подчас начинается с мелких происшествий где-нибудь на опушке, если стрелки успели вбить колья в землю, чтобы защититься от конницы, а сзади, по причине леска, их нипочём не возьмёшь, и которое оборачивается победой, дарованной Господом нынче той, а завтра другой стороне. И тайна эта столь велика, что непостижимым образом одни королевства слабеют, слабеют и исчезают совсем, а другие вдруг возникают и крепнут.
В самом деле, ему бы тоже грудью пойти на врага, и зачем-то спросил, заранее зная ответ:
— А ты не хотел бы жизнь прожить, как прожили отец твой и зять?
Солдат зевнул, вновь переступил с ноги на ногу, вспугнув широкие тени, запрыгавшие по стене:
— Вот этого нет. Не хочу ковыряться в навозе. Есть одежда, еда, а там глядь: товарищи меня закопают, как надо, и славно выпьют у меня на поминках. Одна беда — спать в карауле нельзя, так ведь бывало, тоже отец не спал по три дня, когда телились коровы, своими руками телят принимал.
Кивнул головой на поднос:
— Тогда выпей ещё стаканчик, солдат.
Шагнув широко, с готовностью нацедив себе до краёв из кувшина, воин выпил в растяжку и снова вытер влажные руки заскорузлой рукой:
— Вот за это спасибо. Неплохое винцо. Ты-то отчего же не пьёшь? Тебе-то бы это нынче в самую пору. У нас уж всегда перед боем.
Ответил:
— Ночь длинна. Успею ещё.
Охранник всполошился:
— Ну, мне пора. Заговорился я тут.
Улыбнулся ему:
— Прощай, если так.
Солдат постоял, с недоумением глядя перед собой, точно хотел потолковать с ним ещё, да лейтенант уже грозил у него за спиной:
— Прощай же и ты. Славное тебе прислали винцо.
Ещё раз кивнул на кувшин, однако старый вояка или не понял его, или не решился в третий раз выпить, нерешительно повернулся и вышел, переваливаясь на кривых, но крепких ногах.
Мор машинально взял яблоко. Оно свежо и звонко хрустнуло на зубах и брызнуло скоком в лицо, и вдруг понял, обтираясь от брызг, что кончено всё, что придётся уходить без вина перед битвой, без кавалерийских атак, однако тоже без криков, стонов и слёз.
Эта мысль пробудила в душе тихую грусть, сделалось ужасно жалко чего-то, и твёрдо знал, что жаль ему не себя, не прошедшей жизни, а потому и не захотелось размышлять, о чём вдруг подумалось, даже сделалось отчасти приятно, что это смутное чувство напомнило ему о беспомощности и о слабости давно истощённого и всегда бренного тела.
Ощутил, как нечто, занывшее остро, поднималось от живота к застучавшему бешено сердцу и мягко пожало его мохнатой безжалостной лапой.
Ресницы задрожали, из прикрытых усталыми веками глаз покатились скупые стариковские слёзы, не то вконец ослабевшего человека, не то мудреца.
От этих слёз и горько и сладко становилось ему, и не сдерживал их, чтобы сладкой горечью в последний раз насладиться и уж больше не плакать, никогда, никогда, и эта сладковатая горечь тихо шептала ему:
«Тебе в самом деле не повезло, а не повезти может любому и каждому, везенье и невезенье не зависит от нас. Всё же прочее, что зависело от тебя, делал ты хорошо, сколько мог, и тебе упрекать себя не в чем...»
Слёзы пощипывали шершавую кожу лица, а горечь всё продолжала шептать, словно затем, чтобы сладость их сделалась её более терпкой, более жгучей:
«Правду сказать, прав солдат. С какой стати на земные скорби глядеть так серьёзно? Ведь мог бы и ты жить спокойно, и пить часто вино, бархатистое, мягкое, крепкое, и думать только о том, как бы выспаться хорошенько, окончив дневные труды. Может быть, ты дерзновенно переступил черту недозволенного и равнодушный палач искромсает бренное тело твоё на куски в назидание таким же глупцам, которые возмечтают о благе и справедливости и замыслят изменить к лучшему мир несправедливости и греха вслед за тобой? Может быть, это Всевышнему угодно образумить тебя перед смертью? Или ты так и помрёшь дураком, ибо ничто уже не поможет тебе и подобным тебе? Или ты слишком занёсся для слабого смертного? Слишком уж, а?..»
И плакал, и плакал, прощая сам себе своё неразумие, пока не выплакал то, что тяготило, и душа стала спокойна.
Наконец положил яблоко, надкушенное с одного бока, на стол, вытер слёзы чистым платком, предусмотрительно приготовленным Дороти, вытер маслянистые губы и кончики пальцев, испачканные жареной рыбой.
Захотелось узнать, который час, приблизился к проёму окна и прильнул, прикрываясь руками от света свечей, светившего в спину, однако решительно ничего не увидел в кромешной тьме за окном.
Луна, должно быть, ещё не всходила. То ли был поздний вечер в самом конце, то ли в самом начале его последняя, теперь самая последняя ночь.
С мыслью о неизбежном конце отошёл от окна. В арестантской каморке было светло от горящих свечей, подумал, что надо бы выспаться, чтобы наутро вновь не заплакать, не закричать, не забиться в не знающих жалости руках палача.
Мор задул свечи одну за другой, поглядел, как догорали, мерцая во тьме, фитили, вытянув руки дошёл до постели, поправил тюфяк и лёг не раздеваясь, чтобы было теплей и от этого крепче был сон. Повозился и устроился поудобней. Закрыл спокойно глаза. Мёртвая тишина убаюкивала, мир слетел в душу, был счастлив, если не совсем, то почти.
Тем временем неостынувший мозг работал по-прежнему, хватаясь за всё, что всплывало в глубине, пристально вглядываясь во все ощущения:
«Счастлив-то ты отчего?.. Э, погоди, ты не врёшь? Ведь это последняя, самая последняя ночь?..»
От неотвязчивых мыслей страх смерти пошевелился опять, однако же его отогнал, заставив себя рассудить:
«Так и что? Можно спать и в самую последнюю ночь, ибо, пока спишь, ты сильнее её: уж не тебе её, а ей тебя приходится ждать...»
Улыбнулся неожиданной мысли.
Хорошо бы и всегда думать именно так...
Задрёмывал понемногу, продолжая тихо смеяться, всем сердцем, легко теряя ощущение тела, разморённого сытостью, медленно уходя от безумной действительности в бездумную бездну беспамятства.
Если бы умереть безмятежно, во сне...
И вдруг вновь увидел распоротый грубо живот и чёрный ком своих выпавших грязных кишок.
Ужас тяжкий, ужас безмолвный ударил несчастного. Глаза дико глядели во тьму, а тьма копошилась угрюмо, переливалась, шла пятнами, а пятна выходили похожи то на отрезанное жёлтое ухо, то на отрубленную ступню, то на что-то совсем непотребное и оттого отвратительное стократ.
И завопил беззвучным, беспомощным воплем, пряча голову в душный мешок.
Его разбудил этот вопль.
Узник ошарашенно возвращался в мёртвую тишину каменной башни. Холодный пот покрывал мерзко трепетавшее тело. Дыхание было поверхностно и поспешно, шире и шире распахивал рот, но воздуха всё не хватало и не хватало ему.
Едва отдышался, смотрел, как окно серело неровным пятном, мирно чернели пустые углы и горбом поднимались согнутые колени. Пот высох. Тело перестало дрожать, почти успокоился, но не решался вновь закрыть глаз: Господь ведает, какие чудища увидит ещё. Был бы рад, если бы заглянули к нему поболтать, хоть кто-нибудь, даже из злейших врагов или круглый дурак.
Поднялся, ощупью добрался до стола, ощупью налил в чашу вина и сделал несколько жадных глотков. Солдат сказал правду: вино было бархатистым и крепким, тёплой волной покатилось по телу. Тогда прилёг, опершись головой и плечами о стену, чтобы вновь не уснуть и не видеть неподобающих снов.
Может быть, через час, через два как будто посветлело окно.
Подумал, что неприметно подкрался рассвет, и облегчённо вздохнул: значит, ждать оставалось недолго. Представил, как выйдет с руками назад, шатаясь на слабых ногах, с несмирившимся сердцем, с тягуче и тошно кружащейся головой. Чем осилит себя? Одной правотой?
Мор беспокойно смотрел, как засеребрилось далёкое небо и голубоватая дымная полоса загорелась в глубокой нише окна и медленно поползла по стене, очнулся, понял, что, конечно, ошибся в расчётах своих. Луна только что поднялась над заснувшей землёй. Вся ночь была ещё впереди. Как-то должен был эту ночь скоротать, чтобы она не утомила его; одиноко подумал, что слишком тяжко будет утром и что об этом лучше не думать; стал вспоминать, что было с ним, когда старый солдат, толкнув ногой дверь, внёс на широком подносе горящие свечи, пахучее мясо, золотистую рыбу и в высоком кувшине это вино, своим волшебством прибавлявшее бодрости усталому духу. Вспомнить почему-то не удавалось, точно дикий кошмар вещего сна омертвил и сковал память. В голове тягуче позванивало. Воображение гасилось бессилием мысли. Ничего не представлялось уму, так что не стало ни образов, ни картин; подумал с трудом, принуждая себя, что страх смерти понемногу выжал уже из себя и что чудовищный сон был всего лишь отзвуком предстоявших мучений.
Шевельнулся, всё-таки был не так плох, как назад тому часа два или три, когда жажда жизни, неистребимая, но слепая, поколебала его, едва не убив волю, едва не погубив самого. К мыслителю возвращалась сила сопротивления. Прошедшая слабость отвратительна. Незачем ей возвращаться, зло протянул про себя:
«Воспитывать себя беспрестанно, и такой жалкий, такой подлый итог!..»
Наслаждался упрёками, их слабость его вполне заслужила. Чем беспощадней становились они, тем светлей и добрей возрождалась поникшая было душа. Более себя не жалел, более не находил, что ужас душевных терзаний предпочтительней скорого ужаса смерти, ненавидел бренное тело, способное от звериного страха дрожать и вопить, затмевая мыслящий дух. Господь с ним. Старые зубы плотно сжались. Между бровями углубился чёрный провал. Застывшее лицо побледнело. Остистый кулак вдавился в мякоть бедра. С гневом напомнил себе, что с самой юности знал, что рискует собой, ещё с того дня, когда решился выступить в палате общин против бессовестной жадности старого короля. Тогда затеплилась гордость при мысли о том, что не уступил тогда старому государю, как не уступает теперь молодому, но рассмеялся, скрипуче сказав:
— Полно тебе, это всего лишь глупейшее самолюбие труса.
И принялся над собой издеваться всё беспощадней, всё злей, точно нападал на врага. Издевательства были заслужены. Они приносили сладкую боль и возмущали его. Разве не своей волей выбрал тернистый свой путь? Разве впервые противился безрассудству и своеволию отца и сына, двух королей, которым судьба повелела служить? Если правду сказать, во всю свою жизнь не встречал никого, кто был бы способен на такое сопротивление и на такой отчаянный риск. Мог бы возвратиться домой, мог бы ещё долго наслаждаться той тихой, увлекательной жизнью, какой жил тот краткий миг, когда, сложив обременительные полномочия канцлера Англии, удалился в своё небольшое поместье, мог бы упиваться блаженным покоем. Душа была бы легка и спокойна, а смерть естественна и неприметна, как сладостный сон, лишённый сновидений.
Господи, каким благостным, каким милым был тот ничем ненарушимый покой! Весело поднимался по утрам с неприхотливого ложа, едва на заре загорланит петух и с ближней колокольни зазвучит первый колокол, призывая к заутрене. Бодро подставлял крепкое тело холодной воде. По обычаю римлян, на кухне съедал два толстых ломтя ржаного тёплого хлеба, медленно запивая парным молоком. После неприхотливого завтрака, подобно Цицерону и Плинию, уходил в кабинет, любовно устроенный в крохотном флигеле на заднем дворе, и часами просиживал над любимыми книгами, ни на что не отвлекаясь от них, решительно никуда не спеша. Жаркие замыслы так и рвались в просветлённую голову, свободную наконец от политических дрязг и придворных сует. Зрели сильные, дерзкие мысли. Будто слышал, как неторопливо и грозно двигались и шевелились они, волнуя даже сильнее, чем юношу волнует любовь. Желание в нём подступало и билось одно: приготовлялся творить.
Полдня пролетало неприметно и сладко. Бодрый и свежий выходил из флигеля и садился за обеденный стол. Солнце ласково грело. Зеленела трава во дворе. Лисица с пышным рыжим хвостом выбегала к нему, поднимая навстречу остроносую хитрую морду. Важно воркуя, приближался многоцветный фазан. Лохматые дворовые собаки прыгали прямо на грудь, пытаясь лизнуть в лицо. В вольере сидели на жёрдочках бразильские попугаи с зелёными перьями, приукрашенными красным и синим, которых купил у пьяного шкипера. Один упрямо молчал. Другой хрипло выкрикивал брань по-испански. Этого упрямо учил говорить по-английски: «Здравствуй, милый. Спасибо».
Некрасивая, но довольная Эл встречала мужа смущённой улыбкой. За столом ожидала большая семья. На нижнем конце между слугами звонко смеялась Дороти Колли. Джон Харрис, его молодой секретарь, старался незаметно подсесть рядом с ней, делая вид, что на это место попал по ошибке, и они менялись исподтишка влюблёнными взглядами. Кто-то из слуг, продолжая жевать на ходу, поднимался из-за стола, удалялся на кухню и ловко ставил на середине стола одно общее блюдо, и каждый брал себе по желанию, сколько хотел, а слуга как ни в чём не бывало снова садился за стол, и не было больших различий между хозяином и слугой. Все непринуждённо и весело продолжали еду. Длинным острым ножом отрезал себе несколько тонких ломтей варёной говядины. Медленно, с аппетитом жуя, спокойно оглядывал мирных своих домочадцев. На всех лицах видел довольство, благожелательность и тишину.
Его душа улыбалась. Это он даровал им довольство и мир.
Знал, что, в сущности, сделал очень немного, но зато хорошо. От сознания доброго дела жизнь представлялась прекрасной, и хотелось длить её, длить бесконечно.
Домашние ещё оставались есть и болтать, а мыслитель уже уходил, стараясь не обращать на себя никакого внимания, вновь входил в кабинет, отдыхал полчаса или час и принимался с новым наслажденьем работать до самого вечера.
Иногда появлялся король. Услыхав шум колёс и топот копыт, по-хозяйски выходил на крыльцо. Два дюжих телохранителя, напрягая до крайности мышцы, вынимали из просторной кареты непрерывно тучневшее тело. Отвешивал низкий поклон, почтительный, но с явным достоинством. Несмотря на опасную полноту, всё сильнее припадая на больную правую ногу, Генрих, всё ещё крепкий и сильный, подходил к нему быстро, легко, весело улыбаясь, сетуя громко:
— Скучно мне, скучно, чёрт побери! Не с кем слова сказать, а древности почти позабыты!
Учтиво смеялся:
— Зачем вашему величеству древности? Вам всё подвластно, кажется, и без них.
Генрих, казавшийся рядом с ним великаном, брал его дружески за плечо и вёл по дорожке тенистого парка.
Философ был рядом с ним как подросток, такой невысокий, худой.
Генрих снисходительно отвечал на его замечание:
— Ну, не юродствуй, ты ведь не шут. Тебе ведомо, как никому, что древние учат мыслить, мыслить уверенно. От нынешних бумагомарак, если правду сказать, одно кружение в голове. Говорить говорят, а ничего не поймёшь, что говорят, зачем говорят, точно во сне.
Шутливо возражал:
— Однако, милорд, у нынешних бумагомарак перед древними сочинителями имеется одно несомненное преимущество, о чём во имя справедливости должно сказать.
Король с живостью спрашивал, всем телом грузно оборачиваясь:
— Это какое?
Поучительно изъяснял:
— Они ещё живы. И вот, всё время тужась, чтобы заглушить прославленных древних и даже вчерашних, тоже прославленных с полным правом, они тараторят без умолку, тогда как и древние и вчерашние по праву мёртвых нынче сурово молчат.
Его величество похлопывал его по плечу слишком тяжёлой, тоже вздутой рукой:
— Ты строг всегда, строг чересчур. Всё-таки нынешние бумагомараки признают Аристотеля и усердно изучают его. Разница между ними заключается единственно в том, что одни так толкуют его, а другие даже не по-иному, а вовсе наоборот, с первыми ни в чём не согласно. А почему? А все потому, что уж очень хочется себя показать.
Сам увлечённый подобными темами, умело менял иронический тон на совершенно серьёзный:
— Аристотель завещал свою диалектику векам и потомкам, однако для её изучения совершенно бессмысленно столько лет ожесточённо сражаться из-за того, что не имеет ни малейшего отношения к делу.
Государь спрашивал, припадая на правую ногу, благодушно озираясь по сторонам:
— Тогда почему же ты думаешь, что суждения спорщиков бесцельны, бездельны? Любопытно было бы знать.
Плавно и легко изъяснял, уверенный в том, что король, несмотря на беспечный, невнимательный вид, с интересом следит за развитием мысли:
— Потому что в грамматике, например, достаточно выучить правила, с помощью их ты и сам сможешь говорить по-латыни и будешь понимать то, что написано по-латыни другими, а не выискивать бесчисленные правила и проводить всю свою жизнь среди одних букв и слогов. Мне кажется, что и в диалектике вполне достаточно изучить природу слов, значенье высказываний, а потом, проникнувши в правила силлогизмов, пользоваться диалектикой как орудием для постижения наук и предметов. И Аристотель думал, конечно, только об этом. Вся его диалектика состоит из десяти основных категорий, вещей или наименований. Затем, приложив трактат о высказываниях и правила силлогизмов, заключает тем, что необходимо для доказательства, что может убедить, а в чём лишь хитрые увёртки. К этому Порфирий прибавил как введение или же предварение пять универсальных утверждений, либо, если угодно тебе, вещей или звучаний. Более того, ни тот ни другой не предложил такого рода вопросов, которые скорее помешают несведущим умам, чем продвинут вперёд. Порфирий даже определённо их запретил. Однако сейчас, не иначе, как на погибель благородных искусств, появились какие-то нелепые чудища и смешали определения, имеющиеся исстари, испакостили своим грязным прикосновением наичистейшие традиции древних. Суждения, высказанные единожды глупым наставником, со временем укореняются и очень влияют на ухудшение образа мыслей даже и очень умных людей.
Генрих признавался, оборачиваясь к нему, тепло улыбаясь маленьким ртом:
— Я слушаю тебя с увлечением. Ради этого удовольствия я готов проскакать вдвое больше, хотя в карете мне скучно, а держаться в седле становится всё тяжелей, так что ты должен признать, что при моей комплекции прогулка к тебе равнозначна не менее, чем подвигу на поле сражения. Однако скажи мне, умнейший, есть ли живой человек, с которым бы ты согласился вполне?
Философ смеялся:
— А как же, есть такой человек, и ты ведь знаешь его.
Протягивая ладонью вверх свою мясистую руку, гость декламировал с шутливыми интонациями, пытаясь поймать плавный ритм александрийских стихов:
— Я теряюсь в догадках, открой же мне это звучное имя.
Отвечал:
— Его звучное имя — Эразм.
— Мне сдаётся, мудрейший, ты и с ним согласен не очень. Не всё в его сочинениях убеждает тебя.
— Тогда скажи мне, кто лучше Эразма сказал о тупости наших учёных?
Генрих мечтательно припоминал:
— А ведь я помню, ты знаешь, как он привёл тебя в Элтем, чтобы познакомить со мной.
Радостно удивлялся:
— Ты всё ещё помнишь, милорд? Ты же был тогда маленький принц!
У монарха подёргивались влагой глаза:
— Я смотрел на тебя, как на чудо! Никак не могу теперь вспомнить, что ты мне тогда говорил, но каждое твоё слово звучало как изречение мудреца. Если бы не та ранняя встреча, я бы, пожалуй, никогда не взялся серьёзно за книги. Своим образованием я, конечно, обязан тебе. Умён и дальновиден Эразм, этого нельзя не признать.
Напоминал с неопределённой улыбкой:
— Ты очень вырос с тех пор.
— Может быть, ты и прав. Ты мудрец. Но я и сам иногда жалею о том, что те годы прошли, что мы растём и теряем, может быть, то, что было лучшего в нас. И то хорошо, что я ещё не забыл, что лишь по твоему примеру и настоянию я выучил греческий и прочитал кое-что из диалогов Платона.
— Нечего удивляться, что человек такого ума, относящийся с таким рвением ко всем свободным искусствам, полюбил этот язык мудрецов и философов со всей силой, какая дана человеку, чтобы его одолеть. Греческий язык своим богатством превосходит все языки, выделяется из них совершенством. В греческих текстах, точно в бесчисленных сундуках, заключены сокровища всех благородных наук. Особенно любят его христиане, потому что с его помощью счастливейшим образом дошли до нас и все прочие науки, и Новый Завет. Правда, есть люди, которые полагают, что нынче, с появлением переводов, как женщина, часто родившая, этот язык истощился. Однако, по счастью, ты не из того же десятка и не думаешь так, как они. Я этому рад.
Генрих смеялся язвительно:
— Эти тупицы ожесточённо нападают на всех, кто ищет мудрость у древних, а не в их напыщенных, однако глупейших писаньях, ими они между тем ужасно гордятся, как будто бы превзошли давно тех, кого мы почитаем как наших учителей, а они обзывают ничтожествами.
Тоже бывал возмущён и отзывался, увлекаясь беседой всё больше:
— Я знаю людей, которые не могут оставаться спокойными, слыша имя Рейхлина, произнесённое вслух! О, Всевышний! Имя подобного человека! Глубочайший учёный среди невежественных завистников, наиумнейший среди наиглупейших, честнейший человек среди пустейших бездельников! На него нападают с такой несправедливостью, что, если бы он наложил на себя руки, казалось, надо бы было ему это простить!
Его величество продолжал, устало садясь на скамью, усталый и потный:
— Они заняты игрой в слова и понятия. Им и в голову не приходит изучить законы человеческой природы и поведения.
В ответ восклицал, стоя перед ним неспокойно, часто переступая, так что под башмаками хрустел и скрипел речной зернистый песок:
— У кого можно лучше постигнуть эти законы, как не у историков, поэтов, ораторов, которые говорили и писали по-гречески? Только греки передали и завещали нам свои великие открытия во всех областях, и сколько бы ни изучали и ни переводили их прежде, всё же и половина их беспримерной учёности нам до сей поры не доступна.
Но обычно его семья оставалась одна, без праздных гостей. Он выходил, закончив дневные труды, некрасивая Эл брала его под руку, и супруги подолгу бродили в полях, погружаясь в безмолвное созерцание. Густели неторопливые сумерки. На шёлковом небе серели тончайшие облака. Приятной прохладой тянуло с окрестных холмов. С ближайшего пастбища загорелый пастух гнал сытое стадо. Протяжно мычали коровы, блеяли овцы. Пыль столбом поднималась от многих копыт. Неторопливо возвращались домой. В невысокой гостиной сходились дети и старшие внуки, рассаживались, где и как было удобно, и занимались попеременно то древними языками, то математикой, то литературой и географией, которой увлекался чуть ли не жарче жадных до приключений детей. Кто-нибудь читал вслух хорошо поставленным голосом. Иногда разъяснял самое трудное место или просто рассказывал, сам наслаждаясь, о светлой радости познанья того, что ни есть на нашей земле. Потом Эл, застенчивая до старости, играла на лютне.
Если спать ещё не хотелось, после ужина вновь возвращался в молчаливый кабинет, чтобы ещё поработать немного, единственно из удовольствия узнать ещё что-нибудь. Иногда старшая дочь заглядывала к нему, придвигала резную скамеечку и помещалась у его ног. Отрываясь от книг, поглаживал её тяжёлые рыжие волосы. Мэг прижималась к отцу и шептала, пряча лицо:
— Ты чудесный. Ты самый лучший. Как хорошо!
Склоняясь над ней, с трепетным сердцем целовал тонкую руку:
— Не льсти старым людям, милая Мэг. Старые люди доверчивы чересчур. Старые люди могут поверить тебе.
Дочь лепетала дурашливо, точно ребёнок, прижимаясь к его колену горячей щекой:
— Я говорю сущую правду, отец, только правду, ничего, кроме правды!
Тихонько смеялся:
— Ты лучшая из дочерей, моя милая Мэг! И Эразм недаром зовёт тебя украшением среди женщин Британии. Ты одна вполне понимаешь меня и любишь так, как я, может быть, не заслуживаю, ибо и я человек. Без тебя мне труднее переживать мои частые горести.
Мэг кивала головой на раскрытую Библию:
— За этой книгой я застаю тебя очень часто. Иногда я спрашиваю себя, неужели она так трудна для тебя, что ты сидишь над ней каждый вечер?
Задумчиво отвечал:
— Иероним считал её очень трудной, блаженный Августин даже думал, что эта книга вовсе не постижима умом. Даже из древних ни один не рискнул утверждать, что в совершенстве понял её. Они полагали, что глубочайший замысел Господа осложнил нам понимание этой величайшей из книг, чтобы привлечь к ней внимание пытливых людей и пробудить тех, у кого вялый ум, чьи способности скрыты и требуется много труда, чтобы свои способности в себе отыскать. В противном случае люди совершенно спокойно немотствовали бы перед открытыми для них сокровищами познания истины.
Девушка поднимала лукаво глаза:
— Вот не думала, что у тебя столь же ленивый и праздный ум, как у меня.
Серьёзно кивал головой:
— Конечно, ленивый и праздный. Ведь я человек, не Господь. Повторяю тебе, и мой ум тоже надо будить и толкать, потому я так и люблю эту претолстую книгу. Я не говорю уж о том, какой необыкновенной учёности это дело и сколь не всякому человеку это подходит. Ведь люди вначале от моральных тем отвращаются как от известных и скучных, и лишь немногие так рьяно к ним обращаются, что их не отвлекает больше всё прочее, точно только для этого они и появились на свет.
Мэг с нежностью гладила его усталую руку:
— Ну ты-то как раз для них появился на свет. Мне это известно давно.
— Может быть, именно для них я появился на свет, однако же я всегда говорю, что обучением и трудом природная способность развивается в нужном нам направлении, при непрерывном напряжении воли достигая наивысших высот.
Дочь привставала и пробегала глазами по открытой странице, шепча по привычке, и спрашивала его, точно не видно было самой:
— Всё по-гречески?
Мор любил её в особенности как раз за эти расспросы и с удовольствием рассуждал:
— Вот видишь ли, Мэг, не говоря о самом Платоне, о самом Аристотеле, «Комментарии к Аристотелю» Александра, парафразы Темисция из книг Аристотеля, комментарии Аммония к логике Аристотеля, комментарии Аристотеля и Эпиктета Симплиция или жизнь Платона, описанную Олимпиодором Младшим, следует читать лишь на их родном языке. Многие из древних, писавших о христианском учении, тоже писали большей частью по-гречески, а переведено из всего этого мало, и, кажется, не переведено, а перевёрнуто, как частенько бывает с невеждами, которые по своему легкомыслию вечно не за своё дело берутся со страшной решимостью. Я уж не стану касаться того, что нет ещё такого удачного перевода самого Аристотеля, равного силе его собственных слов, а отдельные из его сочинений есть лишь на греческом языке. Я даже не знаю, переведены ли на латинский язык хотя бы названия их. Дело в том, моя дорогая, что отдельные сочинения, на латинском языке существующие, почти все таковы, что они как бы не существуют совсем. Эта же участь постигла и сочинение Аристотеля по метеорологии, и этого жаль, потому что не знаю, есть ли у него другой труд, более заслуживший того, чтобы мы знали его, более удивительный по самой сути своей, в том именно смысле, что его содержание так близко нам, нас со всех сторон окружает, однако меньше известно, менее ведомо, чем расположение звёзд, находящихся от нас так далеко.
Передвинув скамеечку, на которой сидела боком, выпрямляясь, обращаясь лицом, Мэг говорила мечтательно:
— Строение человеческого тела, расположение и взаимное действие всех его органов ещё удивительней. Я не могу смотреть на больных. Во мне всё сжимается, точно тоскует. Целой жизни не жаль, чтобы проникнуть в тайны болезней. Люди должны быть здоровыми, правда, отец?
Возражал настойчиво, ласково:
— Твою пылкую любовь к искусству Гиппократа я одобряю, однако же весьма неблагоразумно с твоей стороны пренебрегать остальными искусствами. Заботы об одном только теле приводят беспечных людей к опасному оскудению духа, как мы часто наблюдаем вокруг.
Дочь становилась серьёзной:
— Ты забываешь, отец, что я только женщина, а женщине не доступны занятия философией, логикой и другими предметами этого рода, в которых блистают мужчины. Для женщины, как я полагаю, достаточно одних добродетелей.
Мягко убеждал:
— Если женщина к выдающимся своим добродетелям присоединит хотя бы самый умеренный запас сведений из словесности, включая даже логику и философию, что напрасно пугают тебя, как ты говоришь, это было бы куда полезнее для неё, чем если бы она получила богатства Креза и красоту прекрасной Елены, из-за чего, как известно тебе, возникла большая война.
Мэг улыбнулась лукаво:
— Ну, я-то думаю, что среди нас слишком много найдётся таких, которые самой весомой учёности предпочтут и богатства и красоту.
Отвечал ей с несколько грустной улыбкой, словно предвидел грядущее:
— Они преходящи и тленны, ваша красота и ваши богатства, и я говорю тебе о ценности литературного знания не только потому, что истинная слава упадает на человека лишь от его добродетелей, как падает тень от бренного тела, но и потому, что мудрость не теряется, как богатства, и не увядает, как красота, ибо зависит лишь от нашего знанья того, что справедливо, а не основано на людских толках, нелепее и неправильнее которых на земле не имеется ничего. Между всеми благодеяниями, что одаряет человека образование, самое большое заключается в том, что изучение наук учит искать пользы духовной, а не удовлетворенья наших пороков или тщеславия. Таков смысл поучений наиболее учёных людей, в особенности же древних философов, этих наставников жизни, хотя некоторые, может быть, и злоупотребляли учением, как, впрочем, возможно злоупотреблять и другими хорошими вещами, лишь бы купить себе поскорее громкую славу, пышные почести и дешёвую популярность у черни.
Девушка звонко смеялась:
— Ты убедил меня, в который уж раз.
И они умолкали.
За окнами таилась чуткая тишина. Слабый ветер ласкал, набегая с далёкого моря, задремавшую было листву, лепетавшую сонно о чём-то своём, лаская им слух. Впрочем, ветер набегал лишь на миг и добродушно спадал. Вновь чутко утихала, задрёмывая, густая листва. Где-то в гнезде сонно ворочалась птица. Голова Мэг безмятежно покоилась у него на коленях. Это и был его собственный остров, счастливый и мирный, где мыслитель трудился в поте лица своего и отдыхал от трудов. Пусть делал немного, но отдых и счастье заслужил. Одно лишь смущало: не мог, не умел быть один, одиночество душило его. Зачем ему остров для себя одного, для жены и детей, для зятя и слуг?
Неудержимо тянуло на остров, обдуманный и описанный им, где бы был счастлив совместно со всеми. На том острове не было бы ни богатых, ни бедных, ни хозяев, ни слуг, одинаково работали все, кроме малых детей, стариков и больных. Даже правители, законом освобождённые от труда, по своей охоте занимались бы землепашеством и ремёслами, чтобы служить живым примером всем остальным, без чего трудно было бы ждать ревности в труде, достатка и довольства в душе. Честно, спокойно, размеренно протекала бы там жизнь. Поровну селились островитяне в деревне и в городе, и каждые два года переменялись местами, чтобы поровну нести тяготы землепашества и поровну вкушать городские удобства. Земледельцы пахали на том острове землю, кормили скот, заготавливали дрова и отвозили всё это в город каким им было удобно путём, по суше или по морю. Зерно они сеяли лишь ради хлеба и ровно столько, чтобы хватило всем жителям и осталось на случай, если придётся оказывать помощь соседям. Лошадей у них заводилось немного, главным образом для того, чтобы юноши, упражняясь с конём, вырастали здоровей и сильней. Взрослые же повсюду ходили пешком, а в землепашестве и в перевозках использовали быков, которые выносливей лошадей и подвержены меньше болезням. Горожане занимались ремёслами, а на время уборки отправлялись в поля помогать земледельцам. Все без различия спали восемь часов, шесть часов отдавали труду, остальные доставались наукам и удовольствиям. Если же необходимых продуктов накапливалось несколько больше того, что было необходимо, правители по своему усмотрению убавляли время труда. Зачем же им было гнуть спину восемь, десять или двенадцать часов, как происходит везде, где работают на хозяев или для выгоды? Такой необходимости не было, ибо они в избытке обеспечивали себя всем тем, что им было нужно для жизни здоровой и сытой. Достигнуть такого довольства им было не трудно, ибо среди них вывелись те, кто бы не занимался ремёслами или обработкой земли, кроме, разумеется, тех, кому особенно давались науки, а когда в производстве жизненных благ заняты все, плоды работы бывают обильны. К тому же никакого труда не тратили бы они понапрасну. Зачем людям столько редких металлов и драгоценных камней, на добычу и обработку их уходит такая бездна труда, а владение ведёт к преступлениям? Зачем такое множество изысканных украшений и самых замысловатых повозок и экипажей? Для какой надобности столько необыкновенных нарядов? По правде сказать, все эти наряды, украшения и экипажи возбуждают в людях только тщеславие, которому необходимо как можно пышнее разукрасить себя, лишь бы возвыситься над многими, кто лишён подобной роскоши.
Тщеславие — болезнь духа, как болезнь тела — запор, а на его добродетельном острове не могло быть ни телесных, ни духовных недугов, ибо так легко произвести в изобилии то, что диктуется принципом пользы, удобства и естественных удовольствий. Оттого жили бы там без обид, в счастливом труде, в счастливой радости и в счастливом покое. Ведь это же он написал:
«Именно, в других странах повсюду говорящие об общественном благополучии заботятся лишь о своём собственном. Здесь неё, где нет никакой частной собственности, они фактически занимаются общественными делами. И здесь и там такой образ действий вполне правилен. Действительно, в других странах каждый знает, что как бы общество ни процветало, всё равно умрёт с голоду, если не позаботится о себе лично. Поэтому в силу необходимости должен предпочитать личные интересы интересам народа, то есть интересам других. Здесь же, где всё принадлежит всем, наоборот, никто не сомневается в том, что ни один честный человек не будет ни в чём терпеть нужды, стоит только позаботиться о том, чтобы общественные магазины были полны. Тут не существует неравномерного распределения продуктов, нет ни одного нищего, ни одного, кто бы нуждался, и хотя никто ничего не имеет, тем не менее равно богаты все. Действительно, может ли быть лучшее богатство, как лишённая всяких забот, весёлая и спокойная жизнь? Тут не надо тревожиться на счёт своего процветания, не приходится страдать от жалобных требований жены, опасаться бедности для сына, беспокоиться о приданом дочери. Каждый может быть спокоен насчёт пропитания и благополучия как своего, так и всех своих: жены, сыновей, внуков, правнуков, праправнуков и всей длинной вереницы своих потомков, исчисление их принято в знатных родах...»
И ещё, уже в самом конце:
«Мне и в голову не приходит сомневаться, что весь мир легко и давно уже принял бы законы утопийского государства как из соображений собственной выгоды, так и в силу авторитета Христа Спасителя, который по своей величайшей мудрости не мог не знать того, что лучше всего, а по своей доброте не мог посоветовать того, что он знал за самое лучшее. Но этому противится одно чудовище, отец всякой погибели, — гордость. Она измеряет благополучие не своими удачами, а чужими неудачами, не хотела бы даже стать богиней, если бы не оставалось никаких несчастных, над которыми могла бы властвовать и издеваться, ей надо, чтобы её счастье сверкало при сравнении с их бедствиями, надо развернуть свои богатства, чтобы терзать и разжигать их недостаток. Эта адская змея пресмыкается в сердцах людей, как рыба-подлипала, задерживает и замедляет избрание ими пути к лучшей жизни. Так как гордость слишком глубоко внедрилась в души людей, чтобы её легко было вырвать, то я рад, что, по крайней мере, утопийцам выпало на долю государство такого рода, которое я с удовольствием пожелал бы для всех. Они последовали в своей жизни таким уставам и заложили на них основы своего государства не только очень удобно, но и навеки, насколько это можно предсказать. Они истребили у себя вместе с прочими пороками корни честолюбия и раздора, а потому им не грозит никакой опасности, что они будут страдать от внутренних распрей, исключительно от них погибли многие города с прекрасно защищёнными богатствами...»
И по этой причине обязан дойти до конца. Не из гордости, отца всякой погибели, не из честолюбия, которому вечно любо ничтожество и несчастье как можно большего числа сограждан своих. Он слишком много взял на себя, и уже отступать не имелось ни малейшего права, ни даже тени его. Пока жив, король, может быть, не разгонит монахов, не продаст земли монастырей своим ревностным слугам и не посеет злое семя новой, непременно кровавой вражды, ведь, глядя на них, каждому захочется урвать свой кусок. Да, да, может быть... И потому нельзя отступить...
От этих мыслей сделалось спокойней и крепче, тем не менее непреклонной уверенности всё ещё не установилось в беспокойной душе, и продолжал рассуждать о короткой жизни и обо всей бесконечной жизни земной, рассеянно глядя на лунную ленту, что падала на каменный пол и ползла не спеша, невозмутимо отмеряя безвозвратно улетавшее время. Тихо стало совсем. Может быть, приближалось к полуночи. Глядь, уже лунная лента упала на стол, за ним неожиданно проступил силуэт с полной чашей в тощей руке, с мешками кожи по обеим сторонам подбородка, с длинным тонким изысканным носом, с умными озорными глазами, в бархатном берете на голове. С невольным беспокойством спросил:
— Боже мой, ты всё ещё пьёшь вино как лекарство от почек?
Ему ответили спокойно и тихо:
— Спасибо старухе, дала мне добрый совет. От вина светлее становятся мысли, а мысли, как ты знаешь, важней для меня, чем ноющая боль в боку и в спине.
Так же тихо, осторожно сказал:
— И больше они не болят, только ноют?
Ему ответили безразлично, как будто говорили не о себе, а о ком-то другом:
— Бывает, что и болят, по правде сказать, но я полагаю, что, не пей я столько вина, они болели бы куда чаще и давно бы уморили меня.
Торопливо принялся убеждать:
— О, Эразм, да посмотри-ка ты на себя! Твоё лицо уже сделалось серым, как мышь, кожа у тебя нездоровая, рыхлая, точно осколок гранита, отвисли мешки. Вино, поверь мне, не доведёт тебя до добра!
Слабый голос напомнил:
— Тебя вот тоже не довело до добра, хотя вина ты не пьёшь, ни как лекарство от почек, ни просто так, чтобы сделалось веселей на душе.
Понял тотчас, куда эта тропочка его заведёт, и резко перевёл любопытный для него разговор:
— А что твоя слава, Эразм? Твоя слава всё растёт и растёт? Твоей славе нет уже равной в Европе?
Эразм только улыбнулся одними губами:
— О славе ты должен знать по себе, ведь мы равно прославлены оба.
С внезапной настойчивостью задал вопрос:
— Твоя учёность и твои дарования всё ещё всех изумляют по-прежнему?
Эразм задумчиво возразил:
— Об этом нынче спрашивать не тебе. Многие годы занимался я одной греческой литературой, Гомер и Платон были единственным утешением, однако, послушав как-то однажды тебя, я возвратился к грубой латыни, ведь в красноречии на этом испытанном языке не было и не будет равных тебе. И твой авторитет для меня так велик, что если бы ты попросил меня сплясать под заунывное гуденье рожка, я тут же пустился бы в пляс. И пишешь ты о тех же предметах, что пишу я, однако пишешь так основательно, что в твоих сочинениях взвешено всё, продумано до мельчайших подробностей, тогда как мысли мои вечно куда-то спешат и бурлят, как вода в котелке над огнём. Вот я и уверен, что природа вряд ли сотворила что-нибудь равноценное твоему тонкому, ясному, живому уму. Трудно сыскать человека с большими талантами и достоинствами. Я даже думаю, что такого человека и невозможно сыскать. А кто сравнится с могучим даром твоего светлого слова, равным только твоему интеллекту, с удивительной бодростью твоего стойкого духа, с твоим остроумием, с безмерной деятельностью твоего живого характера! Я говорил об этом Уитфорду, помнишь его? Повторю в другой раз и тебе!
Признался, сев поудобней на смятой постели, прислонившись к стене:
— Ты можешь не повторять эти чрезмерные похвалы, ибо все, кто знает латынь, читают во всех частях света бесценные письма твои, умноженные страстной любовью друзей, переписанные бесчисленными поклонниками твоего дарования. О бодрости духа что ж говорить? Нынче я духом смутен и слаб.
— Вот мне и хотелось понять, зачем тебе затеянная тобой кутерьма? Ведь ты лучшее украшение нашего века. Вот и оставайся у нас, живи среди нас и действуй, как сможешь, на нас. Иначе век наш без тебя потускнеет. Сколько блестящих мыслей мог бы ты ещё бросить жаждущим знания, сколько прекрасных книг написать!
— Один поступок стоит, может быть, больше великого множества самых замечательных книг. Ведь вся беда наша, как я думаю, в том, что в основании всего доброго на земле должно лежать доброе дело. Нельзя же вечно писать о хорошем и никогда не поступать хорошо. Нельзя звать людей к лучшему и не приблизить его хотя бы одним малым, но собственным шагом. Я думаю, что вовсе нельзя. Нет, конечно, нельзя!
— Однако и добрые дела разделяют с людьми смертный их жребий и терновый венец, тогда как размышления, побеждая толщи веков, пребывают вечно бессмертными и сливаются с вечностью. Кто помнит славного Мортона, кардинала и канцлера Англии, которого ты так любил, а протекло всего тридцать лет с того дня, когда он переправился от нас на тот берег. Разве он теперь не забыт?
— Да, забыт многими, но не мной. Да ведь и дело вовсе не в том, помнят тебя или нет. Мортон дал Англии мир, и пусть его имя забыто, однако же именно благодаря его неустанным трудам многие избежали тяжких увечий и смерти в сражениях.
— Тем не менее сам ты уверяешь других, что слава следует за добродетелью, как за бренной плотью наша бесплотная тень, из чего я вывожу вполне правомерно, что сам ты мечтаешь о славе, ибо кто же, как не ты сам, наделён добродетелями.
— А я из этого вывожу, и тоже вполне правомерно, что мы с тобой понимаем славу по-разному.
— Что же тут понимать? Ведь слава, какая бы она ни была, всегда только слава, как бы мы с тобой ни определяли её согласно с сутью вещей и законами логики.
— Однако же, по моему убеждению, истинная слава вовсе не в том, что имя твоё запомнят века.
— Тогда растолкуй, какая же это слава, если о твоих деяниях не помнит никто?
— Ты прав, славы без памяти не бывает, и я только хочу спросить у тебя, на что именно употребил ты, именно ты, безмерную славу твою?
— Ну, не упрямься, ведь уже очевидно, куда тебя завело желание употребить хоть на что-нибудь твою славу. Не стой на своём.
— В таком случае расскажи-ка мне лучше о твоём новом друге, Эразм. Ведь для тебя составляет высшее наслаждение хвалить нынешних друзей своим прежним друзьям, и оттого, что ты сам, по причине своей необъятной учёности и любезного нрава, дорог весьма многим людям, живущим во всех краях света, ты усердно стараешься объединить всех своих друзей той братской любовью, которую они питают к тебе, и ты не перестаёшь повторять о ком-нибудь каждому из друзей, как многим повторял обо мне, рассказывать обо всех их достоинствах, как многим рассказывал о моих, пока любовь не пробудишь и в них.
— Зачем тебе это?
— Я тоже хочу полюбить твоего нового друга.
— У тебя и времени не осталось на это.
— У меня всегда есть время на это, а у тебя исключительный дар красноречия. Что ж ты молчишь?
— Я не за этим явился тебе.
— Тогда из какой надобности посетил ты одинокого узника, обречённого быть разорванным на куски?
— Я затем явился, чтобы убедить в том, что тебе необходимо оставить твоё смешное упрямство, себя поберечь, как я берегу себя многие годы, избегнув многих опасностей, которые грозили мне едва ли не меньше, чем угрожали тебе.
— Помилуй, лишь ради этого пустяка ты дал себе столь тяжкий труд?
— Ведь и я тоже знаю давно, что Платон, Аристотель, Христос в том были совершенно согласны, что совершенное государство возможно лишь там, где нет ни моего, ни твоего, но для всех граждан общее всё, что ни есть. Ведь и у меня тоже бывали соблазны, однако же я устоял перед ними, как ни трудно мне это было, и вот я свободен поныне, и моя голова никогда не пойдёт под топор палача.
— Лучше ответь мне, не утомило ли тебя Дальнее твоё путешествие? Каким предметом на этот раз ты занимал свою скуку в многодневном пути? Не удосужился ли чего написать? Мне никогда не удавалось перенять у тебя удивительную и благотворную привычку работать прямо в седле.
— Ну, я очень рад, что ты способен шутить, как и прежде. Ведь это, по моему убеждению, должно означать, что жажда жизни пробудилась в тебе и что ты готов наконец отказаться от бессмысленной смерти.
— И на пороге смерти можно шутить.
— Какие на пороге смерти могут быть шутки!
— Ты всё же несколько робок, так воспитан был с детства, когда добрая матушка упорно удерживала тебя при себе, не позволяя играть с другими детьми, которые могли обидеть тебя, оскорбить твою детскую душу.
— Просто-напросто я понял давно, что один человек не всесилен, как Бог, что в его слабых руках лишь немногое и этого немного уж чересчур мало, чтобы мир изменился от его единичных усилий в том направлении, как это предначертано было тобой с таким умом и с таким знанием дела. Поверь, такие перевороты не под силу никакому упрямству.
— Но если, положим, хотя бы и единичным упрямством возможно предначертанное в здравом уме и в подражание Платону, Аристотелю и Христу приблизить хотя бы немного, хотя бы на дюйм?
— Ненамного, ты говоришь, хотя бы на дюйм? Не ослышался я? Повтори!
— Да, не ослышался ты. Пусть почти неприметно, а всё же приблизить.
— Ну, вот видишь, ненамного приблизить счастливые времена, когда воцарится справедливость, братство и равенство, надеюсь, и мне удалось, и моя слава ко мне не даром пришла, а вместе с тобой, останься ты жить лет на двадцать, хотя бы на десять, мы действовали бы ещё убедительнее на умы, и ещё убедительней зазвучали бы совместные наши речения!
— Нет, Эразм, я тоже знаю, что в слове заключена величайшая сила, только сила слова не та, о которой я тебе говорю. Всё-таки и самое разумное слово — это скорее игра и украшенье ума.
— Тем не менее чем больше в мире подобной игры и подобного украшенья ума, тем меньше останется глупости, а ведь, вспомни об этом, именно глупость — фундамент всех зол и всех бед на земле.
— Я всё-таки думаю, что фундамент бедствий и зол большей частью заключается в гордости.
— Помилуй, наша гордость тоже от глупости, от невежества, от незнания истинной сути вещей. Разве я об этом не так убедительно написал?
— Если всё зло, все беды только от глупости, тогда прости мне глупый вопрос.
— Я всё прощаю тебе, решительно всё, кроме упрямства, прости.
— Ты блистательно описал все виды глупости, все её проявления, всю глупость её, спору нет, а скажи, разве стало от этого глупости меньше?
— Ну, подсчитать плоды эти трудно, я полагаю. Всё-таки я имею право сказать, что вся Европа с увлечением читает мой весёлый трактат и до упаду смеётся над ним.
— Правильней бы было сказать: все умные, все образованные люди Европы с удовольствием и пользой читают тебя. Им в самом деле ты доставил самое высокое наслаждение своим остроумием. Вот только тьмы глупцов не читают тебя. Ведь вкусы людей разнообразны, несходны, характеры неровны, капризны, природа неблагодарная, суждения подчас доходят до полной нелепости, вроде того, что любой и каждый может достигнуть богатства, стоит ему хорошо попотеть. По этой причине всегда счастливее те, кто живёт приятно и весело, в своё удовольствие, не терзаясь заботами что-либо читать, а тем более что-либо писать, что могло бы одним принести удовольствие или пользу, но отвращение и неблагодарность вызвать в других. Огромное большинство не знает словесности, даже многие презирают её. Один настолько угрюм, что не понимает шуток и не дозволяет шутить. Другой настолько неостроумен, что не в силах переносить остроумия, ни твоего, которое так похоже на перец, ни более слабого моего. Некоторые настолько не любят насмешек, что опасаются и намёка на них, как укушенный бешеной собакой боится воды. Иные до такой степени непостоянны, что сидя одобряют одно, а стоя совершенно иное. Одни сидят в трактире и судят о таланте писателя за стаканом вина. Есть ещё люди настолько неблагодарные, что и после самого сильного и полного наслаждения, что им дала книга, не питают любви к её автору, напоминая гостей, которые, получив в изобилии сытный и вкусный обед, уходят домой, не воздав благодарность хозяину, накормившему их. Вот и затевай пиршество для людей такого нежного вкуса, таких разнообразных настроений, таких понятливых и таких благодарных!
— Об этом-то я и толкую.
— А я толкую о том, что им совсем не понять, над чем ты так тонко и так ядовито смеёшься. Тем более такое понимание не под силу тирану. По этой причине сперва сделать надобно так, чтобы все поумнели, а тирания сделалась сама собой невозможной, и только тогда ожидать от людей понимания шуток, твоих и моих.
— Из какой надобности они тогда станут читать?
— Для удовольствия, для развлечения и для познавания мира.
— В этом ты, может быть, прав. Однако с какой же стати ты продолжаешь упрямиться? Не лучше ли тебе уступить королю? Пусть себе женится на ком хочет и сколько раз хочет, объявляет себя главой церкви, разоряет монастыри, которые в Германии и без твоего монарха разорены почти все. Ведь если действительно вкусы в такой степени разнообразны, как разнообразны характеры людей и привычки, приобретённые ими, то и поступок твой так же останется не понятным, как не понятны до сей поры все наши книги.
— Я думаю, моё упрямство при том, что пока есть хоть один человек, который сопротивляется своеволию одного правителя или многих, из коих составлен парламент, жертвуя жизнью, своеволие не чувствует себя своеволием в полной мере. Оно сомневается. Оно не спокойно. А это, согласись, уже кое-что.
— И ради достижения столь ничтожного результата ты и поступил добровольно на службу к тому, кого обвиняешь теперь в своеволии?
— Да, и ради этого тоже, но не только поэтому. Сколько было раздоров и войн, сколько крови текло на нашей бедной земле, а при нынешнем Генрихе по крайней мере в Англии пока что мир и покой и даже какой-то порядок в ведении дел.
— В Англии, да, этого у него не отнимешь. Всё-таки он то и дело затевает войны на континенте, ибо все государи охотнее предаются военным забавам, чем благим деяниям мира, гораздо охотнее пекутся о приобретении новых земель и новых торговых путей, чем о делах управления теми, какие имеют, а советники льстят и низкопоклонствуют им, лишь бы расположить их к себе и извлечь из такого расположения выгоду исключительно для себя и для своей ненасытной семьи, а не для тех, кем им доводится управлять. Ведь это безумный закон, но закон.
— Всем известно, как высоко тебя ценят в Париже, в Падуе и в Болонье, не говоря уж Риме, и ты тоже достаточно извлёк из этого выгоды для себя, а не для тех, кто читает и почитает тебя. К своим дворам тебя наперебой зазывают все государи, а папа предлагал тебе кардинальскую шапку, и пять университетов приглашают преподавать в их стенах всё, чтобы бы ни пожелалось тебе, и ты никак не можешь решить, кому из них отдать предпочтение.
— Ты же знаешь, что я выбрал Базель.
— Где выстроил для себя такой преуютный, такой изящно обставленный дом, точно это дом куртизанки.
— Философу нужен уют, нужна тишина.
— И не впустил к себе Гуттена, когда вечный странник и вечный боец явился гонимый, умирающий, нищий и умолял тебя о спасении.
— У этого пылкого рыцаря пера и меча была слишком уж громкая и довольно печальная слава, на мой вкус, слишком дурная, и недобрая тень его славы могла бы лечь на моё доброе имя и запачкать его.
— Не для пользы общему делу, которому рыцарь служил, не пощадивши себя, а лишь в утеху себе. И всегда тебе были нужны только книги, большая, искусно подобранная библиотека и немного просвещённых друзей, с ними было бы приятно вести изящно отточенный разговор о нетленных сокровищах прославленных древних философов.
— Нас слишком мало, истинно знающих, истинно просвещённых, чтобы заниматься чем-либо ещё, разве эта истина не известна тебе?
— По-моему, не самое главное, какое именно мы составляем число, ибо самое главное именно в том, каковы сами мы и каковы наши дела.
— Наше оружие — ирония, насмешка над глупостью, правда в лицо, даже если приходится произносить её, укрывшись под шутовским колпаком.
— Я не шут.
— Однако же ты всегда любил эти шутки, и учёные, и даже не лишённые соли.
— Сколько же можно шутить.
— Ты способен не только шутить. Никто не разобрал в суде столько дел, никто все эти дела не вёл добросовестней, чем вёл их ты. За это тебя уважают и любят сограждане. Всё это ты знаешь не хуже меня. Чего же ещё?
— Кое-кому я в самом деле помог, другим не сумел, да что из того? Место одних несчастных роковым образом занимают другие, тогда как несчастных вовсе быть не должно, ибо несчастье противно природе и разуму. Эту истину ты тоже знаешь, не хуже меня.
— Довольно того, что ты указал несчастным дорогу. Твой трактат по всей Европе читают и знают и восхищаются им. Одно издание появляется вслед за другим. А это значит, в чём сомневаться нельзя, что ты бросил доброе семя, и твоё семя взойдёт, дай только срок, и тогда несчастные, которых в самом деле становится с каждым годом всё больше, сами вступят на эту дорогу, так верно и убедительно описанную тобой.
— Спорю я не об этом, Эразм. Ещё великий Платон полагал, что государства станут благоденствовать только в том случае, если философы станут царями или сделаются философами сами цари. И я спорю только о том, что не следует ограничиваться самыми общими философскими рассуждениями, их в наше время многие даже не способны понять. В дружеской беседе, среди единомышленников, какими мы были с тобой, подобные схоластические рассуждения не лишены привлекательности. Однако нельзя же навязывать новые и необычные рассуждения людям, которые держатся противоположных с тобой убеждений, так как эти рассуждения не будут иметь у них ни малейшего веса. Я вижу, что в таком случае надо окольными путями стремиться к тому, чтобы по мере сил выполнить удачно каждое предстоящее дело, а то, чего повернуть не можешь на лучшее, сделать по крайней мере возможно меньше плохим. Вот я и сделался философом при короле.
— Не я ли предупреждал, чтобы ты не давал вовлекать себя в суетные дела монархов.
— Ты был прав, предупреждая меня, дела самодержцев более суетны, чем благодетельны людям, и всё же ощутительны каждому, ибо по природе вещей касаются всех.
— Тогда...
— Но я уже вовлечён, ты об этом забыл?
— Ты же сам говорил, что короли никогда не следуют разумным советам философов.
— Я и не давал Генриху никакого совета. Я ставил его перед выбором, как ему поступить.
— Нет, прошу тебя, не смущай, у меня совсем другое призванье!
— Как видишь, у меня тоже своё.
— Ты и без того уже сделал чрезмерно. Никто из нас не сделал больше тебя. Даже на твоём месте никому не удалось бы сделать столь много. Тебе пора отдохнуть. Ты заслужил это право. Ты же всегда сетовал сам, что времени недостаёт ни на что, что все дела и дела, которые не касаются до тебя самого, а себе и словесности не остаётся почти ничего.
— Не напоминай мне об этом, Эразм. Это было бы слишком прекрасно. Покой и мир... Мне всё-таки придётся их обрести... Отныне у меня времени хватит...
— Молчи, несчастный, молчи! Невозможно спокойно слушать тебя!
— Нет, пожалуй, я даже счастлив, Эразм. От моего же упрямства, как ты говоришь, я вырос в собственном мнении и теперь высоко держу мою бедную голову.
— Завтра тебе снесут её с плеч!
Беспечно проговорил:
— Ну и что ж...
Передвинулась в сторону голубоватая лента, высвечивая блюдо с жареной птицей, стоявшее на столе. Узник остался один, тотчас лёг, спокойно укрылся до самого подбородка и стал засыпать без тревоги и предательских снов.
Разбудил слабый визг осторожно приоткрываемой двери.
С трудом разлепляя глаза, без испуга следил, как кто-то грузный переступает порог, с тем же визгом давно не мазанных петель прикрывая тяжёлую дверь за собой. По лунному свету догадался, что это ещё не за ним, и в нём загорелось одно любопытство, кто это вздумал беспокоить его, кто вспомнил о нём в эту позднюю пору и зачем втихомолку крадётся к спящему, должно быть, щедро подкупив лейтенанта. Кто-то широкий и тёмный, ворча недовольно, что было темно, чёрт бы побрал дураков, которые сидят в темноте, когда им поставили свечи, вытянул руки вперёд и ощупью пробрался к столу, отчего тотчас сделалось беспокойно и шумно. Кто-то шагал, припадая на правую ногу, глухо шаркая подошвами башмаков о неровный каменный пол, тяжело отдувался, с сопением что-то долго доставал из кармана, наконец высек, чертыхаясь, огонь, раздул с натугой фитиль, посветил им, пригляделся и засветил одну за другой обе свечи, вперевалку обходя ради этого стол. Человек облачен был в стальную броню, какую в башне носит охрана, солдатская каска надвинута была на глаза, скрывая половину лица, но Мор в то же мгновенье признал своего нежданного посетителя и произнёс почти про себя:
— Это ты...
Стянув каску, которая была ему маловата, подозрительно озираясь вокруг, должно быть, ища подходящего места возле стола, чтобы сесть, тот тяжело отозвался:
— Как видишь.
Сунув каску в изножье постели, пытаясь сам распутать тесёмки брони, вновь чертыхаясь и морщась, тот проворчал:
— Помоги.
Поднявшись легко, распутав тугие ремни, философ с беззлобной усмешкой спросил:
— Зачем понадобился тебе карнавал? Ведь ты король, имеешь полное право идти куда хочешь.
Освободясь от слишком тесной брони, свалив её на постель рядом с каской, оставшись в старом потёртом лосином колете, переводя дух, тот пробурчал:
— На этот раз никто не должен проведать, что я нынче был у тебя, а право, верно, имею.
Присвистнул:
— Достоинство бережёшь.
Генрих бросил через плечо, уверенно направляясь к столу, точно заранее знал, что ужин приготовлен и ждёт:
— Честь короны, а не мою, ты это пойми.
Усмехнулся опять:
— Честь короны, как и частного человека, в добрых делах. Для чего же прятать доброе дело под каску?
Усевшись по-хозяйски за стол, обводя жадным взглядом нетронутые блюда, Генрих рассеянно процедил:
— Ещё неизвестно, что будет злом, а что будет добром, и потому до времени честь короны благоразумней припрятать под каску. Давай-ка лучше ужинать, Мор.
Отказался, не двигаясь с места, размышляя о том, зачем его величество прокрался к нему, точно вор:
— Отужинал я. — И с той же усмешкой прибавил: — Всё тайное в конце концов становится явным, не нынче, так завтра, не завтра, так через год.
Государь налил в обе чаши вина:
— В таком случае выпей, а тайное пока что останется тайным, ведь ты никому не расскажешь, что этой ночью я был у тебя, и я промолчу, будь уверен.
Напомнил спокойно:
— Тебя видела стража.
Генрих выпил с растяжкой, небольшими глотками полную чашу до дна и облизнулся со смаком, с насмешкой сказав, не взглянув на него:
— Для чего тебе жить, если ты не пьёшь такого вина? Тебе прислали самого лучшего. А что до стражи, о которой ты говоришь, так я шёл за начальника караула, проверяя посты, и даже ты меня не узнал, а уж на что наблюдательный глаз, не узнали и простые солдаты.
Засмеялся негромко, радуясь, что для шутки появился подходящий предлог:
— Вина я выпил немного, клянусь Геркулесом. Что до тебя, то старый солдат, ветеран, слишком часто видел тебя на смотрах и в походах, чтобы мог спутать фигуру твою с тощим, как копьё, лейтенантом.
Гость с добродушной улыбкой повёл рукой над блюдами:
— Оленина, две куропатки... Я тебя не пойму, такие лакомства оставил нетронутыми. А насчёт ветерана ты прав. Я о нём не подумал. Но ничего, завтра же прикажу снести ему голову вместе с твоей, если тебя не обеспокоит такая компания.
От неожиданности вздрогнул невольно всем телом, но с той же усмешкой сказал:
— Никакая компания не обеспокоит меня, однако сам рассуди, этак скорей догадаются, что дело неладно, станут доискиваться, тайное выйдет наружу. Лучше дай бедняге пару монет. Он выпьет здоровье своего короля и забудет, где, когда его видел. Выпить он любит, как я заметил.
Схватив куропатку, держа её за ноги, резко рванув, разломив пополам, жадно вцепившись зубами в остывшее мясо, Генрих прохрипел равнодушно:
— Чёрт с ним. Пусть живёт.
С сожалением произнёс, по-прежнему стоя поодаль:
— Как не хотелось бы мне, чтобы ты видел, с каким выражением станут потом говорить о тебе, подобно тому, как Эней говорит у Вергилия, когда, покрытый облаком, смешался с толпой карфагенян и увидел себя и деяния, свершённые им, изображёнными на ковре.
Мелко, быстро жуя, часто глотая большие куски, монарх огрызнулся, роняя белое мясо на стол изо рта:
— Так ведь мне всё равно, пусть меня именуют Кровавым, пожалуй, хоть Толстым, хоть чёрт знает кем, всё это вздор.
Легко рассмеялся:
— Тоже хороший урок.
Генрих тоже засмеялся прерывисто, мелко, с видимым удовольствием обгладывая тонкие кости:
— Это когда ещё будет-то... После меня... Уж я не помру от того, как меня прозовут...
Тогда напомнил серьёзно:
— Однако ты предстанешь перед Всевышним, и Всевышний за все твои добрые и злые дела по справедливости взыщет с тебя. Разве забыл?
Тот как ни в чём не бывало жевал, бросал кости, плевался:
— Помилуй, за что ж Всевышнему с меня взыскивать, если я только то, чем Сам он создал меня?
Схватил вторую, одним движением разорвал её за ноги и вдруг властно бросил ему, сверкая глазами:
— Лучше садись! Что стоишь? Садись да поближе! Неловко с тобой говорить!
Придвинув скамейку, простучавшую по каменным плитам неожиданно громко, Мор сел совсем близко, но с другой стороны, поставил локти на стол и ответил неторопливо:
— Нет, Генрих, тут Ты не прав. Всевышний создал тебя много лучше, как много лучше создавал и первого человека, но впоследствии ты изменился, как меняются многие, ибо обладание властью и собственностью не щадит никого, даже самых лучших из лучших.
Собеседник на мгновенье задумался, но всё же нашёл, что возразить:
— Власть и собственность созданы тоже не мной, а Всевышним. За что же мне перед Ним отвечать?
Мор снисходительно улыбнулся этой хитрости многих:
— Хорошо, власть и собственность даны Всевышним, думаю, нам на соблазн. Тем не менее Всевышний наделил нас правом выбора, и мы сами решаем, как нам поступить.
С прежней жадностью отрывая мясо зубами, так же мелко и быстро жуя, Генрих кивнул головой:
— На этот раз ты, может быть, прав. В самом деле, ответственность на мне чересчур велика. Ответственность за себя, за детей, за тебя, за солдата, за Англию, за будущее её, и я не всегда поступаю именно так, как бы хотел, но всегда так, как должен поступить имеющий власть, как принудили меня обстоятельства. По этой причине я, должно быть, сделался строже, грубей. Здоровье тоже слишком скоро стало уходить. Вот к тебе явился с поклоном, ибо из всех моих глупых лордов и прихвостней не сделаешь одного такого, как ты.
Невольно защемило в груди, и философ негромко, раздельно спросил:
— Зачем я тебе?
Перестав на мгновенье жевать, король в первый раз пристально поглядел на него, точно хотел допытаться, искренне ли говорил, и наконец рассмеялся невесело:
— Вся Европа твердит, что ты украшение Англии. Разве этого мало? А если всю правду сказать, так мне всегда интересно было с тобой. Ты честен, добр и умён, как никто.
Усмехнулся:
— Всего лишь для того, чтобы иногда потолковать со мной о Вергилие?
Генрих поморщился:
— Нет, уж как-нибудь обойдусь без твоих бесед о Вергилие, как они ни умны. Это все пустяки. В крайнем случае поговорю сам с собой...
Подняв свою чашу, для чего-то заглядывая в неё, Мор засмеялся, тоже невесело:
— Вот видишь.
Вдруг со злостью швырнув надкусанную ногу на блюдо, грозно сверкая выпуклыми стальными глазами, государь властно, решительно произнёс:
— Ты необходим мне для блага страны!
Спокойно напомнил:
— Ты знаешь, что благо Англии заключается, по моему убеждению, главным образом в справедливости, в равенстве, а что там ни говори, справедливости и равенства больше в монастырях, чем в миру, какие бы безобразия там ни творились.
— Опять за своё!
Ответил, приподняв свою чашу и сделав глоток:
— Что делать, меня тоже таким создал Всевышний.
Генрих ударил кулаком по столу:
— Меня бесит эта болтовня о равенстве, о справедливости, тем более в монастырях, которые прогнили давно! Простой народ грезит о них, сбитый с толку еретиками, здоровые мужчины уходят в монахи на разврат и на пьянство! Но ты! Что за бред!
Рассмеялся беспечно и поставил чашу на место:
— А между тем, лишь сделавшись действительно равными, люди перестанут страдать от несправедливости и унижений, как не страдают в монастырях от этих двух страшных зол, пусть теперь и случаются там названные тобой безобразия. При чём же тут ересь? Скажи ещё, что справедливость и равенство развратят людей и погубят страну.
— Вот я отрублю тебе голову, и ты тоже перестанешь страдать.
Спросил, приподнимая насмешливо брови:
— Для блага страны?
Генрих испытующе прищурил глаза:
— Чтобы ты поскорей убедился, что и по ту сторону тоже ни справедливости, ни равенства нет, что и там не воздаётся всем одинаково, а каждому по его добродетелям и грехам. Воздам и я.
Широко улыбнулся:
— Равные среди равных перестанут грешить, ибо некому станет завидовать, а зависть — хорошая почва для многих грехов, в том числе для убийства, не за что ненавидеть друг друга, а ненависть — ещё лучшая почва для многих грехов. По этой причине и по ту сторону станет воздаваться всем одинаково.
Гость с презрением рассмеялся:
— Э, полно тебе, найдётся всегда, кому позавидовать и за что ненавидеть, таков человек, таким его создал Всевышний. Неравными мы приходим сюда, неравными должны и уйти. Один родится красавцем, как Аполлон, и каждая баба грезит о нём наяву и во сне, а другой родится похожим на чёрта, словно бы сразу с рогами, и такого не любит никто. Один родится королём, другой его подданным. И так без конца. Уравняй имущества, этот всё равно не станет красавцем, а тот королём, и оба станут завидовать и возненавидят того, кто имеет право повелевать или счастлив в любви.
Возразил:
— Давай сначала восстановим справедливость и уравняем имущества, а потом поглядим, кто кому станет завидовать и кто кого ненавидеть.
Увлекаясь всё больше, враждебно сдвинув жидковатые брови, пристукивая по краю стола тугим кулаком, Генрих продолжал сердито и резко:
— Разве этим ты уравняешь умы? Один умён, другой глуп, разве этакую шутку природы чем-нибудь можно поправить? Разве мне, королю, равен этот солдат, который всю ночь не спит, не должен спать на часах? Если бы у него нашлось хотя бы малость ума и отваги, я давно произвёл бы его в офицеры и прибавил бы жалованье, но он способен только на то, чтобы полоснуть тебя по горлу ножом, да и то не по охоте своей, а если я ему прикажу.
С сожалением произнёс:
— Его старший брат ходил в школу и стал проповедником, а этот мальчишкой бежал из дома от несправедливого, придирчивого отца и вынужден был наняться в солдаты, как мог бы наняться в матросы или пойти в подмастерья. Следует вывод, если ты не позабыл ещё правила логики, что образованием пробуждается и формируется ум, что без образования не бывает никакого ума, что несправедливость губит людей и что солдатская служба даже из умных формирует тупиц.
Придвигаясь к нему всем своим тучным телом, властно глядя ему прямо в глаза, монарх отозвался хрипло и зло:
— Да ты сам спроси у него, чего хочет он? И все они, все, кого ты намерен взять под защиту, о чём благе считаешь своим долгом печься, желают ли эти люди хлебнуть хвалёного равенства твоего? Так ведь нет же, ведь нет! Одни отступники, еретики и заражённые бреднями их. Все прочие жаждут быть лучше, встать выше других. Сопливый мальчишка, перед тем как подраться с таким же сопляком, не зная, чем тому досадить, во всё горло вопит, что его отец получше других, а у старшего брата такой конь, такое седло, какого ни у кого не бывало на свете. У них своя и непобедимая логика. Ничтожества и уважают только того, кто лучше и выше всех остальных, заметь, не образованием, не умом, но богатством и властью, или по крайней мере боятся его. Им золото, золото подавай, целые горы. Ради золота они вечно режут глотки друг другу и топчут того, кто не сумел подняться до них и остался ни с чем.
Покачал головой:
— И ради золота ты упраздняешь монастыри? И не боишься, что против тебя восстанет народ?
Генрих так поспешно налил вина, что плеснул мимо чаши:
— Ты помнишь, когда умер отец? Он был тираном и скрягой. Одни его не любили, другие ненавидели, и придворные, и лорды, и торговые люди, и простой народ, которому досаждал он большими налогами. Я тогда бунта боялся, скрылся в Тауэр, окружённый преданными войсками, а ведь ничего не случилось, всё обошлось, и я понял тогда, что правителю важней быть не справедливым, не честным, не ровней солдату и подмастерью, но сильным, сильным прежде всего. Сильного порой ненавидят. Пусть так. Однако же против сильного никто не решится пойти. И не пойдёт!
Пропуская сквозь кулак жидкую бороду, с грустью смотрел, как государь оправдывал себя перед собой, перед ним, вместо того чтобы строго судить, как завещал нам Господь:
— А ведь начал ты тогда справедливостью. За то многие полюбили тебя, надеялись, что ты сделаешь Англию благополучной, счастливой. Ты этого ещё не забыл? Или память сделалась у тебя коротка?
Генрих посмотрел на него с недоверием, видимо, и в самом деле забыв, с чего тогда начал править страной:
— Какой справедливостью? Ты о чём?
Напомнил негромко:
— Ты объявил всем амнистию и заточил в тюрьму тех, кто накапливал для твоего отца богатства и укреплял его власть. После этого я поверил в тебя. Думаю, ты был таким потому, что тебя с детства готовили не к власти, а к духовной карьере, если бы твой болезненный брат не умер так рано, ты бы постригся в монахи и был бы теперь кардиналом. Ничего важней и значительней нет, чем подобное воспитание, ибо оно пробуждает совесть и делает душу отзывчивей, мягче, добрей. Совесть, верная совесть и по сей день не заглохла в тебе. По этой причине ты здесь, по этой причине кричишь на меня. Нынче ты сеешь распрю в стране ради монастырских земель, которые возьмёшь и насытишь казну, и тем поднимаешь людей друг на друга за старую и новую веру. И вот сознаешь, как я вижу, что поступаешь нехорошо.
Монарх выпил вино торопясь и давясь, выхватил из-за пояса тонкий кинжал, одним сильным движением отхватил от оленины толстый кусок, воткнул с прежней жадностью в рот, точно с утра не ел ничего, у самых губ решительно отрезал кинжалом и, жуя и облизываясь, бросил:
— Это опасно, ты прав, однако у меня теперь сильная армия, а самым беспокойным я брошу аббатство-другое и тем успокою еретиков.
Сухо сказал:
— И Англия так же впадёт в ничтожество, как в ничтожество впала Германия после недавней религиозной войны. Помнишь, я тебе говорил, что в снегах Тоутона откопали двадцать восемь тысяч убитых. А сколько подданных у тебя? Около трёх миллионов? Эти три миллиона сидят на земле, работают в мастерских, пашут и сеют, выращивают коров и овец, прядут шерсть и выделывают сукно, сами кормят себя и кормят тех, кто не пашет, не жнёт и не делает ничего. И вот я не хочу, чтобы они убивали друг друга, как это делали разъярённые немцы, не хочу, чтобы после этой резни ты превратился в Ричарда Третьего.
Генрих отрезал кинжалом новый кусок:
— Я не Ричард. Я Генрих. Однако и моя воля должна быть законом для всех.
Возразил:
— На сей раз это слишком неразумная, слишком жестокая воля.
— Неразумная и жестокая? Пусть так! Главное в том, что мне эти земли необходимы!
Сдерживая себя, прикрывши, точно в раздумье, глаза, посоветовал тихо:
— Вспомни Глостера, путь к власти устлавшего трупами, чтобы под именем Ричарда Третьего навязывать всем неразумную, жестокую волю. У него достало духу на преступленье, а после преступления лишился покоя навек и уже никогда не чувствовал себя в безопасности, страшился кинжала и яда. Выходя из дома, всегда озирался по сторонам, руку держал на рукояти меча, вечно чувствовал себя разбитым, больным, не спал по ночам, лишь урывками понемногу дремал, лишь бы быть всегда начеку, прислушивался к малейшему шороху, даже к пробегающей мыши. Разве решился бы он явиться ко мне в одиночку? Зачем же ты сам себе готовишь подобную муку?
Генрих с силой вонзил остриё кинжала в крышку стола и угрожающе крикнул:
— Он хотел власти только ради себя, ради своего самолюбия, лишь бы возвыситься над людьми, унижавшими его, а я жажду ещё большей власти на благо Англии! Почему ты не хочешь этого знать?
Язвительно усмехнулся:
— Какой тиран не клянётся благом страны, которую стремится поработить? Право, Генрих, это смешно.
У короля дрожало лицо:
— Пусть я тиран, но тоже клянусь, что с меня, попомни, с меня начнётся величие Англии! Доходы монастырей идут в Рим или на обжорство и пьянство монахов! Я отдам их земли новым владельцам. Они их вспашут, засеют и вырастят хлеб, коров и овец. Своими трудами обогатят не только мою казну, но и Англию! Англия станет могучей и властной! Ей покорятся моря, покорятся новые земли! Её товарами наполнятся все европейские рынки! Английский язык распространится шире латинского в прежние времена, шире испанского, который нынче услышишь в Неаполе, в Риме, в Париже и Амстердаме! Я везде хочу слышать английскую речь!
Рассмеялся неожиданно, громко, но сухо:
— Прости, что перебил твою страстную речь, но меня удивляет, что она так долго доставляет тебе удовольствие. Не хватает только короны Плантагенетов. Ты лучше скажи, тебе-то зачем такое величие?
Генрих оскалил зубы и твёрдо ответил, выдёргивая остриё кинжала из крышки стола:
— Мне, может быть, и не надо, как давно уже не надо короны Плантагенетов, ею не в первый раз ты укоряешь меня. Я хочу, чтобы каждый британец почувствовал себя человеком достойным, а он лишь тогда почувствует это, когда Британия станет великой державой! Мы должны запереть Ла-Манш для начала и вытеснить из Фландрии испанскую шерсть!
Не спросил — сказал утвердительно:
— Из этого следует, что ты не намерен остановить огораживания, и наши фермеры по-прежнему будут лишаться земли по произволу владельца.
Собеседник отмахнулся, играя кинжалом, лезвие посверкивало в свете свечей:
— Тебе известно не хуже меня, что владельцы земли в этих случаях действуют согласно закону, по нему земля принадлежит им и они могут делать с ней, что захотят, и я, как тебе тоже известно, не имею никакого права запретить им пользоваться землёй так, как выгодно им.
Возразил:
— Кроме закона, которым охраняется выгода, есть ещё закон совести, который воспрещает сгонять с земли кормильца жены, кормильца детей.
Генрих усмехнулся и резким движением вложил в простые солдатские ножны кинжал:
— Никакой закон совести не может отменить закон выгоды, полно тебе, ибо правит миром не совесть, а выгода. Закон выгоды есть закон жизни. Когда я вступил на престол, мы вывозили во Фландрию шерсти восемь тысяч тюков, вскоре только пять тысяч, нынче лишь три с половиной, а при короле Эдуарде Третьем, полтора века назад, ты только подумай, целых тридцать тысяч тюков. Вот он, закон выгоды: мы меньше вывозим, нас вытесняют с европейского рынка испанцы, потому что испанцы производят более тонкую шерсть, и мы от этого становимся всё слабей и слабей. За прошедшие полтора века торговые люди набили кубышки, однако они бережливы, на себя не тратят почти ничего. Им некуда вкладывать капитал. Капитал лежит без движения, тогда как ещё римляне знали, что это чрезвычайно вредно для хозяйства страны. Это тебе ещё один новый закон: пусть вкладывают капиталы в монастырские земли, которые станут благодаря мне свободными и войдут в хозяйство страны, пусть сами выращивают овец, пусть обогащают Англию и её короля.
Спросил, наблюдая невидящим взглядом, как неприметно для глаз оплывает свеча, и невольно морщился от неяркого света:
— И сколько же понадобится этих земель, что освобождаются не от камней или пней, а от монахов и пахарей, вечных молельщиков и вечных кормильцев земли?
Государь ответил неторопливо, прищуривая стальные глаза, твёрдо глядя перед собой, мимо света свечи:
— Наконец удалось мне объединить светскую и духовную власть. От этого в первую очередь богаче сделаюсь я, ибо отныне не Римский Папа, воинственный и распутный, а я назначаю на все церковные должности, и все желающие их получить платят за них не Римскому Папе, а мне, своему королю, и доходы первого года тоже отчисляются мне, а не Риму, и десятина тоже попадает ко мне, а не к святому отцу. Это не считая золота монастырей и соборов, сотни лет обиравших английский народ. Я, как ты знаешь, Лютеру враг, был и остался, а всё-таки Лютер верно сказал, что если неистовое бешенство римских попов будет продолжаться и далее, князьям и королям придётся прибегнуть к силе оружия, снарядиться и напасть на этих вредных людей, которые отравляют весь мир, и раз навсегда мечом, не речами положить конец их безбожной игре.
Покачал головой:
— Нет ни малейшей справедливости в том, чтобы отбирать у одних и брать другим то, что отобрано силой.
— Всё зависит от того, у кого отбирать и кто отобрал. Лютер был прав, рассуждая о том, что если мы караем воров топором палача, убийц — верёвкой, а еретиков — огнём, то тем скорее должны напасть на этих вредоносных учителей пагубы, на пап, кардиналов, епископов и всю прочую свору Содома, что нынче находится в Риме, напасть и омыть наши руки в крови.
Вскинул голову и негодующе перебил:
— Правителю подобает о том заботиться всего более, чтобы хорошо и привольно было народу, а не ему самому. Хороший правитель — это пастух, на обязанности которого питать стада коров и овец, а не себя самого. Нищета народа не служит надёжной охраной мира в стране. Где можно найти больше ссор, как не среди собирателей милостыни, даже в священных местах? Кто чаще стремится к перевороту, как не тот, кому нечего терять и кому по этой причине существующий строй жизни не нравится? У кого проявляются более дерзкие порывы привести все дела в замешательство с надеждой откуда-нибудь поживиться, как не у того, кто не владеет ничем, тогда как немногие владеют многим? Поэтому если правитель вызывает у подданных такое презрение или ненависть, что может удержать их в повиновении, только оскорбляя достоинство и вековечные святыни народа, а также ложью и грабежом, тем самым доведя народ свой до нищеты, ибо народу едино, в чей карман потекут поборы на церковь, такому правителю лучше добровольно отказаться от власти, чем удерживать её этими средствами, с помощью которых он хоть и сохраняет свой титул, однако теряет доверие, хуже того — величие. Нет, несовместимо с достоинством проявлять свою власть над людьми обездоленными, над нищими. Скорей достойно проявлять её над людьми достаточными, зажиточными. И, само собой разумеется, несовместимо с достоинством допускать, чтобы немногие жили среди изобилия самых разнузданных удовольствий и наслаждений, а многие стонали и плакали без пищи и крова. Это значит быть сторожем не государства, но одной общей тюрьмы. Нет, я вновь повторяю тебе, правитель должен, никому не вредя, жить на свои личные средства, сводить расход с приходом, обуздывать злодеяния, предупреждая их правильным наставлением, и способствовать обогащению бедных, а не богатых.
Генрих продолжал с невозмутимым лицом, однако щурясь всё больше, сверля иглами выпуклых глаз:
— Ты нетерпелив и некстати перебиваешь меня. До злодеяний мы ещё доберёмся, пожалуй, а пока я хочу, чтобы ты понял как следует, что монастырские земли по праву реформы тоже достанутся мне и что они прежде всего обратятся в пастбища для коров и овец.
Воскликнул, с трудом сдержав гнев:
— Вот, стало быть, как ты рассчитал свои выгоды? А понял ли ты, этой реформой обретаешь ещё десятки тысяч бездомных, бесхлебных бродяг, что станут грабить и убивать, лишь бы снискать себе пропитание?
Король поднял едва приметные рыжеватые брови:
— Каким это образом?
Разъяснил, торопливо дыша, перегибаясь через стол:
— Очень простым способом, Генрих, самым простым! Неужели тебе об этом никто не сказал и ты не додумался сам? Ведь монастырские земли кормят десятки тысяч монахов, которые возделывают их, иногда сами в поте лица, иногда арендаторами, но тоже в поте лица.
— Вот и отлично. Неужели тебе неизвестно, что мне нужны моряки?
— У тебя почти не имеется ни военного, ни торгового флота, какой есть у Венеции, Испании и даже Голландии. Как же ты сможешь всех этих бездомных, бесхлебных бродяг принять на королевскую службу?
— Да ведь не обязательно всех этих бездельников принимать на королевскую службу. Нынче на морях добычи хватает на всех. Испанские галеоны везут американское золото сотнями фунтов, и мои молодцы сами строят небольшие суда, выходят из моих портов под честнейшим купеческим флагом, а в открытом море меняют его на другой и возвращаются к родным берегам зажиточными людьми. Чем не служба для здоровых, крепких мужчин, а других в монастырях я редко видал.
С презрением выдавил из себя:
— Генрих, Генрих! Ведь ты сознательно толкаешь своих подданных на морской разбой и грабёж!
— Полно тебе, Томас. Ты подобен младенцу. Ведь мои подданные в таком случае грабят испанцев, наших заклятых врагов, те, в свою очередь, без пощады и совести грабят американские племена. Если хочешь, можно сказать, что мои подданные всего лишь восстанавливают попранную испанцами справедливость и расчищают нам морские пути, чтобы мы, а не они, стали на них господами.
Усмехнулся устало:
— Попранная справедливость восстанавливалась бы только в том случае, если бы твои подданные возвращали награбленное тем, кто ограблен.
Генрих, запрокинув голову, визгливо захохотал:
— Эк, чего захотел! Разве это возможно? Да и кому отдавать? Ведь ограбленные чаще всего истреблены все до единого!
Покачал головой:
— Грабители грабят грабителей. Пусть так. Но ведь и самый маленький корабль стоит денег, и для того, чтобы построить его, одни твои подданные грабят других твоих подданных уже на английской земле, и по этой причине все дороги нынче не безопасны, да и ночные улицы тоже.
Король выбрал яблоко и держал перед собой на весу на раскрытой ладони:
— В этом ты прав, я согласен. Пора изменить закон о ворах и бродягах. Я вижу, им мало плетей, когда их уличают в бродяжничестве. Что ж, если их во второй раз уличат в том же самом, я прикажу резать уши, в добавление, разумеется, к новым плетям, а на третий пусть вешают их сушиться на солнышке, так-то будет верней.
Вспыхнул:
— И без того наказание заходит за грань справедливости и вредно для блага страны. Простая кража не стоит головы, скорее головы стоит кража большая, ведь одни крадут кусок хлеба, а другие целое состояние. Ни одно наказание не является настолько сильным, чтобы удержать от разбоя тех, у кого нет других способов пропитания и кто оскорблён и испорчен видом богатства, которое почему-то досталось не ему, а другим, как не удержит и тех, кто крадёт состояние единственно оттого, что алчность его ненасытна. Ты бы лучше не подражал дурным педагогам, что чем хуже учат, тем охотней секут. Ты бы лучше унял алчность одних и предоставил все средства к жизни другим, чтобы не стало жестокой необходимости красть и за покражу платить головой.
Генрих с треском разломил яблоко и легко обронил:
— Ты в одном только прав: крадут, к несчастью, не только бродяги.
Подхватил, всё ещё надеясь на что-то:
— Вот именно! Я сотни раз повторял, что ещё больше воруют те, кто купается в роскоши, и те, кто обманут, эти праздные трутни, пристроенные у тебя при дворе или сытые трудом и заслугой отцов. Согласись, что трудно на всё это хладнокровно глядеть, не имея чем накормить голодных детей. Недаром очень у многих, не получивших верного воспитания, возникает законный вопрос, отчего так сытно и весело живут не они, ничем не худшие тех, кто пресыщен, кто не знает чем развлечься от скуки.
Монарх выбрал большую половину и с удовольствием принялся за неё, отмахнувшись небрежно:
— Пусть работают в поте лица, как завещал нам Христос, если не смогли отличиться заслугами, или отправляются в море.
Изумился:
— Где ты видел, чтобы, трудясь в поте лица, кто-нибудь приобрёл столько же, сколько твой секретарь? Это вздор. Никаким трудом не разбогатеешь, эта истина известна и последнему дураку. У кого ещё совесть крепка, тот кое-как удержится на честном пути и в достойной бедности протянет до смертного часа, в котором волен Господь, однако слишком многих легко развращают примеры бесчестья, они тоже лезут наверх, если не подлостью, то преступлением, лишь бы жить не хуже, а лучше других. И сколько ты ни усердствуй в исправлении следствия, до той поры не поможет ничто, пока существует причина, как нас учил Аристотель, то есть, другими словами, пока один не перестанет быть богаче другого. У нас дают никуда не годное воспитание, портят младенца с его первых дней, разжигают алчность, не сдерживают стремление к роскоши, а признают достойным наказания только тогда, когда он, в зрелом возрасте, решается на злое дело, хотя его позорный конец можно было бы предвидеть с самого детства. Мы сами создаём воров и убийц, а потом без жалости, без снисхождения расправляемся с ними, точно они прокажённые.
Обводя блестевшими глазами почти опустошённый поднос, его величество размышлял, чем бы ещё полакомиться, небрежно цедя:
— Законы против воров и бродяг с готовностью утверждает парламент, с удовлетворением встречает страна, потому что они полезны всем тем, кто не ворует, а этих, согласись, большинство.
Иронически подтвердил:
— С этим я соглашусь. Однако ведь это безнравственно, и страна привыкает находить нравственность там, где её нет и быть не могло.
Генрих, отдуваясь, ответил:
— Всё вздор. Я должен думать только о том, что полезно и для меня и для многих.
Развёл, улыбаясь, руками:
— Ну что ж, как видишь, в таком случае о нравственности приходится заботиться мне.
Грузно привстав, толкнув под собой табурет, посетитель подсел поближе:
— Ладно, довольно язвить. Ведь всё это время мы с тобой хорошо дополняли друг друга. Заботься о нравственности, сколько возможно, коль охота пришла, и не мешай мне думать о пользе, сам хоть самую малость думай о ней да помогай мне добрым советом, ибо у тебя и в самом деле самая светлая голова во всём королевстве, а я обещаю вспоминать иногда и о нравственности.
С насмешкой спросил:
— И, помня о нравственности, конфискуешь монастырские земли единственно ради того, чтобы наполнить казну и насытить ненасытных придворных?
— Ещё раз напоминаю тебе, что советовал делать против этих извергов Лютер. Также нельзя не принять во внимание то, что германские мужики, бунтовавшие во многих местах, сотни монастырей разграбили и сожгли. Видишь сам, как их не любит народ.
Угрюмо спросил:
— И по этой причине ты делаешь вид, что встаёшь на защиту его?
В стальных глазах вспыхнул медный огонь торжества:
— Именно потому. На этот раз ты угадал.
Негромко проговорил, относя приговор скорее к опрометчиво говорившему Лютеру:
— Безумец.
Генрих укоризненно возразил:
— Однако народ по-своему прав, ибо безнравственно допускать, чтобы святые истины проповедовали именно те, кто погряз в пороке, во лжи. Да ты сам взгляни-ка на них беспристрастно и не сможешь не согласиться, что ничего нет вреднее, чем подобное осквернение истины и святынь. Они больше всех вводят в соблазн и толкают на грехопадение.
Смотрел в торжествующие глаза Генриха не мигая:
— Да, с этим я соглашусь, но не соглашусь никогда, что безнравственность пресечётся оружием. Нет, безнравственность их пресечётся словом правды и разума, Лютер и сам это понял позднее, увидев родину в раздорах, в пожарищах и в крови, и сам, уже безуспешно, твердил о необходимости возрождения, которое возможно утвердить только словом.
Государь взмахнул небрежно рукой:
— Полно, кому какое дело до слов? Да они ересью объявляют любые слова, если слова почему-либо не нравятся им, и отправляют голубчика на костёр. Потому-то в борьбе за нравственность, кроме оружия, нет иных средств. Я же не поднимаю оружия. Я упраздняю монастыри, и монахов больше не будет, ни нравственных, ни безнравственных, никаких.
— И ты ещё этим гордишься.
— Конечно, горжусь, ибо никто из нынешних государей Европы не решился таким простым способом реформировать церковь, как я, мужества недостало у них, трусы они, почему же мне не гордиться собой?
— Твоя реформа может кончиться мятежом.
— Ты, по-моему, плохо знаешь народ, о котором так усердно хлопочешь. Народ привык повиноваться из поколения в поколение и не владеет оружием, и ему не поможет никто, ибо понемногу все живут трудами и потом его и ссорятся между собой, всякий имея в этой жизни свой интерес, стоя поперёк дороги друг другу, лишь бы как можно больше урвать от этого пота, от этих трудов, и во всей этой путанице интересов и выгод лишь я один обладаю организованной силой, и, никогда не забывая об этом, страшась бунта не меньше, чем я, меня поддержат города и дворяне, им я дам кое-что из монастырских земель.
Сказал:
— Народ объединяет общая ненависть и общая вера.
Генрих возразил не мигая:
— Народ сам жаждет иметь дешёвую церковь без монахов и папы, я и даю дешёвую церковь без монахов и папы, с чего же станет он бунтовать? Это ты упрямством своим толкаешь к бунту народ, именно тем, что парламент взял тебя под защиту несколько раз, а церковь предлагала в дар тебе немалые деньги.
Напомнил:
— Я отказался от них.
Король скривил иронично губы:
— Ты один отказываешься от всего в этой стране, однако же деньги тебе предлагали, а это значит, что церковные власти против меня и станут сопротивляться, пока ты не умрёшь или не примешь моей стороны. Я в последний раз предлагаю тебе повиниться завтра передо мной, чтобы церковные власти не бунтовали народ и народ оставался спокойным.
— Кроме дешёвой церкви без монахов и папы, народ мечтает о равенстве, как оно ещё первыми христианами было заведено, о равенстве имущественном, братстве духовном. Без такого равенства, без такого братства народ не представляет себе ни справедливости, ни даже порядка. Без такого равенства, без такого братства полностью он не покорится никогда никаким королям. И придёт час, попомни меня, когда он восстанет на монархов во имя жизни на земле по законам Христа.
Государь властно отрезал:
— Равенства и братства я не дам никому! И никто!
Улыбнулся:
— Мне стыдно было бы жить, если бы я с тобой согласился.
Генрих потупился, размышляя о чём-то, ворча:
— Ну что ж... воля твоя...
Видимо, больше ничего не придумав, поднялся, отшвырнув здоровой ногой табурет, шагнул тяжело и поднял лежавшую на постели броню:
— Помоги мне. Это в последний раз.
Мор молча затянул ремни на броне.
Нахлобучивши каску, Генрих, дрогнув голосом, произнёс:
— Прощай, Томас. Мне всё-таки жаль. Мне будет тебя не хватать.
Философ спокойно ответил:
— Прощай.
Генрих вышел, больше обычного припадая на правую ногу, раздувшийся, грузный, с опущенной головой.
Узник лёг и тотчас уснул.
Глава двадцать шестая РАЗВЛЕЧЕНИЕ
Луна была справа. Она побледнела и мёртвым светом серебрила крыши домов. В узких улочках было темно. В часы тяжёлых раздумий, в часы нестерпимого одиночества Генрих любил ночные прогулки. Он тихо крался вдоль стен и внезапным появлением пугал одиноких прохожих, которые шарахались в сторону, принимая его за бандита, и он смеялся им вслед. Зашёл в кабак с головой дикого кабана вместо вывески, что первым попался ему на пути. Светильня, брошенная в миску с маслом, тускло светила. Несколько пьяных молча сидели в углу, должно быть, уже не в силах подняться. Кабатчик мирно дремал. Король развязал кошелёк, долго звенел в нём монетами и заказал кружку пива. На звон монет никто не поднял головы. Кабатчик, очнувшись, нацедил ему пива и, казалось, снова уснул. Генрих выпил только до половины, ещё раз позвенел в кошельке и продолжал свой обычный обход.
В двух или трёх кабаках было то же. Только в четвёртом, ближе к окраине, было густо от винных паров и табачного дыма. Огонь светильни дымил и дрожал. Запоздалые пьяницы сидели за всеми столами и стояли у стойки, но пили немногие, верно, успев пропить последнее пенни. Его величество, как всегда, остановился у стойки, у всех на глазах развязал кошелёк, долго звенел, перебирая монеты, и спросил пива. Кое-кто шевельнулся, повернул голову и уставился в его широкую спину. Генрих чувствовал пьяные взгляды. Они веселили его. Пил пиво небольшими глотками и делал между ними большой перерыв. За его спиной послышалось ворчанье и шум. Государь напрягся, но продолжал стоять как ни в чём не бывало, только рука, державшая кружку, нервно дрожала, и он поставил её. За спиной послышались шаги, тяжёлые, но осторожные. Вдруг чья-то рука тронула его за плечо и грубый голос сказал:
— Что, приятель, как видно, разбогател. Так угощай честную компанию.
Монарх не оборачивался и напряжённо молчал.
Рука надавила плечо:
— Тебе что говорят! Ты глухой?
Тогда повернулся проворно и хлёстко ударил в челюсть справа и вверх, как его ещё в юные годы учил наставник по рукопашной борьбе. Крепыш в густой бороде повалился как сноп и затих. Человек двадцать надвинулись на него, стоя плечо в плечо, сверкая злыми глазами, готовые броситься. Выхватил из ножен кинжал и приказал негромко, но грозно:
— Назад. — И вдруг крикнул: — Назад! Я — король!
Толпа невольно сделала шаг назад.
Кабатчик неприметно выбрался из-за стойки, выскользнул вон, ударил в колокол, висевший на этот случай над дверью, и завизжал:
— Стража! Стража! Сюда!
Казалось, чернь зарычала, как дикий зверь, готовый броситься и разорвать на куски. Генрих не двигался и прикидывал, как на охоте, кого первого свалит ударом кинжала под самые рёбра, кто будет вторым.
Кабатчик вопил:
— Эй, стража, стража! Сюда!
Толпа двинулась и вдруг застыла на месте.
Раздался цокот копыт и тяжёлая поступь солдатских сапог. Кто-то спрыгнул с седла и, подавая, видимо, повод, сказал:
— Подержи.
Вошёл офицер, в кирасе и каске, совсем молодой. Двое копейщиков застыли у входа. Люди расступились. Офицер вздрогнул, вытянулся и отдал честь:
— К вашим услугам, милорд!
Испуганное сборище отступило и вжалось в углы. Генрих вложил кинжал в ножны, швырнул кабатчику золотую монету и молча вышел на воздух.
Луна ушла за дома. Факел пылал в руке стражника.
Офицер подбежал сзади и растерянно спросил несколько раз:
— Прикажете взять?
Генрих бросил через плечо:
— Оставь.
Офицер подскочил, схватился за стремя. Кто-то поддержал его сзади. Генрих тяжело поднялся в седло и молча тронул коня. Офицер вёл его под уздцы. Сзади шагали копейщики.
Король спешился у ограды дворца и молча вошёл в потайную калитку.
Офицер пробормотал ему в спину:
— К вашим услугам, милорд...
Генрих сделал вид, что проверяет посты, проскользнул во дворец, и никем не замеченный, проскользнул в свою спальню.
Рыжая голова приподнялась с подушки навстречу ему.
Он быстро разделся и лёг.
Глава двадцать седьмая БОРОДА НЕ ВИНОВАТА
Его осторожно тронули за плечо.
Мор разлепил припухшие веки и молча смотрел, позабыв обо всём за время короткого, но глубокого сна, неторопливо пытаясь понять, что в этот раз понадобилось от него и что ему надо ответить.
Стоя перед ним, Томас Поп, нестарый чиновник канцлерского суда, сильно располневший на службе, добродушный и вялый, не любивший ходить, с вытянутым, до смешного серьёзным лицом, сказал прерывающимся голосом:
— Готовьтесь, мастер... в девять часов...
Колокол где-то близко ударил, мерным гулом призывая к первой молитве. В то же мгновение узник вспомнил, что ожидало его, смешался на миг и облегчённо вздохнул:
— Спасибо, мой друг.
Подслеповато помигивая небольшими глазами, старательно сохраняя достоинство стража порядка, нагнувшись почти к самому уху, поп многозначительно прошептал, выдавая королевскую тайну:
— Вам не придётся шествовать в Тайберн, мастер. Повелением его величества вам лишь отрубят голову здесь, на площади Тауэра. Король милостив. Благодарите его.
Философ тотчас сел, точно его подбросила какая-то сила, и воскликнул, не скрывая насмешки:
— Избавь, Господи, друзей моих от такого милосердия!
Отшатываясь от него, как от чумного, с недоумением на добром круглом лице, чиновник заключил торопливо, точно страшился ответить за чужие слова:
— Правда, вы должны помнить, что вам запрещается обращаться с речью к народу.
Припомнив ночную беседу, которая, возможно, была, возможно, только приснилась ему, Мор с живостью повернулся и воззрился удивлённо на маленький, грубо сколоченный стол. На столе не было ни свечей, ни подноса, ни чаш, ни кувшина с вином, ни остатков еды. Лицо его стало испуганным, шагнул вперёд и негромко спросил:
— Совсем ничего?
Опустив голову, виновато топчась перед ним, поп подтвердил:
— Ни слова, мастер, нельзя. Строжайшее повеление его величества.
Мыслитель сокрушённо покачал головой, исподтишка поглядывая на огорчённого чиновника:
— Что ж, я повинуюсь и замолчу навсегда. А пока, мой друг, прикажите умыться.
Поп нехотя сделал несколько ленивых шагов, с усилием приоткрыл тяжёлую, обитую железными полосами крест-накрест дверь и кому-то кивнул головой. Длинноносый служитель с непроспавшимся мутным лицом внёс небольшой медный таз и кувшин, похожий на тот, в котором вечером было вино, пошатываясь на каждом шагу, вероятно, с вечера всё ещё пьяный. Пленник скинул с себя поношенный, но всё ещё крепкий камзол простого сукна и подал ему:
— Вот ещё одна вещь тебе за труды.
Придвинув ногой табурет, почти уронив на него никогда не чищенный таз, служитель принял камзол свободной рукой, привычно вскинул себе на плечо и стал поливать из кувшина, недовольно ворча, открывая пустые желтоватые десны и нездоровый язык:
— Верхняя одежда казнённого принадлежит мне по праву. Это немного для бедных людей, уж поверьте. Бывают среди них иногда и такие, что оставляют бедным людям и ещё кое-что, на пропитанье жены и малых детей.
Отфыркиваясь, плеща в лицо холодной водой, развлекаясь невинной торговлей того, кто оставался, впрочем, только на время, с тем, кто нынешним утром уходил навсегда, Мор с лёгкостью пообещал:
— Хорошо, я дам тебе пенс.
Сунув в грязную воду ненужный кувшин, подавая ему холщовое полотенце, хитро прищурив похмельные зеленоватые глазки старого жулика, малым даянием оскорблённый, служитель недовольно ворчал:
— Одного пенса, конечно, хватит на пиво в кабачке за углом, однако, мастер, одним пивом, как вы должны знать, сыт не будешь, а вино поднимается в цене день ото дня, бедному человеку из убытка в убыток.
Бросив на руки ему полотенце, Мор сунул руку в карман:
— Вот тебе два. Выпей вина.
Бросив в таз полотенце, с камзолом, переброшенным через плечо, служитель нехотя улыбнулся и, ещё более недовольный, сказал:
— Благодарствуйте, мастер. Какое вино?
Стоя в чистой белой рубашке, принесённой вечером Дороти, в чёрном суконном жилете, приглаживая ладонями отросшие волосы, философ мягко сказал:
— Прости меня, брат, но больше у меня ничего не осталось. Король взял всё, что мог.
Служитель потоптался на месте и со значительным выражением засветившихся жадностью глаз уставился на простой, потёртый жилет.
Поймав его алчущий взгляд, узник засмеялся и понимающе подмигнул:
— Ещё раз прости меня, брат, но жилет свой подарить тебе не могу. Чего доброго, простужусь без него, утро, кажется, свежее. К тому же, к курносой, я полагаю, подобает выйти в виде пристойном.
Надувая влажные губы, Поп извиняющимся голосом приказал:
— Поспеши.
Служитель мешковато, придерживая ухом сползавший камзол, достал из-за пояса длинные ножницы, вроде тех, какие употребляют для стрижки овец, попросил его поворотиться спиной и молча вырезал, как-то медлительно, сухо, с усилием щёлкая ржавыми лезвиями, со спины ворот рубахи, потом срезал и волосы на затылке, больно дёргая их. Когда приготовления были закончены, оба вышли. Мор остался один и стал ждать.
Тем не менее, что до крайности удивило, чувствовал себя нынче лучше, чем вчера. Что за притча? Почему? Отчего? Может быть, потому, что нынче утром всё было кончено, насовсем решено. Пути назад не осталось. Прямая дорога лежала только вперёд, и пройти по ней оставалось очень немного, он же был твёрдо уверен, что выдержит всё с достоинством, пугало больше всего, как бы в эти самые трудные, самые последние двадцать или тридцать минут ожидания старая воля не изменила.
Мор то ложился, ощущая голым затылком холодок плоской, набитой шерстью подушки, то вновь нервно вставал, не находя, чем бы занять праздную мысль. Наконец стал представлять себе то, что предстояло, мысленно видел серую площадь перед собой и серых, угрюмо молчавших людей, вымеривал каждый шаг под пристальным взглядом праздной толпы, сотни раз проходил сквозь широкий проход, оставленный среди неподвижных людей, ступая размеренно, с холодным лицом, с лихорадочно бьющимся сердцем, и с содроганием поднимался на эшафот, затянутый крепом.
Как будто всё получалось как надо, как должно было быть, но снова и снова мысленно прослеживал отчаянный, напоследок доставшийся путь.
Впустили священника в чёрной сутане с белым квадратным воротником, с покрасневшими, может быть от бессонницы, веками, с сухим сероватым лицом, с круглой ямкой на выступающем вперёд подбородке, с потёртым казённым Евангелием в левой руке, с ровным заученным голосом:
— Сын мой, время пришло тебе душу свою раскрыть перед Господом...
Приговорённый поднялся, неподвижно встал перед ним и спокойно сказал:
— Господь простит мне прегрешения.
Священник настойчиво произнёс:
— Оставьте грех гордыни, сын мой...
С мягкой твёрдостью повторил:
— Господь простит сам.
Его вывели наконец.
По бокам шагало двое солдат в сверкающих касках и в панцирях, выступавших ребром на груди, точно им предстояло сражаться с врагом.
Лейтенант шествовал сзади.
Июльское утро было тёплым и светлым. Яркое солнце било прямо в лицо. Воздух был прозрачен и свеж. Мягкий ветер нёс запах зелени и цветов с недалёких лугов, омытых коротким вечерним дождём. Ярко блестели истёртые временем камни двора. Беспечно чирикали воробьи.
Мор жадно вдохнул полной грудью этот чистый, благоухающий, благодетельный воздух. Голова закружилась. К горлу подступила тошнота. Сознание провалилось на миг, не понимал ничего, однако чудом сохранил равновесие, ещё раз жадно вздохнул, медленно выпустил воздух сквозь плотно сжатые губы и медлительно двинулся к распахнутым настежь воротам, заложив руки назад, весь потный от страха, что вот-вот истомлённые силы оставят его и он потеряет себя, завопит, сделает что-то ещё, что навсегда опозорит его.
Впереди рокотало, как море. В нём вдруг стало два человека. Один, обмерев, стиснув лихорадочно побледневшие губы, весь сжавшись в один тугой, напряжённый комок, упрямо бессвязно твердил, что должен, обязан, позабыв уточнить, в чём именно в эти минуты был его долг и в чём именно состояла обязанность, перед кем, перед чем, весь пронизанный ими до последнего вздоха. Второй, непринуждённо улыбаясь теми же побледневшими сухими губами, готов был острить над собой и над тем, что должны были сделать над ним.
Рокот тем временем нарастал, приближаясь, как горный обвал. В воротах бедная женщина в изношенном платье, с простыми серёжками в грязных, всё ещё красивых ушах, с морщинистым, измождённым лицом, упала перед ним на колени, заломив руки, истошно вопя:
— Вы поклялись мне рассмотреть моё дело по справедливости, давно обещали помочь одинокой вдове, которую обокрали племянники, а дело так и осталось в суде. Помогите же, помогите же мне!
Это было так удивительно, так неуместно, так славно кстати ему, что философ, легко тронув её косматые грязные волосы, ответил весёлым неуверенным голосом:
— Потерпи немного, добрая женщина. Наш король так ко мне милостив, что спустя полчаса освободит меня ото всех моих дел и сам поможет тебе.
Приободрился и решительным шагом двинулся дальше, навстречу так громко рокотавшей толпе, поминутно говоря про себя:
«Однако посмотрим, поглядим, полюбуемся, чего стоят хвалёные твои добродетели, мастер Мор, уж поглядим, поглядим, поглядим...»
А шум всё рос и крепчал впереди, как гневный рокот морского прилива, бившего в скалы, то широко разливаясь над ослепительной площадью, залитой солнцем, то брызжа вверх узорчатой пеной совершенно неразборчивых слов. На него надвигалась толпа. Она разделена была надвое. В два ряда стояли солдаты, образуя змеившийся узкий проход, то против воли своей выступая немного вперёд под давлением беспокойно колебавшейся массы, то, взявшись за руки, с напряжённым усилием во всём теле и в неприветливых лицах, громко бранясь, пятились и возвращались вместе с массой назад.
От непривычного шума, оглушавшего после тюремной, длительной, непроницаемой тишины, от этой беспокойно колеблющейся плотной массы людей, которая стремилась в каком-то неясном порыве накатиться на него и на его слабый конвой и смести всё, что ни попадётся в яростном гневе на пути, на него накатывалась мутящая слабость, тоже волнами, как рокот толпы.
Мор несколько раз останавливался передохнуть, не глядя ни на кого, стыдливо потупясь, слыша, как голоса из толпы поторапливали его. Солдаты конвоя в молчании ожидали по сторонам. Лейтенант тоже молчал и терпеливо ждал у него за спиной. Двинувшись дальше, стараясь твёрже ступать, приближаясь к живому проходу в неспокойной толпе, Томас Мор прикидывал мысленно, сколько шагов оставалось, чтобы подойти к эшафоту.
Дали бы коня...
Но вместо коня неожиданно припомнился старый солдат и та добрая усмешка на простодушном лице, с которой ветеран многих войн вчера вечером говорил, как хорошо умереть на скаку, застигнутым верной пулей или стрелой, с отчаянным криком мчась на врага. И отчётливо подумалось вдруг, что он тоже идёт на врага и что его сейчас ждёт та же счастливая, лёгкая, быстрая смерть. Один только вздох... Костлявые плечи распрямились сами собой, Мор зашагал почти быстро, упруго, с решительно поднятой вверх головой, ощущая прохладу в затылке, ласкаемом ветром.
Толпа приняла его оглушительным рёвом. В тесном проходе воняло пылью, потом, вином. Потемневшие лица солдат были неприветливы и неподвижны. За солдатскими спинами почти не было видно людей. Кто-то громко смеялся, кто-то визгливо кричал, кто-то сорванным голосом пробовал петь, кто-то остервенело бранился с соседом, теснившим его.
Смех, крики, песни и брань заглушали в душе всё постороннее, страшное, не позволяя размышлять, углубляться в себя. На душе становилось всё отчаянней, бесшабашней. Приговорённый почти побежал по извивавшемуся, точно живому проходу. Конвой торопился за ним. Лейтенант отставал и неприлично для его чина рысил.
Так приблизился к эшафоту.
Эшафот явным образом был сколочен поспешно. Неуклюжая клетка наскоро ошкуренных брёвен была не совсем ровно обшита толстыми досками. Наверх вели узкие крутые ступени без перил.
Мор дышал тяжело и страшился споткнуться на этих шатких ступенях. Тогда поднял вопрошающе голову и увидел глаза беспокойно стоявшего Кингстона, ободряюще улыбнулся, с весёлым видом протянул руку и очень громко, внезапно поднявшимся, наполненным голосом попросил:
— Помоги мне взобраться, Уилли, назад я ворочусь сам собой.
Кингстон вздрогнул и с торопливой неловкостью подал ему дрожащую руку.
Одолел с его помощью все пять ступеней и встал на краю эшафота.
Было пусто метров на двадцать вокруг. Впереди всех сидел Томас Кромвель верхом на сером коне, покрытом красной попоной, сидел важно, отвалившись назад, самодовольно выпятив тонкие губы, с презрением глядя перед собой. На этот раз на нём был чёрный плащ и чёрная шляпа. Тотчас за Кромвелем в три ряда застыли солдаты в кирасах и касках, ощетиненные стальными наконечниками копий и алебард. За спинами солдат бушевала толпа.
Закусив губы, бледная, в чёрном чепце, из-за чьего-то плеча на него пристально смотрела Дороти Колли.
Мор громко сказал, не надеясь, что хотя бы кто-нибудь расслышит его в этом гуле:
— Молитесь здесь за меня, а я стану там молиться за вас.
Отступил, больше не думая ни о чём, готовясь к последнему мигу.
Высокий палач, в красной рубахе почти до колен и в красном трико, в чёрной маске, аккуратно завязанной сзади на седых волосах, низко поклонился ему и сильным, ободряющим голосом произнёс:
— Простите меня.
Кивнул головой и спокойно сказал:
— Шея у меня коротка, так прошу тебя, ударь хорошо, чтобы мне не мучиться, а тебе чтобы не было сраму перед людьми.
Сложил крестом руки и встал на колени. Жгучие слёзы невольно выкатились из глаз, без слов обратился к Всевышнему, чтобы Тот простил все его прегрешения, ибо был грешен, как все.
Уложил шею на плаху и повертел головой, чтобы примериться к ней.
Отросшая борода оказалась между плахой и шеей.
Подумал внезапно, что топор не перерубит волос, и отпрянул назад, бледнея от ужаса, бормоча торопливо, пытаясь шутить:
— Постой, старина, уберу мою бороду, тебе её рубить незачем, ведь борода, клянусь Геркулесом, не виновата, государственной измены не совершала.
Придержав на этот раз бороду, вновь опустился на плаху и выбросил в стороны руки, давая понять палачу, что готов. И замерло сердце, и удары пульса стихли в похолодевших висках. По толпе прокатился сдержанный гул, и она замолчала, наконец дождавшись своего.
С силой упал немилосердный топор. Голова несчастного, взмахнув бородой, отлетела со скрежещущим хрустом, в последний раз беспомощно моргая уже пустыми глазами.
Толпа замерла.
Год спустя в камере, где был заточен философ, казнена была Анна Болейн, которой отказался он присягнуть.
Ещё четыре года спустя на той же площади тот же старый палач одним точным ударом смахнул круглую голову Томаса Кромвеля с плеч.
И протекли времена. И пришёл внучатый племянник его, наследник аббатства, того, что у короля Генриха выпросил его двоюродный дед. И поднял восстание во имя Христа. И на той же площади Тауэра скатилась с плеч голова монарха.
ХРОНОЛОГИЯ
1478 г. — рождение Томаса Мора.
1485 г. — Генрих VII вступает на английский престол.
1491 г. — рождение принца Генриха Тюдор.
1500 г. — смерть канцлера и кардинала Джона Мортона.
1509 г. — смерть Генриха VII и его старшего сына Артура.
Генрих VIII вступает на английский престол и женится на вдове Артура испанской дофине Екатерине.
1513 г. — вторжение англичан во Францию.
1514 г. — мир с Францией.
1515 г. — разрыв торговых отношений с Фландрией.
Посольство Томаса Мора в Брюгге.
1516 г. — «Утопия» Томаса Мора.
Карл I вступает на испанский престол.
1517 г. — 95 тезисов Мартина Лютера. Начало Реформации.
1519 г. — Карл I становится германским императором Карлом V.
1520 г. — отлучение Лютера.
1521 г. — сейм в Вормсе.
1523 г. — вторжение во Францию.
1524-1525 гг. — крестьянская война в Германии.
1525 г. — битва при Павии, казнь Томаса Мюнцера.
1527 г. — начало развода короля Генриха VIII с первой женой.
1529 г. — посольство Томаса Мора в Камбре.
Томас Мор становится канцлером Англии.
1529-1536 гг. — непрерывные заседания английского парламента; акты парламента против Папы.
1532 г. — Томас Мор подаёт в отставку с поста канцлера.
1533 г. — развод короля Генриха VIII и его женитьба на Анне Болейн.
1534 г. — парламентский акт о верховенстве.
1535 г. — казнь епископа Фишера и Томаса Мора.
1536 г. — парламентский акт о роспуске малых монастырей; казнь Анны Болейн; женитьба Генриха VIII на Иоанне Сеймур.
1537 г. — женитьба Генриха VIII на Анне Клевской.
1538 г. — женитьба Генриха VIII на Екатерине Говард.
1540 г. — казнь Томаса Кромвеля.
1542 г. — казнь Екатерины Говард за неверность.
1543-1546 гг. — война с Францией.
1543 г. — женитьба Генриха VIII на Екатерине Парр.
28 янв. 1547 г. — смерть английского короля Генриха VIII.



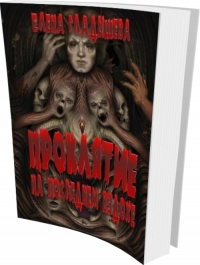
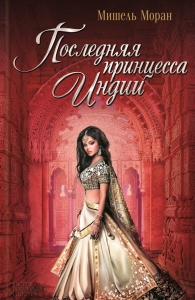


Комментарии к книге «Генрих VIII. Казнь», Валерий Николаевич Есенков
Всего 0 комментариев