Валентин Гнатюк, Юлия Гнатюк Святослав. Болгария
© Гнатюк В.С., Гнатюк Ю.В., текст, 2015
© ЗАО «Издательство Центрполиграф», 2015
© Художественное оформление, ЗАО «Издательство Центрполиграф», 2015
* * *
Предисловие
После того как я прочитал этот роман, первая мысль, которая пришла на ум: надо бы в центре России, в Москве или в Питере, поставить достойный памятник этому верному служителю нашего Рода.
Память о Святославе сознательно уничтожалась на протяжении столетий. Дошло до того, что на известнейшем памятнике «Тысячелетию России» нет ни Святослава, ни Олега Вещего. Хорошо, хоть Рюрик есть. А ведь это родной дед Святослава из рода Гостомысла.
Зачем уничтожалась ранняя история Руси, мы все прекрасно понимаем. Рюрик, Олег, Игорь, Святослав – все они очень неудобные и не вписывающиеся в западную историю, в которой Руси и позже России отводилось место зависимой, неспособной на самостоятельное развитие, варварской страны.
Конечно, эта книга может вызвать скандал в научной, а точнее говоря, в псевдонаучной среде. Ведь почти все древние летописи, дошедшие до наших дней, – это списки, сделанные нашими хроникёрами, в которых реальная история переврана в угоду византийскому христианству. Валентин и Юлия Гнатюк создали в своей книге очень честный и правильный образ Святослава, как настоящего патриота и мудрого правителя, объединившего славян.
Я очень советую всем прочитать эту замечательную трилогию и наконец понять, какой бедой для Руси в своё время оказался Хазарский каганат, которым фактически уже тогда правили иудеи. Бесстрашная, независимая, сильная Русь вызывала зависть и бессильную злобу у правителей наших соседей, уже прогнувшихся под торгашей. Многие славянские народы обязаны Святославу жизнью и свободой. Именно Олег, Игорь и Святослав заставили Византию уважать Русь. А ведь Византия того времени – это, говоря современным языком, сверхдержава, оплот цивилизации и демократии.
История развивается по спирали. На очередном витке события повторяются. Меняются декорации, но суть остаётся та же. Нужно ли говорить о том, как важно нам сегодня иметь правильную, неотформатированную память о своих великих предках?
Юлия и Валентин Гнатюк написали несколько интереснейших книг об истории Руси. Роман-трилогия «Святослав» – прекрасное продолжение этой большой работы. Благодаря тщательному подходу к историческим фактам, образному мышлению и уважению к нашему глубокому прошлому писателям удалось буквально проникнуть в эпоху Древней Руси и пройти по следам легендарного князя. Я считаю, что это лучший исторический роман о князе Святославе.
Описание природы, живые картины быта, ратного обучения и праздников дают ощущение полного присутствия в тот исторический период и сопричастности происходящему, и эта магия не отпускает до самого конца книги.
Трилогия «Святослав. Возмужание», «Святослав. Хазария», «Святослав. Болгария» – прекрасный подарок читателю, любящему нашу историю, в которой сокрыты многие ключи и нынешнего и грядущего!
Уверен, после прочтения вам захочется вернуться к более раннему периоду нашей истории и узнать о том, как начиналась Великая Русь при князе Рюрике. Свою версию о Рюрике и его братьях мы изложили совместно с авторами в книге «Рюрик. Полёт Сокола». Будут и другие книги о том времени. Сейчас работаем над книгой об Олеге Вещем. Необходимо восстановить память. У кого нет прошлого – нет и будущего.
Михаил Задорнов
Часть первая Земля болгарская
Глава 1 Воевода Боскид Лета 6474 (966)
Двадцатитысячная конная дружина князя Святослава споро шла на заход солнца. Погода стояла добрая, без дождей. Самое время явиться киевским витязям в Болгарию и настигнуть беглецов – хазар, ясов да койсогов с волжскими булгарами, что нашли прибежище у болгарского царя Петра после разгрома Хазарского каганата. Всё это время, где бы ни сражался князь, а всё чуял, будто дыхание в затылок, затаившуюся беду на полуденном заходе, что терпеливо ждала своего часа. Нынче пришла пора покончить с сим тайным кинжалом за спиной.
Дружина вышла на берег быстрого Днестра. Здесь, у поросших старыми вербами берегов, князь повелел сделать привал, чтобы поутру переправиться на десную сторону. Изведывательская сотня, разделившись, отправилась вверх и вниз по течению реки. Остальные всадники расседлали коней, стреножили их и под зорким оком дозорных пустили пастись на луг. Затрещали костры, воины принялись жарить на них свои нехитрые припасы да дичину, что добыли по пути или тут же у берега.
Уже темнело, когда князю доложили, что прискакал гонец из Киева со срочной вестью.
– Давай его сюда, что-то стряслось? – озабоченно молвил князь старшему дозорному.
– Стряслось, княже, – с поклоном отвечал усталый гонец, – вятичи от Киева отложились, посадников твоих изгнали и заявили, что отныне будут сами себе хозяева.
– Вот хитрецы, – возмутился Святослав, – Киев от хазар их освободил, а теперь не нужен стал! Кто же там верховодит?
– Так рекут, княже, что купцы вначале возроптали, мол, чего это мы Киеву подати будем платить, а после уже и бояре их поддержали, – отвечал посланник.
– Ах вы ж, подлые торговцы, всё как есть испоганили! – с глубокой досадой молвил Святослав. Он уже в замыслах строил бои с врагами Руси, затаившимися в Болгарии, да вот незадача, нельзя оставлять безнаказанной смуту вятскую. – Теперь придётся возвращаться, чтоб вятских купцов да бояр хитромудрых образумить! – сокрушался Святослав.
– Жаль, столько прошли уже, и время удачное! – поддержал темник Боскид.
– Ладно, ночуем, как решили, а утром снимаемся в обратную дорогу, не вышло в Болгарии погостить, придётся к вятичам на блины нагрянуть, – с горькой усмешкой молвил князь.
Однако утром, едва собралась дружина после утренней молитвы, как охоронцы привели троих русинов с Карпатских гор.
– Вот, утром переплыли с того берега, – докладывал старший из дозорных, – рекут, что к тебе, княже, шли, в Киев, да не чаяли, что богам будет угодно встретить тебя здесь.
– Что ж за дни нынче, посланец за посланцем, что тебе в полюдье на погосте, а не в походе воинском, – проворчал князь, однако приказал привести карпатцев.
Старик в круглой расшитой шапке, отороченной мехом, в коротком козьем кожушке без рукавов поверх расшитой рубахи, в конопляных портах и мягких постолах вышел вперёд, низко поклонившись князю.
– Пресветлый князь Киевский, – заговорил старик сильным с хрипотцой голосом, – русины, а это гуцулы, лемки, бойки, долиняне и другие народы, – рёк он настолько быстрой речью, что Святославу с трудом удавалось понять посланца, – просят тебя, могучий князь, взять нашу землю Карпатскую – колыбель Руси древней – под свою крепкую руку, потому как нет у нас более сил терпеть разор и грабежи, что чинят бессердечные угры. Вы, люди киевские, – продолжал старец, – не знаете труда подневольного. А мы тут, – он кивнул на спутников, – с малолетства от рабства страдаем, и бьют нас кнутами нещадно! Вот, гляди!
Старик оголил спину и повернулся.
Все увидели множественные рубцы от ударов бичами.
– Это ещё что, – добавил, оправив рубаху, старик, – иных людей мучители до смерти забивают. А лепших жён и дев наших себе в жёны берут либо продают в чужедальние земли. И горы наши Карпатские теперь уже Угорскими называются. Коли не внемлешь просьбам нашим, то загинем все, как есть, от мала до велика. Кто в сече падёт, а кто в полоне страшном окажется, одно другого не лепше. – Старик снова глубоко поклонился, а за ним и двое других ходоков помоложе.
Святослав задумался, поглаживая длинные усы и наморщив чело. Наконец что-то решил про себя.
– Боскид, – остановил князь взор на одном из верных начальников, – тебя с тьмой отправляю в Карпаты, пора Буковине и Карпатской Руси к земле Киевской приложиться. Слыхали слово моё княжеское, почтенные посланцы? – обратился Святослав к русинам. – Отныне земля ваша под защитой Киева, а посему вы сейчас отправитесь обратно с моим воеводой Боскидом, и он «договорится» с уграми, чтоб они более землю древнюю Карпатскую не разоряли.
Дав распоряжения, князь кивнул темнику и отошёл с ним сторону.
– Боскид, освободишь русинов, только самих угров хорошо бы в союзники взять, поскольку у нас есть общая цель – Болгария. И коли болгары себе хазар да касогов в помощники взяли, отчего нам не взять угров? Только помни, мадьяры – воины жестокие и отчаянные, они лишь силу понимают и уважают. Потому действуй силой, но с умом, понятно? Я не зря наделил тебя чином воеводы. Вот тебе перстень, договор от моего имени сладишь, а я к вятичам торопиться должен, – молвил князь, снимая с перста малую княжескую печатку с изображением на ней сокола – древнего знака рарожичей.
Лик Боскида стал озабоченным, он согласно кивнул и лишь молвил кратко:
– Разумею, княже, сделаю, как велишь…
– Ну, будь здрав, карпатский воевода, пусть Перун хранит тебя и даст победу лёгкую! Да, и изведывательскую сотню возьмёшь, тебе она нужнее, – заключил князь.
Они обнялись и вскочили на коней, отдавая приказания своим тысяцким.
* * *
Прекрасны Карпатские горы, чудны их многотравные полонины, могуч и строен карпатский лес! Стоит он, как гребень частый, дерево к дереву, выше облака ходячего, ниже солнца стоячего. И царствует в нём бог Лесич с зеленокосыми Леснянками. А те Леснянки на ветвях сидят-качаются, из Папороть-цвета венки плетут, цветами волосы завивают и смеются, веселятся, друг дружку окликают-аукают. А потом начинают плясать, хороводы водить, петь и тем дивным пением случайных путников привораживать.
Шёл воевода Боскид с дружиной к горам Карпатским. Степи сменялись полями, пашни сменялись рощами. Потом пошли леса густые и тёмные – буковые да хвойные. Карпатские посланцы указывали, где лепше всего пройти коннице. Старший из них русин Зорян неожиданно для своих лет оказался на редкость выносливым и ничуть не уступал более молодым спутникам. Шли по неведомым местам сторожко, опасаясь наскочить на отряды мадьяр. Боскид выслал вперёд самых опытных следопытов. Как-то они привели к воеводе испуганного русоволосого отрока годов десяти в вышитой гуцульской душегрейке.
– Мы с вуйко и братьями овец пасли на склонах, да мадьяры наскочили. Вуйко мне приказал бежать и толкнул в кусты у самого склона. Я кубарем скатился и лощиной побежал… вот… что с родными теперь сталось, не ведаю… – со слезами на очах закончил сбивчивый рассказ юный горец.
– Немедля воев своих пошли по следу угров, – сверкнув очами, приказал начальнику изведывательской сотни воевода. – После пастбища они непременно в селение наведаются, ежели их числом немного – уничтожьте, чтоб ни один не ушёл, иначе остальных упредят.
Сотник лишь кивнул, тут же крепкой рукою легко подхватил мальца и посадил впереди себя на коня.
– Двоих непременно живыми возьми! – крикнул вдогонку сотнику Боскид.
К обеду сотник доложил, что за одной из гор в долине стоит великое войско мадьяр-угров с конями, припасами, жёнами и детьми.
– Тех, что стадо взяли, мы в селении настигли, малец нас туда горной тропою провёл. Было их не более полусотни, мы их там и положили всех рядом с телами убитых ими жителей. – Перехватив вопрошающий взгляд воеводы, добавил: – Двоих мы, конечно, оставили и допытали, они-то нам и поведали о стане и силе войска угорского.
– Тысяч тридцать будет, – добавил старший из следопытов, – ежели по коням считать!
– Да и пленённые угры о том же рекли, – кивнул согласно изведывательский сотник.
– Втрое больше нашего, значит, неожиданностью брать надо! – решил Боскид.
Он велел раскинуть стан, но коней не рассёдлывать и костров не разводить. А как стало темнеть, войско неслышно двинулось по лесным тропам под водительством Зоряна со спутниками.
Шли всю ночь, а к рассвету достигли неприятельского стана. Увидели стреноженных коней и большую поляну, на которой стояли полотняные шатры, в коих спали угры. Цветной шатёр посредине выдавал расположение их князя. Стражники, уронив головы на колени, сидели у едва дымящихся костров и также спали крепким предутренним сном.
– Беспечно спят, значит, вы и вправду ни единого из той полусотни, что селение грабили, не упустили, – тихо отметил начальнику изведывателей довольный воевода.
Боскид сделал знак, и через несколько мгновений, распластавшись в высокой траве ужами, поползли ловкие изведыватели к дремавшим дозорным и стражникам у коновязей да загонов, наскоро сооружённых для захваченного скота. Вскоре дозорные почти без звука повалились наземь. Ещё несколько долгих мгновений ожидания – и в утренней сереющей тишине трижды прокаркал надтреснутым голосом ворон. Воевода опять дал знак, и остальные воины изведывательской сотни быстрыми ящерицами устремились за своими соратниками. Снова потянулось тревожное ожидание, которому, казалось, не будет конца, – ещё немного, и начнут просыпаться вражеские воины… Наконец, из вражеского стана трижды ухнула сова.
– Пора! – уже не таясь, рыкнул воевода. И русское воинство неудержимым валом ринулось на неприятельский стан, словно прорвавшая плотину вода…
У самых шатров поток разделился натрое. Два Крыла его потекли вокруг стана угров, стремясь охватить его в коло, а Сердце устремилось прямо к середине, туда, где стоял пёстрый шатёр князя. Шум боя, разом возникнув, разрастался по мере того, как нахлынувшая лавина русов схватывалась с проснувшимися уграми. Последние выскакивали из шатров полуодетые, с обнажёнными клинками и тут же падали от копий и клинков киян. Воины изведывательской сотни, уничтожившие вражеских дозорных, двигаясь по-прежнему бесшумно и стараясь не ввязываться в схватку, продвигались в самое сердце стана. Лишь иногда калёная стрела или быстрый метательный нож мгновенно отправляли в Навь очередного угрина. Почти одновременно с ударом конницы по окраине стана первый десяток достиг княжеского шатра, и несколько клинков вспороли его полотняные бока, остальные изведыватели принялись громить близстоящие становища воевод и личных охоронцев.
Молодой угорский князь, малорослый, подвижный, с чуть раскосыми тёмными очами, с тремя косичками чёрных будто вороново крыло волос на бритой голове, отчаянно отбивался мечом и длинным германским ножом-скрамасаксом, прикрываемый с боков двумя рослыми охоронцами. Женщина на ложе, устланном мягкими шкурами, ничего не разумея от столь неожиданного и страшного пробуждения, лишь безотчётно прижимала к себе двух маленьких детей. Вот один охоронец осел на левое колено, а потом упал, зажимая рукой кровоточащую рану в боку. Женщина истошно закричала, когда вбежавший в шатёр чужак с ходу метнул в голову мадьярского князя нож. Тот, выронив оружие, зашатался и рухнул на ковёр.
– Ты что ж это сотворил?! – заорал разъярённый сотник на изведывателя, мигом скручивая второго охоронца. – Воевода велел живьём…
– Так я ж рукоятью бросил, да и не так шибко, только чтоб махать перестал, – виновато начал оправдываться изведыватель.
– Жив, – облегчённо вздохнул сотник, став на колени и перевернув лежащего без движения молодого князя. – Ну, твоё счастье, Мстислав, – погрозил он уже беззлобно изведывателю. – Теперь вяжи его, и чтоб ни волоса… – потом глянул на поверженного и поправился: – Чтоб ни косы с его бритой головушки не пропало! И у неё с детьми тоже, – указал сотник на семью угрина.
И были угры разметены. Плакали их жёны и дети, оказавшиеся враз полонёнными, а те, что под шум скоротечного боя успели сбежать, устремились в горы и поспешили схорониться в лесных чащобах. Уцелевшие воины скрежетали от злобы зубами и клялись своими богами отмстить русам. Но, узнав, что их молодой князь-кенде с семьёй живы и находятся в полоне у киян, прислали переговорщиков, чтобы князя выкупить, не то не сносить им головы, коли узнает старый князь-джила, что его любимый сын оказался в чужих руках.
Воевода Боскид вместе со своими полутемниками принял переговорщиков. Если молодой князь выглядел так же, как его далёкие кочевые предки, то среди переговорщиков уже были и русоволосые, и рыжие, иные высокого росту и по-славянски крепкого сложения, – дети и внуки тех немок, словенок и русинок, коих угры похитили в жёны. Но все они держались своей необычной для европейцев манеры носить косы на бритой голове.
– Уразумейте добре, что Буковинская и Карпатская Русь отныне едина с Русью Киевской, а потому всяк, кто без дозволения князя Святослава сюда придёт, тот уничтожен будет до единого! – грозно рёк через толмача воевода Боскид, обводя твёрдым взором мрачные лица угорских вождей. – Ваши земли нам не надобны, и всегда Русь с соседями мирно жить стремится. Потому мы дозволим вам детей, и жён своих, и воинов забрать и уйти домой беспрепятственно, ежели слово дадите крепкое никогда впредь границ сих не нарушать, иначе… – Воевода многозначительно положил десницу на рукоять своего обоюдоострого меча.
Угры сидели как на горячих угольях, только метали молнии из чёрных очей, да что поделаешь, пленников выручать надо…
Боскид между тем сел напротив посланцев и заговорил почти спокойно, подбирая слова:
– Я знаю мадьяр как настоящих воинов, сильных и выносливых. – Воевода помолчал. – Вы настолько сильны, – продолжил он, – что сама Византия опасается ваших стрел и копий. И вдруг такие великие воины приходят грабить мирных горцев, с которых и взять-то особо нечего, во всяком случае, не сравнить с той же Византией или Болгарией, через земли которых непрерывным потоком текут товары со всей Европы, Востока и Асии…
Угорский вождь ещё более нахмурился, не понимая, к чему эти хвалебные речи киевского начальника, если речь идёт о выкупе пленников. Однако он был не только хорошим воином, но и опытным переговорщиком, потому хранил молчание, ожидая, куда повернёт этот скорый в бою и не столь поворотливый в словах рус.
– А знает ли о пленении своего сына ваш почтенный джила? – неожиданно спросил рус.
– Какая тебе разница, воевода, мы хотим выкупить нашего кенде и предлагаем тебе хороший откуп, – не смог скрыть досады угорский начальник, остальные переговорщики тоже стали перешёптываться.
– Я это к тому, что у вашего джилы есть враги давние – хазары, они же и наши враги. А нынче, после того как мы уничтожили Хазарский каганат, остатки хазар и присоединившиеся к ним ясы и койсоги сбежали в Болгарию. Наш князь Святослав хочет справедливо наказать болгар за укрывательство беглецов. Мы могли бы сделать это вместе – русы и угры.
– Но у нас мир с Болгарией, – отозвался один из угорских темников, – они нас беспрепятственно пропускают через свои земли, мы совершаем набеги на византийские полисы, где берём много добра и пленников, за которых греки потом платят хороший выкуп!
– А те хазары, ясы да койсоги не с пустыми руками укрылись в Болгарской земле, много добра и злата с собой прихватили. А коли болгарский царь Пётр не станет мешать в сём деле, то его никто не тронет, договор рушить и не надо, – мягко возразил киевский воевода.
Угры заговорили, заспорили меж собой, размахивая руками и горячо убеждая в чём-то друг друга.
– Давайте так, – подождав некоторое время, молвил Боскид, – про пленение вашего молодого князя никто не узнает. А вы лепше передайте вашему старому князю да другим вождям угорским, что киевский князь Святослав де приглашает их быть союзниками в походе на Болгарию будущим летом, и, коли он согласен, пусть сын его сей договор скрепит своей печатью, а я имею полномочия от князя Святослава и печать его – вот она. – Воевода показал малую княжескую печать с соколом.
– А как же выкуп нашего кенде?
– А что выкуп, – пожал плечами русский воевода, – коли станем союзниками, так тут же с выкупом и решим: и за князя молодого, и за жён да детей ваших…
Долго рядились и спорили киевские темники да бояре угорские, наконец, ударили по рукам, потому как помнил воевода наказ Святослава про то, что надобно уграм силу русскую показать, да при этом постараться, чтобы в случае войны с Болгарией либо Византией стали те угры на сторону русов. Да и что могли поделать мадьяры-угры, коли жёны да дети у киян в руках оказались, а не только князь молодой?
Когда привели нахохлившегося, подобно воробью в сырую погоду, молодого князя, угры встретили его приветственными возгласами. Прознав, что его не просто отпускают, но и просят подписать союзный договор, кенде быстро овладел собой и вновь стал собранным и уверенным. Угорские бояре да темники поклялись на мечах своих впредь не хаживать на карпатцев, а вместе с князем Святославом идти на Болгарию. И был составлен о том договор, скреплённый княжескими печатями. В знак доброго расположения угрин подарил Боскиду своего чудного коня, а воевода вручил князю добрую хазарскую саблю в ножнах, обложенных дорогими каменьями.
– Гляди, воевода, – вздохнул облегчённо один из полутемников, – таки выполнили мы наказ княжеский, сговорили угру идти на Болгарию с нами.
– А куда ж им ещё идти, на германцев путь заказан, Оттон их поколотил крепко, а перед тем ещё отец его, Генрих Птицелов. А то, что семьдесят лет тому болгарский царь Симеон вместе с их исконными врагами печенегами разорил Угорщину и великое множество семей мадьярских от мала до велика вырезал без жалости, они, думаешь, забыли? Так что хоть нынешний царь их не трогает, но отомстить Болгарии они всегда готовы, – ответил рассудительный Боскид. – Наш князь, он не только мечом добре орудует, а и мыслью далекоглядной, так-то!
Забрав своих воев и семьи, угры потянулись прочь из земли Карпатской. Боскид же велел разделить военную добычу всем поровну, оставив серебро и злато для княжеской казны.
В ту ночь славяне могли уже спокойно развести костры и зажарить мясо. На этот раз на угольях аппетитно потрескивала жиром не только конина, но и баранина с яловичиной, которую ели с травами и ржаными лепёшками, запивая чистой родниковой водой, что оказалась в этих местах особенно вкусна и целебна. А потом тьма легла спать, выставив надёжную стражу, потому что видели воины, как от небрежности стражников, заснувших в ночи, наступил быстрый конец угров.
Утром к воеводе пришли местные жители, из тех, кто славил богов русских и чествовал их в день Великого Яра, а также в Овсени и на Коляду.
Люди те жили в Карпатских горах, пасли овец на зелёных лугах и каждую весну приносили агнца в жертву Яро-богу. И радовались они, что теперь освобождены от угров, которые, как тати, рыскали по земле Карпатской.
И был среди них дед старый, которому все выражали почтение. Подошёл он к Боскиду, поздоровался:
– Мир вам, люди добрые!
– Здрав будь, отец, – отвечал воевода. – Откуда ты?
– Это мольфар местный, волхв по-вашему, Любомиром зовут, – пояснил Боскиду Зорян. – Он-то нас к тебе и послал…
– Тут недалече, – махнул старик рукой, – колыба моя стоит. – Он внимательно глянул на воеводу, будто сравнивал его с кем-то.
– Что такое колыба? – не понял Боскид.
– Так мы в Карпатах называем дом свой. О, земля Карпатская! – вздохнул старец. – Много страдала ты и много плакала. Но верили мы, что придёт день, и ты будешь смеяться, а плакать будут враги твои, и страдать будут так же, как ты страдала! Молились мы Белобогу и ждали освобождения. А две седмицы тому узрел я видение, богами посланное, и рёк в том видении муж ратный, с усами, как у тебя, только помоложе, – старик ещё раз взглянул на собеседника, – что выстоит Русь Карпатская токмо в единении с Русью Киевской. Тогда я и велел Зоряну идти на восход солнца за подмогой к князю вашему. Вот нынче и дождались-таки! Теперь мы опять сможем вольно собираться у Священных дубов и решать всякие дела всем миром. Будем трудиться спокойно во славу богов наших, жён наших любить, деток растить и песни Велесовы над зелёными полонинами слушать. Слава вам, воины русские!
И мольфар поклонился глубоким и долгим поклоном.
– Не нас благодари, а князя Святослава Хороброго, по чьему слову мы сюда пришли. Слава князю! – воскликнул Боскид, поворачиваясь к войску.
– Слава! – прогремели полки.
Полетела русская слава над Карпатскими горами, поднялась на трепетных крыльях ввысь, овеяла леса и долины, и каждый камень, травинка и комочек земли малый ту славу услышали и впитали.
И принесли селяне кто белое льняное полотно, кто шкурку лисью или беличью, а иные понемногу зерна и проса, головку сыра козьего или овечьего.
– Не обессудь, воевода, – рёк Любомир, – мы люди бедные, отдаём последнее, что имеем. – Потом снял с плеча тяжёлую полотняную суму. – Я у здешних людей вроде знахаря, – пояснил он, – от хворей лечу, Веду малую знаю. Самому-то мне ничего не надобно, земля родная и кормит, и одевает, и лечит, и силу даёт. Всё, что за многие годы люди принесли, собирал в суму эту и теперь отдаю от чистого сердца в казну княжескую!
Боскид взял суму, запустил в неё руку, а когда вынул, все ахнули от изумления – с ладони темника мерцающей струёй полились самые разные монеты: тут были византийские драхмы, римские и фракийские солиды, русские гривны, балангарские булгары, были арабские серебряные дирхемы и медные фряги, были деньги гданские, варяжские и германарики, – в основном серебро и медь, лишь изредка золото.
– Дякую, отче Любомир! – сказал растроганный Боскид. – От княжеского имени дякую тебе красно и всем жителям!
И стали приходить в русский стан словены, бойки, гуцулы и лемки с данью, и шли до позднего вечера, а те, кто не успел, оставались у кострищ ждать утра, чтобы отдать русскому князю свой долг.
– Желаешь ли, воевода, место священное наше посетить? Оно недалече отсюда, – молвил мольфар Любомир.
– Что ж, отче, дело важное наши вои свершили, а значит, была в том подмога божеская, как же не поблагодарить Великих Родичей за помощь добрую, пойдём, – ответил ему учтиво воевода.
– Тогда двинемся с тобою рано, до рассвета, чтобы там солнце красное встретить, – указал пальцем вверх старый ведун.
Они шли по горным тропам всё выше и выше – воевода, двое его охоронцев и старый мольфар.
– Будто прямо к небу поднимаемся, отче, – промолвил воевода.
– До неба не дойдём, но ближе станем, это точно, – ответил старик радостным голосом. И вот они оказались на вершине, где не росло ничего: ни дерева, ни даже кустика.
– Гляди, диво-то какое, – изумился Боскид, оглядывая вокруг поросшие густыми лесами горы и их вершины, – сию гору будто обрил кто, а все прочие зелены!
– Оттого она Лысой и зовётся, – кивнул старец. – Тут человек как на длани чистой перед Богами светлыми.
– Солнце красное восходит, – молвил зачарованно Боскид, восхищённый открывшимся видом дивно устроенного богами мира. – Слава Сурье! – Он воздел к небу руки, приветствуя восходящее Светило, пречистую Сваргу и всех сущих в ней славянских Богов.
– Оборотись-ка, воевода, – велел мольфар после славления.
Боскид обернулся и вдруг замер, удивлённо склонив голову:
– Гляди, отче, какая от меня огромная тень легла на склон и долину, а от тебя и охоронцев нету даже малейшей. Как так может быть?
– Место сие непростое, – молодо блестя очами, рёк мольфар, – тут каждый сам на сам с Богами беседует. Я вот тоже только свою великую тень зрю, а твоей не вижу.
– И я только свою, – почти хором ответили оба охоронца, поражённые небывалым зрелищем.
– Отчего так, отче? – боясь потревожить священную тишину необычного утра, тихо спросил воевода. – И что сие значит?
– Сие означает, что каждый из нас должен творить своё великое дело, не оглядываясь на другого. Всевышний освещает солнцем всех в равной мере и в то же время ведёт с каждым из нас только свою беседу. И все наши дела – правые и неправые – открыты перед взором его, как на сей голой скале. И о том должно нам всякий час помнить!
Ворочалась дружина к Киеву, и с ней вместе под охраной сотни воинов шли возы с первой данью. На возах были овечьи шкуры, тонкая и длинная карпатская шерсть, кожи, мёд, деревянная смола и берёзовый дёготь. Пять тысяч угорских коней, круторогие волы, отары белых и чёрных овец и всё добро на возах свидетельствовали князю русскому, что край сей отныне принадлежит ему.
А горы, у которых русская тьма разбила угров, стали впоследствии именоваться Бескидами. То ли в честь воеводы киевского, то ли, как пояснил мольфар, в честь древнего племени бессов, издавна жившего в сих краях и владевшего тайнами всяческого волшебства.
Глава 2 Никифор Фока Лета 6475 (967), Константинополь
На большой медвежьей шкуре, брошенной на мозаичный пол, у давно погасшего очага, раскинув руки, спал широкоплечий черноволосый муж лет сорока с лишним, одетый в довольно ношенный пурпурный виссон.
Солнце уже поднялось над водою пролива и заглянуло в узорчатое окно второго этажа, разбудив спящего, который по давней привычке почти всегда вставал с первыми лучами. Перевернувшись несколько раз с боку на бок и сладко потянувшись, муж поднялся и подошёл к окну.
Розовые лучи осветили смуглый лик, обрамлённый густой с проседью бородой. Маленькие пронзительные глаза под густыми бровями задумчиво остановились на раскинувшемся внизу городе, при этом ноздри крючковатого носа чуть подрагивали. Наконец, оторвав взгляд от созерцания городской картины, муж зашлёпал босыми ногами в туалетную комнату, откуда стали доноситься плеск воды и довольные шумные возгласы. Из туалетной комнаты муж появился без одежды, мокрый до пояса. Он был среднего роста, широкая грудь, плечи и литая шея выдавали опытного, закалённого воина. Однако впечатление портил округло выдающийся живот, отчего ноги казались короче, а рост ниже. Вытирая мягким полотенцем грудь, покрытую тёмным курчавым волосом, муж перевёл взгляд на образ Богородицы. Небольшая, не более трёх локтей статуя работы одного из лучших ромейских скульпторов стояла в обрамлённом золотом и драгоценными камнями алькове справа от окна. Быстро одевшись, муж опустился на колени и принялся молиться. Он делал это не по привычке, а истово, вкладывая в слова молитвы сердце и душу. Закончив молитву, ещё некоторое время стоял на коленях, не произнося ни слова. «Как просто человеку беседовать с Богом, – вдруг подумалось ему, – и как сложно находить общий язык с Его слугами…»
Поднявшись, муж подошёл к обширному ложу, так и оставшемуся нетронутым, и дважды дёрнул за висевший у изголовья шнурок. Раздались быстрые шаги по лестнице, и в комнату поднялся молодой воин, тут же распростёршийся ниц с почтительными словами:
– Приветствую твоё пробуждение, великий император! Да благословит святая Богородица каждый день твоего божественного правления!
Император Византии, называемой Империей Ромеев, Никифор Второй Фока жестом велел оптиону подняться.
– Я вчера рано заснул, никто не приходил ко мне вечером?
– Нет, богоравный, никого не было, – ответил молодой воин.
– Хорошо, я хочу есть, пусть принесут сюда, – велел император. – Повар тоже пусть зайдёт.
Оптион поклонился, и его сандалии из крепкой воловьей кожи застучали по лестнице вниз. Спустя несколько минут воин вновь появился, пропустил вперёд повара и двоих прислужников и остался у двери, строго следя за распорядителями царской кухни.
Поставив еду на низкий мраморный столик, помощники тут же исчезли, а повар застыл на коленях в выжидательной позе. Против обыкновения, личный повар императора не был тучным, даже несколько худощав.
Божественная десница, унизанная драгоценными перстнями, указала на жареную рыбу с овощами, отварную фасоль с подливой и мезе – традиционную лёгкую закуску из сыра с оливками, посыпанную орегано. Повар поочерёдно попробовал всё, затем осторожно распечатал красную амфору и налил в отдельный маленький кубок холодной белой рецины. Но император тут же выплеснул вино, так же молча наполнил свой изукрашенный каменьями кратер и отлил из него в кубок. В помещении остро запахло сосновой смолой, которую греки издавна добавляли в вино, тем самым предотвращая его скисание.
Повар покорно выпил, император подождал немного, внимательно глядя на слугу, и лёгким взмахом руки отпустил его.
– Что богоравный василевс желает на обед? – спросил, опуская лоб на мозаичный пол, повар.
– А что предложишь? – спросил за Никифора оптион.
– Если на то будет воля Божественного, – забормотал повар, – мы бы приготовили рыбный суп «Посейдон», фаршированные оливки, сырный пирог-тиропиту, грушевый десерт апидеа и катаифи с миндалём, корицей и мёдом…
– Годится, – отозвался, наконец, император. – Ещё яйца с икрой, а из вин не забудь «Мавродафни».
«Хоть и простые блюда ем, однако живот вон как разнесло, – вздохнул про себя василевс, когда повар ушёл. – Всё из-за бесконечных дворцовых приёмов, обедов, застойной жизни. Грешен, пристрастился… Да, а на сердце не по-весеннему смутно. Может, из-за того, что Феофано последнее время избегает меня?» – думал, пережёвывая еду крепкими зубами, Никифор.
После завтрака император, по обыкновению, отправился на обход дворцовой территории, превращённой по его приказу в настоящую крепость.
К выходу Никифора Фоки во двор там уже выстроились воины Армянской столичной тагмы и две сотни тяжёлых панцирных катафрактов – его любовь и гордость. Весеннее солнце играло на железном одеянии несокрушимых воинов, закованных с ног до головы, как и их могучие широкогрудые кони.
Патриарх Полиевкт и знатные горожане не раз упрекали императора, что он чрезмерно много тратит на армию, ущемляя ромейцев бесчисленными налогами. Никифор с негодованием отвечал, что все они имеют возможность раскармливать свои изнеженные тела и предаваться разврату только благодаря армии, без которой империя не проживёт и месяца. Ах, какая мощь, какая неодолимая сила в тяжёлой поступи железной конницы, кажется, даже стены дворца содрогаются от этой панцирной армады. Конечно, амуниция даже одного такого воина стоит немыслимых денег, а уж сотен и тысяч…
Настроение императора после лицезрения любимого детища улучшилось.
Армянской тагмой, в состав которой входила с недавнего времени и Дворцовая гвардия, командовал Иоанн Цимисхес. Невысокий, стройный и по-особому щеголеватый Иоанн отдавал команды чётко, даже с артистизмом. Хотя они с Никифором были двоюродными братьями, Иоанн являлся полной противоположностью Никифору: белокожий, светловолосый, с голубыми глазами, тонким носом и аккуратной клинообразной бородкой. За свой невысокий рост он и имел прозвище Цимисхес, то есть «туфля». Однако превосходил многих своей дерзостной отвагой. Казалось, Цимисхес вовсе не ведал страха: он мог в одиночку напасть на целый отряд, молниеносно изрубить множество врагов и вернуться обратно невредимым. За эту отчаянную храбрость и любил Никифор Фока своего родственника и многое прощал ему. Он присвоил Иоанну почётное звание дуки, которое прежде имел сам.
В то же время при виде Цимисхеса сразу невольно вспомнились придворные сплетни о том, что сей отчаянный красавец якобы спит с его женой Феофано. Но в эти слухи Никифор не верил, поскольку знал Иоанна как верного и честного офицера. Именно Иоанну он, Никифор Фока, во многом обязан своим царским титулом. Воспоминания о том удивительном взлёте на вершину ромейской власти ещё более подняли настроение императора. Сколь сладок был миг победы! Всё вспомнилось, будто и не прошло почти четыре долгих, как вечность, года.
Как тогда при триумфальном возвращении в Константинополь после победы над арабами смотрела на него прекрасная Феофано, как потускнел её взгляд, мельком скользнув по лику безвольного, чаще всего нетрезвого супруга Романа, как искривились на миг пренебрежением её бесподобные уста. Потом несколько тайных свиданий и горячих, неистовых, как сражение, ночей, после одной из которых она шепнула, прощаясь: «Ты будешь императором!» Поверил ли он ей тогда? Даже если и поверил, то не ожидал, что всё свершится так скоро. Никифор был в походе, когда до него дошли слухи о скоропостижной смерти императора Романа Второго. Феофано, соответственно закону, стала опекуншей малолетних наследников Василия Второго и Константина Восьмого. Но не всё сложилось точно так, как рассчитывала супруга покойного императора. Неожиданно для неё всеми делами стал распоряжаться бывший воспитатель Романа Второго, ненавистный ей евнух Иосиф Вринга, опытный в дворцовых интригах и изворотливый царедворец. Каково было ей, пылкой любительнице настоящих мужчин, терпеть фактическую власть женоподобного евнуха. Кто знает, сколь долго бы длилась эта борьба, если бы хитроумный Иосиф не перехитрил самого себя.
Зная о планах Феофано сделать императором своего любовника Никифора Фоку, Вринга решил нанести удар по храброму полководцу. Он направил честолюбивому, удачливому и до отчаянности смелому армянину Иоанну Цимисхесу письмо, в котором сообщил «страшную новость» о том, что коварный Никифор Фока вознамерился занять императорский престол, а на этом престоле он, Иосиф Вринга, видит только доблестного Иоанна, которому готов помочь обрести императорскую корону. Прожжённый царедворец решил одной стрелой поразить двух уток: вбить клин между братьями и нанести Никифору удар с той стороны, откуда он его ожидать не мог. Однако евнух, прекрасно владея приемами дворцовой борьбы, не в полной мере знал обстановку в армии.
Цимисхес, получив письмо Вринги, задумался. Авторитет Никифора Фоки в войске, да и среди народа, был столь велик, что выступить против него, да ещё в союзе с презренным евнухом, мог только последний безумец. Иоанн поступил по-другому. Он прочёл письмо «искусственно сделанной бабы» в присутствии стратигосов, обожающих своего командира. Крики возмущённых глоток, требующих немедленного похода на Константинополь, были ему ответом.
– Презренный евнух, что привык прятать своё толстое тело в прохладе царского дворца, пытается командовать нами, покрытыми шрамами и славой воинами! – бешено вращая единственным оком и вздымая вверх обнажённый клинок, возмущённо рычал старый гоплитарх с седыми усами и почти белой бородой.
Могучему командиру гоплитов эхом ответили подчинённые ему таксиархи.
– Наш император Никифор Фока! – выкрикивали стратигосы и гипостратигосы то с одной, то с другой стороны.
– На столицу! На Константинополь! – завопили турмархи и таксиархи. Их криками поддержали кентархи и друнгарии банд.
Ромейская армия тут же провозгласила Никифора Фоку своим императором и двинулась на столицу, чтобы «убедить» её в том же. Но убеждать константинопольцев не пришлось – столица встретила его как настоящего императора. После безвольных пьянствующих василевсов Никифор, заботящийся об армии, проливающий кровь за империю, любящий своих солдат, был истинным героем! Встречать его вышла вся знать и высшее духовенство во главе с патриархом. То был самый великий и памятный день в его жизни. 11 августа 963 года патриарх Полиевкт в блистающем великолепием соборе Святой Софии торжественно короновал его, Победоносного Фоку, на императорский трон. А через месяц тот же Полиевкт повенчал его с богоявленной Феофано. Это была не просто победа, а величайший триумф. Никифор Фока получил всё и сразу: высшую власть и прекрасную жену, он достиг самого большего, о чём мог мечтать ромеец! И никто не посмел выступить против победителя агарян, мужественного покорителя Крита и Кипра, хотя для друзей, а особенно монахов, это было полной неожиданностью. Ведь ещё недавно Никифор уверял, что его тяготит мирская слава первого полководца, и он мечтает только об одном – послужив ещё немного империи, удалиться в монастырь. Все знали, что сей доблестный и суровый воин постится и ведёт жизнь аскета, равнодушного к земным благам, истязая плоть, носит грубую власяницу на теле. И вдруг… император, муж красавицы Феофано, дворцовая роскошь, быстро появившийся торчащий живот…
После утреннего прохождения дорогих его душе катафрактов и созерцания вышколенных стройных рядов Армянской тагмы Никифор захотел лично посмотреть, всё ли ладно в хозяйстве дворцового гарнизона. Вместе с Иоанном Цимисхесом император стал обходить конюшни, казармы, пекарни, склады для амуниции и продовольствия. Правда, чтобы всё устроить по законам военной науки, как и подобает истинной цитадели, к неудовольствию горожан, пришлось снести некоторые старые дворцовые постройки и памятники: их камни пошли на укрепление стен. Приняв корону императора, Фока не перестал быть полководцем, для которого в войске нет мелочей, особенно когда дело касается снабжения провизией и амуницией.
Покончив с осмотром в укреплённом дворце, император-полководец отправился в войска, что стояли за городом. Пока небольшой отряд, сопровождавший императора, двигался по столичным улицам, Никифор не переставал ловить на себе угрюмые, а подчас и откровенно ненавидящие взгляды жителей. Он делал вид, что не замечает этого, как и злобных выкриков из толпы.
– Скажи, Иоанн, почему эти глупые люди ненавидят меня, ведь я делаю всё, чтобы империя жила и процветала…
– Тебе известно, великий, что прошлогодняя засуха в Пафлагонии и Гонориаде погубила сады, поля и виноградники, зимой начался голод. Люди надеялись, что хлеб из имперских запасов будет продаваться дешевле, но цены, наоборот, были повышены, – тихо ответил новоиспечённый дука. Помолчав немного, он взглянул на василевса и, что-то решив про себя, продолжил: – Кроме того, горожане возмущены тем, что брат императора, пользуясь своим родственным положением, скупает весь хлеб и перепродаёт втридорога, хотя каждый знает, что согласно закону Священной империи, высокопоставленные лица не имеют права заниматься ростовщичеством или торговлей…
Никифор не проронил ни слова, лицо его помрачнело, и всю дорогу до военного лагеря он хранил молчание.
Вечером к нему, как обычно, явился старший евнух Василий Ноф, внебрачный сын императора Романа Первого Лакапина от славянской рабыни, которому Никифор пожаловал специально придуманную для него должность проедра, своего рода гражданского министра. Василий Ноф был незаменимым советником ещё у Константина Седьмого Багрянородного, но после смерти этого просвещённого императора Василия оттеснил в тень другой евнух и ловкий царедворец, воспитатель Романа Второго, Иосиф Вринга. После устранения Вринги, как ярого противника Никифора Фоки, Василий снова вернул своё место у трона. Новый император доверял Василию, как никому, советы его были всегда дельны, точны и своевременны. Вот и на этот раз, доложив о делах государственных, Ноф не торопился уходить, как будто собирался сказать что-то ещё.
– Ну, что там у тебя, Василий, говори! – подбодрил Никифор евнуха.
Немного помолчав, Василий заговорил своим мягким высоким голосом.
– Не гневайся, божественный василевс, – начал он медленно, – но нам кажется, что великий дука имеет слишком много власти и влияния. Нет, нет! – замахал руками Василий, увидев, как недовольно покривились губы монарха. – В храбрости прославленного дуки нет никакого сомнения, всё дело в том, что… – проедр помедлил, подбирая слова, – как мне донесли евнухи, он… прелюбодействует с императрицей. Иоанн самолюбив, тщеславен, под его рукой Армянская тагма, которая может выполнить любой приказ. Его пребывание здесь таит опасность для тебя, о богоравный, – закончил с поклоном Василий.
Желваки заходили на смуглых скулах императора, в глазах вспыхнули огоньки ярости – Василий подтвердил то, во что ему не хотелось верить. Справившись со вспышкой гнева, Никифор хрипло произнёс:
– Что посоветуешь?
– Было бы неплохо удалить Цимисхеса из столицы, – вкрадчиво предложил Ноф.
– Но я не могу удалить его без веской причины…
– Причина будет, великий василевс, – коротко ответил евнух.
А через два дня к императору явился эпарх Константинополя Сессиний. Вид его был таков, что правитель Империи Ромеев от удивления даже приоткрыл рот. Градоначальник хромал на левую ногу, щека его распухла, а правый глаз не открывался вовсе из-за сильнейшего кровоподтёка.
– Вчера, – с трудом ворочая распухшим языком, поведал эпарх, – моряки повздорили с солдатами Армянской тагмы, моряков поддержала портовая чернь, началась нешуточная драка. Я вместе с главным судьёй тут же примчался к месту, где учинился беспорядок, и вот… – Градоначальник осторожно прикоснулся кончиками пальцев к распухшему лику. – Мы едва не погибли вместе с судьёй сами. Слава Иисусу Христу и Пресвятой Богородице, сохранившим нас в том страшном побоище!
– Погибшие в беспорядках есть? – спросил мрачно император.
– Десяток трупов и более сотни раненых. Но дело даже не в этом: противники обещают поквитаться друг с другом. Нужно срочно что-то делать, иначе будет ещё хуже, – с тревогой закончил эпарх.
– Хорошо, я приму меры, – подумав, ответил император. Не хватало ещё, чтобы доблестные воины гибли не на поле сражения, а в пьяных драках. Хорошо! – заключил он.
На следующий день город облетела весть, что Столичная тагма под командованием самого дуки Иоанна Цимисхеса отправляется для несения службы в далёкую ромейскую фему Халдию.
После ухода тагмы Никифор Фока облегчённо вздохнул. Теперь нет нужды думать об измене жены с Иоанном, да и о брате Льве некому будет вести завистливую болтовню. Пусть каждый занимается своим делом и не суёт нос в чужое. Он даже не лишил Цимисхеса высокого звания дуки, но сам факт, что под командованием дуки не целая армия Востока, а всего лишь Армянская тагма, – само это уже достаточно сильный удар по самолюбию двоюродного брата Иоанна. Ещё бы, дука в роли тагматарха!
Да, всего четыре года прошло с того триумфального августа, а как всё изменилось. Пылкая Феофано поостыла к нему, считает грубым мужланом, иногда открыто морща свой носик от запаха его виссиона, который император носил по военной привычке долго не снимая. Бурные ночи «дикой» любви на медвежьей шкуре, на которой предпочитал спать Никифор, которые поначалу приводили Феофано в экстаз, сменились её равнодушием и отчуждённостью. В своём простом воинском сердце Никифор любил Феофано, не мог устоять перед её красотой и пылкостью. Но получалось так, что он мог командовать всеми: солдатами, армией, империей, покорёнными народами, но только не Феофано. Она так умела очаровать, упросить, разгневаться, так посмотреть своими синими очами, что Никифор терялся. Привыкший к армейской дисциплине, он был беспомощен в интригах царского двора, в которых его жёнушка была более чем искушённой.
Никифор тяжко вздохнул. Многое, многое изменилось за это время, и не только в отношении жены! От восторгов горожан при его триумфальном входе в столицу до бросаемых нынче в спину укоров и обвинений, а то и обычных камней с грязью. Начеканив новых денег с изображением себя и своей покровительницы – Святой Богородицы, – Никифор объявил их ценнее, чем прочие номисмы с изображениями других императоров, хотя по весу они не отличались. Он выпустил также «облегчённые» номисмы – тетартероны, в которых было меньше золота, и приказал принимать их по номиналу. Однако государственные налоги требовалось платить «полноценными» номисмами, а всякую выдачу из казны делали тетартеронами, от которых в Константинополе стремился избавиться каждый торговец. На рынках начался хаос, пошли протесты. Потом ещё этот голод… Всеобщее обожание сменилось ненавистью.
Воспоминания разворачивались, как многоцветный ковёр. Ещё с самого начала, с того дня, когда он, провозглашённый армией императором, под ликующие крики горожан вошёл в Константинополь, ещё тогда между ним и жителями столицы появилась первая «трещина». На следующий же день к нему пришли просители от горожан.
– О прославленный мудростью и справедливостью, – выступил вперёд седой дородный торговец, низко кланяясь, – накажи воинов своих, которые ведут себя в столице империи, как в покорённом городе.
– Они буйствуют, грабят и насилуют женщин! – звенящим от волнения высоким голосом добавил другой знатный горожанин.
Остальные тоже загалдели, высказывая своё негодование.
– Ну уж, грабят да насилуют. Не может этого быть! – отвечал император. – Если кто-то и взял на память об этом значимом для империи дне какую-то безделицу, разве для воинов, отдающих свои жизни ради вашего спокойствия, этой безделицы жалко? Вижу, люди вы все не бедные. А что касается женщин, то воины им всегда нравились, что ж тут удивительного? Конечно, если муж узнал об измене, то каждая будет потом кричать, что её взяли силой, обычная женская хитрость, которая не стоит разговоров!
Никифор любил своих солдат и всегда был на их стороне.
Вспомнилась недавняя беседа с патриархом и епископами. Святые отцы выказали неудовольствие прекращением поступлений средств из государственной казны на нужды церкви. А как иначе, если проповедующие аскезу и усмирение плоти епископы тратят непомерные деньги на роскошную жизнь, дорогие дома, золото. Дворец патриарха ничем не уступает императорскому дворцу. А на требование Фоки признавать святым каждого воина, погибшего в бою, патриарх Полиевкт и вовсе разгневался.
– Как можно признать святым солдата, который всю жизнь убивал, грабил и насиловал, никогда не соблюдал поста и заповедей? – с возмущением восклицал глава церкви.
– В Святом Писании сказано, что на небесах более радости будет об одном покаявшемся грешнике, нежели о девяноста девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии, – ответил Никифор цитатой из святого Луки.
– Там же сказано, – снова возразил Полиевкт, – «кто не несёт креста своего и идёт не за Мною, не может быть Моим учеником». Даже учеником, не то что святым, ибо святость – не просто покаяние, это знак высшего подвига во имя святой веры!
– Не является ли высшим подвигом сама смерть во имя империи и Христовой веры? – продолжал гнуть свою линию Фока.
– Святость – это служение Богу, отречение от всего мирского, пост, молитва, денные и нощные бдения. После смерти праведника – это источающие благоухание нетленные мощи и происходящие от них чудеса. Нет, нет и нет! – решительно заключил патриарх и сердито стукнул посохом, как бы прекращая спор на эту тему.
– Заботы великого монарха об армии похвальны, – мягким, даже несколько заискивающим тоном молвил один из пышнотелых епископов, – но служители церкви, проповедуя слово Божье среди язычников, также оказывают Империи и армии немалую помощь… – Увидев, как в ответ на его слова Фока слегка ухмыльнулся, он продолжил: – Сколько сот лет доблестная ромейская армия сражалась с мисянами за безопасность границ империи. Так было до тех пор, пока усилиями святой церкви удалось разделить монолит варваров на собственно язычников и христиан, которые становятся на нашу сторону. Теперь, конечно, можно и унизительной для Империи дани им не платить, и послов по щекам отхлестать… – Елейный голос и подобострастная улыбка намекали на прошлогоднюю показательную «порку» послов Болгарии.
Никифор едва сдержался, чтобы не ответить сладкоголосому епископу по-солдатски грубо, но все-таки стратег в нём взял верх над солдатом. «Ничего, кусай своим злым языком, змея, раздобревшая на казённых деньгах. Только отныне ты с собратьями больше ничего не получишь из имперских запасов, – ехидно подумал император. – Эти деньги пойдут на армию, на железных катафрактов, а не в ваши бездонные ненасытные утробы…»
Да, прошлой осенью он действительно устроил показательную «порку» посланникам мисян, прибывшим за традиционной данью. Он тогда только вернулся с очередными победами над арабами: взял плодородную Киликию и её сильно укреплённый город Тарсу, а также вернул империи остров Сицилию, ещё раз доказав силу непобедимой ромейской армии и свой талант стратега и полководца. И в это самое время угораздило явиться послов болгарского царя Петра.
Будь на престоле Болгарии Крум или Симеон, Фока без лишних разговоров отдал бы положенное. Но платить дань безвольному Петру, дети которого воспитывались в Константинополе, а страну раздирают распри и заговоры? За почти сорок лет царствования Петра Болгария сильно ослабела, всё-таки, чего кривить душой, во многом прав сладкоголосый епископ: святой церкви удалось-таки расколоть грозного соседа на язычников и христиан, а последние всегда тянулись к Империи Ромеев. Но была здесь и своя обратная сторона. Ослабевшая Болгария теперь не могла исполнять подписанный с Византией договор о том, чтобы не допускать кочевников, а это в первую очередь племена ужасных мадьяр, к границам империи. Уже год, как бесхребетный Пётр подписал договор с мадьярами о том, что кочевники не будут разорять Болгарскую землю, а болгары не станут чинить им препятствия в набегах на Ромейскую империю. А теперь эти несчастные предатели ещё имеют наглость явиться за данью, и к кому? К нему, Никифору Фоке, божественному василевсу, сочетающему мудрость полководца с силой оружия империи! Это был или верх безумия окончательно запутавшегося в государственных делах Петра, или неслыханная наглость его царедворцев. В любом случае Никифор пришёл в бешенство. Он принял послов при полном стечении всего двора, собранного по случаю празднования победы. Послы мисян изложили цель своего появления, попутно намекнув, что Болгария желает продолжения династических связей между двумя государствами, которые хорошо бы закрепить браками ромейских принцесс с сыновьями царя Петра. Победоносный Фока, облачённый в парадные одежды, в блеске всех царских регалий, вскочил, пылая гневом, с трона и воскликнул во всю силу мощного голоса, привыкшего перекрывать шум битвы:
– Ромеи, что слышу я?! Горе нам, силой непобедимого оружия обратившим в бегство всех неприятелей! Выходит, что мы все эти годы предоставляли не средства на содержание жены Петра – внучки нашего великого императора Романа Лакапина, а, как последние рабы, платили подати грязному и низкому скифскому племени, которое не только не исполняет заключённого с нами договора, но и за нашей спиной сговорилось с врагами империи мадьярами о беспрепятственном пропуске их войск к нашим рубежам?! А ныне, после кончины достойной царицы Марии, эти предатели заговаривают о новом династическом браке! – Он выждал паузу и, обернувшись к командиру стражников, приказал: – Нахлестать этих варваров по щекам и вышвырнуть вон отсюда! Пусть передадут своему грязному тулупнику, грызущему сырую кожу, Петру, что я, великий государь ромеев, Никифор Фока, в скором времени сам приду в его жалкую страну и сполна «отдам ему дань», чтобы он, трижды раб от рождения, научился именовать ромеев своими господами, а не требовал с них податей, как с невольников!
Закончив громогласную речь, Никифор обвёл собравшихся грозным взглядом. Большой зал Магнаврского дворца замер, и на некоторое время воцарилась тишина. Потом он взорвался возгласами одобрения и криками:
– Да здравствует император!
– Слава императору!
Это было так похоже на тот миг, когда армия провозгласила его василевсом. Следовало закрепить успех! И Никифор велел войску готовиться к выступлению против Болгарии.
Однако, заняв несколько пограничных укреплений у подножия Родопских гор, император остановился: со всех сторон стекались неблагоприятные вести. Оттон Первый, помазанный папой в императоры Священной Римской империи, намеревался захватить византийские владения в Южной Италии, чтобы заставить Никифора признать его императорский титул. На востоке вновь обретали силу арабы. Да и у подножия Родопов василевс чувствовал себя неуютно: он помнил ужасную судьбу императора Никифора Первого, который вторгся в Болгарию и взял большую добычу, но на обратном пути в горных ущельях его войско было наголову разбито болгарским ханом Крумом. Император попал в плен и был казнён, Крум сделал чашу из его черепа и, похваляясь, пил из неё на пирах. «Нет, сейчас воевать с Болгарией не с руки», – решил Никифор и вернулся в Константинополь. Здесь он начал готовиться к походу на Сирию, чтобы сначала покончить с арабами. А что же делать с Болгарией? Надо бы отвлечь её внимание внутренними распрями, заговорами, вспышками недовольства подданных, а ещё лучше – какой-нибудь войной…
За дальними пределами Византии, пожалуй, более всех тревожил императора предводитель самых опасных и воинственных из скифов Сффентослаф. Кому, как не ему, Никифору Фоке, под чьей рукой находились отряды присланных архонтессой россов воинов, было знать, сколь сильны и опасны в бою эти не ведающие страха варвары. Не раз он, опытнейший полководец, дивился их силе и стойкости, особенно при взятии Крита. Две сотни россов могли без страха разметать тысячу отборных воинов, не выказывая при этом ни бахвальства, ни бурной радости своей невероятной победой. Нет, этих страшных скифов лучше иметь союзниками, пусть символическими, но союзниками.
Император вызывал главного трапезита, архистратигоса Викентия Агриппулуса, который много рассказал о неукротимом архонте россов.
– Сффентослаф опасен, как стратег и воин. Он за одно лето уничтожил могущественный Хазарский каганат и покорил все воинственные народы Альказрии. Об этом тебе, о мудрейший, уже поведал в прошлый раз старший стратигос Каридис. Мало того, в лютую зиму того же года, когда болота и реки в тех землях от невероятного холода становятся твёрдыми, как железо, и хрупкими, как стекло, когда всё живое прячется от стужи в норах, а человек без одежд из шкур просто погибает, оказавшись в лесу или в поле, в это страшное время Русский Пардус пошёл на Волжскую Булгарию и покорил её.
– А твои стратигосы, разве они не научили булгар, как правильно воевать против этого, как ты говоришь, Пардуса? Или то были плохие стратигосы? И что значит это слово – «пардус»?
– Это были лучшие стратигосы, великий, они обучали булгар целое лето и начало осени, а когда подул Борей, вернулись в империю. Весной, после того как просохнут дороги, они должны были повести булгар и буртасов на страну Росс, но… весной уже некого было вести, – тяжко вздохнул архистратигос. – А «пардус» по-славянски значит «барс» или что-то в этом роде. Самый быстрый хищник. Я бы сказал – и самый непредсказуемый, потому только дикому снежному барсу могло прийти в голову воевать зимой.
– Невероятно, где же ночевали россы в такой жуткий холод? – удивлённо спросил император.
– Очевидцы говорят, прямо в снегу, там, где их заставала ночь.
– Но человек не может спать в снегу, ты сам, архистратигос, только что сказал об этом, – вскинул мохнатые брови Никифор.
– Так и есть, – невозмутимо ответил Агриппулус, – человек не может. Но это не совсем обычные люди, это варвары из страны Росс. Они способны не только спать на снегу, но даже купаться в смертельно холодной для человека воде, прорубая для этого в замёрзших реках лёд.
Услышав это, император невольно поёжился и замолчал. Ему приходилось иногда в горах пить воду из холодных источников. Зубы ломило от холода, а ладони, которыми зачерпнул воду, деревенели, но тогда вокруг было тепло и светило солнце. Купаться в такой воде, да ещё когда от холода замерзает сам воздух, невероятно!
– Нам нельзя медлить, богоподобный, – снова заговорил Агриппулус, – ведь Сффентослаф, покончив с Хазарским каганатом и Волжской Булгарией, всё больше укрепляется в Северной Препонтиде. Он сжёг дотла Фанагорию, захватил Таматарху и Пантикапей. Некоторые из подчинённых ранее империи климатов сами перешли под руку россов. Один из топархов даже побывал в их столице Киеффе и получил поддержку лично от катархонта. Гераклейский полуостров, Херсонес и оставшиеся верными нам климаты под угрозой, они взывают о помощи. А ещё, великий, мои люди доносят, что в Киммерийском Боспоре Сффентослаф строит большой флот: сотни морских кораблей, куда они пойдут? – Викентий, оглянувшись по сторонам, вполголоса произнёс: – Сей воинственный скиф после укрепления на Востоке хочет двинуться на Болгарию. Прошлым летом он едва не дошёл до Дуная, да с полпути вернулся укрощать какой-то мятеж.
– Ты допускаешь, что он может свершить задуманное в этом году? – с тревогой в голосе спросил император.
– Сей варвар ни перед чем не остановится, – отвечал архистратигос. – И что горше всего – он прошлым летом подчинил мадьяр и заключил с ними союзный договор. А Болгария – последний рубеж на его пути к Империи. Если Аскольд, Ольг и Ингард приходили грабить Константинополь, то отчего эта же мысль не может прийти в голову Сффентослафу? А один этот росс, о великий, стоит всех арабов, Оттона и мадьяр, вместе взятых!
Никифор впился в лицо Викентия своими пронзительными чёрными глазами, не упуская ничего из доклада. А когда тот закончил, спросил, обращаясь к нему по-воински просто:
– Скажи, Викентий, ты давно и верно служишь Империи, что подсказывает твой опыт, можно ли нашего потенциального врага превратить в союзника?
– У меня есть мысли на этот счёт, но принимать их или нет, решать тебе, о великий! – произнёс архистратиг, склонив голову в почтительном поклоне. – Я знаю человека, который лучше любого другого сможет найти общий язык с россами.
– Излагай! – велел император и вновь сверлил Викентия маленькими угольками глаз, иногда задумчиво прикрывая их. – Хорошо! – наконец обронил он. – С твоим планом я согласен, но человек, который отправится к повелителю россов, у меня есть. Вели от моего имени немедля вызвать херсонесского стратигоса Аполлинария и его сына Калокира в Константинополь. Я знаю его по боям за Крит, это верный человек и настоящий воин, а сын его хорошо знает скифские нравы и владеет их речью.
Про себя император решил, что Русскому Барсу будет понятней и проще найти общий язык с воином, нежели с изощрённым в премудростях дипломатии посланником, которого предложил начальник Тайной стражи.
– Будет исполнено, богоравный! Что же касается Болгарии, – заметил Агриппулус и бросил короткий вопрошающий взгляд на Фоку. – Может, с учётом нынешних осложнений стоит смягчить отношение к Петру и пообещать старому мисянскому правителю столь желанный для его сыновей брак с нашими принцессами? Пусть Борис и Роман приедут в Константинополь, надо же им с невестами познакомиться? – хитро усмехнулся Викентий. – А потом мы оставим их у себя, как ценных заложников. Если на то будет твоя божественная воля, мои люди отправятся с этим поручением в Болгарию в ближайшие дни.
– Пусть будет так, – согласно кивнул после некоторого раздумья император.
Начальник Тайной стражи распростёрся на мозаичном полу, а затем удалился так же тихо, как и вошёл.
Глава 3 Соколиная охота Лета 6475 (967), Киев
От прошлой до нынешней весны киевский князь совершил много походов – наводил порядок в землях покорённых хазар, койсогов и волжских булгар. Гонял свою конницу от одной границы до другой и сам шёл с дружиной, как пардус, лёгкий и грозный. И являлся повсюду на белом коне, как Перун Громоразящий, махая мечом, будто молнией. Одних непримиримых врагов уничтожил, других заставил подчиниться его руке и дать клятву на верность Киеву. Но часть хазар, ясов койсогов да кочевых булгар ушла от его грозных мечей аж за Дунай, в Болгарию. Там они и осели под крылом престарелого болгарского царя Петра. Святослав решил тем же летом обрушиться на них и уже двинул войска к Дунаю. Да вятичи, прознав о том, «отложились» от Киева, и дружине пришлось возвращаться на Оку. А там и на Волге, и в Альказрии понадобилась твёрдая рука князя.
Много добра несли те походы и много горя. Воины, возвращаясь, везли с собой воинскую добычу. А другие принимали смерть на полях брани. Но Святослав восполнял дружину и снова бросался в сечи, словно не мог насытиться пьянящим звоном мечей и ратных подвигов.
Молодёжь со всех концов разросшегося Киевского княжества шла в Ратный Стан, и казалось, откуда только берутся эти юноши, один другого выше и крепче. А начальники обучали их всем правилам воинского Устава: как мечи отбивать, как стрелы и копья точить, уздечки и сёдла чинить, поторочные сумы готовить, как за конём своим боевым ухаживать и чем мазать ему копыта. И были то будущие десятские и сотские – надежда войска киевского.
Князь Святослав, едва вернувшись в Киев к Яровым дням, как водится, поспешил в Стан, где, став на возвышении, внимательно глядел, как молодые начальники постигают ратную науку. Вот он знаком остановил «схватку» и подозвал запыхавшегося и раскрасневшегося юного воина.
– Рубишься добре, да только забыл, что не за себя в бою ответ держишь, – строго молвил князь. – Ты должен сотню свою не то что оком, спиною, всем телом чуять, на то ты и сотник! А тысяцким станешь, за всю тысячу ответ держать будешь, да всем воинам своим примером служить! – веско закончил князь, чтобы и другие юные начальники те коны воинские накрепко запомнили.
Тем временем к нему неслышно подошёл Варяжко. Увлечённый учебными схватками Святослав увидел изведывателя, когда тот был уже в шаге от него.
– Ты, брат, совсем манеру своего начальника перенял, будто тень ходишь, – одобрительно отозвался князь. – Нет ли вестей от него?
– Княже, – как всегда негромко, чтоб слышал только Святослав, начал помощник начальника Тайной стражи, – Ворон сегодня в ночи вернулся, доложить готов тебе обо всём, что узнать смог в земле Болгарской.
– Про византийское посольство, что два дня тому прибыло, что скажешь? – вместо ответа, спросил князь.
– Во главе сего посольства Калокир, сын хорсуньского воеводы. Пришли под надёжной охраной, по всему, поклажа непростая у них. Купцы, что по пути к ним пристали – шутка ли, дармовая защита от кочевников, – бают, будто тех кочевников ни единого даже поблизости не видели.
– Выходит, безопасность сего посольства с самых византийских верхов обеспечена? – глянул внимательным оком Святослав.
– Думаю, что так, княже, – подтвердил изведыватель.
– Скажи Ворону, – промолвил князь, – жду его у себя в шатре после вечерней поверки. Да кликни темников старых, Притыку с Инаром. Сам же выясни к тому времени всё, что сможешь, про этого Калокира.
– Будет исполнено, княже. – Слегка поклонившись, Варяжко так же тихо и быстро удалился.
Вечером четверо названные князем собрались у него в шатре. Ворон выглядел ещё не совсем отдохнувшим после дальнего и нелёгкого путешествия, но, как всегда, собран и молчалив. Святослав обнял его.
– Ну, Варяжко, реки, что узнал о посланнике визанском, – повелел князь, когда все разместились.
– Калокир, сын хорсуньского стратигоса Аполлинария, – начал помощник Тайного тиуна, иногда заглядывая в бересту, – обучался в ихней гимнасии, где преуспел более всего в плавании, борьбе и стрельбе из лука. Славянскую речь разумеет, потому как и отец его, и сам он сызмальства знаком с проживающими и торгующими в Хорсуни славянами. Я многих наших купцов да охоронцев порасспросил про сего мужа младого, никто о нём худого не слыхивал. Отец его был вызван в Царьград, куда отправился вместе с сыном. Рекут, что встреча у него была с самим императором. После этого Калокир был представлен императору Никифору Фоке, от коего лично получил звание патриция и указание возглавить посольство, – закончил краткую речь Варяжко.
– Не густо разузнал, – подытожил Святослав.
– Да что там разузнавать, – пожал могучими плечами коренастый Инар, – сам, княже, встретишься с посланником, там и прояснится, кто он и зачем пожаловал.
– Эге, брат Инар, – усмехнулся Варяжко, – разве неведомо тебе, что византийцы молвят одно, а думают другое?
– Зачем посольство прибыло, догадаться можно, – пробасил Притыка. – Ты, княже, в Тьмуторокани и Корчеве лодии строить повелел морские великие. Потому Визанщина в беспокойстве, не сбираемся ли мы град Хорсунь да иные климаты греческие себе забрать, а может, опасаются, что на Болгарию или на сам Царьград пойдём теми морскими лодьями.
– Пусть Византия думает что хочет, а мы своё делать будем, – обвёл присутствующих твёрдым взглядом Инар.
– А поведай-ка нам, Ворон, что вызнать удалось в Болгарской земле, – велел князь.
Тайный тиун заговорил, как всегда негромко, потому темники затихли и невольно обратились в слух.
– Болгария, княже и братья темники, как вам ведомо, страна непростая, потому как образовалась от смешения славянских да булгарских родов, а теперь и вовсе закрутилось там такое, что и не разберёшь сразу. – Ворон помолчал, обдумывая, потом продолжил: – С соседом своим неспокойным, Византией, часто войну вела, била греков, да в последнее время ослабла сила её и единство. Многих из болгар сумели визанцы в свою греческую веру обратить. Но предыдущий болгарский царь Симеон, хотя и был христианином, греков бивал крепко и силой добился того, что кичливая Византийская империя была вынуждена признать его не только болгарским, но и ромейским императором. «Симеон, волею Христа Бога самодержец всех болгар и ромеев», – прочёл Ворон с какого-то свитка. – А болгарская церковь впервые заимела своего личного патриарха, чего отродясь не было. Нынешний же болгарский царь Пётр, в отличие от отца своего, истый поклонник всего византийского. Отношение к Руси тоже изменилось. При Симеоне купцы наши свободно шли через Добруджу, издавна именуемую Малой Скифией. Селились там наши люди с древних времён, торговлю вели. Оттуда потом текли товары в Византию, Грецию, Италию, по всей Европе. При Петре же, особенно в последнее время, болгарские купцы всё более препятствий движению нашего товара чинят.
– Ещё и хазар с койсогами приютили, жаль, в прошлый раз не дошли руки. Коли б не вятичи, задали бы им ещё прошлым летом! – горячо отозвался Притыка.
– Не всем это в Болгарии по нраву, – продолжил изведыватель, – да и в самом дворце царском, как и в державе, согласия нет. Прямо сказать, слаб стал Пётр для царской ноши, годами состарился, считай ведь, сорок лет страной своей правит. Недавно император царьградский Никифор Фока велел послов болгарских, что за ежегодной данью пожаловали, по щекам отхлестать и выгнать прочь.
– Ого! – воскликнул от удивления Инар. – За такое спуску давать нельзя. Неужто болгары смолчали?
– То-то и оно, что смолчали, – ответил Ворон. – Мало того, Фока своё воинство на Болгарию двинул, да в горы сунуться побоялся, тем более что агаряне снова на Визанщину войной пошли.
– А с чего это Фока так вдруг на болгар разгневался? – спросил старый Притыка.
– Как ему не гневаться, коли у них договор подписан, что болгары не должны пропускать угров на границы империи, а у Болгарии сейчас и сил-то нет, чтоб с Угорщиной схватиться. Говорю же вам, братья темники, не просто там всё в земле Болгарской. Одни из болгар готовы хоть сейчас к Византии присоединиться, как братья по вере, другие ненавидят греков так же, как и мы, и славянским богам по-прежнему молятся. Третьи хоть и христиане, а мнят о сильной Болгарии, как при Круме да Симеоне было. Македонские же славяне восстания поднимают, сербский князь Чеслав вовсе изгнал болгар из Рашки.
– Дела, – протянул Притыка, озадаченно почёсывая литой затылок, – проела гниль визанская Болгарию, что шашель дерево.
– А вот мы по тому дереву стукнем, да и узнаем, где гниль, а где ещё крепко! – сверкнув на темников очами, молвил воинственный Инар. – Надо наказать их за пособничество тем хазарам с ясами да койсогами, коих Болгария приютила!
Всем четверым собравшимся в шатре Святослав доверял, как самому себе. Это было малое коло тех, с кем он держал совет прежде всего, и был уверен, что ни одно его слово не долетит до чужих ушей.
– Ладно, – отозвался князь, – послушаем, что посланник Фоки скажет, тогда и решим окончательно. Завтра назначаю посольству византийскому приём в тереме княжеском, и всех вас, братья темники, прошу быть при сём.
Пышное византийское посольство чинной нарядною гурьбой втекло в большую гридницу нового каменного княжеского терема. Святослав его не любил, предпочитая холодному камню привычное дерево, но именитые посольства иногда принимал там, дабы мать не обидеть и чтобы любящие важность иноземные посланники могли той важностью насладиться.
Святослав сидел на Игоревом троне в праздничном княжеском одеянии: расшитой белой рубахе, синих портах, на плечах – подаренная матерью белая шёлковая епанча, искусно вышитая золотом греческими девами и застёгнутая на плече мудрёной фибулой, исполненной киевским златокузнецом вместе с застёжками на рукавах, сделанными в виде маленьких наручей. Кабардинский меч в серебром отделанных ножнах и красные сапоги, надетые по совету Ворона, завершали его наряд. Сгрудившиеся у трона старые темники и именитые горожане тоже были одеты торжественно.
Глава византийского посольского двора в Киеве вышел немного вперёд, поклонился князю и заговорил распевным голосом, представляя посланника Византии.
После этого сам патриций Калокир, отделившись от посольства, с учтивым поклоном обратился к князю на хорошем славянском:
– Будь здрав, пресветлый князь Руси Святослав, сын Игоря! Слава о твоих подвигах летит по свету быстрее ветра. Великий автократор Ромейской империи, богоравный Никифор Второй Фока, желает тебе новых побед, доброго здравия и многих лет мудрого правления могучей державой Россов. А ещё, великий князь, Фока шлёт тебе и твоей доблестной дружине пятнадцать кентинариев золота, дабы подтвердить верность и незыблемость договора между Империей Ромеев и Русью о взаимной любви, заключённого твоим отцом, достославным князем Игорем, и нашими императорами Романом, Константином и Стефаном лета 944 от Рождества Христова…
Бояре и темники переглянулись между собой: пятнадцать кентинариев золота! Это же сколько пудов будет? Двадцать восемь? На десять тысяч воинов хватит! Неспроста сей щедрый дар, ох неспроста!
– Русь всегда слово данное крепко держала, и договору, отцом моим подписанному, мы верны, – подтвердил князь и метнул быстрый вопрошающий взгляд на Калокира.
Тот чуть помялся.
– Пресветлый князь, – осторожно, будто нащупывая ногой тропу в полной темени, молвил посланник, – в империи ходят всякие слухи, в том числе и такие, что якобы после завоевания Хазарии войска россов готовятся к новому большому походу и уже строят для этого флот у Таматархи и Пантикапея… – Святослав вскинул брови, и Калокир поспешно продолжил: – Империя должна быть уверена в безопасности своих северных границ, а также подвластных ей торговых городов и климатов…
– Проще говоря, в безопасности Хорсуня и климатов, что на полуострове Таврика, который вы называете Гераклейским, так, я понимаю? – продолжил мысль посланника Святослав, глядя на него пронзительным синим взором.
Улыбка и лёгкий поклон Калокира ответили Святославу, что они верно понимают друг друга.
– По тому договору взаимной любви, – продолжил византийский посланец, – обещали мы друг другу помощь воинскую в случае нужды. Сейчас такая нужда настала. В то время как арабы нападают на империю с востока и юга, болгарский царь Пётр, нарушив договор с Империей, тайно сговорился с мадьярами, и те, беспрепятственно проходя через землю мисян, разоряют наши северные пределы.
– Никифор Фока желает, чтобы я дал ему своих воинов, как посылала их императору Роману Второму моя мать, княгиня Ольга? – спросил Святослав, глядя посланнику прямо в очи.
Патриций Калокир опять чуть смутился и ответил:
– Богоравный василевс Ромейской империи Никифор Второй Фока понимает, что славный своими победами князь россов желает расширить границы своих владений богатыми землями и новыми торговыми полисами. Поэтому царствующий Никифор Фока не станет возражать против твоего похода в землю мисян, если Русь гарантирует Империи защиту от варварских орд мадьяр. Это выгодно и Руси, и Империи Ромеев…
Под каменными сводами от неожиданного предложения византийского посланника установилась необычная тишина. Так вот за что Фока предлагает золото! – опять понимающе переглянулись темники.
Святослав, чуть подумав, обратился к Калокиру.
– Важные дела не делаются с наскока, – молвил князь. – Мы посоветуемся с боярами и дружиной и дадим императору Фоке свой ответ. А пока я приглашаю тебя, почтенный посол, побывать на соколиной охоте, игрища наши воинские поглядеть да угощений русских отведать…
– Твоё приглашение, пресветлый князь, – великая честь, и я с радостью его принимаю, – низко поклонился Калокир.
Из наставления, данного в Константинополе, он знал, что род князя Святослава происходит из варяжского племени ободритов, которые называют себя наследниками Сокола. Особо ценят они за благородный нрав, силу и стремительность белого сокола-кречета и потому размещают его очертание на своих парусах, червлёных стягах и щитах. Родной дед князя носил это гордое имя Рарога-Сокола. Потому для византийского посланника приглашение сие имело глубокий смысл и значение, и он искренне благодарил грозного киевского князя.
На следующий день Святослав выехал на соколиную охоту, и сокольничий дал ему лучшую боевую птицу, белого кречета из Двинской полуночной земли.
Калокир, сопровождаемый небольшой свитой, ехал подле князя.
– В Греции тоже охотой с хищными птицами издревле занимались, – молвил патриций, – в странах полуденных, как мне рассказывали наши купцы, ваши северные птицы очень ценятся, каждая такая птица – целое состояние, – кивнул он на белого кречета на плече у владетеля Руси.
– Птица-то эта из дикомытов, – гордо пояснил иноземцу помощник сокольничего, видя, с каким интересом глядит византийский посланник на княжеского сокола.
– Что означает слово «дикомыт»? – не уразумел Калокир.
– Это коли сокол первую линьку в дикой своей обители прожил, а не в неволе. Там ведь никто еду не подаст, пока сам не поймаешь, – пояснил словоохотливый подручник сокольничего. – Потому такой сокол лучший охотник, нежели гнездарь, который был взят на вынашивание птенцом из гнезда…
Князя сопровождали молодые бояре, которые заслужили это звание в сражениях с Хазарией и Волжской Булгарией, скрещивали свои булатные клинки с ясами, койсогами, многими другими храбрыми противниками и вышли из сражений с победой и честью. И потому были отмечены князем высшим званием «боярин», что значит «вой ярый», который ставит честь и служение своему народу и князю выше собственной жизни.
У всех бояр также сидели на плече у кого соколы, у кого ястребы, беркуты или перепелятники, а на правую руку была надета рукавица из толстой бычьей кожи. Поднимали бояре птиц в небо, а потом лихо свистали, и добытчики возвращались назад, садясь на руку и цепляясь когтями за рукавицу. Если сокол не торопился возвращаться, то сокольничий или кто-то из его помощников доставал из сумки вабило – крылья птицы, связанные меж собой, с привязанным посредине куском мяса – и подбрасывал его вверх.
– Скажи, – вновь обратился любопытный хорсунянин к сокольничему, – а отчего на голову одних птиц надеты шапочки, а у других нет?
– Клобучки надевают только на сокола, – пояснил тот, – он видит добычу на большом расстоянии и начинает атаку, когда сам охотник ещё не заметил дичь. Сокола потом трудно найти, пока охотник поспеет, он может склевать добычу и сытым улететь на два-три дня. Поэтому соколу снимают клобучок и выпускают только тогда, когда дичь близко. А у ястреба, скажем, иная манера охоты: ястреб бросается на добычу, если та взмётывается на расстоянии сто-двести шагов. Если добыча дальше, то ястреб даже не обратит на неё внимания.
С превеликим интересом наблюдал за удивительной забавой россов византийский патриций.
А киевский князь бросал быстрые цепкие взгляды на лицо молодого посланника.
Вот Святослав снял шапочку с головы своего сокола и подбросил его вверх.
Княжеская ловчая птица поднялась выше других. Описывая широкие плавные круги, сокол зорким оком высматривал добычу. Он первым узрел серую утицу, что, не ведая опасности, вылетела из камышовой заводи. Молнией, почти сложив крылья, метнулся охотник на добычу и сбил её одним махом, будто калёной стрелой. Стременной, пришпорив коня, вихрем полетел к месту падения утки.
Святослав снова взглянул на молодого византийца. Красивое лицо посланника сияло азартом, а в момент, когда сокол сбил добычу, Калокир восторженно взмахнул рукой и прищёлкнул пальцами. Князь подумал, что хорсуньский посланник либо великолепный лицедей, либо действительно человек непосредственный и честный, что было совершенно неожиданно для византийца, а тем более для патриция.
Княжеский сокол снова взмыл в небесную голубизну, и опять его атака была удачной, хотя победа не столь быстрой. Серый гусь в последний миг почуял врага и встретил его отчаянным сопротивлением. Боевой клёкот сокола и гусиный крик, удары сильных крыльев, разлетающиеся в стороны перья. Железные когти хищника оказались сильнее, гусь с окровавленной головой и повреждённым крылом, беспомощно кувыркаясь в воздухе, рухнул на землю. Сокол Святослава в третий раз поднялся ввысь, но из поднятых загонщиками с глади речной заводи птиц уже никого на его долю не осталось: одних добыли другие соколы, другие успели скрыться в камышах. Охваченная боевым азартом птица сделала ещё несколько кругов в вышине и стала снижаться.
– Ты гляди, на пичугу малую напал, вишь, как его боевой задор взял! – воскликнул кто-то из бояр.
Святослав, подняв глаза, увидел, как его сокол, на лету изловив малую птицу, с победным клёкотом отпускает её, а затем снова настигает и хватает своими железными когтями, играя, как кошка с мышью. Князь поднёс два пальца к губам, чтобы свистом позвать разбойника, но тот в последний миг ударом железного клюва порешил жертву, и она безжизненным комочком полетела к земле. Сокол спикировал и сел на неё больше для порядка.
Князь призывно свистнул, а когда сокол сел на руку, стал ему выговаривать:
– Отчего ж ты напустился на пичугу малую, а не нападаешь на гуся или лебедя? Пичуга малая на покровительство одного бога Птичича полагается. Лёгкая победа над безоружным противником не делает чести воину. Разочаровал ты меня, братец. Оставайся-ка на лето в соколовне, а я не желаю с тобой больше полевать-охотиться!
С этими словами Святослав передал птицу сокольничему.
Молодые бояре, стоявшие подле, с улыбкой переглянулись между собой.
– Князь с птицей говорит так, будто она разуметь может… – тихо произнёс кто-то.
Острый слух Святослава уловил эти слова.
– Как все звери и птицы подвластны Велесу и поконам его, так и нам, воинам, должно следовать поконам Перуновой Прави. И я, как князь, если увижу, что кто-то из вас, бояр, на беззащитного нападает или слабого обижает, отошлю вон в луга коней пасти! И будет он там с пастухами мудрость травную да звериную постигать, покуда не уразумеет, что Богами нашими на всё сущее одни Коны положены…
Молодой византиец, приподняв чёрную серповидную бровь, сосредоточенно вслушивался в слова русского князя, стараясь постичь их смысл.
Соколиная охота закончилась поздно, воз Хорса уже покатился к закату, когда дружинники повернули назад. Когда въезжали в Киев, Святослав обратился к Калокиру:
– Как посланнику императора понравилась соколиная охота?
– Великолепно, пресветлый князь! Я много об этом слышал, но воочию увидел только сегодня, – учтиво склонив голову, ответил византиец.
– Тогда добро пожаловать завтра в Ратный Стан, где наши молодые воины игрища устраивают да удалью молодецкой тешатся, – предложил Святослав.
– Благодарю, у нас подобные состязания легионеров любимы всеми и посещаемы, буду непременно!
На следующий день в Ратном Стане между юными дружинниками проводились игрища.
Перед началом Святослав вышел на поле и обратился к юношам, принимавшим Перунову клятву, со своим словом князя и воеводы:
– Всегда помните и блюдите Уставы Перуновы. Первый Устав – чистота и порядок. Каждый воин должен беречь своё ратное снаряжение, меч и копьё блюсти острыми, припасы иметь необходимые, о чистоте тела и духа заботиться. Второй Устав Перунов – соблюдение Прави. Воин должен Правде прямо в очи смотреть и лика от неё не отворачивать. Быть храбрым и славу воинскую в честном бою стяжать. Лепше в поле с честью пасть, чем псом трусливым бежать. Тому позор вечный, кто сечу самовольно оставит и врагу покажет затылок. Отсюда третий Устав Перунов – начальников почитать, наказы их старательно исполнять, в бою, походе и на отдыхе всегда друг друга поддерживать. А наипервейший из Уставов – землю свою любить, отцов-матерей почитать и Богов наших славить, которые есть прибежище наше и сила, отныне и во веки веков! Теперь же покажите ваше умение, порадуйте молодой силой и удалью во славу земли Русской!
Начались воинские состязания. Юноши метали копья, пускали стрелы, перескакивали лошадьми через несколько копий, поставленных в ряд. Имена сильнейших объявлялись во всеуслышание перед всем Станом.
Старые темники с интересом поглядывали на царьградского посланника, который дважды был удостоен чести вначале сопровождать князя с лучшими молодыми боярами на соколиной охоте, а теперь вот присутствовать на воинских игрищах.
– Видно, князь хочет показать Визанщине силу и выучку воев русских, – высказал догадку молодой Притыка старому.
– Вряд ли, – с сомнением молвил старый темник, – про то Царьграду доподлинно известно ещё со времён Олега Вещего, а про победы наши они, будь уверен, от изведывателей своих узнают прежде, чем кияне.
– Так почему сему посланнику честь такая, отче?
– Князь наш знает, что делает, а надобно будет, так и мы узнаем. Гляди-ка лучше, какие добрые вои у нас выросли, хоть сейчас в сечу! – Старый Притыка издал восторженный крик, больше походивший на рык могучего зверя, подбадривая победителя.
Святослав глядел на молодых воинов, что тешили своею удалью да ловкостью, и опять косил глазом на посланника. Видел князь, как забирает хорсунянина схватка борцов, как азартом вспыхивают его очи после каждого особо точного выстрела лучников. Ишь, как загорается сей Калокир от потехи воинской!
Когда закончились состязания юношей, в круг вышли раззадоренные удалью Святославовы молодые бояре – отчаянные темники и тысяцкие. Тут уж зрителям добавилось огня в крови и восторженного блеска в очах. Свист, хохот, дружеские подначки и одобрительные возгласы витали над Ратным Станом.
Вот ещё двое вышли в круг, сильные и уверенные, закалённые в боях, где быстрота мысли да сноровка тела проверяется самой смертью. Некоторое время они неспешными пружными от сдерживаемой до поры силы шагами кружили в середине кола, неотрывно глядя друг другу в очи, дабы уловить даже не движение супротивника, а мысль о нём. Коренастый тысяцкий Северской тьмы пардусом ринулся на супротивника, стараясь ухватить его десницей за шею, да в последний миг тот увернулся от железной руки и сам, обхватив тысяцкого за пояс, рванул его вверх, дабы опрокинуть наземь. Но ловкий тысяцкий обвил своей ногой, будто смоляной вервью, ногу супротивника, и тем не дал ему завершить бросок. Ещё через миг оба, не удержавшись, рыча и извиваясь, стали кататься по прошитому корнями пырея песчаному полю. Едва один оказывался сверху, как в тот же миг другой умудрялся сбросить его и сам старался зажать соперника в тиски могучих рук. Наконец, вои Северской тьмы дружно взревели, засвистели и запрыгали на месте – их тысяцкий сумел так заломить в прочном «замке» руку и шею супротивника, что тот уже не мог вырваться и застучал ладонью оземь.
– А что, Хорсунянин, – вдруг обратился князь к посланнику, – не желаешь ли силушкой в борьбе помериться?
Уста патриция тронула лёгкая улыбка, он кивнул, вскочил и сноровисто принялся снимать верхнюю одежду, готовясь к схватке. Грек оказался ладно скроен, крепкие мышцы волнами заходили под загорелой кожей, когда он стал разминать суставы рук и ног. Стоявшие вокруг одобрительно закивали, оценивая тело атлета, отшлифованное многими упражнениями. Многие воины молодой дружины даже если и были сильнее грека, но такой точёной фигурой похвастать не могли.
Младой сотник под ободряющие возгласы соратников вышел в круг, кипя нетерпеливой решимостью, уверенно переступая по истоптанному песку. Карие очи патриция вспыхнули азартным огнём поединщика, в коем нет места ни страху, ни робости. Сотник сразу бросился на Хорсунянина, как дикий камышовый кот, но с ходу не смог одолеть супротивника. Не удалось это ему и вдругорядь. Распалившись от неудачи ещё более, он в третий раз кинулся в бой совершенно отчаянно и тут же поплатился за горячность, распластавшись на песке после ловкого броска Хорсунянина. Вскочив на ноги, сотник ещё стремительнее метнулся к супротивнику и снова полетел на истолчённый ногами песок. Раскрасневшийся от падений и обиды молодой сотник готов был броситься в новую схватку, но его остановил своим хриплым окриком старый полутысяцкий Хорь, строго следивший за ходом поединка. Перечить судье в кругу не полагается, и сколь ни раззадорен был молодой сотник, но приказу подчинился, хоть и набычившись да недовольно сопя. Юноши криками приветствовали победу византийского посланника, тот, улыбаясь, поднял правую руку со сжатым кулаком и пошёл одеваться.
– Послушай, Хорь, – тихо молвил Варяжко, подойдя к полутысяцкому, – а ты против посланника никого из более опытных борцов не мог выставить? Не по чину как-то получается…
– Эге, – хитро прищурился старый воин, – с добрым поединщиком хочешь не хочешь, а стараться изо всех сил будешь, а вот в схватке с тем, кто слабее, суть человеческая сразу видна. К тому же не хватало ещё, чтобы посланник заморский увечье получил…
– Ну и смекалист ты, Хорь! – одобрительно усмехнулся Варяжко и, вернувшись на место, что-то вполголоса сказал князю.
Тот качнул головой и тоже спрятал улыбку в усах.
Ему пришлось по нраву, что Калокир с менее опытным противником своим превосходством не кичился, достоинства воинского не уронил и «добить» лёгкую добычу не пытался. «Занятно, – думал про себя князь, – вчерашний ли урок на соколиной охоте усвоил посланник или он такой есть на самом деле? Поглядим, сущность людская в деяниях проявляется».
Когда византийские послы, обмениваясь впечатлениями, отправились в свой Гостевой Двор, в шатре Святослава собрались старые темники. Но их в Киеве осталось мало, посему князь велел собраться на военный совет также полутемникам.
– Братья, – молвил князь, когда все уселись кружком вокруг трёх подсвечников с зажжёнными свечами, – все вы ведаете, что прибыл к нам от византийского императора Никифора Фоки посланник Калокир, родом из Хорсуня-града. И явился он не с пустыми руками, а с золотом многим и с просьбой, чтобы мы пошли на дунайских болгар, кои беспрепятственно пропускают угров через свои земли, а те беспокоят империю постоянными набегами и разорениями. Вот по сему делу хочу я услышать, что мыслите вы, братья-темники.
– Выходит, недостаёт у Визанщины сил с болгарами справиться! – молвил темник Зворыка. – А не лепше ли нам с ними объединиться да вместе по грекам и ударить?
– И я слышал, что болгары к Руси по-доброму относятся, и хоть с Визанщиной они одной веры ныне, но не люба она болгарам, – поддержал его берестянский воевода Васюта.
Темники один за другим брали слово со своих мест, и каждый рёк своё мнение.
– Мыслю так, что укрепиться нам надо после сражений многих, подготовить сильную дружину, прежде чем о новом походе помышлять, – молвил кратко один из начальников.
– Поход на Дунай тому не помеха, а, напротив, доброе подспорье. К тому же греки злато дают. А там вольются в наши рати болгары, что Цареградщиной недовольны. Тогда можем и по самому Царьграду ударить! – блеснул очами Путята, который, в отличие от Блуда, не попал в большую опалу за грабёж поселян, а был лишь переведён в полутемники.
Темники и полутемники стали высказывать краткие замечания, но больше слова никто не брал.
Когда большая часть воинских начальников высказалась и гомон стал помалу утихать, поднялся Святослав.
– Братья, – молвил он, – посланник Калокир сослался на договор, подписанный между Русью и Византией князем Игорем, отцом моим, и тогдашними императорами Романом, Константином и Стефаном. По сему договору уже больше двадцати лет между Византией и Русью существует мир, добрый ли, худой, но мир. Мы, русы, всегда держали данное нами слово и никогда не нарушим его первыми! Более того, по указанному договору Византия имеет право на нашу помощь против совместных врагов. Болгарский царь Пётр нарушил договор, вот император и просит русского князя, то есть меня, помочь ему наказать болгар и воспрепятствовать бесчинствам мадьяр-угров. И я не вправе отказать ему, поскольку это было бы нарушением договора о союзничестве. Калокир прав в том, что сия война выгодна для нас. Покорив Хазрский каганат, мы получили Волго-Донской ключ к торговле с Асией и вернули земли на восходе, принадлежавшие Великой Русколани. Поход на Болгарию даст нам Дунайский торговый ключ и вернёт полуденно-заходные земли, что некогда также принадлежали нашим пращурам. И то, что мы возьмём всё это сами, без разрешения Фоки или кого иного, Византии стало ясно как день, вот и торопится царь «позволить» нам поход на Дунай. Дунайские земли – колыбель славянская, отсюда они расходились к морям Варяжскому, Русскому и Студёному, в земли другие, но всегда о родине помнили и сюда возвернуться мечтали. Оттого долг перед предками нашими и славными временами Трояновыми мы исполнить обязаны. Что же до договора с Византией, то его либо исполнять надобно, либо с Визанщиной воевать. Воевать нам с ней сейчас нет резону, знать, к болгарскому походу готовиться, и весь сказ! – заключил он решительно, для верности рубанув воздух могучей десницей.
И ярый рык верных темников прозвучал в ночи дружным эхом.
– Наказ мой таков, – молвил громко Святослав, подняв десницу и призывая воинских начальников к тишине. – Из Волжской Булгарии оставленных там опытных темников Свенельда с Боскидом в Киев вызвать, а вместо них ты, Инар, со своей Варяжской тьмой пойдёшь в помощь Издебе. Будешь исполнять и воинскую службу – где у каких покорённых князей и народов порядок наводить сильной рукой – и Тайную стражу блюсти, потому как много хитрых изведывателей посылают в те земли и византийцы, и германцы, Арабский халифат и прочие, прочие.
– Понял, княже, – крякнул Инар, который уже зрел себя в предстоящем походе. Да, видно, князь посчитал, что присутствие Варяжской тьмы важнее на восточных рубежах.
Переговорив ещё с темниками о предстоящих делах, князь отпустил их и поехал в терем, поскольку мать-княгиня ждала его вечерять.
На другой день в полдень помощник начальника теремной стражи Кандыба-Пётр с виноватым видом протиснулся в светлицу, когда Святослав беседовал с матерью.
– Что стряслось, Пётр? – недовольно сдвинула брови княгиня. – Не видишь, заняты мы с князем.
– Дак, это… – лик охоронца стал ещё более виноватым, – беда, мать-княгиня, посланник византийский разбился!
– Как разбился? – вскочила Ольга с широкой лавы. – Насмерть, что ли?!
– Да жив как будто… – всё так же испуганно отвечал теремной страж.
– Прости, – молвил князь матери, спеша к двери, – я скоро!
– Всё ладно было, – оправдывался молодой гридень у княжеского крыльца, – с Торжища мы возвращались с посланником. Тут вдруг шум, крики сзади, куры с кудахтаньем врассыпную – лошадь с возом понесло по улице. Глядим, а возница-то отрок годов двенадцати, белый весь, как полотно на сушке, а сзади в него девчушка вцепилась и того меньше. Едва они пронеслись мимо, двое из наших вдогонку кинулись. Тут посланник греческий коня своего вороного пришпорил и оказался впереди всех. Догнал Хорсунянин лошадь, да за узду её, остановить норовит и тем замедлить воз пытается. Затрещали оглобли, заржали лошади, мы в последний миг детишек подхватить успели, как воз пошёл вместе с поклажей кубарем. Посланник так крепко лошадь за узду держал, что, когда та тоже падать стала, из седла вылетел.
– Что с ним? – нетерпеливо спросил Святослав.
– С рукой плохо, руда хлещет, его второй гридень на Капище к волхвам повёз.
Святослав привычно взлетел в седло своего коня.
На Капище князь увидел посланника стоящим рядом со старым жрецом возле кумиров. Лик Калокира был серьёзен, он внимательно прислушивался к негромкой речи кудесника, который только что вправил ему плечо, зашил распоротую обо что-то острое руку и щедро умастил душистой мазью ушибы и ссадины. Князь остановился поодаль, чтобы не мешать волховской беседе. Смерив взглядом ладную фигуру посланника с головы до ног, понял, что страшного ничего не случилось. Видно, борцовская сноровка спасла Хорсунянину жизнь, а синяки да ссадины заживут быстро. Удивила Святослава именно эта серьёзность и внимание посланника к словам волхва. Византийцы обычно на Капище не хаживали, напротив, свысока относились к славянской вере, а тем более не интересовались кумирами. Цепкая память князя быстро извлекла всё, что рассказывали волхвы и Ворон о Хорсунь-граде и его обитателях. Ага, вспомнил, Хорсунь – град особый, некогда построен он был древними таврами и наречён именем златоликого полуденного бога Хорс-сунь – «Хорс-Солнце». Потому хоть и давно уже там живут в основном римляне да греки, но вера христианская как-то одновременно с остатками православия древнего соседствует. Ворон сказывал, что тайно даже некоторые из знатных хорсунян древним богам поклоняются. Калокир своей отвагой, воинским духом, а теперь и уважением к богам славянским всё больше нравился Святославу. Он жестом подозвал охоронца.
– Передашь посланнику, что после вечери я жду его в своём шатре.
Они беседовали вдвоём. Князь пристально взглянул на молодого посланника и уловил волнение в его очах, будто Калокир хотел сказать нечто важное, да не решался.
– Скажи, почему тебя, живущего в далёком Хорсуне, а не вельможу из Царьграда Никифор Фока избрал посланником в таком важном деле? Он хорошо тебя знает или ты раньше выполнял подобные поручения императора?
– Нет, пресветлый князь, я беседовал с императором впервые, а убедил его, что я справлюсь с подобной важной миссией, мой отец. Он всегда мечтал о моём продвижении при дворе, особенно после того, как императором стал Никифор Фока, под началом которого отец сражался и был ранен при взятии Крита. После этого Никифор Фока назначил моего отца Аполлинария стратигосом Херсонеса.
Тут чело посланника засветилось решительностью, и он заговорил быстро и горячо:
– Херсонес – мирный торговый полис, да и прочие наши климаты. Мы любим торговать, веселиться, делать вино, выращивать пшеницу и овощи. Мы ценим свободу и дружбу с окрестными народами. Я хорошо знаю россов, с детства дружил с теми, кто живёт в Херсонесе, знаю, что вы крепко держите слово… – От волнения молодой посланник запнулся.
– Я ведаю, – продолжил Святослав, – что каждый муж, рождённый в Хорсуне, даёт при достижении совершеннолетия клятву на верность родному граду, и клятву ту его жители блюдут с достоинством. Я разумею, что, приехав сюда с дарами от императора, ты, Калокир, вперворядь стараешься защитить свой град от наших мечей. Это достойно мужа, а стены твоего града до сих пор покоятся на основах стен, сложенных могучими таврами. – Князь умолк на мгновение, а сердце посланника замерло в ожидании решения грозного собеседника. – Храня град свой, вы храните и память наших предков, в камне застывшую. Потому вот тебе слово моё княжеское: не станем мы рушить Хорсунь, пусть и далее мирно живут в нём люди, пусть шумит торжище и радуются дети, для наших клинков и без того дел хватает…
Подтверждая договор взаимной любви 944 года между Империей и Русью, Херсонесом и Киевом, пусть Византия не препятствует Руси в овладении торговым Дунайским ключом и выплачивает ежегодную дань, а Русь обязуется не посягать на византийские полисы на Гераклейском полуострове и в Северной Препонтиде, а также будет защищать кордоны Византии от угров. Так и передай своему императору Никифору Фоке.
Посланник поклонился в ответ и радостно заверил, что сегодня же отправит в Константинополь своих гонцов с доброй вестью.
Святослав задумчиво помолчал. Потом придвинул чашу, в которой было налито привезённое Калокиром греческое вино.
– Когда мыслишь, патрикий, в обратный путь тронуться?
– Мой отец сказал, лучше, если я останусь пока у тебя, князь, как залог верности императорского слова, – ещё несколько взволнованно молвил молодой византиец, открыто глядя на грозного князя.
– Выходит, твой отец крепко верит Никифору Фоке, так крепко, что готов в залог оставить своего единственного сына… – размышляя вслух, произнёс Святослав, переведя взор на тёмную поверхность вина в чаше.
– Мой отец много раз стоял в бою рядом с Фокой, когда тот ещё не знал, что станет императором. Ты, великий князь, тоже воин и знаешь, что в схватке сразу видно, кто есть человек по сути своей. Фока никогда не отделял себя от солдат, не прятался за их спины, спал, да и сейчас спит на земле, подстелив лишь медвежью шкуру или конскую попону. Он никогда не гнался за роскошью, и многие друнгарии тагм или даже банд одеты роскошнее, нежели их начальник. Ты сам, могучий князь россов, живёшь так же и поймёшь меня лучше, чем наши вельможи.
– Я вижу, отец и тебя воспитал настоящим воином, – одобрительно молвил князь. – Тогда давай выпьем за истинных воинов, которые всегда поймут друг друга!
Несмотря на жаркие летние дни, кузнецы на Подоле работали день и ночь, сменяя друг друга, из горнов полыхало нестерпимым жаром. Кузнецы, как Огнебоги, рассыпали сонмища искр на наковальнях, уханье тяжёлых и звон малых молотов раздавались по всей округе. Скорняки на Кожевенном Яру выделывали кожи для многочисленных ремней и сёдел. На берегу Почайны лодейщики тесали брусы для новых лодий, а прокопченные смолокуры усердно мазали днища и пропитывали тяжёлые пеньковые канаты растопленной смолой. Правда, опытный глаз приметил бы сразу, что многих мастеров, в том числе и лучшего лодейщика Орла, нет в Киеве.
Далеко в Корчеве, стоящем на берегу Боспора Киммерийского, работа тоже кипела в полную силу. Орёл с красными от недосыпания глазами появлялся в разных концах большой лодейной стройки. Тут лес доставили, и непременно надобно принять, оглядеть, на что он сгодится. А там новую лодию закладывать начали, важно, чтоб не упустили чего сразу, а то потом много сил понадобится, чтоб недочёт исправить.
Послышался шум и возмущённые крики. Мастер увидел, что наперерез бежит рыжий десятник с густой копною волос, схваченных кожаным ремешком.
– Орёл! – издали сердито кричит он. – Пенька-то кончилась, да и пакли на раз понюхать осталось, мне две морские лодии конопатить да снаряжать, а чем?
– Так ведь вчера ещё привезти должны были! – так же громко отвечает главный лодейный мастер.
И они торопятся вдвоём к дальним каменным магазеям, где продаются нужные припасы. Через некоторое время оттуда слышится хриплый голос Орла и излишне громкий голос десятника. Дородный грек с наметившейся на макушке лысиной и ранней проседью в чёрных курчавых волосах, с доброжелательной улыбкой на смуглом лице, ничуть не смущаясь, выслушивает крики десятника и строгую речь главного лодейного мастера.
– Погоди, чего трезвонишь, будто пожарный колокол! Твой глас шум морского прибоя заглушает, и о том, что пакля у тебя кончается, я ещё вчера слышал, – со спокойной улыбкой отвечал грек.
– Так где она, если вчера слышал, где пенька-то? – размахивал руками десятник.
– К вечеру будет тебе пакля, на пять лодий хватит. А про пеньку голову мне не морочь, какая оснастка, когда судно ещё не законопачено и не просмолено.
– Так мне ж пеньку ещё смолить! – не сдавался десятник.
– Она уже просмолённая будет, – успокоил крикливого собеседника грек.
– Ну, гляди у меня, Кардопулус, – пригрозил увесистым кулачищем рыжий, – ежели что, откардопулю тебя так, что надолго запомнишь! – Продолжая ворчать, десятник пошёл к своим лодиям.
– Теперь ругаться будет аж до самого берега, – засмеялся грек.
– А с тебя, Кардопулус, всё как с гуся вода. – Усмешка тронула усталый лик лодейного мастера.
– Э-э, Орёл, жизнь моя купеческая такая, подешевле найти, немного дороже продать. От таких горластых, как десятник этот, отвертеться, да разве ж только от него? Там лодейщики за перевоз цену гнут, здесь десятину в казну, всем только давай, давай. Так и вертишься, словно змея морская в рыбацких сетях… – с напускным горестным видом вздохнул купец.
– Ну, уж ты, брат, совсем извертелся, доходяга! – расхохотался мастер, слегка хлопнув крепкой дланью по упитанному чреву купца. – Тебе деньги считать, а мне вон ещё две насады на воду спустить до Купалина дня надо.
– Тебе ли, Орёл, о том переживать, сколько лодий за свою жизнь в плаванье пустил…
– Эге, брат Кардопулус, всё одно переживаю всякий раз, как море мою лодью примет, – сразу стал серьёзным мастер, глядя на раскинувшуюся голубизну залива. – Может принять с любовью, а может и не принять, тогда жди беды: рассерчает и вышвырнет на мель или, того хуже, о камни в щепу размозжит.
– Знаю я вас, россов, – махнул рукой грек, – выдумываете много всякого. С морем, будто с живым, разговариваете, ветру молитесь, солнцу, как богу, поклоняетесь. Чепуха всё это, мы вот одному Иисусу молимся, и хватает, как видишь! – И он почти любовно огладил своё тучное чрево.
– Чепуха, говоришь? – прищурил свои орлиные очи мастер. – А помнишь, как прошлой осенью твой друг, купец из Пантикапея, решил дом поставить у самого моря? Когда я спросил, а договорился ли он об этом с морем, вы оба долго смеялись над моей «варварской простотой». А что осенние да зимние Буривеи с той постройкой сделали, а?
– Так кто ж знал, что такие огромные каменья море может разметать, как простую гальку. Ничего, на ошибках учатся. Он теперь на холме дом возводит.
– То-то и оно, – без улыбки молвил мастер. – Море – оно в самом деле живое. Когда я прихожу к нему на мовь, а по лику морскому большие волны ходят, то сначала прошу впустить меня в его бурные воды. Оно на несколько мгновений как раз в том месте, где я стою, волну смиряет, подхватывает меня и несёт прочь от пенного прибоя. После, как воздам хвалу водам его живым, снова прошу Могучего отпустить меня на берег. Море вдругорядь в этом месте замирает и выносит меня на песок невредимым. А ты попробуй хоть раз так сделать, а, купец?
– Я больше к термам привык, да и не люблю много плескаться, – рассмеялся грек. Потом спросил, будто невзначай: – А на что вашему князю столько морских лодий, большую торговлю вести будете?
– Моё дело лодии строить, а для чего они, не моя забота, – ответил лодейный мастер, а по лику его пробежала едва заметная тень.
«Лукавит грек, ведь добре ведает, что не торговая оснастка на лодьях наших, а боевая, – подумал про себя Орёл. – Как это он не спросил, будет ли князь на спуске сих лодий на воду? Кому-кому, а Кардопулусу ведомо, что Святослав несколько раз на строительство наведывался, да и сам топор в руки с охотой берёт. Впрок пошла князю наука лодейная», – с некоторой гордостью думал мастер, вспомнив, как едва не потонул князь в отрочестве. Мастер на несколько мгновений забыл о Кардопулусе, глядя на зелёно-голубой перелив красок моря, – он зрел прошлое. Снова видел себя на берегу Почайны с топором в руках и рядом загорелого отрока с красным от жары и старания ликом. Юный князь, вытирая пот с чела, с волнением глядит, как принимает его работу сам Орёл. Главный лодейный мастер тряхнул головой, прощаясь с возникшим образом. Да, много воды утекло с той поры из священной Непры в море. Изменилась Русь, сбросила с окрепших рамен хазарского упыря, а потом и вовсе в схватке жестокой прикончила. И всё это под водительством того старательного отрока, а ныне увенчанного победами многими князя Святослава, именуемого Хоробрым Русским Пардусом. Лик старого мастера осветился, будто засиял изнутри от благостных мыслей. Ведь и его дар, умение, да и топор искусный, тому делу общему служит. Вон сколько больших да надёжных лодий срублено для грядущего похода. Издавна во многих кораблях сила Руси была, и сейчас именно ему, мастеру Орлу, выпало ту силу воссоздать, есть ли большее счастье для руса? Лодейщик взглянул на грека и усмехнулся: ну как о том великом счастье – быть нужным Роду – расскажешь вёрткому купцу, коли для него счастье в пенязях многих да домах роскошных только и может быть? Поди объясни такому, что не злато, а память людская да нужные творения мыслей и рук человеческих остаются на земле после нашего ухода в жизнь вечную…
* * *
Отцветали липы, тянулись к небу жита с просами, кипела белопенным цветением гречка, люди возили первое сено и готовились к празднованию Купалы, а вокруг Киева – от Подола до Почайны – всё гремела копытами конница, кромсая подковами траву и ломая кусты.
В Берестянской пуще с раннего утра шло необычное движение, суета и беготня. Живена с затуманенными от горя очами, полными слёз, готовыми вот-вот пролиться, привычными движениями управлялась по хозяйству. Давала отрывистые наказы двум работникам, которых смогли нанять себе Лемеши после получения доли добычи в Хазарской войне. Её муж Звенислав внешне был спокоен: деловито и не торопясь проверял боевое вооружение и перемётные сумы, иногда, скосив очи, придирчиво поглядывал, как управляется его младший сын Младобор. Если замечал какую ошибку, тут же поправлял, делая это как бы между прочим.
После утренней трапезы, за которой все были необычайно молчаливы, даже работники, все вышли проводить отъезжающих. Стоя у крыльца нового добротного дома, который только срубили мастера и теперь украшали резьбой, Звенислав ещё раз напомнил работникам, чтоб прилежно помогали остающимся на хозяйстве женщинам. Затем обнял жену, которая уже не могла более сдерживаться и разрыдалась во весь голос горько и отчаянно. Беляна тихо плакала, прижимая к себе деток, а Младобор поглядывал на неё тоскливым взором. Она подошла к нему, обняла и поцеловала на прощание, Ярослав тоже обнял, а Цветенка вцепилась в рукав, не отпуская своего любимого и самого доброго дядю, который придумывал так много всяческих забав и удивительных историй. Несмотря на жару, всем стало как-то пусто и холодно. Мужчины, с трудом оторвавшись от цепких рук провожающих, торопливо взметнулись в сёдла и тронули коней. Все остались стоять у крыльца, только безутешная Живена всё не отпускала руку сына и шла рядом с конём, обливаясь слезами. Когда дом уже скрылся за пышными кустами орешника, она отпустила руку Младобора и вцепилась мёртвой хваткой в стремя мужа.
– Звенислав, – запричитала она сквозь рыдания, – прошу тебя, умоляю, кланяйся Святославу, проси его, чтоб последнего нашего сына не забирал на войну, ведь он брат его молочный, я же их вместе выкормила!.. Не переживу я, если и с Младоборушкой что случится, скажи князю, Звенислав… – рыдала и стенала убитая горем Живена.
Старый огнищанин растерянно оглянулся на сына, который и вовсе не мог понять, что это с горя нашло на его мать и при чём здесь князь Киевский. Звенислав слез с коня, отвёл жену чуть в сторону, обнял и, поглаживая её вздрагивающие от рыданий плечи и враз согнувшуюся спину, проговорил медленно, с трудом, негромко, но твёрдо:
– Не могу я, милая Живенушка, про такое князя просить. Мы с Младобором мужи здравые, не убогие, а значит, в час войны должны быть воинами. Так исстари заведено, а коли не будем того блюсти, погибнет земля наша под чужими копытами. Не могу я, не по Прави это – пользоваться тем, что тебе выпало выкормить таких двух богатырей, как Святослав и Младобор. То честь великая материнская и слава, но говорить князю я о том, а тем паче просить не буду, прости! – Лемеш отстранил жену, поцеловал в последний раз и вскочил в седло. Огрел коня по крупу плетью и поскакал прочь, не оглядываясь, а вслед за ним полетел растерянный сын. Потом уже перед самым Киевом, когда пустили коней в тени деревьев пощипать скудной измученной засухой травы, а сами сели передохнуть, Младобор решился спросить:
– Неужто правда, отец, что я молочный брат самого князя Святослава?
– Правда, сынок, – вздохнул Звенислав, – перед природой-то все равны, что князь, что смолокур. Княгиня Ольга уже в летах была, когда боги ей дали сына, потому молока не было, из теремных не хотели кормилицу брать, лишние разговоры. Мы тогда ещё вблизи Киева жили однодворцами, как и сейчас. Однажды, когда мать с тобою на руках возле нашей хаты сидела на завалинке да тебя грудью кормила, конный какой-то появился. Вида важного, одет добротно, подъезжает к ней и спрашивает, сколько дитятке от роду, да хватает ли молока, а сама здрава ли. Потом попросил, чтоб хозяина, то есть меня, кликнула. «Что за притча такая, – думаю, – какое дело этому важному мужу до Живены и тебя малого?» Поговорил тот муж со мной, он княжеским теремным оказался, в двух словах объяснил, что к чему, и клятву крепкую взял никому о том не говорить. В общем, стал ты, Младоборушка, жить в тереме княжеском вместе с мамкой, которая тебя и князя нашего молоком своим вскормила, – закончил свой рассказ Звенислав. – Когда Святославу годок исполнился, князь Игорь приставил к нему кормильца Асмуда и отправил в Новгород, в свою вотчину, значит. А княгиня нам подарки хорошие дала, только попросила для жилья другое место сыскать, вот мы и переселились…
– Чудно, – раздумывая о том, что услышал, вымолвил сын, – выходит, в самом деле я молочный брат самому князю… – повторил он.
– Ты, сыне, про то никому сказывать не должен, такой уговор у нас с княгиней Ольгой был, и, покуда жива она, не смеем мы слова данного порушить, уразумел?
Сын только молча кивнул в ответ: а как же иначе, коль слово дадено?! Да и не поверит никто, если расскажешь, на смех только поднимут и за болтуна пустого считать будут.
– Ну, отдохнули, пора в Ратный Стан. – И отец с сыном поскакали по пыльной дороге к городским воротам.
Ушла к восточным рубежам тьма Инара, а из Волжской Булгарии вернулись Свенельд и Боскид.
В Киеве греки на Торжищах стояли хмурые, часто собирались в своих гостевых дворах и о чём-то долго переговаривались. Жидовины опять скупали муку, мёд и туки с елеем, а Горазд тряс их тайные схроны и наказывал за повышение цен.
Огнищане ждали благодатных дождей, но трава желтела под жгучими лучами, и колосья бессильно клонили головы. Люди то и дело поглядывали на небо, следили за полётом ласточек и щупали соль в корытцах. Но та была сухая и сыпалась, как песок.
Старики качали головами и рекли, что это недобрый знак.
А когда зацвели Перуновы батоги, возвещая, что наступил месяц златоусого Громовержца, Святослав призвал Варяжку из Тайной стражи.
– Что скажешь, о чём люди рекут?
– Известно о чём, княже, о войне. Многие удивлены твоим договором с императором византийским, а ещё тем, – Варяжко понизил голос, – что ты, княже, его посланца Калокира к себе приблизил, он с тобою повсюду: и на охоте, и в ратном стане, и в гриднице…
Святослав помолчал, взглянул на Варяжко и молвил:
– Вижу, ещё что-то есть у тебя, говори!
– Бывший темник Блуд хочет просить тебя снять с него опалу и идти в поход Дунайский, – глухо заговорил Варяжко, зная, сколь неприятно сие князю. – Только снова был замечен в домах купцов ненадёжных, рёк там, что ты, княже, какого-то иноземного Хорсунянина к себе приблизил, а его, заслужившего звание боярина своей отвагой в битвах, отныне не жалуешь…
– Себя же он в этом не винит, так? – спросил Святослав, исподлобья глядя на помощника Тайного тиуна.
– Воеводу Свенельда более всего винит, – кивнул Варяжко.
– Нет у меня к нему более веры, хоть он и добрый воин, – тяжко вздохнул князь. – Пусть вину свою в полной мере прочувствует. – Что ещё? – вопрошал князь, всё ещё думая над последними словами тайного стражника.
– Ещё промеж христиан киевских, кои в основном купцы богатые да бояре, разговор идёт, что несправедлив ты к брату своему двоюродному Улебу, который-де и добродетелью христианской отмечен, ведь в главнейшем царьградском храме именем святой Софии крещён, и умом не обижен, и у матери-княгини добрый помощник, а ты всё ему ходу не даёшь, – мрачно молвил Варяжко.
– Смекалист он, сие верно. Только суть свою в сражениях настоящих показать надобно или в решении дел трудных, а он пока только в подручных у матери подвизается, а в сечу-то не торопится. Вот и нынче мать за него попросила, мол, оставь Улеба, одной не справиться, а он и бровью не повёл… – Святослав на некоторое время замолчал, размышляя, потом тряхнул головой. – Ладно, ступай! – Когда Варяжко направился к выходу, добавил вслед: – Позови-ка припасных темников.
С припасными темниками князь долго беседовал, спрашивая, сколько есть сена, проса, брашна и сколько чего прикупить надобно.
Потом вызвал Зворыку:
– Завтра утром пошли гонцов в землю Болгарскую. Пусть скажут их царю: «Аз, князь Святослав Киевский, иду на тя! Сдавайся или защищайся».
– Выступаем, княже?
– Да, брат. Час приспел полететь нашим соколам за Дунай!
После этого отправился на Мольбище, принёс жертвы богам и вёл беседу с Великим Могуном.
Зайдя в терем, Святослав пообедал и решил кое-какие дела с матерью Ольгой.
А затем отправился на княжескую конюшню и занялся выбором коня. Чтобы масть была чисто-белой, чтобы ржал звонко и весело, чтобы выя дугой выгибалась. А когда на нём выезжаешь, чтоб копытами землю бил, а грива стелилась по ветру. А самое главное, чтоб выносливость имел – в погоню устремлялся первым, а силы терял последним.
Таких коней Святослав, помимо своего Белоцвета, отобрал ещё двоих. И велел стременным подобрать к ним сёдла прочные, уздечки, стремена, поторочные сумы снарядить – всё как надо, и всех троих скакунов приготовить к походу.
Взглянув на солнце, заспешил в Ратный Стан, где уже должны были собраться темники и полутемники.
– Пойдём тремя путями, – молвил князь, когда все уселись в его шатре. – Воевода Свен поведёт Черниговскую и Северскую конницу посуху к Трояновым валам. – Он на миг задержал взор на старом воеводе. – Я с пешей Подольско-Волынской ратью воеводы Васюты спускаюсь лодьями по Непре, а Притыка выйдет на морских насадах из Корчева, и морем двинемся на Болгарию. Встречаемся ко дню Перунову возле Дунайской переправы. – Святослав опять взглянул на старого воеводу, что сидел с непроницаемым ликом, и добавил: – В тех землях, вуйко, через которые проходить будешь, пополнение набирай, – в древлянах, а также в тиверских да угличских градах и весях, которые за тобою ещё от отца моего, потому как тиуны в тех землях да старосты тебе добре ведомы.
Свенельд только молча кивнул в знак согласия. Не один десяток лет в этих землях он сбирает полюдье. Когда-то князь Игорь поручил воеводе взять дань с непокорных тиверцев да уличей. А уличи – народ вольный, свободолюбивый, они даже грады свои строят не так, как славяно-арии, по кругу, а рядами с ровными улицами, что под прямыми углами пересекаются, за что и прозвали их уличами, или уголичами. И дань добровольно они платить не хотят, а только воинской крепкой руке подчиняются, такой, как тяжёлая десница Свенельда. Сидели уличи с тиверцами между Днепром и Бугом, да Свенельд с варягами так крепко за них взялся, что после трёхлетней осады взял их стольный град Пересечень, стоявший в устье реки Самарь, там, где она вливалась в Непру. Да не захотели уличи входить в состав Киевской Руси и большей частью переселились к Днестру, там град новый Пересечень-на-Днестре поставили и стали владычить аж до Дуная, до самых валов Трояновых. Однако с Киевом договор мирный имели, и так повелось, что в тех землях полюдье собирал не князь, а Свенельд.
– Как достигнете Днестра, – вёл дальше князь, – темник Боскид с Черниговской тьмой поднимется вверх по течению и соединится там с нашими союзниками уграми, гонец к ним уже послан.
Наконец, обсудив все вопросы, темники разошлись отдавать младшим приказы о выступлении в Дунайский поход.
Проходя по Ратному Стану, князь неожиданно столкнулся с берестянским огнищанином, который был ему знаком, как и каждый из воев, что не единожды побывали с ним в тяжких походах. Святослав ответил на приветствие воина и прошёл шагов пять, а затем остановился, видно что-то решив про себя. Потом окликнул огнищанина и отметил незнакомого молодого воина, удивительно схожего со Звениславом.
– Кто это с тобою, Звенислав? – спросил князь.
– Сын мой младший, Младобор, вот, готов со мною встать в строй, сам его науке воинской обучал, – отвечал огнищанин.
– Погоди, брат, – Святослав покачал головой, – а сколько же ещё сыновей у тебя?
– Было трое, княже, – опустил голову старый огнищанин, – двое… – Он замешкался.
– Я помню твоих славных сынов и добрых воинов, – скорбно молвил князь, – и Саркел помню, и битву с Курей… – Оба помолчали. – Храбро сражались сыновья твои за землю славянскую, Вышеслав с Овсениславом за Русь нашу вольную жизнь положили, потому дякую тебе и сыновьям твоим красно! – Святослав приложил ладонь к сердцу и склонил голову перед отцом. – Живые всегда в долгу перед павшими. Особенно коли ты начальник воинский, который на смерть их посылал, никогда эта рана души не сможет зарасти, до самой смерти. А что же сын твой в стороне стоит? – Святослав рукою сделал знак младшему Лемешу подойти. Он оглядел ладную стать, слепленную нелёгким огнищанским трудом, пожал крепкую руку и заглянул в открытые голубые очи Младобора, сияющим восторгом глядящие на «самого князя». Как бывало с ним не единожды, когда впервые встреченный человек вдруг чем-то очень нравился или, напротив, вызывал неприятное ощущение, от которого потом почти невозможно было избавиться, Святослав почувствовал, что молодой огнищанин лёг ему на душу.
– А сколько ж годов тебе, Младобор? – Услышав ответ, немного удивился. – Выходит, мы с тобой ровесники, а я думал, ты моложе. Есть ли у тебя жена и детки? – спросил Святослав.
– Нет, княже, – смущаясь, хриплым от волнения голосом ответил молодой огнищанин.
– Да стеснительный он у меня слишком, – вставил слово отец, – давно уж пора своих детей, а мне внуков иметь, а он всё с детьми брата тешится.
– Эге, не дело это, – с грустной улыбкой пожурил молодого Лемеша князь. – Чтоб Русь крепла, нужно каждому род свой укреплять, а какой же род без деток? Ты давай, брат Младобор, исправляйся. – Потом повернулся к Звениславу и молвил твёрдо, но с теплотой в голосе: – Забирай сына, отец, и возвращайтесь домой. Огнищанин должен мирным трудом заниматься: землю раять, детей да внуков растить.
– Постой, княже, как это – домой, а как же поход? Ведь тьма наша уже снимается, коней седлает… – растерянно возразил огнищанин.
– Порядок один для всех, брат Звенислав, – твёрдо ответил князь. – Последнего сына, коли не стоят враги у ворот, не положено в дружину забирать. Врага на земле нашей уже нет, и в том заслуга твоих сыновей, Овсенислава с Вышеславом. Семья огнищан Лемешей свой ратный долг сполна отдала Киеву, теперь помогайте ему трудом своим огнищанским, который не менее воинского для Руси значит. Вот пойдём мы на Дунай-реку, сломим опасность хазарскую да койсожскую, что в земле Болгарской затаилась, вернём земли Русколани великой, но то будет только первый шаг. Исконно нашей станет земля Дунайская, только когда такие, как вы, огнищане, на тех полях крепкие корни пустят. Мечом угодья отвоевать – дело важное, только без рала огнищанского, за ним идущего, может пустым оказаться. Так что как закрепимся там, добро пожаловать, земли добрые дам, сколько пожелаете, скотину и пенязи на обзаведение – всё из казны княжеской получите.
– Как же… – опять возразил Звенислав, – я-то конюший, я ведь…
– Эге, отец, на конюшне теперь другие помощники есть, – горько усмехнулся Святослав, и Звенислав понял, что князь говорит о бывшем темнике Блуде. – Для того и отправляемся мы в поход за Дунай-реку, чтобы спокойно на Руси огнищане своим делом занимались, – тихо произнёс Святослав, глядя куда-то мимо воина, и боль, с которой произнесены были последние слова, выдавили невольную скупую слезу из очей Звенислава. – В Берестянской пуще есть заимка кудесника Избора, а подле могила неприметная. В ней жена моя Овсена и сын Мечиславушка схоронены. Разыщи, прошу, и приглядывай за погребалищем, пока я сам не вернусь. Прощай… – Святослав повернулся и пошёл не оглядываясь.
Звенислав, тронутый доверием князя и сердечными его словами, хотел ответить, что, пока род его живёт на свете божьем, будет под постоянной заботой могила жены и сына Святослава, но горький ком, подкативший к горлу, не дал словам вырваться наружу.
Стоя у широко распахнутых ворот Ратного Стана, некогда самый отчаянный и удачливый темник Киевской дружины, а ныне помощник княжеского конюшенного второй руки Блуд глядел, как уходит из града лихая конница. Уходит на войну без него! Непробиваемый ком залёг внутри. Боль и ярость, обида и тоска – всё собралось в этом горячечном сгустке, терзало душу и рвало её на части. Стократ досаднее было оттого, что предводительствует конницей давний недруг воевода Свенельд. Слово своё княжеское Святослав сдержал-таки, когда перед всеми темниками в гневе выкрикнул, что станет Блуд простым конюхом в Киеве, коли посягнёт на часть воинской добычи. Перед затуманенным взором одна за другой мелькали картины прошлого. Как раз воевода Свенельд, облачённый в дорогую византийскую броню, на чудном вороном коне, был тем первым воем, стать вровень с которым возомнил себе жалкий сирота, маленький лиходей, приведённый в Ратный Стан железной десницей кузнеца Молотило. Он не просто грезил о том, нет, он трудился так, что иногда полуживым едва добирался до жёсткого воинского ложа. Блуд не жалел ни себя, ни других, потому как только упорным трудом и быстротой мысли он мог достичь желаемого, а без этого жизнь не стоила ничего, лепше сгинуть от рвущего жилы напряжения в воинской учёбе или в лихой схватке. И он достиг своего, свершилось невиданное: из простого воина враз стал темником! Да не просто темником, а любимцем самого князя, который души в нём не чаял, потому как более всего уважал людей беспримерной храбрости. Всё так и было, он шёл в гору и уже мыслил тайно, как бы отодвинуть от князя основательного, не любящего пустого риска Свена. На Булгарской войне он даже подослал в окружение воеводы своего человека, который слушал все речи Свенельда и передавал их Блуду. Но опытный и осторожный воевода, видно, почуял опасность, исходящую от молодого темника, и… «Да что говорить, – горько сознался сам себе Блуд, – переклюкал меня старый лис, сумел очернить перед Святославом. А теперь в Дунайском походе хитрый Свен сколько приберёт к рукам!» Блуду вспомнилась та обида, когда он в тяжком бою одолел челматского князя, как победно воздел он главу поверженного и как просили враги отдать голову повелителя своего за золото, сколько та голова потянет. А князь обидел его горько, повелев отдать голову просто так, за то, что добре бился челматский князь! Щедрость Святослав свою показал, только почему за его, Блуда, счёт, почему из добычи воинской не дал за ту голову злато? «А как я своё сам взял, так сразу в немилости оказался! Скот, мол, продал, а как сам Свенельд за счёт уличей да тиверцев, с которых дань для казны княжеской сбирает, себе мошну набивает? Ох, и ловко пристроился, никто ведь не проверит! А на меня князя науськал, заставил деньги вернуть местным жителям, да ещё и в казну заплатить! Да не то важно, обидней всего, что князь мне доверять перестал. Да тут ещё Тайная стража свою ложку дёгтя добавляет! Они, как пить дать, они, донесли князю про то, как я пленников из той Булгарской войны знакомым купцам выгодно пристроил. Этот Ворон в старой простой кольчужке, да помешанный на писании на бересту и кожу Варяжко. Им-то, как и волхвам, ничего в этой жизни не надобно – ни денег, ни власти. Из-за них я дома нового и части богатств лишился и из темников лучших в помощники конюшенного попал!»
Помощник княжеского конюшенного второй руки то и дело поскрипывал сжатыми зубами да посылал горькие проклятья своим недругам, всё более убеждая себя в собственной правоте.
От воспоминаний или оттого, что в мыслях он всем «перемыл кости», боль помалу стала утихать. «Что ж, – успокаивал себя Блуд, – и Свен тоже у князя в опале был, да снова поднялся, неужто я глупее его или менее изворотлив, это мы ещё поглядим! Я моложе, у меня запаса времени больше, поглядим, старый лис, чья сверху будет!»
А бывший старший конюший с сыном возвращались домой. На новом подворье возник ещё больший переполох, чем когда они уезжали в Киев, большой переполох да большие слёзы. Такова женская суть: и от горя плакать, и от радости. Беляна как упала на широкую грудь Младобора, как зашлась рыданием, так и не могла никак остановиться.
– Видно, дошли мои мольбы до грозного Перуна, – тихо шептала меж рыданиями да всхлипами Беляна, – одного ведь он у меня уже забрал в своё войско небесное, зачем же и второго, не пережить мне того, не пережить!
Совсем растерянный, но счастливо сияющий Младобор нежно обнимал плачущую Беляну и не мог вымолвить ни слова. Всегда глядел он прежде на жену брата с плохо скрываемым очарованием и восторгом, как на диво дивное, как на богиню во плоти. А вот как провожала она его, да как обожгла поцелуем, так и не стало ему покоя – что б ни делал, всё о Беляне думал. Теперь же в слезах радости и горячем объятии вовсе растаяла чувствительная душа Младобора, и не понимал он, на каком оказался свете: в небесном ли Ирин или на земле. Не видел, как увёл отец плачущую от счастья мать, как старший из резчиков что-то тихо сказал напарнику, и тот завлёк Ярослава и Цветену, увёл их подальше к раскидистой груше, где стал ловко резать острым ножом забавные фигурки чудных зверей, а дети пытались за ним повторить.
Когда чуть пришёл в себя от нежданного счастья молодой огнищанин, то увидел, что нет вокруг никого, только он с чуть всхлипывающей на груди Беляной. Несмотря на проделанный по жаре путь из Киева, ему не хотелось ни пить, ни есть, а только чтобы рядом вот так, как сейчас, прильнув к нему гибкой ивушкой, всегда находилась Самая Прекрасная на всём белом свете и сквозь грубое полотно рубахи слышался стук родного сердечка. Потом повернулись они и, не сговариваясь, пошли неспешно, будто поплыли прочь с подворья. Молча прошли, держась за руки, до поросшего осокой пруда и сели на корявом пне, прижавшись друг к другу и глядя на солнце, заходящее за верхушки дерев Берестянской пущи.
– Белянушка, – нежно прошептал Младобор, как будто боялся вспугнуть севшего на цветок мотылька, – я ведь всегда любил и втайне любовался тобой, только очень боялся, а вдруг догадается кто, ты же брата моего жена…
– Тише, – женская рука нежно коснулась губ молодца, заставив смолкнуть, – знаю всё, женщина ведь не только очами, она кожей, а более всего сердцем чувствует, а от этого виденья ничего не скроешь, молчи! Я всё по Вышеславу убивалась, а как собрались вы с отцом на войну Дунайскую, будто пелена с глаз, а может, с сердца упала. – Она замолчала, не то вспоминая, не то собираясь с силами. – Уразумела я враз, что и ты можешь из того дальнего похода не вернуться, и не будет никогда более рядом твоих лучистых очей… – Она снова примолкла. – От Вышеслава детки хоть остались, а от тебя ничего, совсем ничего!
Через седмицу, когда мастера закончили свою работу и новый дом Лемешей засиял свежей резьбой: конями, солнышками, знаками Рода, Макоши, Даждьбога и другими обязательными для доброй жизни оберегами, сыграли Лемеши свадьбу. Не особо пышную, хотя был у них достаток, а потому что была уже у Беляны когда-то свадьба с Вышеславом, и детки – одиннадцатилетний Ярослав и девятилетняя Цветена – вон уже какие взрослые. Да ведь никакая свадьба людей не соединит, коли души не сроднились. А эти друг на дружку и наглядеться не могли.
Глава 4 Дячина
Летит-стелется лихая киевская конница. Вошла в древлянскую землю. В Овруче – новой столице, возведённой вместо Искоростеня, разрушенного Ольгой, Свенельд борзо собрал Древлянский полк, и дружина повернула к полудню.
А через седмицу дошла до Днестра.
Свенельд направил Боскида с тьмой вверх по реке на соединение с уграми, сам же переправился на другую сторону.
Пройдя Днестровский Пересечень, конница взяла направление на Болград.
Здесь Свенельд поставил впереди войска уличей и тиверцев, хорошо знавших Белохорватскую и Дакийскую земли, и так они потекли дальше к полудню.
Земли Подунавья когда-то принадлежали дакам, которые с давних времён сражались вместе со скифами против Римской империи и её восточной части – Византии. Но хитрые ромы и ромеи, где лестью, где посулами и прямым подкупом, переманивали даков к себе на службу. А потом римский император Марк Траян Ульпий захватил земли даков силой. И даки стали охранять Волошину, то есть территорию Восточного Подунавья, подчинённую Риму и платившую ему дань, теперь уже от «варваров»: готов, гуннов, славян, варягов, обров, угров и прочих народов, угрожавших Римской империи с северо-востока.
Давно уже нет Великого Рима, его «растворила» в себе более хитрая греческая Византия. Не стало и воинственных даков. Их потомки охристианились и смешались с прочим населением Волошины, а теперь и Болгарии. Осталось только название – Дакийская земля, Дячина, как благодарность-подяка Богу в те времена, когда её жители – даки, геты, фракийцы – одерживали великие победы и владычили на землях от самой Карпат-горы до Дуная, от Дуная до Марицы и далее к полудню, охватывая те угодья, где теперь стоит византийский Константинополь.
В один из дней в утренней дымке увидели передовые дозоры зелёную сопку, подле неё другую, третью, и далее гряду уходящих за окоём с восхода на заход возвышенностей.
– Ну, вот и до Первого Троянова вала дошли, – молвил основательный и немногословный старший дозора из уличской тьмы. – Отсюда одесную возьмём, нам к переправе поспеть скорее надобно.
Дозорные, а вслед за ними и Киевская конница двинулись вдоль цепочки покрытых зеленью и слитых меж собою не то природных гряд-возвышенностей, не то рукотворных холмов.
– Скажи, десятник, – обратился к старшему дозора молодой быстроглазый воин, озадаченно глядя на уходящую к виднокраю гряду, – кто эти самые валы возвёл и почему они Трояновыми зовутся? Это что, их римский император Траян возвёл, чтоб границы свои обезопасить? Так разве ж руками человеческими можно столько земли переворочать, ведь это какие тьмы народу нужно собрать для такой работы?
– Эге, брат, – продолжая зорко вглядываться в даль и одновременно «стричь» внимательным оком заросли во впадинах и низинах, отвечал степенный начальник, – некогда боги-отцы сдвинули тут земную твердь, подобно волнам морским, чтоб детям их, живущим по отцовским заветам, защита надёжная от злых ромов была. Ты внимательно-то на валы сии погляди, ничего не замечаешь? – спросил он, когда дозор поднялся на вершину одного из холмов.
– Валы как валы, старые, полуразрушенные, – пожал плечами молодой воин, оглядывая с высоты простирающиеся вдаль извилистые ряды возвышенностей.
– Внимательней гляди, у дозорного не только глаз острым должен быть, но и ум быстрым, – строго молвил старший дозора.
– Ага, кажется, вон там, – помедлив, указал молодой дозорный, – будто руками человеческими соединили два прерванных вала…
– Верно, где разрыв природного вала был, там насыпали, где слишком склон пологий был, там подкопали, круче сделали, где-то ров меж валами углубили, чтобы врагу труднее было перебраться, а значит, и поразить его стрелой проще. Там же, где вешние воды могли размыть рукотворную насыпь, столбы дубовые вбивали, а уж потом землёю гатили, да ещё и сверху для прочности снова землёй покрывали, так-то, – молвил важно десятник.
– Не пойму, – привстал на стременах второй дозорный, – отчего они с нашей стороны пологие, а с римской – крутые? Как будто с этой стороны кто-то от римлян защиту сооружал…
– Молодец, Тихомир! – похвалил начальник. – Потому что валы сии пораньше римского Траяна обустроены были. Гуселыцики, домрачеи да бояны-велесовичи сказывают в песнях своих, что во времена праотца Ория сыновья его разделились на три Рода, и были то Кий, Щех и Хорив, родоначальники русов, чехов и хорват, от которых и пошли славянские племена великие. Дружно они промеж собой жили, всегда брат брату по завету отцовскому помогали, и прозвали их в народе Троян-царём. Ибо находились они под покровительством Верховного нашего Трояна-Триглава и были его земным воплощением. Праотец Орий и сыновья его сотворили великую державу Русколань, границы коей простирались от Рай-реки на восходе до Дуная на заходе. И жили пращуры наши под правлением Троян-царя и потомков их богато и мирно тысячу лет, и времена те прозвались Трояновыми. А когда готы с гуннами разрушили Русколань, пришёл конец и векам Трояновым, настало злое время междоусобиц, разлада и войн. Так вот, ещё во времена Трояновы предки наши строили те валы для защиты Русколани от врагов: и на Днепре и его притоках строили, и на Дунае, там, где он перестает течь на полдень и сворачивает на заход. Там второй ряд сих валов великих тянется, – закончил старший дозора.
– Погоди, – догадка осенила молодого дозорного, – выходит, мы не просто на Болгарию идём, а ту землю, что некогда Русколани нашей принадлежала, возвращаем! – воскликнул он.
– Так оно и есть, – степенно кивнул старший дозора и направил коня вниз.
Подъехали к невеликой степной реке, что преграждала путь и уходила на полдень, прорезав неширокое ущелье в древнем валу.
– А ну, молодцы, на десяток шагов друг от друга, – приказал старший, спешиваясь у берега, – ищем, где дружине лепше перейти эту самую Ялпугу.
Переправившись через реку, Киевская конница вскоре свернула левее и, пройдя по тесной лощине меж двух рукотворных сопок через каменные развалины, много веков тому бывшие прочными башнями ворот, перешла на полуденную сторону древних укреплений и двинулась вдоль сильно вытянутого озера Ялпуг. Десятник пояснил, что старая римская дорога должна привести к придунайской крепости Орёл, построенной у древней переправы через голубой Дунай. С водной глади, поросшей густыми камышами да осокой, то и дело взлетали утки, серые гуси, а по мелководью важно выхаживали задумчивые цапли. Вокруг, насколько хватало глаз, простирались плавни.
– Глядите, братья, какая здесь прорва дичи! – восторженно воскликнул Тихомир, подняв громким возгласом в воздух ленивую стайку куликов. Из ближней камышовой заросли рыжей молнией выскочила лисица и, сердито взглянув на нежданных шумливых гостей, испортивших ей охоту, тут же скрылась в кустарнике.
– К тому же не пуганой вовсе, – добавил дозорный и замолчал, перехватив неодобрительный взгляд десятника. Негоже шуметь в дозоре, это каждый знает, даже когда вокруг ни души, сколько око зрит.
Наконец увидели полуразрушенную крепость, сложенную из ровных каменных блоков в два локтя длиной и три четверти высотой каждый.
– Вот это и есть то самое место, – молвил старший дозора, – где персидский царь Дарий велел покорным ему грекам мост ставить.
– А когда это было? Расскажи! – полюбопытствовал молодой.
– Волхв на привале сказывал, – вступил в разговор Тихомир, – что когда наши предки-скифы погнали войско этого Дария прочь со своей земли, то он устремился как раз на сию переправу. А скифы тогда послали самых борзых воев на лучших конях, они примчались сюда раньше удиравших персов и крикнули грекам: «Ломайте мост, возвращайтесь по домам и благодарите нас и богов за вашу свободу: если царь ваш и уцелеет, он долго еще ни на кого не пойдет войной!» Греки собрались на совет. Одни их князья захотели тут же уничтожить мост, чтобы сгинул персидский царь и стала греческая земля опять вольной. Но другие возопили, что свободные грады греческие вряд ли захотят оставить у власти тех, кто так ревностно служил завоевателям.
Долго спорили вожди греческие меж собою, склоняясь то в одну, то в другую сторону, а потом решили часть моста со скифской стороны разобрать, а остальную пока оставить и ждать, что будет дальше.
Персидское войско подошло к Дунаю ночью. Ощупью, по колено в воде, стали искать мост; моста не было, только одинокие сваи торчали из воды. Началось смятение. Сам Дарий не знал, что же ему делать. Но тут ему на помощь пришёл египтянин, что был в его свите. Отличался сей муж голосом необычайной силы. Не единожды приходилось ему передавать команды царя персов, перекрывая голосом своим даже шум битвы. Он стал кричать во всю силу, голос перелетел через Дунай, его услыхали в греческом лагере и выслали за Дарием лодку. Мастера стали спешно достраивать мост, и на следующий день остатки Дариева войска потянулись прочь из нашей земли. Глядели наши деды на это с окрестных холмов, дивились несказанно и рекли: «Если греки – свободные люди, то нет людей их трусливее; если греки – рабы, то нет рабов их преданнее», – закончил пересказ дозорный.
Меж тем уже вся конная дружина Свенельда собралась на берегу широкого Дуная, осталось дождаться угров да княжеских лодий.
– Раскинуть стан, охране вокруг глядеть зорко, дозоры вверх и вниз по течению, а также на том берегу на треть гона, проверить переправу! – как всегда, кратко и властно повелел опытный воевода, цепким взором оглядывая всё вокруг.
Святославовы лодьи, благополучно пройдя пороги и спустившись в устье Днепра, прошли остров Березань, к коему пристали всего на день для починки оснастки, и борзым ходом двинулись дальше. Калокир, что плыл на княжеской лодье, теперь почти всё время стоял на носу, радостно подставляя чело свежему морскому ветру, с детства столь привычному и родному. Святославу даже показалось, что губы Хорсунянина иногда беззвучно шевелятся, будто он что-то повторяет про себя или молится.
– О чём молишь своего бога, брат? – спросил он патрикия.
– Я не молюсь, я прославляю море стихом великого Гомера, тебе же ведомо, князь, что море и Херсонес нераздельны, я люблю море и рад снова встретиться с ним!
Миновали Днестровский лиман, лодьи прошли вдоль многочисленных прибрежных озёр и, наконец, уткнулись в песчаный берег морского залива в Дунайских плавнях.
На берегу табун диких коней мирно пасся у самой воды, цапли деловито что-то искали в тине.
С приближением лодий лошади и цапли неохотно покинули своё место.
– Значит, поблизости никого, – заключил старший дозора Гуща.
Нос его лодки врезался в покрывающие воду заросли. Гуща, опустив руки в воду, вдруг вытащил из нее зеленый куст с круглыми клубнями на корнях. Ловко обрезав клубни ножом, он рассёк их напополам и предложил всем попробовать ядро.
– Вкусно! – удивился второй изведыватель, сначала осторожно отведав клубень. – На грецкий орех похоже…
– Это и есть орех, только водяной, – пояснил старший, часто бывавший в сих местах вместе с купцами. – Древнейшая и ценнейшая пища, заменяет рожь и пшеницу, кои в болотистой дельте Дуная не растут. Водяной орех сушат, толкут в муку и пекут лепешки. А также скот кормят…
Пятёрка изведывателей, напутствуемая Вороном, тут же свела в поводу своих коней и ускакала на полдень. Воины, осмотрев берега, стали вытаскивать лодьи и обустраиваться на стоянку.
Уже к вечеру следующего дня завидели молодые дозорные паруса больших лодий из Корчева под водительством Притыки. Воины из Тьмуторокани, Танаиса и других градов Альказрии, с Дона и берегов Сурожского моря спешили на означенное князем место встречи. Радостны и крепки были богатырские объятия, дружной общая вечеря. А после того темники собрались у самой большой из морских лодий, что стояла, уткнувшись крепким бревном днища, в песчаный берег залива. Лодия сия была спущена перед самым походом, и теперь Святослав оглядывал её крутые, ладно изогнутые бока, нежно поглаживая их мозолистой рукой, будто гордую выю резвого скакуна.
– Добрую лодью мастер Орёл срубил, ладная да прочная, глядите, братья темники, не простая ведь работа, волшба, самая настоящая! – восторгался обычно скупой на похвалу князь.
– А в ходу-то как легка, – пробасил Притыка, – вроде и ветер один для всех, и оснастка та же, да только бежит всё время впереди, так что мы с кормщиком опасались, как бы остальные лодьи из виду не потерять.
– Что скажешь, морской человече, – обратился Святослав к Хорсунянину, который также внимательно оглядывал новую лодью, иногда постукивая по смоляному боку костяшками пальцев, – оцени, брат, работу мастеров наших.
– Работа ваших мастеров совсем другая, – в раздумье молвил посланник. – У нас хорош тот мастер, который точно по составленному чертежу, по канону корабль сработает, а у вас настоящий мастер немного по-своему творит. Каждый корабль иной. Мы строим по науке, а вы больше по тому, как сердце подскажет.
– Верно речёшь, брат, но это тоже наука, только другая, волховская, – заметил князь. Потом добавил: – Станем теперь снова крепко в Подунавье, будет, как прежде, сие море Русским зваться, и много таких добрых лодий понадобится.
– Княже, – подал голос Ворон, отвёл Святослава чуть в сторону и тихо доложил: – Изведыватели вернулись из Килина да Нов-града Дунайского с недоброй вестью. Рекут, в Нов-граде послы наши казнены по приказу болгарского царя, а головы он повелел на колья насадить, чтобы каждый болгарин, проезжая мимо, на них плевал…
Святослав помрачнел. Отойдя от красавицы лодьи, будто не желая, чтобы злая ненависть касалась её стройных бортов, князь обвёл тяжким взором темников и громко повторил слова главного изведывателя. Молнии блеснули в очах князя, а крепкие скулы жёстко обозначились.
– Таков, значит, ответ болгарского царя… Что ж, пусть теперь силу булата нашего испробует и уразумеет, что кровь посланников ему дорого обойдётся!
– Зачем наперёд гонцов посылать? – тихо спросил кто-то из молодых тысяцких. – Лучше напасть на врага неожиданно, когда он не готов к обороне, тогда и победа будет быстрая!
Притыка, услышав эти слова, хотел резко ответить, но, не желая спора в скорбную минуту и снисходя к юности тысяцкого, коротко произнёс:
– Не годится Киеву так делать. Русичу надо в честной борьбе силу мерить, а прежде дать противнику возможность выбора: начинать ли войну или, может, согласиться на дань.
Дружинники устраивались на ночлег, кто на лодиях, кто у шуршащей песком и мелкой галькой волны, кто вокруг небольших костров. Темники с князем и Калокиром тоже расположились вокруг костра и принялись обсуждать предстоящую войну, которая уже началась с момента казни гонцов.
– Завтра всеми лодьями войдём в Селину. Конница, наверное, уже на подходе к Белграду, а оттуда ей день пути до Дуная, – молвил Святослав. – Задерживаться в Нов-граде не будем, только гонцов наших схороним.
В полугоне от града, на вершине небольшого холма, вырыли воины для братьев своих яму, устлали её верболозом, которого в гырле Дунайском немерено произрастает. Положили в неё тела молодых гонцов и их снятые с кольев головы. Дали, как полагается воину, каждому меч, щит и лук со стрелами, чтобы они могли служить дальше в войске Перуновом. Обнажили боевые клинки и скорбно склонили головы над последним в земном мире прибежищем своих побратимов.
– Вои мои хоробрые, – обратился с последним словом Святослав к павшим, – исполнили вы свой долг пред отцом нашим Родом Всевышним и матерью Русью Великой сполна. За то быть вам во Сварге пречистой! Вы первыми легли в древнюю землю пращуров славных здесь, в Придунавье, у древних валов Трояновых. Понимаем, что сие не последняя наша жертва, но вам, друзья боевые, клянёмся словом воинским, неколебимым, словом русским, что, память о вас храня, биться станем, не щадя живота и не ведая страха. Клянёмся вам, что в битве предстоящей стократ отомстим за вашу погибель! – Слова князя звучали всё более громко и веско, в них зазвенела уже тугая струна внутреннего напряжения, которая тут же отзывалась в сердце каждого воина. – Слава братьям нашим, Сечеславу и Быстромыслу!
– Слава! Слава! Слава! – громовым гласом раскатилось по окрестностям троекратное эхо, и содрогнулась земля болгарская от того крика тысяч могучих глоток, взлетели испуганные стаи гнездившихся в ближайших лиманах и заливчиках птиц.
Потом каждый подходил и сыпал в яму землю из шелома. Воины шли сотня за сотней, тысяча за тысячью, и когда последний воин опустошил свой шелом, то вырос на том месте свежий курган. Прошла дружина строем скорбным мимо преданных земле братьев своих боевых и в последний раз воздала им честь, обнажив мечи.
– А тризну справим по братьям нашим павшим в бою скором! – веско произнёс Святослав. – Карать град, в коем добрая половина жителей славяне, не будем, – молвил князь, – то не их вина, а решение царя болгарского. Надобно к переправе торопиться, до неё не менее пяти гонов, а мы не на конях, а на вёслах, да против течения.
Свенельд ходил туда и сюда по старой башне некогда грозной, а ныне наполовину разрушенной крепости. Ни дозоры, посланные вниз по течению реки, ни те, что посланы вверх, пока никого не обнаружили. Но чутьё старого воина подсказывало, что болгарское войско уже близко. Встречаться с ним одной только коннице ой как не с руки. От Святослава с Притыкой никаких вестей. Нужно было крепко подумать, как действовать при появлении болгарского войска.
О появлении болгар дозоры с правого берега сообщили к вечеру следующего дня.
– Стан раскинули в полугоне от Дуная, – докладывал начальник дозорной сотни, – мыслю, поутру могут подойти к самому берегу.
– Может, нам затаиться, не выдавая своего присутствия? – предложил Зворыка.
– Напротив, нужно сделать вид, что нас много, – возразил Свенельд. – Сделаем так…
* * *
Дунай блеснул в утренних лучах солнца, будто обнажённый клинок. Берега были ещё окутаны лёгким туманом, запутавшимся в зарослях тростника, терновника и кряжистых дубах, росших на взгорках, когда на противоположной стороне призрачными тенями явились болгарские дозорные.
Свенельд со всей свитой стоял на одном из взгорков, а его конница сзади делала манёвры, то разъезжаясь, то вновь сходясь. Сотни борзо проскакивали перед стоящими на возвышенности начальниками, потом скрывались за прибрежными кустами, заходили далеко в тыл и вновь появлялись с той же стороны, как новоприбывшие полки.
На одном из дубов на противоположном берегу сидел болгарский дозорный и считал русские сотни и тысячи. Но даже приблизительно счесть ему не удавалось. Окончательно сбившись, он слез с дерева и сказал, разведя руками, стоявшим внизу:
– Братья, не счесть той силы киевской, много их! Может, все десять тем!
Тут же об этом было доложено молодому князю Елизару, под чьей рукой находилось болгарское воинство.
– А сколько пеших ратей у киевского князя? – сурово вопросил дозорных болгарский князь.
– Мои люди пеших воинов не видели, только конных, – ответствовал дозорный сотник.
– Мне надо точно знать, сколько у противника конницы, сколько пеших ратей, я не хочу, чтобы во время сечи неизвестно откуда взявшиеся вражеские воины ударили мне в спину! – грозно молвил Елизар, метнув тяжкий взгляд на дозорного сотника. – Вижу, от дозорных толку мало, позовите ко мне начальника изведывателей!
На другой день Свенельд продолжил морочить голову затаившимся в прибрежных кустах болгарским изведывателям, а сам всё более проникался тревогой: ни Святослава с пешими ратями, ни Боскида с угорскими конными тьмами до сего времени нет. «Ежели болгары с койсогами и хазарами выведают, сколько войска на самом деле, то… попадёшь ты, старый воевода, как кур в ощип», – рёк себе Свен.
Тут-то и подскакал к Свенельду на разгорячённом коне сторожевой сотник.
– Воевода, идут, уже близко! – радостно сообщил он.
– Кто, толком реки! – сердито одёрнул его Свенельд.
– Угры во главе с воеводой Боскидом! – ответил сотник, круто осаживая взмыленного скакуна.
– Добре, передай Боскиду, пусть они вслед за древлянской конницей пристраиваются.
– Как это «ещё и угры появились», а вчера их что же, не было? – сердито возразил болгарский военачальник. – Мне ведь сказывали, что войско русов немногочисленно… Откуда взялись мадьяры? Почему о том, что они на стороне русов, я узнаю только сейчас? Наврали, греческие псы? Ну-ка, позови-ка мне того стратигоса!
Византиец, подойдя к болгарину и выслушав укор, приложил руку к груди.
– Я точно знаю, князь, что у Сффентослафа не может быть десяти тем войска, даже вместе с уграми! Из Киева вышли всего две тьмы. Источник верный, от отца Марка, который в Киеве состоит при христианских жёнах, посланных к Ольге. Тут может быть какая-то хитрость, не иначе! Нужно собрать все имеющиеся силы и готовиться к решительному сражению. Если Сффентослаф готовит какую-то ловушку, следует опередить его и скорее начать битву! – решительно заключил стратигос.
– Начинать битву, не зная точно сил противника? – воззрился сердито на грека Елизар. – Как раз тут-то и можно легко угодить в западню! – воскликнул он и обернулся к начальнику изведывателей: – Твои люди до сих пор не вернулись? Это черепахи, а не изведыватели! Чтобы к вечеру я точно знал, сколько войск у Русского Барса и где они находятся.
– Князь, позволь сообщить тебе об этом к утру, – взмолился старший изведыватель, – днём близко не подойти, у русов многочисленные дозоры, а ночью мы всё выведаем…
– К полуночи! – оборвал изведывателя молодой князь, в глазах его снова заплясали молнии гнева.
* * *
Лодьи Святослава и Притыки причалили к левому берегу Дуная ниже переправы после полуночи. Свенельд, Зворыка и Боскид были уже тут. Дозоры, заранее посланные навстречу лодьям, упредили воеводу об их приближении, и темники поспешили к условленному месту. Князь обнял своих верных военачальников.
– А что, друзья-темники, не было ли в пути у конницы встреч нежеланных, не досаждали ли кочевники? – спросил он.
– Княже, – молвил в ответ Свенельд, – ты же знаешь их нрав, горазды укусить, коли слабость чуют, а с сильным супротивником стараются быть в дружбе. Сила Киева ныне всем ведома. Кто сейчас захочет с нашей конницей тягаться?
– А угры как настроены? – обратился Святослав к Боскиду.
– Настроены решительно, княже. Только хотят знать точную долю добычи.
– Добро, кто у них за главного?
– Сам кенде Чобо. Тот самый, которого мы прошлым летом в полон на Карпатах взяли, – ухмыльнулся в усы Боскид. – Желает обсудить с тобой все условия.
– Добро! – воскликнул Святослав. Он был доволен, что теперь войско в полном составе: шесть, пусть неполных, тем – всего почти шестьдесят тысяч.
Четверо угров с привычными для них тремя косицами на бритых головах подъехали к князю русов. Двое охоронцев и толмач сидели на обычных степных конях с крепкими ногами и большими головами. Кенде же, в отличие от большинства соплеменников, восседал на тонконогом высокорослом коне с небольшой головой. Он спешился, бросив поводья охоронцу, и подошёл к Святославу вместе со своим толмачом, по всему, из карпатских словенцев.
– Как будем делить добычу, об этом следует договориться заранее, – заметил Святославу молодой угрин, когда они обменялись приветствиями.
– Мы привыкли всё делать по Прави. Твоих воинов на треть меньше, чем моих, значит, треть добычи твоя, – ответил князь, глядя прямо в тёмные очи Чобо. – Какое участие – такова доля, а уж из неё каждый из военачальников определяет вознаграждение храбрецов по своему разумению… Теперь же, князь, давай обсудим наши действия на поле боя…
Поговорив ещё немного, князья ударили по рукам и разъехались каждый к своему войску. Святослав собрал своих темников и, став перед ними, молвил:
– Друзья мои, кто отличится в битве с болгаро-хазарской ратью, получит двукратную добычу. А кто с одной тьмой разобьёт две вражеские, тот будет стоять перед проходящими полками и заслужит от них троекратную «славу». Того же, кто с одной тьмой три тьмы одолеет, награжу ещё и златой цепью со Сварожьим Триглавом.
– А кто с одной полутьмой две вражеские тьмы разобьёт? – с хитринкой в очах спросил Путята.
– Того на своё место поставлю, нареку великим воеводой и сам перед ним проведу полки! – без тени улыбки отвечал князь.
Темники оживлённо зашевелились.
– Мы и прежде верно служили Киеву, княже. Теперь же будем служить ещё лепше, живота не жалея, до самой смерти!
– Завтра нам вступать в сечу. При себе ставлю Зворыку, ежели со мной что случится, приказываю слушаться его, как самого князя Киевского! Мы ещё с ним обмозгуем, куда и кого направить, потому как от первого боя зависит многое. Завтра Перунов день, потому первый бой посвятим богу нашему воинскому, а это значит, что должны постараться изо всех сил на поле брани!
Темники разошлись к своим полкам, а старый Зворыка остался с князем глаголать про заутренний бой. В ту ночь многие воины почти не спали, проверяли кольчуги, острили мечи и стрелы.
Перед рассветом, когда над водой сгустился туман, беззвучными серыми тенями отошли от суши лодьи и насады с танаисцами и почайцами, подольцами и волынянами и устремились к правому берегу, кутаясь в клубы утреннего тумана и растворяясь в нём. Не скрипнула ни единая из уключин, обильно смазанных пахучим дёгтем, ни всплеска не было слышно при осторожной и слаженной работе опытных гребцов. Все напряжённо вслушивались в тишину, стараясь уловить малейший звук, нарушающий привычный лад сонной реки. Вдруг совсем рядом с головной насадой что-то глухо ухнуло, и мощный шлепок о недвижное, подёрнутое туманом зеркало водной глади заставил всех вздрогнуть и замереть на краткий миг… Притыка молча махнул рукой загребному, тот вытер с чела капли крупного пота и вместе с гребцами продолжил свою напряжённую работу, стараясь унять гулкое биение сердца, которое, казалось, было слышно на обоих берегах Дуная.
«Ничего, – успокаивал себя старый темник, – там, в лощине, наши изведыватели, ежели что не так, знак подадут. Если только они до сих пор живы… А без нашего удара с тылу трудно будет коннице под стрелами ворожьими на десной берег выйти», – обеспокоенно думал он, продолжая напряжённо вглядываться в окутанный туманной мглой невидимый пока берег.
Вот головная лодья беззвучно замерла в десятке саженей от суши, остальные тоже остановились. Спустя время трижды громко прокрякала утка и смолкла. Ей ответил селезень.
– Причаливай! – повелел Притыка и первым соскочил на мелководье.
Тут же пред ним, будто соткавшись из предутренней тьмы, возник начальник изведывателей.
– Скорее, братья, времени у нас мало, идти придётся борзо, но тихо, – молвил Ворон.
– Показывай дорогу! – кратко ответил ему старый темник.
Одна за другой подходили лодьи, и воины, блюдя строгий наказ начальников, беззвучно сотня за сотней исчезали в поросшей вербами лощине, что тянулась от реки. Тряпицы и верви, коими были обмотаны оружие и походные котелки, помогали избежать железного звяканья.
– Чего это мы так спешим, ведь могли раньше… ещё о полночи причалить и не торопясь… с оглядкой дойти, – тихо ворчал, тяжело дыша, молодой сотник, с некоторым удивлением взирая на старых воинов, что шли низким шагом викингов и не выказывали явной усталости.
– Если прийти загодя, можно легко на вражеских дозорных напороться, – громким шёпотом назидательно отвечал ему старый воин, – нам нужно поспеть как раз к тому, когда наши на сей берег ринутся и вся болгарская рать на них навалится, тут уже никаких полков, окромя дозоров, на нашем пути не будет. Да и у тех всё внимание будет обращено к переправе, а не на собственные тылы.
* * *
Ещё утренняя Заря не поднялась над Дунаем, как рога протрубили побудку, и дружина встала на молитву, а потом на поверку. После этого князь снова вызвал темников, и седой Зворыка, потерявший шуйцу в жаркой битве при Тьмуторокани, огласил наказы.
– Сердцем будут Северская и Черниговская тьмы, Северская будет под моим началом и станет одесную, а Черниговская с Боскидом ошую. Отдельным конным полкам – Вятскому, Радимичскому и Киевскому – прикрывать Сердце и быть одновременно в запасе княжеском, а значит, борзо лететь, куда он в битве укажет. За Десное Крыло отвечает воевода Свенельд, который вместе со второй Угорской тьмой и своими угличами, многие из которых угорскую речь разумеют, будет стоять против булгар и ясов. Шуйское крыло с первой Угорской тьмой и тиверцами возглавит князь Чобо. Они со Свенельдом обрушатся на крылья болгарского воинства. Замыкать дружину будет Древлянский полк. Да пребудет с вами Перун. По коням!
– Слава Киеву! Слава князю Святославу хороброму! Слава старшему темнику Зворыке! – отвечали темники и шли в стан отдавать приказания младшим начальникам.
Зазвенели рога на построение, раздались команды. Тиверцы ускакали налево к угорским тьмам, а угличи – направо. В Сердце ошую выстроилась в боевой порядок Черниговская тьма, а одесную – Северская. Сзади них, отстав на полгона, споро построились резервные конные полки: Киевский, Радимичский и Вятский на борзых кабардинских конях. Именно им была доверена княжеская хоругвь. А позади всех выступил Древлянский полк.
Тьмы делились на полки, в каждом из которых – тысяча. А каждая тысяча делилась на сотни. И каждый воин знал своё место, как расходиться и опять образовывать полк. И вся Святославова конница могла растекаться и собираться свободно и послушно, будто мышцы легконогого пардуса, который перед прыжком выгибает спину, втягивает сильные лапы и припадает к земле, пристально наблюдая за каждым шагом врага.
Болгарское войско стало выстраиваться на полуденном берегу Дуная.
Молодой стременной Святослава, глядя вперёд и нетерпеливо гарцуя на своём коне, весело обратился к старшему княжескому стременному:
– А что, Зверобой, искупаем нынче коней в голубой дунайской воде?
Зверобой, устремив глаза на противоположный берег и прикрыв их от солнца заскорузлой ладонью, ответил, вздохнув:
– Нету, брат, страшнее боя, когда в нём с двух сторон славяне сходятся! Много падёт нынче воинов и с их стороны, и с нашей… О том надо думать, Збимир, и молиться Перуну с Перуницей, а не веселиться попусту…
– Эге, Зверобой, так ведь там не только болгары, но и битые нами койсоги с хазарами, да волжские булгары с ясами. Они-то уже бегали от мечей нашей дружины.
– Ладно, поглядим, как оно будет, – угрюмо ответил старший стременной.
Русские полки выстроились на левом берегу Дуная.
Все взоры обратились к Святославу.
Князь дёрнул усом.
– Вспомните, братья, гонцов наших, – начиная греметь голосом, провозгласил князь, легко гарцуя на белом коне, – вспомните, какой лютой смерти и поруганию предали болгары их тела, вот истинное лицо врага! И здесь мы справим великую тризну по друзьям нашим, сердцу милым, принеся им жертву великую и кровавую! Пусть знают и помнят болгары священную нашу мсту! – воскликнул он, вздымая меч. – Вперёд, братья! Слава Перуну!
Военачальники ответили ему дружными боевыми восклицаниями, так же вздымая мечи.
Черниговcкая тьма принялась надувать кожаные мешки и готовиться к переправе. Остальные должны были пока ждать.
Вот Святослав подал знак, и Черниговская конница ринулась в воду. Далеко окрест разнеслись шум дунайской волны, конское ржание и окрики воинов.
Болгары кинулись к воде, чтобы не дать черниговцам осуществить переправу и сбросить их обратно в Дунай.
Тут Святослав подал знак тиверцам, и те, увлекая за собой первую Угорскую тьму, под водительством кенде Чобо, кинулись в воду, заходя левее болгарского войска, крыло которого, состоящее в основном из полков хазар и койсогов, несколько растянулось, чтобы перехватить противника. Ещё далеко в воде начав схватку, тиверцы стали просачиваться на берег. Полетели первые русские, угорские и хазарские головы. Тиверцы и угры, не выдержав натиска, начали отступление. Хазарские полки, возликовав, кинулись за ними. Черниговцам пока тоже не удавалось зацепиться за сушу.
Опять дал знак Святослав, и угличи во главе со Свенельдом, вместе со второй Угорской тьмой, переплыв Дунай, начали вытекать на правый берег, но булгары с ясами, что составляли шуйское крыло болгарского войска, встретили их яростным боем.
«Где же Притыка с танаисцами и почайцами, что же медлит старый, – нетерпеливо думал Святослав, – неужели сам нарвался на засаду? Там же у него Ворон, который всё вокруг переправы этой излазил, каждый извив берега изучил и проводников местных нашёл. Они должны были провести пешие тьмы балками да оврагами незаметно…» Князь искоса взглянул на Калокира, который, сидя на коне в полном воинском облачении, внимательно и напряжённо следил за разворачивающимся боем.
– Ага, князь, есть, достиг твой стратигос Притыка цели! – в волнении воскликнул Калокир. – Гляди!
Действительно, на поле битвы что-то изменилось. Будто порыв невидимой бури пронёсся по ещё недавно стройным рядам противника. Часть полков и тем стали разворачиваться спиною к схватке, другие, не понимая, что происходит, от некоторой растерянности ослабили натиск на русов. Воспользовавшись нежданной заминкой, тиверцы и угры вышли-таки на берег, вступив в жестокую схватку.
– Молодец, Притыка, ох молодец, да как вовремя! – воскликнул князь вслед за Калокиром, радость охватила его.
Новый знак киевского князя – и храбрая Северская тьма кинулась в дунайскую волну и стала выходить почти посредине между угличами и тиверцами, выпустив по болгарам тучу стрел, а затем переходя на мечи и копья.
Вслед за ней смогла, наконец, выйти на берег изрядно поредевшая Черниговская тьма. Не отрывая очей от боя, князь придвинул к берегу Киевский, Вятский и Радимичский полки, которые с ходу ринулись через реку. Князь с Калокиром переправились вместе с ними. Они пошли вперёд, а рубившаяся перед ними Черниговская тьма стала забирать влево, стараясь отсечь правое крыло супротивника и соединиться с тиверцами и уграми кенде. А Северская, вклиниваясь в ослабевшую оборону Сердца болгарского войска и рассекая его, напротив, принялась заворачивать вправо, стремясь соединить Коло с угличами Свенельда и воинами второй угорской тьмы, что уже обхватили дугой левое крыло болгарской рати. Замыкающим вошёл в воды священного Дуная Древлянский полк. Переправа была закончена. Радимичи, вятичи и киевляне тоже ударили в Сердце противника. Полки во главе с князем и Калокиром, над которыми развевалась белая княжеская хоругвь с золотым соколом, стали теснить уже порядком ослабевшего ворога, на которого с противоположной стороны крепко давили пешие танаисцы Притыки и почайско-волынская тьма Васюты. Сам князь на белом коне прорубался мечом, словно железным клювом хищной птицы, в гущу противников, всё более отдаваясь вихрю смертельного боя, где каждый удар его был точен и выверен многими предыдущими схватками. Не отставал от него и хорсунянин, расчётливо и точно орудуя своим римским клинком. Подхваченные боевым задором Святослава, а также стремлением защитить и уберечь своего князя, его верные стременные и даже посыльные тоже ринулись в гущу сражения, дивясь собственной удали и лёгкости, возникшей вдруг в теле. Князь же по давней воинской привычке успевал видеть и противника перед собой, и одновременно тех, кто сражался подле.
Северская тьма Зворыки, отчаянно рубясь, сумела наконец отсечь часть Сердца болгарской конницы и, обтекая её Левое Крыло, соединилась с борзыми угличами и отчаянными, злыми в конной схватке уграми и тем замкнула Правое малое Коло. Только небольшая часть чутких койсогов смогла вовремя ускользнуть из Коло перед самым его смыканием и унестись прочь на своих резвых скакунах. Потом тиверцы и дерзкие угры с черниговцами замкнули болгар в Левое малое Коло. А ещё через некоторое время танаисцы с почайцами и волынцами, при поддержке киян, вятичей и радимичей, охватили оставшихся болгар в третье Коло. И в каждом выстраивалась болгарская Лодия и пробивалась к полудню, теряя воинов в лютой сече.
Первыми пали болгары в правом Коло, рассечённом надвое угличами и северянами. Второе держалось, но потом в нём стало так тесно, что всадники начали мешать друг другу. Зворыка рубил их двумя тьмами, и скоро это Коло разбилось на три, а потом стало крошиться. Всадники уже не слушались начальников и бросались, кому куда вздумается, лишь бы только спастись. Вскоре все три малых Коло были разбиты.
Болгарский князь в третьем Коло бился с княжескими конниками и танаисской полутьмой. Вторая танаисская полутьма ловила беглецов и треножила болгарских коней. Святослав, встав во главе киян, врезался в Коло и борзо разделил его надвое. Калокир, хоть Святослав и не велел ему лезть в гущу сражения, был всё время рядом. Краем глаза в горячке схватки нет-нет да бросал князь быстрые взгляды в его сторону и видел, как азартно рубится Хорсунянин. Верные болгарскому князю витязи отчаянно сражались, дружно рванулись и прорвали коло, вытекая на полдень. Но воины Притыки были уже на задах и перенимали беглецов. В сей последней битве пал и болгарский князь, сражённый кем-то из русских лучников. Радостные крики победителей и отчаянные вопли побеждённых мигом разнесли над полем битвы эту весть.
Многие из оставшегося болгарского войска начали сдаваться, а другие от безысходности рубились ещё ожесточённее, отчаянно бросаясь на мечи. Особенно люто бились в окружении хазары, которым теперь уже некуда было уходить. Каганата больше нет, а в приютившей их Болгарии, по всему, отныне распоряжаться будут те же кияне. И ещё долгое время шла сеча, возглавляемая другим болгарским витязем, принявшим на себя начало вместо убитого. Кони ржали от ужаса, люди, сгрудившись в смертельной горячке последнего боя, кричали, рычали и вопили, превращённые сечей в диких зверей, продолжая безумную схватку, которая была уже просто смертоубийством.
По велению Святослава над полем сражения пропели рога о прекращении битвы.
Болгары, опомнившись, опустили мечи и начали сдаваться.
Только далеко к полудню, оторвавшись от преследования, неслись гонцы с вестью, что тридцать болгарских тысяч, из которых спаслась только треть, разбиты на Дунае Святославом. И надрывно выл да скрежетал зубами старый болгарский царь Пётр, узнав, что в этой сече погиб один из его лучших полководцев князь Елизар.
Глава 5 Стременные
Страшным было поле недавней сечи. Прибрежная часть степи с южной стороны Дуная была усеяна мертвецами. Земля лежала искромсанная, с выбитой и раздавленной травой. На берегу не осталось почти ни одного целого куста – все верболозы и терновники были поломаны и посечены. Синий Дунай замутился от крови и медленно нёс трупы по направлению к морю.
Над полем с мерзким карканьем кружили вороны. Иные уже приступили к трапезе, выклёвывая в первую очередь глаза мертвецов.
Стенали раненые воины, и тоскливо ржали получившие увечья кони. А убитые русы, угры и болгары лежали, раскинув руки, глядя в Сваргу уже незрячими очами.
Живые воины ходили среди павших, выносили раненых, оказывали им помощь. Собирали оружие, снимали с мёртвых противников добрые доспехи, обувь, одежду, поторочные сумы, носили всё это и складывали в три равные кучи, чтоб по справедливости разделить потом меж победителями. Ловили и двуножили лошадей, наскоро сооружали коновязь. То же и с обозом супротивника, – все припасы съестные, корм для коней, походные кузни, запасы оружия и всё прочее делилось на три равные доли, одна из которых предназначалась уграм. А в низине под усиленной охраной сидели и лежали болгарские пленники, понуро ожидавшие своей участи, – кого отправят рабом в Мадьярию либо на Русь, кого продадут тем же грекам в ближайших торговых городах, а кому посчастливится быть принятым в Святославово войско, принести клятву киевским богам и служить в дружине сурового северного воителя.
Сам же Святослав был весь поглощён иным: в сопровождении старшего стременного он ходил по полю, ища средь убитых и раненых младшего. Несколько дружинников и темников помогали им. Прошли уже большую часть поля, но Збимира не обнаружили.
У князя сжималось сердце при взгляде на каждого павшего воина, и до боли жаль ему было юного стременного, который по своей горячности бросился вслед за ним в тяжкую сечу. Отпечатался в памяти миг, когда, рубясь с каким-то из лихих темников противника, боковым зраком заметил Святослав, как ринулся на него справа здоровенный болгарский воин. А в следующее мгновение путь здоровяку преградил молодой стременной. Потом навалились другие супротивники, и что сталось со Збимиром, он уже не видел.
«Где же ты, неразумный стригунок, молодой сорвиголова? Куда подевался? Что скажу я твоему деду, старому Издебе, кой доверил тебя мне, как себе самому?»
Ходившие с князем воины на вопросительный взор князя разводили руками: нигде не видать!
Святослав стал, огляделся кругом и вдруг зычно, на всё поле, крикнул, так что вороны в испуге поднялись в воздух:
– Гей! Збимир! Где ты есть? Откликнись!
И вдруг – о, чудо! – на берегу зашевелились кусты, и оттуда вышел младший стременной, ведя на поводу запасного княжеского коня.
– Где ты шатался? – набросился на него Святослав.
Збимир испуганно замигал синими очами, не понимая, чем вызван княжеский гнев, и, запинаясь, ответил:
– Я на реке был, княже… коня твоего поил и купал…
– Другого времени не мог найти? – уже перекипая, укорил Святослав.
– Я просто вспомнил, Зверобой сказывал, что довелось вам пить шеломами из Дона и Волги и коней в тех реках великих купать. Вот, думаю, пришёл черёд в синем Дунае твоего коня искупать…
– А на того болгарина отчего один на один кинулся? Он ведь здоровенный, мог одним махом тебя порешить!
Збимир пожал плечами:
– Я поступил, как любой из твоих воинов…
– Тогда позволь и отблагодарить тебя, как воина! – отвечал уже сменивший гнев на милость Святослав, обрадованный, что нашёл стременного живым и невредимым. Привлёкши к себе юношу, он троекратно поцеловал его в щёки и чело. Затем, сняв свою белую княжескую епанчу, в нескольких местах с прорехами от вражеских клинков и немало забрызганную кровью, набросил её стременному на плечи и прикрепил золотой фибулой. – Запомни сей день! – сказал он.
Ошарашенный стременной стоял не двигаясь, с приоткрытым ртом и распахнутыми очами.
– Не молчи, дубинушка киевская, – громким шёпотом проронил за его спиной Зверобой, – реки князю хоть одно слово благодарственное!
Но Збимир молчал как очарованный, только по раскрасневшейся, как у девицы, щеке сползла чистая юношеская слеза.
К Святославу подошёл Зворыка:
– Княже! Ямы у края поля готовы.
– Приступайте! – велел Святослав и, развернувшись, пошёл к своему только что раскинутому шатру.
Пленные болгары стали сносить своих убитых вместе с хазарами, ясами и койсогами в одну яму, русы своих – в другую, а угры – в третью. По древнему обычаю, угры положили в погребалище ещё головы, хвосты и ноги коней, чтобы на Том Свете воинам было на чём скакать. Затем над всеми тремя ямами насыпали курганы. Правда, мадьяры сотворили курган невысокий, но зато утыкали его сверху множеством деревянных колышков.
– Чего это они? – спросил Збимир, по старой привычке обращаясь к Зверобою.
– Тиверцы рекут, а они давно живут подле угров и добре их знают, что это души тех, кого воины убили в этой жизни, и сии души станут их отроками в Ином мире.
Потом угры стали справлять тризну по своим павшим. Они сняли шкуры с конских туш, от которых перед погребением отделили головы, хвосты и копыта и положили их в яму вместе с телами воинов, а мясо изжарили на кострах. Пока одни из угров готовили мясо, другие, нарубив в ближайших зарослях веток, ловко связывали их вервями и сыромятными ремнями в какие-то странные небольшие сооружения о четырёх ногах. Потом принесли несколько лошадиных шкур, надели их на хитро связанные ветки и поставили чучела на могилу. На удивлённый вопрос киян один из угличей пояснил, что это образы коней, на которых души павших степняков будут скакать по просторам Того Света. Мясо к тому времени изжарилось, и угры начали поминальную трапезу.
В русском стане протрубили рога, также созывая всех на тризну. Воины стали вокруг своего кургана, и пред его ликом всяк павший рус был назван по имени. Потом прочитана молитва богам: Сварогу Великому, Световиду Пресветлому и прочим богам киевским. И особо возблагодарили Перуна, даровавшего русам победу в свой день, и его верную супругу крылатую Перуницу, что дала испить павшим воинам божественной сурьи из рога бессмертия. После ели поминальную страву во славу мёртвых, которые будут иметь жизнь вечную на цветущих лугах Сварога в прекрасном Ирии на берегу Рай-реки великой. Ели конское мясо и пили хмельную брагу, по корцу на человека из великой резной ендовы, что была снята по такому случаю с большой насады.
– Добре, что болгар тоже похоронили с честью, по Прави это, – одобрительно отзывались старые воины, вздымая корцы с брагой.
А после тризны русские полки прошли перед Святославом, и он отметил храбрейших витязей, проявивших себя в первой битве с болгарами. И лучшими были Зворыка с Притыкой – старые темники, которые так скоро и умело разбили опытного и сильного врага.
После военачальников князь стал называть имена прочих отличившихся дружинников, которые ему передали тысяцкие. И тут увидел, как младший стременной в его епанче, смущаясь, прятался за спинами других. И громко провозгласил:
– Моему стременному Збимиру, проявившему бесстрашие в сече с ворогом…
– Слава! Слава! Слава! – прокричали полки, вздымая к сварге мечи.
– Чего стыдишься, дубинушка? Выходи! – проговорил старший, выталкивая Збимира вперёд.
– Да что ты, Зверобой, – упирался юноша, не зная, куда деваться от смущения.
– За храбрость проявленную, – продолжал дальше Святослав, – нарекаю своих стременных Збимира и Зверобоя тысяцкими и даю им полки павших ныне Третьяка и Хмары!
А себе Святослав взял новых стременных, и они тотчас приступили к службе.
Вечером, обходя раскинувшийся на отдых стан, Святослав услышал приближающийся из темноты топот копыт. Вслед за этим послышался предостерегающий окрик стражников.
– Свенельд, – окликнул князь бывшего воеводу, который проходил мимо, – никак гонцы прибыли? Узнай-ка, кто и откуда!
– Небось сами скоро прискачут, тогда и узнаем, кто и откуда, – пробурчал хмурый Свенельд. – Я не стригунок борзый, чтоб туда-сюда скакать, других дел полно!
– Эге! – удивлённо воскликнул Святослав. – Да ты почище князя себя возносишь, Свенельд! Мне давно жалуются, что к тебе пробиться труднее, чем ко мне. Не со всяким в разговор вступаешь и держишь себя надменно. Я ведь тебя наградил златой цепью и в поход этот правой рукой взял, а тебе всё мало, хрен старый?
– Ну, правой рукой у тебя, положим, Зворыка, – с плохо сдерживаемой обидой возразил Свенельд. – А держу я себя не надменно, а как положено старому воину – с достоинством, надеюсь, заслуженным. Потому как младшие дружинники старших всегда почитать должны. А иные забываются, и причина тому есть, княже. Ты и раньше допускал насмешки, а сейчас вот меня старым хреном назвал. Меня, старого друга твоего отца, того, кто тебя сызмальства за руку водил и всей подноготной ратной науки учил? А теперь ты стременных перед дружиной возвеличиваешь, полки им даёшь, а меня и вовсе ни во что не ставишь!
Святослав смешался, встретив столь неожиданную и горячую речь бывшего воеводы, видно давно накипевшую у него на сердце.
– Не серчай, Свенельд, – примирительно буркнул он.
– Ладно, – махнул тот рукой. – Сейчас узнаю и доложу, с чем прибыли гонцы.
Он вскочил на лошадь и поскакал в темноту.
Спустя некоторое время вернулся и начал докладывать:
– Гонцы из Киева, от Гарольда…
– Что речёт начальник Городской стражи?
– Скупщина гостей киевских недовольна тобой, княже, за худой торг с византийцами. Те через болгарскую землю и Дунай теперь не могут пройти.
– Пусть подождут малость, – усмехнулся в усы Святослав, – скоро будет такой торг, что только успевай поворачиваться!
– Гарольд речёт, что бывший темник, а ныне помощник княжеского конюха второй руки Блуд, оставленный в Киеве, опираясь на скупщину недовольных купцов, ведёт с ними какие-то беседы…
– Что ж, передай Гарольду, что я отдаю Блуда и ретивых гостей ему в руки, ежели посчитает нужным, пусть наказывает как хочет! Ещё что?
– В Киев прибыли посланники от полабов и поморян – всё люди знатные, богатые. И просят защиты от лихих саксов, которые пришли в их землю, совершают грабежи и разбой, крестят в свою веру и устанавливают епископства. Все они теперь должны платить не только налоги немецкой знати, но и десятину церкви.
Святослав вздохнул, пригладил усы.
– Как я могу отсюда, из-за Дуная, оказать им помощь? Единственное, что предложить, кто хочет, пусть селится в наших землях, особенно на новых угодьях. Там основательные и трудолюбивые люди надобны. А поморяне… они, что ляхи, что щехи, что эсты, любят жаловаться и просить помощи, а когда от них помощь требуется, тогда лишь о себе думают.
– Сие верно, княже, – согласился Свенельд. – Помню, когда мать Ольга ещё в поход на древлян собиралась, я кликнул поморян и ляхов. И что ты думаешь, пришло всего три десятка, да и те к концу лета назад воротились…
– Не лежит их сердце к Киеву, а насильно мил не будешь, – невесело усмехнулся Святослав.
– Вместе с гонцами поморскими прибыл кудесник ободритский, – продолжал свой доклад воевода, – так они рекут, что только благодаря его чародейству ушли незамеченными от христиан немецких…
– Ободритский кудесник? – перебив Свена, быстро вскинул очи Святослав. – Он что же, с посланниками назад возвернётся? – Лик его выразил живое беспокойство участью пришлого волхва.
– Того гонцы наши киевские не ведают, – с деланой бесстрастностью отвечал Свенельд, стараясь скрыть нарастающую в душе обиду и ревность. Старый воевода помнил, что своим родом рарожичей – сынов сокола – весьма гордился князь Игорь, отец Святослава, но не ожидал, что она не угасла и в сыне. Ведь он, Свенельд, после смерти Асмуда стал дядькой юному княжичу и почти никогда о том не поминал, откуда же сие, голос крови или?… Ах да, старый волхв Велесдар… рекли, что он тоже из ободритского рода.
– Ты вот что, Свенельд, – живо блестя очами, молвил Святослав, – передай через гонцов, пусть наши волхвы киевские подольше кудесника ободритского погостить упросят. Мне с ним непременно свидеться надо… Хотя, постой, завтра всё им сам скажу. Давай посидим ещё, потолкуем…
Стан давно крепко спал, а Свенельд со Святославом долго сидели у костра, беседуя, словно в прежние времена.
Когда же над полем задунайским встала заря и рога заиграли побудку, воины поднимались, умывались, молились богам, становились на поверку и шли снедать.
Святослав со Свенельдом пригласили к своему шатру вчерашних киевских гонцов и передали Гарольду княжеский указ, весть о победе над болгарским войском, а также особое поручение князя к волхвам киевским.
Поклонились гонцы князю и отправились в обратный путь. И у каждого гонца – три свежих болгарских коня, на одном скачут, двое рядом идут. А когда конь притомится, всадник на другого пересаживается, а этого рядом ведёт на поводу длинном. Тот бежит, траву на ходу щиплет, а когда через реку переправляется, то и воды напьётся.
Было гонцов четверо, а старшим поставлен воин по имени Забрало.
Переговариваясь по дороге, один из гонцов высказывал восхищение:
– Ай да князь наш! Куда ни придёт, там разобьёт врага! Теперь вот на болгар отправился, несдобровать им!
Старый Забрало отвечал:
– Думаете, зря Калокир приехал просить нашего князя пойти на войну с Болгарией? Русы с болгарами дерутся, и оба слабеют. А начальники у болгар кто? Греческие же стратигосы. Ох, опасаюсь я, братья, этих стратигосов! У них нюх и хитрости лисьи, ежели выведают какую слабину, тут же в неё и ударят!
– Князь всегда меняет пути, – возражал первый, – никогда не ходит по старым следам, как его поймаешь?
– Уж они найдут как, чует моё сердце!
– Не каркай, будто старый ворон, чтоб беду не накликать! – отвечали воины.
Умолк Забрало и ехал дальше, тяжко о чём-то задумавшись.
И были те края пустынные, незаселённые. И много встречалось там разбойников и душегубов, что за добычей на Дунай хаживали. И жутко было на душе у гонцов, так что два дня они скакали, нигде не останавливаясь. А на третий день доскакали до какой-то заимки и увидели в ней первых русичей, чему обрадовались несказанно.
Тем временем дружина Святослава и конница угров, следуя тем же порядком – конная часть сушей, а остальные в лодиях по воде, – проходила вверх по Дунаю.
Кенде Чобо молвил русскому князю:
– При захвате городов самым храбрым я отдаю всё…
– Я вначале предлагаю жителям добровольно сдать город, заплатив выкуп, и, только если они отказываются, беру его силой.
Грады, многие из которых были основаны ещё предками во времена Трояновы, почти не сопротивлялись киянам. Да к тому же путь из Руси в Греки издавна пролегал через эти места, и народу с земель славянских, с полночного Нов-града, Киева и Пересечня, с полуденной Таврики и иных земель ближних и дальних во все времена оседало в этой части Подунавья превеликое множество. Сами древнейшие названия градов Киевец, Переяславец, Карна, Варна, Пловдив, Преслава и многие другие красноречиво говорили о своих основателях. Воздали воины Святославовы хвалу и честь великим предкам, что основали здесь второй после Кавказийского Киев-Дунайский, что ныне Киевцем зовётся, и отправились дальше. Да и кто мог воспрепятствовать продвижению железных ратей Русского Пардуса и борзых угров, если болгарское войско в первом же бою было ими разбито. Так, не встречая особого сопротивления и объясняя жителям, что грады и земли сии теперь будут под дланью и защитой Руси, достигли Второй гряды Трояновых валов. На день раскинули Святославовы вои Стан, дабы почтить храбрых борусов, когда-то сражавшихся с римлянами и не пропустивших их за синий Дунай, а затем отправились дальше вверх по реке.
Наслышанные о дунайском сражении болгары выходили с дарами, кланялись и признавали Святослава своим князем. И одни тому радовались, потому что терпели принуждения от царя своего, который во всём подражал Византии и веру чужую поддерживал, а иные болгары, крещёные, наоборот, спешили покинуть насиженные места и спрятаться в лесах и горах.
Глава 6 Земля болгарская
Не ведомо никому, как быстрее самого ветра разлетается по свету белому молва многоустная, кто ту молву разносит и как она тут же становится песнями да сказаниями в устах боянов – воинов старых да Велесовичей мудрых с Домрачеями певучими. Не успели ещё гонцы борзые с тремя конями сменными доскакать до града Киева с вестью радостной о победе князя над болгарской ратью, а слепой Боян уже пел на торжище свою былину-сказ про сражение у переправы Дунайской.
То не грозный буй-тур с полночи тяжкой поступью приближается, То не бог Стрибог тучи чёрные гонит по небу прямо к полудню, То не Велес-бог гривы сизые развевает небесной коннице, А то великий князь со дружиною за Дунаем синим гуляет. Ясным соколом он взлетает, лёгким пардусом припадает, Как орёл сизый вдаль глядает и стремится всё дальше к полудню. Двадцать тысяч – две тьмы болгарские – на Дунае навек осталися, Только малая горстка всадников из Перунова коло вырвалась, Потекла на полдень, рассыпалась. Скачут, скачут, да всё без отдыха, от усталости наземь валятся. Не едят, не пьют, несут весточку, горький страх в сердцах поселяючи.Зарыдала земля Болгарская, устрашившись грозного войска киевского. Люди прятались в горы и леса, поспешно вывозили домашний скарб.
А с полудня полетела навстречу Святославу новая болгарская тьма – десять тысяч воинов, – которая стояла на границе с Византией. И вёл её болгарский князь Койсейван из Адрианополя. И встретили они по дороге множество беженцев, рассказывавших, что Святослав взял уже восемьдесят городов по Дунаю, и были тем смущены.
А когда две конницы встретились, Святослав не дал болгарам выстроиться и опомниться, а сразу напал, как хищный ястреб, взял в Коло, разбил на две и три части, и битва, едва начавшись, уже кончилась.
Только князь Койсейван умудрился ускользнуть невредимым вместе со своею свитой.
– Я так думаю, он войско вперёд пропустил, а сам сразу пятки намылил, – смеялся воевода Боскид.
– Это совсем не те болгары, которых мы встретили у Дуная, – сказал Зворыка, – эти ещё не имеют опыта настоящей сечи и меча нашего боятся как огня!
Святослав выехал вперёд и обратился к пленным:
– Можете вернуться в свои грады и веси и продолжать мирно трудиться, никто вам не причинит зла. Я, князь Киевский Святослав, отныне и ваш князь, а там, где ступила нога моей конницы, отныне есть Русская земля.
Исполненные страхом перед Святославом и видя, что русы держат слово, болгары стали возвращаться в свои веси вместе с домашними животными и скарбом и приниматься за полевые работы. На дворе стоял знойный месяц серпень, следовало дожать неубранное, смолотить и свезти в закрома зерно нынешнего урожая. Тяжело опадали на землю созревшие плоды с деревьев: яблоки, груши, сливы, наливался солнцем душистый виноград. И сама земля Болгарская, как спелый плод, скоро легла на длань Русского Пардуса. О том известно стало, когда послы болгарского царя Петра пожаловали к князю русов.
– Царь Великой Болгарии Пётр шлёт тебе, достославный князь Руси, богатые дары и предлагает заключить мир меж Болгарией и Русью на вечные времена, – рёк дородный посол с ухоженной тёмной с проседью бородой, приложив к груди в знак искренности своих слов правую руку, щедро изукрашенную дорогими перстнями. Святослав заметил, как подрагивают при этом пухлые пальцы посла. «Видно, помнит болгарин о судьбе наших посланников и за жизнь свою крепко опасается», – подумал князь.
– Чего же хочет царь Пётр?
– Просит не разрушать столицу его Великую Преславу, грады Пловдив, Доростол и прочие, а взамен даёт слово не чинить препятствий ни в чём, предлагает жить мирно и торг вести с тобой, великий князь, – закончил свою учтивую речь посланник.
– А что, братья темники, – оглянулся Святослав к стоявшим подле него Зворыке и Свенельду, – может, по примеру царя Болгарского, обезглавим его послов, головы их на кол, а сами ринемся на полудень да силой возьмём столицу болгарскую с дворцами и храмами многими и прочие грады захватим великие и малые, да погуляем славно, со всем размахом?
От этих речей посол побледнел и съёжился, а руки и вовсе затряслись так, что перстни стали позвякивать один о другой.
– Отчего не погулять, – степенно молвил Зворыка.
– Погуляем, княже, – вторил ему Свенельд.
Наступило тяжкое, как перед грозой, молчание.
– Не трясись, посол, – обратился Святослав к болгарину, – русы – воины, а не палачи и так с послами не поступают. А царю Петру передай, что дань его и предложение мира я принимаю. Буду заботиться о безопасности Болгарии. Но если вздумает договор наш нарушить, то пусть на себя пеняет, щадить никого не станем!
Приняв дары, Святослав разделил их с уграми, поблагодарив за союзническую помощь. Кенде Чобо, весьма довольный тем, что обильная добыча досталась малой кровью и разделена по справедливости, повернул свою конницу назад, в Паннонию, где располагалась их Мадьярорсаг – «земля мадьяр».
Святослав же решил занять территорию Малой Скифии, или Русского острова, лежащего на протяжении трёх дней пути от Дуная до вторых валов Трояновых, что подходят к самому морю в районе града Томы, называемого Добруджей. Древним центром её была ставка хана Омуртага – Эски Сарай – Старый дворец.
Местные жители, желая отвратить гнев Русского Пардуса и уверить его в своей преданности, показали Святославу камень, вмурованный в фундамент крепостной стены с надписью о взятии дани с греков его отцом Игорем. Болгарский царь Пётр, по наущению Царьграда, повелел много лет назад тот камень в стену замуровать, чтоб позор византийский неведом был, да живущие в этих местах потомки русов и болгары местные вложили камень в торец стены так, что надпись осталась видна.
Стоя перед камнем, Святослав прочёл краткое послание отца:
«Дань взял князь Игорь на Грецех в лето 6451 при Димитрии Жупане».
Прикоснувшись к шершавой поверхности, князь что-то зашептал, не отрывая от камня очей.
Рука привычно скользнула за голенище левого сапога. Нож был на месте. Но только сейчас он вспомнил, что это другой нож, ведь тот, Велесдаров, он вместе с чашей после смерти Великого Могуна передал Добросвету. Хотя какая разница – тот нож Святослав помнил до мельчайших трещинок и щербинок на рукояти, как и старую медную чашу. Отойдя в сторону от вечеряющей дружины, он повелел двум охоронцам побыть поодаль. Сброшенную с плеч епанчу князь расстелил на пригорке и мысленно бережно возложил на неё чашу и нож. Сев спиной к ожидавшим его охоронцам, стал глядеть на самые дорогие для себя вещи, как бы сливаясь с ними и с тем, кому они принадлежали.
Что видел он в сии священные мгновения? Если бы Святослав даже хотел рассказать, он всё равно не смог бы в полной мере изложить человеческим языком все образы и чувства. Здесь видение длилось совсем недолго, но там, куда он сейчас ушёл, пелена времени открывала часы, дни, года, а порой и целые века. Он снова зрел старого волхва Велесдара и Криницу Прошлого, себя, младого отрока, заворожённо глядящего в чаровное зерцало воды, и первую смертельную схватку с волком. Овсену, летящую рядом на тонконогом полудиком скакуне, и ещё много чего, что ещё и не наступило, но там, куда он окунулся сейчас, пребывало всё одновременно и длилось то ли вечность, то ли один миг.
– Я исполнил, отче, что обещал. Мне не удалось многое, о чём мечталось. Не сумел поладить с родной матерью, не сберёг любимую и сына. Я многого не успел, но клятву, данную тебе, Велесдару и предкам нашим, исполнил. Вот они, валы Трояновы, и земля Русколани вновь простёрлась от полуденной Таврики до полуночой Северщины, от Кавказийских гор и священной Pa-реки, от устьев Дона, Непры, Нестры и Буга до многоводного синего Дуная! Теперь это наша земля, отец!
В этом неизмеримом мгновении-вечности он говорил с отцом, со старым волхвом и любимой Овсеной, с удалым бесстрашным Горицветом и многими друзьями, бывшими рядом когда-то. Он говорил и не мог наговориться. Но об этом никто и никогда не узнает, кроме тех, с кем он сейчас пребывал в сей недолгой отлучке в Навь.
Охоронцы, что почтительно наблюдали за князем и одновременно зорко следили за всем, что происходило вокруг в густеющем сумраке, увидели только, как Святослав сел на взгорбке, а затем, посидев немного, поднялся, накинул на плечи епанчу, привычным движением послал нож за голенище и пошёл обратно к поджидавшим его начальникам тем.
Святослав велел набрать мастеровых людей и заложить град Переяславец, возвести терема, склады для оружия и товаров, а также дома для воинов.
– Здесь некогда хан Омуртаг пресёк вольность славянских князей, подчинив дуайских ободритов, браничан, тимочан и прочих. Отсюда же начнётся возрождение Дунайской Руси!
Застучали топоры, завизжали пилы. Град поднимался быстро, как опара.
Начали русы обустраиваться в Подунавье, жильё для воинов и конюшни для лошадей строить, чинить старые укрепления да возводить новые – ведь ещё более, чем к битвам, во все века были охочи славяне-русы к сотворению нового жилища да к вольному труду на земле-матушке.
Глядя, как порой, отринув на время все дела, сам князь Киевский с превеликим удовольствием подставляет крепкое плечо под свежеошкуренное бревно или с молодецким уханьем вбивает точными ударами огромной деревянной киянки сваи в речное дно для устройства пристани, Калокир и сам заражался этой удалью и, сбросив красивую одежду, включался в общее действо совместного творения. Это помогало посланнику отвлечься от невесёлых мыслей, которые всё чаще стали посещать его. Здесь, в сравнительной близости от границ Империи, он то и дело встречал купцов, священников, посланников и прочих приезжающих из Константинополиса. Разговаривая с ними, он жадно впитывал все, даже самые незначительные новости, и понимал, что те, кто ещё недавно боготворил императора-воина, теперь всё более от него отворачиваются. Особенно возмущались и злопыхали в адрес Фоки служители церкви, которым он перекрыл денежные потоки из казны. Калокира это весьма тревожило.
Святослав же был доволен обустройством Переяславца.
– Здесь будет средина моего Дунайского княжества, – рёк он, трапезничая за столом вместе с темниками. – Весьма удобное место: с востока море, с севера и запада Дунай с его непроходимыми речушками и болотами, а с юга – валы Трояновы. Сей остров изобилует прекрасными землями для скотоводства и земледелия. Сюда из Киева будут идти меха, просо, жито и мёд, из Донских степей – скакуны, всякое добро – с Волги, из Тьмуторокани рыба, а из Византии – бронза, железо и шёлк. А отроки – и с полудня, и с полуночи. Любо мне здесь будет княжить!
Воины всецело поддерживали своего князя, тем более что многие из них уже успели взять себе болгарских жён и завести семьи.
Глава 7 Печенеги Лета 6476 (968)
Как ведёт себя в Болгарии Русский Барс? – сидя на прохладной мраморной скамье в цветущей беседке, что укрывала от щедрых весенних лучей, вопрошал император Фока своего главного трапезита, чуть склонив большую лохматую голову и задумчиво глядя на резной лист диковинного растения. – Всё ли идёт по нашим расчётам?
– Пока да, о великий, – ровным голосом отвечал Викентий Агриппулус. – Барс исполнил своё обещание и разбил мисян на Дунае. Он вошёл в Болгарию, подобно стальному клинку в нежное мясо дикой козы. Занял именно ту часть, о которой было договорено посредством миссии патриция Калокира.
– Кстати, где сей способный молодой человек, что смог уговорить грозного варвара, он вернулся? – вопросительно поднял мохнатую чуть с проседью бровь император.
– Он пока ещё при Сффентослафе, – ответил начальник Тайной стражи. – Считаю это правильным решением, очень полезным для империи, хотя и небезопасным. Он следит за тем, чтобы скифы исполняли свои обязательства относительно мадьяр.
– Нужно будет непременно наградить отчаянного патрикия, – не то размышляя вслух, не то напоминая архистратигосу, произнёс Фока.
Агриппулус в знак согласия склонил голову, а затем продолжил:
– Варвар держит данное нам слово. Но меня беспокоит, во-первых, та лёгкость, с которой он расправился с Болгарией, а во-вторых, то, что к нему потянулись не только язычники из мисян, но и часть крещёного христианского люда, которых сей Сффентослаф заставляет служить в его войске. Западную Болгарию он вовсе не трогает, оставив власть местным правителям, среди которых много язычников и иудеев. К тому же Сффентослаф заключил мир с мадьярами. А такое положение у границ империи уже само по себе опасно для нас. Тем более что Русский Барс, похоже, хочет обосноваться в Болгарии надолго – он уже начал строить для себя логово – новый полис, именуемый Переяслофф…
Никифор Фока, приняв к сведению доклад, ничего не ответил на последнее сообщение.
– Как ведут себя арабы в Сирии? – спросил он.
– Весьма активно, они нападают на наши тагмы и вытеснили часть войск из Антиохии…
– Немедленно отправь туда лучших разведчиков, – распорядился император.
После беседы с императором Викентий Агриппулус в задумчивости шагал к выходу из императорского дворца. Фока так и не выслушал его план относительно Болгарии и Сффентослафа, а момент для исполнения задуманного очень удобный, досадно! Такое с начальником Тайной стражи случалось редко, обычно он довольно точно предвидел реакцию собеседника. В душе поселилось некое недовольство и раздражение то ли собой, то ли… Неожиданно один из евнухов, торопливо проходя мимо, что-то обронил прямо под ноги Викентию и, не останавливаясь, проследовал дальше, скрывшись из вида за колоннами. Агриппулус поднял клочок пергамента и, прочтя его, ускорил шаг.
В тот же день после вечерней молитвы в храме Святой Софии он тайно встретился с патриархом Полиевктом, который сразу поинтересовался обстановкой на полях военных действий и мнением императора по этому поводу.
– Судя по всему, Фока не собирается заниматься Болгарией, он велел мне отправить лучших разведчиков в Сирию, – не скрывая раздражения, ответил Агриппулус.
Патриарх, до этого задумчиво изучавший великолепный перстень на среднем пальце правой руки, вскинул глаза на собеседника и пристально поглядел так, что главному трапезиту показалось, что он стал на несколько мгновений прозрачным и беззащитным. Это длилось совсем недолго, и опытный в подобных делах Викентий тут же взял себя в руки.
Полиевкт ещё немного помолчал, любуясь игрой отражённых в большом камне перстня лучей светильников и лампад.
– Наш василевс слишком заботится об армии в дальней Сирии и упускает возможность возврата Болгарии у себя под боком. Империя и так достаточно была посрамлена и унижена Симеоном, сколько сил и золота было потрачено после воцарения Петра на ослабление Болгарии! – Взгляд Полиевкта снова вонзился в Викентия, но на этот раз не застал его врасплох, и ощущения собственной прозрачности архистратигосу удалось избежать. – И вот теперь в стране мисян распоряжается этот скиф Сффентослаф. – Полиевкт выдержал паузу. – Недовольство Никифором растёт так же быстро, как некогда популярность, но беда императора в том, что он не хочет прислушиваться к мудрым советам, – снова негромко произнёс патриарх. – Я думаю, Агриппулус, мы должны обратиться к людям, способным позаботиться о благе империи… У тебя, Викентий, наверное, есть предложение, как поправить дело? – мягко поинтересовался патриарх, снова перенеся взор на свою правую руку.
– Нужно отвлечь Русского Барса от устройства своего нового логова, – ровным голосом ответил архистратигос. Он привычно оглянулся по сторонам, хотя знал, что их никто не слышит, и принялся излагать свой план действий.
Когда он закончил, патриарх спросил:
– Сколько это будет стоить церковной казне?
– Вот, – протянул пергамент Агриппулус. – Здесь учтено всё, – добавил он, видя, как поморщился Полиевкт при виде цифр.
– Согласен, – через несколько минут раздумий ответил патриарх, – думаю, Болгария стоит того…
Старший стратигос Каридис сидел на подушках в шатре Курыхана, потягивая хорошее греческое вино, которое он привёз в дар могучему владыке печенегов. Осторожный повелитель кочевников, как всегда, предложил купцу – а именно в роли богатого торговца предстал Каридис перед владыкой – первым попробовать византийский дар. Купец был совершенно спокоен, всем своим видом показывая своё восхищение великим ханом, его мудростью и смелостью. Именно об этом говорил богатый грек Курыхану через его толмача. Повелитель печенегов, конечно, понимал, что сидящий перед ним – такой же купец, как он, Курыхан, молодой жеребёнок. Но обычно именно через подобных «купцов» шли тонкие нити тайных дел, которых как бы и не происходило вообще, и всем становились известны только их последствия, но не сами устроители. Поэтому Курыхан внимательно слушал гостя, стараясь не продешевить в «торговле».
– Есть люди, о великий хан, которые хорошо заплатят, если кто-либо потревожит Киев, причём даже не обязательно брать город, достаточно его просто осадить на некоторое время.
– Хм, чтобы князь урусов примчался с берегов Дуная и всей своей мощью обрушился на того, кто осмелится тронуть его столицу? – со злой издёвкой произнёс печенег. – Сейчас не самое удобное время дразнить барса, который силён, как никогда прежде.
– О великий Курыхан, сын знатнейшего рода племени Куэрчи Чур – Небесных Вождей, достойнейшего из всех восьми племён народа пачинакитов, разве могут те, кто послал меня, даже думать о том, чтобы причинить вред тебе или твоему мужественному племени?
От этих высокопарных слов лицо хана искривилось в едва заметной ухмылке. Уж он-то знал, что в коварстве и хитрости с Византией вряд ли кто из кочевых народов мог сравниться. Он даже не стал спрашивать, кто такие эти «люди», что прислали «купца», Курыхан знал это наверняка.
Он уже однажды, по совету византийских стратигосов, напал на обоз князя урусов, что возвращался с богатой добычей из Итиля… Печенег на несколько мгновений задумался, окунаясь в воспоминания. Тогда это дорого обошлось и ему, и его народу…
– Великий повелитель вольного, как дикий скакун, народа, ты можешь не участвовать в набеге сам, а послать кого-либо из подвластных тебе князей. Из тех, – прищурился «купец», – кто, скажем, не со всем должным почтением относится к тебе. Понятно, когда человек молод и горяч, он часто переоценивает свои возможности, особенно если этот человек относится к знатному роду племени Суру Кулпей… – Произнеся эти слова, Каридис внутренне напрягся, прислушиваясь, насколько верно переводит его речь толмач. Он хорошо знал язык печенегов, освоив его ещё во время службы в Хазарии, но не подавал вида, стараясь уловить, что скажет хан «не для перевода».
– Вот проклятые пронырливые византийские лисы, – пробурчал негромко Курыхан, сделав знак толмачу не переводить этого, – они знают всё, наверное, даже сколько раз я сплю с каждой из моих жён… Конечно, им хорошо известно, что Курыхан никак не может повелевать четырьмя племенами печенегов, кочующими на правом берегу Варуха. У них свои князья. А остальные три, что живут на левом берегу: Суру Кулпей, Боро Толмат и Була Чопон, – хотя формально и подчинены ему, всё равно без общего воинского собрания важных решений принимать единолично он не может. Значит, в случае отказа «купец», скорее всего, поедет к Суру Кулпеям…
Каридис даже не повёл бровью, великолепно играя человека, не владеющего чужим языком. Про себя он отметил, что приближённые хана совсем недорого продают его людям подробности из жизни своего повелителя.
– Пославшие тебя считают, наверное, что моё «величие и мудрость» распространяется только на племя Небесных Вождей? – раздражённо проговорил Курыхан.
– Нет-нет, конечно, никто так не думает, – быстро заговорил Каридис, чувствуя, что разговор заходит не в то русло, которое удобно ему.
– Тогда я сам разберусь и в своём стойбище, и в отношениях с моими племенами! – недовольно произнёс Курыхан и встал, давая понять, что разговор закончен. – Передай пославшим тебя, что вино хорошее, но весна – не время для пиров, нужно думать о пастбищах, ведь мы кочевники.
Старший стратигос покидал стойбище Курыхана в мерзком настроении. Мало того что он не выполнил свою задачу, провалив переговоры, что случалось с ним крайне редко, но самое главное – подвело его непревзойдённое чутьё, а это уже совсем плохо.
Сами собой выплыли подробности разговора со старым и опытным трапезитом Никандросом, который многие годы занимался именно пачинакитами и потому знал их лучше других. Каридис встречался с ним последний раз ещё тогда, когда совместно с хазарами они организовали набег на Киев. Он слышал, что ветеран Тайной стражи после ранения не смог вернуться в строй. К удивлению стратигоса, Никандрос не так сильно постарел за эти годы. Совершенно седой, но ещё довольно крепкий хозяин живописной виллы в тихом заливе на побережье встретил его радушно. Опираясь на искусно вырезанную костяную трость и припадая на левую ногу, он провёл гостя в уютную беседку из виноградных лоз, где на столе уже стоял запотевший кувшин с вином и в плетёной вазе лежали фрукты. У ног хозяина устроилась красивая собака, не отрывавшая умных глаз от гостя.
– О пачинакитах могу рассказать много, но тебе это сейчас ни к чему, поэтому кратко. Откуда они появились, точно сказать не может никто, даже они сами, но известно, что по крайней мере век тому эти народы уже кочевали между Итилем и Каменными горами, что лежат на восходе от Итиля-реки. Сейчас они делятся на восемь племён, в каждом из которых насчитывается пять родов – итого сорок колен. На правом берегу Борисфена, который они называют Варух, живут четыре племени: Язы Копон – Вожак Язы, которые кочуют вблизи от страны Мисян, Кабукшин Йула – Предводители Цвета Древесной Коры, которые обитают у границы с Уграми, а ещё Явды Эрдым – Прославленные Подвигами, и Кара Беи – Черные Князья, что граничат со Скифами-Русь. На левом же берегу обитают Куэрчи Чур – Небесные Вожди, Суру Кулпей – Серые Кулпеи, Боро Толмат – Неясно Говорящие, и Була Чопон – Пастухи Оленей.
– К кому мне стоит обратиться, чтобы варвары потревожили Киев? – спросил Каридис.
– Хм, трудно сказать, я ведь давно отошёл от прежних дел, ты же знаешь, – задумчиво произнёс хозяин.
– А тогда, когда ты был в потоке дел, к кому бы ты поехал с такой просьбой в первую очередь?
– Тогда бы, конечно, к Курыхану и его племени Куэрчи Чур, который и поныне держит в руках четыре левобережных племени. Он решителен, хитёр, любит золото, а главное – у него как бы негласный поединок со Сффентослафом: они почти ровесники, рано остались без отцов, оба по законам их народов стали князьями, оба отчаянны, смелы и воинственны…
– Постой, но отец Курыхана, прежний владыка левобережных пачинакитов Нудыхан, он же был жив, когда…
– Он не отец нынешнего повелителя, а его дядя. Отец погиб, когда Курыхану было около семи лет от роду. По законам пачинакитов, власть нельзя передать родному сыну, только племяннику или шурину. Так ещё в древности решили старейшины, дабы не ослабить свой народ единоличной властью, передаваемой от отца к сыну.
– А из правобережных пачинакитов кто более всего может подойти для такого дела?
– Думаю, что сейчас более всего будут сговорчивы Язы Копон и Кабукшин Йула, ведь они вместе с Симеоном Великим некогда ходили на нас, а теперь Сффентослаф разбил их бывшего союзника – Болгарию, а значит, лишил части добычи от набегов на Империю. Там более что, как ты говоришь, сей северный скиф заключил договор с мадьярами, а они – извечные противники пачинакитов, из-за того что пачинакиты вытеснили их сначала из придонских степей, а потом перерезали их стойбища в Паннонии…
– Возьмут ли они теперь деньги от нас, от тех, на кого нападали?
– Поверь, им всё равно, как получить с нас плату – нападая на Империю или помогая ей. Знаешь, если князь россов заплатит им или пообещает часть добычи, то они с охотой пойдут на нас, не сомневайся. Да ты пей вино, я сам вырастил этот виноград. – Хозяин вдруг сменил тему разговора, касаясь небольшой, но широкой ладонью шершавой поверхности лозы. – Сам его давил и выдерживал, это часть моей души, дорогой Каридис.
Хозяин проводил гостя до коновязи и придирчиво проследил, чтобы слуга осторожно установил в перемётных сумах две винные амфоры. Каридис, уже собираясь вскочить в седло, вдруг обернулся и неожиданно предложил:
– А может, поедешь со мной, Никандрос? Ты ещё не так стар, разум чист, а рука тверда, и не зря твоё имя – Мужественный Победитель!
– Знаешь, Каридис, я всю жизнь служил Империи. Стравливал народы, добывал важные секреты, устранял неугодных. И только после ранения, когда лежал здесь, как полудохлый пёс, глядя на морской залив, на восходящее и заходящее солнце, я понял, что ничего в этой жизни не сделал. Тогда я пообещал себе, что, если встану на ноги, никогда больше не буду заниматься тем, чем занимался прежде.
– Но ты же герой, ты защищал Империю Ромейскую! – воскликнул почти возмущённо старший стратигос.
– Сизифов труд защищать извне то, что уже гибнет изнутри. Наша Империя катится к гибели, и ты это хорошо знаешь, но, как и я когда-то, то ли не имеешь времени, то ли желания об этом подумать. Ты когда-нибудь сажал лозу или дерево?
– Да, у меня тоже есть вилла в тихом месте, там и виноград, и деревья, и цветы…
– Но всё это выращивают твои слуги, твой садовник и рабы. А ты сам, своими руками, что-нибудь делал там, а, друг Каридис?
– Сам, хм, сам… Не до того мне как-то, да и не думал я об этом, – несколько растерянно ответил старший стратигос.
– Вот и я тоже до того момента никогда не думал, друг Каридис, – ответил старый трапезит. – Да, кстати, – снова неожиданно сменил хозяин тему разговора, – почему возникла необходимость устроить неприятности россам, если они сейчас наши союзники и фактически обеспечивают безопасность наших северных границ и нам можно бросить войска против арабов в Антиохии? Кто-то желает войны на два фронта, зачем? – Потом поднял глаза на собеседника. – Ладно, пусть Бог пошлёт тебе лёгкую дорогу!
Эти воспоминания немного отвлекли «купца» от неудачного разговора с Курыханом. «Что ж, – решил он, усмехаясь в душе, – если меня и на правом берегу Борисфена постигнет неудача, останется только выращивать виноград». Но неприятное ощущение двойственности своего положения впервые не отпускало. Всегда он был уверен – то, что делает, делает на благо Империи, её могущества, а теперь? Слова Никандроса не давали покоя, как далеко ни старался упрятать их в недра тренированной памяти старший стратигос.
«Стареешь, Каридис, стареешь, – корил он себя, одновременно по устоявшейся за долгие годы привычке стараясь найти причину своей ошибки. – Может, князя пачинакитов не устроила цена? Надо было пообещать больше, а ещё лучше – привезти с собой, блеск золота и камней сделал бы его сговорчивее… Не надо было ехать к Курыхану, слишком свежа у него память о быстрых мечах князя россов. Да и к племени Суру Кулпей, пожалуй, тоже ехать не стоит, они хоть и не очень ладят с Курыханом, но открыто пойти против его воли… Нет, надо подаваться к племенам, которые обитают на правом берегу Борисфена, они ещё не отведали клинков Сффентослафа. „Подкормить“ их как следует, пообещать золотые горы, что угодно, но привлечь на свою сторону. Нельзя забывать наставлений императора Константина Багрянородного сыну Роману: „Я полагаю всегда весьма полезным для Василевса Ромеев желать мира с народом пачинакитов, заключать с ними дружественные соглашения и договоры, посылать отсюда к ним каждый год апокрисиария с подобающими и подходящими дарами“. А ещё поучал император своего сына: „Знай, что пока Василевс Ромеев находится в мире с пачинакитами, ни россы, ни турки не могут требовать у ромеев за мир великих и чрезмерных денег и вещей, опасаясь, что Василевс употребит силу этого народа против них… Пачинакиты, связанные дружбой с Василевсом и побуждаемые его грамотами и дарами, могут легко нападать на землю россов и турок, уводить в рабство их жен и детей и разорять их землю“.
Нельзя, никак нельзя тебе, Каридис, получить отказ ещё и у племени Язы Копон и Кабукшин Йула. Эти два больших племени правобережных пачинакитов находятся одно на границе с Болгарией, а другое с Угрией, они, как говорил Никандрос, союзничали с болгарским царём Симеоном, поэтому должны быть не очень довольны нынешним вторжением в Болгарию князя россов», – размышлял старший стратигос.
Полутысяцкий Хорь, оставленный князем, чтобы обучать молодое пополнение, а негласно и для несения Тайной службы, неспешно шёл по пристани, внимательно замечая всё и вся вокруг. Теперь такие прогулки по людным торговым местам Киева стали ежедневными. На пристани или торжище сразу видно, какие лодии, с каким товаром, откуда и с какими купцами прибыли. Средь шумной толпы перевозчиков, торговцев, грохота пустых телег, храпа испуганных непривычной толчеёй лошадей из тихих весей, тяжёлого скрипа доверху нагруженных возов, ругани и смеха, окриков и песен он чутко ловил интересные ему речи, мог незаметно понаблюдать за подозрительным человеком, либо, как бы невзначай, встретиться с кем надо и молвить то, что другим ушам было не предназначено.
Старый воин уже почти выбрался из шумной сутолоки, когда почувствовал на затылке чей-то пристальный взгляд. Хорь «нечаянно» выронил небольшую холщовую суму и, поднимая её, незаметно оглянулся. Сердце его радостно забилось, но виду старый изведыватель не подал, только быстрее зашагал прочь от реки, более не оглядываясь, потому как ясно чувствовал, что человек, чей взгляд он перехватил у пристани, идёт следом. Войдя во двор, заросший цветущими вишнями, он уселся на трухлявую колоду подле старой покосившейся глиняной хатки и стал ждать. А когда в калитку вошёл худощавый отрок, поднялся навстречу и крепко обнял его, уронив скупую слезу на свою обветренную тёмную щеку.
– Невзорка, сынок, откуда, неужто из самой Булгарии?! – Он отстранил от себя юношу, оглядел усталое чело и снова заключил в свои жилистые объятия. – Сыне мой, живой и здоровый, как рад, как я рад!
Когда, перемяв друг друга в объятиях, они уселись на колоду, Невзор поведал:
– Сегодня я с купцами из Бряхимов-града приехал. Вести недобрые у меня. Темник Издеба повелел передать, что были посланники византийские в нескольких племенах булгар и буртасов, с князьями их встречались, пытались уговорить на Киев пойти, причём немедля, пока князь с дружиною на Дунае-реке занят. Одного из тех посланников, что под личиной арабского купца скрывался, изловить удалось, так он под пыткой поведал, что и к другим народам такие «купцы» посланы. Издеба с Инаром князей тех кого уговорами, кого деньгами, а кого мечами варяжскими от мысли идти на Киев отвадили. Да только это в Булгарии, а половцы, а печенеги, а ясы с койсогами? Да и в Альказрии немало охочих поживиться киевским богатством, пока в нём доброй дружины нет.
– Худо, в самом деле худо, пойду-ка я к Горазду, он нынче хоть и под Улебом ходит, да дело своё лепше ведает. А ты отдохни с дороги, исхудал-то как, рёбра вон торчат, что у рубеля для глажки. Я в этой хатке людей нужных встречаю, там еда и одежонка разная, – кивнул полутысяцкий на дверь жилища. – Отдыхай, одним словом, а как Издебе ответ будет готов, так с купцами и двинешь обратно.
– А что, княжеский брательник, как и в зимней войне с Булгарией, снова в поход не пошёл? – спросил юный изведыватель.
– Мать Ольга упросила Святослава оставить Улеба при ней, рекла, мол, внуки ещё не взросли, а ей уже тяжко о них хлопотать, кому, как не дядьке, их наставлять и пестовать. Да и твёрдая рука мужеская в отсутствие князя должна быть. В общем, он при княгине вроде воинского советника.
– Видать, благоволит мать-княгиня к Улебу-то, – заметил Невзор.
– Так они ж с княгиней единоверцы, да… – как-то двусмысленно промолвил Хорь. – Ну, отдыхай пока, тебе ведь скоро в обратный путь, – повторил он и быстрым шагом вышел со двора.
Только не успел Невзор покинуть Киев, потому как на следующий день Гарольду-Горазду сообщили, что ко граду подступают орды печенегов, причём не те, привычные уже киянам сородичи Кури, а другие, по всему видать, издалека. Начальник городской стражи немедля поскакал к Улебу, и они вместе тотчас явились перед княгиней Ольгой.
– Мать-княгиня, – взволнованно проговорил Гарольд, – беда, печенеги на Киев идут!
Княгиня тяжело села на лаву от такой вести и, помедлив, произнесла в сердцах:
– Ну вот, а у нас окромя полка стражи Городской и нет никого, вся дружина по чужим землям разбежалась!
– Полк ничего не сделает, много их, печенегов… – мрачно молвил Улеб.
– Сама-то ведаю, лепше подскажите, кто из воевод поближе, чтоб хоть с какими-то силами подоспел. Да и князю нашему, вечному воителю, весть подать надобно!
– Черниговский воевода к концу месяца должен был снарядить пополнение княжеской дружине, к нему гонцов пошлю, да в другие грады. Хотя особой надежды нет, все свежие полки уже в Болгарию отправлены, – доложил Гарольд. – Князю гонцов-то пошлём, да пока они его достигнут, пока он сюда с дружиной приспеет… А кочевники, считай, к утру здесь будут.
– Гляди-ка, как подгадали, подлые, – в раздумье молвила Ольга, – в самый тяжкий момент, когда ни дружины в Киеве, ни пополнения для неё из прочих земель…
– Будто нарочно кто подсказал печенегам, – в тон княгине вздохнул Улеб.
– Худо ещё и то, что припасы зимние почти съедены, а новое созреть ничего не успело. Если Киев осадят, долго не протянем… – озабоченно молвил начальник Городской стражи. – Сейчас же распоряжусь послать гонцов в Чернигов и к светлейшему князю в Болгарию…
– Постой, – остановила Ольга собиравшегося уходить Гарольда, – я сама князю послание напишу. – И она излила на кожу всё, что накипело на сердце материнском, всё выплеснула в краткие, но горькие строки: «Ты, сыне, чужих земель ищешь и блюдешь, а своея ся лишив! Аще не придеши, не оборониши нас, да возьмут нас печенези. Аще ти не жаль отьчины своей, и матерь стары суща, и детей своих». – Коли не придет Святослав с дружиною, то погибнем все, или, того хуже, в полоне окажемся, – с тревогой молвила Ольга, запечатав кожу и передавая её Гарольду.
Полетели разными дорогами послы киевские с вестью тревожной в землю Болгарскую. Потому как неведомо, какая из тех дорог счастливой окажется, а на какой ждёт-дожидается тех посланников смерть скорая или полон тяжкий.
А поутру вышли к Киеву печенеги.
Будто весеннее половодье выплеснуло из степи несметную орду всадников на конях и верблюдах, повозок, в которые были впряжены круторогие волы. Над войском грозно трепетали на ветру знамёна из звериных шкур и колыхался густой частокол копий. Вопли команд на незнакомом языке, рёв животных и низкое утробное гуденье огромных печенежских труб заполнили всё окрест чужими устрашающими звуками.
Кочевники только раз приблизились к стенам града, но, будучи обстреляны из луков и самострелов, откатились и обложили Киев плотным кольцом, раскинув на склонах, сколько хватало глаз, свои шатры. Началась осада.
– Гляди, расположились, будто на всё лето, – молвил тревожно Гарольд Улебу и начальнику Теремной стражи, что стояли подле на главной городской башне.
– Странно, – потёр пальцем меж бровей Фарлаф, – они более привычны наскоком брать, а тут… Неужто не понимают, что придёт дружина с Дуная и разметает их, как траву сухую, по полям да перелескам?
– Как же, придёт, – хмыкнул Улеб, – птицей, что ли, перелетит с Дуная? А у нас припасов почти нет, голод скоро начнётся, тогда печенегам вовсе легко будет нас взять.
– А может, выйти ночью из ворот и ударить полком Городской стражи в самую их середину, где шатёр князя ихнего? Если убьём, то паника начнётся, неразбериха, а если полоним его, то и того лепше, в качестве выкупа за голову его пусть осаду снимут и уходят, – предложил Гарольд.
– Легко сказать, – возразил Улеб. – А как мы полк погубим? Тогда это всё одно, что просто ворота открыть, риск велик, Претича подождать надо, – заключил он резонно, и все согласно промолчали.
Черниговский воевода Претич прибыв к Киеву на зов о помощи, стал на левом берегу Непры. На правом берегу между городскими стенами и рекою густо рассыпались шатры кочевников. Начать переправу значило попасть под их стрелы, да и просто так они на берег не впустят, а числом их немерено. С обложенным со всех сторон Киевом связи не было. Никакого разумного решения воеводе в голову не приходило. Если бы хоть как-то связаться с осаждёнными и придумать что-то сообща, но слишком хорошо чуткие кочевники стерегли подступы ко граду, потому пройти незамеченными лазутчикам Претича не удалось. Несколько попыток горожан отправить к черниговскому воеводе своих посланцев на другой берег окончились плохо, их схватили печенеги.
Время шло, в граде заканчивались съестные припасы, замаячила угроза голода. Да и с водой было худо – немногочисленные колодцы вычерпали почти до грязи. Некоторые богатые купцы уже поговаривали, что лепше отворить ворота и сдаться, чем сгинуть от жажды, голода и мечей тех же кочевников, коли они сами ворвутся в град. Несмотря на буйство весны и яркое весеннее солнце, мрачно и уныло стало в прежде весёлом и суетливом Киеве.
В это время к Горазду явился полутысяцкий Хорь.
– Есть у меня человек, который сможет весть воеводе Претичу передать. Только от тебя помощь потребуется: одежонка печенежская, пара «свежих» полонённых кочевников и два-три дня сроку на подготовку, – проговорил старый воин, прямо глядя на начальника Городской стражи. – Только про то никто, кроме нас двоих, ведать не должен, – предупредил Хорь.
Невзор, невольно оказавшийся в осадном Киеве, теперь помогал старому Хорю в охоте за вражескими лазутчиками. Благо речь вражескую добре разумел и знал печенежские повадки не хуже булгарских или хазарских. Теперь, по заданию Хоря, он три дня прожил в землянке у самой городской стены с двумя пленёнными печенегами, выдавая себя тоже за пленника. Он «освежал» язык кочевников, их обычаи, «влезал в шкуру» их привычек и поведения. Потом стражник, отворив дверь, грубо окликнул Невзора:
– Эй ты, доходяга, а ну-ка, ступай за мной!
Они прошли немного и спустились в другую полуземлянку.
– Эх, и дух ядрёный от тебя, – сморщил нос Хорь, – по запаху всякая печенежская собачонка и та тебя за своего примет. – Полутысяцкий довольно улыбнулся. – И одежонку, гляжу, сменил.
– Эта настоящая, племени Язы Копон, что у самых стен расположились, – ответил изведыватель на печенежском, присаживаясь к столу. – Я с одним из печенегов, с которыми сидел, поменялся одеждой за кусок вяленой конины.
Старый изведыватель одобрительно кивнул.
– Мне уздечка нужна, – продолжил печенег-Невзор, – тот, чья одежда на мне, рёк, что его взяли, когда он коня своего искал в зарослях у стены, там где-то он узду и выронил, непременно надобно сыскать. Печенеги туда не заходят, опасаются, как бы под наши стрелы не попасть.
– Может, другую узду тебе подобрать, чтоб на печенежскую походила? – проговорил, размышляя вслух, Хорь. И тут же сам себе возразил: – Нет, из-за мелочи эдакой всё дело сорвать можно. У них ведь удила сплошные. Постараемся найти, некуда ей деться. Пошлю тех, кто его взял, пусть на том же месте все кусты обыщут. А сейчас запомни, что Претичу сказать надобно.
Только после полуночи вернулись лазутчики с печенежскою уздой, хотя и не могли взять в толк, на что она понадобилась их начальнику.
Рано поутру, когда туман ещё только начал рассеиваться, задремавшего печенежского стража толкнул кто-то в бок.
– Так ты его не видел, брат?
Испуганный страж взвился, молниеносно обнажив клинок. Перед ним стоял худой отрок, держа в руках узду. По одежде и говору, а тем более по узде печенег сразу определил своего соплеменника.
– Кого не видел? – рассерженно проговорил он, отряхнув остатки сна и возвращая клинок в ножны.
– Коня моего, Тулпаром зовут, вороной, вот тут и тут белые пятна. – Худой юноша показал себе на лоб и правую сторону шеи. – А вот тут, над левым копытом…
– Э-э, иди отсюда, никакого коня я здесь не видел, может, он к реке пошёл напиться, иди, – не дослушав, отогнал юношу стражник. Потом окликнул уходящего: – Если твой конь близко к стене подошёл, можешь больше не искать, – страж ехидно усмехнулся, – его урусы точно съели… – И расхохотался хриплым со сна голосом.
А молодой худощавый печенег с уздой в руке, расстроенный и озабоченный, всё шёл меж просыпающихся соплеменников, спрашивая о коне, у которого там и там белые, будто птичьи крылышки, пятна, а ещё он когда стоит на месте или щиплет траву, то ногами делает вот так и так… При этом убитый горем юноша смешно переступал ногами. Кто-то сочувствовал и высказывал свои предположения, а кто-то, смеясь, прогонял его, коря за нерадивость.
Вот закончилась часть стана, где расположились воины из племени Язы Копон, дальше начались шатры Предводителей Цвета Древесной Коры, которые считали себя более высокородными и достойными, нежели соседи. Здесь над несчастным смеялись большей частью зло и высокомерно, обзывая его худосочным доходягой, которому нельзя доверить не только коня, но и старого барана.
У последнего костра, где уже начали варить еду воины, охранявшие берег, ещё подёрнутый утренним туманом, на вопрос подошедшего здоровенный, несколько тучноватый десятник, сверкнув злым взглядом, рыкнул:
– Жалкий шелудивый пёс из племени бестолковых, ты что, не видишь, что нам не до недоумков, которые теряют коней, как нерадивая женщина иглы для шитья? Пошёл прочь к своему недостойному племени!
– Ты, паршивая помесь степной свиньи с барсуком! – вдруг дерзко крикнул юноша, быстро обходя костёр и останавливаясь со стороны реки. – Если твои поганые губы проблеют ещё хоть одно грязное слово о моём племени, я…
Весь десяток, будто подброшенный вверх невидимой силой, вскочил, но старший, поднимаясь во весь свой немалый рост, рявкнул:
– Сидеть, я сам задушу этого козлёнка из паршивого стада, сейчас вы услышите, как хрустнет его несчастный хребет!
Десятник двинулся на противника грозно и неотвратимо, как огромный валун с горы. Он даже не взялся за оружие, готовый просто разорвать наглеца на части. Все замерли в ожидании скорого наказания дерзкого чужеплеменника. Когда до «худосочного» осталось всего несколько шагов, тот вдруг резко подпрыгнул на месте и… что есть силы побежал прочь от могучего десятника. Воины повалились со смеху.
– Язы Копон драться не умеют, зато бегают быстро! – верещал от восторга один.
– Теперь наш Тортугай его не скоро догонит! – гоготал другой.
– Дальше реки не убежит! – держался за живот третий.
Вскоре сквозь смех стражники услышали, как что-то громко ухнуло в тихую гладь утренней реки. Через короткое время снова что-то громко шлёпнулось о воду.
– Наш десятник решил, перед тем как покончить с доходягой, хорошенько его помыть! – смеялись воины.
Потом на берегу всё затихло, лишь изредка что-то негромко плескалось в воде.
– Пойду гляну, что Тортугай сделал с этим наглецом, – сказал самый нетерпеливый и пошёл к берегу.
– Десятник!.. Все сюда, берите луки, скорее! – вдруг истошно завопил любопытный воин.
А когда остальные подбежали к берегу, то в первый миг остановились, поражённые. В реке у самого берега, распростёрши сильные руки, лежал могучий Тортугай. Вода вокруг его шеи была красного цвета, а в сотне шагов от берега в белёсом тумане то появлялась, то исчезала голова пловца. Несколько стрел, выпущенных в спешке, вспороли воду у самой головы беглеца, и она тут же исчезла под водой.
– Всё, мы отомстили за смерть десятника, – неуверенно произнёс молодой воин.
– Если это урус, то они в воде как рыбы, – зло огрызнулся в ответ пожилой.
– Почему ты решил, что это урус? – спросил молодой.
– Потому что наши так плавать не умеют… Вон, смотри, он жив!
Снова в белёсый туман полетели стрелы, поднялся шум, раздались крики и команды, казалось, весь стан пришёл в движение. На той стороне реки тоже засуетились, уловив необычное оживление в стане печенегов. Сам воевода Претич выбежал на берег, вглядываясь в подёрнутую уже разорванным на отдельные клочки туманом Непру. Заметив, наконец, что в воде то появляется, то исчезает человеческая голова, приказал спустить челноки и грести навстречу пловцу.
Вскоре тощего пловца, на голое тело которого воины накинули старую холстину, привели к воеводе.
– Кто таков, кем послан, с чем пожаловал? – строго спросил основательный Претич, возвышаясь над Невзором, крепкий да ладный, будто вырезанный из дуба.
– Я к тебе послан, воевода, – начал Невзор, – от княгини-матери Ольги, её воинского советника Улеба, Гарольда, начальника Городской стражи, и Фарлафа, начальника Теремной стражи, а также от всех киян: в граде худо, припасы съестные закончились, люди голодают, нападают на подворья купцов, те обороняются насмерть. И рекут купцы, да и некоторые из горожан, что надобно отворить ворота, коль нет до сих пор подмоги. А пришедшие печенеги, мол, ведут себя спокойно, окрестным селениям великого зла не чинят, даже град взять не пытаются, вроде как не на войну, а на посиделки пришли. Может, и с киянами так же мирно обойдутся. Только что будет, коли княгиня Ольга с чадами в руки печенегов попадёт?
Претич крепко задумался над словами посланца киевского. Коли княгиня с внуками у печенегов окажется, того князь никому не простит – ни боярам, ни Гарольду с полком Городской стражи, а ему, Претичу, и подавно. Отчего, скажет, Киеву на выручку не пришёл, мать мою и детей не спас?
Про нрав крутой княжеский всем ведомо, потому воевода ощутил холодок промеж лопаток. Верно речёт посланец, более ждать нельзя, уж лучше в схватке неравной с врагом голову сложить, чем с позором великим от своих смерть принять, подобно изменнику. Встревожился Претич, заходил туда-сюда, ус свой длинный покручивая, покашливая изредка в кулак, будто сказать что хотел. Потом остановился перед посланцем и спросил:
– А как же тебе из Киева пройти сквозь стан печенежский удалось, а?
– Каждый, воевода, своему обучен, кто кожи мять, кто хлеб жать. Не про то говорим, – ответил Невзор, глядя карим взором прямо в очи воеводы. Слова получались у него негромкими, но в голову Претича входили одно за другим, что осиновые колья в гать.
Воевода снова стал покашливать в кулак и нервно покручивать ус.
– У меня-то воинов настоящих с вооружением добрым только сотня, а остальное ополчение, какое соскрести успел в полночных землях наших. Мечей, кольчуг да шеломов мало, – сокрушённо молвил воевода, – считай, один на десяток. Куда им с топорами да рогатинами супротив воинственных кочевников… – Претич походил, ещё сильнее закручивая ус. – Мыслю, что надобно будет утром рано, пока туман висит над рекою, тихо приблизиться к берегу, прорваться к граду, живо мать княгиню с чадами в лодьи посадить и переправить на левый берег Непры. Для сего наших сил да киевского полка Сторожевого хватить должно…
– Горазд вместе с Тайной стражей так предлагают сделать, воевода… – молвил молодой посланец и, оглядевшись по сторонам, заговорил ещё тише, чтобы его слов не услышал никто, кроме Претича.
Рано поутру, когда красавица Непра, пребывая в тихой неге, ещё не освободилась от мягких туманных покровов, клубящихся над гладью сонных вод, томную тишину вдруг в одночасье разорвали звуки со стороны левого берега реки. Застучали вёсла, зашумела и заплескалась вода, невидимые лодьи приближались к берегу, оглашая окрестности грозными трубными сигналами и боевыми кликами тысяч глоток. Полусонные печенеги, не понимая толком, что случилось, стали выбегать из своих шатров, обращая тревожные взоры к реке.
В ответ с киевских стен также запели трубы и зазвучали радостные выкрики:
– Подмога пришла!
– Дружине княжеской слава!
– Святославу слава! Бей печенежину! – рычали воины Сторожевого полка, которые неожиданно вытекли из полуоткрытых ворот и уже яростно рубили сонных растерянных кочевников.
Народ высыпал на стены, начал махать платками, защитники потрясали копьями и били мечами о щиты, добавляя грохота во всеобщее радостное возбуждение.
Разбуженные шумом и «подзадоренные» острыми клинками полка Гарольда, печенеги мигом взлетели в сёдла. Они и так чувствовали себя неуютно у столицы того, чьи воины разом покончили с Хазарским каганатом и Волжской Булгарией, а теперь легко захватили Болгарию на Дунае. Ожидая со дня на день подхода грозной конницы Русского Барса, печенежский воевода Хасым-бек всегда держал наготове коней для себя и своих верных охоронцев. Золото, полученное от «добрых византийских купцов» за этот поход, давно надёжно спрятано, и можно уходить налегке, не заботясь о лошадях, возах и верблюдах. И вот, кажется, этот час пришёл. Видно, подоспел сам предводитель урусов?!
От этой догадки Хасым-бек почувствовал себя так, как будто он оказался голым среди зимней степи. Охваченная страхом, печенежская конница живой волной отхлынула от берега, ожидая, что её вот-вот настигнут тьмы грозного киевского князя.
Но вышедшие на берег воины не торопились преследовать кочевников, а двинулись к отворившимся воротам града, из которых выехали три повозки в плотном окружении дружинников и направились к реке. Это была княгиня Ольга вместе с внуками и приближёнными. Статный и осанистый, с длинными усами, по всему видно, глава прибывших в лодьях воинов, спрыгнул на берег и поклонился вышедшей из повозки княгине, приглашая её и свиту занять места в лодьях. Следом за воинами к берегу стали причаливать доверху гружённые лодки. Воины и подоспевшие горожане споро переносили поклажу на киевские возы, которые уже выстроились сплошной вереницей по направлению к городским воротам.
Отхлынувшая печенежская конница, не увидев погони, остановилась. Хасым-бек, уже почти было распрощавшийся со своей головой, подумал, что, может быть, удастся мирно переговорить с грозным киевским князем. Кликнув десяток личной охраны, он направился к урусам. От них тоже отделился десяток воинов с крепким начальником впереди.
– Кто это пришёл? – осторожно осведомился хан на языке дунайских болгар, понятном киевлянам.
– Люди с той стороны, – кивнул длинноусый начальник урусов.
«У Русского Барса длинные усы, – вспомнил хан, – может, это сам киевский князь?»
– Я Хасым-бек, князь родов Кабукшин Йула и Язы Копон, а ты князь Святослав? – спросил печенежский владыка.
– Нет, я воевода передового отряда Киевской дружины, а за мной уже идут несметные грозные тьмы нашего князя Святослава, – ответил Претич, прямо глядя в очи печенежского князя.
– Будь мне другом, – кратко проговорил кочевник.
– Добро, – после малого раздумья молвил воевода, – пусть будет так!
Печенежский воевода спешился со своего гнедого с диковатым взглядом и вздутыми от волнения ноздрями тонконогого жеребца. Снял с пояса саблю в дорогих ножнах, отстегнул от седла лук и снял с плеча тул со стрелами. Всё это он протянул урусу, а затем передал уздечку своего чудесного боевого коня.
Претич принял дары и в ответ, оценив щедрость подарка, тут же снял кольчугу и подарил её печенежскому князю вместе со своим мечом и щитом.
Хан надел кольчугу, она оказалась ему впору, осмотрел щит и меч, улыбнулся, и они с Претичем ударили по рукам. Затем печенег сделал знак рукой, ему подвели другого коня, и посольство поскакало прочь.
Печенеги отошли от стен со стороны Днепра, но не ушли совсем, а раскинули стан за рекой Лыбедью. И было печенегов так много, что казалось, сами они, их кони и верблюды скоро выпьют речку до дна. И киянам с полуденных и западных окраин приходилось идти и ехать за водой к Днепру, чтоб самим попить, коней искупать и напоить. А животины домашней почти ни у кого не осталось.
Уже несколько дней князь проводил в поле летние учения, дружину пополнило много болгар, и следовало обучить их воинскому порядку. Едва усталое запылённое войско вернулось в град Переяславец, едва Святослав слез с боевого коня и ещё не успел ни умыться, ни переодеться, как ему доложили о срочном письме от княгини.
– Что стряслось? – спросил князь у такого же усталого и запылённого воина, доставившего пергамент.
– Печенеги, светлый княже, напали на Киев!
Святослав взломал восковую печать с оттиском перстня Ольги и быстро пробежал строчки глазами.
«Святослав, ты всё чужую землю ищешь и блюдешь, а свою оставил. А нас мало не взяли печенеги, и меня, матерь твою, и детей твоих. Аще не придёшь и не оборонишь нас, то таки возьмут. Неужто тебе не жаль отчизны своей, и матери старой, и детей своих?»
– Трубить сбор! Зворыку ко мне! – велел Святослав. – Оставляю тебя с полуратью в Переяславце, – сказал он старому темнику, – а я с остальной полуратью немедля отправляюсь в Киев.
И повернулся к стременному:
– Оседлай мне свежего коня!
Страдания киян разом кончились в тот самый день, когда на правом берегу появились первые тьмы Святославовой непобедимой конницы. На сей раз никто из печенегов не осмелился даже спросить, кто это, потому как впереди боевых железных дружин катилась невидимая, но страшная для врага волна неодолимой воинской мощи, уверенности и силы.
Быстрыми степными вихрями уносились на своих отдохнувших конях и верблюдах чуткие печенежские воины. Уж кто-кто, а они хорошо ощущали дух смертельной опасности и умели вовремя уходить от него, дабы не совать свои отчаянные головы в неминуемую петлю. Уставшие за дальний переход кони русской дружины не могли, конечно, поспеть за ними, оставив на более позднее время наказание степняков.
Воеводу Претича за спасение Киева и детей с матерью князь обнял при всей дружине и повелел выдать ему доброй работы броню, щит и меч, сработанный ещё знаменитым киевским кузнецом Молотило.
– А ты, брат Невзор, какой награды желаешь за то, что смог пройти через коло вражье и Претича призвать на помощь Киеву? – повернулся князь к черноокому худощавому изведывателю, который выглядел гораздо моложе своих восемнадцати лет. – Хочешь, дом крепкий для тебя и родни твоей срублен будет, чтоб было куда молодую жену ввести, или хозяйство, какое пожелаешь, реки без стеснения!
– Родни у меня нет, княже, а труд изведывательский, он мало для семейной жизни подходит, – негромко и грустно ответил Невзор, взглянув на князя таким же пронзительным, как у Ворона, взором.
– Это ты верно речёшь, – так же задумчиво ответил Святослав, вспомнив разом и старого изведывателя, с которым встречался во время Хазарского похода, и полутемника Хоря, и волхва-воина Ворона. – Тогда пошли в оружейную, выберешь там всё, что глянется, – положил руку на плечо отрока князь.
В княжеской оружейне глаза отрока загорелись при виде доброго снаряжения. Он придирчиво оглядел запасы.
– Вот, кольчугу эту хитрого плетения, что под одеждой незаметно носить можно, как у Ворона, и ножи метательные, кои в деле нашем очень пригодны бывают, – указал Святославу молодой изведыватель.
– Добро, а от меня возьми вот это. – Князь достал из широкого пояса и подал изведывателю свой костяной княжеский знак с изображением рарога-сокола. – По сему знаку каждый тиун, воевода, темник или тысяцкий обязан тебе любую помощь оказать, какую потребуешь.
– Дякую, княже! Обещаю, что без дела никогда сего знака не использую! – растроганный доверием Святослава, молвил Невзор, бережно принимая костяную пластину.
Пока отдыхали кони и дружинники, Святослав выслушал горькие материнские упрёки, а потом принял к сведению всё, что поведали ему Улеб и Гарольд, начальник теремной стражи Фарлаф и его помощник Кандыба. Но дольше всего беседовал он с полутысяцким Хорем и Невзором.
– Скажи, княже, – обратился старый Хорь к Святославу, – когда велишь Невзору назад в Булгарию возвращаться и какой наказ передать Издебе?
– Погоди, отец, может, так станется, что не один Невзор к старому нашему другу отправится, – глядя задумчиво перед собой, молвил князь.
Через три дня отдохнувшая дружина устремилась в степь за ушедшими кочевниками. Но едва конница отошла от града, как встретила печенежское посольство, что направлялось к Киеву с богатыми дарами.
– Великий князь Руси, – с поклоном обратились печенежские посланники к Святославу, – наш князь, могучий Хасым-бек, повелитель племён Кабукшин Йула и Язы Копон, заключил на словах и дружеским рукобитием договор с твоим воеводой, а теперь желает закрепить сей договор с тобою, Прославленный Подвигами.
– Вы пришли и обложили мой стольный град, а теперь, когда пришёл черёд вам за сие ответить, о слове вспомнили, моим воеводой данном?! – грозно нахмурил брови Святослав, а правая рука его сама легла на серебряную рукоять кабардинского меча.
– О славный князь россов, – приложил руку к груди пышно одетый печенежский посланец, рыжеволосый и лукавый, что твой скоморох, – разве мы пришли с войной на Русь? Мы кочевники, всё время переходим на новые места, где вдоволь травы нашим стадам. Да, мы пришли к твоему граду и раскинули стан, хотели увидеть твой славный Киев, о котором много наслышаны. Хотели поменять наши кожи, коней, баранов на мёд, воск, северные меха для наших жён, но жители почему-то закрылись в крепости, а когда мы приблизились, встретили нас тучей стрел. Мы не разоряли твоих городов и селений, не пытались взять Киев, не уводили в полон людей, спроси об этом тех, кто был в граде. Мы ждали тебя, великий князь, чтоб заключить дружественный союз между твоими народами и нашими племенами…
Посланник говорил по-русски хорошо, не коверкая слова, только лёгкий налёт другого языка слышался в его проникновенной речи.
Святослав понимал, что печенег лукавит, и приторная слащавость его языка была так похожа на лисьи повадки византийцев.
– А где же сам князь ваш? – поинтересовался грозный воитель.
– Если Повелитель Россов пожелает, то наш князь сразу поспешит на встречу к тебе, но сейчас в наших племенах князья решают, куда лучше отправиться кочевать, и при разделении земель не все согласны с Хасым-беком.
– Передай своему повелителю, что договор между нашими народами я признаю, ибо слово моего воеводы – моё слово.
И дары его принимаю. Но если кто-то из племён ваших, без моего ведома и согласия, впредь по землям Руси «кочевать» вздумает, – князь произнёс это слово с нажимом, – то карать буду нещадно! – закончил, как клинком обрубил, Святослав. И добавил: – Ныне Руси принадлежат все пути торговые по Pa-реке, Дону, Непре и Дунаю широкому, и коли кто вздумает на тех путях зло супротив торгового люда творить… – Русский Барс резанул пронизывающим взглядом печенежское посольство, – тогда уже всё равно, где бы ни был виновник, наши мечи навсегда отправят его в страну Вечного Кочевья…
Обрадованные послы Хасым-бека тут же отправились к своему повелителю с доброй вестью. Подчинённые ему племена свернули свои шатры и ушли восвояси с земли Киевской.
Вернувшись в град, дружина потекла к Ратному Стану, а Святослав собрал темников и молвил:
– Великое дело свершили вы, вои киевские, сокрушили на востоке Хазарию злую и Волжскую Булгарию, а теперь подчинили на западном полудне Болгарию Дунайскую. Теперь все пути торговые: в Асию, Византию, на Дунай, да на полночь к готам, данам и поморам – под рукой нашей. По этим потокам уже течёт добро разное да пенязи многие в киевскую казну, крепнет Русь, а с могучей державой никто не посмеет шутить. Только надобно, чтоб потоки те были чисты от всякого мусора, чтобы безопасно шли караваны купеческие с товарами многими из разных земель. А потому надобно навести порядок, очистить пути-дороги от всех, кто желает на тех путях поживиться. Выступаем завтра в Булгарию Волжскую, а потом пройдём по хазарским землям да Альказрии.
Недолго побыла в Киеве дружина. Снова затрубили рога боевые, призывая суровых воинов в новый поход. Но не успела конница переправиться на левый берег, как примчался запыхавшийся посыльный от начальника Городской стражи Горазда.
– Княже, с полуденного захода гонец прискакал, речёт, будто не все печенеги ушли в свои земли, часть осталась и бесчинствует: поля засеянные вытаптывают, девок насилуют, юношей забирают в рабство…
– Тогда придётся сперва печенежину проучить, – молвил решительно Святослав и повелел дружине назад возвращаться.
Потекла дружина грозная киевская на тех неразумных печенегов, что не послушали Хасым-бека и не ушли вместе с ним. Там, где «гуляли» Явды Эрдым – Прославленные Подвигами, и Кара Беи – Черные Князья, дружина разделилась надвое и потекла на ворога разными дорогами. Как всегда, удар русов был скор и страшен для кочевников. Уцелела та их часть, которая оказалась дальше от основного стана и успела унестись на своих быстрых конях прочь. Опомнившись, они тут же послали оставшихся в живых князей просить мира у Святослава.
Много скота, отбитого у кочевников, пригнали победители в Киев, быстро пополнились городские запасы не только возвращённым добром, но и трудом захваченных в плен печенегов, которые были приставлены к восстановлению разрушенного и прочим чёрным работам.
Потом стелилась под копыта русских коней земля Волжской Булгарии, и крепко поплатились те князья булгарские, которые поддались уговорам пришлых «купцов» и стали замышлять недоброе против Киева.
Встреча Издебы и Святослава была горячей. Они никак не могли отпустить друг друга из богатырских объятий. Старый темник даже уронил горючую слезу и всё не мог наглядеться на Святослава, который за время, пока не виделись, стал ещё решительнее и выглядел старше своих лет, крепко заматерев в непрестанных боях.
– Хорош, хорош, брат, – всё хлопал по широким плечам под рубахой князя старый воин. Его единственное око сияло восторгом и тёплой радостью.
Они долго говорили о делах в Булгарии, Киеве, о Болгарии Дунайской, куда собирался возвращаться князь. В конце разговора Святослав молвил:
– Понимаю, что тебе, брат Издеба, тут не сладко, и служба добрая изведывательская самому во как нужна. – Князь повёл широкой дланью у горла. – Но Ворон в Болгарии остался, а мне по Хазарии и Альказрии пройти надобно, порядок навести, без доброй службы изведывательской никак. Не отпустишь ли со мной Невзора?
Старый темник вначале нахмурился, потом подумал, и чело его медленно просветлело.
– А знаешь, княже, пожалуй, забирай Невзорку. Он тебе и на Дунае сгодится, на разных языках речёт бойко, а видом хоть за болгарина, хоть за грека сойти может. Помнишь, когда Киев печенеги обложили, он смог через их лагерь пройти, выдавая себя за печенега, а потом через Непру к воеводе Претичу переплыл.
– Знаю, тем спас киян, и мать мою, и детей, – подхватил Святослав. – Оттого и прошу его у тебя.
– А ведь Невзорка-то наш не только добрым изведывателем оказался, а ещё и наставником редким! – довольно подмигнул единственным оком старый темник. – Он мальца, родича нашего Седого, так поднатаскал в сём деле, что я сам диву даюсь. Добрая смена Невзорке будет, да и Седой мне крепкая подмога. Так что бери Невзорку, княже, тебе он сейчас нужнее…
– Дякую тебе, брат Издеба, за службу Руси Киевской, за ряд и лад, что тут, в Булгарии, блюдёшь. Ну и за изведывателя Невзора отдельная благодарность! – И Святослав снова крепко обнял старого темника.
Вскоре русская конница потекла на полдень, в земли, некогда бывшие грозной Хазарией.
И так всю осень и зиму наводил князь порядок в землях до Pa-реки, Камы и Дона, в землях вятичей и радимичей, в Тьмуторокани и Таврике, беря дань с подвластных ему народов. И лишь к весне с многими обозами возвратился в Киев.
Глава 8 Кончина Ольги Лета 6477 (969), Киев
Пришла весёлая Масленица. Многие кияне начинали день с того, что, встав рано утром, выходили на широкий двор, умывались последним свежевыпавшим снегом, натирались им до красноты и шли париться в баню. Там хлестались берёзовыми вениками, растирались жёсткими мочалами и, охая от наслаждения, окатывали телеса то горячей, то холодной водой, так что становились красными, как вареные раки. Потом, чистые и лёгкие, тешились варениками с творогом, пирогами с капустой, фруктовым узваром, горячими блинами, поливая их топлёным маслом и сметаной и запивая крепкой медовухой. Затем шли на игрища, разводили огромные кострища, в которых сжигали всякий ненужный, скопившийся за зиму хлам, поджигали чучело Зимы-Марены. Катались на санках с горы, падали в кучи, смешивались, так что сразу и выбраться не могли. Боролись друг с другом, снег за шиворот сыпали.
Ходили по улицам пьяные, держась друг за дружку, шатались и горланили песни, прославляя князя Святослава, напавшего на печенегов, как Перунов гром, и разметавшего их во все стороны, подобно праху в степи. Люди радовались возвращению князя с дружиной и наступлению долгожданной весны, встречали воинов со слезами на глазах, делили полученную добычу и с болью и благодарностью поминали павших сородичей.
А ещё рад был люд киевский тому, что киевское Торжище, как никогда прежде, было полно товарами разными из всех земель полуденных и полночных, тех, что далеко на восходе, и тех, что на заходе. Настала горячая пора для купцов русских: кто в дальние страны вёз свой товар, чтобы сразу большой барыш получить, а кто челноком сновал до Переяславца-Дунайского, Бряхимов-града, Танаиса, Хорсуни и других «узелков-перекрёстков» на дальних торговых путях. Богатела и крепла Русь. Многие теперь уразумели, что не просто ради удачи воинской вёл князь Святослав свои многие битвы, и не напрасно гибли славные сыны Руси. Присмиревшие кочевники опасались теперь ходить в набеги на Русь и «хозяйничать» на торговых путях, как в прежние годы, боясь гнева Русского Пардуса. А люд русский в дальних от столицы градах и весях тоже рад был тому, что князь в эту осень-зиму не ходил к ним в полюдье – занят был наведением порядка среди печенегов, волжских булгар, хазар да народов Альказрии. Непрестанно шли теперь в Киев-град обозы с захваченной воинской добычей да с собранной десятиной со всех товаров, что проходили через торговые пути в Корчеве, Белой Веже, по Pa-реке в море Хвалынское, либо через Русское море в Болгарию Дунайскую, а оттуда в самый Царьград. Многочисленные лодьи русских купцов стояли теперь, сменяя друг друга, в заливе Золотой Рог, выгружая одни и загружая другие товары.
* * *
Отдыхала дружина в Киеве, а Святослав занимался делами Руси, которых за время его отсутствия накопилось изрядно, потому как мать часто стала прихварывать и не могла уже, как прежде, вершить все хозяйственные и теремные справы. От Улеба, что находился при матери вроде помощника или воинского советника, большой пользы он тоже не видел. Он более полагался на Гарольда, нежели на двоюродного брата, который от сытной теремной жизни покруглел, раздался телом. «Для чего он добре годился, так это для совместного с тёткой посещения церкви, да как удобный ей собеседник, который не перечит и во всём соглашается. Хотя в последний поход против печенегов, а потом в земли Волжской Булгарии взял я таки Улеба, ибо, не хаживая в боевые походы, как набраться воинского опыта?» – с некоторым раздражением думал Святослав, вникая в хозяйственные дела разросшегося княжества. Вот и приходилось теперь князю заниматься тем, что несла прежде на своих плечах мать. А ещё повелел Святослав объявить жителям киевской и других русских земель, что нуждаются земли Подунавья в добрых мастеровых для строительства градов и весей, в земледельцах старательных и сметливых, чтоб пустили корень крепкий на тех угодьях, чтоб вновь стали они землёй славянской, как в часы Русколани Великой. Там князь обещал каждому переселенцу избу бревенчатую и молодняк скота, а также угодья добрые для хозяйства, чтобы землю новую обрусить, пустить в неё свой корень. «А тот корень, – рекли кудесники на Капище, – даст новое древо, в котором каждая ветвь продолжит род славный, и листьями распустятся на нём роды внуков и правнуков. И будет стоять Русское Древо на синем Дунае, поскрипывая и качаясь от ветров, но не страшась никакой непогоды».
– А чтоб быстрее и крепче взросло то древо, братья, непременно наша волховская подмога должна быть, – молвил рассудительно ободритский волхв. – Потому подамся и я, коль на то будет воля княжеская, на Дунай Синий, на родину предков моих, откуда ушли они к морю Варяжскому.
– Доброе, брат, замыслил дело, – одобрительно кивнул Великий Могун.
Скоро ту весть разнесли по Руси княжьи тиуны да молва людская. И к Купалиным дням собрался первый обоз, готовый выйти вместе с княжеской дружиной. В обозе том были в основном мастеровые да лодейные люди, потому как огнищане могли двинуться в путь лишь после Великих Овсеней, когда будет собран урожай.
Накануне Купалиных дней, отринув повседневные дела, приехал Святослав в Берестянскую пущу. Оставив поодаль двух своих верных охоронцев и коня, пошёл неспешным шагом по тропке, знакомой каждым торчащим корневищем, деревом, заставляющим низко нагибаться, небольшим овражком, по дну которого вьётся кабанья тропа.
Всякий раз, возвращаясь в Киев, спешил он побывать на заимке кудесника. Сюда, милой сердцу Овсене, нёс он свои победы и печали, ей, любимой, рассказывал обо всём, даже о том, о чём не рассказал бы никому и никогда. Только здесь, у неприметной могилки, он говорил с любимой, с сыном и кудесником Избором, образ которого всякий раз почти явственно возникал перед внутренним взором, как только Святослав ступал на тайную тропку, ведущую к заимке. Всякий раз старый кудесник шёл чуть впереди, иногда молча, а иногда с добрым душевным словом.
С той поры, как сгинул неведомо где Избор, Берестянская пуща стала быстро поглощать жилище и постройки с загонами для коз и домашней птицы. «Вот ведь как крепко лес да кудесник понимали друг друга», – думал князь, отмечая, как заботливо укрывает молодая поросль прежние владения волхва. Будто сам Избор неспешно, по-хозяйски, переносил свою заимку из мира явского на Тот Свет.
Князь увидел, что сдержал своё слово старый огнищанин: погребальный холмик Овсены с Мечиславом ухожен, заботливо подсыпан после весенних дождей, выровнен и усажен цветами полевыми, теми самыми, что так любила Овсенушка. Святослав присел на колоду у могилки. С тех пор, как снял с него волховское чутьё Великий Могун, не может он более зреть своих любимых жену и сына, не может говорить с ними. Не текут при этом уже из пустых от горя очей скупые слёзы, да и сама душа, будто в кольчуге прочной заключена, не подступает комом к горлу и не рвёт на части несчастное сердце. Но всё одно влечёт его сюда, и, коли выходит оказия, сидит здесь подолгу, размышляя. «Может, и хорошо, что нет могилы Избора, как нет и могилы Велесдара, – думал князь. – Кажется, что они просто ушли куда-то далеко и однажды могут вернуться…»
Сзади послышалось движение и приглушённый разговор. Оглянувшись, князь увидел старого Лемеша, а с ним статную женщину с поседевшими волосами. Святослав поднялся навстречу и махнул охоронцам, чтоб не задерживали огнищан. Когда те подошли и поздоровались, Святослав перехватил взгляд незнакомой женщины и даже немного растерялся, что с ним бывало редко. На него обычно глядели как на князя, воинского начальника, соратника по оружию, женщины ещё бросали взгляды, как на сильного мужа. Кто-то заискивающе, кто-то враждебно, кто-то с опаской или открытым страхом, но вот так, как эта незнакомая женщина, на него глядела только мать, да и то в далёком детстве, когда ещё меж ними не выросла стена непонимания. Звенислав, уловив возникшую заминку, кашлянул и строго глянул на жену, та встрепенулась, опустила очи и принялась что-то доставать из принесённой корзинки.
– Дякую вам за заботу о погребалище, – произнёс Святослав негромко, глядя, как привычно ловко извлекает огнищанка из принесённой корзины хлеб, мёд и творог, раскладывает снедь в глиняную посуду, как застилает вышитым рушником широкий дубовый пень и ставит на него миски. Отломив краюшку хлеба, огнищанка протянула её Святославу вместе с глиняной кружкой, куда налила немного медовой сурьи. Пододвинула ближе творог.
Святослав несколько удивился:
– Нынче ведь не Красная гора, отчего поминальная страва?
– Да она каждый праздник сюда ходит, – кивнул на жену Звенислав. И вздохнул: – Наших-то сыновей могилы неведомы, вот мы сюда, к твоей, и ходим, в Ирии они ведь все вместе пребывают…
– Завтра Купальские святки, вкуси, сыне, трапезу поминальную, – молвила Живена так, будто не князь Руси был перед нею, а её Младобор.
И Святослав послушно выполнил всё, что повелела женщина. Неспешно, в молчании, помянули погибших. Потом ещё постояли над могильным холмиком, и старый огнищанин тихо молвил:
– Пусть пребудут наши усопшие в памяти вечной, пока мы помним о них, они с нами…
Живена смахнула набежавшую слезу, а потом принялась складывать в корзинку посуду.
Когда уходили с погребалища, Святослав напомнил огнищанину о переселении в Болгарию.
– Хочу, чтоб такие люди, как вы, рядом со мной на Дунае обустраивались. Первый обоз переселенцев сразу после Купалиных святок в путь отправляется. Что скажешь, Звенислав?
– Да он всегда готов, – ответила вместо замешкавшегося на миг мужа Живена, – он же каждую осень и весну, будто птица перелётная, от насиженного места оторваться норовит, такой уж от рождения.
– Я старый воин, княже, хоть сейчас в путь, вот что она скажет, – кивнул Звенислав на Живену, – да Младобор с Беляной, поженились они таки, – сообщил он князю потеплевшим голосом.
– Нашёл у кого спрашивать, – хмыкнула огнищанка, – сын твоей же породы, полетит хоть на край света в любое мгновение вместе с детьми малыми, ему только скажи.
– А что ты сама, хозяйка, решила? – спросил Святослав, когда они остановились около охоронцев и те передали князю повод его коня.
– А что решать, сынок, счастье-то не в пустом дому, и не в богатстве, а в семье крепкой, в детях сильных да внуках ласковых. Тяжко мне тут, все Вышеслава с Овсениславом в смертный час их вижу, хоть и далеко от дома они головы сложили… – Она немного помолчала, подняла на князя печальные глаза и молвила: – Согласна я ехать, может, боль там моя уменьшится, да и как я без внучков, без радости воплотившейся… У Младоборушки с Белянушкой недавно второй сынок родился, Овсениславка, а первому, Вышеславке, весной уж годок исполнился… Коль просишь нас в Дунайской земле корень пустить, значит, так тому и быть…
– Добре, мать, – довольный ответом, кивнул Святослав, – коль такие люди, как вы, подле меня в дальнем краю будут, – снова повторил он.
Возвращаясь в Киев, Святослав всё думал о семье Лемешей, вспоминал взгляд Живены. Давно так на него никто не глядел, будто на родного смотрела огнищанка, да и называла «сынок», мягко так, ласково. Чудно, но крепкая память князя подсказывала, что видел он уже когда-то эти очи, помнит взгляд сей и голос, но когда и где это было, никак не мог вспомнить. «Да что тут думать, – решил он, – матери – они завсегда матери, я же ровесник её младшему, не князем же ей меня величать, мать она по божескому замыслу, а выше того, как говаривал отец Велесдар, нет предназначенья». Святославу было приятно, что он на прощание назвал Живену не по имени, а этим высоким званием «мать». Оттого внутри стало тепло и спокойно.
Отпраздновав Купалу, Святослав, собрав темников, велел готовить дружину к выступлению на Переяславец.
В Ратном Стане окликнул князя подъехавший Фарлаф, начальник теремной охороны. Он примчался в Стан сообщить, что мать Ольга занемогла.
– Вчера в полдень виделись мы, так здрава была, – молвил князь, кинув на варяга быстрый пронзительный взгляд.
– Вечером поздно спать ушла, а нынче говорит, что худо ей, и хочет тебя, княже, видеть.
Святослав сел на коня. В это время подошёл Варяжко, которого князь вызвал к себе накануне. Святослав молча махнул ему, приглашая с собой. Они поехали к гриднице. Варяжко по дороге доложил, что Блуд после того, как был наказан, стал тихим и задумчивым, людей сторонится, ни с кем подозрительным не встречается.
Подъехав к терему, князь спешился и поторопился в светлицу.
Ольга лежала, несмотря на жару, вся укутанная в меха. Горничная девушка, неотлучно находившаяся подле, склонилась в глубоком поклоне и обратилась к Ольге:
– Пресветлый князь пожаловал!
– Иди, Настасья, – отпустила Ольга горничную и повернулась к сыну: – Садись, сынок, в ногах правды нет.
Святослав опустился на лаву.
– Как ты, мамо? Фарлаф рёк, захворала?
– Неможется мне, – отвечала Ольга, тяжко дыша. – И сон нынче плохой видела…
Помолчали.
– Я хочу вернуться в Переяславец, на Дунай, – молвил князь.
– Отчего ж непременно на Дунай, там ведь земля Болгарская, отчего в Киеве тебе не сидится? – с заметной досадой спросила Ольга.
– Мне надо быть там, мамо, – вздохнул Святослав, а про себя помыслил: «Как тебе объяснить, что не Болгария мне нужна, а ту опасность упредить надобно, которая от любой тебе Цареградщины змеёй коварной на Русь ползёт! Как рассказать тебе, родная, что чёрные служители немецкие да византийские, вкруг тебя вертящиеся, опаснее гоплитов железных! Что поведать, ежели спросят в Ирии отец мой Ингард, и дед Ольг, и волхвы Велесдар с Избором, и другие предки славные, всё ли я сделал, чтоб защитить Русь от угрозы страшной, что им ответствовать? Вернул ли я земли Русколани Великой их потомкам? Пошёл ли Тропой Трояновой за валы Дунайские, где предки наши борусы супротив римлян насмерть стояли? Как мне о том сказать, коли разумом твоим попины вражеские завладели?» – ещё раз тяжко вздохнул князь и молвил матери: – На Дунае торжища великие раскинулись, туда всякие товары идут из Колхиды, Киева, с земель бывшей Хазарщины, от койсогов с ясами. И фряги ко мне приходят, и варяги, и армяне. Там – середина земли моей, куда все блага стекаются: от греков – паволоки, золото, вино, разные овощи, от чехов и угров – серебро и кони, а из Руси – меха, воск, мёд и челядь. Там я полновластный князь, а здесь – только сын твой… Не любо мне жить в Киеве.
– Побудь со мной, – взмолилась Ольга, высвободила из мехов руки и сжала грубые пальцы сына в своих мягких ладонях. – За весь век я только и видала тебя, пока ты в детской сорочке бегал, а как сел на коня, так и сгинул с глаз!
– Не могу, мамо, Зворыка один на Дунае остался с силами малыми, – промолвил Святослав, не переставая хмуриться. А про себя отметил, что руки матери совсем не горячие, жара у неё нет. Знать, не хворь в постель уложила, а желание задержать его отъезд. С чего бы это? Мать давно не говорила с ним таким просительным тоном. Эх, кабы не вилось подле неё вороньё черноризное, так признался бы ей Святослав, что не паволоки, золото, вино да прочие богатства, текущие через земли болгарские, заставляют его торопиться с походом, а желание поскорее укрепиться на земле древней Русколани Дунайской. Чтоб, как прежде, стала она твердыней надёжной на пути врагов разных, а особенно на пути проникновения на Русь-матушку заразы византийской, что страшнее любых воинских тем, потому как невидима она, та опасность, и меч супротив неё бессилен, как вилы супротив воды. Но не мог того матери сказать Святослав и лишь хмурил чело да время от времени нетерпеливо вздыхал.
А Ольга с тоской глядела на сына. Стать и плечи так же могучи, но не исходит от них прежней радостной силы. Очи холодные, голос ровный, бесстрастный, будто не его вовсе. «Что с тобой, сынок? Что творится в твоей душе, расскажи мне, родной, как бывало в детстве!» – хотелось сказать Ольге. Но она промолчала, поскольку наперёд знала, что ничего не скажет ей гордый сын. Та трещина, что давно пролегла между ними, после смерти тайной жены Святослава превратилась в неодолимую пропасть. Сын вовсе перестал глядеть на женщин, казалось, его душу навсегда покинула любовь и нежность. Он больше не целовал руки матери, не обнимал, не говорил утешающих речей. Да и ей трудно было сказать ему обычное ласковое слово. Ноющая боль сжала сердце, Ольге стало в самом деле труднее дышать, и вместо слов любви из души выплеснулись слова обиды:
– Что ж ты, не видишь… кончина моя близка, а ты бежишь от меня, как… – Она запнулась, ком в горле перекрыл ход словам, а из очей на расшитую подушку скатилась горькая слеза. – Уж погоди, недолго осталось!.. – Беззвучные слёзы закапали чаще. – Похоронишь меня, тогда иди куда хочешь…
– Ладно, мамо, я останусь, – всё тем же чужим голосом промолвил Святослав. Осторожно, но решительно высвободил пальцы из рук матери, встал и вышел из светлицы.
Ольга от обиды на сына, на себя и весь свет безутешно разрыдалась. «Как же так, – вопрошала саму себя, – он же у меня один, отчего такой холод? Почему на всю мою заботу никакой благодарности, он ведь так любил меня в детстве, до пяти лет иначе как „мамочкой“ не называл, а теперь – совсем чужой…»
Прошло несколько дней. Святослав был как на иголках. И не только стремление помочь Зворыке было причиной нетерпения князя. Он привык действовать стремительно, наносить удар в нужном месте, а если упустить этот час, то там, где можно было справиться с ворогом одной тьмою, позже не добиться победы и десятью. Да и сроки похода узкие, конницей-то ещё ничего, а не успеют выйти лодьи от Купалина до Перунова дня, жди потом целый год. Видя, что состояние матери не вызывает опасений, он велел выступать в поход.
Отец Алексис ещё находился в своей уютной большой постели, прикрытой полушатром из синего шёлка, когда за дверью послышались голоса и, оттолкнув упрямого слугу, который не осмеливался потревожить сон преподобного, в светлицу почти вбежал взволнованный монах Димитрос, который заменил погибшего в лесу от волков Софрония. Вместо приветствия телохранитель выдохнул краткое:
– Он выступил!
Сон мигом покинул расслабленное тело священника. Словно подброшенный невидимой катапультой, он с неимоверной скоростью вскочил на ноги. Предупредительный слуга тут же набросил на плечи преподобного мягкий бархатный халат.
– Когда?
– Сегодня перед рассветом…
Алексис забегал по комнате, что делал только в моменты крайнего душевного волнения. Потом шикнул на слугу, и тот испуганным ужом проскользнул в приоткрытую тяжёлую дверь, плотно притворив её за собою.
– Если войско не остановить, то всё, чего достигло посольство епископа Евхаитского в Болгарии, может потерять смысл, – вслух рассуждал Алексис, продолжая нервно расхаживать по своей спальне. – А железная армада Русского Барса появится у самых границ империи… Да он в любой момент расправится с ней, как ястреб с курицей!..
«Тогда и со мной тоже расправятся», – подумал уже про себя Алексис, сев и тут же вскочив с шёлковых подушек, набитых мягчайшим лебяжьим пухом. Он остановился, с усилием провёл рукой по лицу, как будто хотел стереть с него незримую пелену опасности. Зрачки его стали неподвижными, а тело замерло, словно прислушивался к зреющей внутри мысли.
– Что ж, – наконец процедил он сквозь зубы. И, уставившись на Димитроса жгучим пылающим взором, разом выдохнул: – Остаётся только один способ вернуть Святослава в Киев…
Прошло два дня после выхода дружины. Ночью воины отдыхали. А наутро третьего дня прискакали на взмыленных конях гонцы с вестью, что мать Ольга находится при смерти. Князь вначале не поверил известию, думая, что мать снова больше представляется больною, как было при его отъезде. Но, расспросив молодого гонца Мстислава, которого хорошо знал, понял, что с матерью действительно худо.
– Княгиня пресветлая совсем без памяти лежит, не ест, не пьёт, в бреду горячечном тебя, княже, зовет часто, а то и вовсе непонятное речёт, такой её никогда не видывали! – частил взволнованный гонец.
Святослав вскочил на коня и, разделив войско, велел одной части с припасами идти в Болгарию, а остальным возвращаться. В сопровождении десятка охоронцев князь впереди всех вихрем помчался в Киев.
После того как Святослав ушёл в поход, Ольга полежала ещё некоторое время хмурая и неразговорчивая, а затем встала, чтоб спуститься в молитвенную комнату, зная, что отец Марк без неё не станет начинать утреннюю службу. Да и хотелось поделиться своим горем с отцом Алексисом. Но едва княгиня успела умыться и одеться с помощью теремных девиц, ворча на их нерасторопность, как преподобный явился сам. Он был учтив и внимателен. Сообщил, что нынче вместо отца Марка сам проведёт службу. Слова и тон речи священника, их обволакивающая мелодичность, как всегда, успокаивали Ольгу. Алексис сопроводил княгиню на молитву, где её уже дожидались греческие девы, Пётр Кандыба и несколько иных теремных начальников и родственников, с которыми Ольга обычно молилась.
Затем княгиня с духовником спустились в трапезную и подошли к столу, который отец Алексис привычно осенил крестным знамением и быстрой скороговоркой прочёл соответствующую молитву. Перекрестившись вслед за священником, княгиня мановением руки пригласила садиться, и он опустился на застеленную мягкими восточными коврами лаву, а Ольга в своё лёгкое резное кресло напротив.
После обеда княгиня почувствовала недомогание, а к вечеру совсем слегла. Состояние её стало ухудшаться с каждым часом. Византийские священнослужители во главе с отцом Алексисом правили службы и беспрестанно читали молебны о здравии. Но связь Ольги с окружающим миром становилась всё тоньше, ещё недавно грозная повелительница, она всё чаще оказывалась во власти горячечного бреда, каких-то отрывков из прожитой жизни, неясных расплывчатых видений. Время от времени она видела подле себя то Алексиса, то предыдущего духовника, то императора Константина. Явь мешалась с Навью и теряла чёткие границы. Было жарко, мутило, пищу она уже не принимала.
Потом видения пошли страшные и неприятные – рогатые и косматые существа, мерзкие черви и прочая нечисть, словно ожившая из той картины страшных мук грешников в Аиде.
И вдруг однажды всё прекратилось. Липкий жар и тошнота отступили, тело перестало чувствоваться, а в мыслях обнаружилась необычайная лёгкость и ясность. Ольга вдруг во всей полноте осознала: всё, наступает Конец! Такая чёткость мысли случалась и раньше, но подобной глубины и объёма восприятия мира не было никогда! Это было похоже на то, как у них в Плескове зимой отец выставлял перебродившую из ягод с мёдом брагу на мороз. Холод быстро сковывал мутную жидкость, превращая её в грязный лёд, и только чистая хмельная суть браги не замерзала, и её сливали в сосуд. Жидкость была прозрачной как слеза, и загоралась от поднесённой лучины синим почти невидимым пламенем.
Такое сейчас случилось и с Ольгой. Тело её уже умерло, а все уголки больного сознания, замусоренные кошмарными видениями, вдруг очистились ледяным дыханием смерти. Осталось всё только сильное и первородное, только эта часть ещё отделяла Живу от Морока. И Ольга в один миг увидела всю свою жизнь. Нет, не вспомнила, как об этом рассказывают досужие басни, а именно узрела, будто русло реки, пробившей себе путь через гранитные скалы на вольный простор. Многое, казавшееся значительным и важным, потеряло всякий смысл, стало пустым и ненужным. Что такое власть и каждодневные заботы княгини Киевской Руси по сравнению с вольной жизнью Прекрасы средь белых снегов и вековых елей Плесковщины?! Всё равно как немощная больная плоть старости в сравнении с юным девичьим телом, распаренным в бане, а затем омытым в ледяной проруби!
«Выходит, как-то незаметно для себя самой я изжила в душе Прекрасу и тем самым утратила любовь сына. Он ведь любил меня как мать, а не важную, властную, а порой жестокую княгиню. Ведь у него осталась душа гордого и свободного пардуса, душа матери-Прекрасы, простая и ясная, как плесковские лесные просторы, чистые родники и белейшие в мире снега!
Вот он – Страшный Суд, страшнее не бывает! Когда понимаешь всё, до последней мелочи, и ничего уже не можешь сделать, исправить, изменить! Ничего!!! Что пред этим судом византийские муки Аида? Святославушка, как я хочу увидеть тебя, твою возлюбленную и твоего сыночка, моего внука, это ведь они, чёрные вороны, кружащие надо мной, убили их, а теперь и меня, проклятые!! А-а-а, сынок, родимый, приди ко мне, прогони их, прости меня!» – старалась крикнуть Ольга, но тело уже было неподвластно ей, уста перестали быть послушными, и вместо слов вырывалось неясное бормотание.
Как сквозь туман она узрела у смертного одра Святослава и троих внуков, со страхом глядящих на умирающую бабушку. Из горла Ольги вырвался хрип, приподнявшаяся было рука дёрнулась, а потом бессильно упала на полог. Как будто издалека донёсся голос отца Алексиса о том, что великая княгиня прощается со своими чадами и желает осенить их крестным знамением. Его объёмная стать заслонила от умирающей сына и внуков, и это было последним, что увидела Прекраса-Ольга, прежде чем испустила последний вздох.
Началась суматоха. Святослав постоял ещё немного и вышел из душной от ладана и заунывного греческого песнопения материной светлицы.
И лишь когда хоронили Ольгу, в душе Святослава словно прорвалась запруда – он плакал горькими и безутешными слезами, как это бывало в детстве. И сыновья – одиннадцатилетний Ярополк, десятилетний Олег и семилетний Владимир, – глядя на отца, рыдали во весь голос.
Ольгу предали земле по христианским обычаям, как она просила, без сожжения и славянской тризны, Святослав ни во что не вмешивался.
На дворе стоял знойный месяц липень.
Как ни стремился Святослав на Дунай, на зиму ему пришлось остаться в Киеве: лежавшие прежде на Ольге разные государственные дела требовали своего решения.
Патрикий Калокир сидел за крепким столом в доме воеводы Зворыки в Переяславце.
– Разумеешь, брат Калокир, князь-то наш в оговорённый срок вернуться не смог, мать Ольга умерла, стало быть, все заботы княжества на Святославовы плечи легли. Так что здесь мы, его сотоварищи боевые, обязаны сами со всеми делами справляться, как того Лад да Ряд русский требует. За оставшиеся войска я отвечаю, а вот со сбором дани осенней с торговых градов прошу тебя помочь нашему казначею. Ты же в сих делах сведущ и языки знаешь, чтоб с купцами да наместниками в тех градах толковать. Воинов я тебе, само собой, дам. Ну как, договорились?
– Что ж, – пожал плечами патрикий, – я всегда готов помочь князю Святославу. – А про себя обрадовался поручению, потому что сидеть на одном месте ему уже порядком надоело.
Через два дня он с отрядом из сотни воинов и княжеским казначеем отправился по прибрежным торговым градам Добруджи, взимая также налог с купцов, заходящих на своих лодиях в порты, принадлежащие теперь Киевской Руси. В городе Томы молодой патрикий неожиданно столкнулся на одном из торжищ с человеком, встрече с которым обрадовался несказанно, и даже слегка прослезился. Это был не просто купец из родного Херсонеса, но и знакомец отца. Калокир, не помня себя, бросился к Панкратию и заключил его в своих сильных объятиях, от которых тщедушный лысоватый купец едва не задохнулся.
– Осторожней, Калокир, я знаю, что ты любишь бороться, только из меня плохой соперник, задушишь, а кто передаст привет твоим родителям?! – смеясь и отдуваясь одновременно, воскликнул Панкратий.
Сияющий Хорсунянин присел тут же на тюк с товаром и принялся расспрашивать купца о доме, родителях и делах в родном городе.
– Тебя часто вспоминают в городе, умные люди понимают, что благодаря тебе Херсонес остался цел, и грозные мечи киевского князя не зазвенели на его улицах. – Заметив протестующий жест молодого патрикия, купец горячее продолжил: – Не возражай, ты действительно герой, и я горжусь, что знаком с тобой и твоим достойнейшим отцом, – высокопарно и взволнованно заключил Панкратий.
После расспросов о родителях и херсонесских новостях, Калокир спросил о делах государственных. Лицо купца стало строгим.
– Мне кажется, – Панкратий оглянулся, – что-то там не ладится в Константинополисе, видимо, грядут какие-то изменения. Мы, конечно, далеко от столицы, за морем, но наш полис может процветать, пока с россами мир, а вот что будет, если расклад сил изменится, никому не известно. Империя голодает, она просит всё больше зерна, хлеб непомерно дорог. Казалось бы, мы, купцы, должны быть довольны, но поверь, мой мальчик, старому и опытному Панкратию, не к добру всё это, не к добру.
– Но ведь на стороне Фоки вся армия, которая боготворит его и готова идти за ним куда угодно, неужели кто-то посмеет выступить против? – возразил молодой патрикий.
– Кроме армии есть ещё купцы, чиновники, горожане, которые недовольны императором Фокой за непомерные налоги и высокие цены на продукты. Но самое главное, мой мальчик, – купец замолчал на мгновение и оглянулся, стараясь удостовериться, что их никто не слышит, потом продолжил совсем тихо, – император настроил против себя церковь. Монахи, епископы и сам патриарх возмущены отменой помощи церкви из государственной казны. А это очень плохо! Вспомни, сколько раз армия вообще не участвовала в дворцовых переворотах. Человек, даже царствующий, всегда может упасть, утонуть, умереть от неизвестной болезни, да мало ли отчего, вспомни предыдущих императоров, – печально возразил купец. – А ты говоришь, армия…
* * *
Вечером, вернувшись из стольного града, Младобор Лемеш радостно поведал:
– Через седмицу обоз под охраной воинов выходит из Киева. Едем на Дунай, отец?
Звенислав лишь коротко сказал:
– Верно, пора сниматься. Много хлопот доставили нам сии Великие Овсени, но и порадовали добрым урожаем. Всё собрано, продано, за дом я с Жалимиром договорился, они с женой и за могилкой в Берестянской пуще приглядывать будут. Самое время сбираться в дальний путь. Своего семенного зерна несколько мешков возьмём, озимые надо сразу на новом месте посеять…
– Князь с дружиной тоже пойдёт? – спросила Живена.
– Нет, у него дел ещё тут много, после смерти княгини Ольги навалились всякие большие да малые хлопоты, – пояснил жене Звенислав.
Они принялись собирать добро, овец, коров и коней, чтобы отправляться в Киев, а оттуда подаваться в землю полуденную.
Желающие собирались в Киеве на Подоле. Их выслушивали, записывали, кто, откуда, каким ремеслом владеет, велика ли семья и почему желает переселиться на новые земли. После этого давали тем, кто был отобран для переселения, деньги и приписывали к обозу. Наконец, спустя несколько дней, тронулись в путь.
И шли они днём по лику Хорсову, а ночью по звёздам Велесовым. Впереди конный разъезд из молодых зорких всадников, что должны были вовремя заметить опасность и сообщить о том немедля тысяцкому, что вёл пополнение воинское и отвечал за обоз огнищанский. Справа и слева шли, окружив скрипучие возы, запылённые ратники, а замыкала шествие сотня верховых воинов. В полночь раскидывали стан, выстраивали возы колом, загоняли внутрь животину, а посредине раскладывали костёр, на котором в больших котлах варили душистое варево. И никакое Лихо, а также Нежить с Несытью близко подойти не могли, поскольку Огнебог всему нечистому есть погибель. Потом укладывались на возах спать. Утром, сотворив мовь, поили-кормили скот, сами снедали и отправлялись в путь. Долго ли, коротко ехали, и вступили в землю Волошскую.
Опять тёмная ночь мягким пологом опустилась над лесом. Звенислав лежал на возу, глядя в небо. Дозорные из воинского охранения перекликались иногда меж собой. Младобор с Ярославом, оставшиеся следить за костром, собирали сухие дрова и подкладывали их Огнебогу. Тот радостно принимал дерево, с треском обгладывал кору, затем принимался за ствол, добираясь до сердцевины, пока от ветки не оставалась зола.
Звенислав и не заметил, как задремал. Да, видно, что-то ему привиделось, вскинулся в тревоге и проснулся.
– Никак, шорох в кустах, – спросил он, приподнимаясь на локте, – глянь-ка, сыне, что там чернеется у берега?
– Это куст у воды качается, – отвечал Младобор. – А рядом корень вырванный. И рыба плещется, играет под звёздами.
– Мне послышалось, словно кто-то палицей бьёт и хрипит…
– Это кони храпят и бьют копытами, может, лиса поблизости оказалась или волк пробежал. Спи, отец, всё спокойно, дозорные вкруг стана ночь слушают, да и мы с Ярославом на страже у костра будем… Вон, гляди, как Белянка с малыми Овсениславом и Вышеславом крепко спят.
– А мне тоже боязно, – отозвалась с воза Цветенка, – никак не могу уснуть. Расскажи что-нибудь, Младобор! – попросила она, когда бывший дядька, а теперь отец подошёл и уселся рядом.
– Что тебе рассказать, маленькая?
– Я не маленькая, мне уже одиннадцать годков, – притворно надула губки Цветена. И тут же глаза её засияли. – Ты всегда так интересно про божества рассказываешь!
– Ладно, – улыбнулся Младобор, – слушай. Летел в синей сварге Стрибог – владыка Ветров, и с ним четыре Вея, четыре брата родных. И говорят они Стрибогу:
«Отец наш, повелитель воздушных струй, когда ты сердишься, наш старший брат, Полуночный Вей, надевает зимнюю шубу, тёплую овечью шапку и рукавицы, а на ноги валенки, выходит в чистое поле и гуляет-дует там по слову твоему, укрывая Землю снегами. А когда нива житная шумит-волнуется, страдая от жары и от засухи, тогда брат наш, Вей Западный, улетает к далёкому морю и на крыльях своих сизых несёт тяжёлые синие тучи. А Перун посылает в них свои стрелы, прободает их насквозь, и из тех хлябей небесных струится дождь, напитывая нивы благодатной влагой.
А измокнет от холодных осенних дождей земля, и растущие на ней травы склонятся и пожелтеют, тогда дует брат наш Восточный Вей. Дует крепко, поднимает к небу придорожный прах, разносит по миру листья и семена, выстуживает землю и сковывает её первыми морозами. Но самый весёлый из нас – Вей Полуденный, Тиховей. Когда он дышит, всё радуется, и Зима отступает холодная, и снега в поле тают, и прекрасные цветы на лугах колышутся, и листья шепчутся на кустах и деревьях, и в ручьях струи поют о весне, и песня жаворонка звенит под облаками, славя солнцеликого Хорса».
А сейчас, смотри, – указал Младобор на небо, – вон бог Велес вышел на синюю пашню, взрезает её крепким ралом от края до края, высевая повсюду золотое зерно. А то зерно всходит Жар-Цветом, небесной Папоротью, и горит-переливается на сварожьем поле ясными цветами-звёздами. И когда Стрибог, владыка ветров, пролетает вдаль на лёгких крыльях, от его дуновения небесное поле играет и переливается, радуя душу Велеса…
Младобор всё говорил и говорил, а Цветенка, зачарованная чудным небесным видением и убаюкивающими словами, уже давно спала, завернувшись в тёплый бараний кожух.
Глава 9 Чёрная вдова Лета 6477 (969), Константинополь
Ромейский император-воин Никифор Фока верно оценил опасность для империи князя россов, но, недостаточно искушённый в дворцовых интригах, он всё-таки не смог по достоинству оценить своего главного врага. Врага, у которого не было ни армии, ни полководцев, но именно этот враг уже отправил в мир иной двух ромейских императоров и начал задумывался о том, чтобы спровадить туда и третьего.
В пустынях, полупустынях, да и просто в засушливых районах южных земель обитает ядовитый паук со странным именем каракурт, что переводится с тюркского как «чёрное насекомое», но большинство людей разных народов называют его «чёрная вдова». Самка этого паука после спаривания съедает своего супруга.
Знала ли об этом красавица Феофано? Вряд ли, но поступала она именно так.
В своё время император Константин Седьмой Багрянородный, увидев красавицу Анастасе из припортовой таверны, с которой спутался его сын Роман и на которой он непременно хотел жениться, подумал не только о сыне, но и о себе. Незнатность происхождения невестки решилась просто: Анастасе при царском дворе получила новое имя – Феофано, а в благодарность нередко делила ложе и с венценосным свёкром. Когда же ей это надоело и захотелось быть полновластной императрицей, то после очередной ночи на царском ложе она предложила Константину прохладительный напиток, отведав которого Багрянородный отошёл в мир иной. Роман Второй стал императором.
Потом на одном из приёмов Феофано увидела победоносного дуку Никифора Фоку. Своей солдатской грубостью, копной непокорных вьющихся волос и неухоженной чёрной с проседью бородой он чем-то неуловимо был похож на полудикого критского быка. А изведав животную страсть истосковавшегося по женскому телу аскета, да к тому же не на обычном ложе, а на медвежьей шкуре, брошенной на пол, Богоявленная решила сменить безвольного пропойцу и гуляку Романа на дикого критского быка.
В ту последнюю для императора Романа Второго ночь Феофано была особо ласковой и внимательной, как и в последнюю ночь с его отцом. Кто знает, может, эти старания как-то заглушали робкие укоры совести, но скорее таким способом самка усыпляла бдительность самца. Так или иначе, но в конце бурной ночи Роман получил тот же напиток, что и его беспечный отец. Народу было объявлено, что у императора после возвращения с псовой охоты, которой он предавался во время Великого поста, от неумеренной верховой езды начались судороги, которые и привели к смерти.
Любое блюдо, когда его много, быстро приедается, и хочется чего-то другого, особенно когда человек не ведает иных пристрастий. Ещё быстрее «приедается» любовное ложе, если, кроме плотских утех, ничто иное людей не связывает. Грубый и аскетичный воин Никифор Фока вскоре так же надоел Чёрной Вдове, как и его предшественники. Двоюродный брат Никифора Иоанн Цимисхес был намного красивее, утончённее, а греховная любовная связь втайне от мужа добавляла новизны и страсти. Только вот досада – Цимисхес был теперь изгнанником, а осторожный Фока ни пить, ни есть из рук прекрасной жёнушки не желал. Он не доверял ни ей, ни своим поварам. Даже спал в укреплённом дворце на втором этаже, а первый занимала многочисленная личная охрана. В спальню Никифора вела единственная лестница, попасть на которую можно было, только пройдя через караульное помещение первого этажа. И тогда Феофано решила: если супруг не хочет спокойно умереть от яда, то его надлежит «съесть» в живом виде.
Кроме ослепительной красоты, Феофано обладала ещё и сильнейшим даром убеждения. Она могла лгать так искренне и страстно, глядя прямо в глаза собеседнику своими невинными синими очами, что тот верил ей, часто вопреки здравому смыслу. Наверное, сей дар, которым часто владеют наследственные торгаши, был отшлифован ею ещё в юности в отцовской харчевне, когда нужно было убедить посетителя, что вчерашняя еда из подпорченной говядины или тухловатой рыбы есть свежайшая и самая вкусная на всём ромейском побережье, а прокисшее вино просто прекрасно. Надо сказать, ей это неплохо удавалось.
– Посмотри, милый, – вдруг снова став нежной и любящей, ворковала она Никифору, обвивая его могучую шею, – вокруг тебя одни ненавистники и предатели. Горожане бросают вслед возмутительные окрики, иные служители церкви открыто ненавидят тебя, торговцы готовы разорвать за высокие налоги, которые ты на них наложил… да что там говорить, одни враги и ненавистники, мой любимый император! Тебе нужны верные люди, настоящие воины, смелые, отважные и честные, которые всегда защитят тебя, а не эти презренные царедворцы, хитрые купцы и жирные евнухи, тебе нужен Цимисхес!
Но окончательно сумел убедить осторожного императора в том, что опального дуку нужно вернуть в столицу, не кто иной, как проедр Василий Ноф. Теперь он таким же мягким доверчивым тоном говорил о том, что без твёрдой руки Иоанна в Константинополе, да и во всей империи, не стало порядка. Прямо под носом Болгарию захватили скифы, и князь Сффентослаф стал у мисян кесарем. А это крайне опасно для империи.
– Ну, уж прямо кесарем, ты преувеличиваешь, Василий…
– Нужно вернуть Цимисхеса, это будет жестом твоей доброй воли и христианского великодушия, о великий! – пищал Василий. – А затем отправить его против скифов. Гибель на поле битвы – величайшая честь для воина! А если он победит скифов, слава императора-победителя Никифора Фоки прогремит по всему миру!
И Никифор вернул Цимисхеса в столицу.
Теперь Иоанн снова регулярно выстраивал вышколенные воинские шеренги перед выходом императора из дворца и ежедневно являлся к нему с докладом о положении в армии и действиях бесчисленных врагов империи. Ни тени обиды не выказывал недавний ссыльный перед ликом своего венценосного брата. Всё стало спокойнее и надёжнее с приходом Цимисхеса и верных ему воинов в Константинополь. Свершилось именно так, как говорила богоподобная Феофано и советовал верный проедр.
Однако весьма скоро Никифор Фока тонким звериным чутьём ощутил опасность. В чём она заключалась, он сказать не мог – в каких-то мелких деталях или отдельных событиях, начавших происходить как бы сами собой, помимо его божественной воли. Русский Барс вдруг покинул болгарскую Добруджу и умчался с дружиной оборонять свою столицу, которую неожиданно обложили пачинакиты. Старший архистратигос настоял воспользоваться этим, чтобы укрепить своё влияние в Болгарии. Никифор согласился принять болгарских послов. Но его больше заботила возросшая активность арабов. Поэтому он велел патрикию Петру вести войска в Сирию, где они вскоре осадили Антиохию.
В это время ужасные мадьяры напали на греческую Фессалонику, ограбили её и увели в плен около пятисот горожан. Было ли это ответом Русского Барса на осаду пачинакитами его метрополии, Никифор не знал, как и многого другого, происходящего и за пределами Империи, и в самом царском дворце.
Император только чувствовал, как сжимается вокруг него незримое кольцо, и потому стал предельно осторожным, как дикий зверь. Он не доверял теперь никому из ближайшего окружения, а единственный вход в его покои на первом этаже стерёг усиленный караул.
Стояла холодная ветреная декабрьская ночь. Безлюдными были улицы ромейской столицы. Сквозь шум непогоды на пустынных улицах великого града иногда пробивались тревожные возгласы вигл – константинопольской ночной стражи. Порывы пронизывающего ветра срывали с волн залива Золотого Рога пенные барашки. Зябли стражники на стенах, попрятались в свои укромные закутки даже бродячие собаки, но в царских покоях было тепло и спокойно. На необъятном царском ложе в тусклом свете масляных ламп извивались два сплетённых в страстной горячности тела. Слышались вздохи, звуки поцелуев, а иногда приглушённые стоны. От судорожных движений закреплённые у изголовья светильники то и дело вздрагивали, пламя их металось, готовое вот-вот погаснуть.
Наконец, обессиленные страстью, они лежали некоторое время без единого движения.
– Ты была сегодня бесподобна, – едва шевеля губами, молвил вконец разомлевший Никифор, – совсем как тогда, в нашу первую ночь! – Он замолчал, а ещё через несколько мгновений послышалось ровное сопение, сменяемое лёгким храпом.
– Я рада, что тебе понравилось, – прошептала чуть погодя Феофано.
Не услышав ответа, она тихо отодвинулась к краю ложа и, поднявшись, набросила на себя длинную тёмно-вишнёвую накидку, завернувшись в неё с головы до тонких щиколоток. Найдя на ощупь свои мягкие бархатные туфельки, она неслышной тенью двинулась к потайной двери и, отворив её, выскользнула из царской опочивальни на женскую половину дворца.
Через несколько минут зашевелился и Фока. Что-то промычав, он с трудом встал и на подгибающихся от сонливости ногах, почти не открывая глаз, побрёл наугад в туалетную комнату. Послышался звук струи, наполнявшей ночной золотой горшок. На обратном пути, зацепившись ногой за свою любимую медвежью шкуру, привезённую из далёких полночных земель скифов-россов, император тут же улёгся на неё и продолжил свой частично прерванный сладчайший сон.
Прошло ещё немного времени. Из той же небольшой потайной двери, ведущей в женскую половину, в царские покои одна за другой протиснулись безмолвные крепкие фигуры. Держа в руках короткие однолезвийные ромфеи, вошедшие, стараясь двигаться как можно тише, обступили необъятное царское ложе, занавешенное балдахином из красного бархата. Одна из фигур рывком отдёрнула полог с золочёными кистями. От резкого движения один светильник у изголовья погас, а оставшийся пляшущими бликами едва осветил нагромождение дорогих покрывал и подушек, перемешанных в невообразимом беспорядке. Огромная луна на несколько мгновений появилась в прорехе рваных туч, и вошедшим показалось, что на ложе никого нет. Они стали срывать покрывала и отбрасывать прочь шитые золотом подушки – в самом деле, никого! Одна мысль, холодная, как неожиданный лунный свет, отразившийся на стали клинков, пронзила и на миг обездвижила всех: «Ловушка! Неужели уговорившая их на это обманула и завлекла в западню, но зачем? С минуты на минуту сюда ворвётся стража с факелами, и всем конец!»
Однако прошла одна бесконечно длящаяся минута, затем другая, но никто не вбегал в царские покои, и мёртвая тишина ничем не нарушалась.
– Огня, быстро! – прошипел Цимисхес.
Ещё несколько томительных мгновений – и от скромного ночника дрожащими от волнения руками были зажжены несколько золотых хоросов, в изобилии украшавших покои.
– Осмотреть всё, он где-то рядом! – снова отрывисто приказал Иоанн, кивая на стоящие у ложа на специальной резной подставке из кости красные императорские сапоги. Это изобретение северных варваров, малопригодное в мягком климате Империи для употребления по прямому назначению, издавна стало в ней главным символом царской власти.
– Здесь он, – послышался с другого конца комнаты чей-то радостно-приглушённый тонкий голос, похожий на женский, – на шкуре прямо на полу спит!
Императора разбудили пинками грубых солдатских ботинок, а когда он попытался закричать, то получил сильный удар в челюсть рукояткой ромфея. От растерянности опытный воин, ещё находящийся под впечатлением чудесной ночи с Феофано, даже не попытался сопротивляться. Он взмолился было к своей защитнице Богородице, но второй удар не только разбил лицо, но и вышиб часть зубов. Вместо молитвы прозвучал стон, похожий на вой раненого животного, и Никифор выплюнул зубы вместе с кровью. Могучие руки втащили полуоглушённого и растерянного императора в опочивальню, где его двоюродный брат Иоанн, усевшись на любимое кресло василевса, уже натягивал красные сапоги. От недавней растерянности и холодного страха не осталось и следа, красивое лицо Цимисхеса теперь горело яростной злобой.
– Что, спокойно спишь, братец, забыл, тупой критский бык, кто привёл тебя к власти? – воскликнул он, ухватив Фоку за густую бороду и глядя ему прямо в чёрную глубину очей. – А в благодарность ты отправил меня в изгнание! Помнишь ли, грубый мужлан, что большая часть твоих побед свершилась благодаря мне и этим отважным стратигосам, которых ты «забыл», сев на трон? – вкладывая ненависть в каждое слово, громко вопрошал Цимисхес. – Что ж ты не теряешь сознания, толстобрюхий боров, как тогда, когда мы, – Цимисхес сделал жест рукой, указывая на окружающих, – провозгласили тебя императором?
– Или когда горожане закидали тебя мусором и гнилыми овощами за давку на ипподроме, тогда ты тоже лишился чувств! – женоподобным голосом воскликнул толстый лысый евнух маленького роста.
На лестнице, ведущей из караульного помещения, послышались робкие стуки и вопросы охраны, всё ли в порядке у Божественного.
– Когда я первым во главе своих воинов ворвался на стену осаждённой Антиохии, уничтожил охрану и открыл ворота, тем решив исход сражения, ты даже не наградил меня, взяв всю славу победителя себе, ненасытный! – вскричал Михаил Вурца, гневно сжимая рукоять меча.
В дверь уже начали стучать сильнее.
– Права была Феофано, когда говорила, что этой свинье не свойственна благодарность! – гневно прорычал темнокожий могучий стратигос Аципофеодор, снова ударив поверженного и ошеломлённого Фоку рукоятью своего ромфея по голове.
«Всё-таки Феофано!» – пронеслось в голове императора, и он погрузился в черноту. То ли от удара, то ли по природной способности терять сознание в неожиданных острых ситуациях Никифор быстро лишился чувств.
Иоанн с гримасой омерзения пнул носком красного императорского сапога в лик поверженного, безвольно обвисшее тело которого ещё продолжали держать крепкие руки тагматархов Льва Аваланта и Льва Педиасима, и коротко приказал:
– Кончайте его!
Один взмах – и чья-то уверенная рука вонзила в спину императора острый клевец, пройдя остриём насквозь. Второй удар, третий… На восточный ковёр щедро хлынула «божественная» кровь. Тело долго пинали и пронзали мечами. Наконец, Аципофеодор, ухватив за волосы, напрочь отрубил голову императора Никифора Фоки. Меж тем в крепкие двери на лестнице уже били изо всех сил, а во дворе перед окнами царских покоев бегали возбуждённые стражники с факелами.
– Надо скорее уходить через женскую половину! – заверещал евнух, бросаясь к потайной двери.
– Нет! – повелительно отрезал Иоанн. – Надев красные сапоги, их уже не снимают! – Он гордо встал во весь свой небольшой рост и повелительным голосом велел соучастникам убийства: – Отворите дверь и покажите охране голову критского быка, пусть знают, что он уже не император!
Соучастники выполнили приказ, не понимая, откуда в Цимисхесе такая уверенность в своей безнаказанности. Никто из них не знал, что их главарь не просто отчаянный человек, но очень умный и по-своему осторожный и что ему было ведомо гораздо больше, чем остальным заговорщикам.
Ринувшиеся было в отворившуюся дверь царской опочивальни охранники вдруг застыли в немом параличе, когда им прямо под нос сунули отрубленную изуродованную голову императора. А посреди залы на окровавленном ковре стоял их дука Иоанн Цимисхес в царских красных сапогах. Наверное, у каждого из оцепеневших стражей одновременно полыхнула в мозгу одна и та же мысль – о сохранности собственной головы, ведь Армянская тагма уже выходила из казарм и плотными железными рядами выстраивалась вокруг дворца. Одно движение руки отчаянного дуки или хотя бы одного из стратигосов, что стоят с окровавленными мечами рядом с ним, и караул будет порублен на мелкие кусочки, как овощи у опытного повара. Страх пригвоздил воинов к ступеням лестницы. Самые сообразительные тут же рухнули ниц, бормоча: «Слава императору Цимисхесу!» За ними последовали менее проворные, и вот уже перед заговорщиками вся лестница заполнена согбенными спинами. Все знали крутой и безжалостный нрав дуки Иоанна.
– Прочь с дороги! – рявкнул новоиспечённый император, делая несколько шагов к лестнице.
Охранники, сшибая друг друга, в страхе ринулись вниз.
– Теперь выставьте голову Фоки в окно, а тело сбросьте вниз! – велел новый император. – И вызовите ко мне караульного кентарха и топотерита, пусть утихомирят своих слабонервных лохитов и восстановят порядок во дворце! Да и убрать в моих покоях пора!
Низкорослый лысый евнух тем временем, никем не замеченный, проскользнул в потайную дверь и с неожиданной для его тучного тела быстротой понёсся по коридорам женской половины дворца в покои проедра Василия Нофа, который, сказавшись больным, лежал на своём ложе, тихо постанывая и охая. Толстяк влетел в спальню, тяжело дыша, не в силах произнести ни слова.
– Ну, говори, – торопливо зашептал Василий.
– Всё… убит… на Иоанне… красные сапоги! – выпалил, едва переводя дух, евнух.
– Царствие небесное новопреставленному, – вздохнув, широко перекрестился Василий. И тут же перешёл на деловой тон. – Сообщи Феофано, – приказал проедр, быстро отбросив покрывало и поднимаясь с ложа, как оказалось, почти одетым. – После этого к дуке, то есть к императору Иоанну, скажешь, что мне стало легче и я, превозмогая болезнь, спешу подставить своё плечо в этот трудный час. Сейчас я к патриарху, а потом сразу к нему, у нас много неотложных дел!
Оба евнуха быстро вышли из спальни и разошлись в разные стороны.
На улице и в караульном помещении тем временем ещё более усилилась паника, хлопали двери, стучали кожаные подошвы обуви, звякало оружие. Возгласы «император убит!», «Никифор Фока мёртв!» понеслись по дворцу, а потом по всему Константинополю, как пожар в сухой степи.
Утро ещё не наступило, а Иоанн с проедром Василием Нофом уже подготовили первые указы о строгой и немедленной каре, грозящей каждому, кто посмеет нарушить порядок в городе. А также о возвращении служителям церкви всех привилегий и казённого довольствия, восстановлении в сане всех епископов, снятых с должностей Фокой за всякие прегрешения, и позволении церковным иерархам неограниченно приобретать собственность. Покойный Никифор считал, что епископы, скупая земли крестьян для монастырей, тем самым уменьшают количество свободных воинов, могущих пополнить ромейскую армию. Более того, Фока издал закон, что без его ведома нельзя ни избрать, ни рукоположить епископа. А в случае его смерти императорский чиновник скрупулёзно подсчитывал расходы и всё лишнее изымал. Новый же император видел в церкви главнейшую силу и поддержку ромейского трона.
– Пусть патриарх знает, что я держу данное слово, – произнёс Цимисхес, передавая свиток проедру, – доставь его святейшеству сегодня же, скажи, что я подпишу указ сразу после коронации.
– Хорошо, – угодливо кивнул Василий. – Необходимо также огласить на всех улицах столицы указ о запрещении грабежей, а я, – он хитро улыбнулся, – позабочусь, чтобы твоя победа сопровождалась народным ликованием. – Уловив вопросительный взгляд Иоанна, пояснил: – Я дам денег горластой молодежи, и она будет следовать за глашатаями, выкрикивая славу тебе и выражая народный восторг твоим приходом к власти. И ещё хорошо бы сегодня же заменить всех высших чиновников.
Указ был своевременным, потому как по давней константинопольской традиции при смене верховной власти горожане стремились пограбить своих сограждан, приближённых к свергнутому клану. Конечно, запрещение грабежей расстроило благочестивых константинопольцев, но спорить с вооружёнными и очень решительно настроенными воинами Армянской тагмы никто не решался. Все поняли, что царствование много прощавшего своим согражданам Никифора Фоки закончилось.
Император Цимисхес в сложных ситуациях сознания не теряет, а тут же рубит головы недовольных. Всё стало просто и понятно, многие вздохнули с облегчением. Особенно купцы и ростовщики, которые надеялись на снижение налогов и отмену привилегий «денег Фоки». Служители же церкви вовсе возрадовались обещаниям нового императора.
– Ну, ты был у патриарха, что святейший? – спросил дука-император вечером, пронзительно глядя своими холодными голубыми глазами на опытного царедворца, оказывающего помощь уже третьему императору. В отличие от нравов диких варваров-скифов, где слуга предпочитал отдать свою жизнь за хозяина, здесь слуги плели всяческие интриги и думали только о собственном тёплом и сытном месте. И хотя в жилах Василия Нофа текла наполовину славянская кровь, в стенах императорского дворца он был воспитан по жёстким правилам ромеев – выжить и стать благополучным любой ценой, для этого годится всё: лесть, обман, предательство, убийство. И если Феофано использовала свою красоту, чтобы, подобно «чёрной вдове», после совокупления просто сожрать партнёра, то придворным евнухам приходилось использовать другое оружие – ум, изворотливость, терпеливость, умение угождать и держать в руках все нити дворцовых интриг, чтобы пользоваться ими в своих целях.
– Святейший дал понять, что в общем-то все условия мы соблюли, только… – Евнух огляделся по сторонам и, наклонившись к Цимисхесу, что-то зашептал ему на ухо.
Ни один мускул не дрогнул на красивом лице голубоглазого армянина, обликом и вовсе похожего на северного росса. Что поделаешь, если армянским мужам издавна нравились славянские жёны. Однако славянская кровь, лишённая природного окружения и воспитания по законам Прави, нередко превращала своих носителей в циничных безжалостных убийц и отъявленных злодеев. На слова евнуха Иоанн только кивнул и тихо молвил:
– Хорошо, пусть будет так, я сам подберу воинов, а ты позаботься об императрице. Да, и пусть погребут тело Никифора, хватит ему валяться посреди двора.
На следующий день, 11 децембрия 969 года, Иоанн Цимисхес вместе с Феофано и друзьями-заговорщиками в сопровождении большой свиты прибыл к собору Святой Софии. Роскошь их одеяний соответствовала великолепию Божьего дома, ещё бы, коронация на ромейский престол – отнюдь не рядовое событие! И хотя ревнители традиций шушукались по всему граду, что такого ещё не бывало в истории империи, чтобы вот так открыто убить законного императора, а на следующий день явиться на коронацию… Ну, отравить тайно, придушить, в конце концов, или отправить в монастырь – это как-то привычнее и скромнее, а так цинично… Что же скажет патриарх Полиевкт, главный хранитель христианской морали и единственный, кто может принять решение о коронации?
А вот и сам патриарх, сосредоточенно-мрачный, мечет молнии из-под кустистых бровей. Он на миг встречается глазами с Иоанном. Что «спросил» этим коротким взглядом главный церковник и что «ответил» отчаянный дука, никому, кроме них двоих, не было ведомо.
– Как смеешь ты, убийца законного императора, входить в святой храм? – грозно спросил патриарх, преграждая вместе с епископами и служителями путь разодетой процессии. – На твоих руках ещё не высохла кровь!
– О святейший, – смиренно поклонился Иоанн патриарху, – я грешен, как и все, но я не убивал моего брата, рука моя к нему не прикоснулась, и в том я готов целовать святой крест и поклясться именем Бога нашего единого Иисуса! – Наступила тяжкая пауза, все замерли, не смея нарушить тишину даже единым вздохом. – Убивали моего брата императора Никифора Фоку они. – Рука Иоанна указала в сторону сподвижников, окаменевших от неожиданности. – Стража, взять негодяев! – властно повелел Цимисхес.
Неизвестно откуда взявшиеся воины личной гвардии дуки-императора стремительно окружили будто громом поражённых заговорщиков и, тут же обезоружив, скрутили и отвели в сторону от не менее растерянных членов праздничной процессии. Только на лице Феофано мелькнула одобрительная улыбка, она первой оценила жест Иоанна, возлагающий всю вину на заговорщиков.
Мёртвую тишину вновь нарушил голос Цимисхеса:
– Да, отче, я грешен, но был вовлечён в недостойное христианина деяние вот этой женщиной. – Он указал на свою спутницу. – Это она уговорила и соблазнила меня, я поддался её чарам, она распутница и мужеубийца. Взять её! – вдруг дал новую команду Цимисхес.
Проедр Василий сделал условленный жест рукой, и два дюжих евнуха схватили онемевшую от неожиданности Феофано. Она опомнилась быстрее остальных заговорщиков и стала громко кричать проклятия и грязные ругательства, вырываться и царапаться. Однако евнухи споро затолкали визжащую императрицу в крепкую повозку без окон, которая неприметно следовала за процессией.
Патриарх молча наблюдал. Потом глаза его сверкнули, и он обратился к Цимисхесу:
– Воистину ли, сын мой, на твоих руках нет крови императора Фоки, и чистосердечно ли ты раскаиваешься в сотворённых грехах?
– Воистину, отче! – перекрестился Иоанн и, подойдя, поцеловал протянутый ему патриарший крест.
– Цареубийцы должны покинуть пределы Империи Ромеев! – грозно потребовал патриарх.
– Будет исполнено, отче, – покорно склонил голову Иоанн.
– Императрица, совершившая мужеубийство, достойна тягчайшего покарания. Но да будет она судима судом Божьим, а не человеческим. Христианское милосердие предписывает искупление грехов непрестанной молитвой и покаянием. Пусть императрица Феофано будет сослана в дальний монастырь за пределами империи и там денно и нощно молится о спасении своей заблудшей души!
– Будет исполнено, отче, – опять повторил Цимисхес, – я сошлю Феофано в Армению…
После того как затихли приветственные и одобрительные крики, довольный таким скорым решением всех дел патриарх Полиевкт впустил процессию в храм.
Под сводами купола Святой Софии загудел торжественный канон венчания на царство нового императора Византии Иоанна Цимисхеса.
Часть вторая Железные вои
Глава 1 Возвращение в Переяславец Лета 6478 (970)
Викентий Агриппулус, кутаясь в плащ от холодного пронзительного ветра, пересёк площадь перед дворцом императора и быстрым шагом подошёл к венценосцу, который придирчиво разглядывал только что доставленные трофеи, захваченные у арабов. Особенно ему нравился клинок восточной работы с серым узорчатым лезвием, серебряной рукоятью, в чудесных ножнах, щедро украшенных серебром и жемчугом. Архистратигос поклонился императору и ждал, пока тот, выдержав паузу, кивнул – это был знак, что можно говорить.
– Срочное известие из страны мисян, великий император, умер престарелый царь Пётр Тихий, – доложил главный трапезит.
– Хм, – саркастически ухмыльнулся Цимисхис, примеряясь к роскошной рукояти меча, – сначала Бог прибрал архонтессу россов, затем позаботился о моём брате Никифоре, а теперь упокоил царя мисян, видно, ревностно молятся Господу за Империю наши епископы и монахи, не зря я вернул им казённое содержание. – Император сделал несколько быстрых, точных взмахов восточным клинком, любуясь, как сверкает его полированное лезвие. Потом такой же холодной решительностью сверкнули голубые глаза Иоанна. – Самое время отправить в Мисию сыновей Петра – Бориса и Романа, посадить кого-то из них на трон. Отбери хороших советников, которые помогут молодому императору и его брату навести должный порядок в их стране.
– Они уже готовы выехать, великий император, – склонил голову в поклоне Агриппулус, – сопровождающие надёжны, главным среди них будет старший стратигос Каридис, это самый опытный из моих людей.
Цимисхес усмехнулся, довольный расторопностью начальника Тайной стражи, но тут же, снова став холодным и суровым, бросил:
– Против Каридиса твоего не возражаю, пусть едет, но будет лучше, если посланцев возглавит епископ Эротик, у него давние связи со знатными мисянами. Надо сделать так, чтобы остатки войска скифского варвара поскорее убрались оттуда. Я не покойный Фока, мне их помощь более не нужна, с мадьярами я справлюсь сам.
– Если на то будет твоя императорская воля, – чуть дрогнувшим голосом отвечал Агриппулус, – полтора года тому назад я уговорил самых знатных мисян отправить в Империю своих дочерей для смотрин: надлежало выбрать, кого из дев обручить с наследниками престола Константином и Василием. Благодаря этому теперь будет легче выполнить задуманное, ведь они до сих пор здесь, обучаются манерам, достойным их знатных родов.
– Хорошо, поторопись, пока Русский Барс занят в своём Киеффе, – кратко ответил венценосец, и начальник Тайной службы поклонился, ожидая разрешения удалиться. – Знаешь, Викентий, тебе тоже не помешает духовная помощь святой церкви, поэтому отныне будешь под покровительством епископа Феофила, ты должен посвящать его во все тайные дела, иди!
Копыта коней мерно цокали по древним булыжникам старой римской дороги, приближаясь к границе Мисии. С Гемских гор в лицо дул пронзительный северный ветер, всегда приносивший в это время холод, а иногда даже снег. Придерживая рукой меховую шапку, Каридис то и дело внимательно поглядывал вокруг, хотя наследников усопшего царя Петра сопровождали полтысячи всадников охраны и десяток его подчинённых из Тайной стражи. По этой дороге ступали ещё непобедимые легионы Рима, а потом кто только не шагал и не скакал по древним камням: и ромейские тагмы, и бесчисленные купеческие караваны, и грозные варвары разных племён и народов. Сколько здесь их прошло в поисках денег, славы, побед. Только для многих это была дорога в мир иной. Теперь древний путь снова ведёт его, старшего стратигоса Каридиса, навстречу тому, для кого он стал зловещей тенью. Как распорядятся высшие силы в этот раз, кто в этом поединке станет победителем? «Кажется, после встречи со старым трапезитом Никандросом что-то изменилось в душе, или что там вместо неё у людей моего ремесла, – на философию потянуло. А может, это просто годы?» – задавал себе вопросы под мерный ход коня старший стратигос, плотнее запахивая длиннополую варварскую тёплую одежду. Он встряхнулся, прогоняя ненужные мысли. Всё, прочь посторонние воспоминания, как говаривал его наставник: трапезиту дорога даётся для того, чтобы обдумать грядущие действия до самых незначительных мелочей.
«Итак, коронацией нового царя мисян займутся епископы, – стратигос искоса бросил взгляд на богатую кибитку Никифора Эротика, в которой, кроме него, ехали ещё двое высокопоставленных церковников, – а вот за „уговоры“ мисянской знати нужно взяться самому. Чтобы заставить болгарскую верхушку выступить против Русского Барса, нужен большой опыт и тонкое чутьё разведки. Хотя зимнее время для войны неудачное, но тем неожиданней для скифов будет нападение. Спасибо Алексису, он хорошо исполнил своё дело и помог задержать грозного Сффентослафа в Киеффе. Теперь его, Каридиса, очередь сделать свою часть труднейшей, можно сказать, дьявольской работы: чтобы поднять мисян против россов, придётся угрожать, обманывать, подкупать, а самое главное – „напомнить“ болгарской знати, что они должны делать, если хотят увидеть своих дочерей-заложниц живыми и невредимыми. В первую очередь нужно выбить россов из их Переяслаффца, а потом и вообще из Мисии. – Трапезит снова повернул лик против холодного ветра и бросил недобрый взгляд в сторону кибитки священнослужителей. – Опять мы будем делать всю грязную работу, а епископы пожинать лавры и получать золото за свою „тяжёлую, но так необходимую Империи“ деятельность. А случись какая оплошность, они тут же всё свалят на трапезитов. При Фоке всё было иначе: каждый занимался своим делом, никто не смел лезть в дела армии, а тем паче разведки, – с горечью думал старший стратигос, привычно покачиваясь в седле. – А теперь даже Викентий Агриппулус должен во всём отчитываться епископу Феофилу… Если так пойдёт и дальше, то мы станем в руках церковников чем-то вроде армейских синодиков, которые только и умеют, что похищать пленных из лагеря неприятеля, а уж разбираются с ними другие. Для этого достаточно грубой силы, хорошего владения ножом и быстрых ног, особенно когда по пятам идёт вражеская погоня…»
Как всякий трапезит высокого ранга, Каридис считал своё ремесло настоящим искусством, требующим ума, таланта перевоплощения, необычайно обострённого чутья и крепкой воли. Сейчас, в Мисии, ему придётся использовать все свои умения.
В болгарском Переяславце зима была маломорозной и заканчивалась гораздо раньше, чем в Киеве. Уже в конце лютеня почти сошёл снег, вскрылся тонкий лёд на Дунае, и могучая река понесла свои воды в море. Говорят, именно обитавшие тут некогда кельты назвали реку Данувиус, что значит «быстрая вода», а русы называли её Истра – «стремительная».
Зворыке в эту ночь не спалось, что-то разболелась его шуйца, будто она до сих пор была при нём.
«Дурной знак, – думал воевода, потирая десницей культю. – Может, на перемену погоды, буря приближается или ещё что подобное». Он слышал, как за бревенчатыми стенами избы начинает завывать ветер, как издали застучали, приближаясь, копыта коня. Затем послышался приглушённый разговор у крыльца, а ещё через несколько мгновений в дверном проёме показалась знакомая стать стременного с византийским подсвечником в руке, а следом кошачьей походкой вошёл Ворон.
– Стряслось чего? – тревожно пробасил Зворыка, садясь на лаве и перестав тереть ноющую культю.
– Болгары рати собрали, на нас идут, – кратко молвил главный изведыватель.
– Погоди, у нас же мир с ними, ещё недавно договаривались про товары для Переяславца, про зерно для дружины! – почти выкрикнул возмущённый таким вероломством воевода, сразу принявшись сноровисто облачаться с помощью стременного в боевые доспехи. – Темников ко мне, живо! – продолжая кипеть от гнева, приказал он молодому воину.
– Мир у нас был с царём Петром, а его сын Борис, которого недавно на царство повенчали, того миру не признаёт, как и нынешний византийский император Цимисхес обещаний, данных нам Никифором Фокой, – молвил главный изведыватель. Потом, помолчав, добавил: – Чую, отныне с Византией всё по-другому пойдёт, с Цимисхесом сим. Не зря Калокир с того мгновения, как про смерть Фоки узнал, почернел весь, сидит да глядит взором невидящим пред собой, не узнать прежнего Хорсунянина…
В ночи задвигался, зашевелился град: забегали посыльные, умчались прочь дозоры, унеслись к полуночному восходу гонцы на добрых конях, ведя в поводу сменных скакунов.
– Не позже как к утру болгарские рати будут здесь, – доложил собравшимся темникам Ворон. – Числом впятеро более нашего.
– Укрепления не полностью закончены, а как окружат, то и подмога никакая к нам пробиться не сможет, – молвил основательный темник Васюта. – Да и откуда подмоге взяться, гарнизоны наши из градов выбиты. Потому, думаю, нужно выходить из Переяславца и двигаться на полуночь, собирая все силы наши, пока с князем, которому послы уже отправлены, не встретимся, а тогда уже схватимся и поглядим, кто кого.
– Не бывать тому, – негромко, но твёрдо молвил Зворыка, уже овладевший собой и надёжно заключивший праведный гнев внутри сердца. – Укрепления хоть и не доделаны, но всё же не открытое поле, и, чтоб их взять, болгарам немало крови пролить придётся. – Он чуть помолчал, потом изрёк как отрезал: – Негоже русам от ворога бегать при одном его приближении!
Когда рассвело, вокруг Переяславца стали собираться болгарские рати. Раздавались команды, ржали кони, двигались туда-сюда пешие и конные вои. Из-за укреплений следили за ними зоркие глаза дружинников воеводы Зворыки. Они сразу отметили, что болгарские воины прибыли налегке: ни баллист, ни катапульт, ни таранов видно не было.
Хмурившееся с ночи небо разверзлось холодным дождём, и болгары, пока не размокла земля, рванулись на приступ. Их лучники осыпали бойницы и верх стен калёными стрелами, чтобы дать возможность прочим с меньшими потерями приблизиться к самим стенам. Только не те воины обороняли град, коих можно было из него выбить с первого раза. Осаждающие это быстро почувствовали и больше попыток взятия града в этот день не предпринимали, укрывшись от дождя в походных шатрах.
Ночью подул ветер, разогнал тучи, выстудил и подморозил землю. На следующий день трижды ходили на приступ болгары и трижды были отбиты. В самых трудных местах, когда, казалось, оборона вот-вот будет прорвана, всякий раз невесть откуда появлялся сам русский воевода и со звериным рыком так орудовал одной рукой, что двурукие супротивники в замешательстве отступали перед его яростью и напором.
Болгарское войско взяло Переяславец, или, как многие его называли, Малую Преславу, в кольцо.
А через несколько дней появились перед градом тяжёлые баллисты и тараны с прочной крышей, обитой медными листами. Из доставленных вместе с осадным снарядьем частей умелые плотники принялись быстро возводить штурмовую башню-вежу на колёсах.
– Гляди, братья, крепко за нас решили взяться христиане! – пробасил воевода, кивнув в сторону неприятеля, где в предвечерних сумерках всё ещё кипела работа.
– Баллисты, башню штурмовую и прочие осадные орудия надо уничтожить, иначе город не удержать, – вдруг услышал воевода сзади себя негромкий, но твёрдый голос. Оглянувшись, увидел Калокира, который внимательно глядел на приготовления болгар.
– Для того чтобы всё это изничтожить, надобно много сил и времени, даже если выйдем из ворот и пробьёмся к сим орудиям, то покончить с такими махинами не успеем, в кольце окажемся, – возразил Зворыка.
– А совсем и нет нужды их уничтожать, – всё так же негромко ответил посланник.
– А давай-ка, воевода, в твой терем пойдём, кваску выпьем да с патрикием обсудим, как и что он думает, – быстро проговорил появившийся Тайный тиун.
– Я очень хорошо знаю устройство этих машин и как их можно довольно быстро повредить, чтобы они на несколько дней стали бесполезными деревяшками, – проговорил Калокир. – Вот, к примеру, большая баллиста… – Он подошёл к печи, вынул из её остывшего чрева уголёк и принялся быстрыми точными движениями рисовать на её белёном боку орудие. – Глядите, если повредить здесь и здесь, то она уже не сможет метать камни или горшки с горящей смолой. А вот у этого орудия самое слабое и трудно восстановимое место здесь…
– Погоди, тут я с тобой, брат Калокир, согласен, – мотнул головой воевода. – А осадная башня? В ней нет никаких хитроумных приспособлений, разве что внутренние лестницы, но их можно быстро восстановить…
– А башню и вовсе не надо ломать, – неожиданно ответил грек, – её нужно просто сжечь, причём изнутри. Она высокая, и тяга в ней, как в доброй трубе, даже мехами поддувать не надо.
Воевода озадаченно почесал десницей затылок, продолжая разглядывать изрисованный бок печи.
– А что, патрикий дело речёт! – первым поддержал главный изведыватель. – Можем устроить болгарам нежданный гостинец, особенно если выйдем из города ночью и тихо.
– Но как выйти из града так, чтоб вражеские дозорные не заметили?
– Это уже моя забота, брат Зворыка, – весело подмигнул Ворон и обернулся к Калокиру. – Так где, ты говоришь, сию дуру здоровенную повредить надобно?
Выйдя к собравшимся военачальникам и переговорив с ними, Зворыка повелел:
– Готовиться к бою, только тихо, трубам и рогам молчать, все команды передавать из уст в уста!
Средь ночи заранее смазанные городские ворота неслышно приотворились, и русские полки просочились в ночную темень. И лишь оказавшись в расположении неприятеля, с боевыми кликами обрушились на осаждавших, которые, укрываясь от холодного и сырого ветра, большей частью спали в утеплённых войлоком шатрах, а те, что бодрствовали, жались к огням костров. Зазвенела сталь, закричали застигнутые врасплох воины и их начальники. Поднялись крики, шум, суета, забряцало оружие, заржали испуганные кони, и послышались вопли первых раненых.
Прорубаясь к стенобитным машинам и катапультам, русы держали путь на освещённое факелами место вкруг быстро растущей осадной башни. Никто из осаждавших толком не мог понять, откуда в сырой темени возникли эти самые русы и почему дозорные не подали сигнала об их приближении. Мастеровые, которые трудились, сменяя друг друга, и ночью, едва успели покинуть своё творение, а вскинувшаяся охрана была тут же уложена острыми клинками русов. Совершившие вылазку действовали быстро, каждый из них выполнял свою часть задачи: дюжие дружинники копьями и мечами прокладывали дорогу, а ловкие молодые воины, вооружённые топорами, немедля бросались к таранам и катапультам, рубили тетивы и крушили хитроумные натяжные механизмы; третьи разбивали внутри осадной башни принесенные горшки с маслом и поджигали их факелами. Сырое дерево поначалу занималось с трудом, но, подбадриваемое ветром, разгоралось всё жарче, пока, наконец, не заполыхало с радостным треском и гудением.
Русы исчезли в ночи так же быстро, как и появились, побросав все факелы на осадные орудия и ближайшие палатки болгар, чем ещё более увеличили суматоху и беспорядок в стане осаждавших.
В последующие дни вместо обстрела и приступа болгарам пришлось чинить изувеченные осадные орудия. Учтя урок неожиданной вылазки Святославичей, болгары усилили охрану, а также стали подвозить новые метательные орудия. В осаждённом Переяславце, где пребывало много народу, уже через неделю возникли перебои со съестными припасами. Замаячила угроза голода, а также поползли слухи, что баллисты и катапульты станут метать на град горшки с греческим огнём и весь его непременно сожгут. Жители града пребывали в страхе и всё чаще бросали враждебные взгляды на Святославичей.
Ворон вошёл к Зворыке, как всегда, тихо, но то, что он поведал, заставило воеводу вскочить и в досаде садануть десницей по крепкой столешнице, а затем по бревенчатой стене гридницы.
– Значит, говоришь, заговор зреет супротив нас в самом граде? Назови, кто сии заговорщики, посечём вероломные головы, чтобы другим, об измене помышляющим, стало крепким уроком!
– Не могу я пока тебе доподлинно поведать, кто тем сговором руководит, а без разбору головы рубить – только хуже делать.
– А когда же узнаешь? Когда ночью стражу порежут и ворота откроют? Так на кой ляд мне такая служба изведывательская, коли она не знает, когда предатели нас порешить собрались? – снова громогласно выпалил воевода и грохнул кулачищем по столу.
– Ты, Зворыка, по столу не грохай, в нашей с тобой родовой верви стол – это длань божья, потому уваженья к себе требует, – негромко, но строго произнёс Ворон. – А что касаемо заговорщиков, то имена их я тебе предоставлю, только время надобно.
– Так, коли… – запнулся воевода, посрамлённый словами собрата.
– А чтоб не порезали нас в одну из ближайших ночей, я вот что предлагаю, а ты, воевода, подумай… – И изведыватель доложил свой расклад действий.
Зворыка вновь было вспылил, но, вразумляемый доводами Ворона, постепенно остыл, а потом почти спокойно молвил:
– Хм, ну ладно, а коли соглашусь, как же мы это сделаем незаметно, ведь град в кольце?
– Просто у одного «никудышного изведывателя» есть среди осаждающих надёжные люди славянской веры, вот они-то нам и помогут. Только сделать это нужно нынче же ночью. Если ты согласен, я прикажу кому надо «проболтаться», что мы сегодня ударим по осадным орудиям, которые собраны с восточной стороны у самых слабых мест в нашей обороне.
– А как скоро сии слова дойдут до осаждающих? – спросил воевода.
– Через час болгары будут об этом знать, я сам прослежу.
– Добро, брат, посылай, – кивнул, тяжко вздохнув, воевода.
Долго в эту ночь около осадных машин и приспособлений зорко вглядывалась и вслушивалась в темень многократно усиленная стража. У восточных ворот, схоронившись по обеим сторонам дороги, недвижно затаились дозорные, чтобы сразу дать условный знак о выходе Святославичей из града. Многие полки с западной части были стянуты сюда, чтобы накрепко отрезать русам обратный путь к воротам. Несколько раз начинал сеять мелкий и холодный дождь, пытавшийся перейти в мокрый снег, затаившиеся воины мокли и стыли, стараясь согреть ладони дыханием.
Всю ночь не смыкали очей сторожкие дозорные, но русы так и не появились. А утром потрясённые болгарские начальники узнали, что Зворыка вместе со своими воинами все-таки вышел из града, но сделал это с западной стороны. Помчавшиеся вдогонку конные полки, разметая копытами жидкую слякоть дорог, поспешили к Дунаю, но увидели только русские лодии, что уже отчалили от берега и уходили вниз по течению среди отдельно плывущих льдин. Посланные вослед стрелы уже не могли достать беглецов, а надоедливый дождь, перешедший в мокрый снег, скоро скрыл их за призрачной пеленой снежной круговерти.
– На тебе, ушёл, как волк из западни! – не скрывая досады, произнёс один из болгарских князей в дорогой византийской броне, глядя вслед исчезающим лодиям русов.
– Не просто волк, а оборотень, он потому и однорукий, – молвил второй. – Говорят, когда такой волк-оборотень попадает в капкан, то он отгрызает себе лапу. Потом возвращается в образ человека, но остаётся одноруким или одноногим, верная примета!
Остальные согласно закивали.
– И с одной рукой рубится он не по-человечески злобно, теперь я понял, почему у него впереди на доспехе изображён оскаленный волк… Точно оборотень он и воины его, иначе как они могли незамеченными из града уйти? Упаси, Господи, чада твоя от вражьего чародейства, – суеверно перекрестившись, добавил второй военачальник.
– Зато теперь град свободен, они его бросили! – радостно подхватил третий. – Малая Преслава наша!
Получив весть о мятеже и захвате Переяславца, Святослав срочным порядком, оставив Ярополка в Киеве, Олега – на Древлянщине, а Владимира в Новгороде, выступил конной дружиной на Болгарию.
Был конец зимы 970 года, время весьма неблагоприятное для походов. Но мешкать было нельзя.
Мешая копытами мокрый снег, полки рано поутру выступили на Дунай. Повсюду пятнами проступала тающая земля. Ночи ещё были холодные, а по утрам опускался занозистый туман.
Борзым ходом, дойдя до Днестра-реки, Святославово войско остановилось. Святослав некоторое время напряжённо вглядывался в противоположный берег, во многих местах густо поросший тальником. Ни у самого берега, ни вдали, насколько мог пробить серую весеннюю мглу зоркий взгляд, князь не смог увидеть ничего подозрительного. Он знаком подозвал начальника изведательской сотни.
– Пошли десяток расторопных воев на ту сторону, пусть проверят, что там и как. – Затем повернулся к темникам и распорядился: – Дружине спешиться, коней поить, но огонь не разводить, быть начеку, ждать, с чем изведыватели возвернутся.
Сам ещё некоторое время понаблюдал, как десяток молчаливых воинов, осторожно рассыпавшись по тёмному весеннему льду, вышел на противоположный берег. Князь спешился и передал поводья стременному. Через час изведыватели вернулись.
– На той стороне ни человека, ни зверя не встретили, пусто кругом, ни огня, ни кострища, – доложил старший десятка.
– Как лёд, выдержит переправу всей дружины? – спросил его Святослав.
– Нет, не выдержит. Мы россыпью шли, и то лёд трещал, пару раз едва не провалились.
– Значит, брод искать надобно, – заключил князь.
– А чего искать, брод тут рядом, за терновником, – неожиданно подал голос молодой стременной князя.
– А тебе откуда ведомо, разве бывал тут прежде? – удивлённо вскинул бровь Святослав.
– Это не я, это конь твой, княже, брод нашёл, – смущённо заулыбался юноша. – Я повёл их поить, гляжу, место удобное, пологое. Свёл к воде, кони из луж пить стали, только Белоцвет, как всегда, дальше пошёл чище воды искать, а там промоина, он и провалился, да неглубоко оказалось, до груди даже не достало, тогда и я уразумел, что спуск в том месте не зря такой удобный.
– Проверить, – коротко приказал Святослав и, повернувшись к темникам, молвил: – Если брод подходящий, будем переправляться немедля, чтобы дотемна на той стороне ночлег устроить.
Вскоре, ломая ноздреватый лёд, всадники устремились в обжигающую холодом воду. Когда переправились на другую сторону, Святослав велел воинам покинуть сёдла и бежать рядом с лошадьми, чтобы согреться. Пройдя так полгона вдоль берега, дружина наконец получила приказ становиться на ночлег. Тотчас запылали походные костры, воины занялись рубкой лозы. Из неё делали подстилки и плели двойные стены, между которыми набивали землю с травой. Вскоре в степи встал ряд таких укрытий, в которых можно было спать, не опасаясь мороза и холодного ветра. Подсушив одежду и поев горячего варева, дружина уснула крепчайшим сном.
А наутро выступила дальше в поход и у Прута-реки неожиданно встретилась с тьмой Зворыки и Притыки, шедших на лодиях и насадах.
– Что ж, брат Калокир, – хмуро молвил князь, когда византийский посланец подъехал к нему со Зворыкой и темник доложил князю обстановку в Болгарии. – Был ты при моей дружине вроде заложника обещаний василевса Никифора, а теперь в Царьграде иной василевс, за которого ты не ответчик. Потому не смею тебя более подле себя удерживать. Ты волен возвратиться хоть в родной Хорсунь, хоть прямиком в Царь-град, к императору Цимисхесу.
– Я клятвы верности самозванцу, вероломно убившему законного императора, не давал и никогда давать не стану! – вскинул главу греческий посланник. – Потому нет мне сегодня пути ни в Константинополь, ни в Херсонес, дозволь, князь, остаться с тобой, тебе нынче лишний меч не помешает…
– Посланник Калокир при осаде болгарами Переяславца нам знатно помог, княже, – проговорил одобрительно Зворыка. – С его совета и помощи мы одним ночным выходом все осадные снарядья болгар из строя вывели.
– Добрых воинов я ценю и уважаю, потому рад твоему решению, – ответил Святослав, и на миг суровый лик его просиял. В чистосердечном порыве он обнял Калокира и радостно воскликнул: – Братья, Хорсунянин остаётся с нами! Вперёд, на Переяславец!
Молитвы болгарских полководцев отчего-то недолго действовали на христианского Бога, или он не мог ещё одолеть бога славянского, и яростные рати «оборотня» Зворыки, встретившись в устье Прута с подошедшей конницей Святослава, вернулись к стенам Малой Преславы.
Молва о возвращении русов прилетела к стенам града раньше их конных дозоров и лодий Волка, как теперь именовали Зворыку враги. Болгарское воинство дралось отчаянно, но грозного воеводу Волка и Русского Пардуса одолеть не смогло. Обещанные же императором византийские войска так и не успели подойти на помощь болгарам, они ещё были заняты в Антиохии в сраженьях против арабов. Слишком скор на ногу был князь Святослав, да и не ждали его так быстро, поскольку конница не выступает в поход в час весенней распутицы.
Болгары вышли на битву и дерзко встретили Святослава. Но после нескольких часов отчаянного сражения кияне одолели противника и неудержимой волной хлынули в открывшиеся врата.
– Се град мой! – рычал Святослав, круша неприятеля направо и налево, пробиваясь к центру Переяславца.
Вскоре болгары отхлынули, и кипевший на улицах бой постепенно затих. Улебу после снятия осады Киева и в погонях со Святославом за печенегами тоже пришлось вспомнить воинскую науку, которую он, как и все юноши, проходил когда-то, а в сегодняшнем сражении должен был показать всё, что умел.
– Добрые наставники были у нас с тобой, брат Улеб, коли ты после столь долгого перерыва в жестокой сече жив остался! – сверкнул довольно очами Святослав.
Три дозорных воина неспешно шли по граду, внимательно озираясь, не затаился ли где враг с копьём или луком. Взгляд одного из них привлёк некий хромоногий человек купеческого вида, что поспешно постарался скрыться за бревенчатой постройкой. Два воина, не сговариваясь, бросились за ним, а третий, натянув лук, стал внимательно оборачиваться вокруг, чтобы калёной стрелой сразу пресечь любое вражье движение. Подозрительный купец, оказавшись в крепких руках русов, заверещал, запричитал жалобно, от испуга путая русскую, греческую и арамейскую речь, предлагая откуп за свою свободу.
– Зачем ты погнался за этим жалким купцом? – спросил один воин другого. – Давай отпустим, дел, что ли, других нет?
– А ну, молодцы, ведите меня к Зворыке, живо! – вдруг тихо, но повелительно сказал на чистом русском языке «купец», повергнув воинов в немалое изумление.
По дороге пленник вновь зашёлся воплями и причитаниями, сильно картавя и норовя вырваться из крепких рук. Доставленный в терем воеводы, он ещё раз строго молвил приведшим его воинам:
– То, что подозрительного человека взять решили, верно, но за то, что мольбам поверили и отпустить надумали, наказаны будете. Враг любую личину надеть может. – Он распахнул одежду, и все увидели надетую под ней короткую кольчугу да пояс с метательными ножами. – Будь на моём месте враг, лежали бы вы все трое уже трупами хладными. – «Купец» сбросил с себя верхнюю одежду, отклеил чёрную курчавую бороду и с трудом, морщась от боли, отодрал густые длинные с проседью накладные брови.
Воевода поспешил обнять друга своей десницей.
– Ворон! Жив?! Здравствуй, брат! Как я рад тебя видеть! – обрадованно гудел он, хлопая тайного воина по плечу.
– Я тебе, Зворыка, обещал заговорщиков назвать, – деловито продолжал Ворон, – так вот они, пусть твой писарь запишет и предоставит князю. – Он прикрыл очи и начал медленно, будто читал с невидимой бересты или пергамента, называть имена. – Вели, воевода, прежде всего схватить сих знатных болгар-христиан, что стали во главе заговора в нашем граде, а они уж на остальных укажут…
– Благодарю, брат, за добрую службу, – растроганно молвил воевода, – ведь ты, почитай, на верную смерть шёл, когда решил в граде остаться, хоть и под личиной купца… Садись, я сейчас добрым сбитнем тебя угощу!
– Каждый из нас свою волшбу творит, брат, – устало ответил Ворон, опускаясь на лаву и прикрывая враз отяжелевшие веки. – А знаешь, Зворыка, – вяло усмехнулся он, – болгары после того ночного исчезновения прозвали тебя Волком, видать, за чутьё твоё острое, за яростное рычание в схватке, когда ты одною рукой успеваешь рубиться так, что и двурукие витязи супротивника не могут совладать с тобой. А может, из-за отчеканенного на твоей нагрудной пластине изображения священного Пса-Семаргла, который походит на оскаленного волка. Многие из болгар-христиан считают тебя оборотнем, что в лунную ночь превращается в волка и может незаметно пробраться куда захочет. А однорукий ты оттого, что, угодив в образе хищника в капкан, отгрыз себе лапу…
Голос Ворона становился всё тише, а потом и вовсе смолк. Зворыка взглянул и увидел, что изведыватель, прислонившись к стене, крепко спит. Воевода тихо вышел, притворил дверь и, повелев охоронцу стеречь сон Ворона, поспешил к Святославу.
Всю ночь рыскала по граду и его окрестностям дежурная сотня дружины. Местные жители из тех, что были на стороне русов, с охотой указывали, где можно сыскать предателей из списка, имевшегося у немногословного усатого варяжского сотника. Ранним утром около трёх десятков схваченных за ночь состоятельных горожан уже толпились на торговой площади под бдительным присмотром угрюмых, уставших от вчерашней жестокой сечи и бессонной ночи воинов дежурной сотни. Пленники, большей частью полураздетые, потому что их вытащили прямо из тёплых постелей, дрожали от холода на ветру, который тут, на самой высокой точке холма, дул почти всегда. Родственники схваченных и просто жители града стояли чуть поодаль, испуганно переговариваясь и стараясь разглядеть своих через двойную цепь конных дружинников, охвативших пленников в молчаливое коло. Наконец появился сам князь Святослав с воеводами Зворыкой, Свенельдом, Инаром и Улебом. Святослав что-то молвил Зворыке, тот поднял свою единственную руку и зычно, чтоб слышала площадь, молвил:
– Люди переяславские, слушайте слово княжеское!
Все смолкли.
– Сии именитые горожане, – мрачно молвил князь, обводя тяжёлым взором и указывая десницей на пленников, – клялись мне в верности, когда решили поселиться в Переяславце-на-Дунае. А потом возглавили мятеж в граде и сдали его болгарам. Мы живём по Русской Прави, как отцы и деды наши жили, а по ней тот, кто клятву преступил, повинен смерти. – Грозная, как поднятое для удара лезвие топора, тишина затаилась, и только неугомонный ветерок беспокойным мальчишкой пробегал то и дело взад-вперёд, словно намереваясь спрятаться в жидких облачках утреннего тумана. И так же беззвучно над площадью закружилась, невесть откуда взявшись, большая стая воронов. – Потому, чтоб иным неповадно было слово данное нарушать, повелеваю всех зачинщиков лишить головы, – сурово закончил Святослав.
Охнула собравшаяся толпа, взвыли жёны да матери, застенали, прощаясь с родичами, приговорённые. Иные из них пали на колени, умоляя грозного князя о пощаде, другие в последней молитве воздели руки к небу, осеняя себя крестными знамениями.
Зворыка подал знак. Десяток пеших воинов с топорами за поясом и деревянными колодами в руках, молча пройдя сквозь коло дежурной сотни, подошли к обречённым, поставив подле своих ног принесённые плахи. Конники выстроились молодой луной позади пленников. Снова страшная тишина нависла над площадью. Городской люд замер, кажется совсем не дыша. Ещё знак воеводы – и каждый из десяти воинов, взяв из сжавшейся и оцепеневшей толпы по одному приговорённому, подвёл его к колоде и повелел положить голову на плаху. Кто-то делал это обречённо покорно, кто-то начинал биться в падучей, и тогда воин коротким сильным ударом лишал его возможности сопротивляться и укладывал головой на колоду. Последовал взмах Зворыки, и десять топоров почти единовременно отделили десять голов от тел, которые, рухнув на землю и содрогаясь от предсмертных судорог, щедро обагрили её своей кровью. Единым вздохом ужаса и отчаяния возопила толпа, запричитали, стеная, мужики, зашлись в безумном крике жёны.
Гщё дважды вздымал десницу Зворыка, и дважды летели на увлажнённую кровью землю неразумные головы предателей. Брат Святослава был бледен, он иногда мелко крестился, что-то проговаривая беззвучно шевелящимися устами.
К Святославу, мрачно глядевшему на страшное действо, охоронцы подвели седобородого старца с выцветшими от прожитых лет очами.
– Реки! – повелел князь.
– Дозволь, княже, похоронить казнённых, не годится, чтоб вороны и бродячие псы глодали человеческие останки, – молвил старик по-болгарски.
Святослав внимательно оглядел сухощавого старика в простой одежде без креста на шее и невольно вспомнил своего первого учителя отца Велесдара.
– Дозволяю, – обронил князь. – Схороните, да не забывайте, за что покараны сии люди. – И, обернувшись к Зворыке, так же кратко бросил: – Ты в граде останешься, порядок наведёшь. А я со Свенельдом, Инаром и Боскидом завтра же двинусь далее к болгарской столице Великой Преславе. – Он тронул коня и поехал прочь.
Дружина русов ещё завтракала и сбиралась в дорогу, а весть о взятии Святославом Переяславца и жестокой расправе над предателями уже крылатой молвой полетела по Болгарской земле, поселяя в сердцах холодный суеверный страх перед грозным русским Ахиллом, не ведающим жалости.
Святослав, горя праведной ярью за вероломное нарушение договора, двинул дружину в сторону болгарской столицы. Он был готов разметать любого, кто окажется на его пути, но небольшие дружины при градах и крепостях, построенных ещё Римом, и не помышляли о сопротивлении. Градоначальники со старейшинами уверяли Святослава в своей преданности, сетуя, что их силой заставили дать людей в войско. Сопротивление оказал только Доростол, который князь взял и казнил предателей, а также Филиппополь, населённый в основном греками.
Борис и его брат Роман тоже не горели желанием ввязываться в сражение с русами. Когда византийцы, повенчав Бориса на царство, тут же потребовали от братьев изгнать скифов из Болгарии, они с помощью приехавших из града Константина епископов и трапезитов с трудом сумели собрать войско, чтобы выбить русов из Переяславца. За время царствования Петра сильно расслоилась прежде единая Болгария: одни тянулись к Византии, как к христианскому оплоту и выгодному соторговцу, другие, напротив, хотели воевать с ненавистной Империей, напоминая остальным, что великий Симеон хоть и был сам христианином, а Византию бивал крепко. Западная Болгария во главе с комитопулами – сыновьями комита Николы Шишмана – вообще отделилась, взяла под свою руку Македонию и не подчинялась ни молодому царю Борису, ни тем более Византии.
Потому Борис и Роман, посовещавшись, решили, что нет у них ни сил, ни резона воевать с Русским Пардусом. Уже на подходе к Великой Преславе встретили Святослава и его дружину посыльные Бориса и рекли, что царь Болгарии не желает войны с доблестным князем русов, но только мира, как было при отце их, Петре Тихом.
Глава 2 Збимир-ваятель Лета 6478 (970)
Выбив болгар из Переяславца и вновь овладев Болгарией, Святослав позволил царю Борису оставаться на троне и править своим народом, заключив с ним мир и оговорив условие, что в болгарской столице Великой Преславе в качестве охраны будет находиться полутьма русской конницы во главе со Свенельдом и Калокиром, как полномочными представителями князя Святослава. То было сделано, чтобы более не допустить тайных переговоров Византии с Болгарией и подлых ударов в спину русскому воинству. Свен не разумел греческой речи, и Калокир тут был незаменим.
Притыке же с флотом Святослав велел подняться по Дунаю и стать близ Доростола, дабы и тот не помышлял более о мятеже.
После того как русы повторно укрепились в Болгарском царстве, торговля ещё более оживилась. В Переяславец отовсюду шли возы с разными товарами. Град расцветал и богател.
Теперь, когда Святослав крепко сел в сердце Добруджи, повелел он доставить ваятеля, чтобы тот сделал богов для Переяславского Требища.
Вскоре вместе с киевскими возами прибыл в Переяславец некий муж. Так себе, смуглый, невзрачный, Збимиром звали. А люди за тёмную кожу, да и чтоб отличать от бывшего княжеского стременного, нарекли Збимиром Чёрным. Сказывали, что ваятель сей из муромы и прислали его в Болгарию новгородские волхвы, кои всегда считали, что Нов-град выходцам из варяжского ободритского племени завсегда роднее, нежели Киев. Сказывали волхвы, что муж сей не простой, а искусный ваятель, которому богами многое открыто: своим ножом он мог вырезать из дерева лики богов, которых потом ставили на мольбищах, и сами Могуны с помощниками перед ними творили молитвы и приносили требы.
Збимир Чёрный немедля приступил к работе. Долго старался и трудился, но вышли боги как надо. Призвав помощников, установил их Збимир на холме неподалёку от княжеского терема. Когда было готово, сам князь пришёл поглядеть и не мог скрыть восхищения.
– И как ты управляешься, почитай, с единым ножом, а так ладно выходит? – спросил он.
– Боги в древе уже сотворены, княже, – отвечал Збимир. – Я их только от лишнего ножом освобождаю. И когда творю так, на душе и сердце становится радостно.
Князь с удивлением качнул головой:
– Я бы тоже так хотел, да только не вижу богов в дереве…
– Хотеть, княже, мало, надо мыслью зреть. Лишь когда ясно увидишь лик, тогда можно иссекать его наружу.
Святослав усмехнулся, пригладил усы и задумчиво молвил:
– Я вот таким же образом сечу вижу. Ещё бой и не начинался, а мне уже представляется, каким он будет и каким образом можно одержать победу.
– Каждому боги дают прозрение в своём деле, – отвечал Збимир-ваятель. – Пахарю Даждьбог покровительствует, скотоводу и торговцу – Велес, а тебе, светлый князь, сам Перун открывает очи на науку и славу ратную.
– Верно речёшь, Збимир, – согласился князь, – каждое твое слово – правда! На всякое умение наука надобна, которая летами многими отбирается и никогда пустыми словесами, но только трудами многими.
– Княже, у меня тут подарок есть для тебя… – несколько смущённо изрёк ваятель.
– Подарок? – удивился Святослав.
Збимир, державший в руках нечто завёрнутое в чистый рушник, развернул его, и взору предстала расчерченная на квадраты доска.
Ваятель, загадочно улыбаясь, вынул кожаный мешочек и бережно достал из него искусные деревянные изваяния.
– Никак, шахматы? – сразу догадался князь. – У меня в детстве варяжские тавлеи были, я с Асмудом, а потом с матерью играл… Только тавлеи костяные были, и все воины одинаковые. А сии, вишь ты, какие ладные! Хороша ладья. – Святослав стал рассматривать искусно вырезанных кормщика и гребцов. Ладья была с плоским днищем, чтобы её можно было ставить на доску. – И всадник добрый. – Князь взял изображение воина на коне.
– Верно, княже, шахматы, токмо не простые. От изваяний богов дерево осталось, вот я и вырезал для тебя. – Ваятель, оглянувшись в поисках чистого места, постелил рушник на траве, положил доску и осторожно высыпал из мешочка все изваяния двух оттенков – тёмного и светлого. Из дерева же были изготовлены и велеи – два кубика с аккуратно выжженными точками. – Такие шахматы мне один торговец из Асии заказывал, рёк, что в Индике ими играют, а как я ему их вырезал, то и играть меня научил, не самому же с собой сражаться. Окажи честь, княже, сыграй со мной.
– Мне больше наши привычны, а эти-то я и не разумею. Вон и число клеток у них вижу чётное, а у наших завсегда нечётное…
– Так, княже. А о правилах игры индикийской я тебе сейчас поведаю, пока будем расставлять войско по местам.
Оба опустились на траву подле шахматной доски.
– Бросим жребий, кому какое войско достанется. Нечет – светлые, чёт – тёмные. У кого светлые, тот начинает.
– А разве начинает не тот, у кого больше войска? – спросил Святослав. – В наших тавлеях противника всегда больше, и он начинает первым, а мы защищаемся.
– Здесь войска поровну, – отвечал Збимир, – посему выступление определяет жребий. – Ваятель сокрыл меж дланей велеи, потряс ими и бросил на доску. – Нечет. Твои, княже, светлые!
Они начали расставлять изваяния.
– Так, лодии по бокам, – приговаривал Збимир, потом – конница, рядом – воеводы. Я ведь резал сии шахматы на новгородский манер. В индикийском войске боевые колесницы были, а нам более ладьи привычны. В середине князь и княгиня, а не шах с визирем. А впереди них – ратники. – Он быстро выстроил одинаковые фигурки со щитами и копьями. – Конь может скакать через другие изваяния. Князь ходит на одну клетку, княгиня – по всему полю. Все защищают князя.
Святослав посмотрел на доску.
– Скажи мне, Збимир, – спросил он, – отчего все должны защищать князя, в том числе и княгиня?
– Потому что князь самый главный, без него держава что без головы…
– В Хазарии все тоже Кагана защищали, и прав у него было тоже только на один шаг, зато Бек имел безмерную свободу деяний. Не нравится мне такой порядок. Знаешь что, я поменяю правила. Может, у них, как ты говоришь, в Индике, все князя защищают, а у нас, на Руси, мужчине положено защищать женщину. Поэтому пусть княгиня сидит в тереме, а князь и всё войско будут её защищать. – Святослав поменял фигурки местами. – Ну что, начнём?
– Воля твоя, княже, – отвечал Збимир, тоже переставляя фигурки. – Может, так оно и в самом деле правильней…
Проведя одно сражение – больше не было времени, – Святослав поблагодарил Збимира, собрал шахматы, завернул их в тот же рушник и, щедро заплатив ваятелю серебром, отправился в гридницу решать дела.
Збимир Чёрный некоторое время сидел задумавшись. Он был весьма доволен похвалой князя и размышлял над его словами.
Когда очарование мысли ушло, и очи прояснились, ваятель вдруг увидел на холме возле идолов, там, где стоял Святослав, отпечатки его следов. Но Збимира удивило то, что трава в следах не поднялась, как это обычно бывает, а оставалась примятой.
«Неужто у князя такая тяжёлая нога? – подумал ваятель, подойдя и присев у отпечатков. – Что бы сие значило?»
– Сие значит, что боги дали князю великую силу, – послышался голос.
Збимир обернулся и увидел переяславского Могуна, который шёл мимо и остановился, узрев раздумья ваятеля.
– Этой силе всё должно подчиняться, – продолжал Могун, – ибо такова воля богов наших.
– Откуда ты знаешь мои мысли? – удивился Збимир. – Я ведь ни единым словом не обмолвился.
– Ты ведь зришь в дереве богов, которые для других суть невидимы? – в свою очередь спросил Могун.
– Зрю.
– Вот и я вижу в людях то, что они ещё не рекут, а только мыслят.
Прибыв по приглашению Святослава в Переяславец, вещий ободритский кудесник стал настолько почитаем, что вскоре был объявлен Переяславским Могуном. Он ясно читал помыслы других людей, как добрые, так и злые. Даждьбог дал ему знание грядущего, и шли к нему русы, а также многие болгары. Могун брал золу из Священного огнища, клал её в скудельный сосуд, а потом лил заговорную воду и зрел, как зола расходится, и по ней совершал пророчества, рёк каждому судьбу его: кому быстрая смерть выпадет, а кто доживёт до глубокой старости; кому суждена жена русская, а кто чужеземку за себя возьмёт. Зрел Могун Правь истинную, которая открыта только детям невинным да кудесникам. И чтобы видеть её, нужно иметь открытым третий зрак. Ибо первые два даны всем животным, а третий могут иметь только люди, общающиеся с Богами.
И, на удивление всем, сбывались слова кудесника.
Збимир видел, как Могун молился на Требище и чаще всего приносил полевые жертвы богу Хорсу. Ваятель понял, что Хорс, когда едет на своём золотом возу с восхода на заход, всё кругом видит и Могуну рассказывает. Крепко задумался Збимир Чёрный: «Я – ваятель, сам тех богов делаю, а они мне ничего не рекут…»
Размышляя таким образом, Збимир подождал, когда уйдёт кудесник, потом взошёл на Требище, стал перед Хорсом и молвил с обидой:
– Я сотворил твой лик, отчего не открываешь мне тайное, как Могуну?
Хорс безмолвствовал.
Тогда Збимир взял палку и стукнул бога, говоря ему: «Реки!»
И в тот же миг почувствовал, что не может сдвинуться с места. Страх охватил ваятеля, и он хриплым голосом стал звать Могуна.
– Что кричишь? – спросил, подходя, кудесник.
– Помоги! Не могу сдвинуться с места! – растерянно, с мольбой в голосе, молвил ваятель.
– Ты обидел Бога и должен попросить у него прощения, – нахмурил брови кудесник. – А теперь говорю тебе: иди! – повелел Могун, коснувшись плеча ваятеля закруглённой рукоятью своего посоха.
Збимир почувствовал лёгкость в теле, оно вновь стало послушным, и он смог двигаться.
– Велика сила твоя, отче! – прошептал ваятель. И повинно склонил голову перед Хорсом, прося у него прощения.
В этот же день Могуна позвал Святослав. Они долго говорили, но о чём была та беседа, как и многие прочие, никто не ведал.
Войдя в гридницу, Святослав приветствовал дожидавшихся его византийцев. Все посланники были одеты весьма богато, в расшитые и украшенные драгоценными каменьями парчовые ризы. Особо блистал старший посол. Низко поклонившись князю, он молвил на довольно хорошем русском:
– Привет тебе, князь Киевский, от нашего великого и христолюбивого василевса Иоанна Цимисхеса! В знак почтения он прислал дары: всяческой ценной поклажи десять ящиков, двадцать тюков тончайшего шёлка, три воза оружия, а лично тебе, князь, – колхидское золочёное седло, тяжёлую кольчугу, булатный меч и десять бочек лучшего вина!
– Щедрые дары, – усмехнулся Святослав, – просто так не даются. Чего хочет василевс?
– Наш василевс благодарит тебя, князь, за укрощение строптивых мадьяр и помощь Болгарии и хочет заключить с тобой вечный мир и договор о любви и взаимопомощи в часы войны. И дабы никто не сомневался в том договоре, василевс Иоанн Цимисхес даёт тебе, князь, подписанную им грамоту на владение тобой всеми землями полуночными, на владение Волжской Булгарией, Тмутороканью, яссами и хазарами…
– Сию грамоту я у вашего василевса не просил, а взял всё указанное своим мечом и подписал русской кровью! – перебил Святослав.
Греки потупили очи на суровый тон князя.
– Реките прямо, чего хочет ваш царь?
– Великий император хочет, чтобы князь россов, исполнив воинский долг взаимопомощи и взяв награду, обещанную императором Никифором Фокой, вернулся домой в свои области и к Киммерийскому Боспору, покинув Мисию, земля которой издавна принадлежит ромеям и является частью Македонии… поскольку болгары – народ пришлый, – зачитал посол слова Цимисхеса. – Мы верим в то, что провидение управляет вселенной, и исповедуем все христианские законы, – продолжал посол, – поэтому мы считаем, что не должны сами разрушать доставшийся нам от отцов неоскверненным и, благодаря споспешествованию Бога, неколебимый мир. Вот почему мы настоятельно убеждаем и советуем вам, как друзьям, тотчас же, без промедления и отговорок, покинуть страну, которая вам отнюдь не принадлежит. Знайте, что если вы не последуете сему доброму совету, то не мы, а вы окажетесь нарушителями заключенного в давние времена мира. А посланному Никифором Фокой патрикию Калокиру император велит вернуться в Константинополь вместе с нашим посольством… – закончил переводить толмач.
Святослав качнул головой, усмехнулся недобро.
Послы и вовсе замерли, не решаясь пошевелиться. А вдруг за сии дерзкие слова катархонт россов велит отрубить им головы?
– Пресветлый князь могучей Руси, – вкрадчиво нарушил тяжкое молчание старший посол, – я давно на императорской службе и имел великую честь лицезреть твоего достойнейшего отца, князя Ингарда, когда прибыл вместе с посольством в Киефф от великих христолюбивых василевсов наших Романа, Константина и Стефана. Мы тогда доставили мирный договор, который уже был подписан нашими василевсами. Сей договор твой премудрый и богоравный отец, о могучий князь россов, подписал своей рукой в моём присутствии, и я благодарю Бога Всевышнего за то, что он удостоил меня такой чести. Хотя с тех пор прошло тридцать пять лет, я помню всё очень хорошо. Князь Ингор говорил о любви и мире между россами и греками, и, отпустив, щедро одарил нас, послов, мехами, рабами и воском. Теперь провидение дало мне возможность лицезреть и его достославного сына, отмеченного многими победами. Я счастлив и горд этим, о великий повелитель Севера…
Святослав, услышав сие, смягчился – послы, люди подневольные, не свои слова рекут, а за них головой своей рискуют.
– Нынче выслушал я вас, посланники Цимисхия. Ответ мой дам завтра, когда с темниками посоветуюсь и молитвы богам вознесу. К тому же завтра мы будем отмечать праздник Новолетья. Приглашаю вас принять в нём участие!
После приёма для послов была устроена трапеза.
Глава 3 Переяславское чудо
Разошлись небесные пологи, истончились туманы, и снова Хорс выехал в небо на огненной колеснице, с каждым днём поднимаясь всё выше над белыми облаками.
Пришло новое Лето, и Числобог начал изливать на землю-матушку отмеренную чашу времён. Полилась та синяя вода на поля огнищанские, и снега потемнели, начали таять, а Земля стала пробуждаться от сна зимнего – там, где протаяло, уже проклюнулась молодая зелёная травка. Потекли ручьи вешние, зажурчали реки полноводные.
Огнищанину Звениславу Лемешу всю ночь не спалось. Его хлеборобскую душу тревожил дух пробуждающейся земли, шум ручья в балке, порывы ночного Стрибога, а особенно протяжное курлыканье пролетавших где-то в вышине одна за другой журавлиных стай, которые возвращались из Ирия. Он слышал, что также не спали и тревожились кони, видно, Домовой шалил с ними, хотя Звенислав и оставил ему с вечера кружку молока.
Когда Звенислав поднялся, накинул кожух и, тяжко припадая на левую ногу, вышел во двор, Заря ещё только разгоралась. Вчерашний сугроб, который за день сильно опал и склонился макушкой к дому, подмёрз – по ночам ещё держался морозец. Остальной снег сошёл, дорожки подсохли.
Вдруг в предрассветной тишине поплыл медленный и тягучий звук била.
«Кудесники в Переяславце трезвонят – нынче ведь Велик-день!» – вспомнил Звенислав. Проковыляв к вербе, растущей в дальнем конце двора, он вытащил из-за пояса нож и нарезал пучок свежих лоз, покрытых белыми пушистыми комочками соцветий. Когда возвращался, увидел Живену, выходящую с подойником.
– С Великоднем! – приветствовал её Звенислав, протягивая вербовый букет.
– С Великоднем! – ответила жена.
И они начали хлопотать по хозяйству, чтобы успеть сходить на празднование на новое переяславское капище.
Над Переяславцем-Дунайским вставала Заря. И как всегда, в русском стане запели трубы, приветствуя вестницу дня и оглашая побудку полкам.
– Ишь, громогласные, не уймутся, поспать как следует не дадут. Что за варварский обычай с утра поднимать всех на ноги? – сонно проворчал один из греческих посланников, поворачиваясь на другой бок.
Но уснуть им больше не удалось. В передней послышался какой-то шум, затем громкий стук в дверь горницы, и на пороге, бесцеремонно оттеснив охранника, возник русский дружинник.
– Вставайте, гости честные! Негоже спать на Заре! Великий князь желает, чтобы вы сопровождали его на утреннее мольбище. Да не медлите, Заря ждать не будет, а князь осерчает, ежели не поспеем!
Недовольно ворча и наспех причёсывая золотыми гребнями всклокоченные волосы и бороды, путаясь в своих парчовых одеждах, византийские послы спешно стали собираться.
Когда вышли на широкий двор, Святослав уже ждал их в окружении свиты и весело махнул рукой:
– Здравы будьте, посланники! Нынче у нас великое свято – день Новолетья, разделите с нами радость прихода Весны, которую принесли птицы небесные на своих крыльях из Ирия!
И двинулся в направлении к Мольбищу.
Греки, семеня мелким шагом в своих женоподобных платьях, последовали вместе с потоком русов.
Дойдя до ворот Мольбища, они остановились и сместились в сторону, давая пройти остальным. Так, стоя в отдалении, они с любопытством, опаской, а то и тенью изумления смотрели на разворачивающееся перед ними действо.
Глядели, как люди, принесшие с собою клетки, выпускали из них на волю птиц. Как одаривали друг друга жаворонками, сделанными из теста, и ребятишки, насадив их на палки, бегали кругом, закликая весну. А потом все – и взрослые, и дети, и старики – хлестали друг дружку принесёнными вербовыми ветками, так что у иных даже слёзы выступали.
Слушали, как русы, собравшись в коло вокруг своих богов, пели им хвалебные песни. А прекрасные девы, одетые в белые ризы и украшенные венцами из первоцветов, чудно плясали перед кумирами. Потом юноши, также одетые в расшитые сорочки, варварские штаны и сапоги, пошли к каждому из стоящих по кругу восьми идолов и стали складывать в расставленные у их ног корзины куриные и гусиные яйца, хлебы и пышки, ставить мёд в крынках, зерно житное и пшеничное в кувшинах, и прочие дары.
А высокий плечистый муж с длинными – до пояса – усами и бородой, по всему – главный чародей, побрызгал всё это водой из серебряной чары, взял понемногу ото всего и бросил в огонь, внимательно наблюдая за движением дыма и пламени. Потом, поднявши к небу руки, вознёс молитву. Люди повторяли за ним, время от времени восклицая:
– Слава Яро-богу, богу Весны и Любви, покровителю Плодородия!
– Слава Хорсу-Солнцеводителю, уравнявшему День с Ночью, Навь с Явью!
– Слава богу Велесу, поднявшему в небо золотых коней Сурьи-Солнца!
– Слава Даждьбогу, дарующему нам всяческие блага!
– Слава Купале Вышнему!
– Слава Перуну Громоразящему!
– Слава Свентовиду Великому!
– Слава Роду-Сварогу – источнику всякой жизни!
Закончив молитву, волхв кивнул служителям. Юноши и девушки, подойдя к корзинам, стали выкладывать на блюда освящённые дары и раздавать людям. За капищем мужчины уже заканчивали зажаривать на огне ягнят к праздничной трапезе.
Над Мольбищем плыл чудный дух молодого жареного мяса и печёного хлеба.
С утра не имевшие ни крохи во рту, греческие послы давно глотали слюну.
Вдруг люди разошлись в стороны, и греки увидели, как чародей что-то говорит им, юноша держит тарель с дымящимся мясом, а прекрасная девица с поклоном протягивает блюдо с хлебом, солью и мёдом.
Посланники поняли, что их приглашают отведать дары, и оживлённо зашевелились, предвкушая трапезу. Гуськом двинувшись к воротам, они вступили на Мольбище и прошли несколько шагов.
– Примите, гости заморские, дары Ярилины, – провозгласил Могун, – возблагодарите в сей великий день Новолетья Богов, оплодотворяющих нашу землю-матушку, дающих продолжение Роду человеческому и всему ныне сущему. Примите дары сии и вкусите их во славу Богов солнечных, коль чисты ваши души и помыслы!
И он как-то особенно пристально взглянул на посланников.
Византийцы после этих слов отчего-то разом остановились, словно натолкнувшись на невидимую преграду. Каждый почувствовал, как в руки, ноги и даже язык вошла великая тяжесть, так что невозможно стало ни пошевелиться, ни слова молвить.
– Гляди, Младобор, а вон тот воин на белом как снег коне, не князь ли? – спросила мужа Беляна.
– Он самый, – ответил отчего-то взволнованным голосом Младобор и поднял на руках сразу двух своих малых детишек. – Глядите, вон тот витязь на белом коне и есть наш князь Святослав, запомните его, детки, крепко запомните… – говорил взволнованно отец, и голос его прерывался от волнения.
– А эти важные гости в золоте да парче кто такие? – спросила Живена, разглядывая разодетых чужеземцев.
– Посольство византийское, – молвил кто-то из местных, – их князь на праздник пригласил, да что-то никак они в Капище-то войти не могут, видать, в самом деле мысли чёрные в их головах хоронятся, а боги-то всё зрят и не пускают…
– Гляди, гляди, а главный посланник-то аж потом исходит, блестит, что твой конь после купания, а с места не двинется никак, дела-а!!
– Ярослав, ты куда? – обеспокоенно окликнула внука Живена.
– Да я вас найду, поближе на сие чудо волховское поглядеть охота, я мигом! – ответил быстрый отрок и тут же скрылся в толпе.
Мольбище затихло, и все взоры обратились на греческих послов. Те стояли неподвижно, только лица их покраснели от натуги, а на челе выступил крупный пот.
– Отчего ж вы стоите, посланники, аль не любы вам предложенные дары?
И опять молчали греки. А люди, будто зачарованные, тоже стояли не дыша.
Тогда Могун распрямился во весь рост и рёк громовым голосом:
– Именем Богов наших, ныне отпущаю вас, грядите восвояси! – Он подошёл к недвижным посланникам и, произнося что-то про себя, ткнул каждого концом посоха.
После этого короткого и совсем несильного тычка посланники обретали способность переставлять свои словно налитые свинцом ноги.
Вот все греки зашевелились. Краснота их лиц постепенно начала переходить в бледность. Преследуемые непонятным страхом, они живо покинули Мольбище и мигом скрылись в гостевом дворе.
Люди тоже стали расходиться, дивясь происшедшему чуду, которое они зрели воочью.
И долго потом шли пересуды не только в Переяславце, но и во всех окрестностях, обрастая всё новыми подробностями, одна невероятнее другой.
Святослав, подойдя к Могуну, когда они остались одни, молвил:
– Эка ты, отче, нагнал страху на греков! Понесут они теперь сей страх аж до самого Царьграда, может, и не будет войны, откажутся от мысли заполучить Болгарию? Что скажешь?
– Не верь им, княже! – покачал головой Могун. – Слишком разряжены они в парчу и злато, слишком щедрые дары принесли. Словно тем блеском хотят затмить твои очи и разум. Будь настороже! В Царьграде тоже есть сильные кудесники, которые вкупе с хитрыми черноризцами и стратигосами не спят и думают, как обмануть чистую славянскую душу.
– Стратигосы – это моя забота, а ты, отче, бди о черноризцах и кудесниках, – сказал князь и пошёл в Стан.
Проходя по Воинскому Стану, Святослав услышал женскую перебранку, крики, в другом месте – смех. Там и сям у шатров висело стираное бельё и бегали разновозрастные дети.
Начальник стражи, сопровождавший князя, видел, как тот всё больше хмурится. Потом велел кликнуть темников. Когда те собрались, строго сказал:
– Воинский Стан – не кочевой табор! В нём не должно быть ни жён, ни детей, ни знакомцев всяческих. Отныне запрещаю воинам водить сюда кого-либо. Кто хочет иметь жену, пусть ставит дом в Переяславце и там содержит семью. А в Стане жёнам не место, оттого что от них идут перебранки пустые. Жена – берегиня очага домашнего и прикипает душой ко всякой вещи, так что готова за неё всяческими способами сражаться. И на мужа своего жена глядит как на собственность, хочет, чтобы он всегда при ней был и всякие её прихоти исполнял. У воина же задача иная – он должен в походе содругам помогать, последним куском делиться, а на поле боя друг дружку и землю свою защищать, живота не жалеючи. Все с этим согласны?
– Согласны, княже!
– Верно речёшь!
– В Киеве завсегда так было, а в Переяславце распустились, – загомонили темники.
– Тогда ступайте немедля наводить порядок, и чтобы к вечеру Стан выглядел как положено!
После обхода Святослав вернулся в гридницу. Там его уже ждали с докладами.
Первым заговорил Зворыка:
– Опять пришли люди с Поморья, просят у тебя, княже, помощи. Свеи на них напали вместе с данами, грабят и убивают.
– Что им ответить… Не могу я сейчас, как заяц, скакать из края в край. Здесь земля ещё не устроена. Пусть идут на Киевщину, селятся и живут. Новым землям добрые хозяева нужны.
– Не хотят они, княже, переселяться. Просят взять их под твою высокую руку и защитить от захватчиков.
– Далеко суть те земли от Киева, ещё дальше от Переяславца. Вот когда укрепимся, тогда помыслим и о Поморах, и о Полабах с Лужичами. Потом надобно Словенов и Щехов к Киеву присоединить. Послать гонцов к Кошубам и Сербам, чтобы знали, что князь Киевский о них думает. Чтобы знали Липичи и Дрождяны, Лемки, Подляшичи и Хорваты, Венеты, Виденцы, Коринты, Щурийцы и все славяно-орийцы, что, когда придёт час, мы сочтёмся с их врагами, землю их освободим, и она станет единой Русско-Славянской землёй!
– Княже, – промолвил Зверобой, бывший старший стременной, а теперь тысяцкий, – ты не упомянул Ляхов, они ведь тоже славяне.
– Славяне, – нехотя согласился Святослав, – однако ни богов славянских, ни друзей своих особо не почитают, хотят сами выше всех быть. Да и князь их Мешко христианство от немцев принял, сам на лютичей и поморов теперь нападает. Одно вам скажу: нынче, кто сам по себе остаться захочет, тот попадёт к чужим народам в рабство. И будет горбатиться в неволе, воду таскать, той водой ноги хозяину мыть, а уж потом ему будет дозволено самому напиться! Нам бы хоть лето мирно пожить, рати пополнить, а там, глядишь, люд из Киева да прочих градов русских прибудет, ибо войны, видимо, не миновать, – добавил он. – Боскид, – обратился князь к темнику, – придётся тебе опять отправляться к уграм и заключать с кенде Чобо договор о военном союзе, на сей раз против Византии. Скажешь, что получат всё захваченное ими золото и сокровища греческих городов, если встанут под мою руку! Иоанн Цимисхес требует, чтобы мы оставили Болгарию и вернулись домой. Но мы пришли сюда по просьбе императора Никифора Фоки, обещавшего отдать нам Болгарию, так, патриций? – повернулся Святослав к Херсонеситу.
– Так, князь! – кивнул Калокир и добавил: – Иоанн Цимисхес пришёл к власти с руками обагрёнными кровью василевса Никифора Фоки. Он – убийца и самозванец. И я готов идти с вами, чтобы наказать преступника.
– Теперь о печенегах, – промолвил князь, – у нас с ними прошлым летом мирный договор заключён был. Я имею в виду правобережные племена, что приходили осаждать Киев. Понятное дело, что без подстрекательства Византии тогда не обошлось. Теперь пришёл черёд ей расплатиться за всё сполна! Зворыка, отправь-ка немедля посольство от моего имени к их предводителю Хасым-беку и пообещай печенегам то же самое, что и уграм, – греческое золото, дорогие одежды и захваченных пленников.
Зворыка отправился исполнять наказ Святослава о посольстве к печенегам.
– Ладно, все свободны, – отпустил князь темников. – А ты что хочешь? – спросил у вошедшего и топтавшегося у двери гридня.
– Греческие посланники принять просят. Ответ их василевсу дать и поскорее отпустить домой.
– Отчего ж так скоро? – усмехнулся князь.
– Видно, великого страху нагнал на них Могун. Старший посланник с утра и вовсе занемог. Цветной плат в холодную воду всё окунал и дрожащей рукой растирал себе шею и грудь.
– Что ж, просят – примем. Зови! И кликни патрикия Калокира, пусть речёт свой ответ василевсу.
Посланники вошли в гридницу, поклонились князю низко-низёхонько. Старший посол, весьма бледный и, видно, нездоровый, кинул на Святослава настороженным оком. И другие косились вокруг, словно ожидая удара в спину или ножа в потылицу.
– Ступайте к своему василевсу, честные посланцы, – сказал Святослав, – и реките ему такой ответ. Аз, Святослав, князь Киевский и Переяславский, владетель земель Камских, Волжских, Булангарских, Хазарских и всех земель славянских и русских, говорю тебе, василевс греческий, Иоанн Цимисхий: мира хочешь? Я тоже. Знаю, что купцы ваши и наши торг вести хотят. Пусть ваши гости приходят в наши грады за лошадьми койсожскими, мехами и кожами, за воском, салом, житом с пшеницею, за лесом для постройки судов, за мёдом бортницким, камнями светлыми, медью червонной, шерстью овечьей – всё сможете купить в Русской земле обильной. Однако в подтверждение мира по уговору наших князей и ваших василевсов Византия обязалась ежегодно выплачивать Руси дань, а новый император о сём молчит. Напомните вашему василевсу, что он мне должен дань за два лета. И передайте Иоанну Цимисхию слова мои, что Болгарию я ему не отдам! Ибо получил её по уговору с Никифором Фокой. Разве только, – князь недобро усмехнулся в усы, – император заплатит мне за каждый взятый мной город и каждого пленника… Говорите, Мизия – земля греческая? Сия земля – моих предков, земля даков, гетов, фракийцев и русколан, кои жили здесь у Русского моря, когда ещё и в помине не было греческого Византия. Так что, ежели захотите отнять Болгарию силой, пойду на Константинополь и изгоню вас аж в пределы Азийские! Спросите у вельмож своих, тиунов да люда византийского, хотят ли лишиться греки собственной земли?
В гласе Святослава послышался угрожающий рык. Старший посол начал чаще вытирать бледное чело расписным платком, дожидаясь, когда толмач переведёт остальным посланникам слова ужасного скифа.
Видя, что византийцы преисполнены боязни, Святослав неожиданно успокоил:
– Грядите, послы, не бойтесь. Я дам вам надёжную стражу, и по моему слову княжескому никто вас перстом не торкнет. И коней дам борзых, чтобы поскорее добрались домой. Фарлаф, распорядись! – велел он. К этому времени в гридницу вошёл Хорсунянин. – А что касаемо патрикия Калоркира, посланника василевса Фоки, то он человек вольный, почтенные послы, вот он перед вами, с ним речь и ведите.
Вскоре варяг вернулся с докладом:
– Кони, княже, для послов сёдланы!
Сумрачные греки вышли, сели на коней. А старшего посла усадили в особую колыбку, подвешенную между двух лошадей, чтобы он по немочи не упал с седла, не разбился, а ехал в душистом сене до самой Визанщины, неся своему императору ответ Святослава.
Два десятка русских дружинников выступили охраной. И старшему десятнику было наказано идти борзо, нигде не останавливаясь, до самых границ, и поскорее ворочаться назад.
Старый апокрисиарий предстал перед императором, едва успев помыться, переодеться и наскоро перекусить с дороги. Окинув быстрым цепким взглядом его худую, уже увядающую стать, Цимисхес знаком повелел начинать доклад.
– Великий и Богоравный василевс, – начал опытный дипломат строго по заведённому порядку, – наше посольство выполнило твоё поручение и передало повелителю северных скифов твою божественную волю. Несмотря на переданное ему пожелание мирно решить вопрос, Сффентослаф передал такой ответ. «Я уйду из этой богатой страны не раньше, чем получу большую денежную дань и выкуп за все захваченные мною в ходе войны города и за всех пленных. Если же ромеи не захотят заплатить то, что я требую, пусть тотчас же покинут Европу, на которую они не имеют права, и убираются в Азию, а иначе пусть и не надеются на заключение мира с нами», – зачитал апокрисиарий ответ Святослава.
– Как вёл себя предводитель скифов? – мрачнея ликом, спросил император.
– Он вышел из себя, но упоминание о моём участии в переговорах с его отцом Ингаром несколько смягчило грозного варвара, иначе некому было бы сейчас прочесть тебе эти строки, Богоравный, – с поклоном отвечал апокрисиарий. И осторожно добавил: – Сффентослаф считает, что земля, которую он отторг у мисян, есть вотчина его предков, а по закону скифов за землю предков надлежит сражаться до конца…
Волевые скулы красивого лика императора напряглись. Он некоторое время молчал, углубившись в свои думы, а потом спросил, окинув взглядом стоящее пред ним посольство:
– Где патрикий Калокир, пусть он подробней расскажет мне о катархонте россов…
Посол переглянулся со спутниками и, помявшись, осторожно молвил:
– Патрикий Калокир из Херсонеса отказался следовать с нами в Константинополь…
– Что?! – уже совершенно открыто взъярился василевс. – Как это отказался? Он отказался выполнить волю своего императора?!
– Да, Богоравный, – ещё ниже склоняясь и стараясь не встречаться с разозлённым взглядом Иоанна, молвил старый апокрисиарий. – Патрикий Калокир, посланный покойным императором Никифором Фокой к Сффентославу, отказался вернуться и присягнуть тебе на верность. Он говорил со мной надменно и, похоже, променял покровительство Империи на дружбу с варварами…
– Проклятый изменник! – взорвался Цимисхес. Он вскочил со своего места и быстро заходил перед притихшими и втянувшими головы в плечи посланниками. – Значит, он заодно с моим врагом, который столь обнаглел, что смеет требовать от непобедимой Ромейской империи дань?! Жалкий грязный самонадеянный скиф! Да я лучше сниму войска с Антиохии, чем заплачу эту дань северному дикарю! – Кесарь обернулся к советникам, в немом оцепенении стоявшим слева от него: – Отозвать Варду Склира и патрикия Петра вместе с их войсками!
– Но, Богоравный, арабы тут же оттеснят наши оставшиеся силы… – робко стал возражать один из военных советников императора.
– Это не самое страшное, войска вернутся и снова выгонят арабов! Страшнее терпеть дерзкие требования грязного скифа у себя под боком! Немедля вызвать сюда патрикия Петра с его храбрыми гоплитами и стрелками! Барде Склиру – собирать войска! – И разъярённый Иоанн топнул своей маленькой божественной туфлей по мраморному дворцовому полу.
Глава 4 Война с Византией
Подсвечник с тремя толстыми восковыми свечами мягко освещал стол и небольшую горницу, оставляя в полутьме углы жилища. Киевский князь и патрикий сидели за столом друг против друга.
– Я уважал твоего покойного императора Никифора Фоку, как воина и как правителя, который держит слово, – молвил князь, задумчиво глядя на чашу с греческим вином перед собой. – Но кто же тогда послал печенегов к стенам Киева, кому было нужно выманить меня из Болгарии?
– При дворе византийском всегда идёт война, тайная и незримая, так мне говорил мой отец, – ответил бывший посланник, отхлебнув немного разбавленного вина из своей чаши. – Если есть император, то и есть те, кто его желает низвергнуть. Или просто убить, подло и жестоко… – вновь помрачнел Калокир.
– Выходит, печенегов послал Цимисхес? – наморщил чело Святослав.
– Не обязательно, обычно те, кто приводит к власти нового императора, остаются в тени. Ещё есть церковь во главе с патриархом, она тоже очень многое решает. К сожалению, мир в Империи бывает только в войнах с внешним врагом, а внутри – лишь временное перемирие…
– Грязно это и подло, – сердито ответил ему Святослав. – Нельзя жить без Прави истинной, это верная гибель.
– Согласен, – пожал плечами Калокир, – наверное, потому ни один наш император не умер своей смертью. – Оба замолчали, думая каждый о своём.
– А что, брат Калокир, – князь русов устремил на патриция прямой немигающий взор, – коли б ты стал императором Византии, держал бы слово?
– Я?! – Очи Хорсунянина расширились от предложения князя.
– А что такого? Коли и далее не по Прави будет вести себя сей Цимисхес, так, может, турнём его с византийского трона, а тебя поставим, чем ты, настоящий воин и благородный Хорсунянин, хуже этого самозванца и убийцы?
– Так я… так разве это… – смутился патрикий, стараясь скрыть хлынувшую тёплой волной изнутри радость. Тайные мысли, исподволь зреющие после смерти императора Фоки, давно тревожили Калокира, но он не признался бы в них никогда и никому. «И вдруг Святослав прямо и открыто говорит об этом. Или мысли мои прочёл? Он ведь, рекут, тоже, как и все славянские волхвы, чародейством владеет…» – Патрикий с опаской глянул по сторонам.
– Не бойся, у этих стен нет ушей, тут Русь, хоть и болгарская, а не Византия, – ободряюще молвил князь. – Честью тебе реку, понравился ты мне, не только как воин, но и тем, что душа твоя, в отличие от большинства твоих соплеменников, не двойная, потому и предлагаю сие тебе. Патриций Калокир будет смотреться на императорском троне лепше коротышки Цимисхеса! А коли станешь царём своей державы, так и тебе, и мне лад да мир дороже всего, решай!
– Если мне удастся стать императором Византии… – медленно заговорил Калокир, – и если… ты поможешь мне в этом, то я… обещаю никогда ничего против Руси не предпринимать, и не мыслить даже. – Голос патрикия окреп, налился силой. – А сверх того за помощь твою Болгария останется в вечном владении Руси, а Империя Ромейская будет присылать щедрые дары в благодарность за защиту её восточных границ от угров, печенегов и прочих врагов! – блестя чёрными очами, взволнованно изрёк Хорсунянин. – Потом запнулся, опять огляделся по сторонам и молвил: – За одно вылетевшее отсюда слово меня ждёт смерть. Я отдаю тебе в руки свою жизнь, как брату…
– Не переживай, – успокоил его Святослав, – в подобном деле я действительно готов помочь тебе, как брату, а слово моё крепче камня. У нас на Руси есть древний обычай, – молвил князь. – Те, кто даёт друг другу зарок верности в общем деле, пьют из чаши вино, смешанное с их кровью, и становятся братьями-кровниками навечно, до самой смерти.
Святослав извлёк засапожный нож, протянул левую руку и, держа её над чашей, чиркнул острым как бритва лезвием по запястью. Тёмные капли крови тотчас закапали в вино.
Калокир смотрел на князя с опаской, но старался не показать виду и не уронить достоинства. Сглотнув ком в горле, он протянул свою руку, извлёк красивый нож с серебряной рукоятью, примерился и чиркнул по руке. Порез вышел слабым, и кровь не пошла. Калокир, досадуя на себя, резанул сильнее, и кровь побежала струйкой. Патриций вскочил, не зная, что делать.
Святослав тоже поднялся, соединил руки порезами над чашей, подержал немного, потом разнял. У Калокира кровь продолжала капать. Князь взял его руку, надавил на жилу, что-то пошептал и отпустил. Кровь затворилась.
– Пей, – придвинул он чашу.
Хорсунянин взял чашу и, желая скорее покончить с этим варварским ритуалом, затаил дух и сделал глоток, поспешив вытереть губы.
– Теперь я. – Святослав неспешно допил вино, вытер усы и, привлекши Калокира ближе к себе, крепко поцеловал его в обе щеки и лоб. – Отныне мы братья, – сказал он, садясь на место, – всегда помни об этом. А кто забудет – того ждёт кара богов, ибо все боги наказывают клятвопреступников!
* * *
Князь озабоченно наблюдал, как перестраиваются, двигаются рядами и охватывают в Коло «супротивника» воины на большом поле за градом.
– Много ныне воинов из болгар, потому надобно их добре учить, чтоб в строю не отставали и споро все повеления начальников исполняли, – строго рёк Святослав, оборачиваясь к темникам. И сразу заметил, как от града спешил посыльный. – Опять вести, добрые ль, худые? – вполголоса молвил спутникам и тронул коня навстречу.
Всадник, подскакав, молвил:
– Княже, послы визанские пожаловали, рекут, что привезли ответное письмо от ихнего царя.
– Те самые, что в последний раз были? – помрачнел Святослав.
– Нет, иные, – ответствовал молодой воин.
Кликнув верных темников и бояр, Святослав принял послов в своей гриднице и, всё более мрачнея, слушал слова ромейского правителя.
«Пусть наш ответ не покажется вам дерзким; мы уповаем на бессмертного Бога Христа: если вы сами не уйдёте из страны, то мы изгоним вас из неё против вашей воли, – писал Цимисхес. – Полагаю, что ты не забыл о поражении отца твоего Ингара, который, презрев клятвенный договор, приплыл к столице нашей с огромным войском на 10 тысячах судов, а к Киммерийскому Боспору прибыл едва лишь с десятком лодок, сам став вестником своей беды. Не упоминаю я уж о его дальнейшей жалкой судьбе, когда, отправившись в поход на германцев, он был взят ими в плен, привязан к стволам деревьев и разорван надвое. Я думаю, что и ты не вернёшься в своё отечество, если вынудишь ромейскую силу выступить против тебя, – ты найдёшь погибель здесь со всем своим войском, и ни один факелоносец не прибудет в Скифию, чтобы возвестить о постигшей вас страшной участи».
Все темники собрались в княжеской гриднице, не было только Свенельда и Калокира, которые находились в Великой Преславе при царе Борисе. Также велел князь кликнуть на Совет Переяславского Могуна.
– Земля сия, что нами нынче занята и зовётся Малой Скифией, кровью предков полита, и нашей тоже! – воскликнул в гневе Зворыка, когда князь огласил послание Цимисхеса. – Не можем мы её отдать.
– Так Цимисхес же разумеет, что, пока мы тут, не дадим ему не только нашу Добруджу, но и всю Болгарию ограбить, ведь у нас на то договор с царём болгарским, вот и бесится, рекут, сей император хоть и мал ростом, да злобен весьма, – рёк Притыка.
– Про то, что флот наш греческим огнём в первый поход отца моего пожгли, крепко помнит, а вот про второй его поход победный и про ежегодную дань, что по договору, после того заключённому, Византия Руси платить обязалась, про то запамятовал византийский царь, – сверкая синими молниями рассерженных очей, негромко рёк Святослав.
Улеб, сидевший подле брата, молчал. В непривычном для него окружении покрытых боевыми шрамами воевод и Могуна он благоразумно счёл молчание наилучшим способом поведения.
– По всему, войны не избежать, не даст нам передыху сей Цимисхес! – проговорил невесело Притыка. – А значит, поживее надобно с уграми да печенегами дела решать. И подмога из Киева уже в пути…
– Вот же подлое отродье сии византийцы, – снова возгорелся гневом Зворыка, – их будто червь живьём гложет, коли у кого-то мир да лад. Только обустроились, торговля добрая пошла, хлеб-жито посеяли, так нет, им это как кость поперёк горла! – Он грозно вскинул свой кулак и уже хотел по привычке хватить им по столу, но глянул искоса на Ворона и сдержался, лишь досадливо не то вздохнул, не то рыкнул.
А когда встал Переяславский Могун, стихли горячие возгласы темников. Кудесник заговорил негромко, но так, как умеют только волхвы. Каждое слово его будто чистой родникового водою омывало горячие головы начальников, и с каждым словом вливалась в них мудрость.
– Не о том спор ведёте, витязи, не в мече булатном сила византийская, не на поле ратном главная битва с ними! – Помолчав минуту, продолжил: – Злато да серебро сулят они тем, кто веру Пращуров сменит на их веру. Разве пойдёт воин, будучи христианином, супротив своих единоверцев? Нет! Разве станет он нашей Матери Сва-Славе служить и славу Руси множить, ежели он о своей личной душе теперь более всего печётся? Разве отдаст жизнь за общее дело, когда у него теперь забота о золотых овнах да денариях, что от ворога нашего исконного получены? Оглянитесь вокруг, сколько уже купцов да бояр в греческую веру обращены, а это значит, что отошли они от чистоты купальской, покинули путь Прави, будут теперь глухи к славе предков, к гласу их, идущему к нам из Ирия. Слепы и глухи к голосу матери-Руси нашей, а покорны чужому богу. А это значит, что пойдёт теперь славянин на славянина. Отец на сына с мечом пойдёт, а брат на брата, и ослабнет Русь, станет лёгкой добычей любого ворога, коих всегда было достаточно, охочих до земель её, полей и лесов, до людей русских, забранных в рабство. Вот в чём опасность византийская, страшная. Вам, воинам, решать, когда битву начинать и с кем, только одно помните – главная битва нынче совершается в головах! – Верховный жрец умолк, и наступила мёртвая тишина в гриднице, даже не нарушаемая назойливой мухой.
– Что ж, братья, – подвёл итог краткого совещания Святослав, – после такого послания византийского императора выход один: война! И война не только за землю, но и, как сказал Могун, за Правь светлую! Ступайте и займитесь подготовкой всего необходимого.
Когда все ушли, Святослав остался с главным изведывателем.
– А скажи, брат Ворон, – молвил тихо князь, – ты ведь воин и волхв в своём изведывательском деле, а значит, вы один другому знания передаёте о всяких тайных делах, подобно кудесникам-звездочётам или целителям…
– Так, княже, – кивнул Ворон.
– Тогда расскажи мне, что вашей верви ведомо о смерти отца моего. Почему в Киеве всегда рекли про бунт древлянский, в котором мой отец сгинул, а Цимисхес пишет, что погиб он в войне с германцами? – спросил Святослав, глядя прямо в очи изведывателю.
– Тяжкий вопрос задал ты, княже, ох тяжкий, – молвил Ворон и замолчал, не то собираясь с мыслями, не то подбирая нужные слова. – Никакой войны с германцами тогда не было, но то, что князя Игоря казнили германцы своей древней казнью, про то верно речёт Цимисхес.
– Так, а как же Искоростень, он тогда при чём, коли отца германцы казнили? – не понял князь.
– Войны не было, но был заговор, княже, главными в нём были германские епископы да изведыватели, они-то и казнили твоего отца, а помогали заманить его в ловушку некоторые из знати древлянской и пришлые варяги с саксами. Все они были единоверцами, христианами… – Изведыватель тяжко вздохнул и замолчал. – Вина за то, что не смогли хитрые их планы разгадать и на нас, изведывателях, тяжким камнем лежит…
– А может, потому оплошали изведыватели, что враг в терем княжеский был вхож? – вдруг спросил Святослав.
– Были о том подозрения, и слухи разные ходили, да доподлинно всё выяснить так и не смогли, – хрипло ответил, не поднимая головы, Ворон. – Собирались древлянскую знать допытать и тех пришлых варягов, да не успели, их по приказу матери-княгини всех истребили, а с ними и тайна заговора сгинула.
– Рёк мне отец Велесдар, что ещё деда моего Рарога-Рюрика так же хотели казнить германцы, да бабка Ефанда его спасла, великой волхвиней, сказывают, была, как и дед мой двоюродный Ольг Вещий, – в раздумье молвил Святослав.
– Так, – согласно кивнул главный изведыватель, – пока был жив Ольг, не могли ни его, ни отца твоего никакие чародеи и изведыватели вражеские одолеть. Потому и решено было тебя непременно волховской науке обучить, чтоб сила деда и бабки твоей могла в тебе проявиться, княже.
Святослав кивнул, а про себя подумал, что не зря отец Чернига сделал его сердце твёрже и жёстче, ибо мягкотелость в борьбе с хитрыми врагами всегда оборачивается поражением. Где он сейчас, чёрный кудесник? Рекут, опять подался в глухие черниговские леса молить Чернобога о сохранении Руси в час его царствования…
На следующий день, сидя на своём троне в переяславском тереме, князь медленно молвил греческому послу, а писец быстро записывал через толмача ответ Святослава императору Цимисхесу: «Я мыслю, что императору Византийскому не стоит стращать нас своим приходом на Дунай, напротив, мы сами скоро придём к нему и окружим Византий своими шатрами, и, оказавшись в крепкой осаде, пусть тогда и решает свою участь.
А коли осмелится выйти к нам с оружием и воинами своими, вот тогда и узнает, кто мы, убогие ремесленники или мужи крови. Не стоит нас пугать, император, мы не бабы изнеженные и не грудные младенцы, а воины, и то во многих битвах доказали. А потому передайте своему царю слово моё: „Иду на вы и возьму ваш Византий, как Переяславец!“»
Едва были отпущены послы, как с докладом к Святославу явился Варяжко. Он рассказал, что ночью стража перехватила на дороге воз с оружием. А куда и кому оно направлялось – неведомо, потому как правил тем возом глухонемой возница с отрезанным языком.
– Сие уже не первый такой воз, – рёк помощник Тайного тиуна. – Иные болгары ведут тайные переговоры с греками, те их подзуживают восстать против нас и щедро наделяют оружием. А ещё в последнее время всё больше изведывателей из Византии, особенно вблизи кордона с империей, появляется, – продолжал доклад Варяжко. – Не далее как вчера заметили подозрительного болгарина, который, стараясь казаться незамеченным, ходил у конюшен, а потом нанял бражника, и тот отирался возле кузниц, оружейных и Ратного Стана. Когда бражнику учинили допрос с пристрастием, тот признался, что болгарин сей назвался посланником царя Бориса и дал ему золотую монету и поручил сосчитать княжеские тьмы и вооружение.
– Болгарина того взять удалось? – спросил князь.
– Так, княже, допытали, и признался он, что никакой не посланник, а лазутчик византийский, и таких, как он, добре языком болгарским и русским владеющих, немало в Болгарию заслано. А ещё он рёк, что войско Варды Склира числом около десяти тысяч стало вблизи границы болгарской у Адрианополя, или, по-болгарски, Одрина. А другое войско, под водительством стратопедарха Петра, числом в двадцать тысяч уже вторглось во Фракию. Желаешь сам допросить лазутчика, княже, и что повелишь с ним делать?
Святослав отрицательно качнул головой, и в его очах вспыхнули молнии гнева, как от «послания» Цимисхеса.
– Прилюдно на площади отсеките ему главу, – коротко велел князь.
– Будет исполнено, – кивнул Варяжко.
* * *
– Воевода Боскид гонца прислал, княже, – доложил Зворыка, – нынче к вечеру мадьяры будут уже у Переяславца, воевода передал, что они полны решимости идти на Царьград.
– Добре, и печенеги уже два дня как на месте. Давай, чтоб не терять времени, идти с печенегами к болгарской столице, а когда Боскид с уграми туда же прибудет, соберём всех воевод и темников на совет в Великой Преславе. С царём Борисом обсудить надобно, какие силы он может дать, – распорядился Святослав.
Спустя несколько дней в царском дворце Великой Преславы состоялся русско-болгарский совет.
– Война началась, братья, войска под водительством опытного Варды Склира уже у самой границы стоят, а патрикий Пётр и вовсе Фракию прихватил, – решительно молвил Святослав. – Так что нынче один вопрос: когда, куда и какими силами выступать следует.
– Думаю, следует пойти вперворядь на патрикия Петра, нельзя вражеское войско за своей спиной оставлять, – молвил Притыка.
– Эге, княже, союзники-то наши печенеги с уграми, они ведь коли пойдут на Фракию, то от грабежей не удержатся, а нам с болгарами ссориться нет резону, в нашей дружине их немало нынче, – возразил осторожный Свенельд, поглядывая на присутствующего болгарского воеводу Драгомила и ещё нескольких военачальников.
– Это точно, они ждут не дождутся, когда на дело пойдут, очень пограбить хочется, – согласно закивали Притыка и Зворыка.
– А вправду рекут, что сей патрикий скопец? – с некоторым удивлением спросил Улеб.
– Так, – кивнул Ворон, – но для Византии в том ничего странного нет, там и при дворе сии скопцы большую власть имеют, а патрикию Петру император специальное звание стратопедарха пожаловал.
– Тогда сделаем так, – решительно молвил князь, возвращая разговор к делу. – Я с дружиной нашей и болгарской пойду с сим скопцом-стратопедархом разбираться. Со мной пойдут конница Свенельда, пехота Васюты и Притыки и болгарская конница Драгомила, так, воевода? – Болгарский военачальник согласно кивнул. – А остальная дружина, болгарская пешая рать и угры с печенегами прямиком на Одрин выступят. Во главе русско-болгарской дружины, идущей к Одрину, станут Боскид, Инар и Улеб. – Князь нашёл названных очами. – Тебе, Боскид, с уграми сподручнее ладить, вы давние знакомцы. Инар – опытный варяжский темник. А тебе, Улеб, как наследнику княжеской крови, даю право от моего имени вести необходимые переговоры с противником о его сдаче на милость победителя.
– Так угры и печенеги конные, а рати болгарские пока придут, мы уже и справимся с византийцами! – воскликнул Улеб, обрадованный высоким доверием.
– Возьмёте Одрин с ходу – хорошо, а нет, осадите его и ждите, пока мы с педархами управимся и ряд во Фракии наведём. А потом соединимся и нанесём решающий удар по Константинополю, патрикий Калокир уже заждался императорской короны, которую мы снимем с головы Цимисхеса!
Войска патрикия Петра и Святослава сошлись во Фракийской низменности у Родопских гор. Патрикий был опытным военачальником, но необычайная выучка и слаженность дружины Святослава сразу насторожила Петра. А уж быстрота и ярость скифских воинов вовсе поразила бывалого полководца.
Патрикий и его хилии и тагмы сделали всё привычно и верно. Они навалились на сердце русско-болгарского войска, и, когда сеча ожесточилась, дрогнули и стремительно покатились назад, увлекая за собой разгорячённых схваткой пеших россов под командой Притыки и Васюты и болгар под рукою воеводы Драгомила. Ещё некоторое время – и справа на Святославовы рати навалились железные гоплиты, которые таким образом решали у Петра не одно сражение. Все шло как обычно, но русы не стали, подобно арабам, бежать, сминая собственные ряды и сея в них панику от неожиданного бокового удара закованных в железо людей. Напротив, правый фланг русов ощетинился своими длинными копьями и прикрылся большими щитами, сдерживая, сколько мог, рассекающий удар тяжёлых воинов. Те же, что преследовали теперь уже не отступающих, а ставших в оборону воинов Петра, так и продолжали крушить их, кажется даже не обращая внимания на неожиданную угрозу окружения. А ещё спустя время тяжёлые греческие гоплиты сами оказались в кольце. Конницы Свенельда и Святослава нежданно обрушилась сзади на закованных в железо ромеев. Сам князь русов рубился во главе, сминая ещё недавно стройные ряды железных воев, заставляя часть из них скучиться, с трудом разворачиваться против нового врага и тем ослабить натиск на ратников. Русские и болгарские рати, почуяв подмогу, яростнее навалились на противника, у которого теперь не было единого строя, а потому началась неразбериха: тяжеловооружённые воины мешали друг другу, усиливали сутолоку, не понимая, в какую сторону следует обрушить свою силу. Лязг железа о железо, крики и проклятия раненых и убитых, команды разъярённых начальников, боевые кличи и богатырское рычание воинов, храп обезумевших от крови и буйства смерти лошадей, стоны и вопли – всё слилось в едином шуме битвы, взрезавшей землю и небо и наполнившей всё окрест пылью, кровью и смертью.
Когда стратопедарх понял, что бой проигран и воины уже не слушают ни его, ни других начальников, он закричал своим тонким голосом, похожим на возглас обезумевшей женщины, приказывая личной охране пробиваться и уходить.
В Филиппополе – бывшем древнем Пловдиве, где преобладали греки да преданные Византии торговцы и священники, нашли приют части уцелевших греческих воев. Сам же стратопедарх Петр с конницей ушёл в Византию. Подходящие ко граду войска русов и болгар узрели закрытые ворота и град, изготовившийся к бою.
– Гляди, воевода Драгомил, – кивнул на затворённые ворота Святослав, – так чей сей град, болгарский или греческий? Коли болгарский, то почему перед своей дружиной ворота закрыл, а коли греческий, то как на болгарской земле оказался?
– Сейчас узнаем, княже, – сурово молвил воевода, подзывая к себе посыльных. – Вы двое, летите ко граду и велите именем царя нашего Бориса немедля отворить ворота, а нет, так град будет взят, и все, кто останется жив, будут казнены, как предатели. Время на раздумье, – воевода глянул на послеполуденное солнце, что уже начало свой спуск с небосклона, – до захода, а после… – Он красноречиво рубанул воздух дланью в боевой рукавице.
Солнце ещё не село, когда со стены помахали платком, вызывая на переговоры.
– Мы согласны сдаться на милость воинов царя Бориса, только пусть царь россов не входит в град! – крикнули по-болгарски. Филиппополь, уже однажды испытавший грозную десницу Святослава, боялся, что за повторное предательство русский царь сотрёт город в прах.
Драгомил переговорил со Святославом и, получив его согласие, передал ответ. Последовало ещё некоторое время ожидания, и врата наконец медленно открылись. Болгарская рать вошла в град, а вместе с нею и изведыватели Ворона. Конники Свенельда и Святослава вместе с пешими ратями Притыки расположились лагерем перед стенами.
Уже с раннего утра потянулись из ворот в сопровождении болгарских воинов полонённые византийцы, а вслед за ними и понурые горожане, что были зачинщиками неповиновения воинству царя Бориса. Полонников отправили под конвоем в Великую Преславу, а предателям по закону военного времени отсекли головы при стечении горожан, чтоб иным неповадно было идти скользкой дорогой измены.
Взяв с города дань и прокорм для лошадей, Святослав с дружиной пошёл дальше, очищая по пути от греков грады, селения и монастыри.
Перед самым дунайским боевым походом, ещё в Киеве, Улеб зашёл за благословением к отцу Алексису. Византийцу не понравилась новость, на Улеба у него были совсем другие виды, но поделать уже ничего нельзя было.
– Запомни, сын мой, Господь наш Иисус, как и церковь святая никогда не оставляют чад своих, а тем более в тяжких испытаниях, потому молись неустанно. А ещё там, в Болгарской земле, найдёт тебя посланец нашей церкви и произнесёт такие слова: «Нет предела милости Божьей ни на земле, ни на небе, все мы ходим под Его оком всевидящим». Доверяй тому человеку, как самому себе, ибо он посланец церкви Христовой.
Великие дела предстоят тебе, сыне мой, и великие перемены в жизни твоей грядут, – благословил отец Алексис.
Ободрённый напутствием преподобного, Улеб отправился в путь с лёгким сердцем и светлой надеждой.
Невзрачный чернец с кудрявой чёрной бородой и карими очами приблизился к Улебу у монастыря Святого Климента, где стала на ночлег дружина на пути в Адрианополь. В дружине, кроме болгар, были и русы-христиане, и потому монастырь не тронули, а Улеб со своим стременным и несколькими охоронцами, тоже крещёнными в византийскую веру, отправился поглядеть обитель. Вот тут и подошёл к нему смиренный инок со сложенными на груди руками и произнёс, перекрестившись, знакомые слова:
– Нет предела милости Божьей ни на земле, ни на небе, все мы ходим под Его оком всевидящим. – Потом он добавил: – Благодарим тебя, князь, от братии нашей за сохранение святой обители. Говорят, там, где прошёл твой жестокий и спесивый брат, многие монастыри разрушены и разграблены…
Долгим был тот разговор наедине между греческим монахом и князем Улебом, долгим и непростым.
– Разумеешь, сын мой, – рёк черноволосый монах на добром русском, – ни Империя Ромеев христолюбивая, ни её святая церковь не желают ни тебе, ни Руси Великой зла или беды какой. Мы хотим только мира, хотим торг вести и просвещать заблудшие души россов, которые не ведают любви и святости Христовой, губя души свои в богомерзком язычестве. Твой брат – отважный воин и великий стратигос, но он язычник и по неведенью идёт сам и ведёт за собой к гибели свой народ. Скажи, кому нужна эта война, почему он не желает получить богатые дары и оставить Болгарскую землю, даровав ей мир, а не гибель?
– Волхвы рекли Святославу, что сия земля, Добруджей называемая, есть земля наших предков, а за землю предков надлежит биться каждому русу, – неуверенно возразил Улеб.
– Поверь, наши книжники ведут записи свои с очень древних времён и точно знают, что это ложь. И волхвы, сии премерзкие колдуны и чародеи, находясь в услужении у самого дьявола, лгут вам, дабы по его наущению погубить ваши души. – Монах замолчал, давая возможность князю обдумать его речь. Потом продолжил всё тем же проникновенным и мягким, обволакивающим разум голосом: – Дело даже не в том, чьей эта земля была прежде, а в том, что как раз сейчас исполняется Божье благословение, и Великая Русь может стать вровень с христолюбивой Империей Ромейской, возвысившись над всеми прочими варварами-язычниками. Сейчас у неё есть муж, который может спасти её и повести к Свету! – торжественно проговорил черноризец.
– Кто же сей муж? – с некоторой дрожью в голосе спросил киевлянин.
– Ты, князь! – с ещё большей торжественностью в голосе молвил черноризец. – Ты крещён в самой Святой Софии, и потому благодать её всегда пребудет с тобой. Ты должен стать во главе Руси и с помощью наших епископов и священников повести её к процветанию и христианской добродетели. Твоя родная тётка архонтесса Ольга мечтала узреть свою страну просветлённой Богом нашим Иисусом Христом и многое делала для этого. Теперь же, когда Бог Всемогущий призвал её, – монах перекрестился, – ты, Улеб, единственная надежда и спаситель Руси!
– Но Святослав не желает креститься, даже родная мать не смогла его склонить к этому, что же могу я?…
– Ты можешь заключить мир с Империей Ромейской, я ведаю, что твой брат дал тебе такие права.
– Но Святослав не признает такого мира! – горячо возразил рус.
– На всё воля Бога нашего единого Иисуса Христа, и всё в его милости, – туманно возразил черноризец. Улеб же от всего услышанного за сегодняшний вечер находился будто в полоне от выпитого греческого вина, соображал с трудом, хотя ничего хмельного не пригубил даже. – Возьми меня с собой, – вдруг предложил черноризец, – я могу быть твоим духовником, пока ты не возвернёшься в Киев. Я буду читать тебе и другим христианам Священное Писание и переводить его на русский.
– Добро, – устало кивнул Улеб и кликнул охоронца. Того самого Петра-Кандыбу, который крестился вместе с ним в памятной с юношества поездке в Царьград. После смерти тётки Ольги он забрал его к себе в охоронцы. Теперь они оба идут на священный град, в котором находится та самая Святая София, где они приняли таинство крещения. Неужто они и все христиане их воинства – русы, варяги и болгары – станут боем брать священный град Константина, а может, и участвовать в грабеже той самой Софии? От одной этой греховной мысли тяжко и неуютно становилось в душе и суеверный страх пред всевидящим Богом сжимал сердце.
– Пётр, – обратился Улеб к охоронцу, – сей черноризец, именем… – Улеб замешкался и взглянул вопросительно на грека.
– Харлампий, – подсказал византиец.
– Харлампий, – повторил новоиспечённый князь, – будет далее с нами как мой духовник, позаботься о нём.
Глава 5 Греческая монахиня
Дружина Святослава сделала привал у стен одного из монастырей, расположенного у подножия древних скал. Место было красивым. Меж стенами обители и извивом небольшой реки простирался луг с сочной, доброй травой. Дорога, выходящая из монастырских ворот, взбегала на горбатый каменный мост, перекинутый через речку. На противоположной стороне, шагах в тридцати от берега, начиналась оливковая роща, а за ней бугрились горные кряжи.
– А что, княже, – громогласным своим басом молвил седоусый сотник, когда Святослав со стременным подъехал к отдыхающим воинам, – справим мы сейчас невесту твоему новому стременному.
– А где ж возьмёте, или кто свою отдать собирается, так я залежалый товар не беру! – весело ответил стременной, который, в отличие от своего предшественника, был остёр на язык и меткий ответ.
– Зачем же залежалый, у нас выбор велик. Сия обитель полна невест, так что выбирай, какая люба душе твоей! – рассмеялся густым басом сотник, указав десницею на стены монастыря. – Вот как раз наши варяги их выгоняют, чтоб не мешали осмотру, не хоронится ли кто в этой самой обители.
Так что не опоздай, не то варяги всех разберут, они скоры на руку в таких делах!
Черницы числом около шести десятков, сопровождаемые дружинниками из тьмы Свенельда, мелко семеня, высыпали из монастырских ворот и столпились, словно галки, в испуганную чёрную стайку. Некоторые из варягов впрямь начали подходить к монашкам, оценивающе их разглядывать и бесцеремонно ощупывать. Стременной вопросительно взглянул на князя. Тот молча кивнул, и юный дружинник, ловко соскочив со своего гнедого коня и передав повод одному из стоящих рядом воинов, решительным и мягким шагом, невольно подражая Святославу, направился к грекиням. Князь, тоже спешившись, продолжал думать о своём, хотя взор его привычно замечал всё, что происходило вокруг. Стременной вначале подошёл к охоронцам, коротко переговорил с ними, и воин без лишних слов подвёл стременного к черницам. Князь рассеянно наблюдал, как стременной, немного смущаясь, разглядывал грекинь, с иными заговаривал – он немного знал греческий, а болгарский был и так понятен.
Вдруг будто тонкая игла, пройдя сквозь кольчугу, уколола Святослава в самое сердце, и оно на несколько мгновений замерло. Погружённый в свои мысли князь не сразу понял, что случилось. Все вокруг улыбаются, подшучивая над стременным, а он стоит и не может вздохнуть. А потом ноги сами понесли Святослава к толпе перепуганных монашек. Пока он шёл, понял всё. Одна из них не то своим станом, не то гордым поворотом головы и особым взглядом напомнила ему ту единственную, чьё имя втайне от всех он шептал в минуты особой радости или отчаянья. Увидев подходящего князя, воины прекратили смешки и расступились. Приблизившись, Святослав ощутил волнение. Конечно, нос немного другой, с горбинкой, и лицо овальнее. Но в остальном черница была так похожа на Овсену, как не бывает в жизни! Ничего не слыша и не чувствуя, Святослав подрагивающей от волнения рукой осторожным движением, словно боясь повредить нечто хрупкое, снял с головы девушки чёрный плат. Освобождённые медно-златые власы тугими локонами упали на плечи. Золотые, червонно-золотые, как у неё! Князь стоял молча, словно поражённый ударом Перуновой молнии. Казалось, юная грекиня здесь, в Яви, соединилась с Овсеной из Нави, в том прошлом, к которому, казалось, нет возврата, разве что только в памяти.
– Теперь эллинов со светлыми волосами почти не осталось, а прежде, волхвы говорят, все эллины были светловолосыми и голубоглазыми, – проговорил один из охранников, решив, что князя поразили золотые волосы грекини.
– Как… зовут? – чуть запнувшись, спросил Святослав.
Васильковые очи, распахнувшись, взглянули на князя так, что он едва не лишился рассудка.
– Юлия… – журчанием тихозвонного ручейка отозвался голос.
– Сколько лет?
– Тринадцать…
– Грекиню сию чтоб пальцем никто не тронул! – строго молвил князь, обращаясь к охоронцу. – Ты! – велел он второму воину. – Немедля слетай к Варяжко, пусть выяснит всё о ней. – Поглядев ещё некоторое время на монашку с медно-золотыми волосами, Святослав, не проронив более ни слова, вернулся к коню и остановился, погружённый в думы. Никто не ведал, что творится в душе грозного князя. Облик его был по обыкновению суровым и непроницаемым, а внутри разгорался огонь. Если боги явили на его пути её образ во плоти, то это не случайно! Что не удалось ему с Овсеной, может статься, повторит сын. Пусть грекиня-Овсена станет женой Ярополка! Сколь велика мудрость богов, сколь сложны переплетения Яви и Нави. «Греки отняли жизнь моей милой Овсенушки и сына Мечислава, – сердце князя снова тронула старая боль, – пусть теперь гречанка в образе Овсены родит мне внука! Не зря ведь люди рекут, что внуки завсегда ближе, чем дети. Кто ведает, может, сия встреча богами устроена?!»
– Княже, – позвал Святослава седоусый сотник, – тут ещё одно греческое чудо имеется, желаешь поглядеть?
– Какое такое чудо? – не сразу выйдя из своих мыслей, хмуро спросил князь.
– Тут находится их именитый святой, рекут, к нему ежедневно толпы идут за исцелением, только наш приход всех охочих здравие получить распугал, – усмехнулся в усы сотник.
– Христианский волхв, выходит? – с некоторым интересом спросил князь. – Только слыхивал про таких. Давай глянем, далече?
– Тут же при монастыре обретается, вон за той скалой, и сотни шагов не будет, – махнул рукой сотник.
Святослав в сопровождении трёх верных охоронцев последовал за ним.
Они обошли серо-белую скалу и очутились у входа не то в пещеру, не то в большую нору. Сюда и впрямь вела проторенная многими сотнями ног тропа. Молодой охоронец осторожно спустился по выбитым каменным ступеням вниз, остальные следом. Пройдя несколько шагов сильно согнувшись, они оказались в пещере чуть повыше, но разогнуться могучие воины не смогли и здесь. Следом за молодым охоронцем шёл Славомир, он с сомнением оглянулся, сморщив нос.
– Ты, сотник, ничего не напутал? Может, в другой какой пещере, больно дух тяжёлый, не может человек тут находиться, разве что труп.
– Не напутал, тут он и обитает, – указал сотник на стену.
Факел осветил замурованный камнями вход и оставленное малое отверстие, в которое можно было просунуть только руку с небольшой посудиной.
– Так он что, не выходит отсюда? – поразился третий охоронец.
– Уже тридцать лет.
– Так давайте освободим узника! – предложил молодой, и вои споро стали разбирать завал. Когда очи пообвыкли к мраку, в углу помещения стало различимо каменное ложе, покрытое грязной соломой, и тело человека в рубище, обросшего власами многими и зело длинными. Человек, казавшийся мёртвым, вдруг пошевелился, звякнув при этом цепью.
– Глядите, так он же к ложу своему прикован! – не отрывая руки от носа, сдавленно воскликнул молодой охоронец.
– За какую провинность столь тяжкое наказание? – спросил Святослав, поражённый увиденным.
– В том-то и чудо, княже, – ответил сотник, – что приковал он себя сам и сам обрёк на то, чтоб гнить заживо в сырой пещере.
– Гляди, по нему же черви ползают… – Молодой охоронец, зажав на сей раз дланью уста, стрелой выскочил из пещеры. За ним поспешили остальные. Отойдя за камень, молодой охоронец, отвернувшись и согнувшись пополам, извергал из чрева всё, что недавно съел. Другим было не легче. Все во главе с князем жадно хватали ртом свежий воздух, ловя кожей каждое самое лёгкое дуновение ветерка. Зелёные оливы, что росли здесь, в долине, казались теперь сказочно красивыми. С детства воспитанные в почитании чистоты тела и духа славянские воины на время онемели от увиденного.
– Речёшь, сотник, много народу к нему ходит? – в раздумье осведомился князь, перстом указав на пещеру.
– Так, княже, сам видел, как тропа вытоптана, каменные ступени аж блестят от многих ног. Мне монах рёк, что благодать у ихнего бога можно заслужить страданиями плоти, вот они и стараются, девиц да мужей молодых от замужества в монастырях прячут, а вот такие, как сей схимник, почитаются за святых.
Святослав молчал, потому как в этот миг в нем соединились все слышанные когда-то слова. Озарение разума, будто восход солнца, враз осветило многое до того либо бывшее в тени, либо казавшееся из-за недостаточности света не совсем ясным. Посещение «святого» стало той искрой, что разом зажгла все скопившиеся вороха знаний об этом.
«Что я прежде знал о греческой вере? – думал он. – Крестики материны золотые, иконы византийские в углу её светёлки, неясный шёпот молитв, тихое пение да хитрые пастыри, сначала римские, а потом византийские, и только. Мы, славяне, прославляя Правь, всегда полагали, что почитание любого бога достойно и нет большой разницы, кому молится человек. Ан есть! У нас вся жизнь есть служение Роду Единому от начала и до конца смертного, духом своим, телом, ремеслом или словом. Древич, Лесич, Озернич, Студич, Летич, Дождич, Звездич, Громич, Цветич, Зверич, Травич, Триглавы Малые и Великие – всё есть живые части Рода Единого, где человек – сын и внук божеский – с миром Сварожьим радостную беседу ведёт, ежедневно творя каждый свой малый мир по образу божьих Отцов и Пращуров, приближаясь к ним чистотой своей души и тела, чтоб после ухода в Ирий вечно трудиться с ними на Лугах Сварожьих… А суть веры христианской, греческой, выходит, в уничтожении рода, потому как они отроков оскопляют, превращая в евнухов, младых мужей и жён юных замуровывают в монастырях, одевая в чёрное, лишая их семьи, продолжения рода, заботы друг о друге, детях своих и внуках, престарелых родителях. Там, куда они приходят, безжалостно вырубаются священные Боголесья и тысячелетние Дубы, низвергаются кумиры, разрушаются Святилища. И повсюду возводятся монастыри и храмы с крестами – символами Смерти. Им нет никакого дела до нынешнего явского мира, как будто и тело человеческое, и мир вокруг сотворили не боги светлые, а, как они рекут, дьяволы. И те, кто, по их мнению, творил грех, после смерти будут вечно гореть в геенне огненной, вариться в раскалённых котлах и заживо пожираться мерзкими червями, как сей нынешний схимник… – Святослава опять передёрнуло от омерзения. – Что ж за бог такой жестокий у византийцев, который требует от своих детей ради него гнить заживо на земле, обещая за то им Рай на небе? А как тогда спасать душу огнищанину, рыбаку, охотнику, воину? У него нет времени на затворничество, надо пахать, сеять, оборонять. Что ж ему, за спасение души платить пенязи чёрным бездельникам-монахам? Наши боги повелели каждому мужу трудиться за хлеб свой, и труд на своей земле есть великая радость, а у сих труд презираем есть, удел жалких рабов и оттого называется работой. Наши волхвы тоже молятся за народ свой, только не питаются жалким подаянием, не бдят денно и нощно в смердящих норах, а сами трудятся, и людей лечат, и советы добрые подают, и знания бесценные сбирают и хранят для потомков. А сии ради своего бога не щадят ни свой род, ни другие, – это страшная вера, несущая гибель».
Святослав вспомнил свои юношеские споры с матерью. Тогда он сердцем чуял, как вера сия противна его естеству, теперь же впервые в полной мере осознал разумом. Князь обернулся к спутникам и изрёк:
– Вера христианская уродство есть, противное Поконам Триглава нашего и Прави истинной.
– Княже, а коли сия вера на Русь придёт, что тогда? – с тревогой в голосе спросил молодой охоронец. – У нас ведь уже есть и христиане, и церкви…
– Никому не дано одолеть Род Всевышний, и Русь наша, оставаясь ему верна, тем самым Род человеческий спасёт, так волхвы великие и сами Боги рекли, – уверенно закончил князь и зашагал к своему коню, которого уже подвёл стременной. – А где, ты речёшь, сотник, то самое древнее капище, что твои дозорные обнаружили? – спросил князь, уже отъезжая с охоронцами и стременными от монастырских стен.
– Тоже тут в горах недалече, потому и монастырь здесь поставили. Дозорные тебе покажут. – И сотник повелел десятнику своих дозорных сопроводить князя к капищу.
Недолгий подъём по извилистой, но хоженой дороге-тропе к вершине горы, у которой лежал монастырь. Глянув на собравшееся уже заходить на ночлег светило, князь окликнул десятника:
– Успеем до захода?
– Так мы уже на месте, княже, – молвил тот.
Они объехали очередную скалу и узрели раскинувшуюся пред ними живописную картину долины. Монастырь, ведущие к нему дороги, оливковые деревья, зелёные кустарники, торчащие тут и там каменные проплешины среди зелёных лужаек и распадков, в мягких лучах заходящего солнца выглядели дивно. После тесноты, неприятных мыслей и ощущений от подземной кельи монастыря Святослав со спутниками вдохнули полной грудью и залюбовались открывшимися с высоты окрестностями.
– Вот оно, капище, – указал десятник.
Там, где он указал, у самой вершины горы, на почти ровной площадке располагались большие и малые камни. Часть из них стояла по кругу, будто суровые древние воины застыли в глубоком раздумье, а другие, как бы расставленные рукою небесного великана, образовывали некий замысловатый рисунок. На плоской каменной площадке меж камней уже заходящее солнце оттенило выбитые кем-то канавки и углубления. Один большой камень походил на ложе, а в другом, ещё большем, было выбито что-то вроде огромной стопы. Дозорные, спешившись, пошли по святилищу. Вдруг за одним из огромных камней мелькнула чья-то светлая стать. Опытные воины, не сговариваясь, быстро окружили человека и несколько удивились тому, что это женщина, но, судя по одежде, вовсе не монашка из находящегося внизу христианского женского монастыря. Дозорные стали сходиться, чтобы изловить незнакомку.
– Не смейте подходить ко мне! – крикнула женщина на болгарском, но с незнакомым русам выговором.
– А то что, перебьёшь нас? – рассмеялся один из дозорных.
– Нет, я убью себя, – всё тем же решительным голосом молвила незнакомка, быстрым движением поднеся к своей точёной шее изогнутый кинжал. – Это святилище бога Загрея, и тут никогда не проливалась даже капля крови, если вы тронете меня, я убью себя, и тогда свершатся великие беды!
– Стойте, – приказал князь, всегда уважавший смелых до отчаянности людей, и спешился. – Не трогайте её, – повторил он.
Воины, подчинившись, отошли от суровой незнакомки.
– Загрей, похоже на наше «заграй», заиграть, значит забродить, так это же наш Квасура, так, красавица? – спросил князь миролюбиво, неспешно приближаясь к стройной молодой женщине, ещё сжимавшей в длани своё оружие.
Славомир и молодой проворный охоронец по имени Соболь тенями шагнули вслед за князем, но он знаком остановил верных стражей. Пристальный взор девицы показался князю знакомым, хотя они никогда не встречались. И почти сразу он понял: так глядят не воины, не огнищане, ни тем паче купцы, а только кудесники. «Пройдясь» своим особым взглядом по лику и очам Святослава, молодая женщина спрятала кинжал и ответила почти спокойно:
– Загрей – наш древний бог виноделия, он научил моих далёких предков фракийцев делать напиток, в котором сливаются воедино небесная сила Отца-Солнца и Матери-Земли. Вот это ложе, – она указала на большой плоский камень, – есть символ их соития. И сила эта возрождает землю всякую весну и наделяет рождающей силой людей, поля, животных, растения, всё сущее. Оттого на этом капище правит сила рождения, но не смерти.
– Так отчего же ты едва не взрезала себе горло на столь священном месте? – спросил Святослав.
– Оттого что я последняя жрица моего древнего племени бессов и не могу допустить насильного соития с мужчиной, это всё равно что осквернить капище кровью человека или животного. Нас осталось мало на нашей земле, храмы и капища разрушены и засыпаны алчными пришельцами, а это сохранилось, потому что нет здесь ни злата, ни дорогих сосудов, только сама Мать-Земля в виде камней и Отец-Солнце в небе.
Между тем быстро стемнело, едва светило скрылось за забором гор. Святослав огляделся, ища очами в сгущающихся сумерках десятника и охоронцев.
– Я провожу тебя, князь русов, – упредила жрица. Одетая в белое, она одна выделялась средь темени светлым пятном.
– Хм, выходит, тебе ведомо, кто я, – не удивился Святослав. – А как тебя зовут?
– Предслава, – мягким, но сильным, как у всех волхвов, голосом, ответила молодая женщина.
– Почти как град наш или столица болгарская, – молвил стоявший сзади Славомир.
Князю ещё хотелось поговорить с необычной жрицей, но она уже пошла впереди, указывая воинам спуск со священной горы.
После отъезда Святослава военачальники живо разобрали оставшихся девушек – кто себе, кто сыну или брату, кто просто брал домой в помощницы по хозяйству, если умела прясть или вышивать. А не понравится – рабыню всегда продать можно.
Под охраной их отправили в неблизкий путь в неведомую варварскую Русь.
Когда Ярополку привезли невесту, все теремные приходили посмотреть на неё.
– Ополоумели, что ли, греки, такую лепоту в монастырях укрывать? – дивился молодой охоронец, выйдя на теремной двор. – Такие жёны должны детей рожать, хозяйство вести, мужам подругами быть. Молодец князь, что сыну её прислал!
– Что собой красна, то верно, – проворчал хромой дед Кныш, неизменный помощник в поварской, – только чужеземка она, иную кровь несёт, иные обычаи. И какой плод созреет от такого союза – неведомо. Волхвы и старейшины не одобряют сего.
– Вам, старикам, лишь бы поворчать, – белозубо рассмеялся охоронец, – а мы скоро всю Византию, как сих гречанок, возьмём и наведём в ней свои порядки!
Старый водонос покачал головой:
– Вино можно разбавлять лишь малой толикой воды, а чуть перельёшь – и оно перестаёт быть вином, теряет свою силу и крепость…
– К чему это ты? – насторожился охоронец.
– Да так, не бери в голову. Ой, лихо, мне ж дров принести надо! – поспешно закончил дед и заковылял прочь.
Владимир ходил сам не свой. Он осерчал на отца, когда услышал, что тот прислал Ярополку в Киев красную невесту. Сам княжич, несмотря на юный возраст, уже давно имел интерес к женщинам, тайно щипал поварих и лапал теремных девок.
Глава 6 Заговор
Княже, – вырвал Святослава из полудрёмы голос верного Славомира, – гонец прибыл из Одрина! Варда Склир разбил наше союзное войско, оно отступило с большими потерями, печенеги вовсе ушли, похоже, что греки их перекупили!
– Давай гонца немедля сюда, – воскликнул, вскакивая с походного ложа, вмиг помрачневший князь, – да кликни Ворона ко мне!
Вскоре в тесную светёлку каменного домишки в небольшом предгорном селении, подле которого расположились на ночлег полки русско-болгарского воинства, вошёл гонец.
– Кандыба? – с некоторым удивлением вскинул бровь князь. – Реки обо всём, что ведаешь, как так случилось, что Варда вас поколотил? Ладно Улеб, он больше в тереме привык сиживать, но Боскид с Инаром?!
– Боскид погиб, княже, – не поднимая очей на Святослава, глухо молвил бывший теремной охоронец. То ли от груза принесённой дурной вести, то ли от долгой скачки через горные и лесистые места, он был сам не свой. – И Инар тоже пал в битве, – выдавил он чуть погодя.
– Боскид с Инаром оба погибли, как так? – взвился князь от новой страшной вести.
– Их византийские богатыри в бою одолели, но я точно не ведаю. Воевода Улеб весть об их гибели велел передать…
– Так, – мрачно молвил Святослав, не переставая пристально глядеть на братова посланца. – Улеб-то сам как?
– Божьей помощью жив и не ранен даже. – Кандыба на миг запнулся под пристальным взглядом князя. – Варда вышел из крепости, мы на него навалились, он отходить начал. Печенеги преследовать бегущих кинулись, вот по ним-то и ударила из засады византийская конница, смяла, стала отсекать и в Коло брать. Боскид с Инаром кинулись на выручку, их там и убили.
– Не похоже сие на Боскида, чтоб он да не выведал перед боем, есть ли засада в округе, быть того не может! – рубанул воздух крепкой дланью князь. – Кто-кто, а уж он-то добре ведает про сию старую византийскую хитрость: притворно отойти, чтобы заманить в ловушку супротивника. Не похоже на Боскида, совсем не похоже, да и на Инара тоже… Славомир! – окликнул князь. – Где же начальник изведывателей?
– Княже, Ворона не нашли, Варяжко рёк, они с Невзором ушли вчера по важному делу, – доложил, входя в светлицу и ставя на стол подсвечник с тремя свечами, Славомир, искоса при этом взглянув на бывшего сотоварища. Святослав почувствовал, что охоронец не хочет говорить при Кандыбе, и отпустил посланца. – Ворон к утру обещал вернуться с важными новостями, – продолжил Славомир, когда Пётр ушёл. – Просил тебя, княже, эту ночь никуда не выдвигаться и усилить охрану.
Святослав помрачнел ещё более.
– Передай моё повеление военачальникам, пусть усилят дозоры. Остальным спать. Как рекут исстари, утро вечера мудренее.
Уже под утро через сени в светлицу, где крепко уснул князь, недавно вернувшийся после самоличного обхода дозоров, неслышной серой тенью проскользнул босой человек. Он замер лишь на мгновение у ложа и плавным движением извлёк кинжал. Взмах вооружённой руки, и… что-то большое сзади ударило ему в подколенные сгибы, свалив на пол. Падая, человек успел, не глядя, полоснуть кинжалом раз и другой, стараясь достать того, кто его обрушил. Два тела сплелись в короткой яростной схватке, рыча, как хищные звери. От шума князь мгновенно проснулся и вскочил, сжав в руке засапожный нож. Почти следом за этим в светёлку влетел молодой охоронец Соболь со своим обнажённым скрамасаксом.
– Княже, жив! – воскликнул он, увидев Святослава стоящим с ножом в руках, и тут же кинулся к сплетённым в схватке телам.
В сереющем свете князь с охоронцем разняли противников, но оба тела уже были обмякшими. По одному – высокому и сильному – пробегали волны предсмертной судороги, и оно затихало навеки, испуская едва слышный хрип. Соболь приподнял за плечи второго и прислонил его спиной к ложу князя.
– Славомир, ты как?! Погоди, брат, сейчас огня, я быстро… – Он вскочил, поскользнувшись в луже крови, но устоял на ногах и, выбежав, вернулся с греческой плошкой, защищая её рукой от струи воздуха при быстром движении, и зажёг трёхпалый подсвечник на столе. – Что у тебя, брат, где раны? Я перевяжу… – Голос молодого охоронца, для которого Славомир был вроде отца-наставника, дрожал.
Князь тоже присел подле верного охоронца.
– Ничего… не надо… – с трудом вымолвил Славомир, и подобие улыбки осветило его окровавленный лик. – Ты жив, княже… – Он снова попытался собраться с силами, что-то прохрипел, но слов уже нельзя было разобрать.
Внизу у входа в жилище застучали копыта, кто-то открыл скрипучую тяжёлую дверь и бесшумно взлетел по каменным ступеням. Ещё через несколько мгновений в светлицу влетел запыхавшийся Ворон. Князь с молодым охоронцем стояли на коленях перед своим собратом. Из очей Соболя горючими каплями стекали чистые слёзы, смешиваясь с кровью на полу и одежде умирающего, с уст которого смерть-Мара ещё не успела стереть счастливую улыбку.
– Сколько помню себя, Славомир был подле, – горько молвил Святослав, ни к кому не обращаясь. – Меня малого берёг, потом мать, а после её смерти снова меня…
– Всё-таки опоздал! – с отчаянием молвил главный изведыватель и бессильно опустился у притолоки двери прямо на скоблёный пол. Уже сидя, он заговорил своим обычным негромким голосом: – Мы выследили византийского изведывателя именем Харлампий и вчера с Невзором тихо взяли его. Вот он-то после допроса доброго сообщил, что заговор супротив тебя, княже, учинён и что убить тебя должен охоронец Кандыба, крещённый в Царьграде Петром. Вот я и полетел, да…
– Заговор? – спросил ставшим вдруг холодным, как горная вода, голосом князь.
– Да, Улеб мир должен был заключить с Вардой Склиром, с ним в сговоре христиане – русы и болгары. Сей Харлампий всё и устроил…
– Значит, Боскид с Инаром… – обронил Святослав.
– Их-то вперворядь и убили, заманив в ловушку, а после сказку сочинили для остальных, мол, богатыри византийские их одолели. Когда конь пал, и Боскида конем придавило, воины, что были вокруг, защищать его не стали, а просто покинули, про то узнали, когда одного из них допытать удалось. А Инара подлым ударом сзади в голову поразили. Ушли наши темники с поля сечи прямо в войско Перуново, где остальные наши их уже дожидаются…
– И Славомир наш тоже… прямо из схватки в Ирий… – с дрожью в голосе тихо молвил Соболь.
Святослав сжал в ладонях голову и сидел так некоторое время.
Разом пришло к князю разумение, отчего вокруг Улеба, как докладывала много раз Тайная стража, вьются византийские изведыватели в рясах. Отчего ропщут его темники и тысяцкие на воинов-христиан, коих нынче немало в дружине. Вспомнились слова, сказанные Калокиром: «При дворе императора нет родственных уз, напротив, родственники – первые враги, потому что в любой миг могут отобрать власть. Сын стремится устранить отца, брат брата, жена мужа, невестка свёкра». Тогда Святослав горячо возмущался такому, а ныне понял: по-иному не могут поступать те, кто против Рода.
Он всё сидел, обхватив голову руками, словно боясь, что она разлетится на куски от горьких и отчаянных мыслей. Ему вдруг вспомнилось, что всё это уже было. Вот так же он сидел у тела верного побратима Горицвета, попавшего вместо него во вражескую засаду. Снова предательство, как тогда, и снова праведная ярь медленно, но неодолимо наполняет тело, мысли и сердце. На сей раз перед ним поверженное тело охоронца Славомира, а там, под Адрианополем, бездыханные тела испытанных в бесчисленных сражениях соратников Боскида и Инара.
– Изловить и казнить всех изменников, и прежде всего Улеба… – глухо изрёк князь чужим голосом, будто из подземелья.
Соболь повернул бездыханный труп Петра и, ухватив за ворот, потащил тело предателя прочь. Голова трупа при этом была сильно склонена набок. – Ага, своротил-таки тебе шею Славомир, ни нож не помог, ни сила подлая! – с омерзением бросил охоронец мёртвому телу, а потом добавил: – Потому что сила Прави важнее силы клинка. – На очах Соболя опять блеснули слёзы.
– И вот что ещё, брат Ворон, отправь в Киев гонцов с моим строгим наказом: разрушить христианские церкви, а попинов казнить, чтоб изничтожить гнездо их в сердце Руси, пока не разлетелись черноризные осы по прочим градам да огнищанским селениям! – рыкнул Святослав, вставая, и очи его заблестели чудным блеском.
Оглядев всех, кто был подле, князь на миг остановил горящий взор на бездыханном теле старого охоронца. Всем, кто был в это время в светлице, почудилось, будто князь враз стал выше ростом.
– Славомира, Инара и Боскида, как подобает достойным сынам Перуна, сопроводить в Ирий с почестями самыми высокими. А тризну по братьям павшим справим мечами нашими! – не столько проговорил словом, сколько разорвал душевной силою тишину князь русов. – Пусть тризну сию запомнят на многие столетия коварные греки! – Все, кто были подле, узрели печать Перунову на челе княжеском. Они исподволь проникались ею и несли далее, как вода разносит волны, как кроны деревьев, подчиняясь ветру, делают зримой и слышимой его могучую силу.
И задрожала земля византийская от грозной поступи Святославовых ратей и конных дружин, как некогда случилось то с землёй Переволоцкой, когда пал от предателей молодой Горицвет. Не видала такого прежде Визанщина и страху подобного ранее никогда не испытывала. Шли молчаливые полки и тьмы, и страх катился впереди них – страх приближающейся неодолимой и грозной силы. И лепше других чуяли ту силу опытные вои, что могут определить мощь супротивника, даже не видя его, а только по его приближению. В панике бежали прежде смиренные и уповающие на своего Бога монахи и попины, потому как тоже чуяли, что не в силах их Бог что-либо свершить против сей страшной и непонятной силы, называемой россами странным словом «Правая Мста». Полыхали до небес церкви и монашеские обители, а каменные строения разрушались могучими воинами, как осиные гнездовья смерти, коварства и лжи. И не мог сморить воинов, пребывающих в священной яри, ни сон, ни голод, ни усталость. Их боевые клинки и копья с невероятной силой и быстротой разили ошеломлённых врагов и не ведали пощады и жалости. В панике пытались спастись бегством защитники крепостей и градов, а когда это было невозможно, то бросались на копья и мечи суровых северных варваров, чтобы скорее прекратить охвативший их ужас.
И в град Киев летели быстрые гонцы, неся горькую весть о том, как сплели заговор христиане в войске Святославовом, как во главе того чёрного заговора стоял двоюродный брат князя Улеб. И что казнены христиане за измену лютую, и Улеба князь не помиловал. А в Киеве повелевает князь разрушить гнездо христианское. С того приказа и пошло уничтожение церквей и попинов. Деревянную церковь сожгли, а каменную разрушили. Мало кому из черноризцев удалось избежать суровой кары. Только отец Алексис успел ускользнуть, как вьюн из рук рыбака. Затаились в страхе тайные христиане, большей частью из варягов и прочих купцов, и молили своего христианского Бога, чтоб подольше пребывал Святослав в далёкой Болгарии и не помышлял о возвращении в Киев.
Варду Склира вместе с братом его патрикием Константином волна паники и страха накрыла в Адрианополе, из которого он никак не решался выйти навстречу грозному покорителю Хазарии, Булгарии и Мисии.
Наконец, когда войска Северного Варвара стали уже под стенами, превозмогая непонятный страх, которого ранее никогда не испытывал, изо всех сил стараясь выглядеть, как всегда, властным и решительным, выстроил своих непобедимых ранее воинов Склир.
Призывно запели трубы, русские полки с победным кличем набросились на греков. Напор был яростный и стремительный, как удар Зевесовой молнии. Византийцы тоже выдвинули боевые порядки, но не было в их ударах той силы и лихости, того неукротимого огня в очах, какой пылал в зрачках Святославовых воинов. Русские полки протекали то тут, то там, как вода сквозь пальцы, били и расчленяли греческие полки, ровно умелый мясник говяжью тушу. Дрогнули неуязвимые прежде легионы, стали отступать, а там и побежали к себе назад, к Константинополю. Страх, который несли с собой поверженные воины ещё недавно доблестного полководца Варды Склира, вместе с ними ужасным невидимым змием вполз в столицу Империи.
– Можно сражаться с дикими зверями, арабами, с кем угодно, но невозможно скрестить клинок с самим дьяволом и победить! – осторожно оглядываясь по сторонам, вполголоса рассказывал обступившим его воинам Армянской тагмы один из уцелевших старых лохитов. – Я сам видел в бою их архонта, он и его воины, словно заколдованные исчадья ада, прорубались сквозь плотный строй наших конных катафрактов, словно это были ополченцы из дальней Фемы, а не лучшие воины Империи!
– Говорят, – вторил рассказчику другой воин, – что катархонт северных варваров – это воскресший непобедимый Ахилл, пришедший с Киммерийского Боспора, его невозможно убить, он бессмертен!
То тут, то там возникали подобные разговоры, и уже некому было пресекать их, потому что страх овладел всеми. Даже опытные военачальники теперь не верили, что разъярённых россов могут остановить каменные стены Константинополиса, что уже не раз было в истории сего града. Страх переходил в ужас по мере приближения северных скифов к столице. Митрополит Милитинский Иоанн, оказавшийся в Константинополе по случаю похорон патриарха Полиевкта, устав обращаться к Всевышнему и, наверное, потеряв веру в действенность его защиты, пришёл к гробнице императора Никифора Фоки и, рухнув на колени, принялся молить покойного восстать и защитить обречённый град. В приливе охватившего его нервного возбуждения он извлёк свой тайный кинжал и принялся выцарапывать на полированном боку мраморного гроба покойного императора и полководца свою яростную мольбу о помощи. «Россы своим оружием вот-вот возьмут Константинополь. Восстань, сбрось камень, который покрывает тебя, построй боевые фаланги и спаси свой народ от скифов. Если же не сделаешь этого, то прими нас всех в гробницу свою!»
– Великий император! – склонился перед Цимисхесом Барда Склир. – Россы не останавливаются даже на ночлег, только были в Адрианополе, сегодня уже в Аркадиополе, а через два-три дня могут оказаться под стенами Константинополиса! Надо срочно вызывать подмогу из Азии!
– Подмогу? – зло скривился Иоанн. – От кого? От братца покойного Фоки – Льва и его племянника, захвативших власть в Каппадокии и объявивших Варду Фоку новым императором? Барда не пришлёт нам свою армию, напротив, надо идти и наказать самозванца, иначе Империя развалится!
– Что же делать? Нам нужна передышка, любой ценой… даже очень дорогой. Чтобы сражаться с таким противником, нужен большой перевес сил, а у нас его просто нет!
– Значит, придётся платить… – не глядя на Склира, мрачно проговорил Цимисхес. – И посольство надо послать к северному скифу немедленно, пока он не дошёл до Константинополиса. Пусть выяснят ещё раз, чего он хочет. Тогда и решим, во что нам выльется передышка.
Войско Святослава встретилось с греческим посольством на пути из Аркадиополя. Хмуро выслушал князь пышно разодетых, но порядком испуганных византийцев. Силы русов были почти исчерпаны за последнюю седмицу непрерывных боёв и походов. Всё больше трений возникало с уграми.
– Я уже ранее рёк мои условия и, как купец на торжище, менять их не собираюсь. Мне нужна дань за два года, которую по договору с нашими князьями Империя обязалась ежегодно платить Руси. А кроме того, пусть Цимисхес заплатит награду, обещанную Никифором Фокой.
Послы загомонили меж собою. Потом отправились в свой град, а на следующий день возвратились и скрепя сердце передали согласие Цимисхеса отдать требуемое.
После этого Святослав собрал темников.
– Примем пока мир, потому как сил сейчас мало, – решил князь. – Недостанет нам их, чтоб надолго осадить Константинополь, а с ходу его не возьмёшь.
– Верно, княже, – поддержали изнурённые беспрерывными сражениями военачальники, – так же было с отцом твоим. Греки упросили его не рушить Константинополь, а взять дань, и Игорь поступил мудро – выиграл сражение, не начиная его.
Узнав, что Святослав намерен, получив дань и выкуп с византийцев, заключить с ними мир и уйти, мадьяры вовсе всполошились.
– Как же так, князь, – возмущённо подскочил к Святославу кенде Чобо, – мои воины погибали в сраженьях, как и твои, но ты берёшь дань и выкуп на своих погибших, а мы что же, уйдём, ничего не получив?
– Вы даже Одрина-Адрианополя не смогли взять, да ещё и допустили, что печенеги бросили наши тьмы! – резко возразил Святослав. – Добыча, которую вы награбили по пути, – ваша по праву, но того, что полагается моим воинам, я вам отдать не могу.
– Ты обещал нам золото и несметные сокровища после взятия града Константина, один храм Софии стоит многих богатых градов!
– Так подите и возьмите сей Царьград, коли столь прытки! – взъярился в ответ русский князь.
Кенде Чобо, в сердцах стеганув плетью вороного койсожского коня, вместе с охоронцами ускакал к своим тьмам. Вскоре они сняли шатры и ушли, злобно понукая взятых в сём походе рабов, в основном греческих монахов, купцов и женщин. По пути они ещё пограбили те византийские и болгарские города, которые не были защищены крепостями и не имели вооружённых гарнизонов. Через два дня после того снялось и усталое воинство Святослава, получив сполна дань за два лета и откуп на каждого павшего воина, что полагалось по Русской Правде родичам погибшего. Цимисхий через посланников уверил Святослава, что отныне они друзья, что Византия не будет помышлять против россов и даже позволит им оставаться в Болгарии, только просит их, как друзей, не совершать набегов на византийские полисы и убедить не делать этого ужасных мадьяр и пачинакитов. Святослав обещал исполнить просьбу.
Едва скрылись из глаз русские полки, облегчённо вздохнул град Константина, обрадованный тем, что избежал нападения ужасных скифов, и благодарил за то своего мудрого императора. Сам же Иоанн Цимисхес велел Варде Склиру немедля отправляться в Каппадокию на подавление восстания Варды Фоки.
В это же время в Константинополе был избран новый патриарх – монах Василий.
Глава 7 Святилище бога Загрея
Угрюм и невесел был князь Святослав, возвращаясь после похода на град Константина. Недоволен он был сим походом, хоть получил со спесивого Цимисхеса дань за два года, которую тот ещё недавно даже и обсуждать не хотел, не то чтобы платить. Слабо утешала лишь мысль, что пройдёт лето-другое, он соберёт силы и доведёт задуманное до конца. Одолеет изворотливого Цимисхеса и посадит на византийский престол своего названого брата Калокира. Тогда не станет течь из коварного Царьграда на Русь вражья отрава, которая незримо отсекает в душе нити-связи с самыми дорогими людьми – сыновьями, матерями, братьями, воинскими побратимами, со смертью которых всё большая тяжесть ложится на его плечи, порой кажется, что невмочь более нести то бремя. Снова и снова вставали перед очами мужественные и умелые вои – Инар, Боскид, верный Славомир… Помнились очи Улеба и изменников, коих недавно казнили. Совсем как когда-то Олешу и Журавина. Горше нет участи, чем за предательство лишать жизни своих…
– Княже, – негромко молвил ехавший рядом Соболь, – кажется, мимо того монастыря проезжаем, где древнее капище. Там ещё странная жрица была, что едва себя не порешила…
– Предслава, – ответил князь и вдруг, не говоря больше ни слова, повернул коня к дороге, ведущей в гору. Охоронцы и стременные последовали за ним.
Жрица встретила их шагов за сто перед капищем. На сей раз она была спокойна, как будто ждала гостей. В белом льняном одеянии с тонким узорным шитьём, с перевязью под грудью, с витым очельем на русых волосах и небольшой сумой в руке. Святослав сделал знак всем остановиться. Соскочив с седла, не глядя, привычно бросил повод стременному, который поймал его на лету. Святослав подошёл к Предславе. Он многое хотел поведать ей, но, когда меж ними осталось не более шага, вдруг ощутил, что ничего говорить не надобно: Предслава, как истинная жрица, не слова чует, а сердце и душу.
– Рада видеть тебя в священную ночь Загрея, князь, – молвила она негромким грудным голосом. – Пойдём!
– Возвращайтесь, – повелел князь охоронцам и стременным.
– Но, княже… – забеспокоился охоронец.
– Я под божеской защитой! – решительно молвил Святослав. – Ступайте!
– Спускаемся ближе к подножию, – негромко распорядился Соболь, заменивший в княжеской охране верного Славомира, – сюда только одна тропа ведёт, внизу есть площадка, там и станем дозором, мимо никто не проскочит.
А князь пошёл с Предславой к капищу. Святилище как бы растворялось в быстро густеющих сумерках, теряя границы в наступающей темноте. Жрица, взяв Святослава за руку, ввела его через некое подобие каменных врат почти на середину площадки. Трижды обходя посолонь, а потом противосолонь вокруг недвижно стоящего воина, она произносила какие-то слова-заклинания на неизвестном наречии. Затем жрица подошла совсем близко, протянув перед собой раскрытые длани, и Святослав почувствовал вокруг себя некое невидимое упругое пространство, очерченное её руками. Раз, другой, она как бы пробовала преодолеть это пространство, но оно не поддавалось.
– У тебя сильная защита, – молвила она, – сердце в броне хранит тебя от Смерти, но и от Любви… – И жрица свела ладони над головой князя.
Святослав невольно поднял очи вверх и с изумлением узрел над собой и вокруг ярчайшую звёздную россыпь. Здесь, на вершине горы, звёзды были повсюду, яркие и сверкающие, как огромные чистые адаманты. От неведомого ощущения огромности звёздного мира у Святослава слегка закружилась голова, и ему пришлось шире расставить ноги. А жрица меж тем громко с напряжением произнесла какие-то непонятные три слова и, сведя пальцы гибких рук, как бы пронзила упругий кокон над его головой, а потом с видимым напряжением «разорвала» его, будто развела в стороны створки раковины или половинки скорлупы грецкого ореха. И князь ощутил в сей миг, что небо «потекло» в него, растекаясь внутри бесконечным звёздным океаном. В сознании всё кружилось и вертелось, как от доброй чары вина, Святослав с великим трудом удерживался на негнущихся ногах, а вокруг царило беспредельное чёрно-звёздное живое Небо. Откуда-то издалека, или изнутри, или отовсюду он продолжал слышать незнакомые, и в то же время понятные слова, произносимые мягким грудным голосом, идущим, казалось, от бесконечной вселенной, в которой всё едино. Прямо перед собой он узрел две звезды, и не сразу понял, что это глядят на него дивно сверкающие очи жрицы.
– Теперь ты открыт Отцу-Небу и Матери-Земле, и мы можем в светлый праздник их единения вознести им хвалу и жертву, возьми! – Она протянула князю два изумительной красоты золотых сосуда с высокими горловинами. На одном переплетались, будто живые, виноградные гроздья, оливковые ветви, хмель и другие растения и плоды, а сосуд с вином имел вид сосновой шишки и даже, как показалось Святославу, источал тонкий аромат хвои. Он удивлённо принюхался.
– Мы издревле добавляем в вино сосновую смолу, чтобы оно не скисало и долго сохраняло свои целебные свойства, – пояснила на ходу Предслава.
– Я слышал, так делают греки.
– Виноделию, божественным гимнам Орфея, празднованию Диониса-Загрея греки научились у наших далёких предков, когда пришли на эти земли, только они не разумели глубинной сути сих таинств. Потом приняли нового бога, а наши храмы разрушили, – печально заметила дева.
Следуя за жрицей, которая тоже несла два таких же дивных старинных сосуда, Святослав прошёл к огромному камню с выбитой на нём стопой Бога. Предслава снова заговорила торжественно и мелодично на незнакомом языке, но он понял смысл высоких слов благодарности и почтения, обращённых к небесному владыке. Потом они изливали в четыре каменные чаши, выбитые в жертвенном камне, содержимое сосудов, – это было молоко, вино, вода и оливковое масло. Струйки потекли по каменным желобкам в одно большое жертвенное углубление-чашу перед Великим камнем, смешиваясь в единый жертвенный напиток. Жрица снова говорила на малопонятном языке, а потом для Святослава повторила последние слова на болгарском: – Прими, Отец Загрей, чистую жертву от сердца и трудов наших в благодарность за дар великий Любви, посредством которой ты оплодотворяешь Землю своим небесным семенем! Слава тебе!
Затем они повторили жертвоприношение у камня Матери-Земли, восславив её за рождение всего сущего, и смотрели, как жидкости вытекали из каменных чаш, стремясь вниз по каменным желобкам, и, смешиваясь воедино, наполняли углубление перед камнем, на котором была высечена божественная стопа Матери.
Жрица извлекла серебряную чару и излила туда из каждого сосуда, смешав жертвенные подношения, как дважды перед этим. Запахи оливкового масла, молока и вина, отдающего сосной, витали над капищем. Когда же, по примеру жрицы, князь поднёс сосуд к своему лику и полной грудью несколько раз вдохнул необычный аромат, то почувствовал удивительную лёгкость в теле и мыслях. Они по очереди пригубили из чары, сотворяя хвалу и благодарность Отцу-Небу и Земле-Матери. Жертвенное питьё растеклось по уже охмелевшему от созерцания небесной бесконечности сознанию и телу князя, и Святослав уже не мог точно сказать, где грань между явью и волшебством. Они снова оказались в середине древнего капища. Сняв очелье, жрица закружилась вокруг князя, то приближаясь, то удаляясь. Длинные русые волосы жрицы при этом иногда на мгновения скрывали её чудный лик. При вращении схваченное перевязью под грудью льняное одеяние, состоявшее из двух половин, разлеталось в стороны, и в свете луны мелькали очертания точёных ног и округлых бёдер жрицы.
– Оставь земные заботы, – мягко прозвучали где-то её слова, – ты устал от них. У тебя давно не было женщины, желанной женщины. Давно не было Любви и Свободы. Здесь, в Звёздном храме, в священную ночь ты можешь обрести всё! – Она танцевала и пела среди звёзд и древних камней, освещаемая луной, и кроме этого волшебного сияния и дивных движений совершенного тела ничего не осталось в мире – ни крови, ни смертей, ни потерь, ни печалей, ни далёких и близких забот, ни самого времени. – Не может человек своим разумом охватить весь мир Божеский и познать все его таинства, – заговорила вновь жрица, не останавливая кружения по-змеиному гибкого тела в пространстве адамантовых звёзд и священных менгиров, которые словно парили вместе с ней, а её словами, казалось, говорила Вселенная. – Потому боги даровали нам Любовь, через которую мы постигаем таинство мироздания в священный миг соития. Нет ничего сильнее силы рождающей, в которой мы растворяемся всем телом, разумом и духом своим, и в том сладостном забытьи получаем знания о Бесконечном, передавая их нашим детям! Как сила Отца нашего Солнца, сливаясь с Матерью-Землёй, рождает янтарную гроздь винограда, а та в соитии с трудом людским, очистившись в любовном брожении, рождает вино истины, так и ты, Святослав, должен растворить разум свой, исторгнув тяжесть потерь, и обрести ясность духа через Любовь. Смерть разрушает, Любовь созидает, а мы – дети Любви и должны передать её живой чистый огонь своим детям, только так может продолжаться жизнь! Только так мы остаёмся бессмертными!
С каждым движением белой жрицы с распущенными волосами, с каждым её словом словно становились меньше и незначительней земные беды и горести и всё шире и необъятнее звёздный мир. Время перетекало в Вечность, где нет различия меж столетием и мгновением.
– Сними одежду, будь свободным сыном богов! – услышал Святослав и узрел, как Предслава, разоблачась, закружилась лунной богиней, загадочной и манящей.
Князь одним духом разулся и сбросил одежду, чувствуя, как внутри всё нарастает безудержное пьянящее чувство вольной радости. Он не заметил, как Предслава вовлекла его в танец, вокруг хороводили бесчисленные звёзды, и они кружились среди них, купаясь в лунном свете сильными и красивыми телами, возгораясь внутренним огнём желания. Подчинившись велению первородной силы, задыхаясь от переполняющей его страсти, Святослав подхватил на руки небесную жрицу и не то пошёл, не ощущая ног, не то полетел по каменной площадке, пока не опустил драгоценную ношу на каменное Брачное ложе. Она была подобна богине, с сияющими очами, с упругими трепещущими персями, с влажным зовущим лоном. Святослав покрыл благодарными поцелуями всё волшебное тело жрицы, а она ласкала его, пока наконец они не слились полностью, без остатка с Небом, Землёй и друг другом, забыв обо всём на краткие мгновения Вечности…
Когда они вернулись в свои разомлевшие от соития тела, жрица встала и разожгла в каменном углублении огонь. Сухие корявые сучья заполыхали оранжево-красноватым пламенем.
Жрица стала на колени перед костерком и заговорила со священным пламенем. И снова Святослав подивился, что язык ему вроде бы незнаком, но что-то очень родное в мелодии и звучании, а самое удивительное, что он понимает суть сказанного, хотя почти не знает слов.
– На каком языке ты говоришь? – спросил он, присаживаясь напротив неё на тёплую от огня каменную плиту.
– Это древний язык нашего племени бессов, но он похож на все другие фракийские языки: мизов, гетов, даков, одринов…
– Ты сказала одринов? – вдруг взволновался Святослав. – Мой дед князь Рарог, он был из племени бодричей, и по легенде его род пришёл с Дуная. На новом месте они даже реку назвали Одрой. Значит, твой язык – это язык и моего народа. Вот почему я, не ведая слов, разумею твои древние речи!
– Рарог на нашем языке означает Сокол, – ответила Предслава, – а на твоём?
– То же самое! – радостно подтвердил муж.
– Значит, ты внук Сокола, а внуки всегда более похожи на пращуров, чем дети на родителей. Теперь я понимаю, какой он был. И чуб на твоей голове такой же, как у моих предков. Ты по праву вернулся сюда через много-много лет.
– Дякую, что вернула мне силу и знание корней Рода, – молвил Святослав, беря Предславу за руку. – Теперь ты моя жена и должна поехать со мной! – твёрдо сказал он, целуя пальцы ночной богини.
Жрица долгим пытливым взором посмотрела на князя.
– Если ты этого действительно хочешь, – наконец обронила она.
– Хочу, – кратко ответствовал князь.
– Давай принесём благодарственную жертву Загрею за сегодняшнюю ночь…
Они оделись, и Предслава принесла священные жертвенные сосуды. Привычно смешав жидкости в чаре, она протянула её Святославу, потом отпила сама, а остатки плеснула в огонь со словами: «Прими, великий Загрей, жертву чистых сердец во славу твоего имени! Пусть вызревают и наливаются плоды в садах, виноград на лозах, травы в лугах, деревья в лесах! Пусть по воле твоей плодится и размножается всё сущее на земле! Дай знать, угоден ли силам Земли и Неба союз Предславы и Святослава…» Жрица замерла, пристально глядя в огонь. Налетевший предутренний ветерок беспорядочно разметал пламя и выдул из кострища лёгкие хлопья горячего пепла. Одно из них попало на лик Святослава и слегка обожгло щеку.
Предслава помрачнела, но ничего не сказала. Собрав сосуды, она отнесла их в укромное место и хорошо спрятала.
Потом, вернувшись, молвила:
– Скоро рассвет, мы встретим восхождение Сабазия, а потом я поеду с тобой…
Лишь к концу лета пришли добрые вести про то, что дошёл князь Святослав до самого Царьграда, и запросили спесивые визанцы мира и милости его, и заплатили дань положенную, лишь бы не брал он их столицы. Весть о том, что возвращаются с победой русские и болгарские воины, расцветила всю Болгарию в весёлые и сочные соцветья роз и прочих цветов, охапками и гирляндами которых встречали радостные жители своих славных воинов. Потянулись купцы из ближних и дальних земель, начался снова добрый торг, многоречивый и многоцветный, пошли по синему Дунаю не воинские суда, а торговые. Уцелевшие в жестоких битвах воины, чьи руки истосковались по мирному труду, с великой радостью и охотой, отложив в сторону боевые клинки, брали в крепкие длани мирные косы, серпы да топоры, ладили домы и хозяйственные закрома, косили и молотили, и не было для них в то лето работы радостнее и приятнее.
Живена вся сияла от великого счастья, что миновала година лихая и удалось удержать дома единственного сына, ведь он-то теперь ведал, чей он брат молочный, и не раз порывался уйти в сечу, чтоб плеч-о-плеч с князем нести долю воинскую, едва удержали его все вместе. Сколько сил и мольб материнских на то ушло. Зато теперь тихо, и истово всякий раз благодарила Живена богов, а особенно женскую богиню Мать-Макошь за то, что помогла сохранить последнего сына, опору и надежду рода Лемешей.
Глава 8 Невзор Лета 6479 (971)
К тебе, воевода, снова тот купец греческий пожаловал, – доложил пожилой охоронец Свенельду.
– Коль пожаловал, зови, всё одно от нудной дворцовой жизни в сей Великой Преславе скоро волком взвоешь, а он всегда чего-то занятного привезёт, да и не дорого берёт по сравнению с торжищем, – махнул рукой воевода.
– А вот ещё, архистратигос, замечательный клинок работы арабских мастеров, – рассыпался в услужливой любезности крепкий византийский купец среднего роста с проседью в волосах и бороде, у которого Свенельд приобрёл уже несколько добрых товаров, и они раззнакомились на Торжище. Купец довольно хорошо говорил на русском. – Бери, хорошую скидку дам, потому что скоро праздник и я тороплюсь домой…
– Воевода, – снова появился подле Свенельда его охоронец и, наклонившись к уху, что-то тихо молвил.
– Хм, помощник Ворона зазря не приедет, – тихо ответил воевода и, повернувшись к византийцу, с сожалением вздохнул: – Дела, брат, в следующий раз свой товар покажешь. Проводи-ка гостя, – кивнул охоронцу.
– В следующий раз такой скидки не будет, воевода, – хитро подмигнул купец, и они с помощником покинули терем.
Когда проходили через открытую восточную беседку, увитую лозой, купец встретился взглядом с молодым худощавым воином в короткой кольчуге. Незнакомец пристально глянул на купца, и тому невольно стало не по себе. «Взгляд в самую душу, как у чародея, хотя молод совсем», – отметил про себя Каридис, соображая, что это, наверное, и есть помощник самого Ворона. Кто такой Ворон, «купец» знал. Он не знал только, что совсем скоро опять свидится с этим юнцом, и встреча та будет весьма неожиданной.
– Воевода, – обратился Невзор к Свенельду, войдя в его светлицу, – Ворон повелел передать, что в последнее время много лазутчиков визанских в наших краях обретается, то знак плохой, потому просил глядеть в оба. Коли же изловить удастся лазутчика, так не казнить, а нам в изведывательскую службу немедля передавать целым и невредимым.
– Добре, – сдержанно кивнул воевода, – одного подозрительного болгары недавно поймали, в темнице сидит.
– Мне бы переговорить с ним, воевода, поспособствуй, а? А ещё двоих людей надёжных дай. Потому как Ворон велел на ту сторону перебраться, – Невзор кивнул в направлении Балкан, – да обстановку выведать. Лепше всего под личиной купцов.
– А с чего это я тебе людей давать должен? Что у меня их, как грибов после дождя вырастает? Тут каждый человек на счету и к делу своему приставлен, – вспылил воевода, недовольный распоряжениями юного изведывателя.
Невзор поглядел на Свенельда цепким, пристальным взором. Потом полез рукой за пазуху и извлёк круглый костяной знак, висевший у него на шнурке.
– Его именем всяк должен оказывать помощь. Не мне, а общему делу нашему…
Увидев знак Святослава, Свенельд смешался и делано закашлялся.
– Ладно, дам двоих, – примирительно молвил он.
– А скажи, что за грек мне по пути встретился? – осведомился молодой изведыватель, пряча драгоценную костяную пластину.
– Да купец греческий, товар свой предлагал, я-то по Торжищу не очень хаживаю, так они сюда повадились, а чем он тебе не понравился?
– Пока не ведаю, но что не понравились мы друг другу – это точно, – задумчиво молвил Невзор. Он не стал говорить воеводе, что почуял в угодливом торговце некую вовсе не купеческую жилку. – Добре, воевода, говори, где сыскать твоих людей, мне их ещё подготовить надобно.
Пасхальные дни выдались, как чаще всего бывало, погожими. Солнце, радуясь вместе с людьми, щедро сияло на Константинополь и несло настоящее тепло, а с ним свет и надежду на лучшее.
– Может, отложить выход войск, дабы не осквернять праздник Христов кровопролитием? – с некоторым сомнением вопрошал новый патриарх императора, когда тот пришёл за благословением на победный поход против скифов.
– Богу нашему и церкви мы воздадим сторицей щедрыми подношениями, а главное, нашими победами над язычниками, сейчас нельзя упустить момент, – твёрдо ответил Цимисхес. – Мои трапезиты и синодики доносят, что даже стражи на горных перевалах у мисян в приближающиеся дни Пасхи почти нет, мы можем пройти совершенно свободно и неожиданно обрушиться всей мощью на врага! Нет, преподобный, с таким врагом, как этот северный дьявол, нужно использовать все средства и бить только наверняка!
– Хорошо, сын мой, я благословляю тебя на этот поход, пусть Бог наш единый Иисус Христос дарует нам победу скорую и тем приблизит приход истинной веры в страну непокорных северных варваров! – торжественно проговорил патриарх, осеняя императора большим золотым крестом со множеством драгоценных камней и жемчужин. Крест и перстни на руках святейшего сверкали и переливались всеми цветами радуги под лучами щедрого весеннего солнца, заливавшего храм Святой Софии. Цимисхес пал на колени перед алтарём главного храма империи и принялся истово молиться. Столь истово, как сегодня, он не молился даже в тот день, когда собрался убить своего двоюродного брата Никифора Фоку и занять его престол. Да, на его стороне превосходство в численности пеших и конных воинов, железные катафракты, личная гвардия «Бессмертных». Флот под водительством опытного морехода друнгария Льва, имея около трёхсот огнемётных триер, уже подходит к устью Дуная, чтобы, поднявшись по реке, закрыть любую связь Сффентослафа с Киевом, Пантикапеем и другими полисами, откуда могла прийти помощь. Уже с прошлого лета воины постоянно оттачивают своё мастерство в конном и пешем строю под началом самых способных военачальников. На его, Цимисхеса, стороне полная неожиданность нападения для северных варваров, которые по наивности своей, сравнимой с детской, верят данному слову и подписанным договорам. Всё так, всё на его стороне. Но император помнил, что перед ним не арабы и даже не свирепые упрямые германцы, а те самые дьяволы севера, которые прошлым летом разбили того же Петра и заставили бежать в страхе самого Варду Склира! А какой ужас поселили они в жителях Константинополиса, ещё даже не осадив город?! Нет, имея дело с этими исчадьями языческой преисподней, даже при полном преимуществе, нельзя твёрдо говорить о быстрой победе. И император молился ещё истовее, чтобы заглушить тот страх, который, несмотря на все доводы разума, продолжал дремать где-то столь глубоко, что достать и вырвать его с корнем было невозможно, оставалось только молиться, молиться и молиться… И Иоанн вместе с патриархом Василием бил поклоны также в храме Богородицы Влахернской, уже неоднократно защитившей Константинополь от нападений северных скифов.
Небольшой купеческий караван возвращался из Великой Преславы. Купец с проседью в тёмных курчавых волосах, по всему, был доволен прошедшим перед самой Пасхой торгом.
– Что же ты, купец, товаров так мало везёшь? – спросил усатый болгарский стражник на последнем перед византийскими землями перевале. Он был тоже в благом предпраздничном настроении.
– Да что торг, почтенный воин, – дружески улыбнулся купец, – ведь праздник-то такой один раз в году, его с семьёй встретить надо. Так что тороплюсь поскорее назад, чтобы успеть ко дню Воскресения Христова.
– Это верно, – согласно кивнул страж перевала и махнул своим подчинённым: – Чего копаетесь, отпускайте человека, пусть праздник дома встретит. – Караван покатился, грохоча полпустыми возами, вниз по каменистой дороге.
– Счастливого праздника тебе, воин! – молвил на прощание улыбчивый купец, а когда отъехал подальше, добавил уже негромко, без улыбки, по-гречески: – Если ты, конечно, до него доживёшь…
Вскоре купцу повстречались два болгарских воза с шестью уже «повеселевшими» болгарскими огнищанами, что тоже торопились вернуться в Болгарию к святому празднику.
Взгляды купца и пожилого главаря ватаги землепашцев встретились. Оба одновременно соскочили со своих возов. Отойдя в сторону, они некоторое время о чём-то негромко говорили, а их сотоварищи внимательно оглядывали дорогу вверх и вниз по склону. Потом начальники вернулись, и каждый тронулся в свою сторону.
– Кто это был? Что-то он мне не понравился, – спросил на греческом у старшего ватаги его спутник помладше.
– Каридис, трапезит. А не понравился он тебе, потому что считает нас, синодиков, людьми ниже их, трапезитов. Тем не менее он дал полную картину всех постов на перевалах. Количество людей, их готовность и прочее. Тут с ним мало кто сравнится. На посту впереди пятеро стражников вместе со старшим, говорить только по-болгарски. Головой отвечаешь, чтобы не успели зажечь сигнальный дым!
Ватага болгарских селян, возвращающихся домой после удачной продажи зерна в соседней Византии, с весёлыми возгласами и кувшинами греческого вина в руках приближалась к посту, который не так давно покинул византийский купец.
– Эгей, братья, давайте, выпейте с нами за праздник, вот доброе вино, угощайтесь, братья! – громогласно приглашали стражников уже не твёрдо стоящие на ногах селяне.
Когда первый десяток осторожных армейских синодиков, беззвучно передвигавшихся впереди мерно шагающей византийской пехоты, подошёл к посту, то они увидели лежащих в разных местах в скрюченных позах болгарских воинов. Только двое из пятерых были зарезаны.
– Наш сотник знает своё дело, троим даже шкуру не попортил, обошлось вином, – ухмыльнулся десятник.
– Видно, только двое пить за Воскресение Христа не захотели, – кивнул второй на лежащих чуть подальше между камнями болгар с перерезанными глотками.
– Язычники, наверное, были, – нервно хохотнул третий, продолжая внимательно оглядываться по сторонам.
– Фанагория, – отрывисто бросил возница византийского купца, когда дорогу небольшому каравану преградили дозорные воины.
– Какой такой Фанагорий, нельзя сюда, купес, тут война, поняла, да? – на ломаном греческом с трудом ответил смуглый воин, наверное из антиохийского пополнения.
– Комита позови, ну друнгария банда своего, быстрее! – уже с раздражением заорал на воина помощник купца.
Но воин не очень понимал, чего от него хотят, и не пропускал купцов. Четверо других его собратьев, видимо, разумели греческую речь ещё хуже и потому только молча таращили свои большие карие очи.
Помощник купца начал не на шутку злиться, он сошёл с воза, подошёл к воину и показал ему серебряную монету. В тот самый миг, когда тёмные очи воина прикипели к блеску монеты, купец неожиданно ударил коленом здоровенного ратника в пах и одновременно впечатал кулак коротким сильным ударом в подбородок. Воин рухнул, как сломанный тростник, даже без стона, а подскочившие остальные «работники» купца так же молниеносно «отключили» на время четверых антиохийцев.
Когда Каридис вошёл в свой походный шатёр, всё ещё распекая следовавшего за ним перепуганного дозорного турматарха за то, что его воины не знают пароля и потому едва не покалечили его людей, один из помощников, который вёл дела в его отсутствие, что-то тихо сказал ему на ухо. Трапезит тут же отпустил начальника злополучной дозорной турмы и коротко приказал помощнику:
– Давай сюда старшего!
– В живых только один остался, самый молодой, двое погибли при захвате, синодики плохо сработали, – оправдывался помощник, уловив недовольный взгляд Каридиса.
Когда трое могучих воинов ввели невзрачного вида купца, а скорее, его подсобника, со связанными за спиной руками, который вошёл в шатёр, чуть пошатываясь, огляделся по сторонам одним оком, потому что второе почти полностью заплыло после сильных побоев, даже такой опытный трапезит, как Каридис, на какое-то время засомневался: а не пытаются ли его ретивые помощники показать свои «замечательные заслуги», выдавая за трапезита россов первого попавшего под руку купчишку, который, кроме своей выгоды в торговле, более ни о чём и не помышляет.
– Вот. – Помощник выложил на походный стол перед начальником потайной пояс с двумя метательными ножами и короткую, но добротно сплетённую кольчугу, которую без труда можно было спрятать под любой одеждой.
– Твоё? – спросил на болгарском Каридис.
– Моё, – спокойно кивнул купец, – как же без оружия в дороге? Охочих нас, купцов, ограбить всегда в достатке. Вот и ваши тоже, как тати налетели, двоих наших убили, а самого вон по рукам связали, а за что, никто толком не сказывает. Ещё христолюбивыми себя называете, а по сути – тати разбойные, что на беззащитных купцов нападаете… – частил пленник.
– Эти «беззащитные купцы» втроём положили пятерых наших лучших синодиков, пока их брали, – улыбнувшись самыми уголками рта, как это обычно делал Каридис, пояснил помощник. – А он едва не ускользнул, да лучник из засады лошадь под ним поразил, тогда уже на лежащего десяток почти навалился, и то едва скрутили, вот такой «беззащитный» оказался…
Каридис молча внимательно глядел на связанного купца, стараясь вспомнить, где и когда он видел его, а то, что он его видел, не вызывало сомнения, хотя лик пленника опух от побоев. Память у каждого своя: купец запоминает товар и даже монеты, что прошли через его руки, а разведчик – образы, манеру двигаться, говорить… Старший стратигос подошёл ближе к пленнику: худощавая, похожая на мальчишескую фигура, на груди в прорехе разорванной рубахи висит какой-то знак. Каридис резко рванул к себе, и знак, чуть обломившись там, где был продет шнурок, оказался в руке трапезита.
– Это твой оберег, купец? – спросил Каридис, рассматривая небольшую круглую костяную пластину, где была изображена какая-то птица с полусложенными крыльями. – Что-то он тебе не помог. – Он швырнул костяную пластинку под ноги и наступил на неё, вдавливая в землю.
Взгляд единственного ока на заплывшем лике пленника, которое ещё могло открываться, вонзился в стратигоса так, что ему стало немного не по себе. И Каридис вспомнил:
– Да ведь мы недавно встречались с тобой, купец, в Преславе, когда я приносил товар твоему стратигосу Свенельду, только тогда ты был не купцом, а одним из подручных начальника изведывательской службы россов. Жаль, что этот Корас, или, по-вашему, Ворон, сам не попался мне в подарок к празднику!
– Насколько я увидел, вам сейчас не до праздника, – уже не таясь, с вызовом ответил пленный на русском, – войну затеваете, разве христиане не чтут своих святынь?
«Смотри, сколь горды эти россы, он в плену и может умереть в любой миг, стоит мне только пошевелить пальцем, а он меня поучает, корит за неуважение к моему Богу!» – стал злиться Каридис.
– Пойдём! – вдруг вставая со своего походного кресла, проговорил старший стратигос.
Они двинулись по лагерю, который готовился к ночлегу, и с гордостью показал трапезиту россов всё. Закованных в железо гоплитов и конных катафрактов, пращников, лучников, даже прошли мимо особого легиона «Бессмертных» – личной гвардии императора.
– Смотри, ты это хотел увидеть? Ведь тебя за этим послали Корас и Сффентослаф? Смотри же, можешь сосчитать, а можешь поверить мне на слово – я сам скажу, сколько здесь воинов. А кроме них, ещё флот с сотнями огненосных триер, он уже отрезал вашему флоту все пути отхода и снабжения по Дунабию, если, конечно, не сожжёт его сразу.
Готовившиеся заступать на ночное дежурство керкиты удивлённо глазели на скрученного по рукам избитого невзрачного человека, которого водит в сопровождении трёх могучих воинов по лагерю сам старший стратигос и рассказывает обо всём.
«Пусть смотрит, я знаю, как это мучительно для трапезита – знать, видеть, но не иметь возможности сообщить, сейчас посмотрим, как слетит с тебя твоя варварская спесь, бессилие снедает сильного мужа лучше любой пытки», – злорадно думал Каридис, представляя, что сейчас творится в душе пленного руса.
– Каридис, кого это ты с таким почётом водишь по лагерю? – громогласным басом старого повелителя воинов спросил его давний знакомый мелиарх, облачённый в роскошный римский панцирь с золочёными орлами и грифонами.
– О, брат Седоний, это наш уважаемый гость, посланник самого грозного повелителя северных скифов Сффентослафа. Он прибыл, чтобы убедиться, не замышляем ли мы войны против его архонта. Вот я с почтением и любезностью показываю ему наш лагерь и мирных легионеров, которые скоро придут к скифам, чтобы поучаствовать в празднике Святого Воскресения Христа, а то какие-то злые языки наговорили, будто мы собираемся воевать!
– Ложь, наглая ложь, уважаемый посланник, – едва сдерживая смех и подчёркнуто учтиво кланяясь, пробасил мелиарх, – вся моя мера, все шесть с половиной тысяч воинов идут в Мисию только с одной целью – вкусить вместе с мисянами и северными скифами святой пасхальной трапезы и выпить много доброго красного вина! – Под конец речи он не сдержался и расхохотался так, что его, наверное, услышала вся мера. Вслед за ним рассмеялись хилиархи и прочие, кто оказался поблизости.
– Уже завтра на голову мисян и вашего небольшого гарнизона в Великой Преславе неожиданно свалятся с гор наши тагмы и друнги, как у вас говорят – как снег на голову? Они быстро возьмут столицу, потому что никто и не подумает о сопротивлении, – подливал масла в огонь старший стратигос. – А потом наступит очередь Сффентослафа. Думаю, всё закончится очень быстро. Вы смелые и сильные воины, но на этот раз у вас нет никакой возможности выжить. Империя Ромейская может стянуть хоть сто тысяч против ваших десяти, и мы с тобой это оба знаем. Ни обиженные мадьяры, ни перекупленные нами пачинакиты на сей раз не придут на помощь… – Довольный чувством собственной власти над беспомощностью недавнего сильного противника, негромко и проникновенно вещал Каридис, когда они возвращались к его шатру.
– Кого ты хочешь убедить в своей победе, грек? – неожиданно прозвучал вопрос пленного, и даже в темноте трапезит почувствовал на себе пронзительный взгляд его оставшегося ока. – Наверное, самого себя. Ведь для нас, русов, есть только два пути, и оба мы приемлем с радостью: победа либо смерть! Каждый наш воин готов к тому и другому с того мгновенья, когда впервые в жизни берёт в руки боевой клинок. – Молодой рус помолчал, видно, ему тяжко было не только стоять на ногах, но и говорить. – Не торопись заранее праздновать победу, грек… поверь, что даже ста тысячам против десяти… не просто добыть у русов викторию, – слегка задыхаясь, вымолвил пленник. – Только богам ведомо, чем закончится эта война для каждого, и для тебя в том числе, – как-то странно проговорил рус и внимательным, как у чародеев, взглядом опять посмотрел в очи Каридиса. Потом выпрямился, взглянул на дюжих воинов подле и добавил: – Теперь ты можешь убить меня, потому что более мне сказать нечего…
– К чему такая торопливость? Я всегда успею это сделать, может, мне гораздо приятнее будет, чтобы ты увидел, как погибнут твои друзья и твой князь… – снова постарался победно улыбнуться уголками губ трапезит, внутренне досадуя, что росс опередил его предложением о собственной казни. Каридис так рассчитывал увидеть, как сломается духом этот надменный молодой варвар, когда его повлекут на виселицу, а теперь понял, что он выдержит любые пытки. – Уведите! – бросил он воинам и быстрым шагом направился к своему шатру. Потом оглянулся на шедшего за ним помощника: – Казните его сейчас, утром будет не до того!
Глава 9 Падение великой Преславы
Был 11-й день месяца апреля 971 года. Великая Преслава, наслаждаясь тёплой благодатной погодой, готовилась встречать христианскую Пасху. В храмах шли торжественные службы, заканчивался Великий пост. Праздный люд нарядился в лучшие одежды по случаю торжества то ли Воскресения Христа, с которым ещё пока не очень сроднился, то ли прихода языческих Ярилы и Загрея-Диониса и пробуждения природы, уже гнавшей соки по лозам и стеблям и дурманившей своими запахами душу скотоводов и земледельцев. Только одни жидовины, которых, как водится, было немало среди купцов, менял и ростовщиков столицы, точно знали, что в основе сего праздника Пейсах – день исхода иудеев из Египта. Праздник этот они уже отметили первыми несколько дней назад, а сегодня имели хорошее настроение от доброго гешефта. В общем, у каждого была своя причина для торжества, и ничто не омрачало сего яркого святочного дня – ни погода, ни дурные вести.
Потому пронёсшийся по улицам Преславы запылённый и крайне озабоченный конный болгарский воин на потном, тяжело вздымавшем бока коне выглядел как нечто совершенно чуждое празднику.
Торопился воин, летел по граду, приближаясь к царскому дворцу. Кубарем скатился с коня, еле встал, запёкшимися устами прохрипел подбежавшим к нему охоронцам:
– Византийская конница и пехота… прорвались с полудня… идут прямо на Преславу… Они уже близко…
Подошедшие передовые отряды византийцев в пять тысяч пеших воинов и четыре тысячи всадников остановились в долине, ожидая подхода основных сил. Когда со стороны перевалов показалась армия Цимисхеса, в передовом отряде громко запели боевые трубы. И глас сей похолодил кровь в жилах у каждого жителя Преславы. Многие замерли в растерянности, ещё разумом не понимая, что случилось, но сердцем уже чуя беду.
Только у одного человека глас византийских труб возбудил не только страх, но и понимание всей глубины опасности, ибо он был таким же греком, как шедшие на приступ.
– Великий царь, архистратигос, – торопливо приблизился крайне встревоженный патрикий к Борису и Свенельду, которые находились на главной башне полуденных ворот, наблюдая за действиями пришедшего к стенам неприятеля. – Вы слышали эти звуки, вам ведомо, что они значат?
– Хм, – пожал плечами воевода, – какое-то воинское повеление, может, к построению или отходу…
– Нет, архистратигос, это особый сигнал, который даётся только в одном случае – так приветствуют императора! А это значит, что десяток тысяч пеших и конных воинов, что стоят сейчас пред Великой Преславой, лишь передовой отряд, а сейчас подходят основные силы во главе с императором. Нужно немедленно предупредить князя Святослава, началась большая война! – продолжал взволнованно говорить обычно спокойный и невозмутимый Калокир. Его волнение сразу передалось Свенельду, хотя он ничем этого не выдал, только правое веко стало иногда чуть подёргиваться.
– Тогда нам нужно спасать царскую семью и немедля уходить в Доростол! – молвил воевода и вопросительно взглянул на Бориса и подошедшего Романа. Следом спешил начальник болгарской конницы Драгомил.
Молодой болгарский царь побледнел, потом о чём-то тихо переговорил с братом.
– Нет, воевода, – поднял он очи на Свенельда. – У нас прочные стены, мы должны защищаться. Пока будет длиться осада, князь Святослав соберёт силы и придёт на помощь. Мы с братом жили среди ромеев и хорошо знаем их: если отдадим Преславу, они разорят и разграбят всю Болгарию, истребят самых крепких мужчин и юношей. Нет, мы будем защищаться, – повторил он. – А вы, воеводы, – кивнул он Свенельду и Драгомилу, – должны сотворить прочную оборону.
– Тогда я немедленно отправлюсь к князю Святославу и передам твоё решение, государь, – молвил решительно патрикий.
– Да будет так! – заключил Борис, и его брат Роман согласно кивнул.
Несостоявшийся император патрикий Калокир, кликнув ближайших охоронцев, стремглав полетел из града, пока армада Цимисхеса приближалась к его стенам. Немилосердно стегая коней, небольшой отряд помчался в направлении к Доростолу, неся князю Святославу горькую весть о вероломном нападении Византии на Великую Преславу.
«Напрасно князь прошлым летом согласился на мир и принял от Цимисхеса дары. Константинополь был так близко!» – думал бывший византийский посланник. Святослав не послушал его, а теперь Цимисхес явился с огромной силой!
Свенельд продолжал стоять на башне. Ощущение нависшей над ним опасности неприятно знакомо похолодило сердце старого воеводы. Эх, самому бы во главе испытанных воинов уйти следом за чутким Хорсунянином! Но Святослав поставил его здесь стеречь царя болгар, и бросить его – значит лишиться головы. А продержавшись в осаде до прихода князя с подмогой, голову можно не только сохранить, но и увенчать, как говорят греки, победными лаврами. Только бы продержаться! – думал, с тоской глядя на удаляющийся отряд патрикия, воевода. Потом тряхнул головой, отгоняя невесёлые мысли, и принялся отдавать короткие точные приказания. Ромеи, конечно, хитры как лисы и более коварны, чем хазары. Но стены града прочны, и за ними можно долго держаться, а урон идущих на приступ всегда втрое больше, чем обороняющихся, поглядим!
Потом воевода подумал, что Святослав не стал бы отсиживаться в граде, а для начала нанёс врагу неожиданный упреждающий удар. Этим он побеждал всегда. Значит, надо действовать подобным образом.
Забегали по дворцу посыльные и военачальники. А ещё через короткое время перед градом на высокой каменистой площадке стали строиться болгарские и русские воины.
После полудня грянуло сражение, короткое, жестокое и кровопролитное. Византийская армада подоспела ещё не вся, но и тех, что уже собрались у болгарской столицы, было втрое больше, чем её защитников. Болгарские воины, в основном конница Драгомила, личная охрана царя Бориса и полутьма Свенельда, вместе составили около восьми тысяч. Одной же конницы Цимисхеса подошло в первом потоке тринадцать тысяч и ещё десять с половиной тысяч пехоты, к тому же сам император пришёл в сопровождении своей особой гвардии «Бессмертных», числом в две тысячи.
С самого начала, несмотря на превосходство в количестве воинов и полную неожиданность нападения, всё пошло не совсем так, как предвидел император. Ошеломлённые защитники столицы не спешили укрыться за спасительными крепостными стенами, напротив, эти варвары, подобно безумцам, выстроились в боевой порядок и решительно двинулись на противника, превосходящего их втрое!
И вот уже сверкнули копыта коней, полетели по ветру хвосты и гривы, и придорожный прах встал за русско-болгарской конницей, покинувшей град. Воеводы Свенельд и Драгомил летели впереди, блистая кольчугами, держа левой рукой повод, а в деснице сжимая верный булатный меч.
Стрибог овевал суровые лица воинов, а братья-Веи бежали вослед, завихряя придорожную пыль.
Болгары и русы столь яростно и отчаянно обрушились на византийцев, что те, обескураженные столь недружественной встречей «гостей», вынуждены были остановиться и увязнуть в схватке.
Император Цимисхес, подбадривая своих воинов, простёр длань руки в боевой перчатке в сторону неприятеля. Пехота крепче навалилась на скифов. С правого фланга потекла конница. Битва пошла упорная и кровопролитная.
Опять призывно затрубили трубы, и брошенная на левый фланг защитников тяжёлая конница «Бессмертных» стала мять и уничтожать русско-болгарских воинов, которые, сражаясь по-прежнему яростно и отчаянно, гибли сотнями от железных конных фаланг.
– Воевода! – отчаянно кричал один из сотников. – Сию греческую броню ни стрела не берёт, ни меч с первого раза не рубит! И кони их одеты в броню!
К вечеру ряды защитников пошатнулись, и они, понеся большие потери, отступили и скрылись за стенами крепости. А вослед им, буквально наседая на пятки, стремились греческие легионы. Русы едва успели затворить окованные медью ворота и опустить прочные затворы перед валом железных конелюдей.
Свенельд, появляясь то тут, то там, оглядывал укрепления града и велел готовиться к обороне – поднимать на стены камни, ставить варить в огромных котлах воду, смолу и масло.
– Не торопись праздновать победу, грек… поверь, что даже ста тысячам против десяти непросто добыть у русов викторию… – вдруг услышал знакомый голос Каридис и невольно обернулся. Рядом на вершине холма, откуда он наблюдал за битвой у стен Преславы, никого не было, кроме помощника и двух посыльных. «Ух, проклятый чародей!» – раздражённо выругался про себя старший стратигос. Настроение его вдруг испортилось.
– На сегодня, видимо, сражение закончилось, – бросил он помощнику, – теперь начинается наша работа. Как только придёт кто-то от людей, оставленных в Преславе, немедленно ко мне, даже среди ночи, – приказал Каридис и принялся спускаться вниз по тропе.
Если войско отдыхало под надёжной охраной керкитов, то трапезиты не спали, строго наказав ночной страже немедля вести к ним любого человека, как бы он ни выглядел, если появится со стороны осаждённой столицы мисян. Они вглядывались и вслушивались в тревожную темень, но никто не появлялся. Каменные стены высотой в семь локтей из больших блоков светлого камня казались в лунном свете ещё выше. Большая и широкая башня Южных ворот с прочными, окованными медными листами воротами и двумя небольшими калитками по бокам казалась и вовсе неприступной.
Каридис вернулся в шатёр, где только под утро задремал тревожным сном, когда его плеча осторожно коснулся помощник.
– Человек только что пришёл. Они в эту ночь ничего не смогли сделать, потому что все ворота неусыпно и надёжно охраняются, кроме того, русы эти караулы обходят по многу раз за ночь.
Каридис с досадой выругался.
– Передай, пусть попробуют днём, когда начнётся приступ, скажи, что камнемётные машины не будут бить по самим воротам после первого приступа, только по стенам.
– Желаешь поговорить с этим человеком сам? – спросил помощник.
– Ему уже пора возвращаться, скоро совсем рассветёт, пусть быстрее уходит.
На следующий день подоспели остальные войска, многочисленные обозы с походными кузницами, провиантом для воинов и кормом для лошадей под началом хозяйственного проедра Василия. Прибыли также осадные и камнемётные машины с обслугой, тараны и лестницы, без которых император не желал идти на приступ каменной твердыни, защищаемой отчаянными россами и не менее упорными болгарами, – после вчерашних тяжёлых потерь их оставалось не так много, но сдаваться они по всему не собирались. Осадными орудиями командовал родственник Цимисхеса – магистр Иоанн Куркуас. Город обложили по всем правилам и стали готовиться к решительному штурму.
Перед этим три катафракта с белыми полотнищами на копьях приблизились к стенам. Они трижды во всю силу своих лёгких огласили на греческом, болгарском и русском обращение богоравного императора Ромейской империи Цимисхеса к осаждённым открыть ворота и сдать город без боя. Долго ждали ответа железные конники, но ничего им не ответили ни болгары, ни русы, и воины повернули коней к лагерю осаждающих.
И вот зловеще запели трубы. Подчиняясь их гласу, начали перестроение войска, задвигались фаланги, засуетилась вокруг катапульт, баллист и камнемётных машин многочисленная обслуга. Всё вокруг пришло в движение, послышались гортанные команды хилиархов, тагматархов, таксиархов, друнгариев банд и кентархиев. А спустя время первые большие стрелы и заряды камней обрушились на стены и головы защитников болгарской столицы. Уже кто-то пал от прилетевшей из-за стен смерти, закричали-застенали первые раненые.
Наконец под прикрытием зло жужжащих, подобно шмелям в напоенном весенней благодатью воздухе, тяжёлых стрел, а также грохота летящих к городу камней на стены Великой Преславы устремились, прикрываясь сверху щитами, пешие воины. Они несли лёгкие лестницы, чтобы взобраться на стены и вступить в схватку с защитниками. Облачённые в железо пешие гоплиты и конные катафракты встали на расстоянии половины полёта стрелы, и быстрые лучники, прячась за их железными рядами, осыпали тучей стрел защитников на стенах и башнях. Но, несмотря на это, русы и болгары встретили византийцев ответными меткими стрелами, камнями и кипящими водой и маслом. Тех же, кому всё-таки удалось пробиться к стенам и вскарабкаться по лестницам, встречали длинными шестами с крючьями, отталкивая лестницы от стен. С отчаянными воплями, как сбитые с высоких веток плоды, летели вниз византийские воины, а тех, кому удалось достичь верхней части стен, тут же встречали яростные клинки осаждённых. Люди рычали, будто дикие звери, стремясь уничтожить друг друга. С того самого мгновения, как начался бой, уже никто не замечал ни яркого солнца, ни запахов пробудившейся земли-матери, а лишь только один запах смерти.
– Гляди, брат Гавриил, – кивал волхв русов христианскому попину из дворцового храма, – сколь кровавую жертву собирает твой Бог на свой праздник воскресения, жесток он, однако.
Гавриил и Мовеслав за долгие месяцы пребывания полутьмы русов в Великой Преславе часто беседовали друг с другом о богах, вере и обычаях своих народов. И вот теперь они вместе помогали защищать град, стараясь вовремя оказать помощь раненым, подсобить защитникам на стенах.
– Бог не требует сей жертвы, это люди сутью своей звери алчные, они пришли захватить и разграбить наш град, Бог тут вовсе ни при чём, – отвечал попин, когда они вместе с волхвом осторожно тащили к стене, пригибаясь от многочисленных стрел, медный котёл с кипящим маслом.
– Так ведь они одной с вами, болгарами, веры, как же так, Гавриил? Ведь нынче и для них святой день, неужто есть такая вера, которая позволяет не блюсти собственные святыни?!
– Вера-то одна, да люди разные…
В этот миг несколько камней обрушились на стену, и Гавриил, споткнувшись, зашатался и тихо осел на пыльную землю. Из его головы заструилась тёмно-красная кровь-руда. Волхв тоже опустил свой край ноши и бросился к попину. Оторвав край рубахи, быстро и умело перевязал рану.
– Видишь теперь, сколь жесток твой Бог, коли и тебя самого едва в жертву не записал, – укоризненно молвил рус, отводя Гавриила в безопасное место к прочим раненым.
Трижды ходили на приступ воины Цимисхеса, и трижды были отброшены от стен.
Всё это время Каридис вместе со своим помощником неотрывно следили за Южными воротами осаждённого града. С каждой неудачной попыткой взятия града трапезит изрыгал проклятия.
– Есть, открыли! – вдруг с восторгом воскликнул помощник.
В самом деле, ворота града вздрогнули и медленно, как показалось Каридису, очень медленно стали отворяться. Полусотня синодиков, затаившихся ещё с ночи почти у самых ворот и невидимая глазу до сих пор, тут же ринулась к воротам, а следом, уже подчиняясь приказу Каридиса, понеслись к воротам две кентархии катафрактов.
– Если только это не ловушка врага, то мы заслужили благодарность императора! – все так же восторженно воскликнул помощник Каридиса, забыв на время, что во всём старался походить на своего невозмутимого начальника.
Сам старший стратигос только ухмыльнулся по своему обыкновению одними уголками губ. Потому что знал: в случае удачи слава достанется любимцам императора катафрактам, а о них, трапезитах, никто и не вспомнит.
– Ола кала, всё отлично, – обронил старший стратигос. – Мы своё дело сделали, теперь пусть стараются легионы и турмы. – И он походкой усталого человека пошёл прочь от скрежета, воплей и стенаний битвы.
Но всё оказалось снова не так просто, как представлял опытный трапезит.
Да, благодаря открытым воротам византийские войска ворвались в град, но жестокая борьба продолжалась на улицах, там, где фаланги легионов, турм и друнг не могли развернуться в боевой строй.
Гоплитам и легиону «Бессмертных» была поставлена цель: дворец царя мисян и богатая казна, о которой Цимисхес знал из донесений трапезитов. Пока шли бои на улицах города, вои императора железным клином двинулись к внутренней стене, за которой располагались Большой и Малый царские дворцы, а также Золотая церковь. Болгарская охрана была растоптана, конница оттеснена дальше в прилегающие улицы. Ворота внутренней стены вышибли таранами и, перебив царскую стражу, захватили самого царя Бориса с семьёй и его брата Романа и под надёжной охраной вместе с царской казной отправили пред голубые очи императора, который временно расположился в доме градоначальника Великой Преславы.
– Зачем, царь Борис, твои воины воюют против моих, ведь мы пришли освободить тебя и твою страну от завоевателей россов? – как бы недоумевая и даже с обидой в голосе картинно возмутился любивший подобные представления император. – Мы ведь единоверцы, должны приходить друг другу на помощь в трудный час. И ты уже имел возможность убедиться в нашей дружеской и родственной помощи, царь Великой Болгарии. – Император помолчал, но Борис сразу понял все, что Цимисхес красноречиво недосказал. – Империя помогла тебе возложить на голову царскую корону, дала тебе жену из знатного ромейского рода, твои дети – это и наши дети. – Об этом молвили очи царя ромеев. – Я понимаю, – нарушив молчание, сузил глаза Иоанн, – что Болгария делает иные неверные шаги, находясь под гнётом захватчиков. Мои доблестные воины спасут твою страну и изгонят прочь диких северных язычников, не сомневайся и будь моим гостем, пока закончится весь этот ужас. Здесь ты, твоя семья и твой брат в полной безопасности!
Борис, глядя на высокопарно изъясняющегося византийского императора, молчал. Потому что его семья и он сам отныне всецело пребывали в руках этого любителя возвышенных речей.
Оставшиеся в царском дворце доблестные воины императора с великим воодушевлением принялись за привычную работу завоевателей – разграбление дворца, остатков царской казны, а также Золотой церкви, располагавшейся рядом во дворе. Раненый служитель сего Божьего храма отец Гавриил, учившийся богословию в Византии, на чистом греческом пытался вразумить грабителей, призывая их к вере и предписанному благочестию. Но ни знание Священного Писания, ни цитируемые слова самого Христа никакого действия не возымели.
– Что творишь, воин, ведь ты христианин, как можешь срывать с иконы Богородицы золотой оклад и каменья, его украшающие, ты поднял руку на образ божеский, окстись и покайся! – возопил священник, стараясь оторвать рослого пехотинца от образа.
Воин вначале не обращал на отца Гавриила никакого внимания, но, когда тот стал ему мешать, просто отшвырнул от себя, как путающуюся в ногах собачонку.
– Будьте вы прокляты, да отсохнут ваши поганые руки, что осмелились прикоснуться к святыням! – в бессилии прошептал на болгарском священнослужитель, держась обеими руками за перевязанную голову, которой он сильно ударился о мраморную колонну после толчка греческого воина.
– Вы пособники скифов Сффентослафа и должны расплатиться за своё предательство! – рыкнул могучий комит и кивнул прочим воинам своего банда. Золотые светильники и оклады икон, парчовые одеяния священников, отяжелённые огромным количеством жемчуга, что хранились тут же, дорогие ритуальные сосуды, кресты и прочая золотая и серебряная утварь быстро перекочёвывала в походные мешки и сумы. Особо усердствовали воины Иоанна Куркуаса, который считал, что только благодаря его камнемётным машинам Преслава была так скоро взята.
– Воевода, – прокричал сотник, – отходить надо, от Южных ворот греков неисчислимо катится, и всё прибывают!
Свенельд, окинув взором тесные улицы, понял, что скоро можно действительно оказаться в окружении.
– Ко дворцу, он недалеко, нужно выручить царя болгарского! – повелел Свен, поворачивая разгорячённого коня.
Воины немедленно последовали за ним.
Многие увлечённые грабежом «Бессмертные» и примкнувшие к ним повелители камнемётных машин даже не успели понять, откуда вдруг взялись и почему вздумали помешать их «приятному занятию» горящие ярой силой окровавленные всадники, как тут же пали под быстрыми мечами опытнейших воинов, которые привыкли не просто сражаться, а всегда побеждать. Русы влетели на своих возбуждённых боевой схваткой конях прямо в распахнутые настежь ворота дворца. Те из ромеев, кто пытался оказать сопротивление, остались лежать на мозаичных полах, корчась в предсмертных агониях…
– Воевода, – воскликнул, входя в царские покои, охоронец, – нет ни самого царя Бориса, ни его семьи! – Потом добавил сердито: – Казны тоже нет.
– Найти, кто остался жив из прислуги или из ромеев, и выпытать, куда Борис подевался! – встревоженно воскликнул Свенельд.
– Уже допытали, – молвил седоусый воин, вошедший следом за охоронцем, – ромеи увели царя с братом и семьёй, заодно и казну прихватили. Царь и его сродственники живы-здоровы…
– Стало быть, – ненадолго задумался воевода, – мы теперь за жизнь Бориса не в ответе. Надо пробиваться из града!
– Поздно, – молвил седоусый, – визанцы уже вдругорядь пытаются ворваться во дворец, не выйти нам.
Неширокий промежуток между двумя стенами, ведущий ко дворцу, не давал воинам Цимисхеса возможности настигнуть и окружить россов. Когда же византийцы достигли ворот, их встретили уже спешившиеся варвары с плотно сомкнутыми щитами и выставленными длинными копьями. Под яростными ударами отчаянных скифов греки вынуждены были отступить.
– По двое лучников на угловые башни, следить за стенами! – раздавал короткие чёткие указания Свенельд. – Остальным разделиться и по очереди отражать нападения врага. Лошадей собрать и держать наготове. Раненым оказать помощь!
Но кудесник Мовеслав с некоторыми воинами уже сами занялись привычным делом.
К вечеру императору донесли неприятную весть – русы собрались вместе со всех участков обороны и укрылись в царском дворце, который стал для них защитой.
– Как это могло случиться, – возмущённо вскричал император, – мои доблестные гоплиты сумели под яростными стрелами мисян и градом камней перебраться через стену и открыть ворота, а вы, бездарные начальники, не смогли воспользоваться этой удачей?! Почему позволили россам собраться вместе, кто пропустил их во дворец? Чем, кроме грабежей, занимались командиры после проникновения в город?
– Россов осталось мало, не более двух тысяч, мы быстро сомнём их, о великий, – убеждённо заверил Цимисхеса Варда Склир.
– Император, – подал свой женоподобный голос паракимомен Василий, – ничего особенного не произошло, мы погнали бешеного пса, и он забился в первую попавшуюся нору, он теперь в западне, и участь его решена. Завтра утром с остатками северных скифов в столице Мисии будет покончено, богоравный! – возвышенным тоном закончил свою речь высокопоставленный евнух, и остальные воинские начальники, не обладавшие таким красноречием, облегчённо вздохнули.
Но ни утром, ни к обеду уничтожить россов или заставить их сдаться не удалось. Иимператор вновь начал нервничать. Наконец, возмущённый беспомощностью своих воинов, Цимисхес сам возглавил одну из атак на непокорных скифов. Воины, воодушевлённые таким примером, ринулись, опережая друг друга, и вскоре почти все оказались впереди императора, горя желанием проявить пред его очами своё мужество. Но и эта попытка потерпела неудачу. Узкий проход не давал возможности одновременно ввести в дело много войск, а проклятые варвары сражались столь яростно и стойко, закрывшись прочными щитами, что даже хвалёные гоплиты волна за волной отлетали от них, как железные шарики от каменной стены.
Император был в бешенстве, оттого что все его многочисленные сильные, великолепно обученные и вооружённые самым лучшим оружием воины не могут двинуться дальше к Доростолу, где находится сейчас катархонт россов, из-за жалкой горстки непокорных варваров, превративших царский дворец в неприступную крепость.
– Позволь, император, мои машины «поговорят» с этими скифами, засевшими во дворце, – обратился к своему богоравному родственнику Иоанн Куркуас, командовавший камнемётными и осадными орудиями.
– То есть? – наморщил лоб рассерженный василевс.
– Камнями, конечно, не пробить толстых стен, но я могу выставить свои машины так, что мы засыплем дворец индийским огнём и сожжём его дотла.
Император на некоторое время задумался. Ему, конечно, больше нравилась прямая и красивая победа его доблестных «Бессмертных» над упрямыми варварами, но слишком дорого северные скифы отдают свои жизни, каждый уносит с собой по нескольку его лучших воинов.
– Ладно, приступай, нет времени возиться с этими дикарями, нам пора двигаться дальше.
Вскоре по приказу Иоанна Куркуаса в сторону царского дворца полетели огненные стрелы, дротики и горшки с греческим огнём. Дворец загорелся сразу в нескольких местах, а снаряды всё летели и летели, поджигая и разрушая всё подряд.
Цимисхес ждал, что «выкуренные» огнём остатки северных варваров вот-вот выползут из объятого пламенем дворца и станут молить о пощаде. Время шло, но никто не появлялся из разбитых ворот. Неужели они предпочитают плену смерть в огне?
Но того, что произошло в следующие мгновения, не ожидал никто – ни император, ни его многоопытные военачальники, видевшие на своём веку немало битв.
Варвары не вышли сдаваться на милость победителей. Обезумевшие от бушующего вокруг пламени боевые кони неукротимых скифов с не менее взбешёнными седоками вылетели из горящего дворца, будто сами были огненными вихрями или посланцами огнедышащей преисподней. Они топтали и поражали всех, кто не успел убраться с пути. Раздавая молниеносные удары налево и направо, скифы набросились на растерявшихся византийцев и пошли сквозь их ряды, как раскалённый докрасна стержень в деревянную колодку. Тут уже были бессильны метательные машины, воинский опыт стратигосов и стратопедархов, а также защитная броня гоплитов и катафрактов. Пока византийцы опомнились, пока собрались для отпора неожиданного нападения, русы уже пробились сквозь находившиеся перед ними заслоны и, оставив после себя груду тел, растворились в лабиринте городских улиц, безжалостно предавая смерти попадавшихся на пути воинов, никак не ожидавших встретить в центре захваченного града смертоносный отряд закопчённых и окровавленных россов. Прорубившись в сторону Северных ворот, которые были открыты, отряд Свенельда, живой мельницей смерти прокладывая себе дорогу через уже редкие ряды оцепления, вырвался и помчался по северо-западной дороге. В живых осталось около двух сотен воинов. Их никто не преследовал. В центре Великой Преславы ярким факелом пылал царский дворец, из которого больше никто не вышел…
Сгорели в огне все оставшиеся доблестные защитники. Унеслись в Сваргу бессмертные души воинов, стали перуничами и сварожичами. И кудесник Мовеслав не оставил своих детей и ушёл вместе с ними, как жрец и воин, сжимая в руке ритуальный кинжал, которым он приносил богам в жертву овец и быков на капище. И перед смертью успел принести в жертву Перуну немало вражеских воинов.
Узнав об этом, Каридис невольно вспомнил слова казнённого по его приказу проклятого чародея. «Похоже, перед лицом неминуемой гибели они почти все становятся неуязвимыми демонами. В борьбе с ними рушатся самые трезвые и верные расчёты. Помнится, как каган Хазарии и его окружение считали, что Сффентослаф не человек, а дэв. Я тогда смеялся над их страхами, а теперь… – И вдруг ему стало совершенно ясно, сколь наивен был он сам, старший стратигос Каридис, ещё несколько дней тому назад, когда хотел угрозой скорой казни сломить молодого руса. – Да это одно и то же, что пытаться напугать тигра куском свежего мяса», – неожиданно возникло в голове «прозревшего» трапезита.
Объявив Великую Преславу Ианнополем и оставив гарнизон, Цимисхес устремил армию к Доростолу, или, по-гречески, Дристру, велев по пути своим воинам грабить и разорять болгарские города в наказание за подчинение скифам.
Часть третья Операция «Агра»
Глава 1 Доростол Лета 6479 (971)
Калокир и его охоронцы, уставшие, на замученных лошадях, мчались по немноголюдным в этот час улицам Доростола. А когда доскакали до старого каменного дома, где расположился князь, оказалось, что его нет на месте. О том поведала жена князя Предслава. Она вышла навстречу, как всегда собранная, и мягким вопросительным взором окинула запылённого гостя. Калокиру вдруг почудилось, что она читает его мысли, как простой пергамент. Он хотел усилием воли избавиться от навязчивого ощущения, но не смог.
– Проходи, патрикий, поешь, попей с дороги, вижу, путь был нелёгкий, – посторонившись, широким жестом предложила хозяйка дома.
– Нет, я только пить хочу, во рту пересохло от пыли, – хрипло ответил Хорсунянин и, осушив до дна ковш холодного кваса, вернулся во двор.
Обессиленный долгой дорогой и терзавшими его переживаниями, патрикий опустился на широкую мраморную скамью у входа. «Я уже немало живу среди язычников, но всё не привыкну к их чародеям. У нас ведь тоже раньше были пифии, оракулы, жрецы и заклинатели, но всё как-то ушло, растворилось во времени вместе с древней магией. А сейчас вот эта Предслава так пронзила своим колдовским взором, что до сих пор не по себе».
Калокир вдруг вспомнил: вот так же скакал недавно улицами праздничной Великой Преславы запылённый гонец со страшной вестью о подходе византийских войск. «Теперь я сам такой же вестник», – уныло подумал Хорсунянин. И вдруг ясно, до острой боли в уставшем мозгу, ощутил, что отныне он – не будущий император Византии, а просто гонец с плохими вестями. Он отрешённо сидел, не в силах пошевелиться.
Святослав, едва ему Предслава сообщила через посыльного, что из болгарской столицы нежданно явился патрикий с дурными вестями, немедля поспешил с ратного поля, где наблюдал за учениями своих воинов, в град.
– Как случилось, что заставы и посты на перевалах не дали условного знака? Почему нападение Цимисхеса стало для Великой Преславы столь неожиданным? – строго вопрошал Калокира Святослав. Очи его острым взглядом впивались в лик патрикия и проникали, кажется, в самую душу.
Патрикий с затаённой тревогой ждал, что он вот-вот спросит: «Почему ты оставил поле предстоящей битвы и удалился из Преславы?» Но князь не спросил этого, наверное, и так всё понимал. Князь русов всегда уважал храбрых воинов и не прощал тех, кто не мог одолеть своего страха. Калокир не ведал, что отвечать названому брату, и молчал, понурив голову. А Святослав, мгновенно помрачнев, стал по-особому собран и быстр в решениях, как всегда в час грозной опасности.
– Так речёшь, сам император к Великой Преславе пожаловал со всем воинством? Ну что ж, нам ходить далече не придётся. – Князь обернулся к посыльному: – Темников ко мне!
С того самого времени Святослав поспевал везде, с утра до позднего вечера стремясь собрать как можно больше войска, чтобы скорее ударить по византийцам и прорвать осадное коло вокруг столицы Болгарии. Из Переяславца подходили воины Зворыки, сюда же спешили болгарские воины конные и пешие, узнавшие о нападении греков. Подвозились припасы для дружины и прокорм для коней. Мастеровые споро чинили доростольские укрепления. Всё делалось слаженно и быстро.
Однако через три дня, когда князь уже собирался в поход на выручку осаждённой столице, в Доростол прискакали около двух сотен конников во главе с самим старым воеводой. Их одеяния побурели от крови, смешавшейся с дорожной пылью и потом, кольчуги и шеломы были местами измяты и повреждены. Бока загнанных коней вздымались кузнечными мехами, с морд клочками слетала пена.
– Это всё, княже, что осталось от моей полутьмы, – прохрипел Свенельд, с трудом покидая седло. – Остальные полегли, кто от клинков вражьих, кто в огне царского дворца, – кратко выдохнул воевода.
– Царь болгарский, Преслава, что с ними? – едва выдавил из себя Святослав.
– Предатели отворили ворота, и ромеи ворвались в град. Их было во много раз больше, да ещё и «Бессмертные», с головы до ног закованные в железо. Царь, его семья в руках Цимисхеса, казна тоже. Дворец, в котором мы держали оборону, ромеи подожгли, и нам пришлось пробиваться, – всё так же хрипло ответил Свенельд.
Князь мельком глянул на стоящего тут же вмиг побледневшего Калокира и снова повернулся к воинам:
– Дякую, вуйко, дякую вам, братья, за мужественное сопротивление ворогу. Идите мыться, чистить оружие и отдыхать, – потом повернулся к темникам: – Готовиться к сражению, через три-четыре дня ромеи будут здесь! Дозорному полку выслать дальние и ближние разъезды, всех подозрительных задерживать и переправлять в Тайную стражу.
Когда Свен побрёл прочь, его неслышно догнал Ворон:
– Невзор у тебя был, воевода, что с ним?
– Был, я ему двух лучших людей дал, они ушли в горы и не вернулись, – устало молвил Свен.
Главный изведыватель молча отошёл от него. На чело Ворона легла ещё одна неизгладимая, как старый шрам, складка. Всё меньше оставалось испытанных верных содругов, всё чаще дышала в затылок холодная красавица Мара. Разум ещё пытался надеяться: может, вернётся, может, не сгинул Невзорка, он же такой умный и ловкий, а чуткое сердце всё глубже рвала безотчётная боль…
Улучив миг, когда Святослав остался на какое-то время один, к нему подошёл Калокир.
– Брат… – привычно обратился он и тут же поправился: – Княже, я в Преславе купца знакомого встретил… в общем, мне надо в Херсонес, там… – запинаясь, молвил патрикий, глядя в сторону.
– Коль надо, езжай, ты вольный человек, как и все, кто подле меня, – хмуро глядя на Хорсунянина, молвил князь. Чуть помолчал и добавил: – Только если решил, то сейчас, через день-другой может быть поздно… – Святослав повернулся и пошёл навстречу спешащему к нему дозорному темнику.
С тяжёлым сердцем покидал Доростол патрикий Калокир. Перед внутренним взором быстро пробегали картины его появления и жизни здесь, в Мисии. Он прибыл сюда, как посланник императора Фоки, стал названым братом грозного повелителя скифов, едва не воссел на императорский престол Византии. А теперь он никто, даже хуже – враг нынешнего императора Цимисхеса, предатель и изгой. Единственное спасение и убежище – Херсонес, вольный город, где его помнят и ждут. Скоро у стен оставшегося за спиной града начнётся кровавое сражение. Бог смерти с железным сердцем Танатос опять станет щедро поливать человеческой кровью эту землю, но его, Калокира, здесь уже не будет. И не будет причины радоваться чьей-то победе или пить до дна из чаши поражения. «Я устал жить чужой жизнью и чужими обычаями. Я сделал всё, что мог, пора возвращаться домой!» – думал молодой патрикий. И чем больше он удалялся от Мисии на попутной аграрии – торговом судне, перевозившем фрукты и зерно, – направлявшейся к берегам северной Препонтиды, тем легче становилось у него на душе.
Дальние дозоры заранее сообщили о приближении к Доростолу великого византийского воинства. Выйдя от стен града на треть гона, русско-болгарские вои встали на пути ромеев.
– Они, видно, хотят заманить нас в ловушку, – подозрительно глядя на выстроившихся скифов, произнёс Варда Склир. – Иначе зачем выходить из-под защиты крепостных стен, ведь перевес в числе воинов на нашей стороне.
– Мне кажется, что действия этих варваров порой вообще противоречат здравому смыслу. Поэтому я уже ничему не удивляюсь, имея дело с ними, – ответил император, озабоченно наблюдая, как его воины спешно перестраиваются из походного порядка в боевой.
Впереди выстроились гоплиты, по бокам тяжёлые катафракты, сзади, прикрываемые гоплитами, лучники и пращники. Они-то первыми и начали атаку, засыпая ряды россов тучами стрел и камнями. Но передние ряды варваров, вооружённые большими, почти в человеческий рост, щитами и ощетинившиеся копьями, представляли единую непробиваемую стену. А в средине пехотинцы тоже прикрывались щитами, посему урон был небольшой.
Тогда император велел трубить сигнал о начале битвы. Цимисхес решил сразу ошеломить, запугать и смять непокорных скифов, пустив против главных сил врага свою тяжёлую армаду. Глубоко вспарывая копытами землю, медленно шли закованные в железо кони, на которых уверенно восседали облачённые в надёжную броню катафракты. За ними ровными рядами двигались пешие гоплиты. Всё дышало силой и уверенностью, один вид железного воинства должен был вселить страх и подавить всякую мысль о сопротивлении. Но русы и болгары не бросились наутёк и даже не шелохнулись в своих рядах. А когда зазвучали их турьи рога, то устремились навстречу железным воям столь решительно, будто сами были облачены в ещё более прочные доспехи. Их, кажется, даже не очень смутило то, что с расстояния, на котором славянские лучники обычно наверняка поражали врага, сейчас многие стрелы отскакивали или застревали между пластинами панцирей тяжёлых ромейских воинов. Вот уже первые ряды сошлись на расстояние копья, загремело, заскрежетало железо, ударяясь одно о другое и высекая искры, и закрутилась жесточайшая схватка врукопашную. Воины разразились боевыми кличами, а раненые стонами и предсмертными воплями. Боевые кони норовили, храпя, затоптать врагов тяжёлыми копытами. Русы и болгары старались изловчиться и использовать свою быстроту и подвижность против не столь поворотливых тяжеловооружённых ромеев.
Святослав зорко следил за ходом сражения, как всегда, не только очами, но и сердцем, и чутьём неуловимым, которое позволяет воителю загодя упредить замысел врага, не давая ему воплотиться на поле бранном. Потому как только от первого «железного» удара греков поколебались русские ряды, князь с небольшим отрядом бесстрашно устремился вперёд, и воины пехоты, словно испив живой воды из священного источника, крепче сомкнулись стеной, не пропуская неприятеля, а потом стали теснить его.
Цимисхес тоже всем своим существом ощущал битву и, подобно Святославу, бросался с подвижным резервом то в одну, то в другую горячую сечу, воодушевляя своим появлением ромеев. Наконец, видя, что многократное превосходство в числе воинов не даёт желанной скорой победы, он велел распустить священное знамя Империи и снова, поспевая везде, личным примером ободрял воинов, останавливал дрогнувших и бегущих, копьём указывая им путь в средину россов, изо всех сил стараясь свершить перелом в сражении.
Крики, стоны, лошадиное ржание, лязг брони и звон мечей стояли над полем. Кровь лилась ручьями, падали мёртвыми сотни и тысячи тел, а клинки всё блистали без устали, летели сулицы, и вздымались копья.
И опять русы под натиском превосходящего числом и железной бронёй врага стали отступать к Доростолу.
По знаку Святослава запели турьи рога, и из града вылетел княжеский Гординский полк – самый лепший из всех полков киевских. А впереди храбрейших витязей летел Зворыка, прозванный врагами Волком, вздымая в деснице меч, а пустая шуйца его сорочки трепетала по ветру.
Залюбовался князь своим полком и воскликнул:
– Твои, Цимисхес, «Бессмертные» с головы до ног в броню закованы, а наша броня – храбрость воинская, Перун Небесный и боги славянские! Вперёд, братья, слава Перуну!
Пролетел Гординский полк сквозь расступившиеся ряды русов и врезался во врагов с такой силой и яростью, что мечи их разрубали греческую броню, сносили головы и отсекали руки, работая, будто железные мельницы смерти. Ромеи дрогнули и отошли. Поле битвы осталось усеянным мертвецами, шлемами, сломанными мечами, щитами и копьями и множеством раненых.
– Княже, – позвал кто-то, – тысяцкого Зверобоя нашли, твоего прежнего старшего стременного.
Чрево темника было пробито копьём, и он сильно страдал.
– Княже, – прохрипел он, узрев Святослава, – дозволь пожать руку твою… и добей меня своей милостью…
Князь, наклонившись, поцеловал Зверобоя в лоб, сжал его руку, а затем, подняв меч, пронзил остриём храброе сердце стременного.
Многих воев не стало в том сражении. Едва собрали раненых, восстановили порядок в рядах, как греки пошли на новый приступ.
Опять мечи зазвенели по латам и загремели по щитам. Отчаянно сражались греки, и упорно оборонялись русы. От пыли и топота померкла синяя сварга, прах встал над Доростольской долиной, пали иссечённые цветы и травы, а земля колебалась, казалось, до самых недр.
Снова отошли греки. А русы пошли по полю собирать своих убитых и раненых и отправлять их в град, а греков несли и бросали в синий Дунай. Был уже обеденный час, из града явились жёны, неся еду и питьё, и русы ели почти на ходу.
Вдруг некое волнение пошло по рядам – воины увидели Переяславского Могуна со жрецами, которые, двигаясь меж уставших защитников, пели славу богам. Могун, беря подножный прах, бросал его на четыре стороны и молвил громким гласом:
– Не одолеть вас врагу, витязи русские, ни с полудня, ни с полуночи, ни с восхода, ни с захода. Нынче зрел я пророчество богов наших, кои рекли, что с честью покинете вы поле сие, и враги не одержат победу. Слава богам нашим!
– Слава! – отвечали, воодушевляясь, полки.
И опять возгорелся бой.
Целый день шла битва, и греки ходили на приступ двенадцать раз. И двенадцать раз успех склонялся то на одну, то на другую сторону.
Вопреки всем здравым расчётам и законам войны, кои император Цимисхес впитал в себя во многих битвах с персами и арабами, его доблестная армия не могла одолеть варваров. Это было необъяснимо – ни страстные молитвы к Господу Иисусу и Пресвятой Богородице, ни разумные доводы никак не помогали и не могли объяснить происходящее.
В конце дня, отчаявшись перехватить инициативу, Цимисхес собрал всю конницу, присоединил к катафрактам своих «Бессмертных» и велел скакать на противника во весь опор.
Громко затрубили медные трубы, раздался глас императора, призвавший воинов показать свою ромейскую доблесть, и железная лавина неудержимым валом покатилась на Святославичей, круша, топча и повергая наземь тесные ряды россов один за другим. Передовые ряды были сокрушены почти полностью. И опять вылетел Гординский полк со Зворыкой, кинулся навстречу врагу и оказался на самом острие железного вала. Ещё отчаянней бились витязи, да только мало было их, и таял полк, словно льдинка в горячей воде. Видя, что стальная армада ромеев входит в средину его войска, как кинжал в обнажённое тело, Святослав велел отступить в Доростол и закрыл град.
Хлынувшие со стен потоки кипящей воды и смолы, а также сбрасываемые валуны остудили пыл увлечённых захватчиков.
И когда вернулись защитники в град, от Гординского полка осталась только сотня, и принесли они с собой тело Зворыки-темника.
Святослав с посеревшим ликом подошёл к верному боевому другу.
– Зворыка бился с врагом до последнего и повелел сказать, что погибает на поле брани за Русь вольную! – глухо молвил сотник.
Невольная слеза скатилась из очей Святослава. Он медленно снял шелом. Потом вынул меч и сказал, обращаясь к темнику:
– Мечом сим Перуновым клянусь отомстить за смерть твою, храбрый Зворыка! Вечная слава тебе и память, честной воин!
Ромеи отошли, торжествуя победу: всё же они вынудили скифов отступить!
Император приказал выдать всем вина и двойную порцию еды. Ведь воинам не удалось сегодня толком пообедать – неслыханное дело для императорской армии, да и для фемной тоже.
– Ничего, – воодушевлённо громыхал своим полководческим голосом Варда Склир, – под вино мои воины одолеют и три обеда, как они одолели презренных скифов!
– О-го-го, – громогласно восклицал во всю свою глотку могучий мелиарх, – мы подкрепимся, выспимся, а завтра устроим этим несчастным варварам настоящий ад, они ещё узнают, что могут сделать с ними доблестные воины старого Седония! – Хохот его раскатился так, как будто вдруг прозвучали средь ясного неба громовые раскаты.
Полночи византийцы пировали, прославляя своего императора, а тот щедро раздавал награды отличившимся и обещал горы золота и добра после виктории над скифами. Воины горланили хвалебные песни, воспевая своё геройство, силу и отвагу, и прежде всего непобедимого василевса Иоанна.
Однако усталость от необычайно напряжённого и непривычно долгого сражения, обильная еда и вино быстро одолевали их, и вскоре гомон, песни и бравые возгласы воинов умолкли, перейдя в разноголосый храп.
А после полуночи у лагеря Цимисхеса трижды прокричала ночная птица – ей ответила другая со стороны ближайших ворот града, которые тихо распахнулись, и из них потекли, как тени, воины Святослава. На крепко спящих греков обрушились «побеждённые» русы и болгары. Кто-то, проснувшись от шума схватки и звона клинков, едва успевал выскочить из палатки, кто-то, открыв глаза, ошарашенно наблюдал, как парусиновая стенка расползается от меча или кинжала и в образовавшийся проход вскакивает мрачный скиф, разя всех вокруг, а с другой стороны в походное жилище таким же путём врывается второй, третий, пятый… Пока очнулись ромеи, пока те, кто успел, спешно напялили на себя прочные клибанионы и сгрудились, чтобы отразить неожиданное нападение, многие уже расстались с жизнью в той части лагеря, что была обращена к Доростолу. Истребив не менее тысячи греческих воинов и потеряв около сотни своих, варвары так же неожиданно исчезли в ночи, как и появились.
Император, как и прочие, разбуженный ночной резнёй, лично поспешил к месту происшествия. В первые мгновения он был подавлен и растерян видом многочисленных трупов своих воинов. Затем побагровел и стал наливаться яростью.
– Побеждённые крушат победителей, как объевшихся свиней! – кричал Цимисхес на угрюмо молчавших стратигосов.
Он едва не зарубил в горячке начальника ночной стражи, но тот, на своё счастье, где-то задержался и прибыл на «раздачу лавровых венков» чуть позже, когда император уже излил часть гнева на Каридиса и комита синодиков.
– Я предупреждал вчера вечером таксиархов и кентархов, что со скифами надо держать ухо востро, просил не пить столько вина, но меня никто не слушал, – пытался оправдаться старший стратигос, хотя и понимал, что это бесполезно.
Когда первая волна злобы и раздражения императора несколько улеглась, он немного выкричался, перестал метаться по шатру и уселся, наконец, на свой походный трон, грозно насупив брови и меча злые искры из голубых очей, осторожно подал голос Варда Склир.
– Прикажешь обложить город, великий? – обратился он к императору.
– Нет, – мрачно молвил Цимисхес, сосредоточенно глядя перед собой. Император был явно встревожен, он-то видел, как вчера несколько раз был в двух шагах от поражения. «Если бы не мои катафракты, что железным тараном закованных в броню конских тел смяли фланг россов и мисян, когда те обратили в бегство моих пеших воинов, то… А теперь эта вражеская ночная вылазка, неожиданная и дерзкая, как короткий удар ромфея». От этого варварского неистовства веяло такой первобытной силой и дикостью, что неприятный озноб несколько раз пробежал по телу императора от макушки до пят. – Прежде всего мы должны подумать о собственной безопасности, – молвил наконец Иоанн. – Приказываю занять возвышенность, что на подходе к Дристеру, окопать её рвом, окружить валом, оградить щитами и быть всё время на страже. В дополнение к керкитам выделить конных воинов в ночные дозоры, которые будут, сменяя друг друга, объезжать лагерь на подступах всю ночь, до самого рассвета. Дождёмся подхода камнемётных машин и баллист и прибытия флота, чтобы прочно замкнуть осаду сразу как по суше, так и со стороны воды!
– Богоравный, – ещё осторожнее промолвил Варда Склир, который уже не раз видел россов в схватке и даже бегал от них, – а может, не стоит отсекать скифам все пути отступления, если мы крепко их придавим, оставшиеся пусть проваливают на своих кораблях. Это будет победа, потому что, окружённые со всех сторон, они будут биться до последнего, и мы потеряем много воинов, лучших воинов, как в Преславе… Ианнополе, когда мы зажали их в царском дворце.
– Нет, Варда, – решительно молвил император, – мне не нужна просто победа, мне нужна их гибель! Если они уйдут сегодня, то через год-два вернутся с ещё большим войском, с уграми, пачинакитами или ещё с кем-то, и тогда нам будет намного сложнее одолеть их. Нужно всё закончить сейчас, не глядя ни на какие жертвы! – заключил Цимисхес, всё так же вперив в пространство задумчивый взгляд.
Весь следующий день ромеи рыли ров вокруг большого холма, вынося землю на прилегающую к лагерю сторону, чтобы получилась высокая насыпь. Затем они воткнули в насыпь копья и повесили на них соединённые между собой щиты. Таким образом, лагерь был огражден рвом и валом, чтобы враги не могли проникнуть внутрь.
На следующий день Иоанн выстроил войско и двинул его к городской стене. Но попытки пробиться к воротам или влезть на стену оказались безуспешными.
Получив изрядную долю камней и стрел, армия императора откатилась в свой лагерь.
Глава 2 Младобор и Ярослав
В тревожный час выдалось засевать поле семейству Лемешей. Война уже, рекут, из болгарской столицы до Доростола докатилась, день тому, как ушёл из Переяславца однорукий воевода Зворыка со своими ратями. Случись чего, и защитить их, мирных огнищан, будет некому, но злаки-то сеять надо.
– Вот ты всё на войну рвёшься, Младобор, – ворчал старый Лемеш, – а ведь воинам хлеб нужен, а коннице корма опять же, так что мы с тобою тоже в сражении, сыне. А отсеемся, тогда… Гляди, наш Ярослав скачет, никак стряслось что?
– Деда, отец, мы коней с ребятами на водопой гоняли, так такое узрели, такое! – взволнованно зачастил спрыгнувший с солового жеребца Ярослав.
– Погоди, не трещи сорокой, – строго одёрнул внука Звенислав, присев на взгорбок у края поля и разминая дланями изувеченную в давних боях ногу. – Тебе уже пятнадцать, почитай, муж еси, а не малец несмышлёный, толком реки, чего видели?
– Там лодий много идёт воинских, и не наши совсем, я таких не видывал прежде, – насупившись на дедовы строгие слова, старался степенно речь ломающимся баском отрок.
– Откуда идут лодьи? – встревоженно спросил Младобор, и они с отцом понимающе переглянулись.
– С низовий на вёслах идут, – уже живее ответил Ярослав.
– Коня давай, Ярослав, борзо! – коротко повелел Младобор.
Он живо выпряг из сохи гнедого коня, помог отцу взобраться на него, а сам лихо взлетел на солового жеребца, и они поскакали к берегу.
– Греки, сыне, это их лодьи, дромонами зовутся, – почему-то тихо, будто громкая речь могла встревожить ворога, промолвил Звенислав. – Видать, решили не дать нашим в случае чего Дунаем уйти. Князя непременно упредить надо. Пожалуй, поскачу я, сыне, в Доростол, проберусь как-нибудь в град.
– Нет, с твоей ногой в такую даль… Я поскачу, дорогу знаю, мы прошлой осенью зерно туда возили, – решительно возразил Младобор, и отец с тоской почувствовал, что на сей раз не сможет его удержать уже никакими силами.
– Погоди, сыне, домой заскочи, седло моё боевое возьми, оно в дальней дороге удобное, еды пусть мать соберёт. И ещё… меч Вышеслава, брата старшего, возьми, мало ли что случится в пути. Матери скажи, я разрешил! – хрипло, едва сдерживая из последних сил твёрдость в голосе, проговорил бывший старший конюший князя Святослава. Они обнялись крепко, и Младобор тронул нетерпеливого жеребца. Отец отвернулся к реке, чтобы сын не видел покатившихся из глаз слёз, и тут же крикнул: – Погоди! Передай князю, среди греческих кораблей есть особые, что мечут огонь, у них спереди и сзади трубы медные. Я такие в Фанагории видывал, обязательно упреди о том Святослава!
Младобор давно ускакал прочь, а мстительная память всё показывала Звениславу перед внутренним взором, как пришла весть о гибели Овсенислава, как умирал на его отцовских руках в степи Вышеслав и как он, чтоб прекратить страдания сына, собственными руками послал в дорогое сердце остриё поданного Издебой меча… Будто вражеские клинки кромсали зарубцевавшиеся раны на сердце старого воина, и боль сия, и тревога за младшего выжимали из очей горькие слёзы. Но потом дед вспомнил за внука, утёр крепкой дланью лицо и погнал коня к недосеянному полю.
Младобор прискакал на свой широкий двор, его десница привычно накинула повод на нижнюю ветку груши. Взволнованный и решительный, Лемеш тут же устремился в жилище. Меч брата и отцовское походное седло уже лежали на траве подле коня, то и дело нетерпеливо натягивавшего повод, когда мать, возвращаясь с обеденной дойки, узрела приготовления сына. Тихо охнув и опустив подойник с молоком, она бессильно присела на колоду. Втайне она давно ждала этого мгновения и боялась его.
– Сынок, погоди, куда же ты, ведь отец… – растерянно пролепетала она.
– Отец меня сам посылает к князю с вестью важной. – Увидев, что мать побледнела и не может встать от накатившей на неё слабости, Младобор подошёл к ней, заботливо приподнял и, подхватив подойник, повёл под навес с печью, где летом всегда готовили еду и обедали за грубым, наскоро сколоченным столом. – Не волнуйся, мамо, я только туда и обратно, упредить надо Святослава про корабли греческие, не печалься! Отец сам хотел ехать, да куда ему, увечному?
– В Переяславце стражники княжеские должны быть, пусть они весть передадут!
– Каждый миг дорог, мамо, я кратчайшей дорогой поскачу!
– Ой, погоди, я сейчас чего-то приготовлю, – вскочив на ноги и утирая покатившиеся слёзы, засуетилась Живена. – А Беляна-то на огородах, её позвать нужно…
– Я к ней по пути заскочу, нет у меня времени, – быстро меняя сёдла на коне и опоясываясь мечом, отвечал матери Младобор.
Живена на скорую руку собрала снедь.
– Погоди, сыне, молочка парного на дорожку…
Уже в седле Младобор осушил одним духом небольшую кринку с тёплым молоком и, поцеловав мать, тронул коня.
Беляна, увидев своего мужа в боевом седле и с мечом у пояса, едва не лишилась чувств.
– Младоборушка, куда ты? Как же это, неужели…
Муж почти на ходу слетел с коня и подхватил её на руки.
– Ну что ты, Белянушка, что ты, ладушка моя, да не волнуйся так, я только весточку князю передам, – покрывая поцелуями родной лик, шептал Младобор. Он ещё раз крепко обнял любимую и вскочил в седло. – Я скоро обернусь! – крикнул он, пришпоривая жеребца.
Вечером, когда вернулся с поля необычно уставший и хмурый Звенислав, заплаканная Беляна спросила про Ярослава.
– Так он же вперёд меня должен был вернуться, – несколько удивился старый Лемеш, усаживаясь под навесом, – с другими отроками коней погнал.
– Точно, пригнали коней, – всплеснула руками Живена, – только я Ярославку не видела, за козами на выгон ходила.
– Цветена, – строго позвала дочь Беляна, – а ну, реки, куда это Ярослав подевался, он узелок собирал с едой, говорил, в ночное с отроками пойдёт, а сейчас нету нигде.
– Он в Доростол следом за отцом подался, – не поднимая очей на мать и деда с бабкой, едва слышно проговорила насупившаяся Цветена. – Велел сказать вечером, чтоб вы не волновались…
Услышав такие слова, Живена схватилась за сердце, а Беляна, обхватив голову руками, зашлась душераздирающими криками. Звенислав встал и, хромая больше обычного, пошёл в стойло к лошадям, которых всегда любил и понимал, как и они его. Здесь, подальше от стенающих женщин, он тяжко опустился на сено и что-то зашептал, не то молясь, не то жалуясь верным коням, которые тянули к нему свои умные большеглазые морды, мотая ими и фыркая, будто хотели утешить и стряхнуть нависшее над хозяином новое горе.
– Притыка, – окликнул начальника Святославова флота его дозорный сотник, – тут пловца наши обнаружили, с той стороны Дуная плыл с конём своим. Речёт, что важная весть у него для самого князя.
– Давай его сюда, поглядим, кто таков, – пробасил старый темник.
К нему подвели крепкого коренастого мужа, мокрого, со слипшимися на голове русыми волосами, одетого как огнищанин. Он выглядел рассерженным или даже обиженным из-за того, что ему не верят и не ведут к князю, да ещё и меч отобрали.
– Кто таков, откуда и с чем к князю рвёшься? – строго спросил Притыка.
– Младобор Лемеш из-под Переяславца, переселенцы мы, из берестянских огнищан, – ответил мокрый муж. – Я с важной вестью к князю.
– А чего это князь тебя слушать станет, ты же никому так и не сказал, что за весть? – не выдержал дозорный сотник.
– А того, что князь мне… что я князю… знает он меня, вот, а ещё более отца моего Звенислава Лемеша, который меня и послал сюда.
– Погоди, – вдруг вскочил Притыка, – а не тот ли это Звенислав, который был…
– Старшим конюшим в походе на Хазарию, – закончил Младобор слишком медленную речь главного лодейного начальника, который с годами ещё более раздался вширь, а черепом совсем облысел.
– Младобор, значит, младший Лемеш? Постой, постой, ведь это брата твоего… когда он умирал, а Издеба меч… твоему отцу… – Притыка от нахлынувших воспоминаний говорил рвано и непонятно для прочих.
– Меч Вышеслава отец повелел взять, а вот они, – Младобор кивнул на растерявшегося дозорного сотника, – забрали.
– А ну, вернуть меч немедля! – рыкнул на сотника темник. – Как же тебе, сыне, пред князем и без меча боевого…
– Гляди, княже, кого мои дозорные из дунайской волны вытащили! – торжествующе пробасил Притыка, когда они с Младобором предстали перед Святославом.
– Погоди, – остановил его князь, – сам вспомню. Он некоторое время глядел на мужа, прикидывая, где его видел. – Младший сын Звенислава Лемеша, кажется, мой однолеток, а зовут…
– Младобором, – снова не сдержался Лемеш.
– Точно, Младобором, так ты из Киева, что ли?
– Нет, мы же по твоему слову, княже, сюда переселились, под Переяславцем землю пашем, дом поставили.
– Так почему ни разу ко мне не подошли, я же в Переяславце часто бываю, столица моя там, – молвил удивлённо князь, но, увидев, как смутился Младобор, только махнул рукой: – Весь в отца!
– Княже, по Дунаю вверх идут многие корабли греческие, сколько точно, не ведаю, но не одна сотня. А ещё отец велел передать, что среди тех кораблей есть огненосные дромоны, такие, как в Фанагории ему видеть приходилось, он их по медным трубам для метания огня узнал.
– Так, значит, флот, говоришь, греческий, да ещё с огнемётами? – покрутил ус князь. – Будем готовиться к встрече. А тебе, Младобор, дякую! – Он хлопнул Лемеша по плечу своей крепкой дланью.
– Светлый и чистый муж сей Младобор, – услышал голос жены за спиной Святослав, когда за Притыкой и Лемешем закрылась дверь. – Мне показалось, что он с тобой как-то прочно связан, но каким образом, не могу пока уразуметь, – задумчиво молвила жрица, всё ещё глядя не то на дверь, за которой скрылись ночные гости, не то в самую Навь, что доступна только волхвам и кудесникам.
А на следующую ночь дозорные всё того же Притыки выловили ещё одного пловца. Русоволосый отрок лет пятнадцати едва дышал, видно, крепко нахлебался дунайской водицы. Умелые лодейщики быстро привели отрока в чувство, и он заговорил, вначале с трудом, иногда сплёвывая подкатывающую к горлу воду.
– Кто таков есть, зачем в Доростол пробирался, реки! – сурово вопросил дозорный сотник.
– Ярослав Лемеш я, – молвил «утопленник». – Хочу супротив греков биться вместе с князем Святославом! – уже твёрже, после короткой передышки, закончил он.
– Да что ж это такое, – дивясь и возмущаясь, проговорил сотник, – как вечер, так по одному Лемешу из воды достаём! Вы чего там, в воде, плодитесь, что ли?
– Нет, – серьёзно ответил Ярослав. – Просто по берегу к граду не подобраться, греков тьма-тьмущая, дозоры конные аж до самой воды шастают, вот я и решил вплавь, да мне в конце ногу свело…
– Понятное дело, ногу свело, страх одолел, вот и начал воду хлебать. Добре, братцы, что в оба глядели за рекой, ведь утонуть мог отрок, – сокрушённо молвил сотник. – А Младобор Лемеш тебе кем приходится?
– Он дядька мне и отец приёмный, – отвечал Ярослав. – Только вы меня к нему не ведите, а то заругает. Мне бы сразу к вам, в войско. Я из лука стрелять и копья бросать умею!
– Да, князю только тебя одного и не хватало. Отведи его к отцу, он сейчас у изведывателей, пусть задаст сыну за побег из дому, – повелел сотник высокому сухощавому ратнику с длинными усами. И опять повернулся к отроку: – Тайно ведь сбёг, воин грозный?
– Нет, я Цветенке, сестре младшей, повелел сказать матери и деду с бабкой, куда я и зачем, чтоб не волновались, – молвил уже совсем оживший отрок.
Воины только вздохнули и переглянулись: хорошее «успокоение» для родных – узнать, что их внук подался в осаждённый град на верную гибель.
– Пойдём, Лемеш, – молвил длинноусый и тронул Ярослава за плечо.
Вскоре подоспел греческий флот, пресекший свободное плавание русских лодий по Дунаю.
– Мы не выпустим ни одного их корабля, император! – гордо рёк прибывший с докладом друнгарий Лев. – Ни одной самой малой лодки, отныне они, как вино в амфоре, запечатаны в Дристре моим флотом.
– А почему ты сразу не сжёг все их корабли? – строго вопросил Цимисхес.
– Эти дьяволы вытащили все свои лодьи на берег, а наши дромоны не могут из-за большой осадки подойти близко, о триерах я вообще не говорю, нам не достать их огнём! – несколько раздражённо ответил Лев.
– А может, перегрузить хотя бы несколько огненосных сифонов на малые корабли и так попробовать достать лодьи россов, – предложил Варда Склир.
– Уже пробовали, – мрачно и с ещё большим раздражением махнул рукой друнгарий. – Я послал вёрткую галею, но проклятые лучники скифов истребили всех гребцов своими стрелами, а саму «куницу» сожгли, подплыв к ней утлой лодчонкой и забросав смоляными факелами. Мои моряки с дромонов их даже не заметили. Увидели уже, когда судно заполыхало огнём, а скифы вытаскивали свою лодчонку на берег.
– Великий император, пришли осадные орудия магистра Куркуаса! – радостно доложил мандатор.
– Теперь они в полном окружении. Русский Барс угодил в западню, в смертельный капкан, и я объявляю операцию «Агра»! – высокопарно провозгласил Цимисхес, собрав своих стратигосов. – Будем истреблять варваров камнемётами и жечь лидийским огнём. Магистр, – обратился Цимисхес к Куркуасу, – поставь свои машины так, чтобы они могли наверняка громить не только стены, но и сам полис. – Император живо повернулся к друнгарию флота: – Раз твои дромоны, Лев, не могут достать лидийским огнём до скифских кораблей, то отдай половину запасов жидкого огня Куркуасу.
– Через пару дней мы поджарим их, как в царском дворце Иоаннополя, о великий, и пусть ужас вселится в тех из них, кто останется жив! – громко и уверенно ответил повелитель осадных орудий, облачённый в великолепную броню с золотыми орлами и сценами из подвигов героев.
Императору показалось, что Куркуас не совсем протрезвел после долгожданной встречи флота и сухопутного войска. Но Иоанн не обратил на это внимания, поскольку был искренне рад прибытию своего родственника с грозными катапультами и баллистами.
– Что, брат Варяжко, – задумчиво рёк Ворон, стоя на крепостной стене рядом со своим собратом по воинской верви, – Свенельд поведал, что в Великой Преславе заговор был, и предатели ворота ромеям открыли. В Переяславце то же самое хотели сделать, когда болгары нас обложили.
– Разумею, о чём ты, – кивнул помощник, – такова их ромейская военная хитрость.
– Коли был бы Невзор, – с болью молвил Ворон, – так уже бы всех предателей да тайных ромейских трапезитов нынче повязали… – Начальник тайной стражи на какое-то время смолк, глядя в темноту. – Пусть ждут ромеи открытых ворот, не дождутся! – твёрдо молвил Ворон.
Святослав, пока греки ждали подхода своего флота, велел окопать стены глубоким рвом и беспрестанными вылазками тревожил стан греков, не давая им приблизиться к Доростолу. В Киев были срочно отосланы гонцы за подмогой.
Почти каждую ночь выходили тайно воины Святослава и совершали быстрые и жестокие набеги на обложивших град со всех сторон врагов. Потому вынуждены были ромеи изменить свои порядки, и, кроме традиционных ночных охоронцев керкитов, пришлось устанавливать дополнительные дозоры из обычных воинов. Но они не были привычны к ночному бдению, да и днём приходилось им ходить на приступ городских стен, и порой засыпали воины в ночном дозоре, становясь лёгкой добычей скифских ратников.
Прошла седмица обороны Доростола.
В граде меж тем некоторые жители стали выказывать недовольство, что им приходится терпеть неудобства из-за осады. Одни рекли, что надобно Святославу уйти в свой Переяславец и там оборонять его, сколько пожелает, другие и вовсе предлагали открыть ворота и сдаться на милость христолюбивых греков. Никто не пресекал тех разговоров, и ратующие за сдачу града всё более смелели. Часто прислушивались к тем пламенным беседам простой огнищанин и с ним отрок лет пятнадцати, что, как они сказывали, привезли на продажу немного зерна от прошлого урожая, да, оказавшись в осаждённом Доростоле, теперь маются, не ведая, как обратно домой попасть.
– Желаешь отсюда вырваться? – спросил как-то добротно одетый болгарин у огнищанина.
– Рад бы, да как тут вырвешься, – безнадёжно махнул рукой землепашец. – Коли и окажешься за стеной, так там греки посекут, им-то разницы нет, что не воин я, а пахарь.
– Приходи сегодня к церкви, что у западных ворот, там и узнаешь, как себя и сына спасти, – кивнул на отрока осанистый болгарин.
– И конь у меня тут, и воз, жалко всё, своё ведь! – сокрушался, тяжко вздыхая, огнищанин, бессильно разводя мозолистыми, привыкшими к сохе руками.
– Так и коня спасёшь, да ещё и не с пустым возом домой вернёшься, дело тебе реку, приходи, – горячо зашептал ему на ухо болгарин, потому что мимо прошли несколько ратников.
– Добре, коль так, приду, – простодушно согласился огнищанин.
Когда собравшиеся были впущены внутрь храма, Младобор насчитал там около шести десятков человек. Тот самый осанистый болгарин, что говорил с ним на площади, и еще муж среднего роста с цепкими карими очами, по виду которого нельзя было понять, грек он, болгарин или ещё кто, вели доверительную беседу с собравшимся разношёрстным людом.
– Ждать больше нельзя, – молвил осанистый, – надо следующей ночью открыть восточные ворота, иначе всем не миновать гибели от камнемётных машин. А если кто и выживет от тех камней и стрел, то клинков непобедимой ромейской армии уж точно не избежать.
– Сейчас решить надо, кто из наших должен перебить охрану, кто отворит ворота, кто подаст условный сигнал грекам, – негромко, но уверенно рёк невзрачный.
Младобор осмотрелся, и внимательные очи его заметили, что и главный вход в церковь, и запасные выходы стерегут крепкие молчаливые люди с кинжалами за поясом.
– Вот вы трое, и ты тоже, – указал невзрачный на огнищанина, – будете сечь охрану ворот.
– Я землепашец, а не воин, – возразил Младобор, – силы у меня хватает, ворота могу открыть, мост опустить, а вот людей рубить не приучен…
– Ладно, – примирительно кивнул болгарин, – он и вправду здоров, при открытии ворот за двоих сработает, а охрану сечь желающие найдутся.
– Хорошо, тогда… – Невзрачный не успел договорить. Боковая дверь с треском отворилась, Ворон в кольчуге с клинком в руке и ещё десяток воинов с взведёнными луками и направленными остриями сулиц стали веером перед собравшимися.
– Никому не двигаться, клинки на землю, кто пошевелится, умрёт! – громко молвил в наступившей тишине изведыватель россов.
Стоящие у главных дверей, отбросив щеколду, ринулись было на улицу, но тут же упёрлись грудью в острия копий молчаливых варягов. Нескольких заговорщиков, которые бросились бежать или выхватили оружие, пронзили меткие стрелы лучников. Тут и там зазвякали, падая на каменный пол церкви, клинки.
– Дякую тебе, Младобор, и сыну твоему Ярославу, – молвил Ворон, когда повязали и увели всех зачинщиков смуты. – От меня и князя вам благодарность.
– Мне бы лепше на стену, с ромеями силой помериться, чем так…
– Разумею, не по тебе сия служба, да что было делать. Человек ты новый, никто тут тебя не знает, да и притворяться не надо, за сто шагов видать, что ты огнищанин. И малец твой кстати оказался. Ещё раз дякую вам красно! – Начальник Тайной стражи наклонился и что-то шепнул Младобору на ухо.
Тот согласно кивнул, чело его посветлело, и он обернулся к сыну:
– Ярослав, тебе честь великая выпала, будешь служить в изведывателях. Гляди, чтоб добре помогал в сём хитром деле дядьке Ворону, не опозорь Лемешей!
– А ты куда?
– Ты же слышал, я к такой трудной службе не способен, мне бы чего попроще, – хитровато улыбнулся Младобор.
А на следующее утро узнали горожане, что ночью Тайная стража русов схватила около трехсот предателей. И посреди Доростола на торговой площади прилюдно самые ретивые из них лишились головы, а остальные были заточены в крепком подземелье.
И прекратились в граде разговоры об открытии ворот и сдаче врагу.
Старший стратигос Каридис вместе со своим помощником долго ждали назначенного часа, затаившись напротив восточных ворот Дристра. Затекали руки и ноги, всё чаще приходилось менять положение тела.
– Как это синодики, что у самых ворот недвижно схоронились, могут так долго не двигаться, будто их нет вообще? – искренне подивился помощник, вглядываясь при лунном свете в пространство возле крепостных ворот, где не заметно было ничего живого, только камни, редкие кусты да широкий ров, наполненный водой, что иногда поблёскивала, отражая ночное светило и звёзды.
– Каждый своё ремесло знает, их дело – хорониться надёжно, а потом так же надёжно хоронить других, а наше – стратегически мыслить, а потом действовать по холодному расчёту, – тихо ответил Каридис.
– Что ж такое, уже давно должен был засветиться огонь у калитки, а его всё нет! – встревоженно зашептал помощник.
Каридис молчал, его острое чутьё подсказывало, что за стеной что-то идёт не так. Но вот почти под утро наконец справа от ворот тихо отворилась небольшая дверь, и кто-то трижды перекрестил воздух небольшим факелом. Из-за камней и кустов, из-за обочины мощёной дороги, что вела к воротам, беззвучными тенями обозначились синодики и метнулись к калитке, один за другим, словно звенья живой цепи, втягиваясь в тёмный проём.
– Получилось! – радостно заволновался помощник, указывая на мост, который дрогнул и стал медленно опускаться. Ждавшая этого мгновения первая кентархия гоплитов устремилась к опускающемуся мосту. На сторожевой башне царила полная тишина: наверное, те, кто находился на ней, уже были убиты заговорщиками. Вот, заскрипев, начали открываться главные ворота. Гоплиты тяжёлой поступью взошли на мост через ров и устремились к воротам… которые неожиданно затворились, а на головы железных воинов полетели камни, полилось горячее масло и смола. Раздались крики раненых. Отхлынувшие от смертоносных стен гоплиты столкнулись с теми, кто ещё бежали к воротам, на узком мосту через ров. Сшибаясь друг с другом, они падали в воду в своих тяжёлых доспехах и тут же шли ко дну, а тем, кто пытался выбраться, на головы падали новые железные вои, погружая нижних в илистую жижу глинистого канала. Кто-то, сбрасывая тяжёлые шлемы с забралами и боевые рукавицы, жадно хватая воздух широко открытым ртом, тут же получал меткую стрелу болгарского или русского лучника. Вопли, крики, стоны, проклятия и запоздалые команды, лязг железа о железо и шипение горящей смолы, попадающей в воду, кровь и пар, – всё смешалось у ворот смерти, которыми стали для многих десятков гоплитов и синодиков восточные ворота Доростола.
– Назад! – заорал вне себя обычно невозмутимый Каридис. – Сигнал к отходу, скорее!
Такого позора старший стратигос не испытывал ещё никогда. Каково же пришлось бы ему на самом деле, узнай он, что немалую роль в сём унижении сыграл не опытный изведыватель россов, а простой огнищанин, с бодрым уханьем низвергавший в это время со стен пудовые камни на головы греческих латников.
Дерзкие вылазки осаждённых сменялись яростными приступами греков, и тогда на защиту града становились вместе с любимыми их жёны. Так велось у славян издавна и немало удивляло римлян, персов и прочих завоевателей, так же как теперь византийцев, когда, снимая шелом с убитого славянского воина, они обнаруживали вдруг прекрасную жену. Рядом со взрослыми на стенах порой возникали и дети, подавая камни, стрелы, помогая перевязывать раненых, приносили воду и еду. Воинские начальники их, конечно, не пропускали, но они умудрялись появляться снова и снова.
Святослав почувствовал, что на сегодня всё – византийцы больше не станут идти на приступ. Он устало опустил меч и сел тут же на стене, привалившись широкой спиной к зубцу-выступу. Подрагивающей после сильнейшего напряжения десницей утёр пот, копоть и кровь с чела.
– Предслава, почему ты снова здесь, ведь ты же… – Он запнулся, скосив очи на чрево облачённой в кольчугу жены. – Ведь я тебе сколько рёк, не место жене там, где Мара пирует…
– Нынче на стенах я не одна, погляди вокруг, сколько женщин, да и что другие молвить станут, коли жена князя в такой час дома хорониться будет? – упрямо рекла бывшая жрица бога Загрея, опускаясь напротив мужа, звякнув при этом о камни лёгким хазарским палашом.
– Но ведь ты затяжелела…
– Про то только мне и тебе ведомо, – тихо молвила Предслава.
– Кольчугу такую ладную где взяла? – перевёл разговор на другое усталый князь, разумея, что спорить с волхвиней – пустое дело, даже князю.
– В твоей оружейной, где же ещё, и меч хазарский там же Ворон помог сыскать. Мы ведь Берегини ваши, и не только сражаемся, а ещё и храним вас своей женской силой. – И добавила, печально улыбнувшись: – Я не вижу здесь нас мёртвыми, знать, не суждено на стенах погибнуть… – И она провела рукой по едва заметному чреву.
– Что, трудна, брат Ярослав, наука изведывательская? – вопрошал Ворон умаявшегося от долгих занятий отрока.
– Я просился в боевую вылазку, а меня в учение! – насупившись, отвечал коренастый отрок.
– На боевую вылазку, речёшь, – вдруг сузил свои птичьи очи изведыватель, – мыслишь, в единоборстве и неумеха стоять может супротив обученного и вооружённого грека? Держи клинок, – решительно протянул он ученику греческий ромфей, – рази меня!
– Как, – опешил отрок, – в самом деле?
– А на стене или в вылазке ночной ты грека шутейно разить будешь? – строго одёрнул его наставник.
Ярослав приноровился к клинку, несколько раз махнул им в воздухе, а потом рубанул перед самой грудью главного изведывателя, но тот даже не шелохнулся.
– Так нечестно, дядька Ворон, ты не защищаешься, – обескураженно молвил отрок.
– А чего я защищаться-то буду, коли твой удар за три перста от моей кольчуги прошёл. Я тебе рёк, что добрый воин зря руками не машет, иль ты меня за новичка держишь? – сердито уколол учитель.
Отрок покраснел и вдругорядь рубанул мечом, уже целясь наискосок в десное плечо наставника, ожидая, что тот успеет отскочить. Но Ворон не отошёл, наоборот, когда меч уже начал своё движение, подался вперёд, встречая железным наручем шуйцы руку Ярослава чуть выше её кисти. Ромфей упал на пыльную землю, следом за ним полетел и отрок, а десница его оказалась так прочно зажата в руках Ворона, что он не мог шелохнуться.
– Учись пока тому, что я тебе дал, скоро это в деле понадобится. Речь болгарская у тебя добрая, но надо, чтоб выговор был чистый. Для того будешь с Красимиром, что тебя ножом владеть учит, только по-болгарски речь! – как всегда кратко и строго молвил главный изведыватель.
И Ярославу пришлось подчиниться.
Глава 3 Печальная Радоница
К Ярову дню огнищанские поля уже зеленели дружными всходами, молодая поросль тянулась к солнцу. Птицы, вернувшись из Ирия, вили гнёзда на деревьях и под стрехами крыш. Яробог постарался в то лето, и всходы были буйными, весёлыми. Только старцы, глядя на то, рекли, качая головами:
– Кто же будет собирать урожай, ибо мало в полях осталось работников, все ушли на войну…
И Радоница пришла печальная. Люди затянут весёлые песни, а потом потихоньку начинают плакать, вспоминая родных. Плакала и Живена в новой болгарской земле, где они поставили новый деревянный дом, не хуже, чем на Киевщине. Только не могла она прийти на могилки своих сыновей, принести расписные яйца и справить поминки. Овсенислав пал у Белой Вежи и был сожжён на погребальном костре. А Вышеслав сложил голову в приднепровских степях, и прах его тоже был развеян в чужой стороне. Звенислав привёз с собой только меч сына, который Живена поставила в Красном углу, каждый день молилась на него и плакала. А теперь нет ни меча, ни Младобора с Ярославом… Последние мужчины ушли на войну! И материнское сердце вновь сдавила острая боль.
И горестно было повсюду в тот час и в Болгарии, и на Руси – не звенели привольные песни, не зачинались удалые плясы. Все знали, что на полудне русская кровь течёт реками, и никто не может её унять, никто не в силах ту кровь-руду затворить даже самыми сильными заговорами и чародействами.
По двору старых Лемешей шлёпали босые ножки ещё двоих внуков, не поймёшь, чья копия – Вышеслава или Младобора – одна кровь. И сжималось сердце Звенислава и Живены с Беляной от дум за Младобора и Ярослава. И то, что тринадцатилетняя Цветенка распускалась, как маков цвет, в часы войны вызывало не радость, а тревогу.
Тревожно было и в Киеве. В ту весну пришли гонцы-скороходы с полудня от князя Святослава с вестью, что Византия ожесточённо набросилась на болгарские земли. И что кровь льётся реками в Болгарии и в Дакии, и что много витязей пало в Старой Мизии, а Дунай-река несёт к морю теперь не синие, а красные воды. И что греки обложили русскую дружину в Доростоле и князь просит послать ему в помощь новые полки.
Одни кияне печалились за сродников, что пребывали в дружине княжеской и теперь гинули в далёкой земле Болгарской, другие же боялись возвращения грозного князя, опасаясь его кары за предательство христиан под Адрианополем.
– Эх, братья, – рёк купец Гордята, рано поседевший после гибели единственного сына, – вот возвернётся наш грозный князь с Дуная да почнёт расправу над оставшимися христианами! – И он опасливо оглянулся, хоть и был в своей горнице с ближайшими знакомцами.
– Коли победу одержит, так, может, ещё и пронесёт Господь, а коли побьёт его Цимисхес, тогда добра не жди, всем достанется, – вторил ему, качая горестно головой, боярин Жур.
– Единое для нас спасение, – тихо молвил боярин Ослоня, – коли б сталось так на Болгарской войне, – он совсем перешёл на шёпот, – чтоб не вернулся князь вовсе в Киев…
Дед Кныш, после того как схоронили княгиню, стал ещё более ворчливым, быстро уставал, да и года сказывались. У него были теперь молодые помощники, а сам дед чаще разговаривал сам с собой.
– Вот беда-лебеда, совсем, кажись, недавно я водой из колодца юного княжича окатывал поутру, а нынче и не помню, когда видел-то его в последний раз, пожалуй, как мать-княгиня в Ирий ушла. Всё не угомонится наш Святослав, всё воюет, а кому от того толк? Толстобрюхим купцам, чтоб поболее товара могли привозить из разных стран дальних, чтоб вольно жило и плодилось купеческое барышное семя? Ведь воинов лучших за то кладёт, каких богатырей, а! – Дед сокрушённо вздыхал, обречённо махал рукой и шёл давать указания своим молодым и, как ему казалось, не шибко старательным помощникам.
В старом, но крепком тереме, поставленном ещё дедом с прадедом, все давно спали после нелёгких дневных трудов. Только Болесе не спалось, как бывало часто в последнее время, да и свекровь, наверное, также в своей светёлке ворочается и всё думает свои невесёлые думы. Вместе овдовели они. Днём-то полегче, забот полно и по хозяйству, и с детьми, а вот ночами… Нерадостные вести приходят из Болгарии, снова там война разгорается. Сыновья неугомонные с клинками не расстаются, тоже темниками быть мечтают. Только ведь отец с дедом лучшими из лучших были, а где они теперь? Сколько раз уже к ней сватались достойные мужи, ведь годы прошли со времени гибели Горицвета, должны зарубцеваться раны душевные, а она всё по ночам с ним беседы ведёт. Когда дети заболеют или натворят чего – ему поплачется, пожалуется, и легче становится. А теперь вот сын старший на войну рвётся, удержу нет, речёт, что с побратимом отцовским, князем Святославом, рядом хочет сражаться. Не зря его Горицветушка Воиславом назвал. Пока молод ещё, не призывного возраста, а вот через годок-другой… Сердце Болеси сжалось ещё сильнее. Жаль, что нет более старого Великого Могуна, вот уж кто мог словом душу-то править – тяжко вздохнула вдова. Ей вдруг вспомнилось, как шли они с неразлучной подружкой Ладомилой из княжеского загородного терема к мельнику Водославу, как гадал им старый израненный волхв на грядущее. Так всё и вышло по слову его – Ладомила в Навь ушла, а сыну её Ярополку князь Святослав византийскую невесту прислал, монахиню красы дивной. «А что, – молвила сама себе вдова, – помнится, у Водослава помощник был, он, по слухам, теперь так же людей лечит, и словеса заговорные знает. Не сходить ли к нему, может статься, скажет он мне слова, какие только волхвы могут речь, да рассеется хоть немного морок душевный… Возьму Славуню с собой, и выйдем по холодку…» И Болесе от этих мыслей как-то сразу сделалось легче.
А о мельнике Мирославе в самом деле всё более рекли в окрестных селениях как о целителе, коему ведомы тайны волховской здравы. И хоть сам мельник отмахивался от тех разговоров, уверяя, что даром пророчества обладал старый Водослав, а не он, да люди шли к нему со своими бедами, и Мирослав не мог отказать в помощи. Особенно удавалось ему лечение детей. Молодые девчата, что заглядывались порой на статного мельника, тяжко вздыхали, понимая, что он, как и большинство волхвов, будет один, отдавая себя не женщине и семье, а всем людям, их лечёбе и общению с силами божескими. Не мог рассказать людям Мирослав ни о русалке Синяве, чей дивный танец навсегда остался в сердце, ни о том, что сдружился с обитателями водными и лесными и потому через их волшебную силу может исцелять человеческие хвори и отводить от людей многие беды. Только ведал Мирослав и другое, что люди киевские, как и прочие, всё более заняты своими заботами и все менее разумеют лесных, водных да степных жителей, а оттого разлад происходит в родах их и душах. И хоть не пришлось более мельнику зреть дорогой образ, сколько он ни вглядывался в укромные уголки озера, особенно по ночам, но порой слышал звонкий голосок русалки и часто про себя беседовал с нею. Так и нынче, замыслившись, Мирослав не заметил, как вслух встал поверять озёрной хозяйке свои тревоги.
– Ведаешь, Синявушка, – рёк молодой мельник, – мало кто теперь разумеет вас, берегинь, мавок, русалок да леших. А уйду я, другие волхвы, тогда как? Ведь неоткуда станет людям здравие и силу брать.
– По Божьим Поконам, человек сам творит жизнь свою на земле-матушке и сам за неё отвечает. Значит, что сотворит, в том и жить будет, – затухающим колокольцем печально прозвенела русалка, и мельнику почудилось, что в воде среди зарослей осоки промелькнули и скрылись зелёные длинные волосы.
В сей миг привычное к голосам воды и леса, к скрипу старой мельницы ухо Мирослава уловило посторонний звук, и мельник весь обратился в слух: кто на сей раз пожаловал, огнищанин ли за крупой или какая жена с хворым дитятком? Вскоре на тропе, что вилась берегом озера от самого Киев-града, появились две стати – одна женская, а вторая вовсе девичья. Ещё не видя лиц, мельник отчего-то взволновался, ему показалось, что сие уже случалось однажды в его жизни. Или то было виденье из Нави?
Когда нежданные гостьи подошли и поздоровались, мельник сразу вспомнил, когда и где видел одну из жён. Она тогда с подругой приходила к старому Водославу. «Наверное, не ведает, что его уже давно нет в сём мире», – подумал мельник, вспомнив даже, что зовут гостью Болеся. Его взгляд скользнул по лику молодой спутницы, что стояла, смущаясь, подле матери, а потом несмело подняла взор на мельника. Едва узрел он девицу, как в ушах стал нарастать шум, будто от приближающегося по лесной чаще ливня, а в очах заплясали цветистые круги. Болеся что-то говорила, но Мирослав не слышал, он только глядел на юную девицу с тонким и гибким, словно у берёзки, станом, и уста его сами собой шептали: «Синява, Синявушка моя!» В самом деле, перед ним стояла его любимая, только не в призрачном облике русалки с зелёными волосами, а в живой человеческой плоти с тёмной косой, хотя очи всё те же – огромные, синие и блистающие, как озёра в ясный солнечный день.
– Не угадал, меня зовут Славуня, – озорно улыбнулась юная дива, и голос её зазвенел в душе Мирослава чистыми родниками.
– Я тебя помню, ты помощник деда Водослава, – наконец смог различить сквозь шум в ушах молодой мельник. – Мы приходили к нему с Ладомилой, он нам гадал под мельничным колесом… А ты молоком парным угощал…
– Пойдёмте, – едва смог вымолвить Мирослав хриплым чужим голосом.
Он повёл гостий на взгорбок к тому месту у дуба, где покоилось тело старого волхва-воина.
– Тело здесь схоронено, а душа давно в Нави обитает, – только и смог сказать, чуть совладав с голосом, мельник.
Они молча постояли над погребалищем. Потом Болеся достала из сумы крашенные луковой шелухой яйца. Два положила на могилку, а по одному протянула дочке и мельнику.
– Давайте, дети, помянём Водослава. А ты с дедом беседы часто ведёшь? – спросила вдруг Болеся у Мирослава.
– Когда трудно мне, помощи у него прошу, дедушка мне никогда не отказывает, – просто ответил молодой мельник. – Ведь коли о душе кто в явском мире вспоминает, то для неё радость великая. Нам, живым, не понять той радости… А тебе, Болеся, я не стану гадать на грядущее. Ты ведь за этим пришла? – обратился он к несколько растерявшейся вдове. – Исполнилось нынче твоё грядущее. И не только твоё… – Лик молодого целителя тепло засветился, он снова взглянул на девицу, теперь с улыбкой, и она ему ответила тем же. Похоже, они разумели друг друга и без слов.
Глава 4 Покарание магистра Куркуаса
Как-то ночью дозорного на доростольской стене окликнул болгарский перебежчик. Ему опустили лестницу, и он перелез через стену. Перебежчик выглядел необычно. На нём было длинное тёмное одеяние, какие носят христианские священники, а крест на груди не оставлял сомнения в принадлежности сего мужа к христианской братии. Длинные власы на голове и борода были подпалены, на руках и челе также виднелись следы многих ожогов.
Десятник, а потом сотник, допросив священника, доложили о нём князю, и он сам пожелал видеть странного перебежчика.
– Кто таков, человече, и почему в град осаждённый стремишься, где можешь легко найти смерть свою? – вопросил князь, внимательно оглядывая пришельца.
– Я отец Гавриил, был священником Золотой церкви при дворце царя нашего Бориса, – рёк перебежчик, с почтением склонившись пред князем россов. – Был, потому что нет более такой церкви.
– Ты, рекут, сражался вместе с моими воями в Преславе? – с долей любопытства спросил Святослав.
– Когда греки пришли к Великой Преславе, я не мог поверить, чтобы верующие во Христа люди могли осквернить великий праздник Его Воскресения кровавой сечей! Потому, когда воочью узрел святотатство, сражался вместе со всеми на стенах, пока меня не ранило.
– А до нападения ромеев ты так не мыслил? – уточнил князь.
– По правде сказать, нет, я ведь учился в Византии, там был рукоположен и получил сан священника, не мог я ранее так мыслить. Но когда ромейские гоплиты, ворвавшись в Золотую церковь, принялись её грабить и выдирать золото и каменья со стен и образов божеских… – Священник замолчал ненадолго, видно окунувшись в недавние события. – Сии безбожные деяния греков, да ещё волхв твоей полутьмы, что пребывала в столице нашей, помогли мне взглянуть на ромеев по-иному. Мовеслав – язычник, а сражался, как воин, супротив тех, кто грабили и жгли святыни христианские. Как теперь понять мне, княже светлый, кто истинный враг Христа, язычники или христиане? – Гавриил снова на миг замолчал.
– Ты видел, как погиб Мовеслав? – вскинул Святослав свой пронзительный взор на служителя.
– Его вместе с другими твоими воинами поглотило пламя в царском дворце, – вздохнул Гавриил. – А вместе с ними сгорели безвозвратно и мои заблуждения. Нынче, князь Святослав, пред тобой не служитель греческой церкви, а болгарский священник Стоян Петкович, – уже твёрдым голосом провозгласил перебежчик. – Прежний царь наш Симеон был истинным христианином и сыном своей страны, а потому нещадно бил Византию. Потому разреши мне сии мысли передать болгарам, которые рядом с тобой сражаются против греков. Разумею, что я не воин, но голова моя хоть и обожжена крепко, да пока ясна.
– Так ведь император Цимисхес речёт, что он пришёл освободить Болгарию от захватчиков-россов? – кинул повеселевшим оком князь.
– Когда ты пришёл, то не тронул ни царя болгарского, ни казны царской, ни градов наших, ни храмов святых. А у греков, я теперь добре ведаю, никакой веры в душе нет, а только алчность, жажда стяжать поболее, грабежи да убийства без разбору. И они, как тати, хотят тем награбленным перед Богом Всевышним откупиться?
– Я тоже, Стоян, в наказание за измену разрушаю церкви и монастыри христианские, – жёстко молвил князь, посуровев челом. Потом, помолчав, спросил в раздумье: – Скажи, что народ болгарский мыслит о сей войне?
– Народ болгарский унавился от войны. Есть, конечно, такие, кто с охотой пошли служить византийскому Цимисхию, но большая часть в его войско набрана принуждением. Коли уйдёшь ты, совсем разорят они Болгарию, и от всего этого будет народу болгарскому только зло. Я вот о чём хотел упредить, князь: греки хотят предать Доростол огню. Я слышал, как о том хвастливо рёк их начальник по имени Куркуас. Меня к нему привели его воины, там я видел осадные орудия и горшки с жидким лидийским огнём. Я сделал вид, что хочу благословить его воинов перед битвой. Сей высокородный грек посмеялся надо мной, сказав: «Помолись лучше за упокой жителей Дристра, мы сожжём этот город, как недавно сожгли царский дворец в Иоаннополисе».
Князь спросил, что ему надобно, денег или чего иного, но священник отказался, попросил только разрешения править службу в доростольской церкви для укрепления духа болгарских христиан в борьбе с ромейскими захватчиками. И Святослав разрешил.
Затем князь велел припасному темнику произвести строгий учёт всех имеющихся в граде запасов. Вскоре тот явился с докладом, что зерна, сухого конского мяса и говядины войску хватит на тридцать дней, а муки – на двадцать.
Кликнув военачальников, Святослав стал вести Совет.
– Припасов для войска хватит на тридцать дней. Но ведь мы не будем их есть, не делясь с жёнами и детьми. Значит, с учётом помощи горожанам, дней на пятнадцать-двадцать. А потом придёт голод, мы станем терять силы и отправляться к Маре. Пока мы ещё полны сил, пока не забросали нас камнями и не сожгли огнём греческим, надо выступить против врага и биться с ним до конца. А если погибнуть, то с честью на поле брани.
– Верно речёшь, княже! – поддержали темники.
– Дадим «железнякам» по кумполу!
– Разрушим их хитроумные орудия!
Воины магистра Иоанна Куркуаса работали привычно и слаженно. Они знали своё дело, и через три дня всё было готово к обстрелу непокорного полиса. Горшки с лидийским огнём расположили тут же в специально вырытом углублении, чтобы их быстро подать к метательным машинам. Уже солнце клонилось к закату, когда сам магистр, проверив наводку большого «скорпиона», произвёл выстрел. Огромная стрела с жужжанием понеслась в город. Его помощники тем временем подготовили к стрельбе катапульту. Метнув огромной «ложкой» несколько увесистых камней, катапульта подпрыгнула своим тяжёлым телом, словно была живой. Камни устремились к городской стене, но большая их часть, не долетев, упала в ров с водой. Перенастроив сложную машину, воины выстрелили ещё раз. На этот раз Куркуас остался доволен: камни угодили в верхнюю часть стены, а некоторые перелетели через неё, послышались крики раненых.
– Жаль, сегодня уже темно, но завтра мы «порадуем» защитников полиса не только нашими стрелами и небесным камнепадом, но и огненным дождём! Ха-ха-ха, – развеселился довольный начальник грозных машин смерти. – Думаю, удачное начало надо отметить хорошим вином! – обратился он к своим подчинённым.
Ему, конечно, никто не возражал. Воины, три дня, с утра до ночи возившиеся с огромными камнемётными «палентонами» и мечущими стрелы «скорпионами», с большой радостью приняли весть о передышке. Они иногда за глаза подсмеивались над своим начальником. «Нашему магистру только красных сапог не хватает», – подмигивал один друнгарий банда другому, намекая на богатое, почти царское одеяние Иоанна, его великолепный пурпурный плащ и восточный меч, усыпанный камнями по рукояти и ножнам. После сытного ужина с добрым вином магистр, отяжелев, клюнул носом раз и другой, а потом улёгся на услужливо подложенные оптионом подушки и сладко засопел. У него уже не было сил для возвращения в основной лагерь.
Даже самые чуткие керкиты не слышали в эту ночь никаких звуков, не говоря уже о сражённых хмельным сном воинах. Ближе к рассвету дремавших у осадных машин стражников поразили стрелы и метательные ножи изведывателей Ворона, а вслед за ними ринулись на палатки спавших тут же воинов обслуги ратники Притыки. Ни единого боевого возгласа, только яростное рычание издавали они, расправляясь с ромеями. Изведыватели же, покончив с охоронцами, сразу бросились к машинам. Обученные Калокиром ещё в Переяславце, изведыватели умело и быстро приводили в негодность боевые машины. Лишь иногда слышались негромкие слова Ворона: «Тут выше руби тетиву, а этот жгут из жил режь на три части, чтоб его нельзя было свить из оставшихся кусков!»
Сам начальник боевых машин, с вечера перегрузившийся вином, как купеческая лодка товаром, так бы безмятежно и спал, не слыша звона мечей и возгласов своих погибающих воинов, если бы не его верный оптион. Едва началась неожиданная ночная рубка, воины личной охраны принялись будить своего господина. Но это оказалось не так просто. Объятия Морфея оказались столь крепки, что даже угроза близкой смерти не могла их разорвать. Магистр, беззлобно ругнувшись, тут же снова сладко засыпал. А смерть звенела клинками уже совсем близко. Дрожащими от волнения и страха руками несчастный оптион и трое воинов личной охраны просто выволокли недовольно бормочущего Куркуаса, ухватив его за позолоченные наплечники роскошного клибаниона, из палатки и, всё время оглядываясь, потащили к коновязи. Ещё четверо охоронцев с обнажёнными клинками, вглядываясь в темноту, следовали сзади, готовые прикрыть своего господина. Иногда все замирали или падали на землю рядом с хозяином, прикрывая ему ладонью уста, чтобы он случайным пьяным выкриком не привлёк внимания чьих-то совсем недалеко метавшихся теней, то ли варваров, то ли уцелевших ромеев.
В это время один из воинов обслуги, распоров ножом полотно, успел выскользнуть из своей палатки незамеченным и пополз в сторону от смертельной сечи, чтобы юркнуть в углубление, где хранились сосуды с лидийским огнём, прикрытые сверху сплетёнными из лозы щитами. Однако его заметил один из варягов, крушивших ромейские палатки. Он метнул вслед убегавшему сулицу, но промахнулся. Тогда в ярости он швырнул в темноту, где скрылся беглец, один из камней, приготовленных для орудий и выставленных тут же ровными пирамидами. Раздался треск разбиваемых глиняных сосудов, и через мгновение едкий дух разнёсся вокруг. Ворон на миг замер, потянув носом воздух, он вспомнил этот своеобразный, ни на что другое не похожий смрад. «Фанагория, греческий огонь, – пронеслось в голове, – вот чего нам визанцы приготовили! Правду рёк болгарский поп про сожжение града!»
– Тут горшки с огнём греческим, – кликнул изведывателям Ворон, – сюда скорее берите и разбивайте об их хитрые машины, а ты, Варяжко, зажги факел, только там, подалее, Ярослав, помоги ему, да глядите близко не подходите, не то всех враз спалите!
Конные дозорные, а потом и керкиты основного греческого стана, заслышав шум и лязг клинков в хозяйстве Куркуаса, подняли тревогу, к машинам устремились ромеи.
Когда развёрнутые фаланги подоспели к пригорку, на котором за насыпным валом расположились осадные машины, яркое пламя взметнулось в тёмное небо, осветив всё вокруг и сделав звёзды невидимыми. Некто охваченный пламенем с нечеловеческим воплем бросился им навстречу, то был несчастный воин, что схоронился среди горшков с лидийским огнём. А следом загрохотали, разбрызгивая огненные фонтаны, один за другим, лопаясь от жара, горшки с огненной смесью. Воины попятились, прикрываясь щитами, потому что пылающие струи разлетались всё дальше.
Между тем и воинам личной охраны магистра пришлось вступить в схватку с варварами. Только оптиону с двумя оставшимися в живых охранниками удалось свершить чудо – незаметно дотащить грузное тело магистра до коновязи. Здесь несколькими сильными ударами по щекам и водой из широкой деревянной бадьи, из которой поили лошадей, они наконец смогли разбудить хозяина и, умоляя его не шуметь, усадили верхом на коня. Оптион стрелой взлетел на своего жеребца, его примеру последовали охоронцы, и они поскакали прочь от наступавшей на пятки смерти. Ещё немного – и беглецы вырвутся из окружённого насыпью расположения осадных машин.
Но то ли родственник императора не совсем проснулся, то ли мало протрезвел, но, преодолевая насыпь, он свалился с коня. Оптион, спешившись, стал поднимать начальника, но эта задержка стоила несчастному жизни. Брошенная твёрдой рукой сулица вошла византийскому воину между лопаток, он вскрикнул и рухнул рядом со своим господином. Двое оставшихся охоронцев мигом пришпорили коней и скрылись из глаз.
Подбежавшие русы тут же подхватили поводья коней, один от удивления присвистнул.
– Гляди, брат, какая важная птица нам попалась, плащ и одежда прямо княжеские! – воскликнул он, указывая на таращившего глаза Куркуаса, который лёжа пытался извлечь свой меч.
– Да ты погляди на коня, сбруя вся, даже не пойму при лунном свете, не то золотая, не то серебряная, никак, сам их император! – восторженно ответил воин.
– Так, стало быть, из-за этого мордатого упыря столько крови пролито, грады рушатся и люди гибнут, из-за этого недомерка наш Зворыка загинул, руби его, братья!
Мечи и боевые топоры превратили высокомерного обожателя золота и дорогих камней в кровавые куски человеческой плоти. А ещё через мгновение русы, прихватив коней и голову «императора», вернулись к палаткам ромеев, сообщив собратьям радостную весть.
– Эх, зря вы это, – сурово отчитал их сотник, – живым его надобно было взять, да ладно, грека теперь уж не сложить обратно!
А утром на восточной башне ромеи узрели выставленную на длинном копье голову магистра.
– Как это случилось? – меча синие молнии из очей, грозно вопросил император, когда ему доложили о гибели Иоанна Куркуаса.
– Ночью в расположение осадных орудий, – хмуро доложил Варда Склир, – словно демоны из преисподней, проникли проклятые варвары и при помощи хранившегося там лидийского огня уничтожили всё, а самого магистра Иоанна зверски изрубили. Из-за его красного плаща и богатого одеяния скифы решили, что убили самого императора Ромейского, и теперь, выставив его голову на копье в восточной башне, потешаются над нами и кричат, что закололи императора, как жертвенное животное.
– Это не заслуга варваров, – мрачно обронил после некоторого промедления Цимисхес, – а кара Господня за совершённые Иоанном грабежи святых храмов, верно, отец Феофил? – обратился к сидящему рядом синкелу император.
– Так, великий, магистр Куркуас, пользуясь своей властью, разграбил в Мисии много церквей, обратив их утварь и священные сосуды в своё частное имущество. И потому кара Божья сурова, но справедлива, – вздохнул представитель патриарха.
Склир видел, что император едва сдерживает ярость: варвары не только убили его родственника, но и уничтожили многие осадные орудия и запасы лидийского огня, и это было самое худшее. Поэтому слова о каре Господней, пожалуй, были лучшим объяснением и для армии, и для самого императора.
– Усилить стражу, укрепить валы, немедля собрать новые тагмы и турмы для замены раненых и убитых! – молвил, всё более воспламеняясь гневом, император. – Мы не позволим прийти в полис никакой помощи – ни одной меры зерна, ни одной повозки с пищей, пусть варваров начнёт косить голод и болезни. Когда они съедят всех собак и ворон в своём проклятом Дристере, у них поубавится Ахилловой злобы и ярости, тогда и увидим, как они будут стоять против наших клинков! Мой план «Агра» входит в решающую стадию!
Воодушевлённые стратигосы одобрительными криками поддержали императора.
Глава 5 Отчаянные вылазки
Доростол второй месяц держал оборону. Греки так плотно обложили град, что никакая помощь не могла пробиться к Святославу. Люди сильно голодали, ловили и ели воробьёв, из них получалась наваристая юшка. Только ездовых лошадей берегли и делились с ними скудными запасами прелого овса. Единственное, что выручало, – Дунай-батюшка, который и поил, и кормил людей тем, что удавалось поймать у берега. По ночам рыбаки ставили сети и ещё до рассвета их вынимали. Пойманную рыбу несли в крепость, и там жёны ставили в котлах варево на всех и пекли хлеб из остатков сорной муки.
За подступы к Дунаю всякий день шла битва с греками, потому как река стала в тот час единственным источником жизни и путём связи с внешним миром.
Как-то рано утром с лёгкой и вёрткой греческой лодьи, именуемой ими галея, заметили старый убогий челнок, в котором согбенный дед и отрок ловили рыбу, закидывая в воду плетённые из лозы вентеря и прочую нехитрую самодельную снасть.
– Эй, вы, кто такие, здесь нельзя плавать! – прокричал с галеи на болгарском бородатый воин.
– Так… мы не виноваты, – тоже по-болгарски, громко, чтоб его наверняка услышали, зачастил-запричитал отрок, готовый вот-вот сорваться на плач. – Мы вон там ловили, – указал он рукой выше по течению. – Дедушка старый, задремал, не заметил, как отвязалась вервь от багра, вот нас и снесло, простите, господин воин!
– Ну-ка, плыви сюда, да поживее! – приказали с галеи.
Юнец, ловко управляясь одним веслом, приблизился к греческой лодье. Византийские воины внимательно оглядели сверху лодчонку, но ничего подозрительного не заметили. Старик, одетый в жалкие лохмотья, да худой испуганный юнец в такой же драной и насквозь пропахшей рыбой одежонке. Некоторое время бородатый грек раздумывал, пустить на дно жалкий челнок вместе с несчастными рыбарями или отпустить сих никчёмных болгар. Всё-таки друнгарий флота Лев говорил, что они, византийцы, пришли освободить болгар от россов.
– Много наловили? – осведомился наконец грек, перегибаясь через борт и заглядывая в убогий челнок рыбарей.
– Вот всё, что успели, – кивнул отрок на дно лодчонки, где лежали несколько хороших, в пару локтей, рыбин и десятка два мелких.
Дед, приложив к подслеповатым очам ладонь козырьком, глядел на греческих воинов, беззвучно шевеля губами, седая голова старика тряслась, и оттого он выглядел ещё более жалким.
– Давай сюда рыбу, и проваливайте вниз по течению, второй раз попадётесь, оба станете короче на голову! – рыкнул на рыбарей бородатый, а его воины стали ловко подхватывать подаваемую с челнока рыбу.
– Как же нам потом назад-то вернуться, живём ведь мы там! – снова заканючил отрок, махая рукой в верховья.
– Сказал, проваливайте, а нет, я лучникам только махну, и будете на стрелы, как дичь на вертела, насажены! – уже с угрозой в голосе заорал на несчастных бородатый грек.
Рыбаки покорно направили свой челнок вниз по течению.
– Запоминай, Ярославка, где какие лодьи стоят, считай их дромоны, триеры и галеи, – тихо молвил седой старик, едва они удалились от греков. Голова его перестала трястись, а потом и спина выпрямилась. – Запахи запоминай, потому как в ночи глаза слабые помощники, а у изведывателя нюх, слух и чутьё должны быть как у зверя дикого, потому иногда очи прикрывай и лови запахи.
– Я уже думал, что порешат они нас, дядька Орёл, – с облегчением проговорил отрок осипшим голосом. Он пару раз зачерпнул воды, омыл лик и сделал несколько больших, жадных глотков. Потом прикрыл очи и принюхался. – Тут все запахи перебивает смачный дух от их варева, что у самого берега готовится, – сглотнув слюну, отвечал Ярослав.
– А вот это и добре, крепко запоминай, где те котлы находятся на берегу, может, придётся как-нибудь в ночи к греческим кашеварам наведаться, – снова тихо, но веско молвил Орёл, поднимая очи к безоблачному небу. – Никак, дождь будет, парит нещадно, и тиной особо пахнет, – определил старый лодейщик.
К вечеру подул лёгкий ветерок, остужая жару, по Дунаю пошла рябь. С восхода, со стороны моря, стали быстро надвигаться тёмные грозовые тучи.
Вскоре молнии огромными огненными трещинами раскололи пространство, грянул гром, и с неба полились целые потоки воды. Все устремились в убежища, звери и люди. Грозный Перун ворочал железо в своей небесной кузнице, да так бил волшебным молотом по наковальне, что полнеба то там, то тут вспыхивали его искры-молнии.
Всё живое в страхе замерло и сокрылось. Только среди вытянутых на берег русских лодий зашевелились и задвигались тени. Лодьи одна за другой, будто сами собой, стали сползать к речной глади и вскоре закачались на кипящих белой пеной волнах Дуная, принимая на свои промокшие борта молчаливых воинов. Некоторое время погодя, неслышные в грохоте ночного Перунова действа и не замеченные спрятавшимися в чревах своих дромонов и галей греками, к промокшему правому берегу Дуная пристали многие лодьи русов. Как раз в тех местах, где расположились обозы с продовольствием и припасами для коней, где днём в больших котлах, дразня оголодавших защитников смачным духом доброго варева, готовилась еда для почти стотысячной армии. Под проливным дождём, скользя по размокшему берегу, мокрые и ярые, будто обретшие плоть Перуничи, устремились воины Притыки на затаившихся в суеверном страхе пред буйством грозной природы в своих шатрах византийцев. Рассыпались, отражаясь в обнажённых клинках русов, небесные сполохи, и будто демоны ночи обрушились на ошалевших врагов, вспарывая шатры и круша походные кухни.
– Темник, – подскочил к Притыке Ворон, – склады со съестными припасами отысканы, давай самых крепких ратников, переносить всё на лодьи, а остальные пусть на греческих воев навалятся, чтоб тем не до провизии было, пока отец Перун нас с небес молниями прикрывает!
– Добре, брат Ворон, – громко отвечал разгорячённый боем начальник мореходов. И принялся раздавать быстрые и короткие приказы.
– Ярослав, веди воев к складам греческим, – повелел Ворон отроку, а сам с тремя остальными изведывателями скрылся в грохочущем мраке.
Когда гружённые греческими припасами лодьи одна за одной уходили в ночную темень, вспарываемую частыми молниями, среди стоявших дальше от берега ромейских кораблей вдруг взметнулся аж до самой Сварги огненный сполох. Он вскинулся ярким пламенеющим столбом высоко в чёрное небо и заклубился там дымно-огненным грибом.
– Что это, дядька Ворон?! – вскричал поражённый отрок.
– Эге, братья, это сам отец-Перун молоньей своей поразил греческий огненосный дромон, сейчас им и вовсе не до нас будет!
И точно, едва они вдоль берега на всех вёслах погнали свою лодью в сторону града, как перед ними в отблесках горящего дромона обозначилось греческое судно.
– Дядька Ворон, это ж та самая галея, на которой командует бородатый, что у нас рыбу отобрал! – завопил Ярослав.
– Не боись, изведыватель, – азартно хохотнул кряжистый старший лодейщик и, стараясь перекрыть очередной небесный раскат, приказал: – Кошки, багры готовь, бортуемся с греком!
Грек ещё не разобрался, что за корабль оказался перед ним, как в борт вонзились кошки и багры русов, и на мокрый настил галеи стали прыгать умелые и быстрые мореходы, сметая всякого, кто попадался на пути.
– Ага, бородатый! – вопя на болгарском, подскочил к начальнику галеи, которого Ворон уже успел обезоружить, отрок с ножом в руках. – Сожрал нашу рыбу, а, не подавился?!
Бородатый непонимающе глядел на вооружённых людей, явившихся прямо из ливня и мрака, на ярко горящий огненосный дромон, на отрока, который орал, махая пред его ликом обнажённым клинком, про какую-то рыбу, на поверженные тела своих воинов. Воля его была настолько поражена внезапным и необъяснимым деянием, сродни какой-то магии, что он почти не сопротивлялся. Ворон связал его и велел взять как языка с собой.
После сей дерзкой вылазки россов Иоанн Цимисхес повелел усилить охрану с суши и воды. На помощь императорской армии подходили свежие полки из Византии, прибыл также патрикий Пётр с войском, набранным в основном из фракийских и макдонских ополченцев.
В это тяжкое время и подоспели из Киева три тысячи конников, высланные княжичем Ярополком в подмогу отцу. Во главе их ехал боярин Стрешня. Он был ещё молод, однако добре показал себя в Кавказийских землях, где дремать особо не приходилось. То остатки хазар, то койсоги, то яссы и другие обитавшие там племена, подстрекаемые византийцами, всячески пытались уничтожить русов, чтоб оставили они благодатные Кавказийские земли и пути торговые из Асии. Потому постоянная угроза со стороны быстрых и коварных врагов приучила Стрешню ходить борзо, на коне сидеть крепко, а решение в быстро меняющейся яви принимать мгновенно. Повадками, статью и обритым ликом с длинными усами был он схож с самим князем Святославом, которого за пример для себя считал.
Ранним утром, когда особо крепок сон человеческий, решил боярин со своею небольшою дружиной пройти берегом, скрываясь в утреннем тумане, к осаждённому граду. Всё верно продумал молодой начальник и, наверное, прошёл бы, скрытый от кораблей византийских маревом, а от войска Цимисхеса верболозами да ивняком, да не ведал, что как раз тут, у берега, стоят обозы со съестными припасами и расположены огнища, на которых на всю огромную византийскую армию готовят еду.
Едва ромейские кашевары, уже раз крепко напуганные нежданным ночным появлением Святославичей, отправились к Дунаю за водой для утреннего варева, как на берегу столкнулись с выплывающими из тумана конными русами. Вмиг поднялся крик и шум, обозники и кашевары в ужасе бросились прочь, кто куда. Керкиты подали сигнал тревоги. Огромное войско, уже привыкшее к ночным вылазкам русов и болгар, быстро пришло в движение и облачилось в боевые доспехи. Стрешня борзо вывел из верболоза свою конницу, и по твёрдой земле она вихрем ускакала обратно, опрокинув и разгромив по пути хозяйство греческих кашеваров, как совсем недавно это сделали морские воины Притыки.
Цимисхес вначале повелел позвать к себе друнгария флота Льва и напустился на него, обвиняя, что он снова проспал лодьи россов, а значит, по его вине большая часть воинов осталась без утреннего варева. Но Лев поклялся Богом Христом, осенив себя несколько раз крестным знамением, что ни одна лодья россов на воду спущена не была. Греки так и не поняли, откуда взялся конный неприятель в тылу войска и куда он исчез потом.
Ничего не поняли и осаждённые, когда на рассвете во вражеском стане вдруг поднялся нешуточный переполох, а потом у берега начали выстраиваться фаланги греков. Однако защитники града с удивлением узрели, что копья и щиты тех фаланг обращены не к Доростолу, а, напротив, к собственному лагерю. Потом всё утихло, но в этот день греки так и не решились идти на приступ града.
– Разузнай, брат Ворон, что за странности деются в стане ворожьем, кто их всполошил, как кур на насесте? – озадаченно молвил князь.
– Нынче ночью узнаю, княже, – как всегда кратко, ответил главный изведыватель.
Однако ему не пришлось идти за очередным греческим языком. Изведыватели уже собирались тихо спуститься по верёвке со стены, когда начальника Тайной стражи окликнул запыхавшийся Ярослав:
– Дядько Ворон, князь тебя кличет!
– Что сталось, не ведаешь? – озабоченно спросил тот.
– Ведаю, там воин Киевской тьмы к нам приплыл, как я тогда.
– Добре, значит, с походом к грекам погодить надо, – молвил собратьям Ворон.
Темники и полутемники, число которых значительно поредело, расположились за широким столом в княжеской гриднице. Тут же сидел незнакомый Ворону молодой муж в одной мокрой рубахе и портах, коего дружинники нетерпеливо расспрашивали о делах киевских.
– В Киеве отпраздновали Купалу, дожидаются дня Перунова. Только тихим было празднование, мало веселья теперь на Руси, – устало отвечал воин.
– А что на Торжище киевском, – спросил пожилой темник Васюта, – византийцы торгуют по-прежнему, несмотря на войну?
– И византийцы, и варяги, и немцы, и нурманы, и арабы, кого только нет. Греки, после того как их церкви были разрушены, тайно люд киевский в христианство зовут, и кто принимает крещение, тому дают монету серебряную, на которую целого быка купить можно. А иные гости те монеты на куски рубят и на них тиснут быка, коня или рыбу. И у кого таких рублей много наберётся, тот может жить безбедно до старости. И многие люди рекут, как хорошо с греками торговать и собирать серебро да золото. Вон-де бывший боярин Блуд с людьми торговыми дружбу водит и завсегда у них в чести.
Качали головами воины на те слова, и мрачнел князь Святослав. Он первым наедине расспросил гонца про дела в Киеве и про своих сыновей. И услышал, что Ярополк, княжич киевский, звероловством увлечён и во многих охотничьих премудростях преуспел. Олег послушен, правит в древлянском Овруче. А Владимир в Нов-граде, хоть и млад ещё, любит старшими помыкать, забавы всяческие устраивать – особливо на драки глядеть до крови да за голыми бабами на реке подглядывать, опять же игрища шумные предпочитает научению.
«Мало уделял я внимания сыновьям, – думал князь, – не так хотел их воспитать. Да не мог отнять внуков у матери-Ольги после того, как она, по сути, лишилась меня, Святослава. Всю жизнь меж нами была тень разделения, и выходит, что отдал я матери сыновей, как жертву за себя самого. По-своему надеялся воспитать Мечислава, но… Ничего, вернусь, возьмусь за них крепко, – решил князь. – Опять же Предслава затяжелела, будет ещё один наследник древнего соколиного рода ободритов-одринов». От сих мыслей Святославу сделалось легче.
– Давайте, братья, решать, как лепше воинам боярина Стрешни пробиться в град, – обратился он к военачальникам, пресекая праздные разговоры.
– Может, так же, как сегодня утром, только одновременно, он оттуда, а мы со стороны Доростола поддержим? – предложил молодой полутемник Збимир, занявший место своего павшего собрата Зверобоя.
– Сейчас нельзя, греки встревожены, по всему берегу конные разъезды рыщут, а ночью и того более, – рассудительно молвил Притыка.
– А может, и вовсе нет нужды Стрешне к граду пробиваться? – по обыкновению негромко молвил Ворон.
Темники и воевода Свенельд удивлённо воззрились на главного изведывателя.
– Я к тому, братья, – продолжал он, – что из-за сегодняшнего шума, что возник в стане ворожьем после попытки Киевской конницы к граду пробиться, греки не решились даже на приступ пойти.
– Опасались, что им в спину во время приступа ударят, – молвил Свенельд.
– А коли почнёт, братья, наш боярин по их тылам хаживать да обозы с припасами громить? Пусть посидят спесивые византийцы без еды день-другой да пусть побудут меж двух огней, не ведая, откуда этой ночью смерть-Мара нагрянет, – заключил главный изведыватель.
– Верно речёшь, брат Ворон, греки привыкли доброе вино пить да сладко и досыта есть, а без того не станут они яро сражаться! – пробасил Притыка.
У князя загорелись очи.
– Добре, – решительно хлопнул он широкой дланью по столу и повернулся к мокрому воину. – Передай, гонец, боярину Стрешне мой наказ. Пусть погуляет по земле Болгарской, да так, чтоб ни припасов съестных, ни снарядья воинского более к Цимисхию не попадало в изобилии, как доселе было. А коли удастся, так и полки, идущие из Византии или тут набранные, чтоб урон несли.
– Думаю, обозы и пополнение лепше всего на горных перевалах да в ущельях бить, – снова подал голос Ворон.
– Да уж в горах Стрешне привычно воевать, он ведь из Альказрии был отозван, – молвил посыльный. – Всё передам, княже, – приложил он руку к сердцу.
Ворон с Притыкой проводили посланца через потайную калитку к реке, где на узкой полоске каменистого берега стояли вытащенные из воды лодьи.
– Можем тебе лодчонку малую дать, ночью спустишься вниз по течению, где тебя свои поджидают? – предложил морской темник.
– Нет, вплавь вернее, греки за рекой глядят во все очи, да и в воде я как рыба, – улыбнувшись, ответил посланец, осторожно ступая босыми ногами по крупной гальке. Вот его крепко скроенное тело без плеска опустилось в дунайскую волну и будто растворилось в ней, не издав ни звука.
И зачал боярин Стрешня свои быстрые, как удар сокола, наскоки на фуражные обозы, пополнение греческое, да на тех вельмож ромейских и болгарских, что помощь Цимисхесу оказывали.
Унылыми нестройными рядами шли по разбитой в пыль многими конскими копытами и колёсами бесчисленных возов дороге к уже близкому Доростолу болгарские новобранцы. Оторванные от сохи землепашцы с тоской глядели на недожатые поля, а бывшие рукомысленники с тревогой думали о той проклятой работе, что уготовили их умелым рукам «заботливые» византийцы. Бежать из длинной колонны в несколько тысяч человек было невозможно, потому что ромейские охоронцы, ехавшие по обеим сторонам на своих сытых конях, зорко следили и быстро могли нагнать любого, кто решится на побег. Нескольким особо ловким удалось ускользнуть во время ночёвки, но теперь до Доростола рукой подать, значит, следующая ночёвка будет уже в лагере, где им выдадут оружие и наскоро обучат воевать, а потом пошлют, в общем строю, на приступ непокорного града, и там уже либо смерть от обороняющихся, либо от византийцев. Тяжкие мысли ещё более сгустились, как предгрозовые тучи, когда впереди показался конный отряд.
– Глядите, нас даже встречают, какая честь! – крикнул таксиарх своим воинам.
Но резво скакавшие навстречу были облачены не так, как лёгкая конница ромеев, и уж совсем не походили на тяжёлых катафрактов. На них были кольчуги, округлые и островерхие шеломы, а также варварские штаны, несмотря на жару.
– Наверное, это мисяне, что служат в войске императора, – предположил один из воинов.
Скакавший впереди крепкий воин с бритым подбородком и длинными усами, оглянувшись на своих молчаливых воинов, что-то крикнул, и те стали обтекать колонну новобранцев с обеих сторон, а длинноусый, обнажив обоюдоострый меч, ринулся на токсиарха и двух ехавших рядом кентархов.
«Молодой безумец, – промелькнуло в голове опытного в боях ромейца, прежде чем их клинки скрестились, – сейчас ты почувствуешь, нежданный наглец, на себе руку настоящего…» Таксиарх не успел додумать свою мысль, потому что противник, даже не прикрывшись щитом, легко отразил его удар, продолжил движение навстречу и закончил его, пронзив шею грека зажатым в левой руке скрамасаксом. Несчастные новобранцы не могли понять, что творится вокруг. В один миг сонный и пыльный зной разбитой дороги огласился звоном клинков, рычанием яростных воинов, стонами умирающих в пушистой пыли, смешавшейся с кровью. Кто-то из новобранцев ударил в пах византийского коня, и он, отчаянно заржав, рванулся прочь, унося ничего не понимающего седока. Где-то десяток рук уже стаскивал с седла греческого всадника, потом другого. Недолгий, но жестокий бой закончился.
– Идите по домам, братья, – рёк молодой начальник русских конников, – идите и помните, что избавлены вы от смерти волею князя Руси Святослава. Да в другой раз византийцам в руки не попадайтесь!
– Святослав! – понеслось по рядам недавних византийских новобранцев. – Нас освободил сам князь Святослав!
Несколько десятков болгар и сербов попросились в русскую дружину.
– Нам идти некуда, византийцы всё подчистую выгребли, и скотину забрали на прокорм свой. Возьми нас, князь, в дружину, посчитаться с греками хотим за наши дома и за Великую Преславу…
Получив согласие, они вооружились клинками и доспехами поверженных греков, сели на их добрых коней и унеслись вместе с русами.
Вскоре у Стрешни набралась полутьма бойцов, и он двинулся к югу, глубже в греческие тылы. Самых опытных в горных боях воинов числом около двух сотен он отправил на перевалы, наказав им скрытно следить за обозами и пополнением византийской армии и громить их в горах и ущельях, а коли случится тем всё-таки пройти, то об этом немедля ему, боярину Стрешне, слать сообщение.
* * *
К полудню пройдя перевал, длинная колонна крепких обозных лошадей, сдерживаемая погонщиками, начала спускаться вниз и вскоре вошла в узкое ущелье, где справа высилась крутая скала, а слева шумела быстрая горная речка, перекатывающаяся по округлым камням. Одетые в доспехи воины вздохнули с облегчением: в ущелье рядом с холодной рекой было не так жарко, как на равнине. Для обозников и их лошадей дорога была много раз хоженной и привычной. Вот уже более месяца возят они из империи в Мисию, к осаждённому их императором городу Дристру всяческие припасы и оружие. Для нового же пополнения в две тысячи воинов, набранных в Антиохии, дорога была неведомой. Хилиарх, ведущий пополнение, прикидывал, что по выходе обозов из ущелья нужно будет сделать привал. Дорога на перевал, а потом спуск была трудной, особенно в такую жару. Вдруг колонна стала. Воины доложили хилиарху, что дорогу преградили большие камни, которые, видимо, недавно скатились сверху.
– Сейчас уберём их и двинемся дальше, – заверил начальник обоза.
В это время вверху послышался шум, перешедший в настоящий грохот. Это со скал полетели новые камни, сметая с дороги гружённые доверху возы и перекрывая отход длинной колонны воинов. Шум падающих камней слился с воплями обозников, громким ржанием рвущихся из упряжи лошадей, треском ломающихся возов, запоздалыми командами хилиарха и тагматархов, стонами раненых и криками ужаса ещё живых воинов, на которых неслись сверху мелкие и большие обломки скал. Тех, кто пытался уйти вперёд по ущелью или назад на перевал, настигали калёные меткие стрелы и сулицы невидимого до поры противника. Когда камнепад прекратился, на оставшихся в живых обрушились быстрые и ловкие воины, которые скакали по каменным завалам, словно горные козы или снежные барсы. Началась жестокая яростная рубка, после которой нападавшие исчезли, словно их и не было. Немногие из оставшихся в живых византийских воинов и обозников, вовремя схоронившихся среди камней или в зарослях, уже не знали, идти ли им дальше к Дристру или возвращаться восвояси.
* * *
– Ну, что ещё вызнали, брат Сосна, твои изведыватели? – Стрешня вскинул быстрый взгляд на вошедшего высокого сотника.
– Посланные императором по наши души лёгкие конники в горы пока не решаются лезть. Выставили посты по дорогам и посылают разъезды, у местных жителей выспрашивают, где, когда и кто нас видел.
– Что с обозами да пополнением новым для Цимисхия?
– Больших обозов пока нет, может, со стороны Византии появятся, но не ранее чем дня через два, иначе бы уже верные люди знак дали. Тут мне перебежчики рекли, боярин, что византийцы клич бросили местным состоятельным грекам и знатным болгарам-христианам помощь оказать войску припасами всякими. И собирают те припасы на складах одного богатого грека, у коего земли довольно и под пашней, и под виноградниками, на горных склонах скот его выпасается, а подворье не хуже крепости обустроено: с одной стороны скала с текущей внизу речкой, а с другой башни да ворота прочные.
– Так что нам его крепость, мы всё возьмём, когда обоз отправится к Доростолу.
– То-то и оно, боярин, что конница греческая, что нас в предгорье стережёт, к тому хозяйству-крепости подойти должна. Под прикрытием этой конницы и пойдёт обоз, – пояснил Сосна.
– Выходит, коли мы появимся на дороге, то конница полетит за нами, и нам будет не до обоза. А коли не появимся, то она сопроводит припасы и доставит их в целости любимому императору, чтоб у него достало сил с нашим князем схватиться у Доростола? – покусывая ус, спросил в раздумье боярин. – Ладно, брат Сосна, тогда мы сделаем так, кликни тысяцких! – решительно молвил он.
Небо к вечеру нахмурилось, густые тёмные облака, клубясь, поползли с гор. Ещё немного, и первые капли долгожданного дождя, первого за долгие седмицы иссушающей жары, упали на горячую землю, тут же бесследно высыхая. В крепостные ворота застучали. Работники уже давно покинули хозяйство, осталась только охрана в полторы сотни человек да обслуга, которая всегда жила здесь.
– Кто такие? – строго окликнули на болгарском с башни.
– От мелиарха Стратония, кентархия его личной охраны. Перед тем как он прибудет сюда, обязаны проверить, всё ли в порядке, – ответил на греческом высокий и стройный воин, восседавший на вороном коне, облачённый в добротный клибанион, в шлеме с гребнем, красный хламис был накинут на его плечи. Сзади теснились воины с высоко поднятыми греческими щитами.
В башне засуетились, кто-то поспешил сообщить о гостях самому хозяину.
– А когда же прибудет сам достопочтенный мелиарх с воинами? – осторожно спросил кто-то.
– Я кентарх Пиниус, одной моей кентархии достаточно, чтоб разнести в щепки ваши ворота, если станете задавать глупые вопросы и выведывать у меня воинские тайны. Никто не имеет права знать планы мелиарха, а тем более орать о них с башни! Открывайте, пока я не рассвирепел окончательно. У меня приказ моего начальника, и я выполню его в любом случае!
Наконец обитые медью створы приоткрылись. Трое первых греческих конников неспешно въехали в открывающиеся ворота, перед которыми собралось около полусотни вооружённых воинов землевладельца. Вдруг один из охранников удивлённо показал на проехавшего мимо него высокого воина: «Нога, белая нога…» Более он ничего не успел сказать. Следовавший сразу за высоким воин ударил охранника умбоном щита по голове, а высокий «грек» крикнул на языке россов: «Секи их, братья!» Ворота распахнулись полностью, и «особая сотня личной охраны Стратония» с гиком и свистом ринулась внутрь хозяйства-крепости, разя каждого, кто пытался обнажить оружие, сбивая наземь конскими телами растерявшихся охранников. Ругаясь и крича на греческом, русском и болгарском, требуя всем сложить оружие, высокий воин в греческом одеянии с белыми, незагорелыми ногами мчался по обширному двору меж расставленных по обеим сторонам возов к главному строению, раздавая налево и направо тем, кто пытался стать на его пути, удары быстрого меча.
Сам вельможа ещё не отошёл ко сну, он сидел за столом, заканчивая ужин, и был очень удивлён вдруг поднявшимся необычайным шумом в его всегда таком тихом убежище за толстыми стенами и надёжной охраной. Когда вдруг с треском распахнулась дверь, и в неё влетели два перепуганных здоровенных охранника, будто их снесло могучей волной, а следом ворвались с обнажёнными мечами высокий греческий воин и молодой длинноусый рус с бритым подбородком, а за ними ещё несколько варваров, вельможа поперхнулся вином из золотого кубка и залил своё одеяние.
– Оружие на пол! – прорычал высокий, и охоронцы трясущимися руками отстегнули свои пояса с клинками и бережно опустили их на мозаичный пол. Все они, в том числе и хозяин, стали на колени и высоко подняли руки, показывая свою безоружность.
Длинноусый что-то сказал на языке россов, и четверо воинов быстро прошлись по ближайшим комнатам.
– Гляди-ка, Сосна, а хозяин-то на золоте ест, вишь, как греки золото любят, думаю, даже поболее чем Бога своего! – молвил с улыбкой длинноусый, обернувшись к высокому в греческом одеянии.
– Так ведь не только едят на золоте, – рассмеялся в ответ грозный воин, кивнув на одного из тех, что осматривали комнаты.
Воин, на которого указал высокий, держал в руках ночной горшок тоже не то золотой, не то позолоченный, найденный им у ложа хозяина. Чело длинноусого перекосила гримаса омерзения. Он переглянулся с высоким, а потом сделал какой-то только им понятный знак рукой.
– Великий князь Святослав, – с почтением обратился высокий к длинноусому, склонив голову, – что прикажешь делать с хозяином сей крепости, он ведь столько припасов для Цимисхия приготовил, отрубить голову или лепше повесить?
Испуганный вельможа не понимал языка россов, но чуял, что решается его жизнь. А когда ему перевели сказанное длинноусым, грек затрясся и стал говорить быстро, часто заикаясь, что это не его, ну, не только его припасы, что его заставили, что сам император приказал, а он не может перечить императору, что… Под перепуганным насмерть хозяином растеклась лужица.
– Что ж вы, греки, за мерзкий народ, – всё ещё брезгливо морщась, молвил длинноусый. – Злато любите более жизни своей, жрёте на нём, а потом на него же и гадите. Не стану я, братья, – обернулся он к своим воинам, – меч свой о такую мразь поганить, ибо меч для воина священен. А грека сего и четырёх его охоронцев повелеваю… отпустить. Пусть перед своим императором оправдывается, почему не сберёг обоз и припасы. А вот горшок ночной ему отдайте, он ему уже сейчас надобен, ведь потёк со страху вельможа.
Высокий перевёл всё греку, россы сопроводили землевладельца и четырёх его охоронцев в подвал и заперли там.
– Где сейчас греческие конники, брат Пиниус, кстати, а что это значит по-гречески?
– Да то же самое, боярин, я просто перевёл своё имя – Сосна. По-гречески «пиниус». А конники ромейские торопятся по следу наших воинов в сторону Доростола, но дождь уже идёт, и наступила ночь, скоро греки нашу конницу потеряют. Встретимся, где уговорились, а теперь возами с припасами заняться надобно.
Когда россы покидали подворье грека, то велели прислуге вскорости освободить хозяина. Вельможа не ведал, сколько прошло времени, когда он опасливо вышел во двор, в котором не осталось ни единого воза. Но его занимало совсем другое.
– Кефалос, – окликнул он одного из охоронцев, – ты слышал, как называли этого длинноусого варвара его воины? Это был сам катархонт россов Сффентослаф…
– Княже, Стрешня крепкого страху на греков нагнал, – докладывал начальник Тайной стражи, вернувшись из очередной двухдневной вылазки за стены града. – Пошли слухи среди болгар, да и не только, молвят, ускользнул князь Святослав из Доростола и носится нынче, будто демон, по Болгарии, соколом налетая на греков, бьёт их и когтит до смерти. Сие доброе дело, пусть нигде не имеют покоя византийцы и не разумеют толком, где ты еси, тут в Доростоле или в тылах у Цимисхия.
– Что ж, – подумав, решил Святослав, – передай через людей верных, чтоб не развеивал Стрешня тех заблуждений, пусть знают те, кто к императору решили приложиться, что и за его спиной покараны могут быть рукой княжеской за предательство.
Глава 6 Мёртвые сраму не имут
Несколько раз приходили к императору начальники воинских обозов и пополнения с жалкими остатками воинов и клялись именем Иисуса, что налетел на них сам катархонт северных скифов, разметал, разбил, появившись ниоткуда и исчез так же неведомо куда. Те, кто видел загадочного руса во главе его безжалостного воинства, даже описывали его стать и лик, и то описание совпадало с имевшимся у императора.
Вот и нынче привели к Иоанну богатого греческого мужа, что имел много земли с полями и виноградниками на границе Империи Ромеев и Болгарии, и он рассказал Цимисхию, что недавно в его поместье ворвался этот самый князь скифов-россов, и один из воинов со смехом показал позолоченный ночной горшок сему предводителю варваров. Тот тоже расхохотался и молвил через толмача такие слова: «Сколь же мерзкий вы народец, вы злато превыше Бога своего любите, свои и чужие жизни за него кладёте, но даже то, что священно для вас, не уважаете, потому что не только едите на нём, но и гадите в него!»
– Так сказал сей катархонт варваров, – закончил свой рассказ землевладелец.
– Как же тебе удалось вырваться из лап скифов и почему ты решил, что это именно их катархонт? – спросил Цимисхес.
– Он повелел отпустить меня и четырёх моих охоронцев, заявив, что недостойно воина марать свой меч о такую… – Грек запнулся. – Один из моих охоронцев, что понимает язык варваров, сказал, что воины называли его «феликим княсем Сффентослафом», да я и сам это слышал собственными ушами! Я спешил к тебе, о великий император, не для того, чтобы оправдаться, а для того, чтобы предупредить тебя об этом!
Цимисхес снова задумался: кому верить и как понимать такое раздвоение? Его трапезиты и синодики утверждают, что князь в Дристере, а все, кого разбил этот неуловимый скиф, уверяют, что он свободно передвигается по Мисии, наводя ужас на обозы и вдохновляя на сопротивление мисян и особенно непокорных сербов. Где же правда и кто у кого в осаде? Ведь уже ощущаются перебои в доставке продовольствия, а попытки добрать его у ближайших поселян всё более толкают их к сопротивлению и пополняют ряды противника. Пришлось вылучить из осадных сил часть лёгкой конницы и послать её против этого призрака, который по-прежнему неуловим. Дух стотысячной армии, и без того пошатнувшийся из-за яростного сопротивления осаждённых, угасает ещё более, когда начинаются перебои с едой. А ложась спать, воины теперь особо усердно молятся, потому что никто не знает, проснутся ли они утром или будут изрублены, как магистр Куркуас с охраной. Лёгкой и быстрой войны, как он, Иоанн Цимисхес, рассчитывал, не получилось. Теперь пошла вовсе какая-то магия. «Чтобы покончить со всем этим, нужно напрячь все силы и взять Дристер как можно скорее! Или заключить с варварами мир», – устало подумал император, понимая, что «взять Дристер как можно скорее» не получится, как не выходило это все предыдущие три месяца. Разведка докладывала, что не только простой народ в Империи Ромейской, но и богатые земледельцы всё больше ропщут на войну, а на помощь россам готовятся новые полки. Да что земледельцы, трапезиты Каридиса доносят, что воины в его армии хотят поскорее вернуться домой, а иные стратигосы, хилиархи и гоплитархи позволяют себе дерзко отвечать самому василевсу. И хотя велел Иоанн казнить самых строптивых, но мысль о переговорах посещала Цимисхеса всё чаще. Император понимал, что они оба исчерпали силы, и ситуация пришла к положению, которое в шахматной игре называют «пат». Только не станет он, гордый урмиец, предлагать мир катархонту россов. Надо любым способом вынудить сделать это Сффентослафа.
Над миром опять вставала Заря, тяжко налитая кровью. В одном из домов, обустроенном под княжескую светлицу, всю ночь горели свечи и масляные плошки. Святослав держал совет со своими военачальниками. Старый Свенельд вздохнул и опять повернулся к Святославу:
– Дружина смертельно устала, княже, от непрестанных боёв. И воинов у нас совсем мало, и припасов совсем нет. Зачем держаться за пустой град? Не лепше ли уйти в Киев, а потом вернуться с новыми силами и разбить византийцев?
Святослав обратил на воеводу горящий взор:
– Ты предлагаешь отступить? А что скажут на то мои кияне и что скажут византийцы? Я ни перед кем ещё не сгибал выи…
– Знаю, знаю, княже, – поспешно перебил Свенельд. – Думаешь, мне нравится этот выход? Но другого я просто не вижу. Запасов драной гречки пополам с мышиным помётом, прелой пшеницы и конского мяса в крепости осталось на три дня. Овёс для коней можно растянуть на седмицу. И взять припасов больше неоткуда – мы в плотном кольце. А тьмы наши? В Севской осталось четыреста воев. А есть тьмы по сотне, а то и в десяток! Как такая тьма супротив греческой встать может, даже самая наихрабрейшая? Надо мыслить не про смерть, а про живот наш. Ибо что нам даст твоя смерть, княже? Другого тебя не будет. Надо пробиваться к полуночи, домой. Готовить новые дружины.
– Лучше выступить ночью, – предложил полутемник Путята, – темень поможет нам скрытно выйти. Можно вплавь по Дунаю.
– Никакая темь не поможет, – угрюмо буркнул Васюта, – греки всё время начеку, переловят, как щенят. Лучше уж с греками договариваться, идти с ними на перемирие…
– Погибнет, – помолчав, сказал с тяжким вздохом Святослав, – погибнет слава русская, если ныне устрашимся смерти! Кому нужна жизнь, спасённая трусливым бегством? Другие народы станут нас попросту презирать. Выбор только один: либо мы останемся достойными славы предков и победим греков, как одолели многие другие племена и народы, либо падём с честию, совершив дела великие! Завтра Перунов день, и сам бог наш воинский, что всегда даровал победу, поможет нам! Слава Перуну!
– Слава! – громыхнули военачальники, вскакивая с мест. Пламенная речь князя возымела, как всегда, чудное действие. В очах полутемников и тысяцких горел такой же неукротимый огонь, как и в очах Святослава.
– Стройте полки на утреннюю молитву и поверку! – велел князь. – Пошлите к Могуну на Мольбище, пусть готовит завтра утреннюю службу, полки придут на благословение перед битвой…
Рано утром дружина выстроилась на главной городской площади. Все уже знали, что нынче состоится решительная битва с врагом.
После переклички военачальники повели полки на молитву. На Мольбище Переяславский Могун с кудесниками уже творили требы богам.
Подойдя к выстроившимся полкам, Могун громким и сильным голосом начал петь молитву Перуну:
К тебе, Боже наш, обращаемся, Ты бессмертья льёшь чашу полную, На врагов с небес навергаешься, Поражая их мечом-молнией.Воины дружно подхватили:
Тебе молимся, Тебе веруем, Ты, Перуне, мечом божественным Оградишь нас от всяких недругов Во все дни Твоего пришествия!Песня лилась и ширилась, и каждый воин понимал, что нынче предстоит смертный бой. Но не было страха в сердцах русских пардусов, а песня наполняла их души отвагой и мужеством.
Потом Святослав коротко сказал о предстоящей задаче: борзо напасть на врага, ошеломить его натиском и победить в решающей битве.
– Бейте, братья, врага дерзостью, ибо дерзость и борзость есть наивысшие силы воинской яри. Соколом нападайте на противников и когтите, не давайте опомниться, чтобы они силу нашу не перечли. А смерть на поле боя с мечом в руке прекрасней позора и унижения! Вперёд, за Русь, с нами Матерь-Сва и Перун! – горячо рёк Святослав, всё более и более возжигая в себе эту самую святую ярь, которая одна осталась надеждой для всех воинов, что сейчас шагнут за черту смерти. Когда узрели ближние к князю темники печать Перунову на его челе, то и сами, подобно сухой поросли в знойной степи, стали возгораться той праведной силой.
Рядом с князем стал Переяславский Могун и молвил громким гласом, чтоб слышал каждый воин:
– Я нынче тоже пойду с вами в сию для многих из нас последнюю сечу. – Он подождал, пока по рядам дружины прошёл шум, будто свежий ветер по дунайской волне. – Пойду, потому как нет у нас права проиграть битву сегодня. Погибнуть можем, но проиграть нет! Иначе разрушат алчные визанцы и Болгарию, и Переяславец наш, разорят и в рабство продадут землепашцев и рукомысленников, а потом двинутся далее на Русь Киевскую. Потому нет нам пути назад, лепше, как князь молвил, костьми лечь в землю Болгарскую, но и греков коварных истребить нещадно! – закончил свою краткую, но вескую речь Могун.
И опять по рядам прошёл шелест удивления, потому что рядом с Могуном стал облачённый в ризы отец Гавриил:
– И я иду с вами, великие и могучие воины, потому что ваше поражение – это рабство Болгарии под тяжкой пятой Империи, которая может только грабить и убивать и не ведает истинной Христовой любви, сострадания Божьего и благости души живой. Они, – священник указал десницей за стены града, – не христиане, хотя именем сим прикрываются, как волк овечьей шкурой. Потому я, отец Гавриил, иду с вами в сечу не только как христианский священник, но и как болгарин Стоян Петкович.
Подле Могуна стоял большой медный чан с водой.
Сотворив привычную молитву киевским богам, призвав их сохранить русских воинов и навлечь погибель на врагов, Могун сказал:
– Чтобы воевать с железными воями, надо омыть мечи Перуновой водой.
– А что за вода? – вполголоса спросил Ярослав.
– Та вода сотворяется Перуновой молнией, которая падает в реку или озеро и наделяет воду особой силой, – шёпотом отвечал ему Младобор.
– Во время последней грозы молния ударила в Голубиное озеро, что на окраине града, – в подтверждение его слов произнёс Могун. – Мы ночью при свете Макоши и с молитвой Перуну набрали священной воды и привезли сюда. – Могун указал на чан. – Пусть теперь каждый из воинов, проходя мимо, окунёт свой меч в Перунову воду, которая даст русскому железу силу противостоять железу греческому! Да хранит вас Великий Триглав! – И Могун сотворил рукой широкое коло, благословляя собравшихся.
Святославово войско бодро с песней выступило из града сразу из двоих ворот – пехота появилась из западных ворот, напротив которых стоял Варда Склир со своей восточной этерией. А из восточных ворот, охраняемых стратопедархом Петром с болгарским ополчением, неожиданно появилась русская конница. Чтобы усилить остатки своего воинства, повелел князь сесть на коней даже морской тьме Притыки, хоть тем привычней было биться в пешем строю, по варяжскому устою. Собрали всех коней, какие остались в граде, и тех, чьи всадники были убиты или ранены, а ещё тех, что успели умыкнуть в ночной вылазке у зазевавшихся византийских коноводов.
Князь велел запереть городские ворота, чтобы никто и не помыслил о бегстве в Доростол. Путь был только в одну сторону, где ждала победа или смерть.
Греки, глядя на выходящих из града русов и болгар, никак не могли взять в толк: как могут осаждённые уже около трёх месяцев, измождённые голодом и многими боями, в общем-то обречённые на верную смерть люди петь песни, идя на свою погибель? Но ещё более они подивились, когда русы и болгары затворили за собой крепостные ворота. Только самые опытные и бывалые воины поняли всё, они нахмурились и приготовились к смерти, крестясь истово и читая про себя сокровенные молитвы.
С той же Перуновой печатью на челе русы храбро начали битву и сражались с таким упорством, что привели греков в замешательство: откуда у ослабленных россов и болгар взялось столько сил?! Почему те же болгары, что сражаются нынче на стороне Империи, и близко не могут сравниться в отваге и стойкости с теми, что сейчас плеч-о-плеч идут со Святославом?! Византийцы вообще предполагали, что русского войска, как такового, уже не существует. Есть умирающие медленной смертью люди, полуобезумевшие от голода в городе, в котором не осталось даже ворон. Ещё чуток – и русы с болгарами откроют врата, сдавшись на милость победителя. И вдруг – жесточайшая схватка, в которой «обречённые», кажется, вовсе не ведают устали. Греки же от зноя и жажды к полудню стали выбиваться из сил и отступать. Однако и русам понадобилась передышка. Они не стали преследовать неприятеля, и войска на время остановили битву.
Варда Склир, следивший, как расходятся на свои места его воины, недовольно оглянулся на голос старшего стратигоса Каридиса, который подошёл, как всегда, незаметно. Патрикий до сих пор не мог простить ему гибели своих лучших воинов-гоплитов и опытных синодиков, попавших в засаду у восточных ворот.
– Патрикий, я хочу предложить тебе нечто, что поможет одолеть скифов, – молвил главный трапезит.
– Уж не собираешься ли ты, Каридис, снова ночью открыть ворота Дристра? – откровенно съязвил Варда.
– Нет, это касается не ворот, и сделать это нужно сейчас, как только снова сойдутся наши и вражеские воины, – будто не замечая колкости Варды, спокойно ответил трапезит.
Битва в самом деле скоро возобновилась. Притыка, которого по его морской тьме из Киммерийского Боспора многие в войске стали называть просто Кимром, снова был во главе своей, как он шутил, «морской конницы». Конечно, его воинам непривычно было сражаться верхом, в умении управлять конём в бою они уступали опытным византийским конникам, но зато перекрывали сей недостаток отвагой и необычайной решительностью. Однако в возникшей после перерыва сече что-то изменилось.
Когда на правое крыло пехоты крепко насели конные гоплиты, Притыка ринулся туда со своими конными Кимрами. Вражьи воины, едва скрестив с ними копья и мечи, подались назад с возгласами «Икмор, Икмор…», так они по-своему переиначили прозвище темника. Притыка как нож в масло стал входить в строй железных гоплитов и не заметил, как те же гоплиты двумя клиньями принялись отсекать его от основной конницы. Когда темник понял, что попал в хорошо расставленную западню, он закричал своим громовым гласом содругам, чтобы пробивались назад, но было уже поздно. Одна часть железных катафрактов окружила их плотным коло, а другая, соединив клинья, навалилась на оставшихся без темника россов. Сеча была жестокой. Зажатый в железном коло Притыка рубился, как никогда, без устали крушил своим тяжёлым, но быстрым в его могучей руке мечом греков налево и направо. И тогда сквозь свалку к нему пробился равный ему по силе греческий богатырь по имени Анемас в окружении нескольких «Бессмертных». В мелькании булатных клинков уже было не разобрать, чей меч первым достал руса. Он стал терять силы, и Анемас, изловчившись, в один миг отделил голову раненого богатыря от тела.
– Икмор пал! – в приступе восторга возликовали греки, уже не чаявшие одолеть могучего воина.
А верные «кимры», всё ещё не веря возгласам греков, пытались пробиться к своему темнику. Когда им это удалось, и они узрели распластанное на нескольких телах катафрактов обезглавленное тело Притыки, взлютовали русы и ринулись на греков так, что те стали быстро отходить. «Морская конница» бросилась было за ними, но турьи рога по княжеской команде заставили всадников вернуться, чтобы они не оказались в западне, как их темник. Святослав понимал, что тесные места вокруг Доростола благоприятствуют его малочисленному войску, и вовремя разгадал замысел императора заманить противника на обширное поле притворным бегством. Потому сия хитрость Цимисхеса не имела успеха: ночь развела войска без чьей-либо победы.
И снова непредсказуемые скифы удивили византийцев. Они, против ожидания, не вернулись в крепость, а принялись при яркой полной луне собирать и сжигать тела своих павших.
– Эти дьяволы неутомимы, – в суеверном страхе рёк один гоплитарх другому, – после такой битвы, когда наши воины едва стоят на ногах, эти варвары даже не думают укрыться в крепости и отоспаться.
Встревоженные керкиты в византийском лагере всю ночь ощущали сильнейший запах горящей плоти. Прикрывая платами носы, они сегодня даже не думали дремать, всё время ожидая нападения этих непонятных варваров. Кроме осаждённых и ночной стражи ромеев, не спали в эту ночь и военачальники ромеев. Опытные стратеги, они понимали, что завтра будет ещё более страшная сеча.
– Теперь и я верю, что эти северные скифы в самом деле дети легендарного Ахилла, – проговорил в тяжком раздумье Варда Склир. – Тот тоже славился своей невероятной силой, выносливостью и такой же жестокостью, как они. – Он кивнул в сторону дымящихся костров смерти.
– Невероятно, они ведут себя так, как будто нас вообще нет здесь! – с опаской и тревогой добавил своим женским голосом паракимомен Василий. – Видели, они топят в Дунае оставшихся петухов и даже младенцев, чтоб умилостивить своих жестоких богов!
– Когда человек решил умереть, то для него в самом деле уже нет противников, – прогудел мелиарх Седоний.
И всех троих посетила одна и та же простая, но страшная мысль, что сих варваров можно убить, но нельзя победить. Но, умирая, они будут сражаться, как одержимые дьяволом, и унесут с собой столько лучших воинов…
– Я, пожалуй, пойду к императору, – встал с места патрикий. – Наши трапезиты иногда тоже дают дельные советы, и случай с Икмором это показал.
Когда были собраны и сожжены все тела погибших, Святослав сел, прислонившись спиной к израненному стрелами и камнями, но ещё живому дереву. Прошлой ночью в коротком тревожном сне ему приснилась Овсена. Привиделось, что плавает она лебедем по тихому озеру, а потом вдруг взмахнула крылами, кликнула страшным голосом, превратилась в Овсену и побежала прямо по воде босыми ногами. А вода стекала с её рук-крыльев и превращалась в кровь. Подбежала она, бросилась на шею радостно, а князь увидел, что она закровавила его белую епанчу и рубаху. Дёрнулся, чтоб от неё отстраниться, и проснулся. Сердце гулко билось, в висках стучало. Ещё тогда Святослав подумал, что сон недаром приснился, Овсена о чём-то упредить хотела. А теперь понял – то был вещий сон о смерти Притыки. И как только он стал думать о верном темнике – втором погибшем из неразлучной троицы, кой только что унёсся с погребальным дымом в вечное войско Перуново, – вошла в сердце князя такая жаль острая и тоска лютая, что стало ему трудно дышать. Прохудилось, видно, от той боли и усталости нечеловеческой заклятие отца Черниги, и князь громко застонал.
– Что с тобой, светлейший? – обеспокоенно подскочил юный стременной.
– Позови темников с полутемниками. Да принеси мне, брат, мёда крепкого, хочу справить тризну по Притыке и прочим друзьям своим верным…
Принёс чашник мёд, Святослав принял.
– За Притыку, лепшего темника моей дружины! – тихо молвил князь, осушил чашу, и глаза его влажно блеснули.
Подошедшие темники с полутемниками, видя, в каком состоянии находится князь, стали вокруг него в коло, словно защищая от горя и боли.
Чашник подал вторую чашу.
– За всех друзей моих верных и хоробрых, коих матери уже никогда не дождутся! – обронил Святослав и выпил вторую чашу.
И опять чашник наполнил её.
– Налей всем, – велел князь, – и раздай по куску лошадиного мяса и хлеба. Нынче справляем мы великую и горькую тризну!
Ой, не вейте Веи-Стрибожичи, Не гасите пеплом огни, —вдруг запел сдерживаемым мощным голосом Ворон, и темники тут же подхватили:
В той долине павшие витязи Да за волю русскую полегли. Ой, не грайте вы, чёрны вороны, На холме лежат меч да щит. Там, где витязей пали головы, Только ветер ковылями шумит…Святослав слушал песню, и по усам его сбегали чистые слёзы, капая в чашу с мёдом.
– Помянем, друзья, мёртвых и живых не забудем. Слава вам, мои храбрые витязи!
– Святославушка, – неслышно возникла рядом Предслава, – боль и радость всегда вместе ходят. Сей ночью в граде родилось трое младенцев…
– Родились? Младенцы? – в первые мгновения непонимающе глядел князь на жену.
– Да, два мальца и девочка. Их матери просят тебя быть их наречённым отцом, благословить словом своим…
– Благословить? – светлея ликом, молвил князь. – Так мы это мигом, верно, темники? Пошли окунём новорождённых в священной дунайской воде и принесём отцу нашему Перуну жертву благодарственную за жизнь новую!
Утром в стан Святослава неожиданно прискакали три греческих гонца с белыми платками.
– Великий император Иоанн Цимисхес восхищён мужеством твоих воинов, князь. Дабы прекратить утомительную с обеих сторон войну, он предлагает храброму князю Сффентослафу единоборство. Лучше погибнуть одному человеку, чем губить многих людей в напрасных битвах.
Святослав посовещался со своими темниками, поговорил с Вороном.
– Княже, – как всегда негромко, но веско молвил главный изведыватель, – Цимисхес, конечно, от других греков храбростью отличается, но более того славится своим коварством. Ведь он убил своего брата императора Фоку не в открытом бою, а ночью, застав того спящим. А соратников, помогавших ему захватить трон, объявил предателями. И так действует во всём. – Ворон чуть помолчал, собираясь с мыслью. – Не верится мне, что наш славный Притыка случайно в западню угодил. Чую, не обошлось тут без хитрости византийской. А коли так, то не будет у тебя, княже, честного поединка с императором, мыслю, и тебя решили в капкан взять. Не зря они назвали сию воинскую операцию «Агра», что значит «капкан».
– И то, – не выдержал Варяжко, – не ведает Цимисхес чести воинской! Нет, не бывать такому «поединку», верно Ворон речёт, что тут таится коварство вражеское.
И гонцы византийские получили такой ответ от Святослава:
«Я лучше врага своего знаю, что мне делать. Если жизнь ему наскучила, то много способов от неё избавиться, Цимиский да выбирает любой!»
Святослав выстроил остатки своего войска и обратился к ним:
– Не хочу ничего от вас скрывать, братья, в тяжкой доле мы ныне! Да, мало нас осталось в Доростоле, но мы – русы. Что есть жизнь и что есть смерть? Что лепше – прожить свой век псом трусливым либо умереть львом на поле брани? Я не забочусь о своей жизни, лишь бы осталась земля наша славная Русская, и отдать за неё живот – честь великая! Помнить прошу, что бьёмся мы ныне не за прошлое и не за нынешнее, а за будущее внуков наших и правнуков. За это сражаемся! Посему некуда нам деваться, братья, а волей и неволей должны мы стать супротив греков. Так не посрамим же земли Русской, но ляжем костьми за неё, ибо мёртвые сраму не имут! Если побежим, то срам нам! Станем же крепко, и я перед вами пойду. И если моя голова поляжет, то за свои тогда мыслите сами…
– Где твоя голова поляжет, там и наши головы сложим! – отвечали воины, возгораясь словами князя.
– Простите меня, братья, ежели я кого чем обидел… – уже тише попросил Святослав.
– Да что ты, княже, это мы у тебя прощения просим!
– Ничем ты нас не обидел!
– А если когда и сердился, то за дело! – раздались выкрики.
Разошлись воины готовиться к тяжкой сече. И начальники раздали им чистые белые рубахи. Взгрустнули многие, ибо ведали, что русский воин бреет голову и надевает белую рубаху, когда идёт в смертный бой, из которого живым воротиться не думает.
Засим последовало жесточайшее и упорное сражение. В нём греки прилагали все усилия, чтобы сразить Святослава. Греческий витязь Анемас, убивший накануне Притыку, в окружении латников изо всех сил прокладывал себе путь мечами сквозь ряды россов. Приблизившись к Святославу и выждав, когда «Бессмертные» окружат его, Анемас изловчился и нанёс сильный удар, метя в голову. Князь уклонился, мощный удар пришёлся на плечо и сшиб с коня. Брызнула кровь из раны под разрубленной кольчугой, потекла на землю Дунайскую. Страшно закричали русы, увидев князя поверженным, тотчас изрубили греков во главе с Анемасом на крошево, а Святослава подняли на щит и понесли к Доростолу.
– Что князь? Жив ли? – слышались голоса отовсюду.
– Жив, шелом спас, но ранен в левое плечо…
Больше всего воины страшились смерти князя, ибо не мыслили себя без него.
Когда Святослава вынесли из сечи, к нему бросилась Предслава. В горячке князь не чувствовал боли, и едва жена перевязала рану и затворила кровь, как он велел подать себе коня и вновь полетел в битву, беспорядочные волны которой то накатывались, то сшибались между собой.
Воодушевлённые гибелью греческого богатыря Анемаса, а ещё более возвращением в строй любимого князя и жаждой мести за его ранение, русы, словно зачерпнув неведомых сил, с победными кличами набросились на ромеев. Под сим чудовищным нечеловеческой силы натиском греческая фаланга дрогнула и стала отступать, иные воины уже начали спешно поворачивать назад. Иоанн Цимисхес, видя это и понимая, что может случиться непоправимое, кликнул своих «Бессмертных» и, сжав копьё, устремился с ними на россов. Забили тимпаны, заиграли военный призыв трубы, и увлечённые призывом императора ромеи стали разворачивать лошадей.
После полудня дувший с утра южный ветер стал заметно крепчать и вскоре превратился в настоящий ураган вперемешку с дождём. Густые облака поднявшейся пыли застлали воздух, ослепляя русов, поскольку ветер дул прямо им в лицо. Средь этого буривея не слышны стали ни команды начальников, ни расположение полков – всё смешалось, и люди вместо схватки с врагом вступили в единоборство с пыльной бурей.
Святослав велел прекратить битву, и русы впервые за три дня воротились в град. Подоспевшая ночь накрыла уставшую израненную землю своим тёмным пологом.
Когда князь тяжело слез с коня и остановился, пошатываясь, его юный стременной невольно вскрикнул: в кольчуге Святослава торчало несколько стрел, острия некоторых, видимо, пробили защиту, потому что из ран сочилась сукровица. Лик князя был бледным, даже чуть желтоватым. Святослав устало опустился на подстеленную стременным попону. Подскочившие воины помогли князю разоблачиться – видно, что раны доставляли ему тяжкие страдания, но он терпел. Потом лёг и, впадая в кратковременное тревожное забытьё, то и дело вскрикивал, дёргался, как будто продолжал рубиться.
Могун повелел отнести князя в его каменный дом. И пока Могун перевязывал раны, а помощник делал отвар целебного зелья, Предслава всё время находилась подле, проводя руками над головою, шепча какие-то заклятия, а иногда брала его за шуйцу и проводила по горячему челу своей прохладной десницей, будто стирала нечто зловредное. Вскоре Святослав затих, перестал вскрикивать и метаться в горячечном бреду, а когда ему дали волховского варева, то он наконец уснул.
– Что ж это, братья, – едва не плача, воскликнул молодой Збимир, бывший княжеский стременной, а теперь полутемник. – Отчего нынче боги взъярились против нас? Отчего Стрибог с Перуном встали на сторону греков?
– Я вот что думаю, – молвил угрюмо воевода Свенельд, собрав оставшихся начальников. – Ранение князя было знаком о том, что надобно битву остановить. Но не послушались мы Перуна, вот он сам и явился, чтоб указать на неправоту нашу. Коли и далее не станем внимать Громоразящему, то и вовсе загинем.
– Так что ж нам теперь, признать верх греков над Русью? – возмутился Збимир.
– Нет, конечно, – возразил Свенельд. – Только пришла пора идти на мир с греками, так я мыслю знаки божеские, – уверенно молвил воевода. – Ромеи ведь тоже от битв бесконечных выдохлись и не менее нашего окончанья войны желают.
– Может, у Могуна совета спросить? – предложил кто-то.
– Могун с кудесниками творят молитвы о здравии Святослава, за живот его сражаются, нельзя их от сего важнейшего деяния отвлекать, ибо кем мы будем без князя нашего? – сурово вопросил Свенельд. – И даже если подлечат его кудесники, нельзя ему завтра идти в сечу после таких ран. Князь всегда с дружиной советовался. Все мы здесь, его соратники, и нам надобно принять решение.
Святослав проснулся перед рассветом, он чувствовал себя гораздо бодрее.
– Отчего я здесь? – сразу спросил Предславу.
– Ты вчера в забытьё впал от потери крови, Могун велел перенести тебя сюда. Вот, выпей для восстановления сил! – подала жена небольшую чашу.
Святослав выпил немного хмельного мёда. От того мёда вошло в него веселье, и он велел кликнуть дневального темника.
– Кто там нынче? А, Лисогор, будь здрав! Что в стане деется? Какие новости?
– Новость одна, княже, все дружинники рекут об окончанье войны.
– Окончанье войны? Кликни ко мне Свенельда!
Воевода вошёл почти сразу, словно ждал. Встретившись с вопросительным взором князя, молвил, чуть замявшись, тем не менее решительным тоном:
– Княже, дружина речёт, надо замиряться с греками. Сам Перун вчера о том ясный знак подал. Но решение за тобой, княже! – поспешно добавил Свен.
Святослав, поморщившись, поднялся. Посмотрел на Свенельда, на дневального темника.
– Хочу во двор выйти! – сказал.
Поддерживаемый сильными руками охоронцев, спустился с крыльца. Воины, завидев князя, радостно приветствовали его. Вокруг шли мирные разговоры, текла будничная жизнь: кто-то варил в котелке остатки лошадиной шкуры, многие спали прямо на земле, отсыпаясь за долгие сражения. Вскипев было вначале за предложенное Свенельдом замирение с греками, Святослав вдруг вспомнил свой первый боевой поход на хазар. Тогда Свенельд принял на себя командование и, почитай, спас Малую дружину от полного уничтожения. Сейчас Свенельд опять, наверное, будет внутренне гордиться, что сохранил остатки русского войска. Святослав не был с ним согласен ни тогда, ни сейчас. Он считал, что честь превыше смерти. Хотя понимал, что Свенельд по-хозяйски заботится о сохранении людей. «Я и вовсе мог душу Перуну отдать, – подумал он, – как бы они тогда управлялись сами?»
Темники, прослышав про выздоровление князя, сами собрались вокруг него.
– Ну, что скажете? – спросил Святослав. – Пошлём с предложением мира к грекам? – И, прочитав на лицах измождённых соратников ответ, словно сам себе произнёс: – Ладно, заключим пока с греческим царём мир, какой заключали отец мой и дед. А если Визанщина нарушит слово, то, собрав на Руси воинов больше прежнего, снова пойдём к Царьграду, путь то уже проторённый, верно?
– Верно, княже!
– Ур-ра!
– Слава хороброму Святославу! – восклицали воины, расцветая белозубыми улыбками, будто ромашками в поле.
Святослав ещё немного походил по двору, посидел, потом вернулся в дом. Кудесник осмотрел его и сказал, что за три дня рана закроется, а через седмицу и вовсе о ней забудет.
– Княже, когда отправляем посольство к грекам? – спросил Свенельд.
– Сейчас, – сухо ответил Святослав, по велению кудесника ложась на лаву и накрываясь рядниной – его опять начинало знобить. – Сам поедешь. От моего имени договаривайся о мире на прежних условиях. Коли согласны греки и впредь платить дань Руси и следовать прочим обязательствам, то можно обо всём прочем сговариваться.
Глава 7 Мирный договор
Иоанн Цимисхес, укрывшись в шатре от нежданной бури, призвал ближайших советников.
– Божественный василевс, – радостно провозгласил епископ Феофил, представитель патриарха и первейший советник императора, – благодаря твоему героическому руководству войсками и заступничеству высших сил мы сегодня одержали победу! Воины рассказывают, сам Фёдор Стратилат явился впереди нашего войска среди страшного урагана и, разъезжая на белом коне, привёл в смятение русские полки, заставив их отступить.
– Слава Всевышнему Вседержителю! – перекрестился Цимисхес. – Что россы? – спросил он у Варды Склира.
– Им пришлось вернуться в Дристер.
– А Сффентослаф?
– Сражался вместе со всеми, хотя и был ранен храбрым Анемасом, затем зверски убитым русами.
– Вечный покой его душе… – перекрестился Феофил.
– Плохо, – помрачнел император. – Утихнет буря, сядет на коня Сффентослаф, и всё повторится сначала. Они – безумцы, предпочтут умереть все до единого, но не отступят.
К вечеру ураган стих, но битву уже никто не начинал. Всю ночь русы и греки собирали раненых и убитых.
А утром к императорскому шатру подскакал посыльный. Резво соскочив с коня, он подбежал к входу, но был остановлен громадного роста легионерами из личной охраны.
– Что надо?
– Доложите великому императору, что приехало посольство от россов с белыми платками!
– Узнай кто, – быстро велел император стратигосу.
Стратигос вышел, сел на коня и в сопровождении телохранителей подъехал к послам.
– Чего хотите? – спросил он.
Молодой болгарин в русском облачении сказал на хорошем греческом:
– От имени великого князя Святослава с императором желает говорить предводитель русского войска воевода Свенельд и его главные стратигосы!
Ромеец вернулся, доложил императору. Тот слегка заволновался.
– Слышал, отец Феофил? Прибыли стратигосы россов. Отец Феофил, – опять обратился он к синкелу, – будь со мной на этой встрече. А что, если россы запросят мира? – с долей нетерпения сверкнул он голубыми очами и велел подать себе корону и царский жезл.
– Благодарю за честь, великий император! – высокопарно молвил епископ.
Спустя некоторое время послов препроводили к боговдохновенному владыке.
Оставив мечи и кинжалы охране, послы вошли в шатёр, приветствуя византийского правителя поклонами с приложенной к сердцу, по русскому обычаю, рукой. Это были, по всему, знатные у россов люди, одетые даже с некоторой долей роскоши. Особо выделялся крепкий рыжебородый варяг с неторопливыми уверенными жестами и жёлтыми ястребиными глазами.
«Русский архистратигос», – сразу определил про себя император, знавший Свенельда по рассказам приближённых.
– Великий князь Святослав Хоробрый хочет иметь с тобой, царь византийский, мир и любовь. Что скажешь на сие предложение? – спокойно и с достоинством сказал Свенельд.
Болгарин перевёл его слова.
Император с трудом скрыл в душе радость. Скосил глаза на синкела, тот еле заметно кивнул.
– Как здравие катархонта? – поинтересовался Иоанн.
– Благодарим, поправляется, – коротко отвечал Свенельд. И продолжил: – Наш великий князь Святослав желает знать, согласен ли ты, великий император, заключить мир с Русью на тех же условиях, что были утверждены прежде нашими князьями Олегом и Игорем и вашими царями.
– Что ж, если катархонт россов хочет мира, то и мы желаем того же, – изрёк, чуть подумав, Цимисхес. – Мы, греки, христолюбивый народ и предпочитаем побеждать неприятеля не столько оружием, сколько благодеяниями. Ежели ваш катархонт отпустит всех пленных, уйдёт в свою землю и не будет помышлять против Империи Ромейской, то обещаю, что позволю ему уйти со всем войском и оружием и не буду чинить никаких препятствий. Я готов также дать по две меры хлеба каждому воину на дорогу. Сколько у вас воинов?
– Двадцать две тысячи, – молвил Свенельд, прибавив ровно половину, помня, что доля каждого погибшего воина принадлежит роду его.
– В подтверждение своих слов, как знак дружбы, хочу передать вашему князю дары щедрые. – Климент! – окликнул император охранника. – Позови ко мне начальника походной казны… Но чтобы соблюсти договорённость, надобно составить хартию. Для обсуждения сего договора с катархонтом Сффентослафом от своего имени я пошлю в Дристер императорского синкела Феофила. – Он указал на епископа. – Составленный вами договор при участии нашей стороны затем должен быть передан нам и утверждён в присутствии ваших послов. Таков закон.
Наделив русских посланников дарами, император отпустил их. Сам же, уединившись с епископом Феофилом, стал обсуждать с ним условия мира.
– Пока Русский Барс ранен и ослаблен, требуй с него обещания навсегда оставить Болгарию, не нападать на Империю и подвластный ей Херсонес с климатами ни самому, ни с союзниками. Напомни ему, что по предыдущим договорам архонты Руси обязывались оказывать помощь Империи против любых её врагов. Ты опытный дипломат и стратег, уговаривай, обещай, не обязательно всё записывать в договор. Возьми с них клятву, они любят давать клятвы перед своими богами. Я дам тебе ещё золота. Любым способом мы должны избавить Империю от этого варвара!
– Что ж, великий император, – сказал, поднимаясь, синкел. – Я готов приступить, благословясь, к этой важной работе. – Он перекрестился и приложил к губам висевший на груди золотой крест.
В присутствии синкела Феофила и воеводы Свенельда в Доростоле Святославом был составлен договор, а затем утверждён ромеями в греческом легере в присутствии русских послов. Когда хартии были запечатаны и всё порешено окончательно, князь призвал к себе Тайную стражу и стал вести совет, как лепше встретиться с императором для обмена договорённостями.
– Цимисхес желает, чтобы мы прибыли в его стан, что думаете, братья?
– Не доверяй греку, княже. Бережёного и Перун бережёт. Не ходи в греческий стан даже с охраной! – горячо молвил помощник главного изведывателя.
– Мыслю, надо сделать так… – изложил князю свой план Ворон.
– Добро, – кивнул Святослав. – Дай указ приготовить лодьи и людей…
Свенельд вышел к греческим посланникам, которые с утра дожидались ответа.
– Передайте василевсу, что князь Святослав желает встретиться с ним и обменяться запечатанными хартиями на таких условиях…
Оставшись один в горнице, Святослав стал вышагивать по ней взад-вперёд и всё мыслил про дела дальнейшие. И ночью почти не спал, на заре только прикорнул и встал с третьими петухами, что откуда-то появились в болгарском граде. Умывшись студёной водой, вышел к своим воинам и сотворил привычную молитву богам. Потом кликнул темников и рёк им:
– Нынче встречаюсь я с греческим василевсом на Дунае. Чтобы враг не думал, что мы ослабли и разнежились, велю одной части проводить на берегу учение. А второй – готовиться к походу домой.
Морская лодья, сработанная лодейным мастером Орлом, отмытая и вычищенная, только без славного начальника кимров Притыки, была уже готова. Кроме лодейщиков и нескольких воинов Тайной стражи во главе с Вороном, на лодью взошли десять лепших лучников. Ещё две лодьи следовали поодаль. Каждый воин был готов в любой миг вступить в схватку с коварными ромеями, коли те попытаются что-либо предпринять супротив их князя.
Вот и дромон, на котором прибыл сам император Византии. Лучники на русской лодье вложили стрелы, но держат своё оружие внизу скрытым бортовым брусом. Ромеи тоже напряжены, они видят на берегу россов, проводящих учения. Начальник синодиков и Каридис впились очами в Святослава и тех, кто стоит подле него. Наконец, Каридис, который стоит так, чтоб его не могли видеть варвары, кивает, и лодейный начальник греков приказывает стать на якорь. В отличие от тяжеловесного греческого дромона, лёгкая в ходу и по-птичьи изогнутая деревянным телом, похожая на белокрылого лебедя лодья ещё некоторое время выжидает и, только удостоверившись, что другие греческие корабли не думают приближаться к ней, тоже бросает якорь. Вёсла на дромоне и на лодье убраны. Оба корабля, будто большие живые существа, зацепившись за дно когтистыми щупальцами якорей, выравнивают свои тела вдоль течения великой реки.
Каридис почти ощущает, как напряглись воины, затаившиеся сзади него под настилом дромона. Он впервые видит того, за кем идёт по пятам последние годы, и цепкая память трапезита навсегда запоминает стать, разворот широких плеч, мощную грудь и длинную прядь тронутых ранней сединой волос на загорелом бритом черепе. Вот, согласно предстоящему уговору, от русской лодьи и дромона греков отходят небольшие лодки, одна с шестью, вторая с восемью гребцами. Император восседает на скамье, которую для сего случая специально подняли выше остальных, чтобы даже при малом своём росте он возвышался над гребцами – могучими воинами его охраны – и толмачом. Святослав же сидит в общем ряду своих охоронцев и воинов тайной службы и гребёт вместе с ними. У кормила Ворон зорко следит за каждым движением ромеев. Лодьи сближаются. Лучники на обоих кораблях невольно ощущают, как от внутреннего напряжения начинают потеть их длани. Даже на тех ромейских и русских кораблях, что держатся поодаль, все замерли, и слышен только мерный плеск вёсел, удерживающих корабли против течения.
Начальник изведывателей правит так, чтобы Святослав оказался не со стороны греков. Лодьи поровнялись, держа носы против течения, руки воинов с той и другой стороны вцепились в борта друг друга, чтобы удержать лодки вместе. Князь и император обмениваются сдержанными приветствиями, толмач греков переводит слова росса, а Ворон Святославу ответ Цимисхия. Наконец, разразившись короткой и по обыкновению высокопарной речью, император передаёт через толмача изукрашенный ларец, в котором находится писанный на дорогом белом пергаменте, разукрашенный сценами жития святых и запечатанный императорской печатью хрисовул.
Святослав, в свою очередь, передаёт через Ворона свёрнутую хартию, запечатанную его княжеской печатью, но без особых украшательств и без ларца.
Князь и император снова меряют друг друга долгими пристальными взглядами и, ещё немного поговорив, прощаются. Лодки быстро расходятся, уходя по дуге каждая к своему кораблю. Только когда Святослав поднимается на лодью, все вздыхают облегчённо, и мореходы споро начинают выбирать якорь.
Русская лодья уже шла к берегу, пока на неповоротливом греческом дромоне выбирали якорь, и гребцы налегали на вёсла, чтобы развернуть тяжёлое тело корабля. Каридис поднялся на верхний настил из душного нижнего отделения и встретился с внимательными очами синкела Феофила.
– На берегу сразу зайди в мой шатёр, старший стратигос, – тихо, но повелительно молвил синкел, проходя мимо и направляясь к сидящему в величественной позе уже на своём походном троне императору.
Трапезит краем ока видел, как Феофил что-то говорил василевсу, иногда наклоняясь к самому уху венценосца. Цимисхес, бесстрастно глядя на волну, слушал его, а потом что-то молвил в ответ, и епископ закивал, указав очами на Каридиса. Но император даже не взглянул в сторону старшего трапезита.
Глава 8 Тайная миссия
Приглашение императорского синкела Феофила для личного разговора заставило трапезита теряться в догадках. Зачем его позвали и кого теперь из толстозадых придётся сопровождать с очередной «великой» миссией, может, самого Феофила, но куда? Высокий молчаливый монах, больше похожий на опытного синодика, окинул его цепким взглядом и кивком пригласил следовать за собой. Они вошли в обширный шатёр епископа, и монах предложил пройти за тяжёлый бархатный полог, который, как отметил про себя трапезит, прекрасно приглушает звук человеческой речи.
Епископ величавым жестом указал на одно из раскладных походных кресел напротив.
– Ты, Каридис, как мне известно, всё время шёл по следу Русского Барса, как хороший охотник, – начал негромкую речь епископ, – ещё со времён взятия северными скифами Хазарского каганата. Здесь, в Мисии, он угодил в капкан, но сердце нашего христолюбивого императора не смогло устоять перед просьбой варвара о свободе, и он снова уходит. Справедливо ли это?
Опытный трапезит на миг невольно растерялся, и именно в это самое мгновение синкел вдруг вперил в его очи свой холодный взгляд.
– Я полагаю… что это, конечно… несправедливо, – невольно запнулся Каридис, но быстро взял себя в руки. – Он уходит, чтобы собрать стаю и вернуться, едва только залижет раны. Такова суть всех хищников…
– Охотник, который добьёт раненого зверя и надолго избавит людей от опасности, заслужит честь и признание, не так ли? – снова спросил епископ.
Каридис кивнул. Во рту у него отчего-то пересохло.
– Ты должен помочь святой церкви и Империи, – уже прямо сказал Феофил. – Подумай, что тебе нужно – золото, хороший яд, люди, которые будут подчиняться каждому твоему слову. Понадобятся воины – получишь воинов, друнгу, три, пять – сколько потребуется. О нашем разговоре никто не должен знать, даже твой архистратигос Агриппулус, – ровно проговорил Феофил. От этого негромкого голоса одного из ближайших людей императора и патриарха, от неожиданного осознания, что его мечта – настигнуть князя гордых россов и… внутри стало томно-прохладно, как от свежего утреннего ветерка с моря. Выходит, этому епископу ведомо всё, каждая мелочь его службы…
– Я… сделаю всё как надо… я даже знаю, с кого начать…
– Подробности меня не интересуют, – остановил его Феофил. – Никто не вправе выяснять у тебя, где ты был и что делал, я тоже спрашивать не стану. Мне, вернее, ты догадываешься, кому нужна его голова. Тебе всё ясно? Я скоро уезжаю, потому к полудню всё, что тебе нужно, должно быть написано и лежать на моём обеденном столе.
– Да, синкел!
– Запомни, страна мисян должна быть нашей, потому что, только завладев ею, мы сможем покорить варваров. Наши более проворные римские братья уже прихватили себе западных славян, а нам нельзя упустить восточных. А для этого просто необходимы будут священники, епископы и черноризцы из мисян, которые разумеют не только речь россов, но их жизнь и обычаи, – только собратья смогут втолковать Священное Писание в непокорные языческие головы северных скифов. Но без его гибели это невозможно, поэтому ступай, Каридис, и каждый миг помни о своей великой миссии. Как только ты сделаешь своё дело, немедленно пошлёшь ко мне посланца, лучше двух. – Феофил не сказал, что его отъезд теперь зависит от донесения трапезита.
Между тем довольные концом войны русы готовились покидать Доростол, но нужно было ещё получить обещанные греками дары, да и просто отоспаться после стольких бессонных дней и ночей жесточайших сражений. Жители Доростола вместе с воинами радовались тому, что остались живы, что теперь можно сварить настоящую еду, а не лошадиные шкуры и прелый овёс. Воины отдыхали, чистили оружие и обветшавшую одежду, а чуткие купцы уже потянулись к русам и ромеям, предлагая всё, что только душе угодно, – русам одежду и еду, а грекам забытые домашние сладости и доброе вино. Припасные темники получали у ромеев обещанное и распределяли для обратного пути. Лодьи были спущены на воду и готовились, приняв груз, уйти вниз по течению к Переяславцу.
Свенельд не собирался ничего покупать на вдруг буйно разросшемся Доростольском Торжище, у него и так всего было вдосталь. Он просто шёл мимо, когда его кто-то окликнул. Обернувшись, воевода увидел того самого купца с седеющей бородой, с которым познакомился в Преславе.
Купец, приветливо улыбаясь, подошёл ближе, держа в руках несколько арабских кинжалов.
– Смотри, почтеннейший, как сияют камни, украшающие ножны…
– Не надо, – махнул рукой воевода.
– Это клинок для настоящего знатного воина, такого, как твой сын Гарольд, – произнёс грек.
– Ты даже ведаешь, как зовут моего сына? – несколько удивился воевода, беря в руки и разглядывая заморский клинок и впрямь великолепной работы.
– Я знаю о том, что сын твой Гарольд-Григорий-Горазд возглавляет Киевскую Городскую стражу, так что сей клинок будет ему добрым подарком… Но я знаю не только это, – тихо проронил купец, оглянувшись вокруг.
Воевода помрачнел, рысьи очи его сузились.
– Ну, пойдём ко мне, покажешь, что у тебя есть, – намеренно громко произнёс Свен, и они проследовали к дому воеводы.
Едва вошли во двор, как Свенельд оглянулся по сторонам и вдруг быстрым привычным движением извлёк клинок из богато украшенных ножен и вмиг прижал его острое жало к самому горлу купца.
– А ну-ка, реки, говорливый купец, кто ты и кем подослан, не то я кликну охорону, и они вмиг вывернут твои суставы и поджарят пятки огнём! – зловеще проговорил Свенельд, чуть надавив остриё у горла купца так, что из повреждённой кожи выступила рудая капля крови.
– Не стоит этого делать, почтенный воевода, – неожиданно спокойно ответил «купец». – Я человек маленький, моё дело – передать тебе предложение, а уж принимать его или нет – решай сам. И убери клинок, ибо моя смерть не улучшит твоё положение, скорее наоборот… Если ты меня убьёшь, то никакого предложения не услышишь, и сегодня же твой князь узнает, как и почему на самом деле, а главное, с чьей помощью погиб его отец, князь Ингард…
Воевода медлил, но рука, сжимавшая булат, едва заметно дрогнула. Наконец он нехотя опустил лезвие.
– Что ты ещё знаешь? – глухо спросил он «купца», который дорогим платком вытирал сочившуюся из расцарапанной шеи кровь.
– Я знаю всё, почтенный воевода, – продолжил собеседник. Его голос уже потерял угодливые ноты, и теперь со Свенельдом беседовал уверенный в себе человек, который точно знает, что он говорит и делает. – Я ведаю про твои истинные отношения с покойной архонтессой Ольгой, ведаю о том, что ты тайно крещён, и ещё много о чём из твоей богатой событиями жизни. – Заметив, что лик воеводы побледнел, а рука снова сжала рукоять клинка, «купец» уже грозно напомнил: – Только не теряй головы, ибо этот секрет знаю не только я. А вот узнает ли его твой князь, зависит от твоего благоразумия. Поверь! Нам, твоим друзьям, нет никакого смысла раскрывать тебя или хоть как-то портить твою жизнь и благополучие. Напротив, если мы договоримся, тебя ждёт ещё больший почёт, уважение и достаток. Ты уже в таком возрасте, что не худо подумать об обеспеченной старости, а то такие, как бывший темник Блуд, так и норовят наступить достойному человеку, как у вас говорят, на пятки. Да и сам князь всё меньше ценит опыт и боевые заслуги своего наставника, хотя ты несколько раз едва не погиб за него, разве не так? – Гость замолчал.
Молчал и воевода, стараясь уложить в голове всё, что вдруг услышал.
«Этот пройдоха действительно ведает всё, и он такой же купец, как я огнищанин, – думал вмиг поникший воевода. – А вдруг это проверка хитрого Ворона? Хотя вряд ли, жить среди русов со своими мыслями в сердце легко – если ты ничем не выделяешься среди прочих и открыто не выражаешь несогласия, все думают, что ты такой же. Если бы начальнику Тайной стражи было всё это ведомо, он бы давно сказал, а вот Тайная византийская служба…»
– Чего же ты хочешь или, вернее, те, кто тебя послал? – опустив могучие плечи, обронил Свенельд.
– Ничего такого, что могло бы повредить тебе. А сейчас прощай, когда будет нужно, я найду тебя, мы верим в твою мудрость и прозорливость. Клинок оставь себе, как залог нашей дружбы и взаимопомощи, – улыбнулся купец и снова, угодливо улыбаясь и кланяясь, покинул двор воеводы.
Конница под началом Свенельда готовилась к возвращению в Переяславец. Поредевшие полки собирались перед градом. Воины в последний раз проходили по Доростольскому Торжищу, приобретая необходимые припасы.
В суете сборов озабоченный Свенельд краем ока заметил мелькнувший раз и другой знакомый лик ромейского купца. Неприятный холодок коснулся шеи и растёкся промеж лопаток. Они опять встретились как бы невзначай, купец стал угодливо предлагать «достопочтенному архистратигосу» свой товар, и они отошли в сторону. О чём говорили купец и воевода, не расслышали даже стоявшие поодаль охоронцы, потому как Свенельд сделал им знак оставаться на месте. Вернувшись с хмурым челом, воевода подозвал старшего охоронца и о чём-то тихо и коротко распорядился, указав очами на уходившего прочь купца. Меж тем угодливая улыбка исчезла с чела ромейского гостя, стать его выпрямилась, движения стали быстрыми и точными, как у хищника, а рука незаметно скрылась за отворотом дорогой одежды. Из толчеи человеческого водоворота за ним последовали три крепких мужа, видимо тайные охоронцы. На небольшом отдалении друг от друга они прошли сквозь людскую толпу, ловко уклоняясь от гружёных возов и могучих воинов, несущих на плечах тюки с паволоками и разной другой поклажей. Внизу у самой дороги купца дожидались два воза, крытые сверху парусиной, на манер скифских кибиток. Находившиеся подле помощники уже всё собрали и только ждали возвращения хозяина. Рядом гарцевали двое верховых. Едва купец с тремя охранниками скрылись под парусиной, как возы тронулись прочь от града. Через некоторое время два всадника на тонконогих арабских конях вихрем умчались от возов к стоявшему в полугоне от Доростола лагерю византийской армии, а возы двинулись в другую сторону, к холмистым лесным угодьям.
Десяток конных охоронцев Свенельда настиг возы на дороге, когда она из живописной долины собиралась нырнуть в сбегающий по склону лес. Заметив погоню, купец приказал вознице прибавить ходу, а сам вдруг юрким ужом скользнул в кусты. Вслед за ним один из его спутников с криком: «Я должен быть с тобой, я отвечаю за твою жизнь перед…» – бросился за купцом.
Внизу по дороге громыхали полупустые возы, их настигали конники россов, а Каридис и его неотлучный охоронец карабкались всё выше по склону. Они торопились, тяжело дыша и часто оглядываясь. Каридис понимал, что россы уже настигли возы и обнаружили его отсутствие под парусиновым пологом. Эти крепкие выносливые воины, наверное, уже близко. Беглецы затаились, чтобы отдышаться. В самом деле – сзади послышались голоса преследователей. Между тем вверху уже виднелась небольшая сторожка прилепившегося к скале заброшенного монастыря. Оба беглеца, ринувшись по узкой каменистой тропе, стремглав вскочили в крохотное, но прочное деревянное строение с узкими окнами-бойницами. Четверо россов, тяжело дыша, окружили почерневшую от времени постройку из толстых дубовых брёвен. Могучий десятник подошёл к маленькой двери и с силой навалился на неё. А в следующий миг отскочил, зажимая сочащуюся кровью рану на правой руке.
– Он достал меня ножом в щель между досками, – рассерженно ругнулся могучий десятник.
От злости он несколько раз изо всей силы ударил ногой, но старая дубовая дверь не поддалась. В это время подоспели ещё четверо воинов, что пошли наперерез беглецам.
– Он здесь? – спросил один из подошедших.
– Да, но крепко заперся, нужно найти бревно и выбить дверь.
– Постойте, – неожиданно прозвучал за спинами воинов голос на хорошем словенском.
Русы обернулись, мгновенно обнажив клинки. На тропе стояли трое помощников византийского купца. Тот, что говорил словенской речью, успокаивающе протянул перед собой раскрытые длани и дружелюбно молвил:
– Наши владыки заключили мир, и нам не стоит идти против их воли. Скажи, воин, наш купец тебе нужен живым?
Десятник внимательным взором окинул крепкие стати византийцев, но ничего угрожающего в их поведении не заметил, да и восемь опытных воинов против троих помощников купца…
– А тебе какое дело? – насторожённо спросил десятник.
– Дело в том, что у нас к этому купцу, – византиец кивнул на дверь сторожки, – тоже имеются свои счёты. Думаю, наши цели здесь совпадают. Поэтому позволь, мы окажем помощь… – Византиец, оглянувшись, что-то приказал одному из соратников.
Тот быстро стал спускаться вниз, а через некоторое время вернулся, бережно неся в руках две узкогорлые небольшие амфоры.
– Ты что, собрался выманить его вином? – удивился десятник, прикладывая к ране на руке лист подорожника.
– Отойдите подальше, – приказал снова на словенском византиец, потому что его подчинённые сделали это сами, без команды. А молодой, что принёс амфоры, принялся высекать огонь из кресала на походный трут.
Десятник переглянулся со своими воинами, и они, чуть помедлив, тоже отошли от сторожки, став подле вражеских изведывателей, держа наготове оружие и с любопытством наблюдая, чего же затеяли византийцы. Вот старший махнул рукой, молодой зажёг просмолённую вервь, что свешивалась из запечатанного горла, и тут же с силой бросил странный горшок в дверь сторожки. Он вдребезги разлетелся, ударившись о почерневшие брёвна чуть выше двери. Густое маслянистое содержимое сосуда, оказавшись на свободе, расплескалось тягучими брызгами, и тут же жарко вспыхнуло от горящей верви, быстро растекаясь вниз огненными струями. Вторая амфора, по указанию старшего, полетела в узкое окно, при этом она повернулась в полёте так, что верх и низ разбились, ударившись о край узкой щели, а огненное содержимое, частью разбрызгавшись, влетело внутрь. Оттуда послышался душераздирающий человеческий вопль. Сухое старое дерево быстро разгоралось. Вскоре вся сторожка полыхала огромным кострищем, и воины, прикрывая очи, отступили ещё дальше, столь нестерпимым стал жар от дубовых кряжей.
– Каюк ромеям, – промолвил один из россов. – Жар такой, что до завтра подойти нельзя будет…
– Ну не будем же мы ждать до завтра, да и зачем, на обгоревшие кости поглядеть? – возразил второй.
– Верно, братья, повеление воеводы мы исполнили, пора возвращаться, наши-то, может, уже из Доростола вышли, ещё нагонять придётся, а с византийцами у нас точно мир, так что пошли! – И русы спустились вниз к своим лошадям, оставленным под присмотром двух молодых содругов.
Византийцы, постояв ещё немного у горящей сторожки полуразрушенного монастыря, перекрестились, то ли благодаря Бога за помощь, то ли поминая сгоревших заживо собратьев, и устало двинулись к оставленным внизу возам. Дело было сделано, и об этом следовало немедля доложить начальству.
После снятия осады с Доростола дружина Святослава – часть сушей, а большая часть на лодьях – двинулась вниз по реке.
В подтверждение заключённого договора, большая часть византийского флота также снялась с якоря и пошла к устью Дуная. При входе в Понт почти все корабли повернули к полудню, направляясь в греческие порты. Только две небольшие вёрткие галеи, отделившись от прочих, повернули к полуночи, держа путь к скифскому Борисфену. На одной из галей в окружении телохранителей и толмача, владеющего языком панчинакитов, плыл епископ Феофил.
Меж тем русские лодии стали в заливе невдалеке от Переяславца. Оставшиеся в живых воины Святослава – израненные, исхудавшие и обессиленные – были довольны тем, что смогли переломить противостояние и заставить гордых ромеев вместе с их гонористым маленьким императором и впредь платить дань Руси, как она платила Олегу и Игорю, а также снабдить провиантом на дорогу и многочисленными дарами на каждого воина с учётом всех погибших. Большинство дружинников считали, что покидают Русский остров не навсегда – они знали своего князя и были уверены, что пройдёт лето или два и, восстановив силы и обучив новых воинов, русы придут и вернут землю предков, щедро политую теперь и их кровью. А пока они отдыхали, отсыпались, приводили себя в порядок, готовясь к возвращению домой, шли чего-нибудь прикупить на Торжище. Торговля быстро расцвела, и те же греческие купцы заполонили переяславские лавки всяческими товарами. Они знали, что русские воины получили богатую добычу, и потому каждый из них мог быть добрым покупателем.
Только Лемеши, оказавшись в Переяславце, сразу заторопились домой.
– Как думаешь, успели наши к Перунову дню урожай собрать? Работа ведь вся в поле и огороде только на отце да на женщинах наших, могли одни не управиться, – озабоченно молвил Младобор сыну. – Да и о том, что мы живы и почти здоровы, им неведомо. Ох, достанется мне за тебя! – Шуйское око Лемеша начало подёргиваться, а багровый шрам на челе несколько потемнел, видно, у него снова «вступило в голову», как он говорил, когда начинала нестерпимо болеть голова после ранения камнем из греческой пращи.
– А с князем не думаешь проститься? – вдруг спросил Ярослав, хитро прищурившись.
– А кто я такой, чтоб лично с князем прощаться? – несколько растерянно отвечал Младобор.
– Не держи меня за маленького, – хмыкнул сын. – Про то, кто ты есть князю Святославу, я давно ведаю.
– Ах ты… вот задам тебе сейчас, болтун малый! – Младобор хотел схватить сына за здоровую шуйскую руку, потому что десная у отрока висела на перевязи после ранения в ночной вылазке, но Ярослав ловко увернулся от отцовской крепкой руки и тут же сам растерянно замер на месте.
– Гляди, это же дед! – только и смог вымолвить отрок.
В самом деле, к ним шли двое: старый Звенислав Лемеш и… князь Святослав.
– Ну, отец, вот они, твои воины, настоящие изведыватели, слова из них не вытянешь. Что ж ты, Младобор, не признался, что ты мне брат молочный, ведь в любой миг могли загинуть и ты, и я, и не узнал бы я про то вовек! – чуть дрогнувшим голосом молвил князь, обнимая молодого Лемеша, который вовсе растерялся, и теперь уже не только шрам на челе, а весь он до корней волос покраснел, словно девица. Ярослав зарделся на хуже дядьки, но не от смущения, а от гордости и, подходя к деду, намеренно чуть выставил вперёд раненую руку. Дед осторожно обнял внука, и слёзы радости потекли из счастливых очей старого огнищанина.
Будто кто толкнул Живену выйти из дома, а сердце всё сжималось от страха – с какой вестью приедет Звенислав, живы ли Младобор, Ярослав, Святослав? Когда, вглядываясь, она узрела небольшой отряд всадников, то сердце и вовсе замерло: свои ли едут, с какими вестями? И почему их так много?
– Беляна! – крикнула она и бросилась хлопотать у печи во дворе.
Четыре всадника въехали во двор на добрых конях. С десяток остались за воротами.
– Вот, мать, принимай, все твои дети здесь и внук! – гордо изрёк Звенислав, едва сдерживая дрожь в голосе.
Беляна, плача от счастья, обняла сразу двоих, мужа и сына. За ней к руке дядьки и отчима прижалась Цветена. Младобор подхватил малых Вышеславку с Овсениславкой и зарылся в их светлые пушистые волосы. А Живена замерла, глядя на стоящего возле коня Святослава. Исхудавший, жилистый, с гладко выбритым загорелым черепом, усами и оселедцем с ранней проседью, он был похож на молодой дуб, опалённый молнией. А в голубых очах хоронилось столько боли, мужества и глубокой печали, что огнищанка устремилась к нему и обняла, прислонившись к крепкой груди.
– Здравствуй, мать! – тихо вымолвил Святослав и бережно провёл загрубевшей рукой по её волосам. – Что ж ты тогда у могилы Овсены не призналась… Я ведь давно теряю самых близких и родных людей, только теряю… А нынче вдруг такой праздник – и мать, и брата обрёл! – Мать ничего не могла ответить, оттого что слёзы радости не давали ей говорить. Столько лет, долгих лет она ждала этой встречи, и вот война, проклятая война, что забрала двух её сыновей, искалечила мужа и младшего сына, эта самая война дала ей миг счастья обнять ещё одного сына, которого она вскормила своей грудью, а значит, он тоже её плоть и кровь…
Наконец с трудом сквозь наворачивающиеся слёзы Живена промолвила:
– Так ведь слово мы со Звениславом дали княгине Ольге молчание хранить, а уж как она отошла в Навь, так и случая как-то не было…
Это был самый счастливый день за все последние годы в жизни семьи Лемешей, да, пожалуй, и Святослава, которому Болгарская земля вместе с тяжкими потерями и испытаниями подарила встречу с Предславой и с молочной матерью.
– Что, отец, – обратился он к Звениславу, когда все вместе обедали за старым столом под молодой грушей, – вы же флот мой спасли от сожжения, упредив про огненосные дромоны, может, я подарю тебе лодью, какую только выберешь?
– Нет, сыне, лодья нам, огнищанам, ни к чему, не искусны мы в морских делах, – покачал головой старый воин.
– Ладно, ведаю, что больше всего ты коней любишь и понимаешь, значит, будут тебе самые лепшие кони!
– Кони – это добре, а то наших почти всех воины забрали, ни возить, ни пахать не на чем, – радостно крякнул Звенислав.
Долго вся семья Лемешей стояла у дороги, провожая взорами князя и его верных охоронцев. Они знали, что Святослав уходит в Киев, и придётся ли когда-либо свидеться, одному Даждьбогу ведомо.
– Глядите же, никому не реките о нашем родстве с князем, чтоб худа ни ему, ни нам не было. Сие есть наша родовая тайна, берегите её пуще живота своего! – строго рёк Звенислав.
А Живена опять смахнула горькую материнскую слезу.
Глава 9 Последний путь
В Белобережье, у Днепровского гырла, лодейный караван разделился. Морские насады и другие большие корабли под началом дядьки Орла уходили к Киммерийскому Боспору.
С ними уезжал Варяжко, которому Ворон поручил вести изведывательские дела в Сурожских и Придонских землях. Отправлялся с ними и отчаянный боярин Стрешня с частью своей полутьмы, чтобы продолжать блюсти ряд русский в землях Кавказийских, как было прежде. Другая часть влилась в поредевшую киевскую конницу под началом воеводы Свена.
В чревах кораблей мореходы везли ту часть греческой дани, что предназначалась семьям погибших воинов из Корчева, Тьмуторокани, Дон-града и прочих полуденных градов.
А Переяславский Могун пожелал остаться в Болгарии.
– Война кончилась только для мечей и копий, княже, – неторопливо молвил кудесник при расставании. – А для слова и дела волховского она продолжается. Отныне ещё яростнее начнут свою незримую битву епископы византийские, и не только супротив Болгарии, а и против Руси, потому тут моё место. Да и как покинуть русов, болгар, сербов, хорват и иной люд, что своей пращурской веры держится? – Волхв грустно улыбнулся. – Ты ведь жрицу бога Загрея с собой увозишь, знать, кто-то о капище его заботиться должен. Да и о прочих святынях земли сей древней, из коей наши многие роды вышли.
– Так ведь убить тебя могут византийцы, отче! – нахмурился Святослав.
– Могут. И меня, и тебя, и любого воина каждый миг Мара готова принять в свои объятия, что с того? Земной путь, он ведь для того и дан человеку богами светлыми, дабы он стезю в небо здесь начинал прокладывать.
Произведя необходимую починку, Киевская дружина двинулась вверх по Непре-реке.
Тихо было в лодиях. Никто не пел весёлых песен, не пускался в удалой пляс. Каждый думал о своём. Князь тоже пребывал в размышлениях, поглядывая на бегущую к берегу волну.
Вот он, долгий и печальный путь домой. А домой ли? Где твой дом, Святослав? В том Киеве, где ты рос, собирал дружину, откуда уходил в воинские походы и куда возвращался; где могилы твоей матери и любимой Овсенушки с Мечиславом, которые есть твоя несбывшаяся надежда? Или в том Киеве, где зреют заговоры христиан, где чужая, тихим змеем вползшая вера уже поделила Русь на своих и чужих? Или в вольном Новгороде – вотчине твоего отца и деда, где ты сам с пелёнок до трёх лет, под надзором Асмуда, учился быть князем и воином. Или в Корчеве, куда, наверное, уже подходят на отдых и починку большие морские лодьи Орла с частью византийской добычи. А может, твой дом в благодатной Альказрии, в приморской Тьмуторокани, в солнечном Суроже? Или всё-таки на Дунае, где под Доростолом, Переяславцем и Великой Преславой лежат верные друзья – русы и болгары? Там, где ты снова воссоединил своё тело и душу с женщиной по имени Предслава, жрицей древнего фракийского бога Загрея, которая ныне носит под сердцем твоё дитя, более чем дитя – твою надежду, по всему, последнюю надежду в этой жизни?! При этом князь бросил взгляд на задумчивый лик жены, которая неотрывно глядела в днепровскую воду, будто хотела узреть нечто ведомое только ей одной.
А может, твой дом в Искоростене, где погребён казнённый в древлянской смуте отец? Нет, тот Искоростень сожжён дотла матерью, его больше нет. Как и хазарских Саркела с Итилем, и многих других градов и весей, чья память ушла в землю вместе с их прахом.
Волхвы говорят, что с каждым погибшим собратом всё меньше человека остается в Явском мире и всё больше становится там, в Нави. Так, может, твой дом уже стелется синей тропой в вечность Сварги? Да нет, ещё слишком рано, всего-то три десятка лет прожил на сей земле, ещё столько сделать надобно: построить, укрепить, защитить…
Не зря одолевали князя подобные мысли, ведь подходили они к самому опасному месту – порогу с ёмким прозвищем Ненасытец. Много жизней человеческих взял сей ревущий неведомым зверем норовистый порог вольной Непры – вон сколько курганов рассыпано вдоль него. И не столько жизней забрали воды да огромные каменья его, как злые кочевники, что исстари промышляют на пути в шесть тысяч шагов, кои приходится идти шуйским берегом каждому, кто спускается или поднимается по реке.
Князь понимал, что идти с богатой данью через пороги опасно. Но оставить в потайном месте добычу и двинуться налегке степью в Киев он не мог. Не его это золото, паволоки и прочие ценности, а тех, кто лежат теперь в земле Болгарской. Их родичи, жёны, дети и внуки должны по Прави получить своё, а он, как князь, долг свой священный перед павшими обязан выполнить. Не было на Руси никогда сирот и бездомных, и впредь быть не должно!
Ничего, хоть и устали воины, да домой ворочаемся. Ежели бой завяжется, конница Свенельдова подоспеет, ударит кочевникам в спину, прорвёмся! Так решено было накануне проходить Ненасытец. Про то, что Цимисхес постарается перенять его руками кочевников, Святослав даже не сомневался, слишком хорошо он знал нутро этого византийца. Небось печенеги сразу упреждены были и про богатую поклажу, и про количество воев. Вместе с тем им ведомо, что Свенельд с конницей пошёл в Киев степью. Ворон устроил так, чтоб византийским соглядатаям доподлинно стало известно, что накануне повздорили князь со Свеном и порешили идти в Киев каждый своим путём. Только не знают они, что конница, сделав изрядный крюк по степи, опять вернется к порогам.
Первыми на берег вывели застоявшихся коней, которых взяли на лодьи для князя, темников да охоронцев, чтобы в случае предстоящей схватки могли они руководить битвой и быстро передвигаться. На своём белоснежном коне Святослав отъехал на скалистый выступ и огляделся. Речной ветер рванул полы плаща, а князь стал зоркими очами прощупывать берег. Слух тут не помощник – рёв грозного порога заглушает все звуки вокруг. Только зрение, зрение очами и зрение сердцем. Вот это, второе, и не даёт покоя Святославу: вроде бы всё как надо, но на сердце тяжко, словно что-то не так пошло. Но что и где? Князь снова окинул взором правый высокий берег, потом левый, покрытый бесконечными курганами. Пора давать команду вытаскивать лодьи и груз, но он почему-то медлит. Может, из-за того, что нет до сих пор Ворона, который ушёл со Свенельдом и, по уговору, должен верхом прибыть сюда и сообщить о подходе конницы. А может, какое-то изменение в поведении старого Свена перед расставанием насторожило князя. Показалось Святославу, будто незримая преграда появилась меж ним и старым воеводой. И ранее так бывало, но вот сейчас… Ладно, пора на берег!
Не обнаружив ничего подозрительного, князь, махнув начальникам, направил коня к воде. Предслава стояла тут же, в десятке шагов от ткнувшейся носом в пространство между камнями лодьи, их очи встретились… Как много могут молвить очи жрицы, сколько внутренней силы и ласки может вместить человечий взгляд!!
Князь чуял, но знал не всё. Он не знал ещё, что конница Свенельда уходит сейчас прочь от порогов, а верный его изведыватель лежит, умирая, совсем недалече от Ненасытца, и слабый человеческий возглас заглушается рёвом могучей воды.
Когда Ворон понял, что Свен задумал предательство и собирается поступить со Святославом, как когда-то с князем Игорем, он решил ускользнуть из-под зорких очей личных охоронцев воеводы. Это ему почти удалось, но предательская стрела оказалась быстрее, и Ворон теперь умирал, уходя в Ирий под шум живой и мёртвой Непровской воды. А когда с воинственными криками понеслись на русов разжигаемые близостью богатой поживы кочевники, и кияне стали в Коло, обнажив верные клинки, прямо перед князем рухнула с неба в пожухлую траву невесть откуда взявшаяся мёртвая чёрная птица. И вместе с ней чёрной молнией полыхнула в мозгу Святослава мысль-видение. И понял в сей миг князь, что никуда не подевалось его волховское чутьё, которое лишь усыпил на время Великий Могун, а теперь оно освободилось. И вместил в себя этот бесконечный миг волховского озарения и уходящую прочь Киевскую конницу, и идущих с полуденных берегов Варяжского моря славян-бодричей, чаще именуемых на Руси варягами. Узрел и трех братьев: Рюрика Миролюбивого, Сивара Победоносного и Трувора Верного, что по древнему обычаю были призваны Гостомыслом княжить в градах словенских – Новгороде, Плескове и Белоозере. И свейский отряд, идущий вместе с рарожичами. Из потомков тех свеев и происходит Свенельд, который – теперь Святослав знал это точно – хитростью своей устроил гибель отца, а сейчас, вступив в сговор с врагами, уводил конницу прочь от порогов. И стремился он в подвластные ему приднестровские земли уличей, чтобы, устранив всех свидетелей и сговорившись с оставшимися воинами, появиться в Киеве лишь следующей весной и поведать сказку о зимовке Святослава в Белобережье. Но ничего уже не мог исправить князь. Многое из прошлого и будущего Руси вместил миг волховского прозрения, потому как в божественном Ирии, куда заглянула в сей миг душа, всё было едино и неотделимо от другого, – прошлое и грядущее, смерть и рождение, жизнь и вечное небытие…
В самой отчаянной за всю свою жизнь схватке неистово бился Русский Пардус, самые яркие Перуновы искры высекали булатные клинки, и тесно, спиной к спине, как при защите Доростола, сражались подле его верные побратимы.
– Уходи, княже, с охоронцами, – кричал верный полутемник Збимир, – а мы тут кочевников задержим!
– Нет, братья, вместе побеждали, вместе и смерть принять должны! – отвечал Святослав, продолжая крушить врагов своим молниеносным мечом.
В какой-то миг внутренние ощущения стали как бы отделяться от тела, и уже больше со стороны Святослав видел или просто ощущал, как гибнут под натиском бесчисленных врагов его соратники. Как вспыхивают огненно-алой кровью их кольчуги, когда вражеский меч рассекает стальное кружево гибкого доспеха. Их оставалось всё меньше, а спастись самому не было ни возможности, ни желания. Он просто сражался последний раз в земной жизни, отчаянно и честно, как жил всегда, как учили его Асмуд и Велесдар, Великий Могун и кудесники, как все те друзья и соратники, с кем близко свела земная жизнь. И он желал всеми своими обострёнными до солнечного блеска чувствами только одного – умереть, как подобает воину, не оказаться в позорном полоне. Это был его последний бой-молитва, в которой он истово просил помощи у тех, кто уже ушёл, и у тех, кто ещё был жив, чтобы подсобили умереть достойно, более не было у него желаний в сии последние мгновения жизни. Он уже в кольце врагов, в обагрённой своей и чужой кровью кольчуге.
Сбоку взвился умело пущенный ловким кочевником волосяной аркан, но будто чья-то невидимая рука, возникнув из самой Нави, увела петлю в сторону. Могучий печенег старался направить своего коня так, чтобы оказаться сзади и ошеломить князя урусов ударом по голове, однако его оставшиеся в живых воины стояли спина к спине и не давали свершить задуманное. Но вот двое из тех, кто прикрывал тылы князя, пали, и тогда печенег взмахнул своим большим русским мечом… Через мгновение воин, гарцуя на разгорячённом коне, растерянно глядел на свой меч и не знал, как оправдаться перед разгневанным ханом, который кричал и махал своим клинком над его несчастной головой.
– Что ты сделал, сын хромой лошади и степного шакала, – никак не мог успокоиться Курыхан, – он уже был в наших руках!!
– Хан, я не понимаю, как это получилось, – взмолился воин, опуская могучие плечи, – я хотел только ударить его по голове, чтобы оглушить, но кто-то будто схватил мою руку у запястья и, развернув лезвие клинка, направил его в шею… Я в самом деле не виноват, мой хан!
Владыка хотел привычно снести голову провинившегося, но в последний миг остановился. Его удержало мелькнувшее вдруг воспоминание о битве русских волхвов и его шаманов в Приднепровской степи.
– Если это духи, то им нельзя противиться, – быстро успокаиваясь, проговорил хан. – Урус был храбрым воином, потому духи даровали ему достойную смерть, такова их воля.
Курыхан воздел на свой чуть изогнутый хазарский меч отрубленную голову врага и с победным воплем в радостном галопе помчался по степным холмам вдоль берега ревущего потока. За ним, вторя вожаку пронзительными криками, вытянулись воины личной охраны.
Вражеский клинок умело и быстро отделил голову от уставшего тела, и оно, соскользнув с конской спины, опустилось на сырую холодную землю, обагрив её горячей кровью…
Через какое-то время, очнувшись от промелькнувшего видения, Святослав нащупал меч и был снова готов ринуться в схватку, но вокруг не было никого.
«Наверное, бой отодвинулся, пока я был без сознания», – решил князь. Он поспешил туда, где, как ему показалось, слышался шум затухающего сражения. Бежал он невероятно легко, земля, словно нечто мягкое и живое, пружинила под ногами. Он выскочил на полянку меж высоких кустов орешника, но и тут не оказалось ни самого боя, ни его следов. Быстро оглядевшись, Святослав отметил, что всё пространство вокруг наполнено ярко-синим, но не режущим очей приятным светом. Казалось, сама земля тоже была синей и упругой. Но Святослав не особенно обращал на это внимание, потому что где-то рядом погибали в неравном бою верные побратимы. Он побежал в другую сторону, на ходу зацепился за корневище и упал, но… падения не почувствовал! Синяя земля приняла его настолько мягко, что вместо удара князь ощутил приятное, как материнские руки, прикосновение. Озадаченный Святослав замер на миг, а потом уже нарочно бросился на излучающую синий свет землю. Бросился со всего маху, но опять нечто упругое и мягкое, даже нежное, бережно приняло его. Легко поднявшись, он бросил меч в ножны и не услышал привычного звука, что всегда сопровождал это движение. Тут Святославу вспомнилось видение, как вражеский клинок отсекает ему голову. Потрогал руками, повертел шеей: голова была на месте, да и во всём теле ничего не чувствовалось – ни шрамов, ни боли.
Опять послышался шум битвы, доносящийся откуда-то снизу. Князь недоумённо взглянул под ноги и вдруг увидел под собой землю, могучую Непру-реку, кипящую порогами, и скачущих всадников. Горстка оставшихся в живых русов мчалась в степь, преследуемая печенегами, а у Ненасытецкого порога лежала груда неподвижных тел. Чуть поодаль ещё с десяток, среди которых Святослав больше внутренним чутьём угадал свой обезглавленный труп, а печенежский князь Куря, насадив его голову на свою кривую саблю, с диким торжествующим кликом мчался по приднепровской степи.
«Выходит, я в Ирии?» – мелькнула догадка. И вместе с ней пришло глубинное знание, неразрывно слитое с пониманием и ощущением: он здесь навсегда!
Князь видел всё, но уже ничем не мог помочь соратникам и повлиять на ход времени, протекающий без него.
Святослав видел сверху, как возле княжеской лодьи погибала последняя горстка русов, прикрывающих Предславу. Она успела отразить нападение одного из двух бросившихся к ней кочевников. Но второй коренастый печенег ловким ударом выбил тонкий хазарский меч из руки его жены, и лик победителя расплылся хищной радостью обретения красивой рабыни. Но в тот же миг чело печенега исказилось досадой, потому что короткий тонкий кинжал, молниеносно извлечённый вольной жрицей, она вонзила себе прямо в сердце.
Предслава замертво упадала на белый песок. Только их неродившийся сын всё ещё жил в чреве матери, дёргая ручками и ножками от неотвратимо сгущающегося удушья.
Князя вдруг пронзило острое чувство, нет, не страха, а тоски, безмерной тоски вечности! Там, в земной жизни, осталось то, чего нельзя было оценить в полной мере. Там остались обиды, печали и радости, боль и страдания, счастье и горе. Всё осталось там! Святослав рванул меч, который вышел из ножен легко, без усилий, и с маху рубанул по руке. Синий клинок прошёл сквозь синюю плоть свободно, как через струю тугого морского ветра. Не было ни малейшего повреждения руки, не ощущалось никакой боли. То же повторилось при попытке пронзить себе другие части тела.
Святослав рванулся вперёд, напрягая все силы. Он бежал, падал, снова вскакивал, не чувствуя ни ушибов, ни напряжения сил, ни отдышки от быстрого бега … Вечность, непробиваемая и непреодолимая! Здесь нет сегодня или вчера, здесь нет завтра, здесь есть всегда!
Волхвы говорили, что в Ирии люди живут, радуясь, без болезней и страданий, вместе с Богами и Пращурами. Но он пока никого не видел. И им овладела щемящая безудержная тоска. Хотя так, наверное, не должно быть. Может, слишком свежа ещё связь с землёй, по живому ведь отрубили! Оставалось только ждать, когда о нём вспомнят там, в скоротечной Яви. Когда знакомые или вовсе не знакомые люди пригласят его за свой поминальный стол или призовут в час смертельной схватки. Неведомо откуда Святослав знал, что только с помощью этой незримой нити обращения он сможет оказаться рядом, и радость либо горе людское ненадолго коснётся его бестелесной души. Этого краткого мига ждёт каждая душа в Ирии, и только этим общением может быть счастлива. Страшнее всего, когда о тебе не вспоминают на земле или в иных мирах, тогда Вечность невыносима!
– Услышат ли наши праправнуки невесомые голоса своих предков, позовут ли нас, ведь без этого мы не сможем прийти им на помощь? – спросил освобождённый от тела дух Святослава, обращаясь к воспаряющему подле духу своей последней жены-жрицы, но ответа не расслышал, потому что вокруг всё замелькало и слилось в едином непрерывном движении в какую-то неизмеримую даль.
* * *
Синкел Феофил сидел посреди печенежского стана у цветного войлочного шатра в глубокой задумчивости. Из Приднепровской степи, с дикого поля, дул уже ставший прохладным к ночи ветер. Тревожное ожидание порядком утомило епископа, но всё прочее уже было сделано – с пачинакитами удалось заключить мирный договор с условием, что они не станут переходить Дунай и нападать на Мисию. Частью этого успеха, как всегда, стало привезённое им золото, но не только оно. Всего несколько слов о том, что катархонт россов возвращается домой с малым числом воинов и богатой добычей, зажгли очи главаря пачинакитов блеском охотничьего азарта. Теперь оставалось уповать лишь на терпение. «Что же они так долго, пора уже появиться, наверное, варвары-пачинакиты не могут прийти в себя от свалившегося на них богатства», – едва заметно ухмыльнулся в аккуратно подстриженную бороду синкел.
Уже глубокой ночью чуткие псы, что разлеглись там и сям у шатров, вскинули морды и стали прислушиваться. А ещё через некоторое время всё наполнилось шумом, гомоном, восторженными восклицаниями, радостным смехом и отчаянными воплями тех женщин, кому мужа или сына привезли поперёк седла.
Епископ, глядя на довольных воинов, снимавших с навьюченых верблюдов и лошадей тяжёлую поклажу, поднялся в радостном волнении: неужто наконец свершилось великое и столь важное для Империи дело?!
– Что, досточтимый Феофил, – не скрывая воинского бахвальства победителя, весело крикнул, подъезжая, Курыхан, – всё как договаривались! Мне его голова и добыча, а тебе вот это. – Он сделал знак рукой, и молчаливый высокий воин подал греческому посланнику щедро изукрашенный золотом и камнями небольшой ларец.
Синкел, не доверяя охоронцу, сам открыл крышку подрагивающими руками, и в глазах его промелькнула радостная искра.
Благодарственно кивнув архонту пачинакитов и едва дождавшись, когда он отъедет, епископ извлек кинжал, срезал золотой шнур с печатью и спрятал его за пазухой. Затем, подойдя к костру и оглянувшись, бросил в самую середину изукрашенный узорами императорский хрисовул.
Глава 10 Палёный
Несколько широкобоких купеческих судов, доверху гружённых товаром, тяжело обходили мели, двигаясь вверх по течению Дона.
Коренастый человек в лохмотьях, с седеющими космами густых некогда смоляно-чёрных волос, со следами сильных ожогов на челе, в задумчивости глядел на речную волну. Он был сейчас в своих мыслях очень далеко.
«Теперь и я не белка в колесе, могу сколько угодно смотреть на волны и думать о чём хочу, такие вот дела, Никандрос…» – невесело обратился к незримому собеседнику бывший старший стратигос Каридис, один из лучших трапезитов империи. Последний разговор со старым наставником вспомнился во всех мелочах…
После лечения раны, полученной в войне со скифами, прежде чем вернуться в Дристер, Каридис решил заехать к отставному другу. Закончился месячный отдых в Ромейской империи, закрылась рана от стрелы, которую он получил в ту же руку, что и в Хазарии. В Константинополисе старший стратигос доложил своему начальнику Викентию Агриппулусу и патриарху, как обстоят дела под Дристром, и получил секретный отчёт Тайной службы для императора. Лёгкой и быстрой победы над скифами не получилось, что будет дальше и чем закончится эта трудная для империи война, пока было неясно.
И вот по пути Каридис решил заглянуть на знакомую виллу, ему вдруг захотелось поговорить с Никандросом.
Старый трапезит встретил соратника радушно. Тот же большой пёс с умными глазами улёгся напротив, тот же молчаливый смуглоликий слуга поставил на мраморный стол в виноградной беседке щедрые дары сада, огорода и продукты, что даёт благодатное море. И снова, как в прошлый раз, чуткий Каридис подивился подтянутости и некой жизненной силе пожилого наставника.
– Годы не властны над тобой, брат Никандрос, мне кажется, что ты даже менее опираешься при ходьбе на свою резную трость, чем в прошлый мой приезд, – с некоторой долей восхищения молвил трапезит.
– Я теперь не белка в колесе, могу жить неторопливо и думать о чём желаю, а человек жив, пока у него есть вопросы. На поиск ответов на эти вопросы Всевышний и даёт нам силы для жизни, мой дорогой Каридис. – Старый трапезит взглянул из-под седых мохнатых бровей так пристально, что гостю показалось, будто этот мягкий внимательный взгляд видит насквозь и его, и ещё много незримого в прошлом и будущем.
– А я по-прежнему, как ты говоришь, «белка в колесе» и могу позволить себе думать только о деле, – возразил он учителю.
– Это касается не только тебя, а всех невольников, прикованных к вёслам на галере по имени «Империя». Не печалься, участь великого императора или простого воина мало отличается от твоей, – мягко проговорил старый трапезит.
– Хм, – несколько растерянно протянул Каридис, – я не узнаю тебя, Никандрос, когда-то ты учил меня совсем другому.
– Но я ведь тоже был тогда одним из прикованных к веслу. – Старый трапезит помолчал, глядя через резные просветы виноградной листвы на синеющую гладь залива и ещё куда-то значительно дальше. – Когда я стал свободным, я стал думать как свободный человек, а тогда начинаешь видеть всё вокруг совсем по-другому. Это как если выйти из своего дворика и подняться на вершину горы, приблизительно так. Я знаю, что ты охотник и ничего из сказанного мной сейчас не услышишь. Ты идёшь по следу и не можешь видеть ничего, кроме своей цели. Но может, когда-нибудь твой статус изменится, и ты вспомнишь мои слова, как я после того, как лежал здесь, умирая от ран.
– А что, тебе тоже кто-то говорил такие слова? – вскинул удивлённую бровь Каридис, потому что старый трапезит за долгую совместную службу ни о чём подобном даже не заикался.
– Это было давно, и я ничего не рассказывал, иначе у меня могли быть неприятности, – задумчиво начал Никандрос. – Я с небольшим отрядом посетил тогда одно из племён пачинакитов, чтобы заручиться их поддержкой в важном для Империи деле. Всё было уже почти слажено, и золото передано хану. Но здесь среди них началась свара – часть знати воспротивилась этому договору. Нам пришлось уносить ноги. Не буду описывать всех перипетий погони, но уже возле скифского Танаиса нас настигли и перебили всех моих спутников. Я остался лежать с проломанным черепом и стрелой в спине. Тогда я по-настоящему умирал в первый раз. – Старый трапезит весь ушёл в воспоминания. – Когда открыл глаза, то увидел перед собой не старого и не молодого человека, явно не из племени пачинакитов. Он говорил на языке россов. Я не мог понять, зачем ему было подбирать умирающего, у которого внутри уже всё горело и которому оставалось совсем немного пребывать на этом свете. Я тогда подумал, что сей варвар хочет получить за меня хороший выкуп, и посмеялся про себя его наивности, потому что знал – мне уже ничто не поможет… – Никандрос снова помолчал. – Знаешь, наши лекари, конечно, многое умеют, им ведомы тайны медицины Египта, Хорезма и Персиды, но то, что делал этот варвар, я более никогда и нигде не встречал. Он простёр ладони над моим черепом, и я чувствовал, как кости словно притягиваются его руками, вдавленные от удара осколки выравниваются и принимают своё начальное положение. Он бормотал непонятные слова, смазывал мне раны неизвестными мазями, поил какими-то снадобьями. Невероятно, но он выходил меня, а когда я пообещал щедро заплатить за лечение, он улыбнулся мне, как улыбается взрослый человек несмышлёному лепету младенца. В конце я не удержался и спросил, зачем он это сделал. Он снова улыбнулся мне и, стараясь, чтобы я понял, назвал три причины. «Первое, – сказал мой спаситель, – ты был ранен и нуждался в помощи. Второе, по нашим представлениям о мире, равновесие в нём зиждится на непрестанной борьбе Чернобога и Белобога, и потому надо помогать Белобогу преобладать в этой борьбе, иначе победа сил Зла вызовет гибель вселенной. А в-третьих… – Спаситель посмотрел в мои глаза, словно растворяясь в моём сознании. – В-третьих, – повторил он, – ты сам ещё не знаешь, кто ты и для чего пришёл в этот мир. Может быть, пройдёт много лет, прежде чем ты узнаешь об этом». У него были странные глаза, почти белые, только зрачки тёмные. Может, за это все называли его Совой. Он дал мне свой утлый челнок и вяленой рыбы на дорогу, а я подарил ему свой потайной кинжал, это было единственное нужное ему в хозяйстве, что я мог оставить на память.
– Ты говоришь, что никому никогда об этом не рассказывал? – спросил Каридис.
– Я не только не рассказывал, но и сам об этом забыл. И только здесь, куда меня привезли умирать после второго тяжёлого ранения, я вдруг всё вспомнил, да так, что почти наяву увидел этого человека рядом с собой. Он снова стал меня лечить, только если тогда мы с ним говорили на смеси славянской, греческой и хазарской речи, то теперь общались без слов. Мы об очень многом говорили, о таких вещах, о которых я прежде и не задумывался…
– Дорогой Никандрос, не наступила ли у тебя болезнь мозга? – осторожно осведомился Каридис. – Ты говорил с призраком или собственным воображением?
– Не знаю, – усмехнулся трапезит, – он исчез, когда я поправился. Только вопросы, которые мы обсуждали, остались. И ощущение радости и ценности жизни за каждый прожитый день… Ты возвращаешься на войну, значит, Империя ждёт от тебя новых важных и опасных дел, – вдруг сменив тему, озабоченно произнёс Никандрос. – Не забывай старый принцип нашей работы: исполнители особо тайных поручений обычно становятся неудобны живыми тем, кто эти поручения давал. Ну, прощай, и пусть Всевышний хранит тебя на всех путях!
Старый Никандрос был, как всегда, прав, предупреждая о «зачистке» ставших ненужными трапезитов. «Благодари Всевышнего, что после такой „зачистки“ ты вообще остался жив. Правда, без родной страны, без имени и положения. Палёный – пожалуй, отныне это самое верное для тебя имя, – думал бывший старший стратигос Каридис. Охотник, идущий по следу Русского Барса. В одночасье сам ставший загнанной жертвой, причём как для россов, так и для своих братьев-трапезитов, и для слуг епископа Феофила… – Да, все они хотели моей смерти… Впрочем, их желанья сбылись, я умер, точнее, сгорел заживо… – Оборванец тронул шрам на челе и снова явственно пережил свою „мученическую смерть“».
Всё началось с той последней встречи с русским архистратигосом Свенельдом. Он хорошо изучил характер Свена и был уверен, что тот постарается избавиться от человека, который так много знает о нём, и не столько о настоящем, сколько о тайно скрываемом прошлом. Тем более ему не нужен был свидетель, который мог поведать, о чём и как они договорились. Ну, а чтобы догадаться о том, что императоры, как и церковные иерархи, не любят свидетелей своих тайных дел, не надо быть даже опытным трапезитом.
Получив согласие от третьего по достоинству военачальника россов «помочь» своему катархонту Сффентослафу на долгом и опасном пути домой, он сразу ощутил, как близко задышала в затылок смерть. Когда же отправил двух гонцов с донесением синкелу, она уже дохнула обжигающим холодом не только в затылок, а и со всех сторон, потому что каждый из верных помощников-трапезитов с этого часа превратился в его палача. Каридис вспомнил старинный способ борьбы с пожарами на открытых пространствах: чтобы погасить огонь, нужно зажечь другой, и они, идя навстречу, съедят друг друга. Поэтому он даже обрадовался, когда услышал сзади стук копыт погони воинов Свена. Только столкновение жаждущих его смерти ромеев и россов могло дать ему маленькие мгновения передышки, а там…
Когда два его гонца унеслись к лагерю византийского войска, старший стратигос приказал гнать возы в другую сторону. На растерянный вопрос помощника ответил, что там их ждёт засада россов, чтоб перебить всех до единого. Каридис весь обратился в слух, слегка сжимая под одеждой небольшой кинжал, с которым никогда не расставался, даже в термах, и владению которым посвящал каждый день определённое время. Он чувствовал, что его телохранитель делает то же самое и старается улучить миг, чтоб пустить в ход свой клинок.
– Россы настигают нас! – молвил спутник, на миг выглянув из-под парусинового полога. А когда повернулся к Каридису, то увидел его прыгающим в кусты справа от дороги. – Я должен быть всегда с тобой! – крикнул встревоженный «телохранитель» и прыгнул следом.
Главное – не останавливаться, пусть сердце выпрыгивает из глотки, в ушах шумит, как будто идёт небывалый ливень, а ноги подкашиваются и не хотят нести тело по крутому склону вверх. Только горячее желание бежавшего следом помощника пустить скорее в ход свой клинок давало старшему трапезиту силы мчаться впереди. «Ага, вон она, сторожка, значит, выпрыгнул почти правильно, скорее!» Последнее усилие, последние десять шагов, через красные круги перед глазами, через подкатывающую тошноту. Заметив, что «телохранитель» чуть приотстал, он тоже на мгновение остановился, переводя дух, но, услышав внизу чужие голоса, заставил себя бросить тело вперёд. В сторожку ввалился первым, коротко приказав телохранителю закрыть дубовый засов. Это была роковая ошибка его первого палача. Руки молодого трапезита ещё не оторвались от засова, когда короткий кинжал Каридиса привычным движением вошёл ему в шею и сразу же в правый бок.
– Прости, ты сильнее, а я опытнее, ты немного оплошал, брат, – тяжело дыша, прохрипел Каридис, падая на топчан напротив двери, кажется, силы оставили его.
Ещё живой, но уже недвижный телохранитель, глядя на свою недавнюю жертву очами, полными досады, удивления, боли и отчаяния одновременно, оседал у двери, хрипя перерезанным горлом. Снаружи послышалась скифская речь, потом кто-то сильно навалился на дверь. В широкие щели между досками очертилась могучая фигура, дверь затрещала, но не поддалась. Не вставая со своего места, трапезит метнул нож, целясь в щель между дубовыми досками, но утомлённая рука вяло исполнила бросок, и нож, отщепив край доски, только самым концом поранил того, кто был за дверью. В бессильной злобе раненый несколько раз саданул по крепкой преграде ногами. Снова послышались разговоры, на этот раз, кажется, знакомый голос… Каридис, вынув нож из двери и пряча его в ножны, осторожно выглянул из узкого окна-бойницы.
– Ага, вот два пожарища и сошлись, а ну-ка, покрошите теперь друг друга! – злорадно прошептал трапезит.
Но его надежды не оправдались. Палачи не стали драться, напротив, вступили в переговоры, а потом один из византийцев через короткое время принёс две амфоры, помеченные красной охрой. Так это же… Надо действовать быстро, иначе! Пленник, стараясь не шуметь, отодвинул старый топчан и потянул за пыльное кольцо на полу. В это время о дверь разбилась первая амфора, и сквозь щели внутрь потекла горящая густая жидкость. Один из язычков зажёг одежду лежащего трапезита, но тот, видимо, уже умер, потому что даже не застонал. С треском разбилась вторая амфора, и пламя разбрызгалось по стенам и полу сторожки. Каридис успел прикрыть левой рукой лицо, когда в него угодила огненная смесь. Трапезит закричал диким стоном-воплем и рухнул в старый подземный ход, отрытый монахами ещё при постройке обители, ведущий к монастырю. Катаясь по сырой земле, он старался погасить пламя, сдирая его с себя вместе с кожей.
Как потом скрывался ото всех, терпел голод, лишения, пробираясь малохожеными тропами, об этом не хотелось вспоминать. Зато когда он появился на пристани в болгарском морском граде, никто уже не смог бы признать в исхудавшем, обросшем оборванце с обожжённым ликом и лихорадочно блестящими от голода очами прежнего старшего стратигоса. Он решил наняться на какой-нибудь корабль, уходящий подальше и от Болгарии, и от Византии, и от прежней жизни. А когда услышал от купца-жидовина слово «Меотида», понял – это именно то, что нужно.
– Так что, Палёный, не раздумал ещё, может, останешься? – пробился сквозь пелену воспоминаний голос хозяина. – Со временем в охранники тебя переведу, плату хорошую положу, понравился ты мне, так как? – обратился лысоватый купец к стоящему у борта с багром в руках работнику. Никто не знал, как его зовут, кто он и откуда, да о том никто и не спрашивал. Широкий шрам от ожога протянулся от левого виска оборванца, лишив его волос, до нижней челюсти, будто сам бог Огня мазнул по лику своим пылающим перстом. Такой же узловатый шрам тянулся от тыльной части кисти до самого локтя на шуйце.
– Нет, Самуил, не останусь, – с лёгким налётом чужого языка отвечал работник.
Прозвище Палёный дали ему гребцы и охоронцы, когда он пришёл наниматься в дунайском Нов-граде, – оборванный, худой, со впалыми карими очами. Купец-жидовин сперва не хотел его брать, но работник был нужен, а этот даже не стал спорить, когда Самуил предложил ему работать только за еду. С отплытием надо было спешить. Купец забил свои лодьи оружием и прочей воинской добычей, которую задёшево приносили ему местные жители с полей битв, да и воины продавали лишнее. В далёкой Меотиде оружие можно выгодно продать либо обменять на рабов. Тем более что русы в изнуряющих битвах с византийцами наверняка ослабили надзор за купеческими судами и можно будет легко избежать уплаты десятины с товара. Надо спешить! Тут и подвернулся Самуилу почти дармовой работник. Вначале осторожный купец опасался оборванца, как бы не стянул чего ценного и не сбежал в одном из портовых городов на долгом пути из Болгарии через Русское море к берегам за Киммерийским Боспором. Но после недавнего случая стал больше доверять Палёному.
Когда уже прошли Меотийское море, по давней привычке стали на ночлег в устье Танаис-реки у развалин одноимённого греческого полиса, некогда кипевшего буйным торгом, от которого нынче остались только каменные, большей частью разрушенные постройки. Все уже спали, только охоронец, рослый болгарин, то прохаживался вокруг, зорко оглядывая лодьи с товаром, то снова садился у костра, поддерживая огонь. Купец в свете костра пересчитывал полученную на последнем торжище выручку и записывал расходы. Надежды Самуила не оправдались – русы крепко сидели в бывших эллинских и хазарских полисах и исправно взимали пошлину за весь провозимый через Киммерийский пролив товар. Расстояние между берегами в четырнадцать тысяч саженей надёжно стерегли морские лодьи новых хозяев. Самуил был крайне раздосадован тем, что пришлось уплатить «проходные», и теперь прикидывал, как наверстать урон. Неразговорчивый Палёный, подойдя к костру, сел правой стороной к огню и стал задумчиво глядеть в пламя. Купец оторвался от подсчётов, бросая подозрительные взгляды больших маслиновых очей на нового работника: а вдруг он высматривает, сколько у него, Самуила, денег и где он их хранит, а потом, когда заснёт…
Купец не успел додумать свою мысль. Чья-то тень возникла позади охоронца, обрушив нечто тяжёлое ему на голову и согбенную спину, когда тот наклонился за веткой для костра. Могучий охоронец ткнулся ликом в песок. Ещё две тени вынырнули из мрака ночи. Один разбойник оказался подле оборванца, занеся над ним чуть изогнутый хазарский клинок, а второй кошкой прыгнул к купцу, приставив к его горлу широкий кинжал.
– Тиха, купес, жизня хочешь, молчи, деньга давай. Товара твой мы не брать, деньга только, и не криши, а то башка отрезать будем, понял, купес? – быстрой негромкой скороговоркой на ломаном словенском выпалил старший из ночных любителей поживы.
Оборванец, который до того сидел не шелохнувшись, вдруг молниеносно прянул в сторону, как подхваченный неожиданным порывом ветра куст перекати-поля. Клинок, свистнув в ночном воздухе, вместо головы бродника разрубил пустоту, а оборванец, оказавшись у левой ноги здоровенного разбойника, полоснул под его коленом чем-то острым. Здоровяк заорал, выронил оружие и стал выть и кататься подле костра, сжав огромными ладонями свое колено. Палёный чуть изогнулся и кубарем прокатился дальше, к ногам ловкого малого, державшего под кинжалом купца. Ловкач успел удивлённо оглянуться на сотоварища, не понимая, что случилось, и сам в тот же миг рухнул на землю, едва не угодив головой в костёр. В последний миг его за волосы схватила рука оборванца, который, стоя на коленях, приставил к горлу вожака разбойников небольшой нож. В это время очнулся охоронец, а купец подобрал хазарский клинок стонущего на песке здоровяка. Третий разбойник, что перед этим ударил охоронца, вначале рванулся на помощь своему главарю, но, подчиняясь его истошному крику, замер в растерянности на месте. Ещё несколько теней заметались вне освещённости костра.
Палёный обратился к своему пленнику.
– Скажи своим, пусть уходят и заберут того, что валяется, – негромко молвил он, – ну! Иначе на счёт три я режу тебе глотку, один…
– Не убивать, нет, мы уходить! – закричал перепуганный таким оборотом главарь разбойников.
– Оружие на песок, забирайте своих калек и быстро уходите. От вашего крика проснулась охрана, и если будете медлить, то уже никто никуда не уйдёт, – велел оборванец.
Разбойники побросали к костру ножи и, подхватив своего корчащегося от боли главаря и стенающего здоровяка, поспешно удалились. Стали подходить проснувшиеся гребцы и охоронцы. Палёный вытер окровавленный короткий нож и неуловимым движением спрятал его у себя под лохмотьями. Купец, хоть и был очень взволнован нежданным ночным происшествием, успел заметить, что несколько серебряных монет, что в стычке выпали на песок из его мошны, так и остались лежать у ног оборванца нетронутыми, позже их поднял охоронец. Началась запоздалая суматоха, и лишь Палёный всё так же сидел на своём месте у костра, словно ничего не произошло. Теперь купец уже не опасался, что загадочный бродник что-то у него украдёт, – тот, кто не покусился на серебро под ногами, не станет красть товар, чтобы продать его.
Лодьи, пройдя вверх по Танаису, наконец причалили прямо к каменной пристани торгового града россов, который они именовали Дон-градом, расположенного на острове между Доном и его притоком Северским Донцом.
Старший ватаги крепких местных грузчиков, поторговавшись с прижимистым Самуилом, наконец ударил с ним по рукам. Ватага принялась споро выгружать лодьи. Купец строго следил, чтобы Палёный и охоронцы подавали грузчикам товар по порядку, а те не путали тюки на пристани.
От бывшего трапезита не ускользнуло – ещё там, в Пантикапее, когда хмурые и даже будто чем-то озлобленные россы брали с купца «проходные», и вот сейчас ватага работала совсем не так, как они это делают обычно. Грузчики не смеялись, не подначивали друг друга и даже не отпускали шуток в адрес осторожного Самуила, который старался доглядеть за каждым работником, не утаил ли кто из них чего-то из выгружаемого товара.
Палёный, закончив работу, подошёл к купцу за «расчётом». Тот дал ему немного продуктов.
– Куда ты пойдёшь, из какой ты земли? – спросил Самуил.
– Я Палёный, земли у меня нет, а вольному человеку любой ветер попутный. Может, добавишь пару монет за спасённое добро? – прищурился работник.
– Ой, Палёный, я ведь тоже, как и ты, без страны и без денег, – горестно завздыхал Самуил. – Всё, что сейчас имею, – жалкие крохи, а ведь я был ещё недавно богат и знаменит. В Итиле мой двоюродный брат был вторым помощником главного сборщика податей, а сколько у меня было судов для торговли рабами, о-о, если бы ты знал, кем был раньше бедный сейчас Самуил… Из-за проклятого Русского Барса я, да что я, все мои родственники и знакомые, все стали нищими, он разорил нас, да что там разорил! О Великий Яхве, этот проклятый рус отобрал у нас страну! А когда кто-то обижает многих людей, пусть не обижается, что эти многие захотят ему отомстить…
– Но ведь это была страна хазар.
– Каких хазар, тех, кто добывал еду и рабов? Да они как раз мало что потеряли, кроме жизни, конечно, – хмыкнул Самуил. – Но те, что уцелели, теперь опять кому-нибудь служат, а вот мы потеряли всё! Моё предложение остаётся в силе: я заплачу тебе монетами, если останешься работать у меня.
Палёный покачал головой.
– Ладно, купец, в торговле держи ухо востро, что с хазарами, что с греками! – одними уголками губ едва заметно ухмыльнулся он.
Проводив очами суетящегося с товарами Самуила, оборванец затерялся средь людской толкотни, по давней привычке трапезита невольно прислушиваясь к многоязыкому говору и замечая всё, что происходит вокруг.
Пристань осталась позади, обрывки разговоров на разных языках сложились в единую мозаику картины. Бродник прошёл ещё чуть далее по берегу и в глубокой задумчивости воззрился на голубую воду реки. Было о чём подумать в отдалении от шумной пристани. То, что он услышал, взволновало его так, что холодная дрожь несколько раз прокатилась невидимой волной по телу, как будто сама смерть заглянула в душу. Он понял главное, что произошло, и почему изменились россы. Это была весть о его гибели, смерти катархонта россов Святослава! Об этом говорили вполголоса два греческих купца, видимо только сейчас пришедшие с Белобережья. О том же толковали арабские купцы, похваляясь друг перед другом, как выгодно отторговались у печенегов и как щедро эти неотёсанные кочевники расплачиваются золотом и дорогими шелками из воинской добычи, взятой при уничтожении богатого флота урусов.
– Рекут, князь на лодьях возвращался со многим золотом и паволоками византийскими, да с дружиной малой… – вспомнился отрывок разговора россов. – Что теперь с нашим Донградом будет?
– Сказал, с Дон-градом, что с Русью будет, брат?! – махнул горестно узловатой рукой старший ватаги.
«Выходит, свершилось так, как было задумано, и моя выпущенная стрела настигла тебя, Русский Барс?! – подумал Каридис. Но отчего-то мысль о победе не принесла ему радости. Напротив, от этих слов ватажников что-то словно оборвалось внутри, и на сердце стало тихо и пусто. – Отчего при ласковом солнце и тёплой волне под ногами так холодно на душе?» – задавал себе вопросы бывший трапезит. Он упорно глядел на волны реки и думал. И ответ пришёл: яркий, как солнечные блики на воде, и зримый, как старое весло на проходящей мимо лодчонке, что птичьим крылом вздымалось над водой, а потом ныряло в её упругую плоть, толкая вперёд челнок.
Он всё время жил, подобно этому веслу, – либо уходил от преследования, либо сам преследовал, то взлетая над волнами обстоятельств, то ныряя в них. Так было все последние годы, и в этом была суть его службы. До сего мига, когда Каридис вдруг понял, и не только понял, но и ощутил, что вместе с князем россов умерла цель его дальнейшей жизни. Самый великолепный хищник, с которым ему только пришлось сражаться, мёртв. Это была достойная охота, и после неё всякая мелочная возня теряет смысл. От ясности этого понимания у бродника закружилась голова, и он увидел себя маленьким и скрюченным в лохмотьях на берегу неспешной реки. Выходит, дыхание жизни может быть не менее безжалостным, чем дыхание смерти?!
Спустя время Каридис бродил по Торжищу, время от времени подходя к торговцам и о чём-то спрашивая. А потом направился вдоль одной из улиц Дон-града. Услышав звон молотков о наковальню в кузнице, он обратился к одному из отдыхающих у входа мастеров на языке россов:
– Друг, не подскажешь, как мне найти белоглазого знахаря по имени Сова?…
Закопчённый кузнец в прожжённом кожаном переднике вначале неторопливо и, как показалось греку, испытующе поглядел на незнакомца. Потом вытер руки паклей и обстоятельно рассказал, где искать знахаря.
Каридис двинулся куда ему было указано. Уже выходя из града, краем глаза отметил запылённый горшок с отбитым горлышком в нише полуразрушенной каменной стены. Вмиг его пронизала мысль, от которой бывший трапезит остановился, будто с ходу налетел на эту самую стену. Горшок с золотом в нише подвала его дома в Итиле! За всеми последними событиями он напрочь забыл о потайном схроне. Даже если дом разрушен, то подвал вряд ли кто тронул. Добраться туда и забрать золото! И начать всё сначала, под другим именем и с иными хозяевами – теми же пачинакитами, мадьярами или арабами. Его умение сгодится любому… Внутри вспыхнул огонь привычного ощущения движения к цели, на миг показалось даже, что всё можно повторить – снова уходить и настигать… Однако стремительно возгоревшееся было пламя надежды на возврат к прошлой жизни так же быстро начало угасать. Похоже, в душе больше не осталось жарких углей прошлых желаний, словно «греческий огонь» там, в сторожке, выжег не только волосы на голове, но и что-то в самом нутре, сердце, или всё-таки…
Палёный в тяжкой задумчивости присел на обломок старой каменной кладки и устремил взор в невидимое пространство.
Глава 11 Волхвы и витязи возвращаются
Добросвет сидел, глядя на дрожащий огонёк сальной плошки. Истекло уже немало времени, тягучие и плотные, будто капли свинца, минуты уходили одна за другой, но рука так и не начертала ни единого чаровного знака.
Тяжко, ох и тяжко, как никогда прежде, было на душе у волхва. В памяти непроизвольно оживали самые горестные случаи из его жизни. Но даже тот день, когда он, маленький и беззащитный, пережив страшные мгновения гибели родных, прятался в лисьей норе, даже тот ужасный день не шёл в сравнение с нынешним. Тогда погибла вся семья, и сам он мог в любой миг отправиться в Навь. Теперь же пред волховским взором зримо и явственно предстало видение страданий целой державы, да что там державы, многих народов славянских и иных племён и родов!
Не хватало у Добросвета человеческих сил, чтобы стряхнуть с себя видения, а они всё шли и шли перед широко открытыми очами, пугающе-жестокие в своей неотвратимой осязаемости. Доселе не ведал волхв, что сердце человеческое может выдержать столько боли и не разорваться на части. Но оно держалось, его сердце, хотя давило так, что порой темнело всё кругом, и свет плошки почти исчезал вовсе.
Добросвет знал о том, что прежний Великий Могун зрел страшные испытания для Руси. Но одно дело знать, а другое зреть самому. Отчего случилось так, что именно сегодня пришло виденье?
С трудом превозмогая накатившую слабость, Добросвет встал из-за стола, прошёл в угол избушки, где на полочке поблёскивали старая чаша и нож Велесдара, переданные ему Святославом перед походом на Дунай. Волхв прижал чашу ко лбу, в другую руку взял нож и, осторожно ступая, вернулся к столу. Прикосновение к холодной медной поверхности чаши в самом деле помогло ему не потерять остатка сознания. Кромешная тьма, готовая было сомкнуться над слабеющим рассудком, помалу отступила. Сумрак пред очами рассеялся, а вместе с ним растворились и жуткие видения. Добросвет подержал чашу в руках, вспомнил тех, чьё тепло согревало её прежде. Вспомнил свою последнюю встречу со Святославом, как обещал ему написать обо всех славных деяниях его дружины, о Великом Могуне, о заветах отцовских. Обещание своё до сего дня исполнял, а вот нынче что-то…
Тогда, после разговора с князем, Великий Могун призвал к себе его, Добросвета. Поглядел, как всегда внимательно, помедлил, как бы проверяя правильность принятого накануне решения, потом велел принять оставшиеся от Велесдара писанные на дереве и пергаментах книги.
– Отныне ты, волхв Добросвет, принимаешь на себя ношу великую и честь святую. И то и другое столь важно, что язык человеческий слаб отразить всю тяжесть и величие сей задачи. – Старый Могун перевёл взгляд с Добросвета на пламя Неугасимого Огня у кумиров, помолчал в раздумье, затем продолжил: – Всего разумом охватить ты сейчас не можешь, да и одного разума для такого дела мало. Одно скажу, что умереть и уйти во Сваргу небесную тебе нельзя будет не одну человеческую жизнь. Всякий раз, когда от старости или ран придёт срок умереть твоему телу, душа должна переселяться в иное, и в том, другом, находясь, снова исполнять предначертанное – беречь память нашу и честь, передавать Веды от ученика к ученику, чтоб дошли они до самых дальних правнуков наших и помогли им в нужный час.
– Когда же придёт час, о котором ты речёшь, отче? – вопросил Добросвет.
– Его предречёт Птица-Сва-Слава. Никто того точно, кроме богов, не ведает, но думаю, не один век минет и не два. Однако душа твоя должна пребывать в готовности, чтобы во времена, когда Сварожье Коло повернётся на круги своя, рассказать потомкам о пути Прави, блистающем в Сварге Млечной Стезёй, которую оставила небесная корова Земун. И напомнить о том, как через неё от Матери Славы и отца Даждьбога произошли мы, славяно-русы.
– Неужто и про это забудут, отче?
– Всё может статься в час Ночи Сварожьей…
– А не загинет ли сама Русь в сии тяжкие времена? – обеспокоился Добросвет. – Не захватят ли её народы чужеземные?
– Есть у Руси одна тайна, сыне, – тихо произнёс Великий Могун. – Кто захватывает её оружием или хитростью, тот народ исчезает с лика земли-матушки.
– Как так, отче?
– Верно реку тебе, Добросвет. Приходили на нас могучие обры и неисчислимые гунны, захватывали хазары. Где они ныне? Нету таких народов. Придёт час, исчезнет и Византия коварная, и прочие державы, что супротив Руси недоброе что замыслят. И деется то по законам Сварога нашего, кой сотворил на земле людей Прави для помощи Белобогу, дабы не сгинул свет от Чернобожьей тьмы. Только коли забудут русичи, кто они есть и для чего на белом свете существуют, коли станут жить не своей, а чужой жизнью, тогда и кончится Русь, растворится средь остальных народов. Вот для того, чтоб не забыли потомки о нити связи с предками и предназначенье своём, возлагаю я на тебя и других волхвов сию ношу тяжкую.
Великий Могун ещё долго беседовал с молодым волхвом, прежде чем они распрощались.
Добросвет начал исполнять завет с того, что первым делом отправился в Кудесный лес к избушке старого Велесдара. Где что надо – подправил, что обветшало – обновил. Вычистил криницу, посадил огород. А по вечерам брался за стило, сверяясь с древними текстами да советуясь с ушедшими во Сваргу мудрыми предшественниками-волхвами, чьи ответы слышал в птичьем щебете, в шуме крон вековых деревьев, в паренье зорких орлов под облаками, в лёгком беге-полёте пушистых мысей по зелёным ветвям.
«Но сегодня никак не идёт работа, в голове шум и тяжесть, уж не захворал ли? Надобно выйти на свежий воздух», – решил Добросвет.
Ступив за порог, он несколько раз глубоко вдохнул лесной живительный аромат, насыщая им, будто божественной сурьей, каждую клеточку тела, а затем неторопливо зашагал к кринице, чтобы живая вода помогла смыть душевную боль и усталость.
Шепча про себя молитву-обращение к Воде, обострённым чувством уловил тёплое дуновение Стрибога, что едва коснулось левой щеки, волхв замер, весь уйдя в ощущения. Всё вокруг будто растворилось в этом неповторимом чувстве, которое приходит к обычному человеку, может, только раз в жизни, и лишь волхвы годами долгих трудов научаются входить в поток времени, как купающийся входит в реку. Вот ещё одно усилие-расслабление, и незримое течение повлекло и завертело. Прозрачность родника исчезла, вода будто уплотнилась, подёрнулась серебряной плёнкой, и из глубины стали проступать, обретая чёткость, синие тени. Шум, звон и смертное рычание битвы оглушило и разом обступило волхва. Искажённые победным кличем лица, переполненные болью очи, реки крови, пыль, натиск, лязг и звон булата разом ворвались в мозг.
В этом месиве смерти Добросвет сразу узрел Святослава. С горсткой сотоварищей он отбивался от наседавших со всех сторон печенегов. Князь рубился отчаянно, мастерски, но чувствовалось, что силы его убывают. На краткий миг будто невидимая нить соединила души волхва и князя. Добросвет ощутил нечеловеческую усталость Святослава от ноши, что стала непосильной после бесконечных потерь родных и близких ему людей, и только одно последнее желание билось в разгорячённом схваткой мозгу – желание достойной смерти с мечом в руке, при полной памяти и силе, лицом к лицу с сильным противником. Не быть раненым и не испытать позора пленения. Смерти, достойной воина, – вот всё, чего жаждал в этот миг Святослав!
Душа волхва рванулась навстречу, оставила тело и мгновенно неслышной и невидимой устремилась к месту последней схватки друга. И не мог понять рассвирепевший Куря, почему лучшие его воины не могут взять живым князя урусов, отчего брошенный ловкой рукою аркан, будто соскользнув с невидимой преграды, опять падает мимо. А когда были убиты последние воины, верный юный стременной и полутемник Збимир, князь урусов в своём стремительном беге вдруг покачнулся, запрокинулся назад и стал сползать с седла, получив смертельный удар от кого-то из печенежских воинов.
– Дякую, брат! Благодарю! – пронеслось в голове волхва, и чёрное покрывало лёгким безвременьем накрыло его.
Добросвет медленно возвращался в своё тело. Оно лежало распростёртым поперёк небольшого ручейка, что вытекал из криницы. Холодная вода, омывая грудь, помогала быстрее прийти в себя. Наконец, с трудом превозмогая слабость в дрожащих руках и ногах, он смог подняться вначале на колени, стянуть мокрую рубаху, умыться чистой водой из криницы. Потом встать и на качающихся, предательски подгибающихся ногах медленно, стараясь не оступиться в сгущающихся сумерках, добрести до избушки.
Неужели он, потеряв сознание у источника, провалялся там весь день? А Святослав и его последняя битва – это больной бред или волховское прозрение?
Добросвет с трудом отыскал в почти погасшем очаге уголёк, от которого разжёг огонь. При его свете добавил в плошку масла, зажёг её и поставил на стол. Старый нож с костяной рукоятью лежал на прежнем месте. Что-то привлекло внимание волхва. Добросвет взял нож в руку и с удивлением заметил на лезвии несколько бурых пятен, похожих на ржавчину или засохшую кровь.
Лета 6483 (974)
– Вот, отче, приготовил всё, как ты велел: пергамент подровнял и чернила развёл, перья гусиные навострил, погляди, ладно ли будет? – С этими словами юный отрок годов десяти обмакнул перо в глиняную чернильницу и старательно вывел на кусочке пергамента слегка угловатую буквицу.
– Эге, брат, так ты скоро краше меня писать будешь, и тогда мы с тобой вдвое больше написать сможем, – с серьёзным видом сказал Добросвет, привычно и сноровисто сотворяя в левом верхнем углу буквицу, похожую на сказочного змия с раскрытой пастью.
Отрок глядел через плечо учителя с восторженным любопытством в больших голубых глазах. Он заворожённо следил, как из-под пера, легко скользящего по поверхности пергамента, будто сами собой рождаются красивые и стройные, ровно дружинники в боевом строю, чаровные знаки. Это и впрямь походило на истинное волшебство.
Дописав лист, Добросвет пробежал его взглядом и обратился к отроку:
– Послушай-ка, что получилось.
Он с выражением прочёл написанное, затем вопросительно взглянул на мальца.
– Лепо, отче, послушны тебе чаровные знаки, мне никогда так не научиться! – Глаза отрока влажно заблестели восторгом и одновременно грустью. Ещё не всё понимая из прочитанного, он чистотой и открытостью детской души глубоко почувствовал суть и важность того, что сотворял Добросвет.
– Ты верно понял, Мысёнок, – писание есть чародейство, и передать его просто, как хлебную краюху, нельзя. Чародейство требует сильной души, а сильной душу только вольный труд делает. Будешь ежечасно трудиться над своею душой, как повелевают нам светлые боги, станет она могучей и сильной, большие и малые волшебства творить сможет. А кто не живёт по законам Прави, не то что чародейства, жизни собственной создать не сумеет. Пустоцветом становится она для такого человека и для Рода его. И когда придёт срок уйти из этой жизни, не останется после него ни славы, ни памяти, ни книг мудрых, ни дел добрых… С чем ему отправиться в Ирий? Как предстать перед богами и пращурами? И с чем возвращаться обратно? Ведь душа, обретши новое тело, продолжает трудиться над тем, с чем ушла. – Волхв замолчал на мгновение, задумчиво погладил льняные непокорные вихры на голове отрока, поглядел в огромные и чистые очи и закончил совсем тихо: – Всегда помни, Мысёнок, что ты славянин, русич, сын и внук божеский, и негоже тебе ошибки, глупости, а паче всего лень свою на отцов и дедов вешать, бесплатных благ у них вымаливать. Боги всё нам дали – силу, ум, здравие, только трудиться надобно! Телом, разумом и душой. Помни об этом всегда, с детства до самого смертного часа. Сумеешь потрудиться как следует – и любое дело, в том числе и чародейство, тебе будет под силу! Так-то… А теперь послушай ещё…
Сражение за Переяславец, гибель двух тысяч славянских воинов вместе с волхвом Мовеславом в царском дворце Великой Преславы, страшная осада Доростола и гибель Святослава на порогах предстали так зримо, что глаза юного помощника наполнились до краёв горючими слезами. Отрок громко всхлипнул и спросил дрожащим голосом:
– А во дворце, они все там сгорели и никого не осталось в живых?
– Вырваться удалось только горстке, – кратко ответил учитель.
Наступило скорбное молчание.
– Всё-таки греки их нечестно одолели! – обиженно всхлипнул отрок. – Нечестно!
– А кто тебе сказал, что одолели? Мечи и копья лучших византийских витязей так и не смогли превозмочь мечей русских. Наши витязи ушли во Сваргу пречистую непобеждёнными, прямо из священного огня Перунова…
Оба опять помолчали.
– Всё равно не по Прави, что сгинули такие могучие волхвы и сильные воины. Они никогда не увидят Непры синей и леса зелёного, а византийцы небось глядели на их гибель и радовались, – тяжко вздохнув, по-взрослому промолвил отрок. – Это они печенегам про князя нашего рассказали, чтоб те его убили…
– А ты хочешь, чтоб вернулись наши волхвы и витязи? – вдруг спросил Добросвет.
– Хочу, а как? – Ещё полные слёз глаза широко раскрылись от удивления синими озерцами.
– Сие и от нас с тобою зависит, от того, как добре мы своё дело делаем, – уверенно молвил наставник. – Помнишь, я тебе рёк, что души в Сварге пребывают до часа назначенного, а потом возвращаются на землю, получив новые тела. И в самый трудный для Руси час помогают потомкам силой своей, опытом ратным и мощью духа славянского. Так было и так будет, доколе память наша жива. Потому как мы с тобою, Мысёнок, трудиться для сего должны?
– Думаю, крепко должны трудиться, отче. – Отрок вытер рукавом рубахи остатки слёз, враз посерьёзнел и приосанился от осознания важности своего дела.
– Так, именно так! – ответил учитель, погладив смышлёного мальца по голове. – Ну-ка, положи руку на пергамент и закрой очи, – неожиданно предложил Добросвет. – Что видишь?
– Что же я видеть могу, коли глаза закрыты? – возразил отрок, кладя ладошку на письмена и крепко смеживая веки.
– А ты не спеши, может, что и увидишь, – стараясь быть спокойным, отвечал волхв.
– Ага! – чуть помолчав, заговорил отрок, не открывая очей. – Сейчас будто свет на меня лучится…
– Добре, – подбодрил Добросвет, – а что-нибудь чувствуешь?
– Чую, будто силы во мне от того прибывает, – помедлив мгновение, добавил отрок.
– Значит, и впрямь лепо у нас с тобою начало вышло! – с радостным волнением произнёс Добросвет и приобнял отрока за плечи. – Князь наш пресветлый, отцы и братья великий труд мечами на полях ратных сотворили, а волхвы людей Ведам и законам Прави учили, – продолжил он, вдохновенно сверкая очами, – и надо, чтоб их светлая чистота и сила дошли до наших внуков и правнуков!
– А ты, отче Добросвет, тоже вернёшься? – неожиданно вопросил отрок.
– Если так будет угодно богам, – улыбнулся волхв.
– И князь Святослав вернётся?
– Непременно! – заверил жрец. – Волхвы и витязи наши – они всегда возвращаются, а иначе давно бы сгинула Русь со свету белого, как сгинули многие племена и народы. Но предки приходят только тогда, когда о них помнят. Потому и должны мы стилом на пергаменте великие их дела описать, чтоб не сгинули они в беспамятстве, а на века многие остались. И наши далёкие потомки смогли прочесть и обрести живую нить единения со своими богами и пращурами. Давай-ка, приготовь ещё листов пергаментных. А пока я писать буду, ты на обрезках буковицы выводить красиво учись…
– Слыхали мы, отче Добросвет, что хотел ты порадовать волховское Коло известием добрым? – обратился Великий Могун к волхву.
Добросвет поднялся, отвесил всеобщий поклон.
– Закончили мы с помощником моим работу, что начата была почти три лета тому, и нынче представляем её пред ваши светлые очи. – С этими словами он пронёс к столу и бережно развернул чистую холстину. Все увидели большую книгу в красном сафьяновом переплёте и не смогли сдержать восхищения: великолепно выделанная кожа сияла новой медью оклада и исполненной золотом надписью «Сказанiе о Святославе Хоробре, князе Кiевскомъ».
Великий Могун прикоснулся к книге, провёл пальцами по выпуклости узоров на окованных уголках, затем раскрыл тяжёлую обложку и прочёл сильным выразительным гласом:
Когда минули часы княжения Ольга Вещего, а после него князь Игорь был убиен в земле Древлянской, то осталась Ольга в Киеве княжить вдовой безутешной, и имела младого сына – Хороброго Святослава.
И воссияло имя его отныне, как адамант средь кромешной тьмы.
Он дал русичам славу и гордость, ибо прочный камень вложил в основу зиждительства державы русской.
А без того неведомо, какою бы стала земля славянская…
Вспомним же о том, кто за нас сложил свою бесценную голову под кривую саблю печенежского Кури.
Почтём память светлого князя!
Без него средь других народов мы затерялись бы придорожным прахом, которым играет ветер, засыпая глаза прохожим.
Он же, объединив народы, сотворил могучую Русь от Киева до Дона и Волги-реки, от голубого Дуная до Сурожи и Тьмуторокани, от града Нового до Двины Западной и Полуночной.
И, утвердившись на Непре широкой, дал нам державность, как в своё время Орий, и дал вольность, которой живём и поныне.
И эту основу должны мы хранить достойно в памяти сыновей и потомков во веки веков, до конца!
На некоторое время над поляной воцарилось молчание. Затем обычно сдержанный Могун повернулся в сторону Добросвета, который стоял неподалёку, держа за руку младого отрока, и, приложив руку к груди, отвесил обоим низкий и долгий поклон.
Краткий словарь исторических и религиозно-философских терминов
Состав и должности византийской армии
Византийская армия состояла из двух частей: Основная, или Императорская, армия и Фемная армия, набранная из византийских провинций.
ОСНОВНАЯ АРМИЯ состояла из трёх мер, каждая из которых насчитывала 6–7 тысяч воинов. Возглавлял каждую меру мелиарх, а главным был начальник средней меры – гипостратиг. Каждая мера состояла из трёх мир, или хилий, количеством 2–3 тысячи воинов во главе с мирархом, или хилиархом. Каждая мира делилась на тагмы, в которые входило 200–400 воинов во главе с тагматархом.
Пехота состояла из таксий (1000 человек), куда входили 500 гоплитов, 200 копейщиков и 300 стрелков. Начальствовал над ними таксиарх. Все таксиархи подчинялись гоплитарху. Затем шли кентархии – сотни – под началом кентарха. Сотни состояли из лохов (20–40 человек) под началом лохага или лохита. Полулохом (16–20 чел.) командовал гемилохит. И самой малой единицей являлся десяток – декархия во главе с декархом.
ФЕМНУЮ АРМИЮ возглавлял стратиг. Фема состояла из трёх-пяти турм во главе с турмархами. Каждая турма состояла из пяти банд (по 100–200 человек), которых возглавлял друнгарий банда или комит. Каждая банда, в свою очередь, делилась на 5 друнг (20–40 человек).
Акуфий (греч.) – длинный тонкий меч, предназначенный для пробивания кольчужных доспехов.
Апокрисиарий (греч.) – посол.
Великая Преслава – столица Болгарии.
Виглы – константинопольская ночная стража, находилась в подчинении «ночного эпарха» – друнгария виглы.
Виссон – дорогая мягкая и тонкая белая или пурпурная ткань, предназначавшаяся для одеяний царей, жрецов и т. п. в Египте, Древней Греции, Риме, Византии и других государствах.
Галея – небольшое греческое быстроходное судно.
Гемские горы – Балканские горы. По древним преданиям, царь Фракии Гем имел жену Родопу, они любили друг друга так, что присвоили себе имена богов. За это были наказаны и превращены в Гемские и Родопские горы.
Гоплит (греч.) – тяжеловооружённый пехотинец.
Джила – верховный правитель у мадьяр-угров, осуществляющий судебные и прочие дела.
Дука – у византийцев воинская должность главнокомандующего войсками отдельных округов или провинций.
Загрей (позднее Дионис) – бог вина и плодородия у фракийцев.
Император (лат. «повелитель») – первоначально в Древнем Риме титул императора обозначал любую верховную власть, военную или судебную. Со времен Октавиана Августа титул приобрёл в Римской империи монархический характер.
Катархонт (греч.) – верховный правитель.
Кенде – верховный правитель у мадьяр-угров, предводитель войска.
Кесарь – один из самых высоких римско-византийских титулов. При Диоклетиане с IV века даровался «младшему» императору-соправителю, а с V до конца XI века – ближайшим родственникам императора, предполагаемым наследникам престола или кому-либо в знак исключительного отличия. Часто служил ступенькой в достижении царской власти. Кесарь обладал весьма существенными привилегиями, в том числе правом во время торжественных церемониальных выходов находиться рядом с императором, разделять царскую трапезу, производить выдачи из казны и др.
Керкиты – ночные караулы, патрулирующие военный лагерь.
Клибанион – панцирь.
Клибанофор, он же катафракт (греч. «покрытый бронёй»), – конный панцирный воин.
Крум – болгарский хан (803–814), при котором Болгария существенно расширила свои границы, воюя с аварами и Византией.
Император Византии Никифор I собрал огромное войско, разгромил болгар, ограбил и поджёг их столицу Плиска. В ответ хан Крум поднял население страны на защиту целостности государства и в одном из ущелий Старой Планины уничтожил превосходящую армию противника. Из черепа императора Никифора Крум повелел сделать чашу, из которой пил на пирах.
Мандатор – вестовой.
Мисия, мисяне – так византийцы именовали Болгарию и болгар (от одного из фракийских народов, носивших название мизы, обитавших в бассейне реки Моравы и в Нижнем Подунавье).
Оптион – должность вроде адъютанта у византийцев.
Переяславец – столица Болгарского царства Святослава, «середа земли моей».
Паракимомен (греч.) – «тот, кто спит около», «постельничий» – придворная должность в Византийской империи, обычно занимаемая евнухами. Имели право носить оружие. При Никифоре Фоке и Иоанне Цимисхисе паракимоменом был Василий Ноф.
Проедр – высший чин гражданского лица, византийский первый министр. Проедром был, как правило, евнух.
Ромфей – короткий однолезвийный меч.
Сабазий – бог солнца у фракийцев.
Симеон – Симеон I Великий (864–927) – князь Болгарии с 893 года, с 918 года – царь. Третий сын князя Бориса I, отец Петра I. С именем царя Симеона связан золотой век Болгарского государства. Его военные кампании против Византийской империи, венгров и сербов довели Болгарское государство до территориального апогея, сравнимого только с эпохой Крума. Болгария превратилась в самое могущественное государство на Балканах и во всей Восточной Европе. Новая столица Великая Преслава была сравнима с Константинополем. Болгарская православная церковь стала первой самостоятельной (автокефальной) церковью в Европе, во главе которой стоял патриарх.
Синкел – титул, чаще всего жаловавшийся высшей духовной знати столицы Византии и провинций, его обладатели входили в состав синклита.
Синкел Феофил Евхаитский – епископ и дипломат, заключивший в 971 году мирный договор от Иоанна Цимисхия со стороны Византии. Представителем от Святослава со стороны Руси был воевода Свенельд.
Синклит (греч. «созванный») – собрание высших сановников, константинопольский сенат.
Синодики – войсковые разведчики, занимавшиеся добычей «языка», обычно группой 5–8 человек.
Спафион – обоюдоострый меч.
Стратопедарх (греч.) – начальник военного лагеря, полководец. Должность, созданная Никифором Вторым Фокой специально для патрикия Петра, практически дублировала функции доместика (верховного главнокомандующего), с той лишь разницей, что была доступна евнуху.
Топотирит (местоблюститель) – комендант крепости.
Трапезит – разведчик (от греческого «меняла»), очевидно, самая распространённая «крыша» для разведки в то время. В X веке это уже кавалерист для разведки и диверсий на территории противника.
Федераты – варвары-поселенцы на границах, за определённое вознаграждение несущие военную службу по защите империи.
Фема – округ, провинция.
Химатион – самая распространённая верхняя одежда греков, представляла собой прямоугольный кусок шерстяной ткани размером 1,7 на 4 метра.
Хламис – меньший вариант химатиона размером 1 на 2 метра. Греческие военачальники носили хламис, окрашенный в пурпурный цвет.
Эпарх – градоначальник Константинополя.
Этерия – наёмная иноземная армия императора.





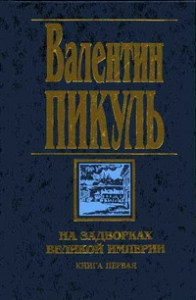

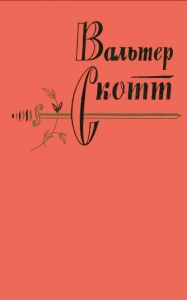


Комментарии к книге «Святослав. Болгария», Юлия Валерьевна Гнатюк
Всего 0 комментариев