Евпраксия
Глава первая И РОДИЛАСЬ КНЯЖНА
айской порой по полуденной степи катились две конные лавины. Впереди — тысяч пять воинов-русичей, за ними — верстах в пятнадцати — орда половецкая числом до двадцати тысяч. Для русской дружины вес могло быть хуже, если бы не три дозора, которые выследили врата. Половецкая орда шла русичам навстречу, и, если бы эта встреча случилась, орда проглотила бы русскую дружину в открытой степи. Высмотрев половцев, первый дозор зажёг дымный витень. Второй дозор, заметив дым, упредил третий, и семь воинов последнего дозора умчались к дружине, чтобы предупредить о враге.
Тот враг был жесток и беспощаден. Князь Всеволод, сорокалетний сын Ярослава Мудрого, который возвращался из Киева в своё удельное Переяславское княжество, знал нрав половцев лучше, чем многие другие удельные князья той поры. Его удельный град Переяславль, находясь на юго-востоке от Киева, первым принимал на себя удары коварного врага. Так было в 1055 году, когда впервые на переяславскую землю ворвался с ордой князь Болуш. Тогда ему не удалось нанести большой урон князю Всеволоду. Его дружина выгнала из пределов княжества малую орду Болуша, хотя тот и сумел увести в полон из порубежных селений больше сотни жён, дев и детей русичей.
Так было и в 1061 году, когда молодой сын Болуша, князь Секал, отважился напасть на Русь зимней порой. Орда ворвалась в Переяславское княжество, словно стая голодных волков, сметая на пути всё живое, и подошла к городу. Дружина Всеволода — всего-то две с половиной тысячи воинов — вышла навстречу половцам и в неравной сече была смята и уничтожена. Лишь немногим удалось спастись бегством. Удельное Переяславское княжество было разорено, сам Переяславль сгорел дотла, а горожане — не одна тысяча — были угнаны в полон. Только старцы остались на пепелищах. Всем прочим русичам суждено было стать рабами. Князь Всеволод бежал в Киев.
«Небо праведно! — писал о том пречестный Нестор-летописец. — Оно наказывает россиян за их беззакония. Мы именуемся христианами, а живём как язычники; храмы пусты, а на игрищах толпятся люди; в храмах безмолвие, а в домах трубы, гусли и скоморохи».
Спустя восемь лет князь Всеволод и его брат князь черниговский Святослав отважатся наказать половцев за их непрекращающиеся набеги на Русь и прежде всего на их княжества. Собрав всего-то шесть тысяч ратников, Всеволод и Святослав ранней весной 1069 года двинулись в половецкие пределы, перешли реку Снове, зашли в тыл к половецкой орде Секала и тёмной ночью напали на спящих воинов. Двенадцатитысячную орду обуял ужас. Забыв схватить оружие, ордынцы бежали в гиблые места к реке и там сотнями пропадали в ледяной пучине. Даже те, кто успел сесть на коней, гибли в бурной паводковой воде, потому как отощавшие за зиму кони были бессильны справиться с течением.
Князь Секал, собрав близ себя небольшой отряд, сам повёл его в сечу. Но воины Святослава окружили его отряд, многих побили, а князя Секала с полусотней ордынцев пленили. Позже князь Секал признается, что его погубили голодные кони и жадность. Он шёл на Русь с расчётом на лёгкую победу над переяславским и черниговским князьями, вёл с собой сотни кибиток для добра и полонянок. Убегая, половцы побросали кибитки, шатры. Даже шатёр Секала достался победителям, и в нём Святослав и Всеволод нашли пять княжеских жён и полдюжины рабынь. Князь Святослав, будучи благочестивым супругом, не прельстился прекрасными половчанками, повелел своим гридням взять их в добычу. И вдовый князь Всеволод даже взором не поласкал полонянок. Так бы воины и увели их в стан, если бы одна из них не открыла своего лица. Всего мгновение смотрели на Всеволода большие серые и печальные глаза, но этого мгновения оказалось достаточно, чтобы князь догадался, что перед ним не половчанка и не куманка. Он придержал её и сказал:
— Братец Святослав, я оставлю её себе.
— И хорошо, — отозвался Святослав.
Через три дня, предав земле павших русичей, собрав и поделив с братом половецкую добычу, Всеволод отправился в своё княжество. Полонянку везли в добытой у врага кибитке. При ней неотступно следовали два воина. Князь Всеволод не беспокоил пленницу. Ещё на месте сечи он задал ей через толмача два вопроса: «Кто ты? Как тебя звать?» Она же лица не открыла и промолчала. Всеволод увидел, что плечи её дрожат от страха, он попытался разгадать её положение близ половецкого князя, но это ему не удалось. В одном он убедился: она не была ни женой Секала, ни его наложницей. О том говорила её убогая одежда. Спрятав полонянку в кибитку, Всеволод попытался забыть о ней. Ан нет, сие не удавалось: её печальные глаза неотступно светились перед ним. В Переяславле князь отвёл ей покой в своих палатах, приставил к ней добрую и ласковую мамку, боярыню Аглаю, и наказал ей:
— Ты, матушка Аглая, растопи лёд в груди полонянки и выведай всё, чем она жила.
Аглая больше месяца приходила к Всеволоду с пустыми руками.
— Одна поруха, родимый князь. Камень и есть камень холодный твоя полонянка.
— Может, она без языка? - спросил озадаченный князь.
— Не ведаю, родимый. Лицом-то она уж больно пригожа и статью хороша. А вот про язык не скажу. Да ты сам к ней зайди, княже. И чего тебе, не обременённому семеюшкой...
Всеволод вдовствовал уже около четырёх лет. Все эти годы он не знал женского тепла. Да и семеюшка, царевна Елена, побочная дочь византийского императора Константина Мономаха, мало согревала его в последние годы. Какая-то неведомая болезнь не по дням, а по часам съедала тело и дух княгини. Когда она преставилась, то в раку положили кожу да кости.
Князь прислушался к совету Аглаи. Он не был человеком робкого десятка перед жёнками и сказал мамке:
— Я и впрямь вольный муж, потому и сраму за мной не будет. Однако идём, Аглаюшка, вместе, дабы не напугал девицу.
Полонянка сидела за рукоделием: вязала шерстяные чулки. С появлением князя и боярыни лишь на миг подняла глаза и вновь опустила к рукоделию.
Князь подошёл к ней и проявил волю, поднял её лицо за подбородок.
— Я — Всеволод, — сказал он и ткнул себя пальцем в грудь. — А ты? — Знал князь, чего от неё требует, и ждал ответа.
Полонянка смотрела на князя без страха, и не было в её глазах печали. И сказала она то, что повергло князя в изумление. Она ответила по-русски:
— Мне ведомо, что ты князь Всеволод. И за то, что спас меня от неволи, буду молить Бога до конца дней своих о твоём здравии.
— Господи, но кто ты есть? Почему не откроешься? — воскликнул князь.
— За то винюсь, князь-батюшка. Десять лет молчала, как в полон нас увели да матушка с братиками пропала.
Всеволод присел рядом с полонянкой и, не спуская с её лица удивлённых глаз, спрашивал:
— Но откуда ты? Чья?
— Рыльские мы. Батюшка Петрил посадником там служил. Да сгинул в сече с половцами.
— Я помню то лихое время. Спустя год и у нас так было. Но где твоя матушка, где братья? И как тебя звать?
— Матушку и меньших её увезли на рынок, там они и сгинули. Меня же оставили при князе Болуше. Имя моё Аннушка, так в рождении нарекли. А в крещении — Авдотья.
— Аннушка... Какое хорошее имя. Но как ты жила в полоне?
Анна опустила голову, долго молчала, потом тихо ответила:
— О том в одночасье не поведаешь.
Всеволод в этом ответе уловил другое: полонянка не хотела ворошить прошлое при Аглае. Всё-таки спросил:
— Может, страшно вспомнить прошлое?
— Нет, князь-батюшка. Да о том ты тоже узнаешь.
— Я терпелив и подожду, когда найдёшь нужным рассказать, — ответил Всеволод. — И рад тому, что узнал. Думал, что ты половчанка или куманка. Ан нет, и это отрадно. Теперь слушай князя. — Он встал, и Анна встала. Она уже избавилась от сутулости и была ниже князя всего на два вершка. — Отныне тебе, боярской дочери, не сидеть затворницей. Аглая принесёт новые платья, а после полудня я позову тебя на трапезу. Поклониться моим боярам, воеводам и княжим мужам.
Анна, однако, отказалась от трапезы.
— Повремени, князь-батюшка, ещё день-другой. Ноне всё так неожиданно, и я потерялась.
— Будь по-твоему. Не на пожар же собираемся, — согласился князь.
Всеволод не тревожил Анну ещё три дня, но наступило воскресенье, и он пришёл за нею, дабы увести. А едва увидел, у него пропало всякое желание показывать её кому-либо. Только он один хотел владеть этой до неузнаваемости преобразившейся молодой боярышней. Анна была смущена своим преображением. Зато Аглая сияла, как утреннее солнце, омытое росой. Она, многие годы простоявшая близ греческой царевны, знала покоряющую силу византийского одеяния. На Анне всё было из того, что принадлежало княгине Елене.
— Ты доволен, родимый князь? — спросила Аглая.
Он же только погладил её по спине. А сам попытался заглянуть в лицо Анны.
— Посмотри на меня, боярышня, — попросил Всеволод.
И Анна подняла на князя большие серые глаза. В них светилась благодарность, а на белом чистом лице появилась улыбка. Русая коса с золотой лентой лежала на высокой груди, оттеняя лебединую шею. Тонкий стан, препоясанный шёлковым поясом, подсказал князю, что Анна только что вышла из отрочества.
— Господи, да как же тебя, лебёдушку, не показать всему миру! — воскликнул князь. И Всеволод счёл нужным отвести Анну в трапезную. Но перед тем как выйти из покоя, он спросил Анну: — Если я позову тебя в семеюшку, будет ли на то твоя воля?
— Я невинна. Но достойна ли твоей милости? — спросила Анна.
Ответ полонянки на сомнения князя по поводу её девственности, выраженный в двух словах, поразил его своей простотой и ясностью, и он вновь воскликнул:
— Лучшей доли у меня не будет!
— Я буду верной тебе рабой, — тихо произнесла Анна и опустилась на колени, поцеловала руку князя.
Всеволод поднял Анну и повёл её в трапезную. Там за столом сидело двадцать пять княжьих мужей, бояр, воевод. Все они, увидев рядом с Всеволодом незнакомку, разом встали и с удивлением осмотрев её, склонили голову. Князь объявил им:
— Мужи мои славные, перед вами боярышня Анна, дочь рыльского боярина Петрила, коего вы должны помнить. Любите её и жалуйте, мою будущую семеюшку.
— Слава Всеволоду, слава Анне! — единым духом отозвались боевые соратники удельного князя.
И прошёл год мирной супружеской жизни Всеволода и Анны. Они были счастливы, потому как полюбили друг друга. Во всём они сошлись нравами, оба покладистые, мягкосердечные, уступчивые и согласные, чего никогда раньше не было у Всеволода с Еленой. Анна уже готовилась стать матерью, была на сносях. И рожать бы ей в княжеских палатах Переяславля, да всё обернулось не так, как хотели. На Пасху их позвали в Киев. Так уж было принято, когда на великий весенний праздник многие удельные князья собирались в стольный град на торжественную литургию в честь Воскресения Господня. В Киеве княгиня чуть приболела и на день задержала отъезд. И теперь Всеволод спешил к родам добраться до Переяславля.
Путь им перекрыла половецкая орда. Всеволод не отважился вступить с половцами в сечу. Знал он, что его пять тысяч воинов будут сметены и уничтожены в открытой степи. И повелел дружине повернуть вспять. А теперь судьба русичей зависела от выносливости и резвости коней. Всеволод, однако, верил, что его дружине посильно уйти от половцев. Кони ратников в зимнюю пору не голодали и к весне были в теле. И час и другой уходила дружина Всеволода от поганых, не сбавляя хода и без помех. Половцы ещё не сели на хвост ратникам. И в Киев Всеволод отправил двух гонцов уведомить великого князя Изяслава. Ан беда пришла оттуда, откуда князь и не ждал её.
В хвост дружины прискакал гридень из охраны княгини Анны. Осадив коня, молодой воин крикнул:
— Князь-батюшка, княгиня Анна дитём мается, тебя зовёт.
В пот ударило Всеволода, оторопь пришла. «Эко не ко времени! — мелькнуло у него. — Да час пришёл, и не остановить». Рядом с князем рысил тысяцкий Ивор.
— Смотри тут! — крикнул князь Ивору и ударил плетью копя, намётом помчался вдоль конного строя, в котором где-то в середине, в половецкой кибитке, запряжённой нарой коней, ехали княгиня Анна с Аглаей и сенной девицей. Пока Всеволод догонял кибитку, мысли чёрные, словно воронье, кружились. Знал он, что такое роды. Когда Клёна рожала первенца Владимира, исстрадался, изошёлся душою и телом. А ведь Елена разрешилась в тереме и повитухи близ неё были искусные. И всё под руками, дабы помочь роженице и облегчить страдания. Правда, тогда Клёна, царство ей небесное, рожала богатыря. Таким и был сын Всеволода Владимир Мономах. Тут пока было неведомо, кого принесёт Анна. «Да и справится ли с родами при дикой скачке? Сумеют ли Аглая и Фрося помочь роженице? А вдруг нужно будет остановиться? Что же тогда? Дружину на врага повернуть, дабы уберечь Анну от половцев? Да убережёшь ли? Так и так погибель!» — суматошливо мелькало в возбуждённой голове князя.
Вот и кибитка. Возница исправен, и пара коней идёт резво, не нарушая строй воинов. Всеволод поравнялся с кибиткой, спросил возницу:
— Ну как там, Ждан?
— Матушка держится. Ещё крепится, — торопливо ответил Ждан. — Но схватки начались и воды уже отошли, как повернули вспять.
— Воды, схватки! Господи, какие муки! — посетовал Всеволод. Он было вознамерился перебраться на скаку к вознице, а от него — в кибитку, Но князя упредила Аглая. Она видела из кибитки смятенного Всеволода. Откинув войлочную кошму, крикнула:
— Родимый батюшка, ты уж нам не докучай! Да ворогов не допусти к нам. Смертный страх обуял нас! — призналась Аглая.
Княгиня Анна и впрямь почувствовала в душе ужас, как только услышала, что навстречу им идут половцы. На миг представив себе, что с нею будет, ежели она попадёт в руки жестокого князя Акала, старшего сына князя Секала, у неё, казалось, оборвалось сердце. А как только копи повернули в обратный путь и тряска в кибитке от быстрой езды стала нестерпимой, у Анны начались родовые схватки. Не в состоянии сдержать боли, она зашлась криком. Аглая и Фрося перепутались, не зная, что делать. А придя в себя, напоили Анну целебным настоем, а Аглая принялась растирать роженице живот.
Анна немного успокоилась, но страх не покинул её. И лик злобного Акала, словно живой, метался перед её взором. Ещё в те годы, когда Анна была тринадцатилетней отроковицей, юный князь добивался у деда Болуша, чтобы тот отдал Анну ему в наложницы. Однако старый князь дорожил ею. Она для него была больше чем полонянка. Ещё в молодые годы князь Болуш добыл в южном походе иранскую женщину. Она была искусница в лечении всех болей. Но то было не главное. Молодой Болуш не знал хворей и был очень охоч до женщин. Плоть бушевала в нём. Пять жён едва ублажали его. Но с годами силы иссякли, а жажда осталась. Тут-то иранка Осана и спасала его от бесовских мук. Она знала, как заставить мужчину быть сильным в детородной справе. Но с годами и Осана постарела, её руки ослабли и перестали творить чудеса. В это же время в шатрах Болуша появилась россиянка Анна. И прозорливый Болуш отдал в учение Осане девятилетнюю полонянку. Анна оказалась прилежной ученицей и за три года познала многие тайны древней иранской магии. Но больше всего она преуспела в том, чего ожидал от неё Болуш. Руки Анны оказались более искусными, чем у Осаны. И стоило только Болушу занемочь жаждой плоти, как он звал к себе Анну и отдавался во власть искусницы. Она поила его снадобьями, приготовленными по рецептам Осаны, а её умелые руки завершали чудо. Старый князь Болуш забывал о своём возрасте и ублажал себя с самой молодой и горячей из жён.
Анна была благодарна половецкому князю за то, что над нею он не насильничал. Может быть, ему сие и не удалось бы, потому как Осана наделила Анну не только искусством возбуждать мужей, но передала ей и тайну гашения мужской похоти. Позже тем она и спасалась от домоганий молодого князя Акала, когда его дед князь Болуш погиб в сече с черниговцами. Дорогой ценой платила Анна за каждую победу над Акалом. Он становился зверем, избивал её, грозился убить или отдать на потеху воинам. Что сдерживало Акала от крайностей, Анна не знала. Но теперь княгиня была уверена, что, ежели попадёт в руки Акала, ей пощады не будет. И это мешало роженице справиться с тем, что в сей день и час было главным в её жизни. Она никак не помогала младенцу покинуть лоно. Анна кричала от боли, страдала от немощи, потому как страх лишил её силы, так нужной в сей час каждой роженице.
Князь Всеволод продолжал скакать рядом с кибиткой. Он слышат стенания Анны, и его сердце тоже заходилось от боли. Но ему оставалось одно: страдать беспомощно. Иной раз он отвлекался от того, что происходило в кибитке, отъезжал в сторону, окидывал взглядом дружину и видел, что копи идут как должно. И зная, что половцы не в состоянии двигаться быстрее, успокаивался, вновь возвращался к кибитке.
До Киева оставалось четверть поприща, когда из кибитки показалась боярыня Аглая и позвала Всеволода.
— Князь-батюшка, вызволяй из беды, — крикнула она.
В свои тридцать девять лет князь был ещё ловок и быстр. Он подлетел к кибитке и перемахнул с коня на козлы к вознице, с них нырнул вовнутрь.
— Государь, родимый, помоги мне, — услыхал он хриплый зов княгини.
— Князь-батюшка, возьми её за руки, дай вместе с нею волю дитю, — подсказала Аглая.
Он подобрался к Анне, взял её руки и принялся водить ими по животу, нажимая вех сильнее и сильнее, вкладывая в руки Анны всю свою мощь. Всеволод близко приник к лицу Анны и повторял:
— Всё будет лепно, лебёдушка! Мукам уже конец!
Анна отозвалась на ласку, страх улетучился, она поверила, что всё будет хорошо. Ноги её развернулись до предела, лоно разверзлось, и показалась головка дитя. Аглая подложила под неё свои руки. Из лона что-то текло, может быть, кровь, но дитя уже выходило свободно. Вот только пуповина связывала его с матерью, но Фрося её ловко перевязала и обрезала. Ещё мгновение — и Анна освободилась от дитя, слабо простонала и устало откинула голову на кошму. Дитя уже покоилось на чистой холстине в руках Аглаи. В кибитке воцарилась тишина, только стук колёс, только топот копыт доносились до чуткого слуха замерших в ожидании детского плача страдальцев. Ан нет, девочка не плакала. Она открыла глазёнки и загулькала, загулькала. Но всем показалось, что она засмеялась. И стало жутковато: никто из них не слышал, не знал подобного, чтобы дитя не огласило плачем своё появление на свет Божий. И первой пришла в себя Аглая, крестясь, воскликнула:
— Князь родимый, чудеса-то какие! Она смеётся! Ой, страсти нас ждут!
— Да пусть смеётся, — избавившись от оторопи, ответил Всеволод. — Знать, тому причина.
И совсем немного прошло времени, как «причина», по мнению Всеволода, прояснилась. В тот миг, когда княжна Евпраксия появилась на свет, половецкая орда прекратила преследование дружины Всеволода и повернула на Чернигов. Князь ещё и кибитку не покинул, как из хвоста дружины примчался тысяцкий Ивор, спросил у воинов, где князь, и, подскакав к кибитке, крикнул:
— Княже, орда отстала и повернула к Чернигову!
Всеволод выбрался из кибитки, взял за повод коня, ухватился за гриву и перемахнул в седло, спросил Ивора:
— А дозоры идут за ордой?
— Идут, княже!
— Но останавливаться нельзя, мы идём на Киев.
Всеволод знал: половцы коварны. И то, что они прекратили преследовать переяславскую дружину, не давало повода успокоиться и забыть о враге. И дружина продолжала путь к стольному граду, дабы вместе с великим князем Изяславом прийти на помощь Чернигову, где княжил их брат Святослав.
Глава вторая МАРКГРАФЫ ШТАДЕНСКИЕ
Маркграф Нордмарки Удон Штаденский, один из самых могущественных и богатых графов Саксонского дома Германии, был к тому же и прозорливым политиком. Складывая в целое разные мелкие события конца XI века, он пришёл к выводу о том, что совсем скоро, может быть даже в последнее десятилетие века, начнётся распад великой Римско-Германской империи. И виной тому окажется император Генрих IV. Все северные князья Германии были им недовольны за военные поборы и неудачи в войнах, горожанe ненавидели его за непосильные налоги, за то, что силой забирал в войско всех мужчин. С Италией Генрих находился в постоянной вражде, и там главным врагом его был папа римский Григорий VII.
Однако маркграф Удои не особо утруждался тщетными размышлениями о судьбах державы. Он пытался разобраться в личных делах своей жизни. Ещё полный сил и здоровья, деятельный, он был страшно недоволен своим наследником, старшим сыном Генрихом. И вот уже какой год он занимался воспитанием будущего маркграфа Нордмарки. Озабоченность отца была неслучайной. Его старший сын, которому миновало уже шестнадцать лет, появился на свет болезненным, недоразвитым ребёнком. Подрастая, он всё больше внушал опасения, что так и останется убогим. Щёки его никогда не украшал румянец, впалая грудь не позволяла расправить плечи. Он с детства был сутул и походил на старца, был малоподвижен, не любил бегать, потому что быстро утомлялся. Ноги у него были тонкие и до сих пор оставались журавлиными. Однако после десяти лет юный маркграф удивлял всех, кто хоть однажды увидел его. У него сложилось покоряющей красоты ангельское лицо. Ласковые голубые глаза, нежные, красиво очерченные губы, мягкий овал лица, прямой нос, золотистые локоны, ниспадающие на плечи, — всё покоряло. Годные и близкие умилялись лицом Генриха. И лишь отец оставался недоволен им, а слушалось, когда он ненавидел что ангельское лицо. Маркграфу Удону хотелось видеть сына сильным и смелым рыцарем, побеждающим в турнирах. Но увы, об этом отцу оставалось только мечтать.
И всё-таки маркграф Удои мог бы гордиться сыном, хотя бы потому что Генрих рос умным и очень способным к паукам отроком. Он без особых усилий со стороны взрослых в шесть лет научился читать и писать. В семилетнем возрасте увлёкся латынью и через два года читал книги по истории Древнего Рима. Он охотно читал священные писания о житии святых, сам писал хронику текущей жизни. Со временем это дарование сына тоже стало пугать отца. Он не мог допустить, чтобы его наследник избрал себе путь священнослужителя. И лишь только Генриху исполнилось двенадцать лет, как отец отлучил его от всяких книжных занятий и взялся воспитывать в рыцарском духе. Вместо стила он вложил в руки отрока меч и сам обучал владеть этим рыцарским оружием. Но было похоже, что все потуги отца окажутся напрасными. Любой крестьянский мальчишка мог справиться с юным графом с помощью палки, которой гонял по лугам гусей. Маркграф приходил в отчаяние, а порою в ярость, которой был подвержен. Он кричал на сына, и глаза его метали молнии. Но, видя, что отрок лишь смиренно смотрит на него и начинает дрожать от страха, Удон убегал со двора в замок и там набрасывался с упрёками на мать Генриха графиню Гедвигу.
— Подумать только, такая сильная женщина, а родила какого-то журавлёнка! Я его видеть не могу, он меня бесит! Род Штаденов с ним прекратится!
Графиня Гедвига не всегда терпела напрасные упрёки и выпускала коготки.
— Зачем ты меня выбрал? Мы с тобой родня в четвёртом колене. Вот и пожинай увядание рода.
— Что ты говоришь напраслину? А Людигер Удо, этот будущий победитель турниров, разве не наш сын?
Маркграф безнадёжно махал рукой, уходил в трапезную, там выпивал кубок рейнского и взбодрённый возвращался на плац, где в это время с Генрихом занимался старый оцта и бывалый воин Карл. Маркграф спрашивал его:
— Скажи мне, верный Карл, преуспеет ли когда-нибудь наш журавлёнок в военной справе?
— Ваша светлость, ваш сын во всём преуспеет, когда придёт час, — довольно уверенно отвечал Карл.
— Я поверю тебе, когда увижу хоть что-нибудь из рыцарских задатков Длинного. Учи его, учи, старый лентяй! — И Удон садился на большое, грубой работы кресло под деревом, нацеливал свирепые глаза на сына и нетерпеливо ждал, когда тот поднимет меч.
Но Генрих, который стоял в девяти шагах от отца, вместо того, чтобы заняться с Карлом фехтованием, взялся ковырять мечом землю между камнями. Увидев такое кощунство над святым оружием графа Экберта, доставшимся Удону в наследство, он потерял над собой власть.
— Защищайся, негодный мальчишка! — И, обнажив меч, грозно двинулся на сына.
Однако Генриха грудью защитил отважный Карл.
— Ваша светлость, помилуйте! Дайте нам срок, и мы будем биться на равных с любым рыцарем!
Маркграф заскрипел зубами и убрал меч в ножны. Он слишком дорожил своей честью, чтобы размахивать в гневе мечом перед отроком. Покидая плац с низко опущенной головой от тяжёлого разочарования в старшем сыне, ом вспомнил о младшем Людигере Удо, и на сердце стало ещё тяжелей. Людигер подрастал при матери Удона графине Иде. Отдали его на воспитание бабушке не случайно, а по её жёсткому требованию. Лет пять назад старая женщина сказала:
— Вы, Штадены, получите в наследство моё состояние, замок и земли только в том случае, ежели внук мой Удо вырастет при мне.
Маркграф Удон было взбунтовался. Но мать усмирила его:
— Ты забыл, что у меня есть ещё внучка? Всё ей оставлю, ежели не будет по-моему. А теперь уходи, неблагодарный, с моих глаз.
Удон хорошо знал свою мать. В гневе ома была неукротима, и сам он унаследовал её норов до предела. И маркграф смирился с требованием матери, отправил любимого сына Людигера в замок Экберт.
Наступил 1080 год. Маркграф Штаденский с отчаянием признался в поражении: ему не удалось воспитать из тщедушного Генриха отважного рыцаря. И Удон решился на другую крайность. Он счёл, что для сына нужно найти сильной крови невесту. «О, если я найду ему хорошую самку, потомство будет достойным имени графов Штаденеких», — часто повторял Удон. Однако и этой цели Удону не удалось достичь. Сколько он не перебирал имён известных ему князей, графов, ни у кого из них не было дочери, достойной стать женою его стана, ни одна не давала надежды на сильное потомство. А ежели у кого и подрастала крепкая девочка, то по канонам веры брак с нею мог быть осуждён, как греховный, ведущий к кровосмешению.
Как бы потекла далее судьба будущего маркграфа Генриха, никто не мог предсказать, если бы не счастливый случай, как показалось Удону. На Рождество Христово приехала в замок Штаден вдова великого князя всея Руси Святослава Ярославича княгиня Ода. После смерти мужа она через год вернулась из Киева в Гамбург и там в родовом замке жила с сыном Вартеславом в уединении. Маркграфу Удону Ода приходилась дальней родственницей. Встречались княгиня и маркграф редко, как вспоминал Удон, всего несколько раз до замужества и однажды, когда она овдовела и вернулась на родину. Удон не испытывал к Оде нежных родственных чувств. А последнее время даже завидовал, когда узнал, что, покидая Киев, Ода увезла оттуда много драгоценностей и золота. Всё это, говорили, составляло несметное богатство. Добавляли к сказанному, будто бы княгиня Ода столько же закопала в каком-то селении под Киевом, то ли в Берестове, то ли в Василькове. Однако зависть Удона погасла, когда на Рождество Христово Ода преподнесла ему, как он скажет потом, бесценный подарок.
Княгиня Ода, дочь графа Липпольда Штаденского и графини Эльсторн, племянница императора Генриха III по отцу и папы римского Льва IX по матери, была неутомимая, смелая и умная женщина. Ей было около пятидесяти лет, а она жила по законам двадцатилетней девицы. Появившись в Штадене и увидев своего племянника Генриха, она по-русски запричитала:
— Господи, какой же ты болезненный да хилый! Что с тобой делать, как силушкой налить, как выпрямить? — Ода помяла косточки Генриха в своих крепких объятиях. — Нет, нет, таким тебе быть не должно. — И спросила маркграфа: — Братец любезный, искал ли ты своему чаду невесту в восточных землях?
— В каких землях? В Польше, в Богемии? Нет, не искал, — ответил Удон.
— Господи, какие Польша, Богемия! — рассердилась Ода. — На великой Руси — вот где есть невесты для Генриха!
— И кто они, дворовые девки? — в сердцах спросил Удон, потому как бесцеремонность Оды ему не понравилась.
— Однако и дворовые девицы там хороши. Да я твоему наследнику княжну посоветую засватать.
— Княжну? Ну говори, — миролюбиво ответил Удон.
— Истинно княжну. И дочь великого князя к тому же.
— Она не уродина, не перезрелая дева?
— Окстись, братец! — чисто по-русски ответила Ода.
— Ну так поведай! Да садитесь все к столу. И ты, сын, садись, — распорядился Удон. Как все уселись, сказал: — Слушаем тебя, княгиня Ода.
— Она ещё отроковица, предпоследнее дитя князя Всеволода и княгини Анны, внучка великого князя Ярослава Мудрого.
— Но чем она тебя удивила? — спросила графиня Гедвига, зная излишнюю восторженность Оды.
— О боже! Она огонь и соловей, и ангел, и бесёнок, и умная головушка! Всего в ней вдоволь, потому и удивляет. Ей тринадцать лет, и если мы её привезём и год-другой она обвыкнется, речь нашу познает, тогда. — Ода захлопала в ладоши, — тогда, как на Руси, мы будем кричать жениху и невесте «Горько!».
— Остановись, Ода, остановись! — потребовал Удон. — Лучше скажи толком: сколько у великого князя сынов, дочерей?
— Ещё две дочери и два сына. Но княжата, думаю, вас не волнуют, а дочери... Старшая Анна-Янка была просватана за византийского царевича Константина. Они многажды виделись в Киеве, полюбили друг друга, но когда после сговора он вернулся в Константинополь, его насильно постригли в монахи. А средняя дочь замужем тоже за византийским царевичем. Вот и всё.
— Крепко ли сидит на троне князь Всеволод? — спросил Удон.
— Он будет царствовать до заката дней.
— И что же ты посоветуешь делать? — спросила Гедвига.
— Я бы узнала, что думает о том ваш сын.
— Ну полно, полно. Сыну должно слушать и соглашаться с нами, — заметил маркграф и спросил супругу: — Не так ли я мыслю, дорогая?
— Ты всегда прав, государь, — ответила Гедвига. — Но если бы Генриха и спросили, он согласился бы с нашей о нём заботой.
— Я выражаю тебе, Ода, великую благодарность. А теперь подумаем о сватовстве. Русь ведь очень далеко от нас, — размышлял Удон.
Имея в своём характере военную косточку и будучи нетерпелив, он приказал своим придворным готовиться в дальний путь, дабы кто-то другой не опередил его на нуги к здоровой и богатой невесте. Удон счёл, что ему самому следует ехать на Русь. И сын должен быть при нём. Только так, считал он, удастся без проволочек заключить брачный союз с великим князем россов. И только лично можно будет поторговаться за приданое, потому как в другом случае князь может и обмануть.
Однако сборы в путешествие не протекали гладко. И причиной тому оказался император Генрих IV. Сказывали потом, что всё случилось из-за болезненной заносчивости маркграфа Удона. Ещё в первый день сборов в дорогу княгиня Ода сказала ему:
— Ты бы, братец, послал своего духовного отца к епископу в Гамбург за благословением. Дело мы затеяли непростое, невеста православная, и тут могут возникнуть всякие препоны.
— Полно, сестрица, в том нет надобности. Привезём невесту, а там и решим, быть ли ей в католичестве. Да и не пристало мне кланяться преподобному Рейберну. Он во главе гамбургского епископата моими заботами. Как скажу, так и будет.
— Я тебя предупредила, а ты смотри не обмишулься, — скрепя сердце согласилась Ода.
Слухи о сборах маркграфа Удона на Русь какими-то путями всё-таки дошли до епископа Рейберна. Он же, давно избавившись от зависимости маркграфа Штаденского и верно служа императору а ещё по заведённому церковной властью уставу, поспешил в Кёльн и посвятил в это событие Климента III, когда-то избранного волею императора в папы римские. Бывший граф Риберто из Пармы, как духовный отец императора, Климент не мог утаить от него столь важную новость. Он не мешкая явился во дворец и всё поведал о замыслах маркграфа Штаденского Генриху IV и добавил свои размышления по этому поводу.
— Ныне, ваше императорское величество, католическая церковь пребывает в противостоянии с православным арианством. Потому спрашиваю вас, государь: нужен ли сей брак Германской империи?
Генрих, однако, удивился, почему таким вопросом его озадачил антипапа Климент III. Ведь это папа римский Григорий VII был во вражде с греческим патриархом. Сам же Климент III должен искать дружбы с иерархами великой Руси. Ведь это хороший козырь вновь сесть на престол в Риме. И он сказал:
— Мне кажется, святейший, брачный союз с великокняжеским домом Руси для Германии во благо. Вот только кому быть супругом княжны россов, о том надо подумать. — Генрих так и поступил, задумался над возможностью заполучить в Германию богатую невесту. И, будучи человеком особого нрава, дерзнул поставить на место жениха себя. Хотя он и был женат и два сына у него поднимались, но он счёл, что при благоприятных обстоятельствах может посвататься и просить у великого князя руки его дочери. Стоило ему только вновь заявить о своих претензиях и добиться от папы римского благословения на то, чего жаждал уже несколько лет. А жаждал он развода с императрицей Бертой, которую никогда не любил. Однако своему духовному отцу об этих размышлениях он не обмолвился ни одним словом. Тому были особые причины.
Бывший граф, а позже архиепископ Риберто из Пармы только благодаря Генриху IV был однажды избран папой римским. И хотя его избрание сочли незаконным и на престол в Риме вознесли папу Григория VII, Климент не снял тиары и опять-таки благодаря поддержке императора открыл церковный двор в Равене. Озадачив императора вопросом, Климент остался доволен его ответом. Да, Германии нужны светский и церковный союзы с великой восточной державой. Сказал:
— Я надеялся на твою мудрость, государь. Потому нам остаётся подумать: дозволим ли мы маркграфу Удону добиваться расположения великого князя Руси или ты доверишь мне встретиться с ним и с иерархами русской церкви. Думаю, мне придётся назвать князю Всеволоду имя более достойного супруга.
— Ты, святейший, размышляешь достойно. Мы должны заставить маркграфа отказаться от поездки на Русь и от желания заполучить в невесты княжну россов. Потому в Штаден отправится человек, равный Удону — Генрих по важной причине не назвал имени маркграфа Деди Саксонского. Но именно ему он хотел поручить нелёгкое дело в Штадене. — Тебя же, святейший, прошу пока всё держать в тайне.
В этот же день у Генриха была короткая беседа с маркграфом Деди. О чём они говорили, никто не знал, но поздним вечером маркграф в сопровождении небольшого отряда воинов покинул Кёльн.
Когда-то в юности Деди и Удон были друзьями. Оба служили при дворе императора и даже вместе ухаживали за графиней Сузской Гедвигой. Дело дошло до сватовства, но никто из них по доброй воле не хотел отказаться от юной красавицы. Между влюблёнными был поединок, победу одержал граф Удон. Он проявил благородство, сохранил жизнь Деди, но приобрёл себе заклятого врага. Деди не мог простить Удону ни потери любимой, ни своего поражения в схватке, ни милости Удона к себе. Император знал о бывших друзьях всё. И теперь, посылая Деди в Штаден, надеялся, что они завершат своё многолетнее противостояние в его пользу. В своей прозорливости Генрих IV не ошибся.
Искусному в различных переговорах маркграфу Деди на сей раз не удалось добиться желательного успеха. Он всё-таки, отправляясь в Штаден, надеялся мирно упросить Удона отказаться от княжны россов. Но само появление Деди в замке Удона привело последнего в ярость.
— Как он смел появиться здесь? — кричал на камергера барона Саксона маркграф. — Вели ему убираться!
— Но, ваше высочество, он со словом императора, — возразил камергер.
— К чёрту! Не хочу лживых слов ни от кого! — бушевал Удон.
Однако, пока хозяин Штадена распалял себя на бароне Саксоне, маркграф Деди явился в залу, предстал перед Удоном.
— Ваша светлость, ты, как и прежде, любезен выше похвал. И всё-таки тебе придётся меня выслушать, — заявил Деди.
— И не подумаю! Всё сказанное тобою будет лживо.
— Вот уж нет. — И, продвигаясь к своей цели, Деди, явно издеваясь над Удоном, сказал: — Наш император требует от тебя всего лишь отказаться совать свой нос к россам. Стало известно государю, что ты намерен свататься к великому князю, так Генрих сие запрещает тебе.
— Что?! — в яростном гневе крикнул Удон. — Мне, маркграфу Нордмарки, он грозится запретом! Ну так пусть Рыжебородый Сатир догадается, каков мой ответ! — Удон повернулся к стене и схватил висящий на ней меч. — Защищайся! Или я сей же миг снесу тебе голову!
— Не надо пугать, старый козел! Я и сам умею бодаться! — И Деди извлёк меч. — У меня больше желания проткнуть тебя!
— Меня — проткнуть! Ах ты винная бочка!
И маркграфы схватились. Зазвенела сталь. Они долго гоняли друг друга по залу. Удон был по-прежнему искуснее Деди, он теснил его в угол и, загнав туда, нанёс колющий удар в правое плечо. Однако богатыря Деди трудно было свалить лёгким уколом. Он ударил по мечу Удона, ринулся в «пролом» и нанёс ему сильный удар в грудь. Удон перегнулся и медленно осел на пол. Он был жив, и Деди сказал ему:
— Надеюсь, теперь ты не помчишься на Русь, — с тем и покинул замок.
Рана оказалась смертельной. Как ни пытались лекари, коих привезли из Гамбурга, спасти Удона, им это не удалось, и через неделю, в первых числах марта, маркграф Нордмарки Удон Штаденский скончался. Северные князья пытались обвинить фаворита Генриха в убийстве Удона, но свидетель их поединка барон Саксон опроверг это обвинение.
— Ему бы сдержаться и исполнить волю императора, но он поднял меч, — сказал в день похорон барон Саксон в кругу близких маркграфа.
Вскоре же после похорон Удона вдова графиня Гедвига и княгиня Ода отважились исполнить волю покойного и тайно отправили на Русь посланников, а с ними и Генриха, дабы они привезли невесту. Все заботы по сборам в путешествие княгиня Ода взяла на себя, а чтобы дальняя дорога оказалась удачной, Ода отправила в Киев вместе с посланниками своего сына Вартеслава. И в первых числах апреля двадцать всадников и два дорожных дормеза ночью покинули Штаден и умчали в далёкий Киев.
Странным было при этом поведение юного маркграфа Генриха. Или смерть отца на него сильно повлияла, или что-то другое, но он оставался ко всему безучастным. Всё протекало помимо его воли и словно бы не касалось его. Он не обижался на то, что даже теперь, когда он вступил в наследство всего достояния отца, с ним обращались как с малым ребёнком. И может быть, по этой причине он думал о будущей невесте как о каком-то призрачном существе. И он давно забыл, что о ней говорила тётушка Ода. Большую часть пути он проводил в дормезе и даже редко встречался с Вартеславом.
Сын княгини Оды, князь Вартеслав, был лишь на год старше Генриха — разница пустяковая, но он уже казался настоящим воином, способным сразиться с любым врагом. Он лихо скакал на коне, крепко держал в руках меч и копьё, метко стрелял из лука. Когда Вартеслав и Генрих стояли рядом, то сходство у них было в одном: оба белокурые и голубоглазые. Наверное, в том и другом сказывалось влияние славянской крови. Ведь один из Штаденов в роду Генриха был выходцем из Великого Новгорода, а Вартеслав был сыном киевлянина. Во всём остальном они были прямой противоположностью. Вартеслав широк в плечах, прям как свеча, подвижен и ловок. Сильная кровь Святослава и Оды дала крепкий плод. Генрих проигрывал брату во всём и, может быть, по этой причине сторонился его. Вартеслав не докучал Генриху. Если они были в пути, то князь днями не покидал седла. Он уже один раз прошёл этим путём и гордился тем, что мог вести отряд не сбиваясь с дороги. Он вёл спутников по мирным землям. В Венгрии и Польше у него были родственники. И как-то он сказал Генриху:
— Нам везде окажут честь и тёплый приём. В этих державах знают моего батюшку и помнят деда Ярослава Мудрого. Нам и в Норвегии, и в Швеции будут рады, ежели судьба занесёт.
Генрих отмалчивался. После смерти отца он не выходил из угнетённого состояния. Не зная отношений отца с маркграфом Деди, он лишь догадывался, что они сошлись в поединке не случайно и что виною тому прежде всего император. Маркграф часто сетовал: «Батюшка, зачем ты покинул нас?» И у Генриха было основание сетовать и печалиться. Не осталось у него в роду личности, которая бы восполнила утрату. Маркграфа Нордмарки Удона уважали все северные князья Германии. Будут ли они уважать его, Генриха, он того не ведал. Юный маркграф понимал своё назначение: продолжать и укреплять династию Штаденов. Но с горечью приходил к мысли о том, что ни то ни другое ему не дано. Знал он, что юноши в его годы уже умели утолять жажду плоти. Он же ощущал себя пустым сосудом, в коем не было никакого брожения человеческих страстей. Он даже представить не мог своего поведения, когда вдруг окажется супругом юной, горячей особы, камни — это он вспомнил, наконец, — её рисовала огневая тётушка Ода. Иной раз к нему приходила дерзкая мысль: сбиться с пути и исчезнуть где-нибудь в глухом монастыре, надеть монашескую сутану. Однако на пути к исполнению этого желания стояла мать, единственная его любовь. Знал он, что и она любит его всем сердцем. Потому он никогда не отважится чем-либо огорчить её, принести горе. Что ж, решил Генрих, он женится ради матушки и будет достойно нести супружеский крест.
С такими мыслями, не замечая красот окружающего его весеннего мира, юный маркграф Генрих добрался до Киева, дабы встретиться со своей будущей женой, княжной Евпраксией, которой в эту пору пошёл четырнадцатый год. И всё-таки Генрих боялся встречи с огневой девицей. Хотя тётушка Ода и выдавала княжне похвалу в добродетелях, а для Генриха сие оборачивалось угрозой его будущей размеренной и созерцательной жизни.
Однако юному маркграфу нельзя было отказать в уме и даже в изворотливости оного. Ещё не повидав будущую не веслу, он нашёл путь, как избавиться от её докучливости. Генрих был убеждён, что вправе распорядиться судьбой невесты, ежели помолвка состоится и он увезёт её в Германию. С такими побуждениями и появился маркграф Штаденский в стольном граде Киеве.
Глава третья ТУМАН
Много гроз отшумело за минувшие тринадцать лет над Киевской Русью, много воды упекло в Днепре с той поры, как в половецкой кибитке появилась на свет озарённая улыбкой княжна Евпраксия. По воле судьбы её отец Всеволод ещё шесть лет княжил в Переяславле. А после смерти брата, князя Святослава, получил в удел некогда принадлежавшее ему Черниговское княжество и мирно правил там на благо черниговцев два года. И вся жизнь на Руси протекала мирно, пока не вошёл в силу и не ощутил себя обездоленным и обкраденным своими дядьями князь Олег, старший сын Святослава. Собрав в Тмутаракани сильную дружину, позвав в союзники половцев, князь Олег поднял мятеж против великого князя Изяслава и князя Всеволода, который якобы получил в удел Черниговское княжество вопреки Божьей воле и его, Олегову, желанию, и отправился освобождать Чернигов. Коварное нападение Олега застало Всеволода врасплох. Он сумел собрать лишь малую дружину и выступил вместе с сыном Владимиром Мономахом против Олега и половцев. Но был наголову разбит в сече на реке Сожице. Всеволод бежал с семьёй в Киев и пришёл на поклон к старшему брату, великому князю Изяславу.
— Пособи, батюшка, избавиться от дерзкого Олега и половцев.
Изяслав, зная коварство Олега, испугался, что с ним придут на Русь многие беды, и согласился выступить против братенича, наказать его за дерзость и непочтение старших.
И братья Ярославичи двинулись с сильной ратью к Чернигову, встретились с воинами Олега и с половцами на Нежатной ниве близ Сожицы. В упорном сражении они одолели рать Олега и орду половцев, прогнали их с черниговской земли. Но в этой жестокой сече пал от вражеской руки великий князь Изяслав. О славном и добром князе печалилась вся Русь. Престол переходил к старшему сыну Изяслава Ярополку. Но благородный молодой князь отказался от великого княжения в пользу своего дяди князя Всеволода.
С тяжёлым сердцем вступил на престол князь Всеволод. Его одолевала мучительная страсть. Он хотел, чтобы державу не терзали междоусобные брани. И Всеволод добился своего добротою помыслов и дел. Русь, как и при его батюшке Ярославе Мудром, не знала потрясений и процветала. Всеволод по примеру отца много занимался державным устройствам, а все военные заботы по отражению иноземных врагов поручил своему способному и отважному воеводе — сыну Владимиру Мономаху, коему в эту пору миновало двадцать пять лет.
В эти мирные годы и подрастала княжна Евпраксия. Сказывали, что Всевышний подарил Евпраксии достойное её имени занятие — благоделание. И она тянулась к этому прилежно и с радостью. Она любила движение и, подрастая, не знала покоя, обо всех заботилась. Лишь только кто заболеет в княжеских палатах, Евпраксия уже тут как тут. То мазями кого-то растирает, то настоями из трав поит, какие матушка приготовила по заветам иранки Осаны. Перед самым появлением послов из Германии князь Всеволод простыл на пути из Чернигова в Киев, в пояснице разогнуться не мог. Так Анна вместе с доченькой взялись его лечить. Их чуткие руки нашли замершие от холода позвонки и оживили их, дали им новую жизнь. Да и ко времени.
Примчали гонцы с западных порубежных земель с вестью о том, что в Киев идёт германское посольство, а цели его гонцы не проведали. Великий князь два дня голову ломал: какая нужда у германцев возникла, чтобы на Русь послов отправлять? Да прежде всего подумал, что вдовствующая княгиня Ода надумала вернуться в Киев, за милостью послов гонит. Этой бойкой вдовице, считал Всеволод, что на ум взбредёт, то она и исполнит. Но, в мелочах осуждая Оду, он относился к ней доброжелательно, любил с нею поговорить на её родном языке. Он же, образованный собеседник, всегда Оде был любезен.
Дальше Оды мысли Всеволода не продвинулись. А о том, что из Германии могли нагрянуть сваты, у него и на уме не было, потому как старшие дочери давно определили свою судьбу, а младшая, Евпраксия, ещё не невестилась. В это покойное для великого князя время он часто вспоминал завещание батюшки, который наказывал сыновьям перед кончиной, чтобы пеклись о своих чадах так, как пёкся он. И Всеволод усердно выполнял завет Ярослава Мудрого. Он дал образование старшему сыну Владимиру. Оно хорошо помогало ему во многих военных делах, он преуспевал в победах и подвигах. Природный ум и дарование вкупе с науками позволили Мономаху в будущем создать мудрое и достойное великого человека «Поучение», написанное для своих сыновей, но полезное для всех россиян. Дочери Всеволода Анна-Янка и Ефросинья тоже были обучены им достойно. Теперь и младшие дети Всеволода успешно посягали грамоту и науки. Тут и княгиня Дина оказывала князю помощь. Вторая жена Всеволода, по мнению тех, кто не знал её, была проста и бесталанна. Но все они ошибались, как и летописцы той поры, утверждая, что она была половчанка или куманка. Князь Всеволод был достаточно искушён, чтобы по достоинству выбрать и оцепить женщину, кою надумал взять в супруги. Как бы она ни была красива, сие не завлекло бы соединить свою судьбу с полудикой степнячкой. И утверждение о расчёте Всеволода породниться с половцами ради мира не имело под собой почвы. Он знал, что никакое родство-кумовство не остановит половцев от набегов на Русь. Их коварство было безгранично. Даже женщины страдали этим. Слово «честь» им было незнакомо. Чего никак нельзя было сказать об Анне. Она дорожила честью, выше всяких похвал. Двадцать три года, прожитые Всеволодом с Анной, показали, что рядом с ним стояла женщина, достойная величия. Киевляне знали её как добрую и заботливую государыню, их беды были всегда близки ей. Она не держала втуне тайны иранского врачевания и щедро помогала больным и страждущим. А чисто русская, не броская, нет нежная красота Анны дополняла её душевный мир. За всё это Всеволод и любил свою «полонянку». И детей, нажитых с Анной, Всеволод любил сильнее, чем Янку и Ефросинью, которые пошли характером в матушку и отличались высокомерием и холодностью. Всем они давали знать, что есть внучки императора Византии Константина Мономаха.
Размышляя о близких, великий князь и в помыслах не мог увидеть какой-либо повод о скором изменении судьбы своей младшей дочери Евпраксии. И в тот час, когда в Киев прибыли германские посланники, Всеволод с дочерью и сыном Ростиславом были в книгохранилище храма Святой Софии. Появление там князя Вартеслава было для Всеволода полной неожиданностью. За прошедшие годы со дня отъезда из Киева Вартеслав возмужал, и было трудно узнать в молодом воине худенького подростка.
— Дядюшка Всеволод, я так спешил увидеть тебя, что не дождался в теремах! — горячо произнёс Вартеслав, появившись в дверях.
— Братенич! Экая радость! Да какой ветер тебя занёс? — удивился Всеволод. — Я знаю, что к нам идёт германское посольство, но о тебе гонцы не передавали.
— Это я не велел им того говорить. А теперь вот удивил тебя, дядюшка. — И Вартеслав низко поклонился великому князю.
Всеволод шагнул к нему и обнял, но спине похлопал.
— Вижу, добрым молодцем поднялся. Теперь подивись на моих молодых. Евпраксия скоро заневестится. И Ростислав крепким молодцем растёт.
Вартеслав погладил по плечу Евпраксию, а на большее не отважился. Она улыбнулась, сказала ласково:
— Ах, братец, я ведь не киса. Сколько не виделись. Мог бы и... — Да сама и поцеловала Вартеслава в щёку. — Ты нам любезен.
Когда Вартеслав потискал за плечи одиннадцатилетнего Ростислава, великий князь спросил его:
— С чем пожаловал, братенич? Кто послов привёл?
— Так по воле матушки я и привёл. А какая справа у них, то особый разговор, князь-батюшка.
Всеволод вспомнил: когда брат Святослав три года стоял великим князем и Ода была при нём, послы из Римско-Германской империи часто наведывались к ним. И даже помощь от имени императора предлагали, ежели против Польши нужно будет идти. И вот уже пять лет они и носу не показывали на Русь. А и появились, так не от имени государя, а по воле княгини Оды. Оказия! И Всеволод понял, что ежели намерен что-то узнан, от братенича, то должен поговорить с ним с глазу на глаз. Он подумал, что прочие гости подождут, коль главный посланник здесь. Отправив Евпраксию и Ростислава в храм, где шла служба, он сказал Вартеславу:
— Теперь, братенич, поди скажешь, с чем пожаловал. — Всеволод усадил племянника к столу на котором лежали раскрытые рукописные книги, сам сел напротив.
— Скажу, князь-батюшка, токмо пусть сказанное не будет для тебя громом среди ясного неба.
— Ничего, к грозам привычны. Уж не с матушкой ли твоей что случилось?
— Нет, дядюшка, матушка здравствует и бойка, как молодица.
— Вот и слава богу. Тогда выкладывай.
— Начну издалека. Есть у матушки сродники в германских землях Саксонии. И старшего из них, маркграфа Удона Штаденского, государем величали. Да так и было. Дядюшка Удои стоял вторым вельможей близ императора. Однако нонче весной преставился, и вся полнота власти перешла к старшему сыну Генриху Штаденскому, коему минуло шестнадцать лет. На домашнем совете моя матушка и его, графиня Гедвига, сошлись во мнении, что Генриху пора искать невесту, и матушка посоветовала отправить послов к тебе, дядюшка, и просить, чтобы отдал Генриху дочь свою Евпраксу. Вот и весь сказ.
Громом среди ясного неба исповедь Вартеслава не прозвучала для Всеволода. И всё-таки он был удивлён тому, что услышал. Больше того, Вартеслав его озадачил. Было известно ему, что отношения между православной и католической церквями в последнее время стали враждебными. И глава русской церкви митрополит Иоанн не раз с амвона Софийского собора читал поучения — «Церковные правила», в каких он «ревностно осуждал обыкновение Князей Российских выдавать дочерей за Государей Латинской веры». Не хотелось мягкосердому и благочестивому князю идти встречь митрополиту Всея Руси. И потому он не знал, что ответить на услышанное от Вартеслава. Но чтобы не уронить великокняжеского достоинства и не посеять в душе юного посла смятения, сказал:
— То, любезный братенич, присказка к сватовству, а само оно впереди и суть его проявится, как жениха увидим.
— Так я привёл его на Русь, дядюшка, — поспешно заявил Вартеслав. — Ждут и жених, и посланцы твоей милости на княжьем дворе.
И вновь Всеволод был озадачен. Коль жених здесь, то предстоит ему и решения принимать однозначные: или с митрополитом остаться в ладу, или послов не лишить надежды. А третьего и не дано. «Ах, Ода, Ода, как ловко всё придумала, как бойко всё в движение привела», — посетовал Владислав и встал из-за стола.
— Коль так, братенич, иди в терема. Токмо прошу тебя: никому из моих ни слова о том, зачем прибыл на Русь. Ни слова!
— Но почему, дядюшка? — спросил Вартеслав.
— Пока не скажу. И не торопи. А теперь иди, я же в храм зайду. — И князь ушёл.
Конец апреля был жарким, солнечным. Всё в природе уже пробудилось к новой жизни. Киев утопал в зелени и цветении садов. Германские посланцы в ожидании великого князя сбились в кучку близ гридницы. Их конные воины и возницы с дормезами были отправлены на хозяйственный двор. Маркграф Генрих созерцал великокняжеские палаты. Тут было на что посмотреть. Ярослав Мудрый в последние годы жизни перестроил всё подворье. И теперь на месте деревянных теремов возвышался каменный дворец, украшенный многими диковинными для чужеземца башенками, рустами, маркизами, наличниками из византийских изразцов и мрамора. Маркграф Генрих ценил красоту и, несмотря на юный возраст, понимал в ней толк. Ему нужно было с кем-то поделиться своими впечатлениями, и он заговорил с «прилипшим» к нему от самого Штадена епископом Фриче:
— Ваше преосвященство, посмотрите, как всё легко, изящно и весело. Поистине искусные мастера творили сие чудо.
Епископ Фриче не разделил восторга беспечного маркграфа. Он что-то недовольно буркнул и отвернулся от Генриха. Сухое лицо Фриче, его холодные глаза, сжатые в ниточку губы — всё выражало крайнее неудовольствие, а в его душе бушевало пламя гнева. Изначально он был недоволен затеей княгини Оды, которая втягивала маркграфа в водоворот страстей и грехопадения, за гранью которых — ересь. Фриче был сторонником папы римского Григория VII, который считал православие кладезью пороков. И согласие сопровождать маркграфа на Русь он дал по одной лишь причине, которая составляла тайну папского двора. Часть своей задачи Фриче уже выполнил. Никто из сторонников антипапы Климента в посольство Генриха не попал, потому как Фриче настоял на том перед матерью его, графиней Гедвигой. Знал он, что антипапа и император ищут дружбы с могущественным восточным соседом. Они даже рассчитывают получить поддержку и помощь в борьбе против престола Римско-католической церкви. И теперь ему надлежало разрубить все пути к этой дружбе. И первым делом он должен был расстроить сговор о помолвке. Как он это сделает, Фриче пока не знал, но уповал на Бога. Однако, не зная тайных замыслов императора, епископ Фриче невольно становился его пособником. Ведь император тоже хотел, чтобы брак маркграфа и княжны не состоялся.
Той порой на княжеском дворе шла большая суета. Важно куда-то спешили бояре, туда-сюда мелькали служилые люди, бегали челядинцы, холопы. Со двора в город укатила колесница, запряжённая четвёркой серых, в яблоках, лошадей. Чужеземные посланцы чувствовали себя на дворе как-то неуютно, словно о них забыли. К тому же и князь Вартеслав будто сквозь землю провалился. Той порой на дворе появились многие горожане, откровенно глазели на чужеземцев. Самые бойкие из них показывали на маркграфа пальцами и смеялись. Генрих смутился, спросил Фриче:
— Святой отец, как здесь принимают послов? Почему о пас забыли?
Епископ не ответил Генриху, но позвал маркграфского камергера и со злостью сказал ему:
— Барон Вольф, позаботьтесь о его светлости. Идите во дворец и потребуйте внимания.
Молодой барон, крепкий, широкоплечий воин, светловолосый и, как Генрих, голубоглазый, с мечом на поясе, вытянувшись перед епископом чётко ответил:
— Всё исполню, как приказано! — и поспешил к Красному крыльцу.
В это время на княжий двор въехал Вартеслав, спешился. Увидев барона Вольфа, крикнул ему:
— Вольф, подойди ко мне!
Барон подбежал к князю.
— Ну что, терпение потеряли? А напрасно. На этом дворе видели императорских послов, и они днями ждали своего часа, дабы встретиться с великим князем. Знай: так принято.
К Вартеславу подошёл молодой боярин из придворных князя, сказал:
— Ты, княже Вартеслав, веди послов в баню. Сам знаешь устав. А как помоются да отдохнут с дороги, там и позовём узреть великого князя.
Вартеслав знал обычаи великокняжеского двора, согласился:
— И я о том им сказал, боярин Василько. — И направился к посланцам. По пути крикнул на любопытных: — Что рты раззявили! Вот я вас плетью ожгу!
Вартеслав не показал виду пи маркграфу, ни его спутникам, что встреча с великим князем оказалась не такой, на какую надеялся. Понял он, что дядюшка в том неповинен и гнетёт его нечто неподвластное ему Знал же молодой князь, что и он ощущает на своих плечах тяжесть какой-то скрытной силы. Вон как смотрит на него епископ Фриче. И весь путь от Гамбурга до Киева держал молодого князя под прицелом своих свинцовых глаз. А зачем? Его матушка прожила на Руси многие годы, а ведь никто не попрекнул её за то, что она была католичкой. «Господи, что же делать? Я не хочу, чтобы моё посольство обернулось неудачей. К тому же и Евпракса нужна Генриху. Только она вдохнёт в него жажду жизни», — размышлял князь, одолевая всего-то пятьдесят сажен по княжьему двору, столь близкому с детства.
В этот лень князь Всеволод вовсе не появился в своих палатах. Потому и не позвали иноземцев ни на трапезу, ни нa беседу. Отправив на княжий двор Вартеслава, он следом же послал зуда расторопного стременного Власа, наказал ему передать дворецкому, чтобы послов держали в чести и холе. А как прикатила колесница, усадил в неё Евпраксию и Ростислава и укатил с ними в великокняжескую вотчину Вышгород. Туда же велел приехать митрополиту Иоанну, с которым у него предстоял трудный разговор. Трудный потому, что Иоанн был родом грек и занимал престол церкви не по воле русичей, а вопреки. Он был прислан из Царьграда лет десять тому назад, как раз в ту пору; когда вражда между Римом и Царьградом готова была разрешиться небывалым кровопролитием. Тогда папа римский Александр II грозился поднять на Константинополь всю Римско-Германскую империю и проч Европу и добиться признания главенства в христианском мире Римской церкви и его, наместника Иисуса Христа, власти. Но объединить усилия всех католиков Европы против православных христиан Византии, Киевской Руси и других государств папе Александру II помешал антипапа Гонорий II, ярый противник Александра II и конклава кардиналов.
Однако и в Константинополе угрозы Рима никого не испугали. Там были уверены, что православный христианский мир под защитой самого Вседержителя.
И все главы поместных церквей, поставленных Константинополем, строго следили за тем, чтобы ничто не нарушило сплочённости православия. Одним из самых рьяных защитников единства православия был митрополит Иоанн. По мнению князя Всеволода, этот архиерей жизни не пощадит, дабы не допустить раскол в православном христианском мире. И теперь, когда посланцы из Германии, а с ними и жених прибыли в Киев свататься за его дочь, Всеволоду было над чем задуматься. Он ещё не решил, отдаст ли Евпраксию за маркграфа, но был склонен к тому, чтобы выдать её замуж за кого-либо из княжеских или королевских особ Запада.
Митрополит Иоанн появился в Вышгороде на вечерней заре. Знал Всеволод, что служба закончилась давно и он мог бы приехать раньше. Ан пренебрёг просьбой князя. Вид у него был суровый, чёрные глаза смотрели на князя хмуро. Появившись перед великим князем в трапезной, он вполруки благословил Всеволода, нечто буркнул и спросил:
— Сын мой, какой службы ты просишь от меня?
Князь Всеволод, пока ждал митрополита, о многом передумал и настроился решительно постоять за свою великокняжескую власть, не отдавать её на попрание священнослужителю, но попросить его не затевать ссоры, не глаголить всуе великокняжеское имя с амвонов храмов, как запятнавшего честь православия. «Того не будет», — решил Всеволод и ответил митрополиту:
— Отче владыко, служи токмо во имя великой Руси. Я же хочу от тебя малого. Испокон государи державы были вольны в своих деяниях. Я прошу у тебя совета. Пришли к нам в стольный град послы иноземные из Германской империи, ведаю, что хотят просить руки моей дочери Евпраксии. Я же готов отдать её, ежели ей будет любезен жених. Вот и подумаем вместе, как всё свершить без ущерба нашей вере.
— Скажу, сын мой, что ты волен в своих деяниях, ежели их благословляет Господь Бог. А поскольку ты позвал меня, то в тебе живёт сомнение о благословении Божьем. Как же я могу давать совет вопреки воле Всевышнего?
Иоанн сел к столу и взялся вкушать пищу. Ел споро, мёду крепкого выпил. Всеволод не раз замечал, что святой отец страдал чревоугодием. «Да и пусть его, коль впрок», — отмахнулся князь. Он не хотел обострять отношения с митрополитом. Сказал миролюбиво:
— Знать, в молитве был не усерден, ежели Господь не услышал меня. Ты же слуга Божий, вот и ободри своего князя.
Управившись с куском говядины, митрополит вновь не внял просьбе Всеволода. А выпив кубок медовухи, жёстко сказал:
— Не нахожу слов ободрения, сын мой. Ныне ты дщерь свою извратникам веры христианской отдаёшь, а завтра под костёл им землю бросишь. Как православию не быть поруганным?
Не стерпел великий князь сказанного. И углубил межу между собой и митрополитом. Да не пожалел о том.
— Я живу по законам моих отцов и дедов. Тебе, греку, того не понять, а должен бы, коль служишь на Руси.
Разговор с митрополитом всё больше походил на баталию. Иоанн, защищая интересы Византии, стоял на своём. Всеволод, отстаивая право великих князей на вольное от церкви управление державой, её политикой, её достоянием, упорно защищал древние устои. Исчерпав все доводы, Всеволод сказал последнее:
— Коль так, отче владыко, завтра же соберу думу и вече. Их приговор и будет законом.
Всеволод умел в роковой час проявить мужество и смелость перед лицом любой опасности. Так уж он был воспитан своим батюшкой Ярославом Мудрым. И митрополит Иоанн понял, что никакими увещеваниями и никаким противостоянием ему не одолеть великого князя, думу и вече, которые стояли за ним. Расправившись с половиной дрофы и запив её кубком медовухи, Иоанн встал и смиренно сказал:
— В тебе, сын мой, живёт истинное величие державного государя. Аминь. — Он откланялся и покинул трапезную, вышел из палат. На дворе стояла его колесница, он сел в неё и велел вознице катить в Киев.
Князь ещё посидел некоторое время в одиночестве, бороду пощипал, оценивая с разных сторон беседу с митрополитом и, придя к выводу, что владыко всё-таки не прав, протестуя против великокняжеских уставов, поднялся из-за стола и медленно направился в светлицу к дочери Евпраксии. Теперь он должен был сказать ей о тех переменах в её судьбе, кои ждут её, ежели ей приглянется жених.
Княжна и княжич играли в какую-то игру, кою сами и придумали. Они весело смеялись, кричали, бегали по покою. Когда же на пороге появился отец, замерли и вместо поклонились ему.
— Батюшка, не вини нас, что резвились, — сказала Евпраксия — Занятно было.
Всеволод подошёл к Ростиславу, коснулся его густых русых волос.
— Иди, сынок, спать, а у нас тут важная справа.
Ростислав ушёл. Князь сел у оконца на скамью, застеленную алым бархатом. Солнце уже садилось за дальним лесом. Его низкие лучи через венецианское стекло заливали светлицу розовым светом. Евпраксия стояла напротив отца, вся освещённая солнцем. Большие серые, как у матушки, глаза играли помимо её воли, на розовых губах застыла улыбка. Руки её теребили косу, которая лежала на груди, уже обозначивающей девичью прелесть.
— Слушай батюшку со вниманием, отроковица. Почему я увёз тебя из Киева? Да потому что Вартеслав привёз в стольный град послов германских и жениха с ними кровей королевских, именем маркграфа Генриха. Вот и хочу знать, родимая, как ты исполнишь волю батюшки?
Краски на лице Евпраксии поугасли, и ома покорно ответила:
— Мне ли тебе перечить, батюшка. Только ведь я недолетка и в семеюшки не гожусь.
— Верно. Да подрастёшь до венчания. Так уж ноне в Европах принято.
— Глянуть бы глазком, батюшка, кому служить буду.
— Глянешь. И приневоливать не сочту нужным, коль душа лик его не примет. Ведомо мне, что за жизнь с несердешным.
— Родимый батюшка, вечно молю Бога за твоё милосердие ко мне. Я же токмо любовью могу отплатить тебе. — И Евпраксия шатнула к отцу, опустилась на колени, припала грудью к его ногам. Но смотрела на отца по-прежнему весело играющими глазами.
«Господи, ты и на смертном одре останешься горящей свечой», — подумал Всеволод и приласкал дочь.
В Киев они вернулись уже в густых сумерках майского вечера. На теремном дворе было пустынно. Лишь стражи несли службу да двое княжиих мужей то ли ждали великого князя, то ли праздно вкушали майскую благодать. То были воевода Богуслав и дворецкий Василько.
— Князь-батюшка, послы-то заждались, — сказал Василько, подойдя к Всеволоду. — Да нетерпеливы уж больно.
— Подождут. Одним днём большую справу не решают. — Он посмотрел на колесницу, увидел, как из неё вышла Евпраксия и убежала во дворец. Спросил дворецкого: - Жениха-то рассмотрели?
Однако ответил воевода Богуслав.
— Высок и худ, аки жердь, — усмехнулся он. — А ликом - ангел.
Всеволод шевельнул плечами, зевок рукой прикрыл, сказал обыденно:
— На покой пора, — и направился к красному крыльцу.
Однако из гущи сумерек от гридницкой появилась фигура в чёрной сутане, и князь услышал ломаную речь, какую с трудом разобрал:
— Великий государь, выслушай слугу папы римского и избавь себя от кары Божьей.
Всеволод повернулся к дворецкому, спросил:
— Зачем ему нужен великий князь? Знаешь же: так не должно быть!
— Помилуй, князь-батюшка, я уже его отваживал от палат. Да речёт, что тайну принёс.
— Он кто?
— Епископ Фриче.
— Отведи его в гридницкую. А я, как управлюсь, приду. И ещё: попроси Богуслава побыть при нём, а сам позови ко мне Вартеслава.
Князь Всеволод поднимался в покои медленно. Нынешний день продолжал удивлять его неожиданностями. Какие силы стоят за теми, кто привёл на Русь сватать его дочь? Кто явился с чёрным умыслом? Какая роль в этой игре у маркграфа, у епископа? На все эти вопросы нужно было найти ответы и уж тогда решать судьбу дочери. Да и нужно ли спешить? Может, пусть подрастёт дома, а не на чужой стороне? Как жаль, что не дал ей знать немецкую речь. С такими мыслями Всеволод вошёл в покой, где принимал гостей и послов.
Вартеслав прибежал скоро. Похоже, что спать ещё не собирался. Поклонился, спросил:
— Какая нужда во мне, дядюшка?
Покой освещался слабо, лишь на столе горел сальник. Князь сел близ него, подозвал Вартеслава:
— Встань здесь. — Сальник осветил лицо князя. — Говори как на духу, братенич, есть ли чёрные умыслы в вашем посольстве?
— Мне они неведомы, дядюшка.
— Но добивается со мной беседы ваш епископ! Зачем?
— Может, на меня навет несёт. Я ему неугоден. И матушка — тоже.
— Почему?
— Уехав с Руси, мы не взяли католичества, но остались к православной вере. Он принуждал нас, но мы устояли. Вот и...
— А жениха касаемое есть?
— Да, дядюшка. Но много скрытного в том и я не свёл.
— Так говори, что ведомо. Да сядь рядом.
Вартеслав опустился на скамью.
— А ведомо мне вот что. Когда матушка рассказала маркграфу Удону, отцу Генриха, о Евпраксе, он загорелся и сказал, что поедет на Русь сам. А пока собирались в путешествие, из Кёльна примчал маркграф Деди Саксонский, который одесную у императора стоит. С Удоном он был во вражде, какую весть привёз, никому не ведомо. У них возникла ссора, они схватились за мечи, и маркграф Деди смертельно ранил маркграфа Удона. Через неделю он скончался. Как похоронили, от нас из Гамбурга явился в Штаден епископ Фриче. Он же любим папой римским Григорием. Епископ встал при маркграфе Генрихе, и никто не посмел от него отделаться. И вот Фриче здесь...
— Дивно. И всё словно в тумане, — тихо молвил Всеволод. И спросил: — Что ещё у тебя?
— Одно осталось сказать, дядюшка, ежели как на духу.
— Выкладывай, чего уж...
— Когда батюшка умер и матушка собралась уехать в родную землю, оставила она в Предславине кой-какое добро и украшения драгоценные. Теперь же просила меня взять схороненное.
— И возьмёшь, потому как матушкино. Тебе же спасибо, что не сокрыл от меня ничего. Теперь иди ко сну. Да скажи Василько, чтобы того епископа проводил в отведённый ему покой. Зреть его нет желания.
Вартеслав ушёл, Всеволод остался на месте, но недолго пребывал, как он выразился, в густом осеннем тумане, из коего просто так и не выберешься. Да знал великий князь, как одолеть туман: всего-то дождаться восхода солнца. Его потянуло к Анне, дабы поделиться душевной маетой, ощутить ласку её волшебных рук, понежиться и потешиться, а там забыться в безмятежном сне, потому как Анна избавит его от каких-либо сердечных терзаний. Опочивальня Анны была покоем выше, и Всеволод поспешил к своей «полонянке».
Глава четвёртая ВЕЧЕ
Утром епископ Фриче добился своего и предстал перед великим князем, когда тот вышел на трапезу. Но не этому удивился великий князь, а тому, что рядом с ним стоял митрополит Иоанн. «Дивно! И когда это они успели сойтись? И зачем, если Иоанн нетерпим к католикам?» — подумал Всеволод и спросил Иоанна:
— Разве я звал тебя, владыко?
— Нет, сын мой, не знал.
— Ладно, ведаешь же, что тебе путь в терема не заказан. Но зачем привёл иноземного пастыря?
— Каюсь, сын мой государь, но скрытное он принёс тебе.
Всеволод задумался, посмотрел на иереев, пригласил их к столу:
— Ну что ж, садитесь. Вкусим пищи и поговорим о скрытном.
Иоанн первым успел к столу, сел справа от Всеволода. Какое-то время все молча трудились над пищей. Потом князь спросил епископа по-немецки, о каком скрытном деле он собирается поведать. Епископ Фриче крайне удивился, услышав родное слово, произнесённое чётко и без искажения.
— Я слушаю вас, святой отец. Владыко мой духовный пастырь, и между нами нет ничего скрытного.
— Мне приятно о том слышать, — ответил Фриче. И продолжал: — Долг мой сводится к тому, чтобы предупредить тебя, государь, от беды. Не отдавай свою дочь маркграфу Штаденскому.
— Но почему? Я не вижу помех к нашему союзу с вашей державой.
— Семья и род Штаденов в опале у императора. И смерть маркграфа Удона не случайна. За этой первой жертвой последуют другие. Генрих Четвёртый, уже отлучаемый от церкви, заслуживший прозвище Рыжебородый Сатир, коварен и жесток, — продолжал Фриче, не спуская цепких и холодных глаз с лица Всеволода.
Великий князь подумал, что святой отец находится под крепкой защитой папы римского, ежели позволяет себе так вольно отзываться об императоре. Фриче продолжал:
— А теперь скажу то, что касается только вас, государь.
Князь почувствовал себя смущённым, но собрался с духом и попросил Иоанна удалиться:
— Да не уходи далеко, владыко. Я тотчас тебя позову.
— Митрополит ушёл. Князь строго сказал епископу:
— Говори, святой отец, да не мешкая. И чтобы никакой лжи.
— За правду целую крест. — И Фриче поцеловал нагрудное распятие.
— Слушаю.
— В вашу землю пришёл князь Вартеслав. Да известно мне, что с чёрными умыслами. В замке Штаден я стал свидетелем разговора княгини Оды и её сына. Она наставляла его, как похитить, сокровища киевских князей. Сказывали раньше, что когда Ода покидала Россию, то собрала такое множество драгоценностей и золота, что с собой могла увезти только часть. А прочее закопала в надёжном месте. Но чтобы скрыть следы, она велела убить рабов, кои закапывали сокровища.
«Ложь! Не было убийств в дни отъезда Оды», — отметил Всеволод. И порадовался тому, что Вартеслав во всём упредил Фриче. Он верил простодушному племяннику больше, чем расчётливому епископу, и сказал довольно жёстко:
— Святой отец, ты неугоден мне! И пока германские гости здесь, не хочу тебя зреть.
— Но почему, великий государь? — поднявшись из-за стола, спросил Фриче. — Только правда в сказанном мною.
— Тысячу вёрст ты нёс камень за пазухой! И кого ударить надумал, отрока, аки овцу невинную! Вместо того, чтобы настроить к подаянию. Да и на княгиню Оду наговор несёшь: на чужое добро она не позарилась! Она была великая княгиня — и тем всё сказано.
— Помилуй, великий государь. Я только предупредил и о сокровищах, и о том, что ждёт вашу дочь за маркграфом Штаденским.
— Вот как увижу маркграфа, тогда скажу: быть ли княжне Евпраксии несчастной. — И Всеволод позвонил в колокольчик. Появился дворецкий Василько, и князь сказал ему: — Проводи святого отца в его покой. Да не давай ему воли и ко мне не пускай.
— Исполню, князь-батюшка. — И Василько указал Фриче на дверь.
Лишь только они скрылись, в трапезную как-то боком вошёл митрополит Иоанн. А следом — боярин Богуслав. Всеволод, ire удостоив Иоанна вниманием, сказал Богуславу:
— В полдень позови в тронную залу жениха со сватами: смотрины будут. А после обедни ударишь в колокол вечевой. Да чтобы думные бояре на то вече пришли.
— Так и будет, княже, — ответил прежний воевода, а ныне первый боярин при великом князе.
Едва Богуслав ушёл, как Всеволод спросил Иоанна:
— Владыко, ты всё ещё упорствуешь?
Ответ его был полной неожиданностью для князя.
— Ночью помолился и подумал о многом. Два века Русь делится своими жёнами без ущерба вере. Выдавай и ты в немецкую землю свою дочь, ежели всё прочее сойдётся.
— Спасибо, духовный отец.
— Мысли мои утвердились в том, что раба Божия Евпраксия не уронит чести православия. Дух её крепок, как и у тебя с великой княжной.
— Скажешь теперь, что и вече нет нужды созывала»?
— Не скажу. Пусть сойдутся кияне и утвердят наше стояние.
— То верно. А ведомо ли тебе, чего добивался епископ Фриче?
— Нет, государь, не ведаю. Но ваши речи были жёсткими и потому догадываюсь...
— Так и было. Но об этом полом.
В полдень в тронном зале собрались многие княжьи мужи, бояре, воеводы, дабы была, очевидцами сватовства и помолвки княжны Евпраксии. Как уселись великий князь с княгиней на свои места, подошли к ним дворецкий Василько и боярин Богуслав.
— Великий князь, великая княгиня, сватов привели, и жених с ними, — доложил боярин Богуслав.
— Веди на глаза, — повелел Всеволод.
Богуслав направился к двери, в ладони хлопнул, и тотчас двери распахнулись, в зале появились Вартеслав, Генрих, камергер Вольф и камер-юнкер Саксон. В роли главного свата выступил князь Вартеслав. Он низко поклонился Всеволоду и Анне, потом направо и налево всем придворным мужам и повёл речь:
— Великий государь всея Руси, великая княгиня, пришли к вам из германской земли купцы. Прослышали они, что товар добрый у вас в теремах бережётся. А вот и главный купец, — князь показал на жениха, — маркграф Нордмарки Генрих Штаденский, роду королевского. И просит он показать тот товар — красну девицу, — ежели государь и государыня сочтут сие возможным.
Слушая Вартеслава, Всеволод не спускал своих зорких глаз с Генриха. Удивил жених будущего тестя ростом почти трёхаршинным. «Эко вымахал!» И худобе его князь подивился. Но дольше всего он рассматривал лицо жениха. Как Вартеслав и говорил, оно и впрямь было ангельским, будто сошло с фрески Софийского собора, написанной искусным византийским живописцем. Всё в лице Генриха умиляло: и кроткий взгляд больших голубых глаз, и мягкая, светлая улыбка. «Господи, да вот же она — красна-девица. И что там Вартеслав просит... Да будет ли он мужем когда?»
— Говори же, братенич, чем знаменит твой отрок? — обратился Всеволод к Вартеславу.
— Род графов Штаденских знаменит многими подвигами. Они владеют огромными землями, многими замками. Их могущество уступает только императорскому. Но недавно маркграф Генрих осиротел и потерял батюшку. Матушка графиня Гедвига вдовствует и надеется получить от вас, государи, славную невестку.
Всеволод и Анна переглянулись.
— Что ты скажешь, матушка-государыня? — спросил князь Анну.
Желания Анны оказались противоречивыми. До восемнадцати лет она прожила среди полудиких племён, видела зверские лики. И потому её потянуло прикоснуться к ангельскому лицу жениха, приласкать его по-матерински. Но что-то отталкивало её от немощного отрока, который никогда, поди, не возьмёт в руки меч, дабы защитить ближнего, свой дом, свою державу. И она милостиво отдала право выбора дочери, сказала то, что могла пожелать своей дочери любящая мать:
— Ты, князь-батюшка, положись на Евпраксу. Сказывал же, что в этих теремах так уж повелось с дедушки Владимира, что княжон не неволили.
— Хорошо помнишь предание, спасибо. Не будем и мы неволить Евпраксу, — ответил Всеволод. У него тоже впечатление о маркграфе раздваивалось. По его мнению, рядом с крепким Вартеславом Генрих был похож на цаплю, однако князь никогда не судил о человеке по его внешности. Умный муж, свободно владеющий пятью языками, прочитавший много мудрых книг, он прежде всего ценил в человеке духовный мир, его ум. И тут не разглядишь человека походя, как коня на торгу, с ним надо душевно поговорить, чтобы раскрыл свои тайники, показал, чем богат, а прежде всего — розмыслом. И счёл Всеволод, что нужно будет найти время посидеть с маркграфом вдвоём. Всё, по eгo мнению, шло к тому, что дом Рюриковичей породнится ещё с одним именитым домом Западной Европы.
Так примерно думала в эту пору и княжна Евпраксия, которую пока в залу не пригласили, однако она была свидетельницей того, что происходило в тронном зале.
По воле великого князя Изяслава почти сорок лет назад за стенами залы сделали тайную камору с глазницей, чтобы видеть и слышать всё, что происходило в главном покое дворца. О той каморе знали лишь князь, княгиня да дворецкий Василько. Но сегодня Анна привела в неё дочь, дабы та увидела своего нареченного до встречи, когда нужно будет выразить свою волю. Евпраксия знала, что миг этот приближается неотвратимо и ей предоставлено для ответа лить два слова: «да» или «нет». Сказала же своё слово «нет» её тётушка княжна Анна, когда дедушка Ярослав надумал выдать её замуж за английского принца, у коего лик был украшен не подбородком, а конским копытом. О том Евпраксия слышала от батюшки, который много рассказывал о вольнолюбивой сестре.
Евпраксии жених понравился. «Экий розанчик», — подумала она. Огорчало лишь то, что он вымахал словно мальва. Да засмеялась: «С приступок целоваться буду!» Озорной Евпраксии стало весело, и она покинула камору, минуя пуганные в поворотах сени, вошла в покой, где дремала её мамка-боярыня Лукерья. Она была молода и ласкова, во многом потакала своему чадушке. Встретила Евпраксию вопросом:
— Каков он, суженый-то?
— Пригож, Лукерьюшка, — ответила Евпраксия и себя оглядела с ног до головы в византийское оловянное зеркало. — Токмо теперь вот боюсь, приглянусь ли розанчику?
— Ладушка, моя лада, да тебе самому королю-царю семеюшкой быть. И умна, и весела, и озорна! Всего в тебе вдосталь для царской опочиваленки, — пела мамка.
Они ещё смеялись, а на пороге возник боярин Богуслав.
— Княжна Евпраксия, кличут тебе, идём.
И дрогнуло сердечко. В четырнадцать-то лет как бы ни хорохорилась, а потерять любимых матушку, батюшку, отчий дом, огромный мир, который окружал с детства, — всё это и сильного человека заставит вздрогнуть. И сошёл со щёк румянец, губы посуровели, в серых глазах резвости поубавилось. Но шагнула следом за боярином княжна, сама взбодрила себя и пошла бойко, как всегда хаживала в свои неугомонные отроческие годы.
Ввёл Богуслав Евпраксию в тронный зал не через ту дверь, в которую жениха вводили, а что за троном великого князя была, полотном в тон стен укрытая. Вошла она и вот уже лицом к лицу с женихом. Стоит «розанчик» верстою, и улыбка с лица не сходит. Да и Евпраксия не помнила себя без улыбки. «А чего бояться? Нe в загон же к ярому быку ввели», — утешила себя княжна. Велено же ей показать себя жениху, его рассмотреть. Да что там, всё, кажись, при нём, а что длинен, так и она подрастёт. С тем и подошла Евпраксия к жениху.
Иноземцы смотрели на княжну с любопытством, удивлялись тому как она вела себя без смущения. А ведь на неё чуть не сотня глаз взирали. Да забыли гости об упрёках, оценку давали невесте и отметили, что такая не затеряется в толпе придворных и никто не пройдёт мимо, чтобы не глянуть на манящее лицо, где всё в гармонии, не ярко, не броско, но мило. К тому же глаза удивительные: большие, загадочные, весёлые. Как улыбнулась, так ямочки на порозовевших щеках заиграли. Лёгкий сарафан не скрадывал стати невесты. В свои юные годы Евпраксия уже притягивала взоры своим гонким станом, и ножки у неё были точёные.
— Всем она превосходна, ваша светлость, — прошептал Генриху камер-юнкер барон Саксон.
— А что думает барон Вольф? — спросил Генрих.
— Она достойна вашей светлости, — ответил камергер.
— Я доверяю вам, — ответил Генрих. Сам он пока не оцепил достоинств невесты и не увидел её недостатков. Перед ним была просто забавная отроковица.
Княжна подошла к родителям, встала между ними. Тут же Вартеслав спросил маркграфа:
— Ваша светлость, что скажете? Великий князь ждёт твоего слова.
Генрих вновь посмотрел на своих баронов. Они одобрительно кивали. И маркграф ответил Вартеславу.
— Скажи государю, что мы согласны ввести в дом графов Штаденских принцессу Евпраксию.
Всеволод слышал то, о чём сказал Генрих. Осердился.
— Маркграф Генрих, говорите мне должное!
— Да, да, я готов, — поспешил с ответом Генрих, несколько удивлённый. — Говорю: ваша дочь не уронит чести дома графов Штаденских и я готов к брачному сговору. Но кто за неё скажет слово?
— Она и скажет. У нас на Руси невест не неволят. — И князь повернулся к дочери: — Иди к жениху и дай ответ, дабы не маялся.
— Иду, батюшка, — ответила княжна и плавно, будто проплыла разделяющее её до Генриха расстояние, с поклоном сказала: — Ты мне любезен. — Да аут же попросила Вартеслава: — Молви ему, что я согласна быть его семеюшкой.
Вартеслав перевёл слова Евпраксии. Генрих отвечал: «Дамке, данке». И вдруг обеспокоенно заговорил камергер Вольф:
— Я не вижу епископов, не вижу патера! Кто благословит сей сговор? Не останется ли он ложным?
Всеволод оказался в затруднении. Хорошо, что из русичей только он понял тревожный говор придворного. Получалось и впрямь из ряда выходящее, не по обычаю. Собрались на сговор христианские люди, а пастырей нет. Что они скажут об злом сговоре? Да уж сказали. И митрополит Иоанн не твёрд в согласии, и епископ Фриче против, ведь то, что сказал с глазу на глаз, то может и не прозвучать во всеуслышание. Сказано было Всеволодом, что митрополит на Руси лишь священнослужитель, а византийскому патриарху — слуга. Вот и угадай, чего он добивался, когда писал в своих «Церковных правилах» с великой ревностью, осуждая обычай князей выдавать своих дочерей за королей и вельмож католической веры. Протестовал Всеволод: «Бог у нас един, а то, что вы, его слуги, разделились на латинян и ариан, так и расхлёбывайте свой кулеш без нас». Однако пора было давать немецкому послу ответ. Вольф смотрел на Всеволода упорно. И Всеволод ответил лишь германцам;
— Русь ложью никогда не жила. Говорю вам: сговор утвердит вече. А коль вы не знаете, что сие есть, зову вас на площадь к Софийскому собору. После вече и продолжим паши беседы. — И, даже не передохнув, Всеволод повелел: — Вы, бояре, воеводы и княжи мужии, тоже идите на площадь. Тебе, Богуслав, велю ударить, в вечевой колокол!
Многим, кто был в тронном зале, это повеление великого князя показалось настолько неожиданным, что лишь разводили руками, не зная подоплёки. Не было того на Руси, чтобы великие князья собирали народ на совет: выдавать или не выдавать дщерь за иноземца. Но великому князю встречь не пойдёшь, сказал — тому и быть. Да поди осмысли сказанное. Ведь и такого не бывало на памяти придворных, чтобы свадебный сговор обошёлся без митрополитов и епископов. Ноне их не было. А причины никто не ведал. И всё стало очевидно, что ответ на их недоумение там, на Софийской площади.
Пока вельможи выходили из палат, над Киевом зазвучал вечевой колокол, знакомый киянам со времён Ярославовых. Стоял же юный Ярослав при вечевом колоколе многие годы в Новгороде Великом. И отозвались горожане все до единого, руки от дел освободили и — на улицу, на площадь, да поспешая, дабы поближе к помосту встать, с коего великий князь скажет своё слово. Знали кияне, что то слово будет важным, а великий князь будет ждать от киян достойного совета или согласия-несогласия с ним. Как уж покажется слово государя. На то оно и Вече!
На Софийской площади колыхалось людское море. Воины княжеской дружины потеснили горожан, чтобы прошли к помосту думные бояре. Им тоже надлежит сказать своё слово. Какое пока никто не ведал.
Князь Всеволод и княгиня Анна не заставили себя ждать. Князь появился верхом на коне. За ним следовали две колесницы, и в первой из них сидели княгиня с княжной, во второй — немецкие сваты с женихом. Был среди них и епископ Фриче. В те же минуты из Софийского собора вышли митрополит и весь клир священнослужителей. И никто из россиян, заполонивших площадь, ещё не знал, что причиной сегодняшнего события явились два архиерея — митрополит Иоанн и епископ Фриче.
Великий князь не томил горожан ожиданием. Им это ожидание всегда тяжко давалось. Всякие мысли приходили, страх в сердца проникал, потому как многие ожидали услышать от князя о новом нашествии «поганых» половцев. Вот уже Всеволод вышел к краю помоста, руки вверх поднял, звонким, сильным голосом сказал:
— Слушайте русичи, дети мои кияне! Скажу немного, собрал я вас, чтобы услышать совет. Вот за мною стоят дочь моя, княжна Евпраксия, и жених её немецкий принц. Она — православная, он — католик. Испокон было, что великие князья выдавали своих дочерей за католиков, и никто тому не перечил. Ныне же оному есть сопротивление. Ваше слово будет последним. Скажите же: благословляете супружество или нет. — И князь низко поклонился горожанам.
Думные бояре стояли близ помоста, и среди них были многие, кто помнил, как выдавал своих дочерей за разных королей и принцев Ярослав Мудрый. Никто ему тогда не перечил. Потому они удивились, говор среди них возник, и наконец старший боярин Ефим Вышата громко попросил Всеволода:
— Князь-батюшка, выведи на чистую иоду супротивников, тог да и судить будем.
— Они пред вами, — ответил Всеволод. — Правда, один из них, мой духовный отец митрополит Иоанн, ноне утром покаялся, снял свой запрет. Верю покаянию. Ли другое слово его, более твёрдое сеть, написанное, а что написано стилом, не вырубить топором. Он же в «Церковных правилах» осуждает обыкновение великих и инших князей Руси выдавать своих дочерей за государей латинской веры. Другой супротивник нашему хотению епископ чужеземный Фриче. Не ведаю его происков, но утверждаю: пришёл он на нашу землю, чтобы сничтожить сговор не желает он, чтобы наша княжна была семеюшкой вот этого принца. Теперь ваше слово, россияне!
Но к великому князю подошёл митрополит Иоанн.
— Должно и мне сказать православным детям.
Всеволод встал перед Иоанном.
— Ты уже сказал должное, святой отец. Что ещё? Слушай их приговор! — И Всеволод повернулся к горожанам. — Говорите, мы ждём вашего слова.
— А что говорить?! — вновь раздался голос Ефима Вышаты. — Никогда не бывало у нас на Руси, чтобы священники перечили государям, и не будет! Пусть русичи и россиянки идут за рубежи родной державы. Верю: честь великой Руси они сохранят повсюду! — И вознёс на всю площадь: — Добро Евпраксии, добро!
И всколыхнулось людское море, единым духом страстно всколыхнулось:
— Добро Евпраксии! Добро!
Площадь ещё волновалась. Киевлянам радостно было проявлять свою доброту и сознавать, что их сыновья и дочери во всех иноземных державах возносят величие Руси.
— Добро Евпраксии! Добро!
Лишь два служителя церкви — митрополит Иоанн и епископ Фриче — каждый защищая свою веру, стояли мрачными и не поднимали на милосердных россиян глаз. Но они россиянами были забыты.
Великий князь и великая княгиня взяли за руки Евпраксию и Генриха, подвели их к краю помоста и вместе с ними низко поклонились многотысячной толпе, благословившей православную и католика на супружескую жизнь. На том вече и завершилось.
Глава пятая УРОКИ ИРАНСКОЙ МАГИИ
Впервые за свою короткую жизнь Евпраксия узнала, что такое грусть. Ещё волновалось людское море, ещё гуляли над ним возгласы горожан, а у юной княжны погасли в глазах весёлые огни и с лица сошёл румянец. Ей было отчего грустить. Совсем немного дней минует с сего часа, и она покинет Киев, может быть, навсегда. А ей так было хорошо в этом вольном граде, где протекли лучшие годы её отрочества.
— Прощайте, любезные кияне, — шептала Евпраксия, кланяясь горожанам.
И в палаты она вернулась печальной. Анна заметила уныние дочери и сама в страдание окунулась. Да, мужеством одарённая, поняла неизбежность судьбы и поднялась вместе с Евпраксией в её светлицу, чтобы вдохнуть в поникшую духом силы противостояния ударам рока. Очень хотелось Анне, чтобы дочь уехала на чужбину такой же жизнелюбивой, неугасающей и способной покорять своим весёлым нравом и друзей и недругов. И Анна знала, как добиться того, чтобы дочь на многие годы вперёд не впадала в уныние, чтобы силы её в борьбе с невзгодами не убывали, а прирастали. Анна решила поделиться с дочерью гем, что обрела в половецкой неволе, что получила в дар от чудодеи иранки Осаны.
Теперь Евпраксия была в том возрасте и на той грани жизни, когда всё, чему будут учить её, она воспримет серьёзно и как крайне нужное. И вспомнила Анна себя далёкой поры. Как взяли её в полон да увезли в половецкое Причерноморье, ей было всего около десяти годиков. Князь Болуш, перебирая полонянок, заметил в девочке то, чего не было в других полонянках, оставил при своём дворе, дабы подрастала. Да поставил над нею старую иранку Осану, наказал ей вырастить его сыну Секалу хорошую жену. Иранка же, будучи сама полонянкой и питая к хану скрытную ненависть, вложила своё в отроковицу, как в чистый и надёжный сосуд. С первых дней полона Анны Осана учила её тому, что несла в себе, что было достоянием многих поколений женщин рода Кошу, к коему принадлежала Осана. Женщины рода Кошу были способны двумя перстами повергать к своим нотам сильных мужчин и теми же перстами поднимать в них дух в час смертельной опасности.
Анна оказалась понятливой, терпеливой и упорной ученицей. Уже к четырнадцати годам она переняла от иранки такие чудесные тайны, какие не раз спасали её от многих бед, а однажды спасли и саму жизнь. В те же четырнадцать лет Анна превратилась в созревшую девушку, и половчанки даже старше её не могли с нею соперничать в девичьих прелестях. Всё в ней высвечивалось так, что ни один половецкий воин не мот отвести от неё глаз. Они превращались в охотников, словно видели перед собой степную лань, их чёрные узкие глаза пламенели от страсти. Они подкрадывались к Анне, чтобы схватить её, вскинуть в седло и умчаться с нею в степь. Они забывали о том, что им грозит смерть от жестокосердого князя Болуша или от его старшего сына князя Секала. Но наказание ждало их и от самой Анны. Едва съедаемый страстью степняк касался добычи, как Анна неуловимым движением посылала свои персты в то место, где таилось гнездо птицы жизни насильника, он падал, словно пронзённый мечом. Потом воин приходил в себя и, если его не успели схватить ханские стражи, уползал подальше от шатров Болуша и Секала.
Так полонянка Анна и подрастала до семнадцати лет, пока беда не подкралась к ней ночью. К тому времени возмужал один из старших сыновей Секала, княжич Акал. Анна помнила: когда Акалу было тринадцать лет, а ей двенадцать, он уже покушался на неё. Тогда Анну спасла от поругания Осана. И ещё не один год оберегала её, грозя Акалу тем, что расскажет о его проделках отцу. Акал боялся отца, зная, какое жестокое наказание его ждёт, и не посягал на честь Анны. И вот уже Акал побывал в сечах, поднялся вровень с отцом и свирепость его переросла отцовскую. И однажды, когда Секал уехал из стойбища на совет князей, Акал проник шатёр, где обитали Анна, Осана и другие прислужницы отца, накинул на Анну кошму, завернул в неё и унёс из шатра. Близ него стояла кибитка. Акал бросил в неё Анну, сам вскочил и погнал коней в степь.
Придя в себя, Анна догадалась, в чьи руки попала. И ей ничего другого не оставалось, как только защищаться. Выросшая в орде, где жизнь текла по звериным законам, Анна и сама отважилась ступить на ту тропу. И когда кони остановились на берегу малой речки, когда Акал вытащил Анну из кибитки и бросил под навес шалаша, она была готова к защите. Её стрела легла на натянутую тетиву лука. И в то мгновение, когда Акал развернул кошму и освободил Анну, готов был навалиться на неё, рука Анны мелькнула стрелой и два перста Анны вонзились в единственное незащищённое место на шее Акала. Княжич упал на неё, но был уже не страшен. Выбравшись из шалаша, Анна сказала воину:
— Князь зовёт тебя. Иди к нему;
Воин соскочил с передка кибитки, побежал в шалаш. Лишь только он скрылся в нём, Анна поднялась на кибитку, схватила вожжи и помчалась в становище, где шёл совет князей. То было последнее покушение на девственность Анны, потому как князь Секал взял её под свою защиту.
А вскоре пришло освобождение. Анна на всю жизнь запомнила первые слова на родном языке, сказанные князем Всеволодом: «Я оставлю её себе». Вначале она испугалась этих слов, ожидая насилия. Но князь ни в первый день, ни позже пи разу не надругался над нею.
Минуло пятнадцать лет. И вот перед ней стоит её дочь, которую совсем скоро увезут из родного крова. И что ждёт её на чужбине, ведомо лишь одному Богу. Как же не отдать дочери те сокровища, кои когда-то подарила ей бескорыстная Осана. Анна велела сенной девице Милице никого не впускать в светлицу и сказала Евпраксии:
— Вижу, ты упала в уныние. Да то напрасная маета. — Анна прижала дочь к груди, погладила по голове. — Нам с тобой, родимая, дыхнуть некогда будет, пока мы вместе.
— Что же нам делать, матушка? Разве что помолиться в утешение?
— И помолимся, но позже. Теперь забудь обо всём и послушай то, что расскажу, как жила в неволе, когда мне было столько же лет, сколько ныне тебе.
— Я послушаю, матушка, прилежно.
— Вот и славно. — И Анна повела рассказ о том, что перебрала в памяти, словно зерна перед посевом, с того часу, как узнала, какая судьба уготована дочери.
Мать и дочь просидели рядом долго. Откровенный рассказ Анны вначале смутил Евпраксию, но потом она обрела себя, глаза засветились обычным огнём, улыбка на нежном лице то и дело появлялась, потому как матушка рассказывала о своих бедах-невзгодах, весело посмеиваясь над прелюбодеями. Когда же Анна перебрала минулое, Евпраксия долго сидела молчаливая и собранная, как никогда ранее. Наконец спросила:
— А что, тётушка Осана ещё жива?
— Ой нет, давно Господь прибрал.
— Ты молила за неё Бога?
— Многажды. И до сей поры молю. Теперь опрошу тебя: хотела бы владеть тем, чем наградила меня мудрая Осана?
— Я знаю, матушка, почему ты повела речь о том, что таила столько лет. Но ведь я уеду не в неволю, а с будущим семеюшкой в его дом.
— Всё так, родимая. Но ты не сегодня и не завтра станешь семеюшкой. Два-три года тебе подрастать. Что тебя ждёт в эти годы? Если бы ведать. И не лелей надежды, что будешь жить среди ласковых овечек. В любом народе есть свои половцы и печенеги. Как же от них оборонятся тебе, слабой и неумелой?
— То верно, матушка. Но я ведь не воин.
— Я сделаю тебя воином. Сделаю! — убеждённо сказала Анна. — И с сего дня буду без устали учить всему, что ведомо мне.
Однако княгине пришлось отложить задуманное. Пришёл дворецкий и сказал, что в трапезной накрыты столы и все собрались, дабы воздать честь помолвке Евпраксии и Генриха.
— Эка досада, — отозвалась княгиня и подумала, что им лучше всего уехать на кое время из Киева в Берестово, где никто не помешает учению.
С тем и отправилась Анна с дочерью на трапезу. Застолье было шумное, словно гости принесли запал с вече и теперь выплёскивали его в разговорах, в поздравлениях и пожеланиях. Да и то сказать, давало себя знать хмельное, которого на столах было в избытке. Сам великий князь хмельного только пригубил, а теперь сидел рядом с камергером Вольфом и вёл с ним беседу, расспрашивая, чем и как живёт Германия.
В этом шумном застолье только два человека не принимали участия? разговорах. Они сидели за столом напротив и молча рассматривали друг друга. Евпраксия иногда улыбалась и вызывала ответную улыбку. Она поняла, что у Генриха кроткий нрав и доброе сердце, что он должен любить природу и животных. Евпраксия не ошиблась. Генрих и впрямь любил то, что в жизни окружало селянина. В часы застолья Евпраксия и Генрих не обмолвились ни словом, они не знали иной речи, кроме своей. Однако и молчаливое общение не прошло даром: им было приятно видеть друг друга.
Но уже Анна и Всеволод поговорили меж собой и князь благословил жену и дочь на поездку но не в Берестово, а в Предславино, кое было поближе. Да и другой резон оказался у Всеволода.
— В Предславино нужно Вартеславу ехать. Так он останется гам с вами и Евпраксу немецкой речи поучит. Поживёте какой месяц, а мы тут со сватами всё обговорим, приданое соберём. Им, поди, интересно увидеть, что получит наша дочь.
Уже на другой день ранним утром Анна, Евпраксия и Вартеслав в сопровождении десяти воинов покинули Киев. Село Предславино, которое было в полпоприще езды от стольного града, было любимо великими князьями как тихая обитель. Всего тридцать изб, большой рубленый княжеский дом на холме, часовенка — всё обнесено острокольем и рвом с водой. Начало Предела вину положила великая княгиня Ольга. В разное время приезжали в село великие князья поохотиться в окрестных лесах или в стенном приволье за речкой Рось. Особенно часто бывал здесь князь Святослав с княгиней Одой и сыном Вартеславом. Сюда князь возвращался из военных походов, иногда привозил сокровища, добытые в сечах. Часть из них до сих пор лежала в тайниках княжеского дома. За ними и приехал Вартеслав. В селе его ничто не стесняло исполнить поручение матушки, достать сокровища и увезти в Германию. Сказал же князь Всеволод, что это достояние вдовы великого князя.
Анна и Евпраксия забыли о Вартеславе и были поглощены своими заботами. В просторном доме им никто не мешал собирать плоды с дерева иранской мудрости. Ещё в первые годы замужества, приезжая в село, Анна попросила дворовых изготовить из войлока истукана. Она же сама обозначила на нём нужные точки. Теперь истукан был внесён в светёлку и подвешен на матицу.
В просторном и светлом покое Анна и Евпраксия вдвоём. Обе одеты в лёгкие сарафаны, застыли возле истукана. Он весь переплетён сыромятными ремнями, и многие места на нём окрашены в разные цвета. Княгиня рассказывает о их значении.
— Древние врачеватели и маги Ирана нашли у человека множество гнёзд, в которых живут разные птицы. Тут кроются птицы разума и жизни. — И Анна показала на виски. — Разорить их доступно, лишь надо помнить, что только зловещих птиц нужно убивать. — Анна стремительно крутнулась и двумя перстами правой руки ударила истукана в висок. Да аул же развернулась в другую сторону, и левая рука её мелькнула молнией. — Если ты искусна в ударах, враг тебе не страшен. Здесь живёт птица спа, — продолжала Анна и показала на шею, где проходила сонная артерия. — Ударив в неё, ты повергаешь человека в долгий сон. Есть птицы души, огня и страсти. Вот они. Их нельзя убивать. Их можно усладить только лаской. И птиц жажды и желания не всегда нужно трогать. А вот похоть спряталась в этом гнезде, и о ней надо всегда помнить — она зловеща... — Руки Анны, то левая, то правая, точно посылали стрелы-персты в ас гнезда, где таились хищные птицы. Она — охотник, глаза прищурены, губы сжаты, всё тело — сгусток силы и ловкости.
Евпраксия смотрела на матушку зачарованно. Никогда она не видела её такой похожей на молодую кису, играющую с мышкой. Евпраксия было смешно и пугливо, «Господи, да разве я смогу когда-нибудь так!» Но оторопь была короткой. Евпраксия забылась и неотрывно следила за полётом рук матушки, за её движениями. И всё это показалось ей неким древним танцем. Легко и точно нанося удары во все гнезда, она была неутомима. Сила полёта «стрел» прирастила, они мелькали и иногда были невидимы в пологе. И неведомо было, какую цель Анна поразит в следующий миг. Истукан кружился, взлетал, а Анна продолжала безошибочно разорять гнезда, где таились птицы зла и насилия, птицы похоти. И прошло, может быть, час или больше, когда Анна наконец остановилась, но не от усталости, а исчерпав наглядный урок. Матушка даже не вспотела. И то удивило Евпраксию больше всего. Ведь только степные кони могут скакать часами и оставаться сухими. Всё-таки дочь спросила:
— Матушка, ты утомилась? Не надо бы. Я как в тёмном лесу побывала: сказочно, а непонятно.
— Полно, доченька, это не лес и не сказка. Тут всё просто. И я не утомилась. А показала я тебе то, чему ты в малой толике должна научиться.
— Ой нет, матушка, такое мне непосильно.
— Посильно, коль прилежна будешь. И всего-то две недели от зари до зари. И ты ещё обойдёшь меня. И запомни, что тебе легче, чем было мне. Осана ведь только поведала о птицах и о гнёздах. Показала, где их найти. И я сама копила умение. У меня не было истукана, я всему училась украдкой.
— Матушка, но ты другая, ты сильная, а я...
— Полно, Евпракса, не серди меня! Уж я ли твоей резвости не знаю. В тебе дюжина таких, как я. И равных среди сверстниц нет. Не ты ли векшей на деревья в Берестове взлетала? А кто тебя в беге обгонит? Ты и с отроками тягалась: кто дальше палку или камень на Днепре забросит.
— Но стрелы я не пускала. И коня на скаку не сдержу.
— И я не управлюсь с ним. Да кончим воду толочь в ступе. Мне лучше знать, что ты стоишь, родимая. А теперь вставай рядом и делай как я. Сожми вот так длань, выпусти два перста. И помни, что они у тебя крепче дерева. Повтори: крепче дерева, крепче камня!
— Крепче дерева, крепче камня.
— Теперь ударь в мои ладони. — И Анна выставила руки перед Евпраксией. — Ударь же! Правой и левой, правой и левой!
— Но, матушка, тебе будет больно.
— Я стерплю. Ударь же!
Евпраксия вяло ударила правой рукой и совсем неохотно левой. Анна улыбнулась:
— Плохо, родимая, а ты можешь лучше. Ну, ещё раз.
Евпраксия стояла перед, Анной виноватая и жалкая. На глазах у неё появились слёзы.
— Не заставляй, матушка! Не заставляй! — закричала она.
— Ведаю: ты мягкосердная. Но и это нужно одолеть. Ударь же!
И что-то изменилось в лице Евпраксии. Анна пока не знала, не поняла, но почувствовала: сейчас разразится буря. Да так и было. Княжна знала, что ослушаться матери не следует. Ведь она желает ей добра, жаждает защитить её перед лицом грозящей опасности, а она придёт неизбежно. Однако ударить мать, даже на пользу учению, она не могла. А вот недруга... Недруга она бы попыталась наказать, насколько хватило бы сил ударить, свалить, растоптать. И в её пылком воображении возник образ печенежского князя Акала, который пытался надругаться над её матушкой. Евпраксия стремительно повернулась к истукану увидела в нём ненавистного Акала и с силой, раз за разом нанесла несколько ударов в виски, в шею, под сердце и чуда, где у христианина душа. Пальцы пронзила острая боль, она готова была закричать, но стиснула зубы и продолжала наносить удары по гнёздам, где таились коварные птицы, пока Анна не обхватила её за плечи и не отвела от истукана. Она усадила дочь на скамью, покрытую алым бархатом, и принялась гладить её по голове. Евпраксия плакала, но, как показалось Анне, не от боли в пальцах, в руках, а от внутренней раны, нанесённой ей жестоким расставанием с детством. Княгиня дала дочери выплакаться, растёрла ей пальцы, избавив от боли, и тихо сказала:
— Ты разумница, родимая. Ты прошла муки. И я знаю, на кого ты ополчилась. Так и нужно, только так!
Мать и дочь посидели молча. Им было хорошо. Княгиня подумала, что, может, напрасно затеяла утруждать Евпраксию: не к диким же народам она уезжала. Однако Анну одолели сомнения. Бесспорно, она должна научить дочь защищать свою честь. Что ж, Анне суждено будет узнать, что её дочь окажется среди таких же дикарей без чести и совести, каких и в племенах кочевников мало. И пока Анна решала, нужна ли её дочери иранская магия, Евпраксия сама выбрала путь.
— Матушка, давай начнём с малого. Я пообвыкну, а там и впрягусь.
— Так и будет, — согласилась Анна. — Встанем рядом, я начну, а ты повторяй. Нам только сладиться.
Анна взяла Евпраксию за руку, они встали к истукану. И княгиня нанесла ему лёгкие удары: правой, левой.
— Вот так, легко и точно...
— Исполню, матушка, как сказано.
Нанося удары следом за Анной, Евпраксия повторяла за ней слова: «тут жизнь», «тут сон», «тут похоть». И полетели по кругу две пары красивых и лёгких, как крылья чаек, руте. И ноги их были в затейливых движениях вокруг истукана. Анна посылала свои стрелы точно в цель. Евпраксия то и дело огибалась, ноги спотыкались на ровном месте. Но это её уже не раздражало и не смущало, а забавляло. И пришла весёлость, пришло состояние, в каком её душа пребывала постоянно. Ошибаясь, она смеялась над собой. Анна тоже смеялась от возбуждения. И незаметно она повела игру по своему разумению, всё убыстряя и убыстряя полёт стрел. Наконец она заметила, что с каждым ударом Евпраксия всё точнее находит цель. «Жизнь, сон, зло, страсть» звучали в её устах всё увереннее. Анна следила за каждым движением Евпраксии и вскоре поняла, что у неё всё получится и она овладеет иранским искусством самозащиты. Но Анна сдерживала свою радость, зная, что они пока лишь играют, зная, что придёт острая боль в руке, придёт усталость, от которой захочется упасть и лежать часами без движения. Всё это надо было пройти и лишь тогда благодарить Бога за то, что вложил в Евпраксию мужество и терпение.
Наступил полдень. Анна это заметила, посмотрев на солнце, поднявшееся в зенит. Пора было отдохнуть. Анна обняла дочь и повела к окну.
— Ты устала? — спросила Анна.
— Да, матушка, — ответила Евпраксия.
— Это хорошо. Тем отраднее будет покой. Да пищи вкусим, потому как голодны. Идём в трапезную. — Обнимая дочь, Анна заметила, что она лишь малую толику покрылась потом. И не удивилась. Ей просто было приятно знать, что дочь, как и она, не потлива.
В трапезной Анну и Евпраксию поджидал князь Вартеслав. Стол был закрыт. Жбан с сытой, принесённый из погреба, отпотел.
— Уж не почивала ли до сей поры, сестрица? — спросил Вартеслав.
— Так и было, — весело ответила Евпраксия, — потому как ночью звёзды с небушка ловила.
— Эка забота! Поди, длани обожгла? Нет бы меня позвала.
Князь и княжна были словоохотливы, и завязалась между ними весёлая беседа.
— И ты поймал бы мне звезду?
— Да уж словил бы. Однако скажи, когда батюшкин наказ приступим исполнять.
— Я уж и забыла какой.
— Ой, лухтишь, Евпракса, ленью одержимая. А кто будет немецкую мову учить?
Анна подумала, что лучше бы после трапезы ею заняться. Тоже не статочное дело. Сказала о том:
— Ты уж, родимая, уважь братика, пока у него душа горит.
— Перечить не буду, матушка, — согласилась Евпраксия. — Не спать же снова до вечерней зари.
И началась для юной княжны другая нелёгкая справа. И занималась она с Вартеславом просторечием, пока солнце к заходу не потянулось. Тут Евпраксия сама позвала Анну в светлицу.
— Матушка, раз уж затеяли потеху, доведём её до конца.
Анна ждала сей миг. А как поднялись наверх, первым делом руки у дочери осмотрела. Она ещё утром подумала ногти немного остричь, пальцам урону меньше будет. А как привела всё в порядок, так вновь наступили часы танца.
— Всё повторяй за мной: силу удара, движение ног. Ошибок не замечай, сами уйдут.
— Запомнила, матушка, — ответила Евпраксия. А упорства ей было не занимать. Она подумала, что чему научится, то за плечами не носить. И ежели придёт беда на чужбине, что ж, она обнажит свой «меч».
И потекли дни. Они мелькали, словно последние льдины на Днепре в половодье — пролетела, и нет. И с каждым днём княжна становилась увереннее в себе, искуснее, сильнее, стремительней. Нет, не прошло даром то, что она ловко лазила по деревьям, что быстро бегала, что дальше сверстников бросала в реку камни. Однажды, уже через две недели со дня приезда в Предславино, когда присели отдохнуть, Анна как-то торжественно сказала:
— Вот ты и научилась оберегать древо девственности. Никто не сорвёт с него ранний плод, ежели ты не позволишь.
А занимались они до этого часу несколько дней тем, что Анна учила Евпраксию, как связывать крылья птице похоти, а если к тому будет нужда, и убивать её в посягателе. Эта наука далась Евпраксии с трудом. Её угнетало смущение от обнажённости того, чему учила мать. Княжна пыталась отбояриться от занятий, но Анна сумела-таки убедить дочь, что сие есть самое главное в том, чем они занимались. Когда же Анна сочла, что дочь способна защитить себя от насилия и надругательства, сказала, как завет:
— Да упаси тебя Всевышний от действ в угоду злому умыслу. Не унижай себя, носи голову гордо и оставайся сама собой.
— Спасибо, матушка. Твоей науки и милости никогда не забуду.
Покончив с уроками иранской магии, Анна попросила Вартеслава:
— Теперь, княже, возьмись с усердием за Евпраксу и за меня немецкой речи учить.
— Да тебе-то, матушка княгиня, зачем чужое слово?
— А для кумовства, — пошутила Анна.
— Ладно уж, научу вас обиходному говору, а познать больше и года не хватит.
Однако Анна сказала о себе для красного словца и не мешала Вартеславу и Евпраксии полными днями ворковать по-чужому. Княжна и тут оказалась прилежной ученицей. Она легко открывала для себя смысл сказанного Вартеславом и повторяла вопросы, ответы. С каждым днём ей было интереснее и даже забавнее заглядывать за глухой забор чужой речи.
И прошёл месяц пребывания киевлян в Предславине. Всё, что было задумано Анной, что наказано Всеволодом, было исполнено и обретено. Вартеслав уложил в две перемётные сумы достояние своего отца, князя Святослава, добытое им в сечах с половцами. И можно было возвращаться в Киев. Как раз к намеченному дню из стольного града примчал гонец с повелением великого князя возвращаться домой.
— И сказал князь-батюшка ещё о том, что завтра в Предславино явится князь Владимир с малой дружиной. Сказывают, ходил он с Ростиславом в степи на отгонные пастбища за диковинными животными, — добавил гонец.
У Евпраксии в душе вспыхнула радость. Ей были любезны оба брата. Но князя Владимира она любила сильнее с детских лет.
А в княжеских покоях началась суета, потому что княгиня Анна считала важным долгом встретить желанных близких достойно.
Глава шестая НА ВЕРБЛЮДАХ В ГЕРМАНИЮ
К возвращению Анны и Евпраксии в Киев все переговоры со сватами были закончены. И посланцы уже с нетерпением ждали день и час отъезда на родную землю. Им оставалось ждать недолго. И на другой день после первого июньского праздника дня Святой Троицы под торжественные перезвоны всех киевских храмов княжна Евпраксия, её жених и их свита в сопровождении полусотни воинов покинули Киев. Прощание Евпраксии с матушкой и батюшкой было трудным. Она много плакала и просила:
— Родимые, не отдавайте меня в чужую землю. — На сердце у неё было тяжело, томило предчувствие. — Я там сгину, как в неволе, — причитала она.
— Не можем мы того исполнить, не можем. Нет возвратного пути, — уговаривал дочь князь Всеволод. — Да и ты сама выбрала свою судьбинушку. Что же теперь роптать?!
Княжна вспомнила сватовство и сказанное ею «Да, батюшка, согласна» и перестала плакать.
— Простите, родимые, страх одолел меня.
...И вот уже по лесным дорогам Западной Руси, по пути великого князя Владимира Красное Солнышко, который ровно сто лет назад шёл здесь дружиной вразумлять непокорных белых хорватов, двигался невиданный в западных землях караваи. За полусотней всадников, за дорожными крытыми колесницами мерной поступью шли пятнадцать двугорбых верблюдов. Свои гордые головы они держали высоко и не замечали окружающих их лесов, словно они для них не существовали. Всего полмесяца назад они паслись в степях Левобережья Днепра, а ещё осенью прошлого года были достоянием половцев. Алчные степняки отправились на Русь с разбоем и шали с собою стадо верблюдов, дабы увезти на них добычу — корзины с малыми детьми. Но половцам давно уже не удавались разбойные набеги на Русь. Каждый раз по воле Божьей вставала на пути врага дружина храброго Владимира Мономаха. После великого князя Святослава Игоревича не было на Руси другого такого отважного и умелого воеводы. Князь Владимир нападал на степняков всегда неожиданно: то ли в ночь, то ли с тылу, а случалось, и на становища в глубине половецких степей, где его не ожидали. Так было и прошлой осенью, когда половцы отважились погулять по Черниговщине, где Мономах стоял на уделе.
Князь Владимир перехватил половцев на реке Сейм. Одолев его выше половецкого становища, он зашёл степнякам за спину, ночью выслал вперёд пластунов, они сняли дозорных. В тот же час воины Мономаха напали на орду и, не дав врагу опомниться, погнали его в Сейм. Сеча была жестокой, у Владимира было на то право, потому как половцы в третий раз нарушили мирный договор. К утру пятнадцать тысяч русичей расправились с двадцатитысячной ордой половцев, одних посекли мечами, другие утонули в бурных водах Сейма. Лишь немногим удалось спастись бегством. В этой сече русичи добыли больше десяти тысяч коней, сотни половецких кибиток и двести двадцать верблюдов.
И теперь пятнадцать из них степенно шагали по лесным дорогам Руси в не ведомую ни им, ни большинству путников Германию. Ныла середина лета, светило жаркое солнце. Но лес скрадывал зной и даже веял прохладой. На спинах у верблюдов покачивались тюки с поклажей. В них княжна Евпраксия увозила своё приданое. Ей могли бы позавидовать все европейские королевы. Ни одна из них, кроме княжны Анны Ярославны, не приносила в королевский дом такого богатства, с каким ехала в дом маркграфа Штаденского княжна Евпраксия. Немецкие хронисты той поры писали, что «дочь русского царя пришла в эту страну с большой помпой, с верблюдами, нагруженными роскошными одеждами, драгоценными камнями и вообще несметным богатством». Не так уж много, но весомо сказано было в немецких хрониках. Удивлению же очевидцев не было предела, когда маркграф Генрих и его невеста появились на германской земле. Поначалу многие говорили, что это прибыл из восточных стран караван торговцев. И в каждом городе жители ждали, что «купцы» вот-вот снимут с верблюдов тюки и начнут торговать диковинными товарами. Но нет, «купцы» так и не распаковали тюки, чем разочаровывали горожан.
Но не только удивление и разочарование витали вокруг каравана. Корыстной и злой зависти тоже нашлось место. И одним из больших, корыстных завистников оказался сам император германский Генрих IV. Он ни на один день не забывал о маркграфе Штаденском, который вопреки его воле уехал на Русь. Вскоре же на восточном рубеже Германии появились люди императора и ждали там, когда маркграф Штаденский вернётся с невестой в свою Нордмарку. Он был ещё на землях Польши, когда в маленький городок Эрфурт, где находился в это время Генрих IV, умчались гонцы, дабы уведомить императора о движении маркграфа.
Едва получив долгожданное известие, император покинул замок Эрфурт и в сопровождении двадцати шпион и нескольких придворных вельмож и оруженосцев помчался в город Мейсен, чтобы там осуществить задуманный тайный план. Ом успел добраться до Мейсена раньше маркграфа, занял на центральной площади дом и распорядился, чтобы бургомистр, полицмейстер и городские стражники произвели досмотр «товаров», ввозимых маркграфом в Германию.
Ждать пришлось почти сутки. Лишь на другой дети, послеобеденной порой на площади Мейсена появился необычный караваи. Поглазеть на него собрались все горожане. Император, который стоял у окна за шторой второго этажа богатого дома, даже рассердился. Он не ожидал, что площадь заполонит толпа людей. Но вот появились бургомистр, полицмейстер, полицейские. Подошли к маркграфу, который вышел из дормеза.
— Ваша светлость, нам надлежит досмотреть ваши товары, — заявил полицмейстер.
— Чья это воля, обыскивать меня? — спросил Генрих Штаденский.
— Это воля императора, и она превыше всего, — ответил важный бургомистр.
— Но я помню, мой батюшка маркграф Удон Штаденский говорил, что такого закона в германской империи нет.
— Закон для нас — слово императора, — грозно возразил полицмейстер.
Молодой маркграф, ещё не окрепший духом, боялся императора. Но ещё больше его страшил позор, которому он подвергнется, ежели допустит императорский произвол. Он осмотрелся и увидел сотни любопытных глаз горожан, которые с нетерпением ждали, чем обернётся стычка императорских слуг с могущественным домом маркграфов Штаденских, коих уважала вся Северная Германия и которые были известны всей державе своей гордостью и отрицанием императорской власти. Пока горожане были на стороне маркграфа, и он понял, что этим нужно дорожить. Однако на многих лицах Генрих видел иронические улыбки и сомнение, что сей «колодезный журавлю возразит императору.
— Сей длинный сынок не похож на батюшку маркграфа Удона. Ему ли встать против рыцаря! — рассуждал почтенный горожанин.
— Матильду Тосканскую, тётку маркграфа, крикнуть бы сюда, — заявил бойкий молодой купец. — Она бы в шею погнала всех полицейских.
Наконец маркграф собрался с духом, сказал бургомистру:
— Ежели ты, господин, выражаешь волю императора, то иди и скажи ему, что все эти «товары» есть достояние дочери великого князя всея Руси княжны Евпраксии, моей невесты.
Бургомистр оказался глух к доводу маркграфа. Он твердил своё:
— Я должен исполнить волю императора, коя превыше всего. Раскрой тюки, или я возьму тебя под стражу.
Князь Вартеслав, который стоял чуть в стороне, услышав угрозы бургомистра, встал рядом с маркграфом и взялся за меч.
— Дерзкий, ты ищешь ссоры. Я остановлю тебя мечом! Иди и передай императору, как сказано: за спиной княжны Евпраксии стоит великая Русь.
Бургомистр знал, где император. И он чувствовал спиной его гневный взгляд. Так и было. Генрих IV стоял у окна и метал молнии. Наблюдая за тем, что происходило на площади, он понял, что полицейских сил не хватит, чтобы завершить произвол. Понял и то, что горожане, и прежде всего знать, осудят его за насилие над молодым маркграфом Штаденским. Осудят ещё и потому, что неожиданная смерть маркграфа Удои а, по мнению многих немцев, была на совести императора. И теперь Генрих IV торопливо думал о том, что предпринять. У него уже пропала жажда увидеть невесту маркграфа, и он счёл разумным освободить от досмотра достояние княжны россов. Но алчность императора и скудное состояние казны толкали а о на насилие.
Жажда завладеть сокровищами княжны была подогрета воспоминанием. Случилось же такое с ним семь лет назад, когда в его руках оказалось немало золота и драгоценностей россов. Разница лишь в том, что тогда они достались ему без насилия. Да, был обман, да, его мучила совесть, но что значат эти грехи, если в твоих руках оказывается огромное богатство? Тогда на престоле в Киеве сидел великий князь Святослав, отец вон того княжича Вартеслава. Святослав коварно отнял престол у своего брата князя Изяслава. Изгнанный большой силой из Киева, Изяслав бежал в Польшу искать защиты у короля Болеслава. Он наградил польского государя драгоценностями, золотом и попросил у него войска изгнать Святослава с престола. Хронисты записали тогда: «Но Болеслав уже не хотел искать новых опасностей в России и указал путь от себя». Изяслав попытался вернуть свои сокровища, но тщетно добивался. Болеслав изгнал его из Кракова. И тому ничего не оставалось, как искать помощи в Германской империи.
Стояла глубокая осень, день и ночь ниш дожди, иной раз со снегом, но Изяслав с немногими воинами упорно шёл в город Майнц, где была резиденция императора. В пути он разыскал брата княгини Оды, трирского духовного чиновника, пробста Бурхарда, и тот пообещал представить князя императору. Генрих IV умел быть любезным и встретил Изяслава с распростёртыми объятиями. Когда же выслушал исповедь великого князя, заявил:
— Я сделаю всё, чтобы вернуть тебе, великий князь, законную и Богом данную корону.
Изяславу показалось, что Генрих сдержит своё слово. Он ещё не знал, что у императора нет сил и возможностей повлиять на Святослава. Близкий к отчаянию, Изяслав поклялся быть данником Германии, ежели Генрих прогонит Святослава из Киева. В порыве благодарности Изяслав отдал Генриху оставшиеся у него сокровища. Это были прекрасные золотые кубки и братины, драгоценные женские украшения, византийские монеты, меха, которые ценились выше золота.
У Генриха дрожали от жадности руки, когда он перебирал так легко доставшееся ему богатство. Легко потому, что он и не думал исполнять своих обещаний. А для того чтобы избавиться от угрызений совести, послал в Киев того самого пробста Бурхарда, сказав при этом:
— Ты припугни похитителя трона, скажи, что приведу в Россию несметное войско и расправлюсь со злодеем.
Посол Бурхард явился в Киев, передал Святославу всё, как велел Генрих, но и своё добавил, злясь на государя за то, что не отблагодарил его за полученное богатство, не порадел перед майнцским архиепископом о повышении в сане.
Святослав, Ода и Бурхард сидели в трапезной. Сестра угощала брата вкусными яствами, медовухой. Он же сказал Святославу:
— Тебе, великий князь, нет нужды верить угрозам германского императора. Он лишь чудом держится на престоле. Да близок день, когда будет низвергнут. Северные князья хотят иного государя.
Бурхард, очевидно, хорошо знал обстановку в империи той поры. Спустя два года после его поездки в Киев князья Германии, испытывая враждебные отношения к Генриху IV на своём съезде 1077 года в Форхгейме, низложили его. И только чудом почти через два года со дня низложения он вновь обрёл корону императора.
И вот златолюбец стоял у окна, жадным взором пожирая караван княжны и думая о том, как захватить его без ущерба для своей чести.
Но в это время случилось то, чего император никак не ожидал. Из дормеза легко выскочила, как догадался Генрих, княжна россов и побежала к стаду верблюдов, что-то сказала погонщикам и так же быстро вернулась в дормез. Чем после её слов занялись погонщики верблюдов, император не заметил, не до них ему было. Большой ценитель женской красоты, он увидел в юной княжне то, что со временем обязательно превратит её в прекрасную даму. Однако насладиться её видом императору не удалось. Она промелькнула перед ним, как солнечный луч, и скрылась. А в это время на площади раздался низкий трубный рык, заставивший замереть в страхе всех горожан. Вслед за этим одиноким рыком раздался громоподобный рёв. Казалось, ревели не пятнадцать верблюдов, а сотни зверей. И на площади поднялась паника, горожане разбегались в разные стороны, ломились в узкие улочки. Толпа подхватила всех стражей порядка, бургомистра и с криками ужаса унесла их с площади.
Не задержался на площади и караван россов. Под рёв верблюдов он тронулся к западным воротам города и вскоре скрылся. Площадь опустела. Генрих распахнул окно и, сжимая кулаки, со злостью смотрел вслед уходящему каравану. За его спиной стоял маркграф Деди Саксонский.
— Мой государь, какой ужас! Как они посмели? — скажи он равнодушно.
Однако равнодушие маркграфа прорвало плотину чернения императора, он закричал на своего фаворита:
— Это ты со своим благодушием виноват в том, что мы их упустили! Вели немедленно седлать коней! Я догоню этого длинного маркграфа в чистом поле и там уж поговорю с ним!
Деди знал характер своего государя и быстро остудил его пыл.
— Да, конечно, мой кайзер, я сей же миг распоряжусь седлать коней, правда, не знаю, как мы минуем многолюдные улочки. Горожане наверняка освищут нас и закидают тухлыми яйцами. Они ведь не ведают, что ты император, а вот смутьяном тебя сочтут, — рассуждал Деди.
— Хорошо, говори дело, — потребовал Генрих.
— Надо подумать, мой государь Да надейся: что-нибудь светлое придёт в голову до вечера.
Между тем караван уходил всё дальше на северо-запад, к Штадену. И на всём пути жители селений выходили на дорогу и с удивлением смотрели на диковинных животных, а мальчишки, одолевая страх, бежали следом. Странно было одно: слух о том, что случилось в Мейсене, уже летел впереди каравана, и тому удивлялись все спутники маркграфа. Удивлялись и побаивались: как бы дикие животные не навели страх на немцев на всём пути до Гамбурга и Штадена. Камергер барон Вольф спросил юного маркграфа:
— Ваше высочество, это твоим повелением княжна навела ужас на горожан Мейсена?
— Полно, барон, откуда мне знать, на что способны эти дикие степные великаны?
— Как же тогда княжна осмелилась навести ужас на горожан и на нас?
— Ах, барон, я, как и ты, не знаю нрава россов. Знать, там все женщины таковы, — в раздумье ответил Генрих.
За долгий путь княжна не раз удивляла маркграфа. Её поступки были непредсказуемы. Во время остановок на отдых, которые длились сутками, эта отроковица одевалась воином, садилась на коня и в сопровождении своих ратников, которых вёл телохранитель Родион, мчалась в ближний лес и там искала дичь. Генриху однажды удалось увидеть, как она стреляла из лука. Полёт стрелы не всегда был метким, но летела она с такой же силой, как и у бывалого воина. Это и удивляло Генриха. Увы, маркграфу Генриху не доведётся увидеть всего того, на что была способна его будущая супруга. Злой рок уже преследовал юного Генриха.
Наконец-то ранним августовским вечером караван достиг Гамбурга, откуда до Штадена оставался всего один день пути. Но Генриху не надо было спешить. В Гамбурге, на его северной окраине высился замок, принадлежащий роду Штаденов, и в нём жила княгиня Ода, мать Вартеслава, любимая тётушка Генриха. В замке уже знали о приближении каравана. И у городских ворот князя Вартеслава встретил слуга его матери.
— Ваша светлость, матушка княгиня изошлась от ожидания и боится, что вы проедете в Штаден, — сказал слуга.
— Вот уж напрасно боится. Мы никак не могли миновать наш дом. Но что-нибудь случилось? Я вижу, ты в смятении.
— Да, ваша светлость. Утром прибыл в Гамбург сам император, и он настаивает, чтобы маркграф Штаденский и его невеста заехали в замок.
— Странно. Но чем вызвано такое любопытство государя к чете помолвленных? — спросил Вартеслав.
— Того не знаю, ваша светлость, — ответил слуга.
Князь Вартеслав не мог не уведомить Генриха об императоре. Он подъехал к дормезу маркграфа, сошёл с коня, нырнул внутрь экипажа.
— Слушай, братец, тут такая препона, — начал Вартеслав, — в наш замок пожаловал государь, который желает увидеть тебя и Евпраксу. Что ты на это скажешь?
Генрих был озадачен. Что-то побудило его вспомнить события в Мейсене. И ему показалось, что досмотр достояния Евпраксии там пытались провести не случайно. И первое, что пришло в голову маркграфу, — это отказаться от посещения замка и продолжать путь в Штаден. И Генрих сказал Вартеславу:
— Я не хочу видеть Рыжебородого. И мой батюшка одобрил бы сей шаг.
— Ты прав, я тоже одобряю, но как примет это моя мать. Не будет ли это вам с Евпраксой в ущерб? Может, покажетесь. Помнишь, как уезжали, она наказывала заехать к нам. А Рыжебородый... Да что он нам!
— Я помню наказ тётушки. И не буду огорчать её, — согласился Генрих.
— Вот и славно, — обрадовался Вартеслав, но посоветовал: — Только отправь, пожалуйста, караван в Штаден. — И засмеялся: — А то горожан верблюды перепугают. Да надо сказать обо всём княжне.
Вартеслав и Генрих покинули дормез, подошли к колеснице, в которой ехала Евпраксия в сопровождении боярышни Милицы. Открыв дверцу, Вартеслав сказал:
— Сестрица, тут у нас малая препона. — И князь рассказал о сути и заключил: — Так мы всё-таки отважились предстать перед государем. Тебя это не пугает? Караван мы отправим, да и сами побудем недолго.
— Коль так, отчего не посмотреть на государя. А он не страшный? — И княжна весело рассмеялась.
— Он всяким бывает, — серьёзно ответил Вартеслав. — Только я тоже его не видел.
Вскоре Вартеслав распорядился, как было решено. Караван, ведомый бароном Вольфом, под охраной отряда россов, которых вёл сотский Тихон, минуя Гамбург, ушёл на Штаден, а все остальные направились в город.
Княгиня Ода встретила близких на дворе замка и первым делом заключила в объятия княжну Евпраксию.
— Какая ты славная! Ну вылитая матушка! — восторженно произнесла княгиня. — Тебе у Штаденов будет хорошо, и ты будешь любезна матушке Генриха.
— Спасибо, тётушка. Я хочу тепла, — ласкаясь к Оде, ответила княжна.
— Вас в Штадене ждут. Да вот незадача: кайзер прямо-таки потребовал, чтобы я остановила вас в Гамбурге. И появился он здесь вовсе неожиданно, на взмыленных конях. Словно его преследовали враги.
— Но что ему нужно? — спросил Вартеслав.
— Сказал просто: хочу видеть невесту и жениха, сына моего лучшего друга.
— Как он посмел так говорить? — возмутился Генрих. — Отец был с ним в ссоре десять лет, с той поры, как... — И осёкся. — Да вы знаете...
— Знаю, знаю, славный, — согласилась Ода. — Однако пора в замок. Государь ждёт нас.
В пути Вартеслав подошёл к Оде, сказал:
— Матушка, я привёз с Руси всё, что принадлежит тебе. Это твоё добро, так сказал батюшка Всеволод. Он же просит тебя заботиться о племяннице.
— Так и будет. И спасибо тебе за радение.
Император и его свита сидели за трапезой, когда в зале появились маркграф и княжна. Он подошёл к ним. Маркграф показался императору смешным и жалким, и он сказал с теплотой:
— Я поздравляю тебя со счастливым выбором. Твоя невеста прекрасна. — Сказав это, он аут же забыл о маркграфе, его внимание приковала к себе Евпраксия. Юное лицо княжны, как и в Мейсене, показалось ему обольстительным. Он понимал, что так думать об этой девочке кощунственно, но ничего не мог поделать с собой и не отрывал зелёных глаз от живого, нежного и манящего тайным огнём лица княжны. Ведь только её большие серые глаза в пушистых ресницах могли свести человека с ума, считал опытный сердцеед.
— Как вас звать, юная фрейлейн? — спросил император.
Княжна замешкалась и не очень уверенно сказала по-немецки:
— Моё имя есть Евпракса.
Император засмеялся. Он хотел быть ласковым, нежным с этой юной славянкой. Ему, тридцатидвухлетнему человеку, она могла быть дочерью. И государь погладил Евпраксию по голове.
— О, фрейлейн, ты прекрасна.
Евпраксия тоже успела рассмотреть императора. Он показался ей привлекательным мужчиной. Правда, его зелёные глаза, рыжие волосы на голове и рыжая борода напоминали ей берестовского козла, хитрого и коварного. Тот козел любил подкрадываться к девкам и поддавать им под зад. Евпраксии не дано было заглядывать в будущее. Там бы она увидела, что этот «козел» спустя шесть лет станет её супругом.
Но вот гости сели к столу и принялись за пищу. Оказалось, что все были голодны. Генрих IV сидел рядом с княгиней Одой, и между ними шёл тихий разговор. Император настаивал, чтобы Евпраксию до замужества поместили в пансионат при женском монастыре.
— Там она научится нашей речи, познает науки, и там примут её в лоно нашей веры.
— Не знаю, нужно ли ей покидать православие? — заметила Ода.
— Я бы с вами не спорил, прекрасная Ода, если бы в Риме сидел мой папа Климент. Однако папа Григорий не благословит брак твоего племянника с арианкой.
Маркграф Генрих той тихой беседы не слышал, но чувствовал, что она касается его и Евпраксии. Нервничал. К тому же ему не хотелось сидеть рядом с маркграфом Деди, который отнял у него отца. Ему стало тягостно, и он не усидел за столом, позвал Евпраксию и увёл её осматривать покои замка.
— Здесь всё как в волшебной сказке, — сказал Генрих.
Замок был возведён два века назад. Последние годы, пока княгиня Ода была государыней на Руси, замок пребывал в запущении. Но, вернувшись, на родину Ода позвала лучших мастеров из Гамбурга, Кёльна и Мейсена, и они три года обновляли внутренние покои замка. Мастера потрудились отменно. Внутри замок превратился во дворец, и каждая зала была неповторима. И если это была зимняя зала, то сами её стены, отделанные мягкими породами дерева, как бы излучали тепло. В летних же покоях веяла прохлада. В залах было много бронзовых и мраморных статуй, столы украшали хрустальные вазы. Ода знала вкус красоты, ей было откуда черпать опыт, она дважды побывала в Константинополе, где видела прекрасные дворцы и всё то, что их украшало.
Восторгаясь увиденным, Генрих и Евпраксия обменивались кое-какими немецкими фразами. Однако у Генриха было плохое настроение, и он испытывал раздражение от неверного произношения княжной как фраз, так и отдельных слов. Он даже испугался, что если Евпраксия не познает его язык, то их жизнь может оказаться мучительной.
Погуляв по замку, они вернулись в трапезную и увидели, что император и его приближённые всё ещё сидели за столом и вели оживлённую беседу. Чувствовалось, что гости захмелели, и даже сам император вёл себя менее сдержанно. Он усадил рядом с собой маркграфа и княжну и заговорил с ними о том, чего в трезвом уме не сказал бы.
— Любезный маркграф, ещё раз поздравляю тебя с успешным выбором невесты. Как подрастёт, из неё получится превосходная дама. И потому ты должен благодарить тётушку Оду за заботу о себе.
— Спасибо, ваше величество, я ей благодарен, — ответил маркграф.
— Не перебивай. Но я не уверен, что графиня Гедвига когда-нибудь приблизит к себе твою подругу и скажет ей ласковое слово.
— К чему вы это говорите, государь? — спросил, негодуя, маркграф.
— К тому, что ты ещё молод и ничего в людях не понимаешь, — Генрих IV вспомнил, как был одурачен в Мейсене и посчитался с маркграфом: — Княжна дикарка, и она не будет угодна честолюбивой графине. Княжне один путь до замужества — Кведлинбургский монастырь. И если ты исполнишь мою волю и отправишь туда свою невесту, я поверю, что ты любишь императора, внимаешь его советам.
Говоря неприятное, государь смотрел на маркграфа ласково, и крупная рука его мягко накрыла хрупкую кисть юноши. А он, ещё не умеющий отличать ложь от искренности и по доброте своей способный прощать цинизм, почти согласился с императором поместить Евпраксию на воспитание в монастырь. Впрочем, он вспомнил, что в Киеве и у него мелькала эта мысль. Она показалась ему здравой.
Между тем ни император, ни маркграф не нарушали традиций той поры. Германская знать со времён императора Генриха святого посылала в монастыри своих дочерей. Маркграф знал по рассказам матушки Гедвиги, что и она в юности воспитывалась в Кведлинбурге, учила там латынь, читала Горация, Виргиния. И то, что император советовал маркграфу поместить Евпраксию в Кведлинбург, тем оказывалась ей большая честь. В Кведлинбурге аббатисами всегда были только принцессы королевской крови. И в это время аббатисой там стояла сестра императора Адельгейда.
Но юный маркграф, пытаясь угодить императору и своей матери, ещё не знал, как к этому отнесётся его нареченная. И чтобы донести до княжны пожелание императора, ему нужен был переводчик. Он попросил у императора милости освободить его от беседы и ушёл с Евпраксией искать Вартеслава. Генрих надеялся, что князь по-родственному и мягко убедит княжну отдать себя во временное заточение в монастырскую обитель. Маркграф понимал, что убедить её будет очень трудно. И причина была одна: неукротимость нрава, неспособного к монастырскому образу жизни.
Однако Вартеслава не удалось найти, сказали, что он отлучился в город. На самом деле всё было не так. Вартеслав скрывался на конюшне. И не один. Там, в укромном месте, он вёл беседу с императорским стременным молодым бароном Ламбергом, племянником графа Эткера, который добивался руки княгини Оды. Ламберг поведал князю о тайном пребывании императора в Мейсене.
— За вами следили с первого дня вашего возвращения в Германию и все передавали с гонцами кайзеру. Когда вы появились в Мейсене, император был уже там. Когда вы въезжали на площадь, я видел, что он стоял у окна за шторой. И это он повелел досмотреть ваше имущество на верблюдах. А вот зачем, мне то неизвестно.
— Но кто скажет, что заставило его? — спросил Вартеслав.
— Это могут сказать только девушки для увеселения, — усмехнулся Ламберг.
— Какая подлость! — возмутился Вартеслав. Он догадался, кого имел в виду барон. Ходили слухи, что император во многих городах тайно содержал вольных девиц.
— Да, сие так. А после того, как княжна взбунтовала верблюдов, император пришёл в ярость. Он обозвал её «дикаркой» и пообещал наказать. А слов Рыжебородый Сатир на ветер не бросает, — заключил рассказ барон Ламберг.
— Но сегодня он был с нею любезен, — заметил Вартеслав.
— Это игра в кошки-мышки, — ответил Ламберг:
В сию минуту на дворе замка раздался звук боевого рога. Это был сигнал к сборам в путь. Так по воле императора отмечался его отъезд из тех мест, куда он пребывал с визитом. Лишь в Мейсене традиция была нарушена. Барон Ламберг усмехнулся. Он-то знал, что в Мейсене император не впервые нарушил традиции королевского двора.
Глава седьмая РЫЖЕБОРОДЫЙ САТИР
Никто из приближённых Генриха IV, даже самый близкий к нему вельможа маркграф Деди Саксонский, не мог знать, о чём думает император и каким будет его первый шаг, когда он проснётся или выйдет из-за стола после трапезы. Так было и на этот раз, когда Генрих вместо полуденного отдыха заставил приближённых собираться в путь. К тому же на сборы дал всего несколько минут.
— Всем в стремя! Всем в стремя! — разбушевался он, едва лишь маркграф и княжна покинули трапезную, а Ода ушла следом за ними. Он уходил из залы покачиваясь и продолжал кричать: — Бездельники! Винолюбы! Я вам покажу, как нежиться.
Сопровождающие императора графы и бароны хотя и знали крикливость своего кайзера, но страху в их лицах не было. Они даже посмеивались. Ведь он, по их мнению, изгонял из себя злых духов.
На дворе барон Ламберг уже держал под уздцы коня императора. Он помог ему подняться в седло. Приближённые тоже не замешкались и были готовы в путь, но гадали, гада поведёт их прихоть непредсказуемого сатира. Он же, забыв проститься с гостеприимной хозяйкой Одой, покидал замок в прострации. Оказавшись за воротами Гамбурга, Генрих IV не свернул на юг к своей резиденции в Майнце, а погнал коня на запад. И какую цель там наметил император, ещё долго никому не было ведомо.
«И что удумал Рыжебородый Сатир?» — задавал себе вопрос маркграф Деди, серой глыбой восседая на своём огромном жеребце. Однако Деди не утруждал себя особо разгадкой поведения императора. За многие годы он уже привык к поведению своего государя, зная, что самая замысловатая загадка в конце концов разгадывалась. Стоило только набраться терпения. Знал маркграф, что за это и любил его Рыжебородый Сатир. Однако на этот раз Деди Великан кое о чём догадывался. Поводом тому послужило поведение императора в Мейсене. Видел однажды Деди радужное свечение глаз Генриха, когда тот получил от русского князя сокровища. Ни прежде, ни позже до Майнца Деди не замечал такого свечения. Однако загадка всё-таки оставалась неразгаданной. Ведь Деди был свидетелем того, что в Майнце император не увидел ничего подобного, чем порадовал его князь Изяслав. Но Деди предположил, что, может быть, в ожидании увидеть подобное так радужно засветились глаза императора. Конечно, Деди не трудно было догадаться, что Генрих мог увидеть что-то в своём воображении. Но что? Не могла же его смутить русская княжна. Да и увидел-то он эту девочку уже под конец своего торчания у окна. К тому же не мог император прекратить военные действия в Италии и прискакать за тысячу миль только для того, чтобы посмотреть на княжну. Гели добавить, что в Гамбурге он совсем мало смотрел на неё, то размышления Деди о княжне были напрасными. Всё-таки тут что-то было связано с тем, что княжна везла в Штаден в своих тридцати тюках, к такому выводу Деди пришёл не случайно.
Римско-Германская империя вот уже много лет переживала трудные времена. Беспокойная жизнь императорского двора началась десять лет тому назад, и виноват в передрягах был сам Генрих. Двадцатидвухлетний государь разными мерами дерзнул увеличить свои владения в Саксонии и в Тюрингии. В тех же землях он обложил своих подданных непомерными налогами. И то и другое не поправилось многим князьям и горожанам этих земель. И маркграф Оттон Нордгеймский призвал их к восстанию. Генрих мог бы подавить восстание, если бы не относился высокомерно и заносчиво к тем князьям и графам, которые были ещё преданы ему, если бы попросил у них помощи. Он сумел даже поссориться с маркграфом Удоном Штаденским, жена которого Гедвига была сестрою его жены Берты. Он пренебрёг силой Божьего слова, церкви и епископов. В роковом 1072 году он добился своей враждой того, что его грозились отлучить от церкви и под ним зашатался престол. Изворотливый по природе, Генрих избежал потери трона только потому, что пошёл на союз с горожанами прирейнских городов, которые и поднялись против северных князей и воинствующих епископов. Оттон Нордгеймский утихомирился, и волны опасности откатились. Епископат Саксонии и Тюрингии первым осознал, чем грозит восстание горожан центра державы, и начал искать пути сближение с императором и его минестериалами. Епископы предложили соединить усилия против Оттона, а в 1074 году выступили с заявлением о «Божьем мире». Но, прочитав условия «Божьего мира», Генрих словно ошалел от негодования. Он вновь призвал горожан взяться за оружие и вместе со своими рыцарями, лучниками и копейщиками повёл их на войско Оттона Нордгеймского. Июльской порой два войска сошлись под Гамбургом. Удача сказалась на стороне более решительного и отважного Генриха IV. Он разбил войско саксов и пленил маркграфа Отгона. После этой победы епископат оказался сговорчивее и был заключён выгодный для императора «Божий мир».
Трон под Генрихом уже не шатался, сил прибавилось. И наступило время, как счёл император, укоротить власть папы римского Григория VII. По примеру своего отца Генриха III он стал собирать войско для похода на Рим. Нашёлся и повод. Папа римский своим посланием отказывал императору утверждать духовных лиц в должности и сане епископа или аббата. Как припоминал маркграф Деди, император «взбунтовался» и показал свою силу, самолично назначил германских епископов в Сполето и Фермо, прежде возведя их из священников в сан. В те же дни он отправил послание в ломбардийский епископат, в котором обещал ломбардийцам поддержать их в борьбе против папы Григория VII.
Бурные события развивались стремительно. Папа римский срочно созвал конклав кардиналов, и в декабре семьдесят пятого года, когда Генрих только что отпраздновал своё двадцатипятилетие, он был отлучён от церкви. Несгибаемый император стойко выдержал удар папы римского и сам нанёс ему ответный удар такой силы, от которого папа Григорий VII не сумел оправиться. Генрих IV срочно созвал Вормский синод епископов католической церкви, и они, призванные по обету исполнять волю папы римского, пошли на поводу у императора. Никто этого не мог объяснить, но в результате 29 января 1076 года синод провозгласил низложение папы римского Григория VII. Казалось бы, пришло время торжествовать Генриху победу, но для торжества у него не было денег. А когда благодаря полученным от великого князя Изяслава сокровищам деньги появились, надо было вновь думать о защите престола, о борьбе против всё тех же саксонских князей, которых возглавил всё тот же упорный Оттон Нордгеймский, бежавший из заточения. К этому времени силы Оттона приросли. В борьбе против Генриха с ним объединились князья Южной Германии. Низложение папы Григория VII тоже не прошло бесследно. Многие епископы вновь ополчились против императора и увели свою паству под знамёна маркграфа Оттона Нордгеймского.
Маркграф Деди Саксонский, оказавшийся в октябре 1076 года в городе Трибуре, стал свидетелем новой попытки свержения Генриха. Помешала тому лишь борьба кланов. Одни прочили на престол Оттона, другие герцога Рудольфа Швабского. Во время выборов голоса разделились поровну, и на уступку никто не пошёл. Для Генриха это было счастливое голосование. Примчав в Верону, где в эту пору пребывал Генрих, маркграф Деди сказал ему:
— Государь, молитесь Всевышнему и Пресвятой Деве Марии. Они к тебе милосердны.
— Говори же с какой стати молиться? — потребовал Генрих.
— Южные и северные князья поссорились, каждый клан тянул на престол империи своего, но Бог оказался на твоей стороне, и трон твой незыблем.
— Что ж, я сегодня же отслужу мессу, — заявил Генрих, довольный поездкой своего фаворита в Трибур.
И Генрих не только отслужил мессу благодарности случаю, но в тот же день было написано папе римскому, всё тому же Григорию VII, послание, в котором император выражал папе покорность сына. Он покаялся во всех грехах. Правда, Деди, который писал это послание, знал, что Генриху и дня не хватило бы на изложение всех своих грехопадений, и всё-таки конец послания внушил Деди надежду на то, что Генрих будет наконец чтить Бога, веру и папу римского. Было написано, что император полностью отдаёт себя в руки верховного понтифика и наместника Иисуса Христа на земле папы римского.
Пока Деди начисто переписывал послание императора, он нашёл ещё один ход конём, который должен был окончательно покорить папу. Генрих IV приглашал Григория VII на рейхстаг в Аугсбург, где думал публично отказаться от власти над епископами. Однако, заявив об этом в послании, он не поехал в Аугсбург, а отправился на земли графини Матильды Тосканской во Флоренцию, где надеялся до рейхстага встретиться с папой. Когда он достиг замка графини Матильды, то уже знал, что папа Григорий VII там. Он всегда останавливался у Матильды, если вынужден был ехать на север Италии или в Германию.
Император облачился в одежды кающегося и возник близ ворот замка. Вместе с маркграфом Деди он ждал понтифика с раннего утра и до полудня. А когда, наконец, папа смилостивился и вышел, Генрих встал на колени, поцеловал папе руку и попросил принять покаяние. Папа увёл императора и маркграфа в замок. Это «покаяние» длилось за обильной трапезой до позднего вечера. Свидетелями на нём были графиня Матильда и маркграф Деди. Правда, Деди меньше слушал, а больше любовался молодой, красивой и отважной графиней Тосканской. В будущем Деди не раз придётся испытать отвагу этой воительницы. Она окажется самым непримиримым противником императора.
Папа Григорий VII был милосерден и отпустил покаявшемуся все грехи. И даже то, что Генрих обманул папу по поводу рейхстага в Аугсбурге. Он и не думал собирать рейхстаг. И то сказать, пред папой никогда ещё не стояли на коленях не только императоры, но и короли. А Генрих стерпел коленопреклонение с дальним расчётом. Он думал не только получить отпущение грехов, но и заручиться поддержкой папы в борьбе против саксонских и тюрингских князей. Он добился своего: папа пообещал Генриху помощь военной силой и деньгами.
Однако, когда Генрих вернулся из Флоренции в Верону, Деди на другой же день доложил императору:
— Ваше величество, а вы поторопились с покаянием, и помощь папы вам не потребуется, она будет только во зло.
— Как ты смеешь говорить подобное, винная бочка? — возмутился Генрих. — С чего ты взял, что во зло?
— Мне стало известно, что князья севера и юга недовольны твоим визитом к папе и твоим покаянием. Они вновь сходятся в Форхгейме.
— Собирайся немедленно и ты туда. Узнай, о чём пойдёт речь.
Деди отправился в Форхгейм, но путь был неближний, и он опоздал на съезд князей. Однако через своих людей Деди узнал о всех тайных решениях князей. Они были печальны для императора. Вельможи признали, что союз Генриха IV и Григория VII — прямая угроза их независимости. И Генрих был низложен с королевского престола, который принадлежал ему по праву рождения. Деди вернулся в Верону и сказал своему кайзеру:
— Мой государь, ты уже не король Германии, и тебя зовут на присягу Рудольфу Швабскому?
Генрих держал в руках серебряный кубок и запустил им в маркграфа. Но Деди увернулся и поймал кубок.
— Зачем ты явился предо мной?! Там бы и оставался у Шваба!
— Прости, государь, но Шваба я никогда не полюблю так, как тебя. Лучше будем собирать войско, чтобы идти на него. Как мне хочется укоротить того осла на голову! — И Деди раскатисто засмеялся.
Генрих не отозвался на призыв маркграфа. Он ничего не мог противопоставить сплочённым силам князей Германии. У него не было достаточно войска и денег, чтобы нанять новых воинов. Даже приближённым — минестериалам — он не мог выплачивать жалованье, потому как казна была пуста и так продолжалось уже три года. Он ещё держал в руках корону императора, его ещё чтили, но круг подданных, признающих его власть, с каждым годом сужался. И оказался, наконец, мизерным, когда в марте 1080 года папа Григорий VII отказал ему во всякой поддержке в борьбе за королевский престол и вторично отлучил его от церкви. О причине отлучения Деди вспомнит потом и согласится с понтификом в том, что тот поступил по справедливости.
В те тяжёлые весенние дни, когда Генрих попал, казалось бы, в безвыходное положение, судьба в какой раз проявила к нему милость. Неведомо по каким причинам, поговаривали, что был травлен, скончался Рудольф Швабский. Избранный съездом князей Германии единодушно, он так и не поднялся на престол, не вкусил королевской власти. Смерть Рудольфа Швабского словно отрезвила германский народ. По всей Германии прекратились волнения, епископаты и города вновь присягнули на верность императору.
Генрих расправил плечи. Однако, непредсказуемый по характеру, вместо того чтобы благородно править государством, он развязал новую войну. Собрав своих верных минестериалов, он сказал им:
— Я благодарю вас, что не оставили своего императора в беде. Теперь пришёл наш час взять в руки всю полноту власти в империи.
— И что вы намерены делать, государь? — спросил его маркграф Деди.
— Три дня назад ко мне приходил за советом граф Паоло Кинелли. — Генрих показал рукой на молодого черноглазого красавца. — Он говорил, что у него в Риме очень важные дела о наследстве. Спрашивал меня, когда он туда может попасть. Тогда я ответил, что не знаю. Теперь говорю другое: любезный граф Паоло, вы сказали, что в своих имениях можете набрать войско в три тысячи человек, что у брата наберётся больше тысячи, а вам, чтобы войти в Рим, нужно тысяч пятнадцать, что недостающие тысячи воинов будут моими. Да, господа, я объявляю папе римскому Григорию Седьмому войну. И пусть это не удивляет вас, потому как знаете, сколько обид он мне причинил. Я объявляю войну за самодержавие! Я низложу папу и заточу его в монастырь. Я вновь подниму на престол церкви преданного мне и оскорблённого Григорием папу Климента Третьего. Мы наведём в Священной империи порядок и тишину.
В тот день маркграф Деди очень удивился. Он впервые услыхал от императора подобное откровение и подумал, что теперь ему и всем минестсриалам придётся много поработать. К тому же император отдаст им повеление раскошеливаться и добывать деньги, которые потребуются для похода на Рим, собирать под знамёна императора войско.
Однако в скором времени планам Генриха не дано было осуществиться. Обстоятельства вынудили его покинуть Верону и переехать в Кёльн. Вскоре же в императорском дворце появился антипапа Климент и доложил Генриху о том, что маркграф Удон Штаденский намерен отправить к великому князю России сватов, дабы учинить помолвку своего сына с какой-то из дочерей великого князя.
О том, что произошло дальше, маркграфу Деди не хотелось вспоминать. И теперь, покинув Гамбург, маркграф пытался разгадать замыслы Генриха, который скакал, по мнению Деди, неведомо куда и зачем. Но ближе к вечеру на развилке дорог маркграф увидел знакомую ему старую капеллу. Он вспомнил, что эта капелла стоит на пути из Штадена в Кёльн и Гамбург. И маркграф понял, что император направляется в Штаден. Деди был поражён. «Как он может появиться перед лицом графини Гедвиги, которая убеждена, что виновником смерти её супруга есть не только я, но и император», — подумал Деди и на развилке сказал:
— Ваше величество, нам лучше повернуть не направо, а налево.
— Это ещё почему? — гневно сверкнув глазами, спросил Генрих. — Ты же не виноват в том, что Удои напал на тебя. Или за тобой какая другая вина перед Гедвигой?
— Вам это лучше знать, — ответил Деди.
— Верно. Потому я и еду в Штаден, что ни моей, ни твоей вины перед графиней нет.
Маркграф знал, что отговаривать императора бесполезно. Он подумал, что, может быть, Гедвига не забыла всё то хорошее, что объединяло императорский дом и дом Штаденов. Ведь когда-то мать Гедвиги была при матери Генриха, императрице Агиесе, первой дамой. Поэтому будет милосердна к ним. Но, согласившись следовать в Штаден, маркграф не видел надобности делать визит к графине Гедвиге. Подумать только, ведь Генрих больше чем на два месяца оставил войско в Италии, доверив его маршалу Ульриху Эйхштейну и графу Паоло Кинелли, хотя не был уверен в их преданности и они могли переметнуться на сторону папы.
Генрих и сам знал, что рискует многим, если не всем, что к тому времени держал в руках. Но знал он и другое: если у него будут деньги для ведения войны с сильным войском папы римского, то он и перед князьями выстоит. Деньги — вот что ему нужно для укрепления тропа. Пасмурный день был на исходе. Лишь только полоска вечерней зари, горевшая на дальнем западе меж облаков, погасла, как быстро стало темнеть. До Штадена оставалось ещё половина пути. Генрих попытался гнать копя, но у его спутников и у воинов кони были слабее. Вскоре он оказался на дороге в одиночестве. Это ему не понравилось, и он придержал своего скакуна. Первым императора догнал Деди.
— Ваше величество, впереди таверна, — сказал он. — Надо бы остановиться на ночь. Мы гоним коней от Мейсена больше четырёх суток Скоро они падут.
— Я подумаю, — ответил Генрих. Он всматривался в даль и, заметив впереди несколько огней, спросил Деди: — Ты видишь что-нибудь впереди?
Присмотревшись, маркграф ответил:
— Похоже, что путники жгут костры.
— Странно. И зачем, ежели таверна рядом? — размышлял Генрих. И вдруг его осенило: «Уж не караван ли это?» И он позвал стременного: — Ламберг! — Тот подскакал. — Видишь огни? Узнай, кто возле них!
— Исполню, ваше величество, — ответил Ламберг и помчался к огням.
Прошло несколько минут, и вдруг огонь одного костра взметнулся и осветил стоящих между деревьями верблюдов. Сомнений не оставалось: там караван. И мелькнула у Генриха простая и убедительная мысль: «Я конфискую состояние каравана. Никому в державе не дано нарушать моих законов». Приняв такое решение, император почувствовал прилив сил. Он понимал, что за эту конфискацию его могут обвинить в незаконных действиях, но кто бросит обвинение ему в лицо? Нет такого человека в его окружении. К тому же он конфискует добро не для себя, а ради спасения державы, успокаивал совесть Генрих.
Вернулся Ламберг. Сказал императору:
— Ваше величество, там россы с верблюдами.
— Ты славный воин, Ламберг, — отозвался Генрих, продолжая размышлять, как ему лучше и вернее поступить. Он соображал быстро, и к нему пришла новая задумка, имеющая под собой крепкую почву. Сейчас он появится перед путниками и велит арестовать всех немцев. Их, как ему известно, чуть больше десяти. За главного — барон Вольф. И он обвинит Вольфа и прочих в измене императору. Обвинение прозвучит убедительно, потому что маркграфу Удону было запрещено отправлять послов в Россию. Запрет нарушен. Что это, как не измена? Дальше всё будет просто: арестованных уведут в одну сторону, караван погонят в другую, и никто не узнает, где он исчезнет. Всё это Генрих успел продумать до того, как его отряд приблизился к каравану. И настал миг, когда обдуманное нужно было донести до приближённых. И конечно же, в первую очередь до маркграфа Дели. Ему предстояло играть первую роль. Он позвал Деди, который следовал позади, сказал:
— Сейчас ты возьмёшь воинов, подойдёшь к каравану и арестуешь всех саксонцев. Всё исполнишь волею императора.
У маркграфа не было времени на размышления, и он ответил:
— Исполню, как сказано. — И спросил: — Что с ними делать?
— Скажешь, что они обвиняются в измене государю, приставишь к ним барона Хельмута и скажешь, чтобы гнал в Майнц. Оттуда я их отправлю в Италию к войску.
— Всё ясно, ваше величество, — ответил Деди и посмешил к воинам.
Император вновь позвал Ламберта.
— Барон, иди следом за маркграфом. Как только он арестует саксонцев, вернёшься и доложишь.
Ламберг молча последовал за Деди. Через минуту-другую Деди и воины были в роще. Император видел их, пока их не скрыла тьма. Время текло медленно. Генриху показалось, что прошла вечность, а Ламберг всё не возвращался. Он уже подумал, что совершил ошибку. Надо было с ходу навалиться всей силой, захватить караван, а тех, кто при нём, предать мечу. Но ход мыслей оборвался. Генрих услыхал звон мечей, а вскоре появился Ламберг.
— Ваше величество, там сеча! — крикнул он. — Россы защищают караван людей маркграфа.
Генрих, как истинный воин, крикнул: «За мной!» — и повёл воинов и приближённых к каравану.
Там всё случилось не так, как задумал Генрих. Когда отряд Деди приблизился к каравану и он огласил волю императора, ему возразил камергер маркграфа барон Вольф:
— Иди и скажи Генриху, что у нас нет императора. Мы слышали, что он низложен. И нет над нами его воли.
— Вы ещё и оскорбляете императора! — Деди обнажил меч и крикнул своим воинам: — Взять их!
Вельможи маркграфа Штаденского развели костёр в стороне от воинов россов, дабы не беспокоить верблюдов. И Деди воспользовался этим, окружил саксонцев. Но, как он потом скажет, всё испортил камер-юнкер маркграфа Генриха Саксон. Он знал славянскую речь и крикнул:
— Тихон, ратуй!
Сотский Тихон, что стоял во главе полусотни Евпраксии, был всегда готов к тому, чтобы обнажить меч, кого-то защитить, на кого-то напасть. Он крикнул: «Други, за мной!» и в мгновение ока полусотня русичей была близ немцев, взяла их в хомут.
— Тихон, оборони нас! — вновь раздался крик Саксона.
С обнажённым оружием, прикрываясь щитами, русичи двинулись на воинов Деди. И зазвенели мечи. Но хомут затягивался всё туже. И Деди понял, что его воинам грозит гибель, потому как могучим россам, защищённым червлёными щитами, ничего не стоило их уничтожить. И Деди крикнул:
— Стойте! Мы не будем сопротивляться! — И первым убрал меч в ножны.
Люди маркграфа Генриха попытались вырваться из кольца воинов императора, но всюду натыкались на выставленные мечи. И тогда сотский Тихон дерзнул отобрать у них оружие, приказал своим воинам:
— Избавьте их от мечей!
Стена пред немцами сомкнулась, щиты, мечи, суровые лица. И голос Тихона, понятный всем:
— Бросай оружие!
И простые воины положили на землю мечи. Они не хотели драться с россами, не затем их посылали в рощу. Но маркграф Деди и вельможи убрали мечи в ножны, считая для себя зазорным бросать их на землю.
А в это время в роще появился отряд воинов во главе с императором. Они налетели на русичей. Но никто из ратников Тихона не оплошал, и началась настоящая сеча. Сам император кружил на коне, нанося удары по щитам россов, но они умели защищаться от всадников, знали, что конный воин перед пешим со щитом уязвимее. Коня пешему легко достать и поразить. И многие кони были повержены, а всадники оказались на земле. Одни из них были придавлены конями, другие стали добычей русичей. Тихон и его воины вытеснили отряд императора на опушку рощи. Сам император едва избежал гибели, когда перед ним возникли два рослых воина. Они перед ним почему-то замешкались, а он, подняв на дыбы коня, вырвался на опушку. Генриха душили гнев и стыд — мало того, что он не справился с полусотней россов, но потерял много своих воинов и коней. И весь свой гнев Генрих готов был обрушить на маркграфа Деди за его бездарные действия.
Но и здесь Рыжебородый Сатир нашёл выход из положения. Он один вернулся к россам и крикнул:
— Барон Вольф, если вы здесь, подойдите ко мне!
— Да, я здесь, ваше величество, — ответил камергер, возникнув перед императором.
— Барон Вольф, ты должен знать, за что пленили россы моих воинов. Отвечай!
— Ваше величество, маркграф Деди сказал, что есть твоя воля взять нас под стражу. Но за что?
— Он проявил свою волю и будет судим, — заявил Генрих. — Отпустите его и всех прочих моих людей. Сами вольно продолжайте путь.
— Если это так, мы выполним твоё повеление, — ответил Вольф и крикнул: — Барон Саксон!
Но Саксон не отозвался.
— Куда он пропал? — удивился Вольф и сказал Генриху: — Я сейчас распоряжусь, ваше величество.
Он направился к костру, где русичи держали в хомуте немцев.
Спустя какое-то время император и его люди покинули стоянку россов и, словно ничего не случилось, продолжали путь в Штаден, оставив на попечение Вольфа нескольких раненых и на добычу воронам около десятка убитых коней.
Глава восьмая В ЗАМКЕ ШТАДЕН
Здесь ещё жили воспоминаниями о смерти маркграфа Удона. Он был слишком дорог для многих, кто остался в замке после него. Не все его любили, но, даже не любя, не могли забыть. При нём жизнь в замке бурлила, словно кипящая вода. И вдруг, когда его не стало, всё вокруг замерло. Никто уже не бегал озабоченно; по двору, не звенели голоса в стенах замка, на конюшне, на псарне. Даже гончие и борзые псы стали молчаливыми. Им-то было отчего горевать — они потеряли любимого господина.
Но больше других немота поразила графиню Гедвигу. В течение дня редко кто услышит от неё слово. И ходила она по замку, словно тень. Да и мало кто её видел. Она проводила дни у себя в опочивальне, долгими часами сидя у камина и созерцая прошлое. Ей было что вспомнить. В прежние годы она часто выезжала с супругом в Гамбург, в Майнц и в Кёльн, появлялась в замках при дворе императора Генриха. Она была двоюродной сестрой императрицы Берты Саксонской. Под стать Удону, жизнелюбивая, бойкая, она не давала никому покоя близ себя. Получив хорошее воспитание в Кведлинбургском монастыре, она сохранила любовь к чтению, и теперь, когда её постигло горе и когда оно нестерпимо терзало душу, она брала «Римские хроники» или «Божественное писание» и находила в них утешение. А иногда к ней приходила жажда мщения, ибо иные хроники углубляли её печаль. Сколько дворцовых заговоров, переворотов, убийств, отравлений, интриг. И тому были чаще всего одни причины: жажда власти, денег, прелюбодеяния. Часто после такого чтения Гедвига надолго забывала о книгах и углублялась в горькие размышления. Её одолевали разные мрачные домыслы, навеянные всё теми же «Римскими хрониками». И она всё больше убеждалась, что её супруг стал жертвой не маркграфа Деди, а другого лица. Маркграф был только тенью императора. И его поведение, как и самого Генриха, оставалось непредсказуемым. Деди приехал в Штаден разговорчивый, ненасытный, он много говорил даже за трапезой. Поглощая кубок за кубком вино и заедая его телячьим боком, он заявил Удону от имени императора:
— Я приехал к тебе пот ому, что у государя есть необходимость послать с твоими сватами и меня. Суть в том, что императору нужны мир и дружба с великой Россией.
Маркграф Удои, который никогда не чтил Генриха IV, сказал:
— А с какой стати ты пойдёшь со мной? Иди сам по себе.
— Принести на Русь поклон от низложенного с трона и отлучённого от церкви императора?! Велика ли честь государю россов? К тому же я сам государь Штаденский и мне не нужны няньки.
— Полно, любезный друг, во всех землях Германии Генриха чтят императором, потому как корона при нём. А твоё самолюбие никто не пытается задеть.
Графиня Гедвига, которая сидела рядом с Удоном, видела, что он с каждым словом Деди всё больше становился пунцовым и руки его, лежащие на столе, сжимались в кулаки. Он не хотел, чтобы кто-то и даже сам маркграф Деди шёл с ним в Киев. С той поры, как саксонские князья поднялись против императора, маркграф Штаденский счёл своим долгом и делом чести встать на их сторону. Ему, как и многим вельможам Северной Германии, претила политика императора, который многие годы нёс в ряды благочестивых католиков раскол и смуту, воюя против папы римского.
— Ты лжив, как и твой император. Рудольфу Швабскому быть государем отныне! — уже кричал Удон.
Может быть, тому причиной было рейнское вино, но, когда бочонок, из которого слуга наливал кубки, опустел, два маркграфа были яростны и неукротимы. И сколько Гедвига ни пыталась их утихомирить, они ушли в покой Удона и гам свели счёты.
Теперь у графини Гедвиги были основания сказать, что с появлением Деди в Штадене её супруг был обречён. Когда тело покойного маркграфа Удона предали земле, в замке произошло событие, подтверждающее доводы Гедвиги. Один из конюхов графской конюшни рассказал, что он видел, как стременной маркграфа Деди подходил к сбруе Удона. Вначале никто не придал значения тому рассказу. И один из егерей даже заметил:
— Тому причиной дорогие украшения. Проверили бы, не сорвал ли стременной серебро?
Но и словам егеря никто не дал ходу. Однако конюх Фриц оказался дотошным. Он осмотрел уздечку, подпругу, шлею, в кои наряжали скакуна: серебро было на месте. Взялся за осмотр седла и увидел то, что заставило его удивиться. Из потника выглядывала булавка с дырочкой на острие, и в ней покоилось какое-то прозрачное и вязкое вещество. В кожаном крыле седла было проколото шилом отверстие, через которое булавка выходила наружу. Фриц соображал довольно туго, но всё-таки догадался, для чего стременной затаил булавку. Похоже, что она должна была уколоть маркграфа. Чтобы утвердиться в догадке, Фриц оседлал коня.
— Попробую-ка я прокачусь на нём. Тогда уж и скажу господам о чьей-то затее, — подбодрил он себя. В простоте душевной тугодумец счёл, что всё будет как в шутке: тебя укололи в мягкое место, ты подпрыгнул в седле и на землю — бац!
Фриц вывел коня из конюшни, поднялся в седло и шагом выехал с хозяйственного двора на площадь перед замком. Увидев там слуг, дворовых, крикнул им:
— Смотрите, что сейчас будет! — и ударил плетью коня.
Застоявшийся скакун привстал на дыбы и с места помчался галопом. Фриц громко вскрикнул и вылетел из седла на каменные плиты. К нему сбежались все, кто был на дворе замка, кто-то позвал графиню Гедвигу, она не замешкалась. И лишь только подошла к Фрицу, он с трудом произнёс несколько слов:
— Госпожа, в седле игла, и она меня уколола. — Его глаза расширились, он захрипел и испустил дух.
Случилось это вскоре же, как маркграф Генрих и сваты уехали в Киев. Графиня Гедвига позвала медика, и он определил, что игла покрыта смолкой сильного яда. Графиня пришла в замешательство. Всё говорило о том, что в смерти маркграфа Удона повинен император. Однако о причине преступления она не могла догадаться.
Графиня мучилась оттого, что оказалась одинокой и беззащитной. Она переживала за старшего сына. В её воображении возникали ужасные картины нападения императорских людей на Генриха, и ей не к кому было обратиться за помощью. Она побуждалась написать обо всём императрице Берте, но отказывалась от этого, зная, что у самой Берты жизнь несчастна. Так, затаившись от людей, от мира, и жила графиня в одиночестве, когда в замке вновь забушевали страсти. В последнюю ночь августа на рассвете в ворота замка раздался громкий и настойчивый стук.
— Кто там ломится? — спросил страж, сбрасывая предутреннюю дрёму.
— Янкель, открой! Это барон Саксон, — донёсся голос из-за ворот.
Старый страж узнал Саксона, открыл ворота, впустил его.
— Госпожа у себя? — спросил камер-юнкер.
— Дома, — ответил Янкель.
Саксон припал к шее коня и направил его к замку. Он держался в седле чудом, поводья выпали из рук. Он был ранен в бок, потерял много крови. Вечером, в суматохе, когда началась схватка россов с воинами императора, он сумел вырваться из кольца близ костра и побежал в глубь рощи, за ним бросился воин императора и почти достал его мечом. Саксон вынужден был защищаться, выхватил меч, повернулся. Удары мечом сошлись, но один из них оказался смертельный, а другой — лишь рассёк Саксону бок. Кое-как он добрался до коня, поднялся в седло, покинул рощу и помчался в замок Штаден. Он не знал замыслов императора, но догадался, что тот едет к Гедвиге со злым умыслом. Добравшись в полном изнеможении в замок, Саксон попросил разбудить графиню. Она пришла скоро, потому как не спала, спросила с трепетом в голосе:
— Жив ли мой Генрих? Что с ним? — А заметив кровь на одежде Саксона, графиня испугалась. - Господи, барон, ты ранен! — Крикнув камергера, она приказала ему принести мази, чистое полотно.
Саксон хотя и ослаб, но ещё держался. Ответил на вопросы графини:
— Госпожа, ваш сын жив и здоров. Он близко, он в замке у княгини Оды. — И Саксон рассказал, чему был очевидцем при возвращении в Германию.
— Чего же добивается император? — спросила Гедвига.
— Того не ведаю, государыня. — И Саксон подошёл к стене, оперся о неё. — Прости, государыня. — И он закрыл глаза.
Прибежали камергер, слуги. Они взяли Саксона под руки и повели в покой. Камергер спросил:
— Ваша светлость, какие будут распоряжения?
— Барон Якоб, тебе велю поднять воинов. Сотню поставь на стены. С полусотней поспеши навстречу барону Вольфу. Защити!
— Исполню, ваша светлость, как велено, — ответил камергер Якоб.
И вскоре в замке и в казармах, где располагались полторы сотни воинов маркграфа, всё пришло в движение. Ещё и рассвет не наступил, как полусотня воинов умчалась навстречу каравану. Многие лучники поднялись на стены, рыцари заняли место у ворот, дабы по первому сигналу распахнуть и вылететь конным строем на помощь товарищам. С рассветом и сама графиня поднялась на крепостную стену. Она была в шлеме и в латах. Близ неё над стеной взвилось родовое знамя маркграфов Штаденских, на котором лев убивал дракона.
С наступлением дня о происходящем в замке стало ведомо горожанам Штадена. И они, вооружившись, вышли на улицы и потянулись к замку. Для многих из них это было привычным делом, потому как северные города давно были непримиримы к императору Генриху IV. «Мы потягаемся с тобой, Рыжебородый!» — кричали горожане, шагая к замку. Однако оружия в этот день никто не обнажил. Повода для этого не оказалось.
Генрих понял ещё в тот миг, когда полусотня россов погнала его воинов из рощи, что ему не захватить караван княжны. Потому он отказался от насилия, хотя и пожалел, что у него под руками нет двух сотен воинов. Вёрткий, быстрый в решениях, он счёл, что ему нужно мчать в Штаден и там мирным путём добиться того, чего не достиг силой.
И вот император и графиня встретились. Но для Генриха IV эта встреча была унизительной. Он, император Римско-Германской империи, стоял в роли просителя перед крепостной стеной и должен был ждать милости, чтобы перед ним распахнули ворота замка. Но всё складывалось так, что этой милости он не дождётся. Как его придворные ни упрашивали графиню Гедвигу внять им, она словно не слышала мольбы.
— Преступнику нет места в моём замке, — отвечала она со стены маркграфу Деди.
Вскоре же, вслед за отрядом императора, вдали появился караван верблюдов. Он шёл в окружении более чем сотни воинов. К нему толпой хлынули горожане, никогда не видевшие диковинных животных. Верблюды по-прежнему шагали степенно, были полны гордого величия и независимости. Штаденцам понравились эти животные. Караван подошёл к подъёмному мосту, перекрывающему глубокий ров с водой, и остановился в ожидании, когда откроются ворота.
Гедвига оказалась в затруднительном положении. Здравый смысл подсказывал, что она должна впустить Генриха IV. Несмотря на всё, он оставался государем. Ни папа римский, ни съезд князей не могли его свергнуть, считала она, потому как свою корону он получил от отца по праву наследства. И она решила, что его следует принять, хотя бы для того, чтобы посмотреть ему в глаза. Может быть, в них она увидит затаённое, что разгадав, получит право осудить Рыжебородого за убийство супруга или оправдать сто, если окажется, что он всё-таки невиновен в смерти Удона. Была ещё одна причина, по которой Гедвига хотела видеть Генриха. Княгиня Ода склонила Гедвигу к мысли о том, чтобы поместить юную невесту сына на воспитание в Кведлинбургский монастырь, а туда без воли королей и императоров не принимали. Аббатиса Адельгейда строго соблюдала вековые традиции монастыря. И, понимая, что выход из положения в её шаге навстречу государю, она сказала рыцарю Экхарту Таулеру:
— Экхарт, иди к воротам, пропусти караван и людей при нём. Потом откроешь путь императору и свите. Но воинов его не впускай.
Распорядившись, Гедвига не покинула крепостной стены. Её материнские глаза были устремлены на дорогу, ведущую из Гамбурга в Штаден. Там ей не терпелось увидеть любимого сына. Но её ожидание будет долгим и томительным.
Между тем юный маркграф тоже рвался к замку Штаден. Он бы умчал один верхом, но его порыв сдерживала княгиня Ода. Она сказала, что тоже выезжает в Штаден. Ей надо было разрешить недоумение, которое было вызвано поведением императора. Он посеял смуту в душе княгини, покинув замок неожиданно и в неизвестном направлении. Однако проницательность Оды подсказала ей, что император мог ринуться следом за караваном Евпраксии. Его интересовали только тюки с богатством россиянки.
Небольшой кортеж маркграфа и княгини прибыл в Штаден спустя шесть часов после въезда в замок императора. Он ещё отдыхал после нескольких дней и ночей «охоты на верблюдов». И это было кстати для Оды и Гедвиги. Они рассказали друг другу всё, что случилось за минувшие полтора суток в Гамбурге и на пути в Штаден. И теперь были озадачены непредсказуемым и неблаговидным поведением государя. Но об этом они повели беседу после того, как Гедвига встретила сына и невесту.
Щепетильной Гедвиге Евпраксия показалась в первые мгновения не такой, как её описывала княгиня Ода. Однако, вспомнив, что Евпраксия утомлена дальней дорогой, проявила к ней милость и приласкала её. А чуть позже, присмотревшись к живому лицу княжны, к радужному блеску тёмно-серых глаз, поняла, что из этой девочки может вырасти достойная супруга её отпрыску, способная наполнить его жизнь радостями.
Княгиня Ода укрепила эту мысль графини.
— Мы сделаем из этой отроковицы прекрасную даму, — сказала она. — Смотри, в ней уже сегодня видна родовитость и стать.
— Да, она не такая, как наши девицы, — согласилась Гедвига.
— Однако я должна тебе сказать, что император ею недоволен. Он назвал её дикаркой. А вот причины не открыл. Да прояснил барон Ламберг. Он сказал, что в Мейсене между ними случилась стычка.
Проводив сына и княжну отдыхать с дороги, Гедвига спросила Оду:
— И что же случилось в Мейсене?
— Вартеслав сказал мне, что полицмейстер хотел учинить досмотр приданого Евпраксии. Но по её слову погонщики взбунтовали верблюдов, и благодаря этому наши вырвались из рук приставов. Всё это, по рассказу Ламберта, видел император. Вот и вознегодовал.
Беседу вели две умные женщины, и вскоре им стало ясно, что император охотился за приданым княжны Евпраксии.
— Ему нужны деньги, чтобы закончить войну в Италии, захватить Рим, свернуть папу Григория, — пришла к выводу княгиня Ода.
Гедвига с ней согласилась, но обеспокоилась.
— Что же мне делать? Ведь он не отступится и будет добиваться своего даже через злодеяние.
— У тебя есть причины думать так о Рыжебородом. Но пока будь благоразумна. Не давай ему повода догадаться в том, что мы его в чём-то подозреваем. И прими мой совет. Попроси его замолвить слово перед Адельгейдой, дабы она взяла Евпраксию в пансионат. Да подари ему бобровую шубу, что привезли из Руси. Там можно и выпроводить с Богом.
Сам император не ждал милостей в Штадене. Проснувшись в том покое, где когда-то отдыхал маркграф Удои, поразмыслив над событиями последней недели, он признался себе в том, что неудачи продолжают его преследовать. И все попытки завладеть богатством русской княжны провалились. К тому же теперь графам Штаденским известны его происки. И здесь, в Штадене, кроме позора его ничего не ждёт. Виною тому он сам, задумавший неумело и недостойно овладеть чужими сокровищами. И теперь, спустя семь лет после щедрого подарка, поднесённого ему великим князем Изяславом, он вспомнил его недобрыми словами:
— Дьявол, это ты искусил меня своим богатством. Не взял бы его, ныне жил бы с чистой совестью.
Однако Генрих вскоре же забыл об искусе, привнесённом в его жизнь россиянином Изяславом. Он вернулся на стезю греховного падения, с которой ему до конца дней своих не удастся сойти. Отбросив досужие размышления, Генрих поднялся с ложа и позвал слуг. Они умыли и одели его, и он, полный собственного достоинства, отправился на полуденную трапезу, так как был чертовски голоден. В трапезной он встретил своего неизменного фаворита Деди Саксонского, не знающего угрызений совести даже перед лицом вдовы убитого им маркграфа Удона. Император спросил фаворита как бы между прочим:
— Что же нам теперь делать, мой дорогой советник?
Маркграф Деди ответил с кислой миной:
— Ваше величество, нам лучше всего поскорее убраться из Штадена, не потеряв лица.
— Совет разумный, — согласился Генрих, — но не лучше ли забыть о лице и добыть из нашего появления здесь хоть какую-нибудь выгоду. К тому же есть повод: мы сопровождали караван от самого Мейсена и даже рисковали жизнью. Теперь всё позади и нам должно быть вознаграждение.
Маркграф Деди часто удивлялся, глядя на поведение своего кайзера. Но удивлениям наступил конец. Деди понял, что император обречён совершать неразумные и даже гнусные поступки. Чем он мог оправдаться перед графиней Гедвигой после нападения на караван невесты её сына, за что он обвинял княжну в дурном нраве? Однако Деди знал, что его господина никогда не терзали муки совести. Ведь он считал, что все его деяния идут во благо империи.
В трапезной появились графиня Гедвига и княгиня Ода. Увидев их, император замер в величественной позе в ожидании, когда они поклонятся ему. Взгляд его зелёных с рыжинкой глаз был добродушен — дескать, не бойтесь меня, когти мои спрятаны. Его торчащие рыжие усы и клип рыжей бороды в этот миг делали его лицо добрым, отеческим. И женщины, в душе презирающие его, чуть было не дрогнули перед ним и были готовы поклониться. Но слева за спиною Генриха IV висел портрет маркграфа Удона, и, лишь скользнув по нему глазами, Гедвига и Ода вскинули голову. «Да и что нам гнуть шею перед свергнутым сатиром», — подумала княгиня Ода. Как она понимала, он и её мог ограбить, доберись до её сокровищ в Мейсене. Гедвига, однако, проявила к императору милость и пригласила его к столу.
— Вы голодны, государь. Садитесь и отведайте нашей деревенской пищи.
Генриха не понадобилось приглашать дважды. После трапезы в замке Оды он ничего не ел, а с того часа прошли сутки. Однако на столе не было обилия блюд, к какому привык Генрих: овощи, блюда с говядиной, кувшины с вином — вот и всё, что приготовила графиня на угощение императору. Но как подойти к этому скудному столу, если на тебя смотрят две пары ледяных глаз, ежели тебе льстиво не улыбаются. Однако государь не уронил своего достоинства, добродушно сказал:
— Император запомнит ваше милосердие. Вы избавили его от голодной смерти. — С тем и проследовал к столу, сел на подобающее ему место, махнул слугам рукой.
Они распахнули двери, и в залу вошли толпой придворные Генриха. Впереди вышагивал столь же ловкий, как его господин, маркграф Деди. Следом шли графы Ульрих Сузский и Паоло Кинелли, другие вельможи. Последним появился барон Ламберг. В зале стало шумно. Спутники Генриха и впрямь были голодны. Вскоре блюда с говядиной, кувшины с вином опустели. Слуги принесли кое-какую смену блюд, вина добавили.
Пока орава императора насыщалась, Гедвига и Ода сидели не притрагиваясь к пище, изредка обмениваясь короткими фразами. Но вот Генрих утолил голод, вытер о камзол руки и спросил Гедвигу:
— Государыня, почему же нет за столом маркграфа? Или он не желает видеть своего императора и дядюшку?
— Ваше величество, мальчик устал с дороги и спит, — ответила Гедвига. — Надеюсь, вы увидите его.
— И ведь только ради Генриха и скакал в Штаден. Вот княгиня Ода скажет, какую заботу я имею о нём и о его чести.
— И для этого вы, государь, попытались освободить его от каравана невесты, с коим он прибыл из России, — не стерпела лицемерия и жёстко упрекнула императора графиня.
— Полно, кузина, я только защищал мальчика от нападок моего непутёвого Дед и. Он слишком рьяно служит своему императору и всюду видит измены. И даже нынче ночью близ таверны «Два быка» напал на твоих людей, считая, что своей поездкой в Россию они изменили императору.
— Да, мне это известно, ваше величество. Но за такую рьяность следует наказывать. Воины Деди ранили трёх россов, ратников княжны Евпраксии, а их-то вы не можете обвинить в измене вам.
— Но россы напали на него, обороняя изменников. И он вынужден был защищаться.
Княгиня Ода приникла к уху графини, прошептала:
— Этот сатир верен себе. Его не уличить ни в чём. И тебе пора от него избавиться.
Гедвига дала знать Оде, что согласна с нею, и без какой-либо почтительности сказала Генриху:
— Спасибо, государь. Если мои люди и впрямь изменили тебе, я предам их суду. Но я не уверена в их измене. Вам же пора покинуть замок. К отъезду всё готово. Ваши раненые воины останутся в замке, и мы их вылечим.
Однако выпроводить императора оказалось не так просто. Он заявил, что у него есть важная причина увидеть княжну Евпраксию и не менее важная причина дать совет графине. Да и Ода напомнила Гедвиге о Кведлинбурге.
— Хорошо, я слушаю вас, государь, — сказала графиня.
— Твой сын ещё очень молод. Мой долг — проявить заботу о нём. Он нашёл себе прекрасную невесту. Но сие не значит, что она будет такой же супругой. Без воспитания она останется всё той же дикаркой.
— Мы об этом думали, государь, — ответила Гедвига.
— И надеялись обойтись без меня. Но поскольку лучшего воспитания, чем в Кведлинбурге, нет в Германии, без моей помощи вам не обойтись. Вы же знаете принципы Адельгейды. Без моего слова она и на порог не пустит дикарку.
Гедвига знала это. Но вопреки совету Оды просить Генриха о милости не стала, а чтобы досадить ему, сказала:
— Полно, государь, мы уже сыты вашей заботой, и потому княжна пойдёт на воспитание в Гандерхейм.
— Кузина, не лишайте меня исполнения долга. К тому же я знаю, в каком монастыре крепче хранят благочестие девиц. Княжне быть в Кведлинбурге. Так уж я повелеваю.
Графиня прекратила напрасный спор, зная упрямство императора. Она поняла и то, что выпроводить его из замка на ночь глядя тоже будет не по-божески, и скрепя сердце смирилась с его пребыванием.
В этот день Генриху IV так и не удалось увидеть Евпраксию. Не повезло ему и в другом: не мог уснуть. И в полночь император поднялся с ложа, оделся и покинул спальню. При слабом свете масляных светильников он бродил по замку, поднимался с этажа на этаж, обходил залы, заглядывал в покои, словно искал что-то. Возле одной запертой изнутри двери он долго стоял, прислонившись к косяку, догадываясь, что стоит близ опочивальни юной княжны. Во рту у него всё пересохло, бились жилки в висках, и он испытывал неодолимое желание войти в покой и постоять близ ложа «дикарки ». И не только постоять. Таилось в нём, в самой глубине груди, ещё одно желание, в котором он даже себе не хотел признаваться. От этого желания ладони его рук покрылись потом, и в них ощущалась дрожь. Генрих дважды пытался открыть дверь, с силой давил на ручку. Чем бы завершились его попытки проникнуть в покой, неизвестно, но ему помешали.
Приоткрылась дверь смежного со спальней княжны покоя, и Генрих заметил крупного мужчину, держащего в руках короткий меч-сулебу. Император ощутил в груди страх и быстро направился к лестнице. Он шёл и оглядывался. Человек с мечом подошёл к покою княжны и замер. Это был верный страж Евпраксии, боярский сын Родион.
За утренней трапезой император сидел хмурый и молчаливый. В замке Штаден его всё раздражало, во всех лицах его обитателей он видел неприязнь и насмешливые взгляды. Даже Гедвига и Ода не скрывали нелюбви к нему. Он пытался на них не смотреть, ел и пил сквозь зубы и искал повод, дабы выплеснуть на кого-либо накопившуюся желчь. Ему хотелось уязвить графиню так, чтобы она ответила ему непочтительно, высокомерно, грубо, как угодно, лишь бы у него появилось право вознегодовать за очевидное пренебрежение к его императорскому достоинству. И он нашёл-таки повод. Он попросил дворецкого принести ему холодного вина. И дворецкий принёс вина из погреба, налил полный кубок, подал Генриху. Тот лишь понюхал вино и с силой выплеснул в лицо дворецкому.
— Вино отравлено! — крикнул государь. — Я почувствовал запах прунеллы ядовитой!
— Того не может быть! — возразила Гедвига.
— Ах не может! Так выпейте сами! Эй, Деди, налей графине вина! — бушевал император.
В зале после минутного оцепенения возник переполох. Приближённые императора покидали стол. Маркграф Деди схватил дворецкого за грудь и, потрясая тяжёлым серебряным кубком, требовал признания:
— Говори, кто велел тебе подать вино с прунеллой? Или я размозжу тебе голову!
Но дворецкий потерял дар речи, он хватал воздух, словно рыба, а глаза, казалось, выскочат из орбит.
Чем бы разыгранный императором спектакль закончился, неведомо, но в это время распахнулась дверь и в трапезную в сопровождении Родиона вошла Евпраксия. Позади них шли слуги и несли подарки императору: соболью тубу, кунью шапку и византийскую шёлковую пурпурную мантию. Все, кто был в трапезной, замерли. Но их поразили не подарки, а княжна. Четырнадцатилетняя Евпраксия, тонкая, стройная и не по возрасту высокая, была в белом с золотой отделкой долматике. Лицо её скрывала белая вуаль, которую Евпраксия накинула не случайно. Она не забыла плотоядных взглядов императора в замке княгини Оды и не желала их более терпеть. Остановилась она в нескольких шагах от Генриха.
Он вытянул шею, борода каином торчала вперёд, глаза были полны изумления: никто ещё пред ним не смел появляться, скрывая лицо. И он шагнул вперёд и протянул к Евпраксии руку, дабы сорвать вуаль. В то же мгновение княжну заслонил богатырь Родион. И Генрих невольно сделал шаг назад, но гневно сказал:
— Как смел встать на моём пути?!
Родион чуть склонил голову и отошёл в сторону. А к Евпраксии уже подошла княгиня Ода, и княжна сказала ей:
— Тётушка, передай императору, что великая Русь жалует его шубой, шапкой и мантией. Ещё тремя верблюдами. Всё это в знак дружбы и почитания. Ещё спроси его величество, не забыл ли он рёв верблюдов в Мейсене. Я не хочу, чтобы он повторился здесь.
Княгиня Ода поняла всё: эта девочка заявила во весь голос о том, что она дочь великого князя и великого народа, потому и напомнила о том, что случилось в Мейсене. И княгиня Ода распорядилась вручить императору подарки, а потом близко подошла к нему и тихо передала слово в слово всё, о чём попросила Евпраксия. От себя же добавила:
— Мой государь, тебе пора уезжать из Штадена.
Генрих выслушал княгиню Оду внимательно и принял сказанное со всей серьёзностью. Он ещё не понял, какой такой силой обладала эта девочка-россиянка, но уразумел, что пока лучше эту силу не испытывать. Одно он понял чётко: ему пора покинуть Штаден. Он поблагодарил за подарки, посмотрел внимательно на Евпраксию, словно пытался рассмотреть её лицо за белой вуалью, слегка поклонился ей и, вскинув голову, покинул зал. Он увидел за спиной Евпраксии ту великую державу, которая вызывала в нём почтительность. Однако сама княжна Евпраксия зажгла в нём иные чувства. Он пытался погасить их, но они, словно огонь, заполонили всё его существо, отравляя душу и сердце пуще прунеллы.
Глава девятая КРЕЩЕНИЕ
Прошло три недели, как Евпраксия переступила порог замка Штаден. Дней пять после отъезда императора жизнь в замке не могла войти в обычную колею. Вначале много хлопот доставила забота о верблюдах. Часть их решено было продать на ярмарке в Гамбурге. Потом Евпраксия, Ода и Гедвига разбирали тюки с приданым, а их насчитывалось ровно тридцать. Графиня дивилась щедрости родителей Евпраксии, наградивших дочь несметным богатством. Только одних драгоценных мехов и искусных изделий из них — шуб, кафтанов, накидок, головных уборов, пологов — было несколько тюков. Всему надо было найти место. А сколько золотых, серебряных, с отделкой каменьями блюд, ваз, кубков, братин, ковшей, прочей столовой утвари. Посади сто человек за стол — всем хватит из чего есть и пить. Драгоценные украшения привели Гедвигу в изумление, она ничего подобного не видела, не предполагала, что подобные великолепные ожерелья, подвески, коруны, перстни, кольца, пояса, обручи могут быть сделаны руками человека. Евпраксия же знала, откуда что пришло в великокняжеские сокровищницы. Тут было много драгоценных украшений из Царьграда и Антиохии, из Дамаска и Саркела, из Персидских и Касожских земель. Одни куплены у торговых людей, другие — добыты в сечах. Было Гедвиге чему полюбоваться, когда слуги разбирали тюки с платьями, шубами, сапожками и прочими нарядами самой Евпраксии. Гут проявилась и мудрость мастеров. Шили и строчили они не на сегодняшнюю княжну, а на вырост, дабы и в семнадцать, и в двадцать лет, а может, и до преклонного возраста всё нашлось ей впору. И возмутилась Гедвига: как это мог Рыжебородый говорить, что россы дикий народ. По всему выходило, что просвещённая Византия, её обычаи, её мода России ближе, чем Германии.
Однако во время забот о приданом Евпраксии Гедвигу часто посещала мысль о том, что император не зря преследовал княжну. Он охотился за её сокровищами. И попадись они ему в руки, никто бы не сумел их вернуть от алчного сатира. Увы, время покажет, что так всё и произойдёт: коварный государь достигнет своей цели, огромное состояние княжны Евпраксии окажется в руках Генриха. А пока странным показалось Гедвиге поведение самой Евпраксии. Она была совершенно безразлична к своему богатству и к тому, как с ним обходятся, куда его укрывают на хранение и не греют ли на нём руки. В ней не было и грана скаредности, скопидомства. Кажется, она была бы так же весела и беззаботна, если бы вдруг всё её приданое исчезло. Разве что погрустила бы при утрате своих нарядов и украшений. Правда, строгой Гедвиге доставляло удовольствие видеть, как непосредственно, с какой-то детской простотой и наивностью ведёт себя юная княжна. Она была ласкова и называла Гедвигу матушкой, а с её сыном обращалась не как с женихом, а просто, словно с другом детства. Она заставляла Генриха водить её по замку и обо всём рассказывать, пыталась выведать все тайны, кои накопились за два века существования Штадена. Он был построен при первом немецком короле Генрихе из Саксонского герцогского дома. Сын Гедвиги пытался рассказывать попроще, чтобы Евпраксия понимала его речь. Но, увы, это ему не удавалось, потому как Евпраксия понимала лишь самые обыденные фразы. Гедвига, замечая смущение княжны от незнания немецкой речи, утешала:
— Ничего, славная фрейлейн, скоро ты будешь щебетать по-нашему, как по-своему.
Судьба Евпраксии на ближайшие два-три года была уже решена. И теперь в Штадене ждали лишь возвращения княгини Оды, которая взяла на себя все хлопоты по устройству племянницы в Кведлинбургский монастырь. Гедвига и Ода помнили, что император не дал обещания поговорить о Евпраксии со своей сестрой Адельгейдой, аббатисой монастыря. И княгиня Ода уехала из замка вскоре же после отбытия императора. Гедвига не сомневалась, что Ода всё уладит в Кведлинбурге. Так оно и было. Об одном предупредила аббатиса Адельгейда Оду:
— Ты, дочь моя, постарайся вразумить православную княжну, чтобы с любовью приняла нашу веру, чтобы пришла в обитель готовая принять наши уставы.
— Надеюсь на помощь Всевышнего, — отвечала Ода. — Как мне когда-то он помог принять без боли православие, так и Евпраксию наградит жаждой угодить ему.
Княгиня Ода вернулась в Штаден спустя две недели. По пути из Кведлинбурга она побывала у себя в Гамбурге, встретилась с ломбардийскими банкирами, которые вот уже сто лет держали в Гамбурге коммерческий банк «Братья Тоианелли». Княгиня договорилась с банкирами о помещении в их банк состояния княжны Евпраксии. Банкиры с готовностью согласились принять вклад, гарантировали всем своим состоянием его сохранность и прирост процентов. Потом княгиня Ода провела некоторое время дома, размышляя о судьбе Евпраксии, которая, как ей теперь показалось, сулила мало радости бытия. Знала она, что если Рыжебородый Сатир взялся преследовать юную княжну, то он добьётся того, что задумал. Ода была уверена, что Генриху в том поможет сам дьявол. Она знала кое-что о дьявольских проделках Генриха, но вынуждена была молчать, ибо когда-то дала слово великому князю Изяславу, испытавшему на себе злочинство Генриха.
Княжна Евпраксия встретила тётушку с радостью и печалью. Радовалась потому, что давно не видела, печалилась, зная, что близок день разлуки, может быть, на годы. Ода утешала её.
— Я непременно приеду к тебе. А ты уж наберись терпения и будь во всём прилежна. Там и время полетит незаметно. И верь, что в Штадене тебя будут ждать с нетерпением.
Обо всём этом княгиня говорила в присутствии жениха и его матушки. Евпраксия печалилась от предстоящей разлуки, но её жизнерадостный нрав брал верх над печалью, и она торопилась наговориться с Одой на родном языке. Она хвалила Генриха за то, что он очень внимателен к ней и заботлив.
— Он, как братец, печётся обо мне, — говорила Евпраксия Оде. Её тёмно-серые, большие глаза искрились, а на улыбчивом лице играли милые ямочки. — Мы с ним много вместе гуляли, он всё мне показывал.
Гедвига и Генрих догадывались, о ком и о чём вела речь Евпраксия, и были довольны ею. Графиня давно уже прониклась к будущей жене сына сдержанной любовью. Она надеялась, что под влиянием живой, горячей и милой Евпраксии её сын изменится и будет всё-таки настоящим мужчиной. Пока же он мало чем отличался от застенчивой девицы. И его ангельское лицо порою раздражало мать. «И что же ты ничего не взял от своего батюшки?» — сетовала Гедвига.
Но праздничное время обмена любезностями иссякло. И пора было спросить российскую княжну, готова ли она к подвигу во имя будущей жизни в новой семье, в новой стране, которая должна стать её второй родиной. И через день после приезда княгини Оды Евпраксию повели в замковую капеллу. В замок был приглашён патер из штаденского храма отец Шидгер. Евпраксию подвели к мраморному изваянию Пресвятой Девы Марии, и княгиня Ода повела речь:
— Родимая, ты должна помнить о том, что ещё в Киеве был разговор о том, что тебе придётся принять новую веру. И тогда ты проявила мудрость, сказала, что Всевышний у нас един, и дала согласие. Не изменилось ли что-либо и, может быть, у тебя появилось новое желание? Говори как на духу, и мы поймём тебя.
— Нет, тётушка, мне нечего сказать иного, я в прежнем согласии.
— Славно. В тебе крепок дух слова. Но вот патер Шидгер спрашивает, готова ли ты... не мешкая пойти в учение и постичь тайны священных символов католической веры, открыть свою душу для вхождения в неё молитв и псалмов?
Евпраксия замешкалась с ответом. Она считала, что вхождение в новую веру будет проще, что её приведут в храм, окропят святой водой, наденут на грудь новый крест, гам и делу конец. Ан нет, путь к новой вере шёл через тернии. Что ж, она знает, что такое терпение и упорство. Слава богу, матушка Анна достаточно о том позаботилась. Потому она готова к движению и познанию. Евпраксия улыбнулась Оде:
— Я всё одолею, тётушка. Тебе не будет за меня стыдно.
— Верю, достойная внучка Ярослава Мудрого, — ответила Ода и попросила пастора: — Святой отец, напомни символы веры, я же донесу их до княжны.
— Я исполню твою волю, дочь моя. Но прежде дай знать будущей крещаемой о сути смертных грехов. И ежели есть в ней помыслы греховные, дабы избавилась от них. Упаси её Господь от корня всякого зла: гордыни и тщеславия, зависти и гнева, уныния и скупости, чревоугодия и расточительности, а с ними непослушания, чванства и ненависти.
Княгиня Ода слово в слово перевела всё сказанное пастором. И Евпраксия восприняла сие с неприсущим ей спокойствием и хладнокровием. Не было в ней ничего, о чём вещали уста старого и по всему доброго пастыря. Ответила она коротко:
— Святой отец и вы, матушка Гедвига и тётушка Ода, дух мой не пришлёт зла.
После этих слов Евпраксии пастор и женщины о чём-то поговорили и сошлись в мнении на том, что пока нет нужды доносить до отроковицы символы католической веры.
— Там, в Кведлинбурге, юная душа постигнет всё, что откроет ей путь в нашу веру, — закончил беседу патер Шидгер.
Через два дня солнечным сентябрьским полднем Евпраксия простилась с обитателями замка Штаден и в сопровождении неутомимой тётушки Оды, сенной девицы Милицы и верного Родиона покинула Штаден, рассталась с будущей свекровью и будущим мужем. Генрих был печален и ещё более сутул, Гедвига — бледнее, чем обычно. А сама Евпраксия хотя и улыбалась, но на глазах у неё росою выпали слёзы. Юная невеста и жених поцеловались, и Евпраксия торопливо скрылась в дормезе, дабы не затягивать грустного расставания. Уже в экипаже она вновь вспомнила, как недавно провожала в дальний путь сотского Тихона и его воинов. При них она не прослезилась, но расставание было тяжёлым. Отрывала она от всего сердца то, что связывало её с родиной. Тихону она сказала:
— Братец, ты передай матушке и батюшке моим, что я страдаю без них, но покорна судьбе.
Путь в Кведлинбург пролегал берегом Эльбы, через Гамбург. Княгиня Ода не преминула заехать домой. И Евпраксии было приятно встретиться с Вартеславом. В замке она почувствовала себя как дома и не могла наговориться с братом. Оба они болели от потери своей родины, как болеют дети, потерявшие родителей. Спустя два дня Евпраксия и Ода отправились дальше. С ними покинул замок Вартеслав, который решил проводить сестру до обители и помочь Родиону устроиться близ монастыря. Вартеслав помог держаться княжне до последней минуты мужественно. И всё-таки страх перед будущим, перед тем, что таилось за высокими каменными стенами, за дубовыми воротами Кведлинбургского монастыря, проник в юную душу княжны. Сошла с лица улыбка, пропал жизнерадостный блеск в глазах, исчез румянец со щёк. Заметив, как в одночасье изменилась племянница, княгиня Ода прижала её к груди, тихо наговаривая:
— Ты не кручинься, родимая. В обители ты будешь среди добрых друзей и наставников. Там есть знакомые мне девицы из хороших семей, и я сведу тебя с ними.
— Спасибо, тётушка, я не потеряю себя.
— Я верю. Но помни: мы с Вартеславом рядом и придём на помощь, лишь только позовёшь. Я сведу Родиона с верным человеком, и они всегда донесут весть о тебе.
— Нет нужды волноваться, тётушка. Вот только домик нужно бы купить Родиону, а там я за ним как за каменной стеной. Вернее души не сыщешь.
У ворот монастыря Ода и Евпраксия покинули дормез. К ним вышел пожилой привратник и, спросив княгиню, с чем приехали, повёл их в обитель. Погожий осенний день был ещё в разгаре, и во дворе обители княжна увидала большое оживление. Монашки в чёрных мантиях и белых накидках, словно бы и не замечая посторонних, занимались своим делом. Многие из них возвращались из сада, несли в корзинах яблоки, овощи. Евпраксия окинула взором обитель, двор: всё здесь подкупало чистотой, опрятностью, словно накануне Рождества Христова в домах россиянок. Все постройки были рубленные из толстых брёвен, двери и окна украшены резьбой. Каменная церковь выделялась на фоне множества деревьев белым полотном с кружевами. Мощные вязы и липы накрывали двор густой кроной, образовывали своды над переходными дорожками. Двор монастыря напомнил Евпраксии сельскую площадь Берестова, и у неё совсем некстати мелькнуло: «Тут есть где порезвиться».
В сей миг трижды прозвонил колокол. И монахини, как по команде, поставили корзины, где их застал звук колокола, и поспешили в церковь: наступило время полуденной мессы. Ода и Евпраксия вынуждены были ждать её окончания. Ничто не могло бы заставить аббатису Адельгейду нарушить монастырский устав. После мессы аббатиса приняла только княгиню Оду. Княжна прождала приёма на дворе до позднего вечера. Евпраксия несколько раз порывалась пойти на поиски тётушки, но какая-то сила удерживала её, и она терпеливо вынесла это первое испытание. Позже она узнает, что так было задумано аббатисой и за Евпраксией все эти часы велось наблюдение. Над монастырём поднялась полная луна, и за княжной пришли две послушницы, привели её в просторную келью аббатисы. Увидев в келье тётушку Оду, княжна хотела спросить причину того, за что подвергли её долготерпению. Но Ода приложила палец к губам и дала понять, что лучше сейчас помолчать. К Евпраксии подошла аббатиса и сухо сказала:
— Ты достойна воспитываться в Кведлинбурге. — Проговорив это, Адельгейда поручила послушницам отвести княжну в её покой, не позволив даже проститься с тётушкой.
Лишь только за Евпраксией закрылась дверь, Адельгейда нашла нужным прояснить холодность приёма русской княжны.
— Две недели назад Кведлинбург посетил император, и он строго наказал мне принять княжну на воспитание. Хотя он и знает, что я уже несколько лет никого не принимаю по его рекомендациям. Причину я не буду открывать, но она оправдывает меня. И княжну я бы не приняла, если бы не ты, сестра, и если бы эта девочка не была столь мужественной и богобоязненной.
— Спасибо тебе, сестра. Я всё поняла и прошу об одном: убереги эту девочку от влияния государя, — с болью в голосе произнесла Ода.
— Будем уповать на Господа Бога. Аминь.
Княгиня простилась с аббатисой и покинула Кведлинбург с тяжёлым сердцем. Но и у Адельгейды на душе было не легче. Ещё в тот день, когда брат приехал в монастырь и попросил взять на воспитание княжну россов, Адельгейда почувствовала, что за этим кроется некое коварство Генриха, потому как бескорыстно он никогда и ничего не делал, и всё в её груди взбунтовалось против брата. И она дала себе слово не выполнять его просьбу. Княгиня Ода заставила изменить решение. Но теперь Адельгейда на исповеди не могла бы сказать, что ожидает княжну россов в будущем, и пока не находила зашиты от неизбежных посягательств брата, может быте, на саму честь этой девочки. Чистая девочка. Она с первого взгляда пришлась строгой, почти суровой Адельгейде но душе. Когда она смотрела на Евпраксию, в груди у неё разлилось тепло материнской нежности. Но в этот миг расслабленности и тихой радости пред глазами аббатисы сверкнула адская молния, отбросила её на десять лет в прошлое и окунула в бездну.
Тогда ей минуло лишь девятнадцать лет и она купалась в счастии, потому как была любима и любила сама. И уже близился день свадьбы с прекрасным Гольдастом, герцогом Швабским. Однако ровно за неделю до венчания якобы во время рыцарского турнира в замке под Кёльном герцог Гольдаст был убит. Так сказал ей брат Генрих. Однако всё произошло по-иному. И Адельгейда догадалась, что виновником гибели её жениха был сам Генрих. Это ему, императору, герцог Гольдаст оказался неугоден, потому как давно отошёл от него и порвал с сектой николаитов, которую Генрих лелеял, как своё дитя. Как раз незадолго до намеченного дня свадьбы Гольдаст встречался с маркграфом Оттоном Нордгеймским, который уже давно вёл непримиримую борьбу с императором. Гольдаста заманили в старый королевский замок Генриха Птицелова. Там четверо рыцарей навязали ему бой, и он был убит.
Молодая принцесса не перенесла потери любимого и ушла в монастырь. Позже «верный» фаворит императора маркграф Деди Саксонский по случаю оказался в Кведлинбурге, встретился с Адельгейдой и рассказал о том, как расправились с её женихом. Оставаясь покорной судьбе, Адельгейда возненавидела брата. Шли годы, строгий бенедектинский устав монастырской жизни очистил Адельгейду от ненависти, но выветрил из неё и жажду земных радостей, каждый раз на сон грядущий затворница повторяла одну и ту же молитву: «Хвала Всевышнему. В чертог Господен войдёт тот, кто не запятнан пороком, кто твори т справедливое, храни т истину в сердце своём и не несёт коварства на языке своём, кто не делает зла ближнему своему и, отвергнув дьявола, припадает ко Христу». Адельгейда познала двенадцать степеней смирения и теперь жила ими. «Я приняла исполнить не мою волю, а волю Пославшего меня», — говорила она своей пастве.
Лет через пять после пострижения Адельгейду выбрали аббатисой. И она достойно несла свой крест, ни в чём не отступая от устава, строго соблюдаемого в прежние годы аббатисой Стефанией. Десять минувших лет, проведённых в монастыре, изменили духовный мир Адельгейды, наложили на её некогда прекрасное лицо штрихи подвижницы и страдалицы. Но её строгая, печальная зрелость осталась завораживающей, словно лик Пресвятой Девы Марии.
Чем же согрела остывшую душу Адельгейды возникшая так неожиданно перед нею Евпраксия? В этой юной княжне из далёкой России Адельгейда увидела себя, такой же юной, непорочной и не перестающей удивляться и радоваться окружающему её миру. Ещё аббатиса увидела пред собой первозданный алмаз, который нуждался в искусной огранке. «Что ж, я постараюсь сделать из этой девочки достойную супругу маркграфа Штаденского. Я уберегу её от растления. Пусть она проживёт более радостную жизнь, чем выпала на мою долю», — подумала Адельгейда и помолилась, прося у Господа Бога прощения за греховные мысли.
Позже аббатиса не разочаровалась в полюбившейся ей россиянке, Евпраксия оказалась прилежной и одарённой воспитанницей. Особенно она была довольна тем, как княжна постигала немецкую речь. Немало похвалы вознёс Евпраксии и старый приор Энегель, который учил её латыни и открывал перед нею тайны истории. Но не всё давалось Евпраксии легко — она с трудом воспринимала знания, которые касались католической церкви и символов веры. И это угнетало аббатису, порождало в её душе тревогу. Адельгейда считала, что без знания символов веры можно было крестить лишь простую смертную, но не чу, кому уготовано быть дамой императорского двора. Аббатиса день за днём вразумляла Евпраксию:
— Ты, дочь моя, избавь себя от страха, уходя за грань православной веры, и к тебе придёт озарение. Запомни всего лишь три вселенских символа нашей веры, и к тебе придёт озарение. Помни, Всевышний хочет, чтобы в нас было Его подобие, чтобы мы были святы, как свят Он Сам.
Евпраксии не хотелось огорчать добрую аббатису и она старалась постичь мудрость католических уставов, многажды повторяла услышанное от проповедников. «Цель исповедания — Царство Божие, назначение же наше — чистота сердца, без которой никто не может достигнуть этой цели».
Княжне стало легче постигать тайны и символы католической веры, когда она одолела латинскую грамоту и прикоснулась к «Божественному писанию». Аббатиса читала в свободное время это писание вместе с княжной и поверила, что её усилия не пропали даром.
Незаметно пролетел год жизни Евпраксии в Кведлинбурге. И однажды аббатиса сказала ей:
— Дочь моя, вижу, что ты готова принять католическую веру. Потому близок день твоего крещения. Но спрашиваю тебя: не осталось ли в тебе сомнений?
— Матушка, я чиста в помыслах пред Всевышним и готова принять веру моего будущего супруга.
Такое признание Евпраксии несколько озадачило Адельгейду. Ей хотелось, чтобы она принимала новую веру не только ради замужества, но и осознав высоту её по сравнению с другими верами. Но аббатиса не прочитала ей нравоучения, сочтя слова Евпраксии рождением жажды покинуть стены обители. И Адельгейда не ошибалась. Евпраксии и впрямь жизнь в монастыре становилась в тягость. Ведь она общалась не только с добрыми воспитателями и наставниками, но ещё и с дюжиной воспитанниц монастыря. Они и огорчали её. Но пока княжна скрывала свои огорчения и даже не делилась ими с духовником приором Энгелем.
Крещение княжны Евпраксии приурочили к кануну Рождества Христова. Оно состоялось за два дня до праздника — 23 декабря. Евпраксии во второй раз предстояло искупить первородный грех. Она не знала, как искупляла сей грех при первом крещении, — ей тогда и годика не было, как купали её в святой купели Софийского собора. На этот раз обряд, исполняемый в монастырском храме, показался ей обыденным и ничем не смутил её. Ей не пришлось снимать одежду и входить в купель. Пастор окропил ей голову святой водой и вознёс слова о возвращении крещаемой с помощью воды в слове. Евпраксия уже постигла некоторые тайны Священных писаний православия и католичества и удивилась тому малому расхождению в обрядах православных и католиков. Говорилось в православии крещаемому о рождении верующего от воды и Духа. А ведь эта разность слов явилась одной из причин вражды священнослужителей восточной и западной церквей. Однако не тому Евпраксия удивилась больше всего. Она даже огорчилась. У неё отняли родное имя и нарекли новым. Правда, было тут и утешение. Аббатиса Адельгейда пожелала, чтобы крещаемую нарекли её именем — Адельгейдой. Что ж, это было по вере неизбежно. Ведь и раньше в крещении её назвали Евдокией.
После свершения обряда Адельгейде-Евпраксии разрешили встретиться с близкими, с женихом и за четыре дня до Нового года отпустили в Гамбург и Штаден.
— Ты заслужила сие своим примерным поведением и прилежанием, — сказала ей аббатиса, провожая в путь.
Евпраксия благодарно улыбнулась. Да, ей хотелось увидеть нареченного «ангелочка», ещё тётушку Оду и Вартеслава. В тот же час она послала Милицу к Родиону, дабы всё приготовил к утру в дорогу.
Глава десятая ПОБЕГ ИЗ КВЕДЛИНБУРГА
Шёл третий год пребывания Евпраксии в монастыре. И как изменилась за минувшее время княжна. Теперь, увидев её, всякий останавливался, дабы насладиться завораживающим мгновением. То, что она была красива, давно признали все тринадцать воспитанниц, с которыми она вместе жила и постоянно общалась. Лицо девушки привлекало не только красотой, но и особой живостью глаз. Эти тёмно-серые, лучистые глаза заставляли самого равнодушного к красоте человека искать её взгляда, потому как ощутившие его на себе испытывали некий прилив жизненных сил. Им, как и Евпраксии, хотелось улыбнуться, быть чище. Они даже испытывали смущение, ежели не могли быть такими же светлыми и жизнелюбивыми, как эта загадочная княжна. Этой загадочности никто не мог понять, даже проницательная аббатиса. Сама Евпраксия знала о своей силе, знала, откуда эта сила: она вытекала из родового начала. По преданиям она помнила, что все женщины великокняжеского рода несли в себе таинственные и чудодейственные силы. Такими были великая княгиня святая Ольга, княгиня Рогнеда, княгиня Анна. Да и мужи несли в себе божественное начало. Это и великий князь Владимир Красное Солнышко, и Ярослав Владимирович Мудрый. Всё это донёс до Евпраксии отец, великий князь Всеволод, сам личность яркая, могучая. Не знала его дочь после своего деда Ярослава Мудрого таких богатырей ума, кто бы вольно говорил на пяти иноземных языках.
Евпраксия по своему нраву не могла и не хотела таить свою силу. Она делилась ею бескорыстно с каждым, кто был ей любезен. Уже на второй год Евпраксия стала любимицей всех воспитанниц монастыря. Они забывали о себе и своей родовой гордости, о чопорности и превосходстве немецкой расы над славянами, над россиянкой из «диких» степей. Само общение с Евпраксией доставляло им наслаждение. Никто, как она, не умел выслушать девичью исповедь и дать добрый совет, оказать помощь, ничего не требуя взамен. Воспитанницы открывали Евпраксии свои сердечные тайны, они были почти у каждой девицы. Ведь все они находились в том возрасте, когда легко влюбляются, когда юные сердца разрываются между поклонниками. А поклонники были у каждой. Все они — графини, княжны — были наследницами именитых немецких родов из Карингии, Саксонии, Франконии, Швабии. Но пока тайны графинь и княжон были девичьими и не столь уж важными, чтобы о них умалчивать, тем более перед сердечными подругами.
Однако на третьем году пребывания Евпраксии в монастыре у воспитанниц появились серьёзные тайны, которые даже на исповеди они не осмеливались открывать. Всё началось с приезда в Кведлинбург императора Генриха IV. О его визите в город и в монастырь уведомили заранее гонцы. Они вещали на улицах Кведлинбурга и в монастыре о том, что император, венчанный победой над папой римским и штурмом захваливший Рим, шествует по империи в ореоле победителя и желает, чтобы все его подданные разделили с ним радость победы.
Борьба Генриха IV с папой Григорием VII длилась многие годы. Только война продолжалась четыре года. Два первые года он терпел поражения. Но, как потом скажет Генрих, ему помог одержать победу весь немецкий народ. Якобы только благодаря ему он овладел Римом. Он вновь вознёс на престол церкви антипапу Климента III, сам же был возвращён в лоно церкви и коронован вторично. Может быть, император и не вернулся бы из Рима в Северную Германию, если бы за последний год не произошло событие, которое в какой раз потеснило императора к пропасти. В 1083 году «благодарные и верноподданные князья и графы» подняли «преданный» ему народ на восстание, дабы избрать королём Германии герцога Германа Сальмского. На этот раз Генриху довольно легко удалось не подпустить к престолу самозваного короля. Император пришёл в Майнц и с помощью Климента III собрал многих священнослужителей и вновь был провозглашён «Божий мир» для всего государства.
Княжна Евпраксия не видела, как встречали императора жители Кведлинбурга. По слухам же всё было противоречиво: одни говорили, что государя встретили торжественно и бурно, другие утверждали, что на улицах лишь появилась толпа любопытных. Были и такие, кто говорил, что народ сбежался лишь посмотреть на бороду императора — будто бы она стала чёрная.
В монастыре жизнь текла как и прежде. Аббатиса, казалось бы, не хотела знать, что император в городе. Хотя гонцы предупредили её о визите государя в монастырь. Ничто не нарушило устава и в тот день, когда брат аббатисы, как и обещал, приехал в обитель. Как раз в храме шла полуденная служба. Двор и покои монахинь были безлюдны. Привратник распахнул перед императором ворота, то г въехал в сопровождении нескольких вельмож на пустынный двор и остановился в ожидании: вот сейчас распахнутся двери и ему навстречу выбегут боголюбивые монахини во главе с аббатисой. Но ничего подобного не произошло. Бежали минута за минутой, а двор по-прежнему был пуст. Раздосадованный Генрих посмотрел на своего фаворита Деди Саксонского, сказал:
— Найди аббатису и попроси душевно ко мне. — После небольшой паузы добавил: — Силой не касайся.
— Ваше величество, сделаю как велено, — ответил маркграф, сошёл с коня и направился к храму.
Деди нашёл аббатису близ патера, который читал проповедь. Выполняя волю императора, Деди не смутился тем, что нарушил службу, подошёл к аббатисе и тихо сказал:
— Матушка Адельгейда, тебя ласково зовёт император. Изволь к нему выйти.
Аббатиса не отозвалась и не шелохнулась, будто и не стоял перед нею великан Деди. Он подошёл ещё ближе, повторил:
— Матушка Адельгейда, тебя ласково зовёт император.
Она вновь не шелохнулась, но отозвалась:
— Сказано в Писании: «Смерть и жизнь в руках твоего языка!» Изыди! В храм оружными не входят. А императору передай: служба ненарушима. — И аббатиса запела псалом Давида.
Маркграф Деди был озадачен. Он знал причину сопротивления Адельгейды, у неё были основания отказывать брату во внимании, а может быть, и ненавидеть его, как и самого Деди, если она ведала, что он тоже причастен к смерти герцога Гольдаста. Верному слуге Генриха оставалось только покинуть храм и подставить свою голову под гнев государя. Деди вернулся к Генриху. Тот всё понял но виду маркграфа и устоял перед соблазном излить желчь на фаворита и затеять новую ссору с сестрой. Смирился он по одной причине: Адельгейда была ему нужна. И потому Генрих решил, что отныне он всегда будет ласков с сестрой, выполнит любые её пожелания, но не даст повода разжечь затухающую вражду. Генрих уже был благодарен ей за то, что она приняла на воспитание княжну россов. Но о ней он сегодня и словом не напомнит. Может быть, через год-другой появится в том необходимость. А пока он приехал с чистыми и благими намерениями пригласить родовитых воспитанниц на торжественные ассамблеи, которые он проведёт в Кведлинбурге, Майнце, Кёльне и других городах Северной Германии. Через этих юных княгинь и графинь он надеялся помириться со многими знатными вассалами севера державы, которые враждовали против него. Генрих предполагал, что сестра воспротивится его желанию увезти воспитанниц. Дабы смягчить сердце сестры, он привёз ей благодарственное послание папы Климента III. В размышлениях, в тихой прогулке по монастырскому саду прошёл не один час. Наконец терпение Генриха лопнуло, и он крикнул Деди:
— Я же говорил тебе, чтобы привёл силой! Теперь ставь здесь шатёр, а утречком я за сестрину возьмусь!
В этот миг в сад прибежала послушница и с низким поклоном сказала:
— Батюшка государь, просит тебя матушка аббатиса.
Брат и сестра встретились только после того, как в монастыре завершилась вечеря и в обители наступило время чтения священных книг. Встреча произошла в просторной и почти свободной от какой-либо мебели келье аббатисы. Две скамьи под чёрным сукном, стол, ложе за белым пологом, изваяния из красного дерева Иисуса Христа и Пресвятой Девы Марии, стоящие между двумя оконцами, — вот и всё, что увидел Генрих, войдя в рубленную из толстых брёвен келью. Адельгейда никак не приветствовала брата. Он же сказал:
— Я приехал уведомить тебя, дорогая сестра, что в Германии заключён «Божий мир» и отныне до скончания века не будет на нашей земле войн.
Адельгейда осталась безучастной к сказанному Генрихом, лишь спросила:
— Что тебе нужно в монастыре?
Генрих понял, что между ними не будет тёплой беседы. Но оставалась ещё надежда, что послание Климента III смягчит суровость сестры.
— Ещё я привёз тебе грамоту от папы римского.
— От верховного понтифика Григория? — с удивлением спросила Адельгейда. — Но того не может быть.
Генрих замешкался, потому как не знал её отношения к Клименту. Ответил, однако, с пафосом:
— Ты же знаешь, что сегодня на престоле церкви достойнейший сын Божий папа Климент Третий.
— Прости, государь, но Северная Германия его не признала папой. Я — тоже. Что ещё у тебя? — Адельгейда стояла перед Генрихом, и за спиной у неё, освещённые лампадами, возвышались образы Иисуса Христа и Пресвятой Девы Марии.
Государю показалось, что их взоры проникли в его душу и видят, сколь всё лукаво в ней. И теперь он боялся сказать о самом главном, ради чего появился в обители. Но, искушённый в борьбе, он победил минутное колебание. Разговор же повёл с малого: — Собери здесь воспитанниц. Я должен сказать им слово.
— Могу я знать то слово?
— Да, ты услышишь его вместе с ними.
— Что ж, я позову их. Здесь твоя воля превыше моей. — И Адельгейда покинула келью.
Император смотрел вслед сестре недобрым взглядом. Не мог он быть с нею по-братски душевным, ласковым. Странно, но свою неприязнь к ней, словно чьё-то дьявольское завещание, он пронёс через всю жизнь со дня появления сестры на свет. Он оправдывал себя тем, что был обделён любовью отца и матери. Едва Адельгейда родилась, как ей были отписаны завещанием многие земли матери в Центральной и Южной Германии. А отец даже подарил ей замок в Вероне. Смерть жениха и уход Адельгейды в монастырь, казалось бы, должны были зарубцевать зависть Генриха: земли и замки перешли в его владение. Однако неприязнь между братом и сестрой прирастала с каждым годом. И странным в этом было то, что Адельгейда не давала Генриху поводов враждовать с нею. Её отношение к старшему брату было всего лишь равнодушным. Он чувствовал это равнодушие и в ответ проявлял к ней агрессивность. И хотя многажды давал себе слово быть к ней милосердным, но это не получалось помимо его воли. Он и сегодня готов был совершить какую-либо мерзость за то, что Адельгейда заставила ждать его больше трёх часов. Он был убеждён, что сделано это умышленно, а не из-за того, что нельзя нарушить монастырский устав. Однако долго нервничать воинственному Генриху не пришлось. Он и десяти раз не прошагал из угла в угол кельи, как распахнулась дверь, появилась Адельгейда и за нею вошли двенадцать воспитанниц. Генрих каждую тронул рукой, посмотрел в их лица своими кошачьими глазами и остался недоволен. Он уже забыл, что не хотел тревожить княжну россов, неодолимое желание оказалось сильнее его здравого смысла. Увидеть немедленно, и ничего другого ему пока не надо.
Адельгейда заметила, как изменился в лице её брат, но ничем ему не помогла. Она усадила воспитанниц на скамьи, кои стояли вдоль стен.
— Государь, воспитанницы Кведлинбурга готовы выслушать тебя.
— Мы рады видеть вас, ваше величество, — неожиданно и громко сказала юная графиня Катрин Лузицкая, белокурая, живая и красивая девица.
— Тем проще мне с вами разговаривать, юные дамы, — ответил Генрих. - Да будет вам известно, что германская армия усмирила непокорных по всей империи, наказан Рим, низложен самозваный король Герман Сальминский. В империи торжествует «Божий мир»! И по этому поводу мы, император, устраиваем по всей Германии увеселительные ассамблеи. Пришёл черёд ассамблей в Кведлинбурге и в Гамбурге. Потому воля моя всем вам почтить ассамблеи своим присутствием. Пришёл ваш час показать себя в свете! — воскликнул Генрих. — Завтра пополудни мои люди отвезут вас в Кведлинбург. Вас ждут радость и веселье!
Воспитанницы были в восторге. Они жаждали избавиться хоть на время от нудной монастырской жизни. И уж коль сам император их приглашает, как туг не воспользоваться счастливым слушаем. Но все они теперь смотрели на аббатису и ждали, что скажет она. Они молили её дать согласие. И Адельгейда сказала своё слово:
— Государь, над ними есть воля родителей.
Генрих замешкался с ответом, но выручила Катрин Лузицкая:
— Матушка аббатиса, мы помним, что воля императора превыше всего, потому нам должно быть на ассамблеях.
— И не забудьте о княжне Евпраксии. Ей быть непременно, — в упор смотря на сестру, произнёс Генрих.
— Княжны Евпраксии нет в обители, — сухо ответила аббатиса.
— Она здесь! Я это знаю, — возразил Генрих.
— Её нет. Но есть воспитанница, коя носит моё имя, и ей не быть на ассамблеях.
Грудь Генриха обожгло гневом. Но он сдержался, не закричал на сестру, лишь спросил:
— А ты готова почтить вниманием кведлинбургскую ассамблею?
— Нет.
— Ничего, как-нибудь я тебя приглашу. Ты не минуешь встречи с моими... гостями. — Генрих говорил тихо, но в каждом слове таилась угроза.
Адельгейда почувствовала её и, склонив голову, подошла к двери, распахнула её и строго сказала воспитанницам:
— Идите. Завтра будьте готовы к мессе.
Воспитанницы встали как по команде, поклонились императору и покинули келью. Адельгейда не закрыла за ними дверь.
— Ты своего добился, — сказала она брагу. — Потому завтра утром покинь мою обитель. А теперь оставь меня. — И аббатиса подошла к двери, намереваясь закрыть её за Генрихом.
Она смотрела на него спокойно и, как показалось Генриху, презрительно. «Ничего, я добавлю тебе горечи, чтобы презирала с основанием», — подумал император и вышел из кельи.
Генрих не внял требованию Адельгейды и не покинул утром монастырь. Несколько раз в течение утра он делал попытку увидеть княжну Евпраксию, но это ему так и не удалось. Когда монахини и воспитанницы возвращались с утреннего богослужения, он высматривал княжну среди них, но аббатиса спрятала княжну, и не против её воли, а по согласию с нею. Что ж, у россиянки был повод прятаться от императора, считала Адельгейда, потому как уже знала, что брат преследовал её.
Генрих рвал и метал. Он готов был послать своих воинов всё перевернуть в монастыре вверх дном, но найти княжну. Он испытывал боль от желания увидеть её магнетические глаза, прикоснуться рукой к обладательнице несметного богатства. Он покидал монастырь с чувством побеждённого на поле сечи и уже вынашивал замысел, как отомстить Адельгейде за своё поражение. Будущее покажет, что он выполнит свой замысел и совершит злодеяние, от которого содрогнётся вся Германия.
А пока Генрих утешался тем, что увозил из монастыря двенадцать юных воспитанниц, самой старшей из которых — Катрин — было девятнадцать лет, а младшей — шестнадцать. Покидая обитель, они были беззаботны и веселы. Они ощутили себя вольными птицами и ждали от предстоящего праздника только веселья, только радости. Половина из них в меру получили то и другое. Другой половине досталось всё безмерно. И в этой безмерности больше было неизбывного горя.
Император обещал сестре вернусь воспитанниц в монастырь в тот же день после ассамблеи в Кведлинбурге. Однако ни в день окончания её, ни в последующие три дня девушки не возвратились. На четвёртый день аббатиса послала в город приора Энгеля и с ним двух досужих монахинь, абы они узнали, куда исчезли воспитанницы. Посланцы вернулись с неутешительными вестями.
— Матушка аббатиса, посетил я патера Людвига, — докладывал приор, — он же сказал, что вся свита императора, а с нею и наши девицы покинули Кведлинбург в ночь после ассамблеи.
— Но куда они уехали? — спросила взволнованная Адельгейда.
— Спросил я и о том отца Людвига. Он сказал, что якобы уехали в Гамбург. О том он слышал на ассамблее, но не уверен в истине, потому как говорили и о том, что Генрих помчал в Брауншвейг.
В груди у Адельгейды всё похолодело от тяжёлого предчувствия. Она представила себе, какую бурю гнева вызовет в семьях воспитанниц их исчезновение из монастыря. И ей не будет оправданием то, что они уехали из обители по воле императора. Давно уже по империи ходили слухи о том, что Генрих и его двор ведут двойной образ жизни. Одна сторона — это всем известные военные походы, это борьба за власть и защита престола, противостояние римскому папе, ещё охота на дичь и на зверя всем двором со множеством егерей и собак, другая — скрытная, таинственная, известная лишь избранным. Об этой стороне жизни императора ходили ужасные слухи. Утверждали, что сам император возглавлял некую загадочную секту, которую называли сектой николаитов. Что это была за организация и что в ней делали избранные императора — тоже никому не было известно. Но многие предполагали, что сия тайная жизнь Генриха отнюдь не благочестива и добродетельна. Не знала ничего о таинственной стороне жизни брата и Адельгейда. У неё были лишь смутные догадки, которые она построила на том основании, что достаточно хорошо знала коварный, непредсказуемый и изощрённый в деяниях характер брата. Он, по её мнению, был двуликим Янусом, не ведающим морали и чести, не испытывающим угрызений совести.
Адельгейда наказала приору и монахиням молчать об исчезновении воспитанниц. Хотя знала, что сие недолго будет храниться в тайне. Она попыталась взять себя в руки и найти какие-то пути, дабы предотвратить беду. Однако, как она ни билась, ей ничего путного в голову не приходило. Одно настойчиво кружилось в расстроенном сознании: нужно найти императора. И только она должна отправиться на поиски, сочла Адельгейда. Но где и как сто найти, если никто толком не знал, куда император выехал из Кведлинбурга. Генрих мог отправиться в Гамбург, в Майнц, в Кёльн и даже в замок Брауншвейг на сборище своих сектантов. Знала Адельгейда, что даже самые близкие придворные не представляли себе, где им доведётся быть через день или два. Подкатывалось отчаяние. Адельгейде казалось, что по дорогам к монастырю мчатся уже разгневанные родители похищенных дочерей. Ч то она им ответит, как успокоит страдающих матерей? Келья показалась ей клеткой, в которой её будут травить, словно зверя. И, не вынеся душевных терзаний, аббатиса окинула келью, дабы окунуться в монастырскую жизнь и в ней найти нужное успокоение. Её повлекло к княжне россов, которая со своей сенной девицей вот уже год обитала в отдельном покое. Адельгейда и прежде любила заходить к россиянкам. Ей, чопорной немке, доставляло удовольствие побыть близ вольнолюбивых девиц, кои не стесняли себя монастырскими канонами. В их келье всё дышало простотой и непосредственностью. Даже случайно брошенная вещь не создавала беспорядка, а, словно вырвавшись на свободу, гуляла сама по себе. В закуточке кельи за цветастым пологом у княжны висел парусиновый мешок с опилками. Зачем его принёс в келью Родион, никто не знал. Но Евпраксии и Милице он доставлял удовольствие. Вот и сейчас, распахнув дверь, Адельгейда явилась очевидицей, как её любимая воспитанница, облачённая в лёгкий сарафан, прыгала вокруг мешка и наносила по нему замысловатые удары своими тонкими пальчиками. Увидев аббатису, княжна прервала своё занятие, опустила полог, смиренно склонив голову, сказала:
— Простите, матушка аббатиса, что греховодничаю. Да родимой матушки науку нельзя забывать.
На лице Евпраксии аббатиса не заметила смирения, оно оставалось живым и улыбчивым, а глаза излучали искры. В другой раз Адельгейда сделала бы выговор воспитаннице, которая вольничала в неурочный час, занимаясь неведомой ей страстью. Но на сей раз было не до этого, и она лишь заметила:
— Вольности в тебе много, крестница. Ну да об этом потом поговорим. А сейчас подскажи мне, светлая головушка, где искать твоих подружек?
— Матушка аббатиса, я того не ведаю. Но я думала о них, и было бы разумно послать моего Родиона к тётушке Оде. Она постарается для вас.
— Я принимаю твой совет. Но этого мало, дочь моя.
— Поди, так, — согласилась Евпраксия. — Но я бы отправила посыльных к родителям. Вы, я вижу, остерегаетесь того. А ведь тайное всё равно станет явным и будет хуже.
Почему-то эта разумная мысль не приходила аббатисе в голову. И она согласилась с крестницей, хотя и знала, что сделать это довольно трудно. Многие родители жили далеко oт Кведлинбурга, и пройдёт немало времени, пока гонцы доберутся. Да и где их взять, тех двенадцать гонцов. Евпраксии она сказала:
— Ты пошли Милицу к Родиону. Я напишу грамоту для княгини Оды, и пусть она отнесёт.
Евпраксия кивала, но не согласилась с аббатисой.
— Матушка, позволь нам вместе сходить к Родиону. Я знаю, что наказать ему.
— Да, я разрешаю. Но возьмите повозку. А я распоряжусь, чтобы вас выпустили.
Прошло ещё несколько дней. Воспитанницы не возвратились. Адельгейда нашла в городе добровольных гонцов и послала их по адресам. Но и сама, не вытерпев душевных терзаний, отправилась на поиски императора. Что-то побудило её ехать в Майнц, где император часто и подолгу жил. Раним утром она покинула монастырь, чтобы по воле злого рока уже не вернуться в него.
Адельгейда не ошиблась: Генрих был в Майнце. Он встретил сестру любезно. Она же была сурова с братом и жёстко сказала:
— Верни моих воспитанниц немедленно! Только негодяи так могут поступать!
Император словно бы и не слышал требования аббатисы, ответил с улыбкой:
— Дорогая сестра, мои ассамблеи продолжаются, девочки веселятся. Зачем же лишать их радости?!
— Ты дал слово, но не сдержал его, и это бесчестно. Что я отвечу их родителям?
— Не пекись о родителях, сестра. Мне отвечать перед ними. Просто я пьян от победы, и потому прости мою забывчивость. И не сердись. Сегодня отвезу тебя на торжественный бал, где ты увидишь своих воспитанниц, а завтра все вместе отправитесь в Кведлинбург.
Адельгейда ещё продолжала негодовать. Она знала коварство Генриха, он умел нежно говорить собеседниками. На этот раз она была настороже, но недолго. Ведь в сказанном братом был соблазн: она увидит своих воспитанниц, узнает, что с ними и почему их до сих пор не вернули в обитель.
— Хорошо, я поеду на твою ассамблею, но при условии, что сегодня же по её завершении мы покинем Майнц.
— У тебя будет полная свобода действий, — заверил Генрих сестру. — А теперь тебе пора отдохнуть и набраться сил. Да, да, силы тебе потребуются, — многозначительно произнёс Генрих.
Вскоре же после полудня императорский замок в Майнце покинули несколько экипажей и пол тора десятка верховых всадников во главе с императором. За городом кортеж направился на юг, и через полчаса лёгкой рыси перед путниками возник старый королевский замок «Орлиное гнездо». Он возвышался на холме, и мощные стены его поднимались высоко в небо. Подъёмный мост был спущен, ворота распахнуты, и кортеж въехал на двор замка. Тотчас на дворе всё ожило, приезжие покидали седла, экипажи, слуги уводили в конюшни коней. Лишь в одном экипаже дверца долго не открывалась. Там сидела Адельгейда, и её удерживало некое тяжёлое предчувствие. Оно возникло не сейчас, а в те минуты, когда кортеж покинул Майнц. Почему император свой последний торжественный бал проводил не в городе, а где-то в отдалённом замке, к тому же, как помнила Адельгейда, многие годы необитаемом? Но времени на размышления у неё не оказалось. Генрих распахнул дверцу экипажа и сказал, словно попытался развеять сомнения сестры:
— Идём, любезная. Я обещаю тебе, что ты увидишь нечто необыкновенное и сама пожелаешь принять участие в играх.
Адельгейда покинула экипаж, и Генрих повёл её в замок. В просторном зале, куда ввёл Генрих сестру, собралось уже человек сорок гостей, большей частью молодых вельмож, молодых дам. Были накрыты столы, но за ними никто не сидел, да и сидеть было не на чем. Гости подходили к столам, что-то пили, ели и вновь прогуливались или собирались в группы, вели беседу. Всё было привычно Адельгейде, потому что в юности она была участницей таких балов. С появлением императора, который сразу же проследовал к столу и встал во главе его, все пришли в оживление. Молодой и красивый южанин граф Манфред Дизентийский задорно крикнул:
— Виват кайзеру!
И многие повторили сей возглас. Да тут же были наполнены кубки. И под бурную здравицу императору гости осушили их. Не прошло и нескольких минут, как Генрих нашёл новый повод для выпивки.
— Дорогие николаиты, — обратился он к вельможам и дамам, — перед вами аббатиса Кведлинбурга, чудесных воспитанниц которой вы уже знаете. Я поднимаю кубок за приобщение Адельгейды к нашему ордену. Надеюсь, что сегодня это случится. — И Генрих вновь осушил кубок.
И все выпили за сестру императора. Но этим тост не завершился. Кубки были наполнены вновь. К аббатисе подошёл граф Манфред и, нисколько не смущаясь её монашеского одеяния, преподнёс ей губок с вином.
— Прекрасная невеста Христова, вкуси с нами вина. Да раскрой свои губы в улыбке, озари нас солнечным светом.
Адельгейда отвела руку Манфреда с кубком.
— Не бери грех на душу, граф, и не смущай Христову невесту.
— Выпей, матушка, выпей, — настаивал Манфред. — Вино от Бога, и в том нет греха...
— Сестра, уважь моих рыцарей, выпей, — склонившись к Адельгейде, сказал Генрих.
— Где мои девочки? — строго спросила она.
— Ты пригуби, и сейчас увидишь их, — настаивал Генрих и сам преподнёс ей кубок с вином.
«Господи, ради них принимаю грех на душу», — помолилась Адельгейда и взяла кубок.
— Слава Адельгейде, слава! — закричали николаиты. Аббатиса сделала несколько маленьких глотков, как на причастии.
Генрих вновь вложил ей кубок в руки и попросил:
— Выпей за меня, сестрица. И, клянусь, между нами никогда больше не пробежит черпая кошка.
— Хорошо, — согласилась она и выпила вина больше, чем хотела, потому как сильная рука Генриха тому помогла. — Зачем ты это сделал? — рассердилась Адельгейда. — Нет, ты не ищешь со мною мира.
— Да полно, сестрица, полно! Я люблю тебя! — Три выпитых Генрихом кубка уже давали себя знать. Он становился бесцеремонным. Склонившись к сестре, он поцеловал её, взял недопитый ею кубок, отхлебнул вина и поднёс к губам Адельгейды. — Пей, сестрица! Пей до дна!
Адельгейда не поняла, что с ней происходило. В груди у неё звенела музыка, на лице вспыхнул румянец, глаза засверкали. Она взяла кубок и осушила сто до дна.
— Браво, браво! — закричал граф Манфред.
В зале уже стоял невообразимый шум. Вино лилось рекой. Его пили обильно не только мужчины, но и женщины. У Адельгейды ещё мелькнуло просветление, она подумала: «Это же вакханалия».
Так и было. С плясками, с песнями все двинулись на второй этаж замка. Манфред взял под руку Адельгейду и тоже повёл её наверх. По пути он спел ей песенку, и она не взбунтовалась.
Меня он, чёрный, увлекает И с милой дамой разлучает. Хоть твёрдо не могу стоять, С тобой я должен танцевать!На втором этаже замка Адельгейда увидела такой же просторный зал. Столов было меньше, за ними во всю длину стен тянулись просторные ложа. Аббатиса ещё пыталась понять, зачем эти ложа, но то, что она увидела через несколько минут, не укладывалось в её понимание о благочестии императорских вельмож. Едва вбежав в зал, они взялись сбрасывать с себя одежды, причём делали это одновременно и мужчины, и дамы. Раздевшись, они парами выходили на середину зала и под музыку, которая доносилась неведомо откуда, принялись не то танцевать, не то плясать, изгибаясь в самых непристойных позах.
— Господи, какой позор! — воскликнула Адельгейда, и, прикрыв глаза рукой, она попятилась к лестнице.
Но её остановил Генрих. Она была словно парализована и ничего не сказала брату. Он же попросил Манфреда:
— Помоги мне увести сестру вглубь залы. Там её феи!
Они подхватили Адельгейду под руки. Она почувствовала, что пол под ногами у неё исчез. Генрих с Манфредом побежали с нею через всю залу по коридору из обнажённых николаитов. Остановились они перед возвышением. Генрих трижды хлопнул в ладони. В задней стене распахнулись двери, и на возвышение выбежали девять обнажённых воспитанниц Кведлинбурга с золотыми поясками на талиях, распущенные концы которых прикрывали лоно Евы. На лицах девиц были улыбки, они чувствовали себя как рыбки в воде и дружно поклонились Адельгейде, очевидно зная, что увидят её здесь.
Аббатиса не помнила, что с нею произошло дальше. Она лишь почувствовала в груди ярость и гнев, повернулась к императору и вцепилась руками в его лицо.
— Злодей! Злодей! — неистово кричала она, а ногти её всё глубже впивались в щёки императора.
Генрих оторвал от себя руки Адельгейды, провёл ладонью по лицу. Она была в крови. Генрих усмехнулся. Он оттолкнул от себя сестру прямо в руки графу Манфреду, весело сказал:
— Знаю, граф, ты любишь девственниц. Возьми же её!
Манфред поклонился Генриху, легко подхватил Адельгейду на руки и понёс её к ближнему ложу, напевая песенку:
Учись плясать в моей стране, Твой плач иль смех приятен мне. И даже будь при соске ты, Тебе не избежать беды!Вакханалия продолжалась. Воспитанницы Кведлинбурга разыгрывали на помосте карнавальную сценку «Как семь девиц за парня сватались». Кто-то ещё плясал, а многие пары уже тешились на ложах. И Манфред уложил Адельгейду на ложе, принялся снимать с неё монашеские одежды. Она сопротивлялась, кричала, но, когда увидела, что над нею склонился Генрих и помогает Манфреду раздевать её, разум её помутился. Всё, что происходило дальше, трудно поддаётся описанию, но правда должна торжествовать. В немецких хрониках той поры по этому поводу было сказано так: «Генрих продолжал развратничать и насильничать. Хронист Бруно особенно возмущается его поступком с собственной сестрой, упомянутой уже аббатисой женского Кведлинбургского монастыря Адельгейдой, которую он своими руками держал в то время, когда другой её насиловал».
На рассвете обнажённую Адельгейду слуги укрыли мантией и унесли неведомо куда. Никто из них не знал, что это сестра императора, аббатиса Кведлинбургского монастыря. Для слуг она была всего лишь вольной женщиной, хватившей чрезмерно удовольствий.
В монастыре в те дни, пока отсутствовала Адельгейда, было неспокойно. Через два дня после отъезда аббатисы поздним вечером вернулись три старшие воспитанницы: Катрин, Гертруда и Эльза. Они появились в своём покое закутанными в чёрные плащи, со спрятанными под капюшонами лицами. Привратник, проводив их в покой общего жития, заглянул потом к Евпраксии и предупредил её:
— Вернулись три блудные овцы. Матушке бы надо донести, да нет её.
— То верно. Да скоро приедет, — утешила привратника княжна.
Лишь только страж ворот ушёл, Евпраксия отправилась в покой к подругам. Они сидели на скамье у стены, тесно прижавшись друг к другу, не сняв плащей и не откинув капюшонов.
— Вот те на! — удивилась княжна. — Раздевайтесь, лебёдушки. Вы дома, и что там горевать о минувшем!
Однако в ответ не донеслось ни звука. И тогда княжна подошла к ним и решительно откинула с крайней из сидящих капюшон. В слабом свете сальника она увидела лицо, от вида которого в её груди разлился страх. Оно было синее, с распухшими губами, с чёрными отёками под глазами, на которые падали спутанные, грязные волосы. Княжна не узнала в этом жалком существе красавицу Катрин.
— Господи, да что с тобой? Что с вами?! — воскликнула Евпраксия.
И вновь ответом было молчание. И как ни старалась княжна добиться каких-либо слов от вернувшихся, ей это не удалось. В конце концов Евпраксия помогла им перебраться в постели, и, когда, как ей показалось, они уснули, она покинула их покой. Ей было над чем подумать. А от мысли о том, что и с ней могло глумиться подобное, если бы она вдруг уехала на ассамблеи, её отважное сердце забилось тревожно.
Был уже поздний час, когда Евпраксия легла спать. Но сон к ней не шёл. Думы сводились к одному: пришло время покинуть обитель, потому как возраст уже позволял ей вступить в супружество. И княжна решила, что, как только вернётся аббатиса, она распрощается с нею и вернётся в Штаден. Одно смущало Евпраксию: никто не мог ей сказать, когда вернётся аббатиса. Ведь где-то пропадали ещё девять воспитанниц, найдёт ли она их.
Утром, лишь только рассвело, княжну разбудила Милица и сказала, что вернулся из Гамбурга Родион и просит, чтобы она вышла к воротам.
— Он хмур, как осенняя туча, и мне ничего не сказал, — отчиталась Милица.
Наскоро одевшись, Евпраксия побежала к монастырским воротам. Там, в привратницкой, её ждал Родион. Он и впрямь был пасмурен.
— Здравствуй, княжна. Прости за раннюю тревогу.
— Полно виниться, Родиоша. Говори, что принёс.
— Всё худо. Тётушка Ода отказалась исполнить просьбу настоятельницы. Сказала одно: боюсь на глаза показаться Рыжебородому.
— Как же так? Бесстрашная княгиня, и вдруг... Но почему боится, ты спросил?
— Спросил. Она не ответила. Одно сказала, чтобы ты, матушка, остерегались и от приманок Рыжебородого отбояривалась.
— Она верно сказала, — ответила Евпраксия, вспомнив лицо Катрин. — Только как нам жить дальше? Как? — взволновалась Евпраксия. — Может, тебе у ворот со стражами послужить, а?
— Как скажешь, матушка. А мне что, — ответил боярский сын Родион. Был он выше среднего роста, плечист, грудь колесом, под кафтаном голыши мускулов перекатывались. Лицом пригож, кого угодно из девиц присушит, ласковыми тёмно-синими глазами, пшеничным чубом. Никто не пройдёт мимо него, дабы не погрезься взглядом. И родом именит Родион. Боярство получили его предки больше ста лет назад, ещё при великом князе Игоре Рюриковиче.
«Ох, Родиоша, за тебя бы мне замуж, — вздохнула Евпраксия. — Какая бы утешительная семеюшка получилась».
И Родион тайком вздыхал по искроглазой княжне. Она ведь на его глазах подрастала и всё хорошела. Теперь вот совсем расцвела. Ничем Бог не обидел, а живости нрава с избытком дал. Да где уж ему, боярскому сыну, тешить себя думами о счастье. Одно и утешение, что наглядеться вдоволь отпущено. Пялит он на княжну глазищи, а она только ласково улыбается, но не перечит: любуйся — не убудет.
Так и расстались Евпраксеюшка и Родиоша, согрев друг друга глазами, а большего им не было дано. Монастырские стражи взяли Родиона в свою среду. Да он им в тревожные-то дни находкой был.
Несколько дней в обители было тихо. Дела житейские за аббатису исполнял приор Энгель. Три воспитанницы мало-помалу пришли в себя. Но по-прежнему были молчаливы, Евпраксия как ни пыталась проникнуть в тайну их отчуждения, так ничего и не добилась. Да как показалось княжне чуть позже, разгадка была близко. На восьмой день отсутствия аббатисы, опять-таки поздним вечером, вернулись ещё три воспитанницы. Их привезли в дормезе, который сопровождали несколько воинов. Высадив девиц у ворот, воины, однако, не уехали. И один из них шёл вместе с девицами к воротам. Родион, который стоял на страже ворот, был озадачен. Однако, впустив в малую дверцу воспитанниц, он ловко преградил путь воину и захлопнул перед ним дверь, перекрыл дубовым запором. Забежав в привратницкую, он поднял двух стражей, кои отдыхали.
— Эй, мужи, у ворот опасица!
Привратники, хотя и были пожилыми, оказались проворны. Схватив алебарды, побежали к воротам.
Между тем воспитанницы, не удосужившись зайти в свой покой, нагрянули к Евпраксии. Они были оживлённые, весёлые, принялись обнимать княжну. Наконец старшая из них, Агнеса, сказала:
— Адель, собирайся в путь, поедешь с нами в Эрфурт.
— Зачем? — просила Евпраксия.
— Господи, разве ты не знала, что мы были на ассамблеях? Вот и тебя зовут повеселиться.
Все мрачные предчувствия Евпраксии рассеивались при виде весёлых и беззаботных подружек. Однако княжна вспомнила Катрин, Гертруду и Эльзу, и её беспечность улетучилась.
— А императора я там увижу? — спросила она.
— Он там блистает, — ответила Агнеса.
— Что ж, я готова повеселиться. Вы пока соберите мои платья, а мы с Милицей сбегаем к приору и уведомим его.
— Всё верно, красотка, — подбодрила княжну Агнеса.
Евпраксия и Милица накинули чёрные мантии и вышли из покоя. Княжна взяла Милицу за руку, и они побежали не к келье Энгеля, а к воротам. Неподалёку от них княжна спряталась за выступом башни и послала Милицу за Родионом. Милица скрылась в темноте, и прошло совсем немного времени, как вернулась.
— Родион сейчас прибежит, — сказала Милица. — Но там кто-то ломится в ворота.
Не прошло и минуты, как появился Родион.
— Там воины императора. Они приехали за тобой, княжна, — торопливо сказал он. И, взяв Евпраксию за руку, добавил: — Надо уходить. Близ конюшни есть тайный лаз. Там и вырвемся.
Вскоре беглецы добрались до тайного лаза под монастырской стеной, пробрались по нему и оказались в роще, примыкавшей с востока к обители. Спустя, может быть час, они добрались до сонного Кведлинбурга, где Евпраксия снимала для Родиона небольшой дом. Он не пустовал. В конюшне стояла пара лошадей, под навесом была повозка, а в доме находился слуга, которого Родион привёз из Гамбурга от княгини Оды. Разбудив его, Родион велел запрягать лошадей и взялся собирать в дорогу кое-какие вещи и провиант. Где-то близко к полуночи беглецы покинули Кведлинбург и, дабы избежать погони, двинулись в Гамбург окольным путём. Княжна сидела на мягком сене в передке повозки и грустила оттого, что рассталась с аббатисой, которая почти три года была с ней ласкова и заботлива, словно родная матушка.
Глава одиннадцатая ТЕРНОВЫЙ ВЕНЕЦ МАРКГРАФА
За минувшие два с половиной года до возвращения Евпраксии в замок Штаден могло показаться, что в жизни его обитателей ничего запоминающегося не произошло. Больше двух лет тихо и мирно текла жизнь графини Гедвиги и маркграфа Генриха. Но вскоре же после победы императора над папой римским Григорием VII в жизни молодого маркграфа произошли большие тайные перемены. В Штаден из Майнца, где в эту пору пребывал император, примчался гонец и привёз повеление государя явиться ко двору на службу. В эту пору многие молодые вельможи из знатных семей были обязаны служить при дворе императора. Титул маркграфа позволял Генриху отказаться от службы, однако он счёл долгом исполнить нолю государя. Распростившись с матушкой и не уведомив невесту, маркграф покинул Штаден и умчал в Майнц. В императорском замке маркграфа Штаденского встретили с почестями. Сам Генрих IV принял своего тёзку ласково, сказал словно стяну:
— Службой я тебя не обременю. Для меня важно лишь твоё присутствие на ассамблеях.
Всё так и было поначалу. Маркграф появлялся на всех увеселительных пирах, которые ничем не походили на торжественные ассамблеи по случаю победы на войне, а были просто разгульными пирушками. Маркграф Генрих на этих сборищах не прикасался к хмельному, поэтому вскоре подобное присутствие ему надоело. Но однажды, когда молодой маркграф изнывал от скуки, к нему подошёл маркграф Деди Саксонский и по-отечески сказал:
— Тебе, любезный, пора мужать, а то ведь и супруг-то из тебя выйдет никудышный. Вот тебе кубок, и выпей его, если ты рыцарь.
Генрих понял, что Деди оскорбил его и сделал это умышленно. И доказать, что он всё-таки рыцарь, оставалось одним способом. Он взял у Деди кубок и осушил его.
— А теперь, маркграф, извинись, что оскорбил мою честь.
— Ну полно, маркграф Штаденский, я ведь к тебе, как отец. И, как отец, должен был испытать тебя, — Деди подвёл Генриха к столу, налил два кубка вина и подал один Генриху. — Теперь выпьем за дружбу, и чтобы ты простил меня за батюшку.
— Я прощаю тебя, маркграф Деди, — ответил Генрих и лихо выпил вино.
Выпил своё вино и Деди. Сказал Генриху:
— А теперь я должен тебя кое во что посвятить. — И Деди долго о чём-то рассказывал Генриху, а в полночь увёл его из замка и они пришли в капеллу.
Деди подвёл Генриха к распятию Иисуса Христа, перед которым горел светильник, опустился на колени и потянул за собой Генриха. Сказал:
— Внимай, сын мой, всему сказанному и повторяй священную клятву нашего славного ордена николаитов, которую ты скоро примешь.
Хмельное сделало своё дело. Молодой маркграф счёл, что в сей миг он способен на всё. Он опустился рядом с Деди, сказал:
— Говори.
— Запоминай. Я, раб Божий Генрих Первый, маркграф Штаденский, клянусь хранить в тайне всё, что откроют мне святые братья ордена николаитов. Я клянусь закрепить свою клятву кровью, когда стану членом ордена николаитов. Аминь.
А на другой день, когда выветрилось хмельное, Генрих вспомнил полуночное посещение капеллы и всё, что в ней случилось. Вначале он подумал, что это дурной сон. Но вскоре понял, что это была явь. А через какой-то час об этом напомнил появившийся в его покоях маркграф Деди. Он, как всегда, был шумный, весёлый, напористый.
— Надеюсь, что тебе, ваша светлость, вольные девицы не снились.
— Я спал без сновидений, — сухо ответил Генрих.
— Это хорошо. Мы увидим их нынче наяву, — шутливо сказал Деди.
Генрих пребывал в дурном настроении и теперь озаботил себя одним: выяснить у маркграфа Деди, были ли они ночью в капелле, а если были, то зачем их туда занесло.
— Маркграф Саксонский, куда мы ходили, как покинули пирушку?
— Слово чести, маркграф Штаденский, ты захотел побывать в капелле, и мы зуда пошли, стояли перед Спасителем на коленях, и ты дал клятву посетить сегодня орден николаитов и всё, что увидишь и услышишь там, хранить в тайне, — ответил Деди.
Генриху стало не по себе. Почему он так легко поддался влиянию этого придворного пройдохи? Ведь он его почти ненавидел и считал способным на подлости, а тут оказался в его силке, словно глупый заяц.
— Никуда я сегодня не пойду, придворный Деди, — заявил Генрих.
Фаворит императора опустился в кресло и засмеялся.
— И я бы не пошёл. Да сам император нас приглашает. С тем я и пожаловал. Нынче у нас ночное бдение. Так ты отоспись, ваша светлость, а как зайдёт солнце, так я за тобой зайду, — сказал маркграф Деди с улыбкой, встал, откланялся и ушёл.
Император Генрих, пребывая в хорошем расположении духа, ждал своего любимого фаворита в спальне. Лишь только Деди появился, спросил:
— Ну как там наш журавлёнок?
— Он сердится за вчерашнее. Но я привезу его в «Орлиное гнездо».
— Это будет славно. И просвети его в пути, что представляет наш орден николаитов. Пусть не будет для него неожиданностей.
— Исполню, ваше величество.
— Вот и хорошо.
Деди был доволен. Он сумел угодить государю. Правда, про себя хитрец посмеивался. Секла николаитов никогда не была орденом. Это он, маркграф Деди, придумал ей возвеличение. Однако он знал, что своей древностью николаиты могли поспорить далее с орденом бенедиктинцев, основанным в VI веке. Впервые николаиты нарекли себя сектой в 426 году от Рождества Христова по имени иерусалимского дьякона Николая. Молва об этой секте среди христиан шла недобрая. Истинные христиане называли секту николаитов сатанинским сборищем. Шло это от домыслов, потому как многие годы никто не знал, чем занимаются сектанты. Да, ходили слухи, что дьякон Николай проповедовал общность жён и во время сборищ николаиты утешались этим. О других же занятиях николаитов никто ничего не знал, потому как они строго хранили тайны секты. Их устав был жесток, и нарушители его карались смертью. Клятву от новых членов николаиты принимали на крови. Каждый сектант знал, что убийству будут подвергнуты не только изменник, но гонения и смерть ждут и его близких.
В такую секту предстояло вступить молодому маркграфу Генриху Штаденскому. Но если бы он знал определённо, что ждёт его в секте, то взбунтовался бы, покинул Майнц и спрятался бы за крепостными стенами замка Штаден. Но нет, он шёл туда слепым, потому что Деди не просветил его. Прозрение придёт к нему слишком поздно, чтобы он мог защитить свою жизнь и жизнь близких ему людей. Вожди николаитов умели держать своих сопричастников в руках, и никому из них не удавалось избежать кары.
Ранним вечером маркграф Деди вновь появился в покоях Генриха. Он велел слуге одеть господина в торжественное платье, опоясать мечом, потребовал подать кубки с вином. Когда слуга принёс вино, Деди сам подал Генриху кубок и сказал:
— Выпьем за то, чтобы ты, ваша светлость, удачно прошёл посвящение в рыцари ордена николаитов.
Генрих взял кубок без особой охоты. Но ему? не хотелось ударить лицом в грязь, и он выпил вино лихо, с силой ударил кубком о стол.
— Я буду рыцарем и не посрамлю чести маркграфов Штаденских! — воскликнул он, и на его девичьем лице появилась лихая улыбка.
— Я верю, что всё будет так, как сказано тобой, — заметил Деди. — А теперь нам пора в путь.
Маркграфа Деди и Генриха у крыльца чёрного входа ждала крытая коляска, и поехали они куда-то за город замысловатой дорогой. Но Генрих не присматривался к ней. После выпитого вина ему стало весело, он жаждал познать что-то необычное, спешил вперёд с отвагой даже тогда, когда они спускались в какое-то подземелье под замок «Орлиное гнездо». Ему пришлось идти согнувшись вдвое. Наконец они вошли в большой колонный зал, освещённый факелами. В зале собралось уже человек тридцать. Всё это были молодые знатные вельможи. И кое-кого из северян Генрих знал. Лишь только маркграфы появились, к ним подошёл барон Ламберг.
— Ваша светлость, — обратился он к Деди, — идите к императору, он ждёт вас.
Деди и Генрих последовали за Ламбергом. Они вошли в неосвещённый коридор, поднялись по лестнице и вскоре оказались в небольшом покое, стены и потолок которого были обиты шёлковой голубой тканью. Император сидел у очага, где ярко пылал огонь. Деди, показавшись ему, тут же скрылся за дверью. Два Генриха остались одни.
— А, маркграф, тёзка, — приветствовал гостя император. Он встал, подошёл к столу, взял широкий кубок с вином и подал «тёзке». — Вот тебе чаша с духом Спасителя. Выпей, и мы совершим обряд посвящения тебя в члены ордена николаитов.
— Благодарю, государь, — ответил маркграф, отважно взял чашу и припал к ней, выпил одним духом.
А дальше всё, что он творил и что над ним вершили, проплывало перед ним, словно в тумане. Он смутно понял, что его куда-то повели и там было совсем земно, что его раздевали до пояса, и потом он увидел в свете факела нечто торчащее из стены, похожее на острие меча, и он грудью припадал к острию, из груди у него полилась кровь в приложенный к телу сосуд. Кто-то твердил ему слова клятвы, он повторял их. Но вот к его телу приложили какую-то приторно пахнущую тряпицу, уняли кровь — боль исчезла.
Маркграфу стало весело, он захохотал и потянулся к мечу, дабы ещё раз испытать боль. Но его удержали и одели. К нему подошли император и барон Ламберг, который держал образ святого Николая и на нём лежала бумага. Император обмакнул лебединое перо в том сосуде, в который слилась кровь маркграфа, и подал ему перо.
— Подпишись, утверждая клятву, — сказал император.
Маркграф взял перо и отважно, чётко написал на бумаге «Генрих Штаденский». На этом смутные видения Генриха оборвались. Он будто прыгнул в прорву тьмы и беспамятства.
В себя маркграф пришёл в своей постели. Горел светильник, окно было завешено, и Генрих не мог понять: ночь или день на дворе. Он чувствовал себя бодро, в ясной голове постепенно всё высветлилось из того, что с ним произошло в подземелье. Он подумал: «Как это забавно!» И позвал слугу, дабы одеться. Лишь только слуга одел его, Генриху тотчас потребовалось найти маркграфа Деди и поделиться с ним прекрасным состоянием духа. Он радовался даже тому, что испытывал боль от раны на груди. Ещё ему захотелось увидеть императрицу Берту и поцеловать ей руку. Откуда прихлынуло это желание, Генрих не знал, но оно уже не давало ему покоя. И он сказал слуге:
— Фриц, сбегай в императорские покои и узнай, могу ли я прийти к государыне на поклон.
Но Фриц остудил его пыл:
— Ваша светлость, на дворе ночь, все спят.
— Странно. Вот я уже выспался, а всё ещё ночь...
— Но вы проспали ровно сутки. Вы были слишком хмельны, когда вас принёс на руках граф Деди.
У Генриха никогда не было так прекрасно на душе, и он весело рассмеялся.
— Вот уж, право, не ожидал от себя такой прыти!
Так, весёлым времяпровождением и попойками началось служение Генриха в секте николаитов. Но, посещая раз в неделю подземелья старого замка, ему не удавалось побывать в некоторых залах самого замка. Да он и не стремился к этому, каждый вечер отдаваясь на волю маркграфа Деди. Генриху нравились замысловатые ритуалы николаитов и то, что хмельное, какое они там пили, не приносило головной боли, что его учили настоящим рыцарским делам. Он полюбил ристалища, кои иногда устраивались там, и с каждым разом прибавлял в искусстве владения мечом, щитом, копьём. Л вскоре Деди просветил его в том, что в ордене есть и другие увеселения, что в замке течёт совсем другая жизнь николаитов, нежели в подземельях.
И спустя месяц после вступления в орден он прикоснулся к той сверхтаинственной жизни николаитов. Вначале всё было как обычно. Но когда Генрих набрался хмельного и был весел, Деди повёл его тайными ходами в замок. Вскоре они поднялись на второй этаж, и Деди распахнул перед Генрихом дверь в небольшой покой, где их встретили две обнажённые девы, подпоясанные золотыми поясками. Красивые и стройные, они ласково улыбались. И Генрих ещё не пришёл в себя от удивления, как златокудрая девушка подошла к нему и принялась снимать с него одежду, нежно приговаривая: «Ах ты, славный ангелочек!» Генриху было весело, и он отважно позволил себя раздеть. Рядом с ним так же вольно другая девица раздевала маркграфа Деди. Девицы управились быстро и повели Генриха и Деди на просторное ложе. Златокудрая ласкалась к груди Генриха, и ему казалось, что это нежится на нём ласковая кошечка. Он поднял девицу на руки и опустил её на ложе, сам принялся ласкать её лицо, упругие груди, всё красивое тело.
Той порой Деди уже спрятал под собой свою нимфу, и они тешились тем, чем извечно тешатся в час вожделения любовники. Всё было по-другому на второй половине ложа. Ощущая огонь в груди, Генрих не почувствовал, чтобы сей огонь охватил всё его существо, и то, что должно было войти в лоно лежащей под ним девицы, оставалось куриным пупком, выступающим из густой опушки. Девицу сие не смутило. Она выскользнула из-под Генриха и, уложив его на спину, попыталась оживить то, чего ей так хотелось вкусить от «ангелочка». В Генрихе, как показалось ему, проснулся мужчина, он почувствовал, как «пупок» заострился, даже болью его обожгло. Что-то он делал с девицей и, по его мнению, исполнил свой долг. Он не утратил весёлости, смеялся, щекотал девицу, а она грустно улыбалась, и в душе у неё разлилась жалость к юному скопцу. С этой жалостью златокудрая одела Генриха и выпроводила из покоя. За дверью Генрих столкнулся с новыми посетителями — их было двое — и с беззаботным смехом посмотрел им вслед. В этот миг появился Деди и, обняв Генриха, повёл его в залу, где за столами веселилась большая компания. Выпив кубок вина, Генрих с гордостью сказал:
— Здорово же мы с тобой развлеклись, Деди.
Искушённый в познании женщин маркграф Саксонский лишь кивнул на этот возглас. Златокудрая шепнула ему, когда он уходил:
— Не приводи больше ко мне ангелочка. Ему ходить в евнухах.
И теперь, поглядывая на прекрасное лицо молодого маркграфа, Деди с горечью подумал: «Юный друг, носить тебе терновый венец, с ним и сойдёшь в могилу». Фаворит императора, он знал о его замыслах по поводу княжны Евпраксии и маркграфа Штаденского. И вытекало из этих замыслов то, что терновый венец Рыжебородый уже приготовил ему.
Через неделю на сборище николаитов всё поначалу шло заведённым порядком. Три десятка саксонцев во главе с Генрихом упивались, насыщались, пели песни, плясали — делали всё, что взбредёт в хмельную голову молодым, полным сил и страсти князьям, графам и баронам, многие из которых были отважными рыцарями. Маркграфы Генрих и Деди быстро нашли своё место среди беснующихся и потешались, дурачились вместе с ними.
Но вот император несколько раз хлопнул в ладони, наступила тишина, раздался призыв главы николаитов:
— Братья, за мной! Охота на лис начинается! — И Генрих IV направился в дальние покои замка.
В пути николаиты разбились на группы. И первая из них, числом девять, кою вёл император, с шумом и гамом ввалилась в просторный покой, похожий на спальню. В нём был стол, уставленный яствами и вином, за ним — пространство, а дальше виднелись ложа под бархатными покрывалами. Императора и его спутников встретили девять обнажённых девушек, припоясанных пурпурными поясами. Маркграф Штаденский забыл, что недавно уже видел подобных красавиц. Он удивился и весело рассмеялся. Этот смех был подхвачен, наступило бесшабашное веселье. Все скидывали одежды, подхватывали девушек и вместе с ними устроили дикую пляску. Лишь император и его черноволосая красавица удалились вглубь залы и занялись своим увеселением. Ещё маркграф Штаденский после короткого взрыва веселья вдруг остолбенел и взирал на окружающее дикими глазами. Он словно прозрел после безумия и уже готов был убежать из вертепа. Но к нему подбежал могучий Деди и принялся стаскивать с него одежду, приговаривая:
— Так нельзя, любезный, тут все равны. Тут нет места смущению и стыду: Ты об этом помни! — И он увлёк обнажённого Генриха в толпу беснующихся.
Его подхватила рыжеволосая пышногрудая Эльза. Позже Генрих узнает, что это была одна из воспитанниц Кведлинбурга. Они недолго увлекались пляской одни. В покой ещё прихлынуло несколько николаитов. Они не мешкая скинули одежды и включились в шабаш, к Генриху и Эльзе примкнул потный рыжеволосый барон Бернард, и Эльза потянула их к ложу. Прозрение Генриха уже погасло, он вновь развеселился, привлёк к себе Эльзу. Она охотно приникла к нему, потому как сто ангельское лицо покорило её с первого взгляда.
А дальше всё пошло по заведённому николаитами обряду. Первенство отдавалось старшему по сословию. И когда Бернард бесцеремонно повалил Генриха и Эльзу на ложе, он смутился, потому как не ощутил в себе жажды близости. Да, Эльза была привлекательна, к ней влекло, и, если бы это случилось наедине, он бы попробовал испытать себя. Но под взглядом похотливого барона, ждущего своей очереди, он почувствовал себя беспомощным, мужское начало не давало себя знать, как у Бернарда. Он же ловко распластал Эльзу и в мгновение ока уложил на неё Генриха, приговаривая:
— Давай, давай!
Эльза попыталась помочь Генриху, но напрасно. Его детородное начало оставалось холодным. И случилось постыдное: Генрих сполз с Эльзы и попытался убежать. Однако это ему не удалось. Барон Бернард схватил его и громко позвал приятеля:
— Хельмут!
Тот был рядом, подбежал. Это был здоровенный, заросший чёрной шерстью детина, спросил:
— Чем тебе помочь?
— Да вот, держу твоё любимое блюдо.
— Ого чертей, как давно я не пробовал этого блюда! — крикнул Хельмут. Да тут же стянул с ложа Эльзу, крикнув: — Не мешай! — И взялся за Генриха. — Ну-ка подставляй свою красавицу!
Генрих попытался вырваться, гневно закричал. Но он оказался словно в пустыне: его никто не слышал. Два барона легко распластали Генриха на животе, и здоровенный Хельмут придавил его своей тушей. На Генриха свалилось не только насилие, но и позор.
Император сидел на возвышении, на коленях у него покоилась черноокая Бетина. Они любовались шабашем николаитов. Увидели они и то, как Хельмут, а следом за ним ещё трое одержимых баронов насиловали маркграфа Штаденского, но император был милостив к насильникам и закрыл глаза на то, что они творили над племянником императрицы Берты. В тайниках души он даже радовался, что бароны надели на Штадена терновый венец. Знал император, что по законам чести подобный позор смывался лишь кровью.
Шабаш продолжался. Вскоре, однако, произошло замешательство. Николаиты вдруг увидели, что юный маркграф Штаденский потерял сознание. Сам император подошёл к нему, потрепал по безжизненной щеке.
— Не рыцарской он породы, не место ему среди нас, — сказал он и велел одеть маркграфа, увезти в императорский замок.
Генрих открыл глаза спустя десять часов. Он пришёл в себя от острой боли в животе. Казалось, что кто-то разрывал его внутри острыми когтями. Он вновь закрыл глаза и застонал. Над ним склонилась его добрая тётушка императрица Берта.
— Что с тобой, ангелочек, что? Кто терзал тебя? — спрашивала она со слезами на глазах.
Но племянник лишь корчился, извивался и стонал. Берта велела позвать лекаря, сама пыталась успокоить страдальца, вытирала пот на его лице и приговаривала:
— Потерпи, голубчик, потерпи! Мы прогоним кошмары и вылечим тебя. Столько ты страшного наговорил, что и мне жутко стало.
Генрих ещё страдал от рези в животе, но постепенно телесную боль сменила другая, ещё более острая — душевная боль. Он понял, что в бреду о чём-то проговорился. Но о чём? Это было так важно знать, что он даже привстал и посмотрел на императрицу умоляющим взглядом.
— Тётушка, о чём я говорил в беспамятстве? Умоляю, тётушка, вспомни, скажи! — просил он.
Императрица поняла, что напрасно обмолвилась о том, что открыл племянник в бреду, и попыталась исправить ошибку.
— Ах, Генрих, тебе явились кошмары из детства, когда ты ложился спать голодный и тебе снились волки.
— Да, да, так и было, я вспомнил, — согласился Генрих. — Я даже видел тех диких зверей, которые терзали меня.
Берте стало легче. Никак не должен он знать, считала она, о том, что он поведал в бреду. Теперь это её, и только её тайна, если николаиты не разнесут её по всей державе.
Спустя два дня маркграфа Генриха увезли в Штаден. Он был ещё слаб, как после долгой и тяжёлой болезни. Графиня Гедвига пришла в отчаяние, когда увидела, как слуги под руки вывели его из дорожной коляски. Лишь только Гедвига осталась с сыном наедине, она попыталась узнать, что с ним случилось.
— Уж не Рыжебородый ли тому виною? — спросила мать, как только сына уложили в постель.
— Нет, матушка, виною тому я сам, не удержался в седле и упал с лошади, что-то повредил внутри, — придумал Генрих самую расхожую ложь.
Он пришёл в себя через неделю домашнего покоя. Уже не проводил полные дни в постели, ходил по замку, заглядывал в конюшню, чтобы приласкать любимого коня Курта. Но Гедвига заметила, что с сыном всё-таки что-то происходит. Он перестал улыбаться, и на его лице появилось нечто страдальческое. Маска страдания не сошла с него даже тогда, когда на дворе замка нежданно-негаданно появился крестьянский возок и из него вышла княжна Евпраксия, сбежавшая из Кведлинбурга.
Глава двенадцатая ВЕНЧАНИЕ
Маркграф Генрих Штаденский расстался с юностью и переступил порог, за которым становятся мужчиной. На его лице прорезались суровые складки, поджались полные губы, в каштановых волосах блеснула ранняя серебряная нить. Но больше всего о переменах говорили глаза Генриха. Они потеряли тёплую голубизну, зрачки стали острыми и постоянно были в поисках добычи, как у рыси, которая вышла из логова на охоту за дичью. Он, потомок рода гордых графов Штаденских, которые шли прямой ветвью от Саксонского графского дома, давшего короля Генриха Птицелова, основателя династии, не мог простить обид и позора, нанесённых ему. Генрих Штаденский хорошо знал прошлое своих дедов и прадедов, гордился ими и до сих пор считал, что способен с честью носить имя Штаденов. Увы, он таки оступился, и теперь несмываемое пятно позора навсегда останется на нём, ежели он не смоет его кровью врага. И тем врагом был сам император Генрих IV, Рыжебородый Сатир, породивший неслыханное зло для всей Римско-Германской империи — орден николаитов с его сатанинским уставом. Обо всём этом Генрих Штаденский думал постоянно, и даже во сне к нему продолжали приходить кошмары из недавней яви.
Возвращение Евпраксии из монастыря не внесло в душевное состояние Генриха изменений. Он не почувствовал при виде невесты никакого всплеска радости, смотрел на неё печально и удивился лишь тому, как она повзрослела и похорошела. Ещё заметил, что и в её лице поубавилось весёлости. Спросил равнодушно:
— Ты почему так неожиданно приехала и что значит этот крестьянский возок?
Княжна тоже не ощутила радости при встрече с женихом. Она отвыкла от него, и он показался ей чужим. А страдание на его лице и настороженность во взгляде подсказали ей, что и она для него стала чужой. Совсем не так они встречались, когда Евпраксия приезжала из Кведлинбурга на побывку.
Появившаяся на дворе графиня Гедвига тоже удивила княжну. Вид у неё был горестный, словно после недавних похорон кого-то из дорогих и близких ей людей.
— Здравствуй, матушка. Какое несчастье вас постигло? — спросила Евпраксия и поклонилась Гедвиге.
— Я вижу, что и тебя не миновала беда. Ты ведь сбежала из обители. Этот бедный возок и твой вид — всё говорит, что ты уходила тайком из Кведлинбурга.
— Всё так и было, матушка. Но об этом потом. Нам бы умыться с дороги и поесть. Мы голодны.
— Да, я сейчас распоряжусь, — сказала Гедвига и повела всех в замок.
Несколько дней Евпраксия и Генрих встречались лишь за полуденной и вечерней трапезой. Они спрашивали о здоровье друг друга, о каких-либо мелочах быта и о том, чем занимались. Генриху оказалось интересным узнать, как Евпраксия справилась с изучением латыни. И читает ли она немецкие книги. Княжна отвечала, что то и другое у неё занимает много времени, а чтение латинских и немецких хроник приносит ей удовольствие.
Наступила третья зима, как Евпраксия покинула родной Киев. И она сочла, что пора напомнить Генриху о том, зачем он привёз её в Германию. Сам он, как показалось Евпраксии, вовсе забыл о своём желании и долге перед нею. Однажды она сидела у камина в покое, который называли библиотекой, и читала поэму Вергилия «Энеида». И когда вошёл в залу Генрих и остановился неподалёку у окна, Евпраксия спросила без обиняков:
— Дорогой жених, ты не забыл, с какой целью я провела два с половиной года в монастыре и какой долг ты должен исполнить?
Маркграф смутился. Он понимал, что Евпраксия права. Но и он не забыл своего долга. Больше того, не проходило дня и ночи, чтобы он не помнил о нём. Но что он мог поделать с собой, ежели над его существом довлел страх перед супружеством, порождённый минувшими испытаниями. Генрих отчётливо понимал, что, возложив на себя супружеский долг, он не сможет его выполнить. Сознание того убивало в нём всякие побуждения сказать невесте о том, что да, им пора идти под венец. Оставив без ответа вопрос Евпраксии, Генрих покинул библиотеку.
И неизвестно, сколько бы времени продолжалась эта неопределённость, если бы не приезд в Штаден княгини Оды. Увидев царящую в замке мёртвую зыбь, она всколыхнула её так, что жизнь в замке оживилась, а там и забурлила. Первой проснулась от спячки Гедвига, потому как Ода довела её до кипения своими горячими нападками.
— Ты, сестрица, помни, что держишь в руках счастье своего сына. И давай-ка вдохнём в него жажду жизни. Ты видишь, что Евпраксия теперь словно истинная немка. Она готова под венец, как, думаю, готов и мой племянник.
Вечером того же дня, за трапезой княгиня Ода заявила:
— Послезавтра я увожу вас всех в Гамбург, и там мы обвенчаем молодых. О, как я буду плясать на твоей свадьбе! — обнимая Генриха, сказала Ода. — У меня есть великолепные музыканты. И поверьте мне, что от их музыки даже столетние старцы запляшут! — Как показалось Оде, ей удалось убедить Генриха, что впереди всё будет у него хорошо. Надо только помнить об этом.
Вновь обрела свою весёлость и княжна. Тётушка убедила её, что всякие невзгоды в жизни можно преодолеть.
— Я верю, что ты, моя славная, вдохнёшь в своего семеюшку жажду быть хорошим мужем. Ведь он всегда был нежным и ласковым.
Графиня согласилась с княгиней Одой совершить венчание и свадьбу в Гамбурге.
— Только дай мне слово, любезная, что не будешь устраивать пышного торжества. Хочу, чтобы всё было скромно, по-семейному, — попросила Гедвига, сама посмотрела на сына, пытаясь понять, как он воспринял совет Оды и её согласие.
Генрих, казалось, был безучастен к разговору. Он даже не отозвался на бурное заявление княгини Оды.
— Ох, голубушка, - воскликнула Ода, — да я бы на всю Германию закатила пир, будь на то моя воля. Я бы и киян позвала. А они-то уж умеют пировать. Но если ты просишь, то всё будет скромно и достойно.
Однако на другой день за утренней трапезой, когда княгиня Ода сказала, что пора собираться в дорогу, Генрих наотрез отказался ехать в Гамбург. Ночью он вновь пережил всё, что случилось в Майнце. И опасался, что в Гамбурге может встретить кого-либо из николаитов. Его пугало одно: скандал, который он учинит при встрече с извращенцами. В любом случае он выхватит меч и ринется защищать свою честь.
— Ты уж прости меня, тётушка, но я не вижу нужды венчаться в Гамбурге. Тем более поняв желание матушки. В Штадене и храм хорош, и патеры достойные.
Княгиня Ода была огорчена, но не настолько, чтобы долго расстраиваться. А оставшись наедине с маркграфом после трапезы, она попыталась вызвать его на откровенный разговор, узнать, что угнетает его дух. Но все её попытки разбились, как о каменную стену.
— Тётушка, не пытай меня. Я мучаюсь головной болью, — слукавил Генрих и попытался покинуть трапезную.
Однако Ода удержала его. Она умела быть по-мужски откровенной и дерзкой. Сказала:
— От этой головной боли тебя избавит только супружеское ложе. Пора стать мужчиной.
Если бы только знала княгиня, какое больное место затронула она в душе Генриха, то прикусила бы язык. Он же лишь одарил Оду печальным взглядом и ушёл, оставив её в полном недоумении.
Так или иначе, но день венчания был намечен на воскресенье, за неделю до Рождества Христова. Все хлопоты взяла на себя княгиня Ода. В воскресенье из замка выехали две колесницы, запряжённые шестёрками лошадей. До церкви езды было не более пяти минут. Рядом с Генрихом сидела Ода, его посаженная мазь. Евпраксию сопровождал боярин Родион. На удивление всем горожанам Штадена, эта пара россов была величественна и многим показалось, что именно они созданы друг для друга. Ан нет, к алтарю княжна Евпраксия шла рядом с маркграфом Генрихом. Он был по-прежнему красив лицом, но оно казалось безжизненным и напоминало маску. Даже голубые глаза словно бы застекленели. Глянув на него, люди спешили отвести взор.
В храме играла музыка, которую исполняли музыканты, вызванные Одой из Гамбурга. Хор пел величальную. Но ничто не вносило в обряд венчания оживления. Оно лишь мелькнуло, как отражённый летящим зеркальцем солнечный луч, когда патер спрашивал невесту:
— Готова ли ты, дочь моя, стать супругою маркграфа Генриха Штаденского?
Она отвечала с улыбкой, заставившей улыбнуться многих.
— Да, святой патер, готова и буду верной ему семеюшкой.
Генрих ответил на слова патера тусклым голосом и так тихо, что священнослужитель не расслышал.
— Повтори, сын мой, готов ли ты взять в жёны крещёную княжну россов.
— Да, отец патер, — ответил Генрих и спросил недовольно: — Что ещё?
— Спасибо, сын мой, — торопливо произнёс патер. — Я благословляю ваш союз, с тем и вознесу на ваши головы короны. Аминь.
Всё-таки маркграфа Генриха чтили в Штадене как короля и потому с терпением отнеслись к его капризам. Было совершено миропомазание, головы супругов украсили короны, и под звуки величального гимна обряд завершился.
А после венчания княгиня Ода с согласия Гедвиги и Генриха пригласила всех горожан, кои были в храме, в замок на свадебный обед. Сделала она это по обычаю, заведённому на Руси. И горожане были ей благодарны. Да прихватили с собой сыновей, дочерей. И все вволю повеселились на графском дворе, выпили не одну бочку вина. На дворе горели костры, играли музыканты, горожане пели и плясали, возносили здравицы «Долгие лета» молодожёнам.
Взбодрил себя вином и Генрих. Это случилось в тот час, когда Евпраксия увлекла его из-за стола в трапезной на двор замка и они оказались в водовороте веселья простых горожан.
Близко к полуночи волею княгини Оды новобрачных повели в спальню. По пути Ода прижала к себе Евпраксию и принялась нашёптывать:
— Славная, ты должна сотворить чудо. Только ты откроешь в этом юноше мужчину. Только ты! Спаси его, спаси!
Княжна ничего не ответила. Она с горечью подумала, что не испытывает в груди никакого влечения к супругу, что её сердце рвётся к милому Родиону. Те дни, когда они бежали из Кведлинбурга, открыли Евпраксии истинный и прекрасный нрав россиянина. С таким она готова была идти на любые муки и страдания. И всё равно обрела бы радость жизни. Увы, их судьбам не дано было сойтись. И княжна наконец собралась с духом, сказала Оде:
— Я постараюсь, тётушка.
С этими скупыми словами, прижавшись на миг к груди княгини Оды, коя многие годы была достойной супругой её родного дяди, Евпраксия перешагнула порог опочивальни.
Когда молодожёны остались одни, Евпраксия вспомнила наказ любимой матушки. Своей житейской мудростью она была богата и не скупилась делиться с дочерью. Провожая в чужую державу, Анна сказала Евпраксии:
— Судьбой назначено тебе служить избравшему тебя. Служи, доченька, не посрамив имени своего.
Тут не было сказано ни о любви, ни о иных чувствах. И смысл жизни сводился всемогущей судьбой к одному: к служению. Не обойдёшь, не объедешь.
С этого полуночного часа и до рассвета княжна назовёт своё поведение чародейством, и всё опять-таки благодаря матушке И если бы Генриху суждено было прожить долгие годы, он и на склоне лет благодарил бы судьбу за первую брачную ночь. Не всё легко пришло к Евпраксии в первые мгновения. Но, мужеством одарённая, княжна собралась, вспомнила уроки иранской магии для брачной ночи, избавилась от смущения. И всего-то надо было закрыть глаза. Привстав на цыпочки, она обняла Генриха и поцеловала. Сделала это мягко, касаясь его губ не только губами, но и языком. И делала это до той поры, пока Генрих не ответил ей. Тут она проникла рукой под его камзол и провела ладонью по позвоночнику, нашла нужную ей точку, и её нежные пальцы затеяли танец, не прошло и нескольких мгновений, как от этой точки по всему телу Генриха полетели горячие токи и оно стало наполняться неведомой ранее силой. Он взял лицо Евпраксии в ладони и посмотрел на него: её глаза были закрыты, а губы раскрылись в улыбке, на щеках заиграли ямочки, и ему захотелось прикоснуться к ним губами. А силы в нём всё прибывали, появилась жажда что-то делать. И Евпраксия помогла ему.
— Сними с меня лишнее, — прошептала она.
Боясь сделать неловкое движение, он снял с неё византийский долматик, но прочее снять остановила робость. Она же, скинув с него камзол, вновь побудила раздевать её. Наконец-то они освободились от одежды и почувствовали себя свободно. Евпраксия повисла у него на шее и тихо молвила:
— Ты послан мне Всевышним. Я отдаюсь тебе, восхваляя его милость.
И она увлекла Генриха на ложе, вновь погуляла чуткими руками по тем местам, кои пробуждали мужское начало. И чудо свершилось. У Генриха уже не было ни робости, ни смущения, он поверил, что любовь, какую пробудила в нём Евпраксия, вдохнула в него силы, которые не иссякнут никогда. Евпраксия приняла Генриха. И всё было как должно: вспыхнула боль от потери девственности, пролилась руда на белую простынь. Это рассмешило княжну. А дальше всё текло как в волшебном сне.
Евпраксия сделала Генриха в эту ночь ненасытным. Но, принимая супруга, каждый раз, когда наступала минута торжества плоти, она закрывала глаза. И была благодарна Генриху за то, что он пи разу не попросил смотреть на него в эти минуты. А если бы это он сделал, то всё могло бы обернуться бедой, считала Евпраксия. Потому как с первой близости и до последней Евпраксия видела перед собой только желанный лик Родиона. Потом, когда усталый Генрих уснул, она молила Всевышнего о милости и прощении за сие прегрешение, за измену законному супругу понимая, что по-иному её грех был бы несмываем. И не будь этой торжественной для Генриха ночи, он бы возненавидел свою супругу, потому как потерпевшим позор от бессилия остаётся лишь удел ненавистника женщин.
Евпраксия никогда не поделится с кем-либо своей тайной. И пользоваться силой иранской магии будет нечасто. Да и нужды в том не окажется. Первая брачная ночь преобразила Генриха. Проснувшись уже где-то около полудня, он встал перед Евпраксией на колени и принялся покрывать её тело поцелуями. Он метался от лица к ногам, целовал лоно, живот, упругие груди, кончики волшебных пальцев на руках. А под конец набрался смелости и сказал:
— Моя любовь, посмотри на своего рыцаря.
Евпраксия по-прежнему лежала с закрытыми глазами.
Она не стеснялась своей наготы, но не могла, не имела права посмотреть на обнажённого супруга. Сказала:
— Я готова принять тебя, а большего не проси. Мне так приятнее.
Генрих и не настаивал. Как будто понимал, что так надо. Он вновь окунулся в страсть, словно и не было долгой ночной пляски.
Пополудни, когда молодожёны вошли в трапезную, Гедвига и Ода не узнали Генриха: перед ними стоял счастливый молодой мужчина. Ода было поспешила подойти к Евпраксии, но Гедвига удержала её и сама подошла к невестке, поцеловала её.
— Я счастлива, я люблю тебя, доченька.
Медовый месяц молодожёны провели в Штадене. Они много ездили по зимним рощам, осматривали свои огромные владения, выезжали на охоту на зайцев и вепря, проводили княгиню Оду в Гамбург, там погостили. Встретившись с Вартеславом, Евпраксия вдоволь наговорилась по родному.
— Боже мой, — не раз восклицала Евпраксия, — какая же она мягкая и певучая, наша речь!
...Наступило лето 1087 года. На просторах великой Римско-Германской империи царили мир и покой. За многие годы царствования Генриха IV народы державы спокойно трудились на полях, строили города, храмы, мельницы на реках, женщины рожали детей, потому как мужья были дома, а не на войне. Лишь у маркграфа Штаденского пока не появился наследник. Генрих часто и многозначительно поглядывал на живот Евпраксии, и она понимала его взгляд, ласково говорила:
— Ты потерпи немного. Я ещё молоденькая и не созрела. Л придёт время, и мы с тобой кучей голубоглазых окружим себя. — Улыбаясь, Евпраксия зажимала в груди жалость. Она-то созрела для материнства, а вот Генриху не дано быть отцом. Они познавали радость близости лишь потому, что над маркграфом властвовали силы древней иранской магии. Но об этом Евпраксия не могла признаться даже под страхом смерти. Смирившись с обречённостью Генриха в одном, Евпраксия ещё в большей мере переживала за него в другом. Однажды она увидела его в саду, сидящим на скамье и расслабленным, забывшим окружающий мир. И было в его облике столько обречённости, что Евпраксия содрогнулась. Она давно догадывалась, что Генриха нечто угнетало, и пыталась узнать, спрашивала его. Он же ссылался на головные боли и не открывал других причин угнетённого состояния.
Пришла осень. Дожди заливали землю. В эти пасмурные, холодные дни в Штаден долетела весть о том, что император покинул Майнц и перебирается со двором в другую резиденцию. А через неделю, как раз накануне празднования дня святого Бенедикта, покровителя Германии, в Штаден примчал гонец. Он загнал коня, и тот перед подъёмным мостом упал и сдох. Сам гонец едва дополз до ворот. Стражи увидели его, помогли добраться под арку башни. Он крикнул:
— Графа Генриха зовите! — и упал в изнеможении.
Один из воинов побежал в замок и вскоре вернулся с маркграфом.
— Ну что туг? — спросил Генрих.
Стражи хлопотали возле гонца. Кто-то лил на лицо холодную воду, но вымокший до нитки гонец не приходил в чувство. Вскоре же прибежала Евпраксия. Увидев, что собравшиеся суетятся близ сомлевшего человека, она подошла к нему, опустилась на колени и прикоснулась рукой к его шее. Она словно бы гладила её, сама нашла нужную точку, и её нежные пальцы крепко надавили на шею. Гонец открыл глаза.
— Где граф? — спросил он.
— Говори, что случилось? — склонившись к гонцу, спросил Генрих.
— Ваша светлость, тебя призывает императрица Берта. Она умирает.
— Но где, в Майнце?
— Нет, в Кёльне, — ответил гонец и вновь сник.
Генрих и Евпраксия посмотрели друг на друга.
— Тебе надо ехать немедленно. Но и я поеду с тобой, — сказала Евпраксия. — Одному тебе нельзя.
Лицо Генриха изменялось на глазах: оно становилось скорбным и суровым. Он вспомнил в сей миг не тётушку Берту, а императора. Объяснения тому он не нашёл, но Евпраксии сказал твёрдо:
— Ты останешься в замке. Мы едем с матушкой.
Сборы в дальний путь были недолгими. Вскоре дорожный дормез уже стоял у крыльца, слуги уложили в него всё нужное. Евпраксия велела сложить в колесницу бобровую и соболью шубы, благословила Генриха и его мать, осталась в замке за хозяйку. Она не знала, что провожала супруга в последний путь, что через какой-то месяц овдовеет. Это пока оставалось под покровом судьбы.
Глава тринадцатая ДВЕ УТРАТЫ
Ещё летом у императрицы Берты не было никаких признаков заболевания. Она даже ни разу не обращалась к своему лейб-медику маркизу Вальрааму. Правда, год назад она чуть было не слегла в постель от потрясения, кое испытала, выслушав всё, что в бреду выкрикивал её племянник Генрих Штаденский. Она и раньше подозревала, что орден николаитов никакое не богоугодное содружество, а сборище развратников. Но она и представить себе не могла, чтобы многие молодые именитые вельможи так низко пали в извращениях, что превратились в сатанинское стадо. Как она страдала за опозоренного племянника! Как она переживала за своих сыновей Конрада и Генриха-младшего, чтобы, не приведи господь, и они угодили в сатанинские руки николаитов. Она боготворила своих сыновей, особенно старшего, Конрада, свободного духом, сердечного и мягкого юношу. Однако императрице не следовало так волноваться за судьбы своих сыновей. К тому времени они лучше её знали истинный нрав своего отца и всё то, чем занимались николаиты. Знали братья и то, что он никогда не любил их и даже не общался с ними. Едва повзрослев, Конрад и Генрих сами стали избегать отца и годами жили у тётушек и дядюшек по материнской линии. И беспокойство матери улетучивалось, зная, что её сыновья под надёжной защитой благочестивых родственников. А вот судьба племянника беспокоила её с того самого дня, когда император призвал его к себе на службу. И потрясение, какое она испытала, выслушав беспамятную исповедь «ангелочка», вошло в сердце Берты незаживающей раной.
Она дала себе слово добиться того, чтобы Генрих Штаденский никогда больше не переступал сатанинской секты. А для этого ей нужно было встретиться с императором, который давно её избегал.
Наконец-то по воле случая Берте представилась возможность поговорить с супругом. Вскоре после переезда в Кёльн во дворце появился давний друг императора антипапа Климент III. Он пока властвовал на престоле римской церкви. В Кёльн он приехал для встречи с епископами Северной Германии. А так как было заведено, что император должен встречать папу вместе с императрицей, то в день появления Климента в Кёльне во дворец была приглашена Берта. Она не заставила себя ждать и приехала из замка Генриха Птицелова в кёльнский дворец.
Появившись в Розовой зале для гостей, Берта увидела императора, который пока один ждал приезда Климента. Он стоял у окна и смотрел на дорогу, ведущую к дворцу. Берта встала рядом с ним, спросила:
— Как твоё здоровье, ваше величество?
— Ты же знаешь, что я болею с того дня, как по твоей воле меня покинули сыновья.
— Да, государь, я это знаю и потому прошу проявить милость к племяннику Генриху Штаденскому, освободить его от службы, дабы и он не покинул нас.
— Но ему при мне хорошо. Он в моей милости.
— Нет, государь, вы жестоки к славному сыну Саксонского дома.
Император посмотрел на супругу с открытой ненавистью. Он разлюбил её давно, с той поры, как у него возникла распря с сыновьями. Последние два года он искал повод, чтобы расторгнуть супружеские узы. Но Берта не давала Генриху повода затеять развод. Однако, зная супруга, она постоянно ждала его коварных выпадов. И такое случилось. Год назад среди её придворных появился граф Вильгельм Баденский, красавец, умный, сладкоречивый. И Берта поняла, что его подослал император, дабы опорочить её честь. Однако соблазнитель был посрамлён и изгнан из окружения императрицы. Тогда Генрих поклялся в том, что найдёт верный путь совращения своей супруги. И теперь, как ему показалось, он стоял на пороге этого пути. Спросил супругу невинным голосом:
— Ваше величество, а в чём проявилась моя жестокость к твоему племяннику?
— Ты это знаешь лучше меня. Вспомни ту ночь в Майнце, когда его полумёртвым принесли во дворец с вашего сборища в «Орлином гнезде». Ты ведь не признаешься, что там произошло, а мне всё ведомо.
Генрих зло подумал: «Этот ублюдок преступил клятву. Его убить должно!» Берте же ответил ласково:
— Полно, любезная, ему стало плохо оттого, что выпил лишний кубок вина. Это недостойно мужчины. И если помнить, что я не только веселюсь, но и воюю с врагами державы, то мне нужны рыцари, а не девицы. Твой племянник не рыцарь. И если его кто-то обидел, оскорбил, в чём я сомневаюсь, то он должен был защитить свою честь.
Берта знала, что Генриха невозможно уличить в безнравственности. Даже тогда, когда его схватишь за руку, оп сумеет найти оправдание. И она сочла нужным согласиться с последним доводом императора.
— Да, ты прав, любезный. Возраст моего племянника таков, что ему должно защищать свою честь перед кем угодно. — И уколола супруга: — Даже перед императором.
Но укол не достиг цели. Генрих с усмешкой ответил:
— Я с удовольствием приму вызов, ежели он осмелится бросить перчатку. Однако он слабоват духом, как и все ваши саксонцы.
Берта поняла бесполезность словесного поединка: тут Генрих непробиваем. И, увидев, что у парадного подъезда остановилась карета Климента, направилась ему навстречу; хотя этот проныра, как она его величала, нисколько её не интересовал. Берту охватил дух борьбы. Она отважилась поймать супруга за руку на месте преступления и дала себе слово проникнуть тайно на сборище николаитов. И теперь она была озабочена одним: узнать, когда состоится их вакханалия. Встретив Климента, приняв его благословение и выслушав для учтивости его жалобу на дорожные мытарства, Берта подождала императора и покинула дворец.
Вернувшись в свой замок, Берта позвала камергера графа Любера и поручила ему узнать всё, что касалось ордена николаитов.
— Скажу, для чего мне это нужно. Я хочу тайно побывать на их ассамблее. Потому запомни, граф: никто, кроме нас с тобой, не должен знать о моей затее.
Благородного вида голубоглазый блондин, граф Любер, боготворил императрицу за её душевность, доброту и миротворие, заверил:
— Жизни не пожалею, но исполню так, как повелеваете, государыня.
Дня через три он доложил Берте:
— Ваше величество, я всё выведал и знаю, как проникнуть на ассамблею николаитов. Но наберитесь терпения. Они облюбовали замок графа Манфреда, и там идёт ремонт. Соберутся николаиты только через две недели.
— Спасибо, граф. Нашего терпения не занимать, — ответила Берта. — Надеюсь, ты отведёшь меня туда.
Граф Любер был озадачен: одно дело отдать свою жизнь за государыню, которую любил и которой был предан, и совсем другое дело отвести её на шабаш николаитов, размышлял он. Ведь если её там узнают, чем обернётся её появление, даже Всевышнему неведомо.
— Государыня, повелите меня казнить, но я не поведу вас к николаитам. Это грозит опасностью.
— Ну полно, Любер! Я же императрица. Разве у кого поднимется рука на свою государыню?
— Поднимется, матушка, поднимется. У них нет ничего святого. И поверьте мне: я узнаю всё, что вас интересует. Я всё узнаю, — убеждал Берту граф Любер. И как ликовала его душа, когда он любовался её нежным, белым лицом северянки, когда ловил на себе взгляд её голубых глаз. И вот она собирается в логово сатанитов, а он не может её остановить. Он же знал, что всех, кто проникал к ним, они предавали смерти. Так было и сто, и двести лет назад, так повелось со времён иерусалимского дьякона Николая, основавшего сатанинскую секту. Но все попытки графа остановить императрицу оказались тщетными.
— Я дорожу твоей самоотверженностью, граф. Ты доказал это не один раз. Но не настаивай, не отговаривай. Я пойду в логово, ибо ж ты не увидишь там того, что должно увидеть мне.
И граф Любер смирился. Ему оставалось тешить себя надеждами на то, что императрицу не посмеют подвергнуть позору, как это сделал император с сестрой. Две недели для графа пролетели так же быстро, как пролегает короткий декабрьский день. Императрице они показались за вечность. В минувшие дни она много думала. Иной раз в ней пробуждалась дерзкая решимость: встать во главе легиона воинов северян, ворваться на сборище николаитов, всех арестовать и судить принародно. Она бы так и поступила, если бы получила благословение папы римского. Ан нет, знала она, что антипапа Климент III подобного благословения не даст. Секта николаитов была под его крылом и опекой. Он знал о её существовании давно, знал, чем николаиты занимаются, но не предавал гласности их поведение, считая, что императору — Божьему помазаннику — такие вольности простительны. И потому императрица отказалась от мысли даже посоветоваться о николаитах с Климентом.
Поздним пасмурным вечером Берта и Любер, закутавшись в чёрные плащи и спрятав лица под капюшонами, покинули замок Птицелова. Однако уходили они не одни: тайно их сопровождал человек, тенью скользящий следом. Они вышли из города, миновали разрушенные римские казармы и подошли к замку графа Манфреда. Ворота в крепостной стене замка ещё не были восстановлены, и путники без помех прошли на двор замка. Таясь за кустарниками, они пересекли двор, обошли замок и по короткой лестнице спустились в подвал. Граф взял Берту за руку и в полной темени повёл её по коридору.
Тем временем человек, который шёл следом за ними, скрылся за парадной дверью замка. В зале его ждал граф Манфред и, выслушав пришедшего, поспешил во внутренние покои замка. И когда граф Любер ввёл императрицу в большое помещение и почти миновал его, перед ними распахнулись двери и с факелами в руках, с обнажёнными мечами в помещение вбежали три воина. Граф Любер не дрогнул. Он выхватил свой меч и прикрыл спиною императрицу.
— Стойте! не подходить! Я зарублю каждого, кто приблизится!
— Мы знаем, ты отважен! — послышалось в ответ.
И воины напали на графа. Он защищался умело и даже потеснил воинов и успел крикнуть:
— Государыня, уходите!
Большего он сделать для неё не успел. Вбежал четвёртый воин — это был граф Манфред — и длинным выпадом пронзил Любера в левый бок.
Императрица вскрикнула от ужаса, охватившего её, но что-то обрушилось ей на голову, и она упала, потеряв сознание. Могучий граф Манфред склонился к ней, поднял на плечо и скрылся в подземном коридоре. Другие воины взяли графа Любера за ноги и за руки и понесли тем путём, каким граф проник в замок.
Императрица Берта пришла в себя после случившегося на седьмой день. Открыв глаза, она долго блуждала ими по стенам покоя, по потолку, пытаясь понять, почему она не в своей опочивальне. В покое никого не было. Она подумала, что надо бы кого-то позвать, но побуждение погасло, потому как она попыталась понять, что с нею произошло. Но и это ей не удалось. Она вспомнила лишь нечто очень далёкое — роды первенца сына, которого не сумели сберечь. Берта не помнила даже того, что она императрица. Так она и лежала беспомощная, пока не распахнулись двери и в покой не вошла пожилая женщина. Это была её придворная дама, баронесса Элизабет, которую Берта не узнала.
Однако Элизабет, увидев, что императрица смотрит на неё, запричитала, засуетилась.
— Матушка государыня, наконец-то вы ожили. Мы уже потеряли всякие надежды, а какие страсти пережили...
— Кто ты? Как тебя звать? — спросила Берта.
— Господи, да я же Элизабет, я кастелянша.
Императрица смотрела на неё пустыми и чужими глазами. Баронесса испугалась. Она выбежала из покоя и вскоре вернулась с лейб-медиком маркизом Вальраамом. Берта и его не узнала.
— Кто вы? — спросила она.
Лейб-медик понял, что с императрицей произошло непоправимое несчастье — потеря памяти. Он знал, что нет никаких лекарств, которые помогли бы вернуть ей память. Только время, только заботливый уход и долгие беседы о прожитом могли восстановить минувшее, вспомнить имена тех, кто окружал её, вспомнить среду обитания.
К вечеру вместе с маркизом Вальраамом в спальню пришёл архиепископ Гартвиг, один из самых преданных священнослужителей Саксонского графского дома. Но Берта и его не узнала. Гартвиг сказал лейб-медику:
— Надо немедленно послать гонцов к родным и близким. Надо уведомить её сыновей.
— Да, да, — согласился маркиз, — но как это сделать? Уж лучше вы, преподобный, распорядитесь.
Гартвиг сумел послать гонцов во многие земли Германии. Но не всем удалось миновать императорских воинов, которые по его повелению были расставлены на дорогах из Кёльна. Потому не удалось уведомить о болезни матери и её сыновей, которые пребывали в Тоскане. Император не желал видеть в Кёльне никого из родни супруги. Он не скрывал равнодушия к несчастью, постигшему императрицу. С его лёгкой руки в кругах придворных гуляла ложь о том, что якобы государыня пыталась уединиться в старом замке с графом Любером и там прелюбодейничать. Но слуги императора выследили любовников и в честном поединке убили графа. Сама Берта рехнулась от этого умом, но жалости не вызывает. Такую ложь и такое мнение о богобоязненной и целомудренной императрице могли принять только сторонники Генриха ГУ, только члены секты николаитов, но никак не христолюбивые католики из окружения Берты. Оскорблённый за императрицу маркграф Майер Бранденбургский поднялся на амвон в Кёльнском соборе и призывал на голову императора гнев Божий. Он пообещал поднять северные города на восстание и закрыл ворота королевского замка Генриха Птицелова, приказал никого не впускать в замок из свиты императора. Противостояние Генриха и его супруги Берты стало явным.
Между тем её здоровье с каждым днём заметно ухудшалось. Не проходило и дня, чтобы она не теряла сознания. Но иногда у неё наступали проблески памяти. В один из таких проблесков она ясно вспомнила всё связанное с племянником маркграфом Генрихом. И по её воле в Штаден был отправлен второй гонец. Она ждала сыновей и племянника с нетерпением, часто спрашивала о них, словно уже предчувствовала свою близкую кончину.
Прошло несколько дней, когда наконец в замке Генриха Птицелова появилась дорожная колесница. В ней примчали маркграф Штаденский и его мать. Генриха и Гедвигу ждали и сразу же повели к императрице. Она спала, но с их появлением проснулась, и взгляд её был осмысленным. Гедвига поспешила к ложу, упала на колени и со слезами на глазах приникла к руке Берты.
— Матушка сердечная, что с тобой? Кто погубил твоё здоровье? — запричитала графиня.
Берта ответила просто и твёрдо:
— Не печалься обо мне, сестрица. Всевышний призывает меня в Свои чертоги. — И всё-таки она прослезилась. — Жалею об одном: сыновей родимых не увижу, не прощусь.
Женщины плакали, лаская друг друга. А потом Берта попросила Гедвигу оставить её наедине с Генрихом. Графиня ушла. Генрих подошёл к ложу и, увидев лицо императрицы, теряющее блики жизни, тоже прослезился и опустился на колени.
— Дорогая тётушка, я слушаю тебя, — сказал он.
Слабым движением руки она погладила Генриха по лицу и заговорила:
— Мои сыновья далеко и, очевидно, не застанут меня в живых. Потому только тебе я могу завещать мою последнюю волю, — Берта устала от длинной фразы и замолчала. Она даже закрыла глаза, и ни одна жилка на её белом лице не показывала того, что в ней бьётся жизнь.
Генрих взял её восковую руку и погладил. Берта открыла глаза.
— Прости, я готова сказать последнее. Чудовище, которого я считала супругом, совершил надо мной мерзкое надругательство. Я хотела проникнуть в замок Манфреда и уличить императора в его преступлениях. Но в подвале замка, куда мы пришли с графом Любером, на нас напали воины императора и граф Манфред убил графа Любера. Меня, бездыханную, он взял на плечо и притащил к Генриху. Там напоили меня каким-то снадобьем, и, когда я пришла в разум, венценосный с сатанинским смехом повелел своим баронам-псарям взять меня на потеху. Их было пятеро... — Берта вновь замолчала.
Генриху показалось, что она уже никогда не заговорит. Однако, отдохнув, она открыла глаза и сказала последнее:
— Моя воля в том, чтобы ты и мои сыновья наказали злодея императора. Только он виновен в том, что сошла с ума принцесса Адельгейда, что опозорен ты, что я уже не поднимусь с этого ложа. Перед лицом Господа Бога заклинаю вас исполнить мою волю. — И Берта вновь закрыла глаза.
Генрих ждал долго, когда императрица вновь придёт в себя, выразит ещё какое-нибудь своё повеление. Но нег, он этого не дождался. Прошло достаточно много времени, когда Генрих понял, что Берта вновь впала в беспамятство. Он вышел из спальни и сказал матери и Вальрааму:
— Зайдите к матушке. Она плоха. — Увидев слугу, он попросил: — Любезный, отведи меня в покой, где можно отдохнуть.
Оказавшись в просторной комнате, он увидел кровать, поспешил к ней и упал на неё, замер. Он повторял сказанное императрицей, словно клятву. А затвердив всё, принялся перебирать всякие способы наказания императора. Но, сморённый усталостью, дальней и трудной дорогой, всем пережитым, он уснул. Его никто не потревожил до утра, и он проспал около пятнадцати часов. Проснувшись, он пролежал в постели недолго. Пришло простое и доступное решение исполнить волю поруганной императрицы. Он счёл, что одолеет Рыжебородого его же оружием — коварством и лестью. Он будет коварен и льстив до нанесения последнего удара. Каким будет этот удар, маркграф ещё не знал, но верил, что найдёт, как это делать, нанесёт его и уничтожит злодея.
Он встал, оделся и решил тотчас отправиться во дворец Конрада II, дабы найти маркграфа Деди и улестить его, чтобы тот свёл его с императором для тайной беседы. Или, наконец, для покаяния. Генрих верил в символ покаяния и знал, что император не откажет ему. И тогда, одолев стыд и унижение, он бросится императору в ноги, потянется облобызать чело и коварно вонзит в его сердце тонкий, как игла, стилет, который спрячет в рукаве камзола. И пусть там будет толстяк Деди, пусть окажутся другие придворные. Ничто не спасёт Рыжебородого Сатира.
Обкатав со всех сторон замысел мщения, Генрих позвал слугу и велел седлать коня, сам отправился за стилетом, надеясь найти его в оружейной зале. И вот уже дамское оружие в его руках. Оно удобно, его легко спрятать. И, забыв утолить голод, маркграф в сопровождении оруженосца покинул королевский замок, умчался во дворец Конрада.
Двери для маркграфа Штаденского во дворце были всегда открыты, и ему не составило большого труда найти Деди Саксонского. Фаворит императора даже обрадовался, увидев племянника императрицы.
— О, как давно мы с тобой не виделись, любезный Штаден. Я слышал, что ты женился на княжне россов. Как она, супружеская жизнь?
Генрих ответил, гордо подняв голову:
— Всё отлично, дядюшка Деди. А ты по-прежнему растёшь вширь.
Они похлопали друг друга но спине. И Деди спросил:
— Что привело тебя в нашу обитель?
— Мне важно увидеть государя.
— Ну так иди, ежели по доброму делу. Граф Манфред отведёт тебя.
— Я не терплю Манфреда. И даже видеть его не желаю. Лучше ты позаботься. И если хочешь знать, зачем иду, то тебе скажу.
— Ну скажи. Мне легче будет убедить государя принять тебя.
— У меня был тяжёлый год, ты знаешь причину. И я иду с покаянием. А что в нём, открыть могу только императору. Так ты уж помоги, славный Деди Саксонский.
Маркграф Деди задумался. Прожжённый царедворец, простоявший близ императора более двадцати лет, презирающий его, восторгающийся им, умеющий обманывать кого угодно, как и сам государь, он был предан ему до самозабвения и не хотел над собой никакого другого властителя. Потому он должен был знать, что бы это ни стоило, с каким покаянием рвался к императору «ангелочек». Ведь, войдя к государю с покаянием, он попросит оставить их наедине. Ну оставят. А кто даст отрубить себе голову, заверяя, что там ничего не случится? То-то и оно. И чтобы проверить свою догадку, маркграф Деди спросил:
— А ты вместе со мной пойдёшь на покаяние, ежели я уши заткну?
И мгновения не прошло, как Генрих ответил:
— Конечно, пойду. С тобой всегда надёжно.
Играли волк и овечка. И оба в душе посмеивались друг над другом. Маркграф Штаденский радовался тому, как хорошо водит за нос «винную бочку». Деди Саксонский «хохотал» в грудях: «Тебе ли меня провести, „ангелочек”! Стилет-то зачем несёшь? Ведь это оружие злодеев!»
Генрих был уверен, что стилет спрятан надёжно. И тогда Деди сказал:
— В таком случае дай-ка я достану ту булавочку, какую ты приготовил для императора. — Он ловко взял Генриха за руку и в мгновение достал из рукава трёхгранный стилет в полторы четверти длиной, — Согласись, дружок, им можно заколоть и быка. — И Деди захохотал. Маркграф Генрих был обескуражен, но тоже засмеялся.
— Так это всего лишь для защиты, славный Деди, — нашёлся он с ответом.
— Ну как же, как же! Рыцарю без оружия нельзя, — весело продолжал Деди.
А Генрих уже ждал, что хитрец Деди сей же миг крикнет стражей и его схватят, бросят в темницу, предадут смерти за покушение на государя. К его удивлению, того не случилось. Маркграф Деди сказал такое, отчего у Генриха Штаденского перехватило дыхание. И, не будучи изощрённым игроком, как фаворит императора, он поверил тому, что было сказано.
— Мне известно, с чем ты шёл к государю. И я одобряю твой шаг.
— Как одобряешь?! — Долговязый Генрих стоял перед толстяком Деди, словно деревенский простак.
— Господи, я, как и ты, ненавижу Рыжебородого. Я хочу видеть на троне империи внука славного императора Генриха Третьего, столь же славного принца Конрада. Я говорю тебе потому, что полностью доверяю. Ты умеешь хранить тайны. Ты любим императрицей. — Деди взял Генриха под руку и подвёл к столу, на котором стояли кубки и кувшин с вином. Он влил в кубки вина и предложил: — Выпьем за союз Штаденов и Саксов.
Они выпили. Генрих был возбуждён настолько, что вспотел и не находил слов, чтобы как-то ответить на признание маркграфа Деди. Он лишь просил:
— А что же дальше?
— Вот об этом я и хотел сказать, любезный друг. Сегодня же и совсем скоро ты будешь принят императором. Теперь запоминай: ты войдёшь в приёмный покой и окажешься там на некоторое время один. Гам, у окна, есть стол с кубками и вином, вот как здесь, — Деди повернулся к резному шкафу, выдвинул один из ящиков, достал из него ларец и поставил перед собой на стол. Открыв ларец, он взял из него перстень и подал Генриху. — Надень его. Под камнем перстня — яд. Нажмёшь вот здесь и высыплешь в кубок императора. Когда же он придёт и ты покаешься ему, и ежели он примет твоё покаяние, попросишь закрепить прощение кубком вина. Ты знаешь, что государь никогда не отказывает себе выпить. А уж по такому поводу — и тем более. Вот и всё. — На широком лице маркграфа Деди светилась великодушная улыбка.
— Как всё просто! — выдохнул Генрих.
— И не сомневайся. Уж мне-то поверь. Но слушай дальше. Ты оставишь императора умирать, сам выйдешь тем же путём, каким я приведу тебя. Твой конь будет стоять у крыльца, и ты немедленно покинешь дворец. Потом будет сказано мною, что государя отравил ты, но...
— Но это меня уже не пугает! — поспешно заявил Генрих и в возбуждении похлопал маркграфа Деди по плечу. — О, славный саксонец!
— Спасибо, спасибо, — ответил Деди и попросил: — Теперь побудь здесь, а я скоро вернусь и поведу тебя на приём.
Генрих остался один. Он взял со стола оставленный Деди стилет, вертел его в руках, как ненужную вещицу, и в возбуждении ходил по просторному покою, с нетерпением ожидая возвращения Деди. Доверчивый и простодушный, он и подумать не смел, что маркграф Саксонский его обманывал. И когда наконец Деди появился и велел следовать за ним, Штаденский продолжал радоваться близкой победе над злом.
Всё было так, как определил маркграф Деди. Они пришли в приёмную залу императора, и она оказалась безлюдной. Деди показал на стол с кубками, дескать, вот твоё поле действий, откланялся и ушёл. Осмотревшись, Генрих поспешил к столу, высыпал из перстня яд в один из кубков, налил в оба кубка вина и тот, что был с ядом, отодвинул подальше от себя. Уже через минуту он прогуливался по залу и, как ему показалось, был очень спокоен.
Император появился неожиданно. Он вошёл в залу за спиной маркграфа через потайную дверь и громко сказал:
— Я вижу прелестного маркграфа Штаденского! С чем пожаловал, любезный?
Маркграф повернулся к императору и увидел сто, как всегда, оживлённым и жизнерадостным, словно и не умирала на другом конце города его супруга, с которой он прожил более двадцати лет. Маркграфа охватила ярость, глаза вспыхнули ненавистью, но, вспомнив о своей клятве, он прикрыл глаза, улыбнулся, поклонился императору и беззаботно сказал:
— Государь, я пришёл с покаянием. Я виноват пред тобой в попрании клятвы ордена николаитов.
— И кому же ты раскрыл её?
— Это не так важно. Тот человек уже не в состоянии донести её другим. Но я готов принять наказание. И прошу лишь об одной милости. Выпей со мной кубок вина, и я умру с верой в то, что ты простил меня. Не откажи в милосердии, государь.
— Это для меня неожиданно. Как же мне с тобой рядом жить? — удивился император. Ведь я и не думаю тебя наказывать. А впрочем, для острастки, может, и накажу. — С этими словами император подошёл к столу, подал маркграфу ближний кубок и взял дальний, с ядом.
— За твоё здоровье, маркграф! — сказал император.
— Здравия многие лета тебе, государь.
Они ударили кубок о кубок. Глухо зазвенело серебро, и маркграф лихо выпил вино следом за императором, мгновение спустя Генрих Штаденский побледнел как полотно, схватился за грудь и крикнул:
— О, как я ошибся в тебе, Деди! — С тем и рухнул на пол.
Император, похоже, остолбенел. Его рука с кубком задрожала, он смотрел на безжизненного маркграфа со страхом.
Через ту же тайную дверь в залу вошёл Деди Саксонский. Он встал рядом с императором и тихо сказал:
— А ведь он вас хотел отравить, мой государь. — Тайну перстня маркграф не открыл. А в нём вместо яда хранилась истёртая в порошок яичная скорлупа.
— Ты рисковал, маркграф. Я мог ошибиться и взять его кубок.
— Нет, государь, ты не мог сделать промах. Твой кубок тебе хорошо знаком, — уверенно отозвался Деди.
— В том воля Провидения Божьего. — Император помолчал, думая о чём-то сокровенном, потом строго сказал: — И вот что, маркграф Саксонский, позаботься о маркграфине Штаденской Адельгейде-Евпраксии. Чтобы волос не упал с головы несчастной вдовы.
— Мой государь, не изволь беспокоиться.
— Вот и славно. — И император скрылся за тайной дверью.
Тело Генриха Штаденского ещё долго лежало на полу. Потом Деди привёл трёх воинов. Они завернули покойного в чёрный холст, обвязали верёвками и унесли. Деди подошёл к столу, взял один из кубков, заглянул в него и подумал: «Да, всё было бы наоборот, если бы Рыжебородый перепутал чары».
В тот же день зело покойного было отправлено в Штаден. Но графине Гедвиге о смерти сына передали лишь на другой день. Это окончательно подкосило силы болезненной женщины, и её почти без чувств повезли следом за покойным.
Маркграф Генрих ушёл из жизни на неделю раньше, чем преставилась императрица Берта. Она скончалась 27 декабря 1087 года. Проводные колокольные звоны оповестили народ Германии об утрате любимой государыни, и держава окуталась в траур. Генрих IV почтил похороны супруги. И ему запомнился этот день на многие годы. Он будет скорбеть о том, что свёл в могилу одну из самых прекрасных женщин Германии. Но то будет позднее раскаяние.
Глава четырнадцатая ВДОВА
Овдовевшая так неожиданно Евпраксия ощущала в себе некую безучастность к происходящему в Штадене. Она словно окаменела, и как бы не она, а кто-то другой принимал участие в похоронах. У неё не было слёз по покойному мужу, и смотрела она на него словно на чужого, недоумевала: зачем и кому нужно было её замужество с чуждым ей по духу человеком? И думала она только о том, чтобы поскорее свершился обряд похорон и она смогла уехать в родную Русь. Жажда вырваться из чопорной среды Штадена была настолько сильна, что Евпраксия не находила себе места. И вместо того, чтобы стоять у гроба покойного супруга, она неприкаянно бродила по замку, словно потеряла нечто более важное, чем муж. Однако, глядя на неё, княгиня Ода думала, что её племянница страдает от потери Генриха, подходила к ней, прижимала к себе, успокаивала, как это делают на Руси:
— Ты поплачь, родимая, поплачь, и горе осядет.
Похороны Генриха в фамильном склепе Штаденского храма Святого Бонифация были многолюдными. Прощались с ним сотни горожан и вассалов, съехавшихся со многих земель Нордмарки маркграфов. Генриха любили и горожане, и крестьяне. Печаль была общей. В последний миг прощания пролила слёзы и Евпраксия. Она вспомнила, что все полтора года супружества Генрих был с нею нежен и ласков. В эти последние минуты она вдруг поняла, что потеряла достойного уважения человека. Не в силах сдержать хлынувшие слёзы, она прижалась к тётушке Оде и зарыдала. Она прощалась не только с супругом, но и с теми безмятежными днями в замке Штаден, кои пролетели со дня свадьбы, как стая птиц. Всё-таки ей было что вспомнить, хотя бы потому, что она сотворила из «ангелочка» достойного мужчину.
Слёзы Евпраксии влились в реку людской печали. И только одно лицо поражало всех своим равнодушием. Рядом с плачущей Гедвигой стоял её сын и брат Генриха молодой граф Людигер Удо. Он был моложе Генриха на два года. Среднего роста, широкоплечий, с крупным, грубо высеченным лицом, он смотрел на обряд похорон холодными светло-голубыми глазами, и губы его застыли в презрительной усмешке. Евпраксия лишь на мгновение подняла на него глаза, но ей показалось, что он ударил её по лицу. Такая сила была в его взгляде, и она перестала плакать, сильнее прижалась к Оде, ища у неё защиты.
А через два дня после похорон маркграфа Генриха в Штаден примчался гонец из Кёльна. Он привёз повеление императора графине Гедвиге явиться в Кёльн и почтить память скончавшейся императрицы Берты. С нею отбывала и княгиня Ода. Расставаясь с Евпраксией, заботливая тётушка посоветовала:
— Ты побереги себя, родимая, и будь подальше от Людигера, а Романа держи рядом. А как вернусь из Кёльна, мы подумаем о твоей судьбе.
— Я, пожалуй, через неделю уеду домой, — возразила Евпраксия. — Всё здесь чужое мне.
— Но у тебя есть долг перед покойным. Ты это знаешь. И ты — маркграфиня, наследница всего, что принадлежало Генриху в Нордмарке.
— Господи, это мучительно сознавать, потому как мне ничего не надо. Да и Людигер того не отдаст, — размышляла Евпраксия. И пошла навстречу княгине: — Хорошо, тётушка, я дождусь тебя.
С отъездом княгини Оды в замке вновь воцарилась гнетущая тишина. Утешением Евпраксии были лишь Родион и Милица. Ей было с кем отвести душу, унять сердечные боли. Однако за минувшие полтора года и Родион с Милицей отдалились от неё. Вскоре после свадьбы разумный Родион поборол свою тайную страсть к княжне и пришёл к ней с поклоном. Смиренно опустив голову, попросил:
— Матушка княгиня, дозволь мне, боярскому сыну Родиону и боярской дочери Милице сойтись в семеюшку.
Тогда у Евпраксии пропал весёлый блеск в глазах, улыбка сошла, она побледнела, но милостиво дозволила.
— Вы достойны друг друга. Но как же без венчания?
— Полно, матушка, нам вдосталь твоего благословения.
— А что же Милица думает? И будете ли вы служить мне?
— Верой и правдой будем служить. А Милица тут, рядом. — Родион метнулся к двери, распахнул её и позвал: — Милица, тебя...
Сенная девушка Милица вошла тотчас, потому как ждала зова за дверью. Её лихоманило от страха. Боялась она, что княгиня, страдая сердечной болестью к Родиону, запретит ей и думать о супружестве. А то, что Евпраксия любила своего гридня, Милица знала давно. Бледная, дрожащая Милица не смела поднять головы. А её госпожа рассмеялась.
— Красна девица, да люб ли тебе сей вольный сокол? — спросила она.
— Люб, матушка, люб! — крикнула Милица и брякнулась в ноги княгине. — Благослови нас, родимая!
— Подойди, сокол, встань и ты на колени, коль волюшка надоела, — по-прежнему весело сказала Евпраксия.
— Слушаюсь твоего повеления, матушка, — ответил серьёзно Родион и встал рядом с Милицей.
Красивая то была пара. Евпраксия полюбовалась ими, подумала: «Ох и детишек нарожают эти петушок да курочка». Она достала с груди православный золотой крестик, с коим и после ухода в католичество не расставалась, перекрестила им Родиона и Милицу трижды, как могла, торжественно завершила обряд.
— Благословляю вас на супружество, нарекаю мужем и женой. Служите друг другу по Божьим заповедям. Да прошу милости у Всевышнего за мою вольность.
Тогда же Евпраксия наградила молодожёнов деньгами и велела купить им домик в Штадене.
— Хочу, чтобы вы были вольными, но жили рядом. Потому как без вас я пропаду.
Так и было. Купили Родион и Милица домик, поселились в нём, но каждый день шли в замок на службу. Теперь же, когда Евпраксия овдовела, а в замке появился Людигер Удо, она отвела им покой рядом со своей опочивальней. И не напрасно.
С первых же дней появления в Штадене Людигера Удо Евпраксия, как лесная лань, почувствовала от него угрозу. Он показался ей грубым, жестокосердым и, что страшнее всего, похотливым. Его голубые глаза, покрытые льдом, как речная полынья в мороз, при виде Евпраксии изменялись и покрывались масляной плёнкой. Так проявлялась в нём, как в хищном звере, ласка к своей жертве. Знал же он, что нельзя пугать жертву, потому как испортится вкус мяса. И день за днём, медленно и упорно, он приближался к своей жертве. Людигер был молчалив. И это тоже пугало княгиню. Но пока они встречались за полуденной и вечерней трапезой, это было терпимо. За стол они садились не одни, вместе с ними придворные графини. Иной раз Людигер не являлся на трапезы. В такие дни дворецкий докладывал Евпраксии, что молодой граф умчал на охоту И правда, потом на столе появлялась зайчатина или кабанье жаркое.
В середине января испортилась погода. Подули жестокие северные ветры, нахлынули морозы, и Людигер не покидал замка целыми днями. Евпраксия чувствовала, что с каждым часом опасность к ней приближалась. И не знала, чего он добивался. Иногда он ненароком касался её руки, плеча, а однажды, когда она стояла возле камина, положил ей руку на талию. Евпраксия строго заметила:
— Не позволяйте себе лишнего, граф.
Он лишь что-то буркнул в ответ, отошёл и сел в кресло. Евпраксия не мешкая покинула трапезную и закрылась с Милицей в спальне. Она села за стол писать письмо в родной Киев, намереваясь передать с тётушкой Одой купцам в Гамбурге, кои приходили торговать в немецкую землю из Новгорода, Пскова или Смоленска.
Возвращение графини Гедвиги и княгини Оды из Кёльна затянулось. А потом к Евпраксии пришло и огорчение. Вернулась в Штаден только графиня Гедвига. Княгиня Ода по каким-то причинам проследовала в Гамбург. Обеспокоенная Евпраксия на другой же день после возвращения Гедвиги отправила в Гамбург Родиона. Поручила ему найти купцов, кои пришли с Руси, передать им грамоту в Киев. Ещё навестить княгиню Оду и узнать, почему она не приехала в Штаден.
С отъездом Родиона Евпраксии и вовсе стало невмоготу в замке. Даже с графиней Гедвигой у неё не было общения. Потерявшая сына, сестру, Гедвига укрылась в своих покоях, плакала, молилась и днями не появлялась на глазах обитателей замка, к себе никого не впускала. Евпраксия тоже большую часть времени проводила в своём покое. Иногда ей приходилось отпускать Милицу в город, потому как при доме были, кроме лошади, на которой уехал Родион, собака и кошка и их нужно было накормить. В такие часы Евпраксия что-то читала или писала новую грамотку на родину, жаловалась отцу и матушке, что овдовела и живёт среди чужих людей сиротою.
Был ранний вечер пасмурного январского дня. Милица ещё не вернулась из города, и Евпраксия ждала её с минуты на минуту и даже не закрыла на запор дверь. И в это время, когда душа княгини рвалась на Русь, в спальню крадучись вошёл Людигер Удо. На плечи полуобнажённого тела у него был накинут камзол. Он подкрался к сидящей Евпраксии и обнял её со спины. Она вскрикнула, но он зажал ей рот и приказал:
— Не смей кричать! Не смей! Тебя никто не услышит. — Голос его был мягкий. И обнимал он Евпраксию хотя и крепко, но без боли. Он отнял руку от её рта, склонился к шее и стал целовать.
Она потребовала:
— Отпусти меня и дай встать! — Он не отпускал. — Прекрати мерзости! — крикнула Евпраксия и словно рыбка выскользнула из его рук.
Она побежала к двери, но Людигер настиг её, схватил за руку, с силой привлёк к себе и вновь принялся целовать. Он потянул её к постели и попытался сорвать одежду. Евпраксия ударила его коленом в пах. Он согнулся от боли, но ещё удерживал её за руку. Хватка была железная, и княгиня поняла, что просто так ей не вырваться и что ещё мгновение, и зверь придёт в себя, надругается над нею. Его глаза уже злобно сверкали, и он готов был наброситься на неё и терзать. Однако этого мгновения Евпраксия не дала графу. Промелькнул перед её взором образ матушки, вспышка памяти озарила её, дающую дочери уроки иранского боя, взметнулась рука Евпраксии, мелькнула белой молнией, и два перста, сложенные как для моления, поразили Людигера, он снопом упал на дубовый пол.
Евпраксия огляделась: никто ей больше не угрожал. Она открыла платяной шкаф и принялась одеваться в дорогу, надела соболью шубку, тёплые сапожки, кунью шапку. Из шкафа же взяла кожаную дорожную торбу, в которой лежало всё необходимое в пути и ценные бумаги Гамбургского коммерческого банка, где хранилось её состояние. Она не забыла взять недописанное письмо и покинула спальню. Она уходила из замка, зная, что ни одна живая душа, ни даже сама графиня Гедвига не возьмёт её под защиту от Людигера Удо. Расправа над ней была бы неизбежна. И поэтому она покидала замок с чистой совестью. Никто из привратников — ни в замке, ни у ворот — не посмел остановить её. Она уходила в Штаден. И ей повезло: на полпути до городка она встретила Милицу, которая возвращалась в замок.
— Вот и славно, что встретились. Идём в твой домик, — сказала Евпраксия с улыбкой.
Граф Людигер Удо пришёл в себя лишь в полночь. В чувство его привёл холод, набежавший в открытую дверь из коридора. Он встал и попытался вспомнить, что же с ним произошло. И вспомнил всё до мелочей, даже то, как в глазах молодой и желанной вдовы брага заметил весёлых чёртиков. Но дальше был полный провал в памяти и он не смог даже представить себе, как оказался поверженным, не ощущая никакой боли в теле от удара, свалившего его на пол. Голова у него была светлой, как после крепкого сна. «Экая чертовщина», — мелькнуло у него. Он надел камзол, окинул взором спальню, где питал надежду потешиться с вдовушкой, и отправился на её поиски. Всё-таки в своём позорном падении он считал виновной ту россиянку с чёртиками в глазах.
Той порой Евпраксия уже пришла в себя. Она поужинала вместе с Милицей, и теперь они сидели у тёплого очага и обдумывали, как им быть дальше.
— В замке мне неё чужие. Граф Людигер не из тех, кто прощает обиды, и будет добиваться своего. Матушка Гедвига, может, и знает о его происках, но и словом не попрекнёт, — рассуждала Евпраксия.
Милица посетовала:
— Господи, хоть бы Родиоша скорее вернулся. А без него нам и в путь нельзя.
— Это верно. Да и распогодилось. Вон как ветер завывает в трубе. И снежная крупа в окна бьёт. Ладно уж, отсидимся день-другой, а там и Родион вернётся, — смирилась Евпраксия.
Надежды затворниц оправдались. В полдень, когда прекратился снегопад, на дворе весело залаял пёс. Милица выбежала на крыльцо и тут же вернулась, радостная и оживлённая.
— Эта благодать! Родиоша пожаловал домой.
Спустя четверть часа усталый, продрогший на морозе Родион сидел у очага и, пока Милица накрывала на стол, рассказывал Евпраксии о том, по каким причинам княгиня Ода не приехала из Кёльна в Штаден.
— Сказала твоя тётушка, что её под стражей отправили в Гамбург. А причиной тому повеление императора не искать с тобою, матушка, встреч.
— И что же они обкладывают меня, как медведицу в берлоге? — удивилась княгиня.
— Так и есть, облог чинят. А причина тому одна. Да ты её, матушка, ведаешь.
Уже за столом Родион попытался узнать, почему Евпраксия покинула замок. И она, ничего не утаив, рассказала о поведении молодого графа. Родион выслушал внимательно, лицо посуровело, серые глаза ещё больше потемнели, сказал твёрдо:
— Я убью злочинца. Я брошу ему перчатку и в честном поединке снесу голову. Ему не уйти от кары.
— То не угодно мне, Родион, — заметила Евпраксия. — Нам лучше покинуть Штаден и уйти в Гамбург. Вот только как?
Евпраксия была права. У них не было экипажа, а лишь одна усталая лошадь. Родион успокоил её:
— Мы уедем завтра. Чуть свет я схожу в замок, возьму твоих коней и колесницу. А пока, ты уж меня помилуй, матушка, прилягу я на полатях. Дорога сморила.
Родион проснулся задолго до рассвета. Быстро собрался и покинул дом. В конюшне оседлал коня и уехал в замок. Лишь только развиднелось, как он вернулся и пригнал во двор пару серых копей, запряжённых в крытую колесницу. Можно было покидать Штаден. Однако Евпраксию что-то удерживало. И она поняла, что не может уехать, не простившись с могилой супруга и графиней Гедвигой. Евпраксия не хотела прослыть беглянкой. За утренней трапезой она сказала Родиону и Милице:
— Мы сегодня уедем в Гамбург, но прежде побываем на могиле Генриха и заедем в замок. Не могу же я уехать в одном сарафане.
Замок встретил княгиню и её спутников мёртвой тишиной. Евпраксия велела Милице и Родиону собрать и уложить в колесницу все её личные вещи, одежду» обувь, сама же ушла в покои матери Генриха. К своему неудовольствию, там она встретила Людигера. Она сделала вид, что между ними ничего не произошло, поздоровалась и даже улыбнулась. Остановившись перед графиней, которая сидела в кресле, тихо сказала:
— Матушка Гедвига, сегодня я уезжаю в Гамбург.
Графиня долго и молча смотрела на невестку, у неё не было повода задержать её в замке. Не появилось и желания спросить, почему она уезжает. Гедвига поняла одно: их больше ничего не связывало. У графини могло бы прорезаться к княгине чувство благодарности за то, что она щедро поделилась своим состоянием. Меха, шубы, столовое золото и серебро — всё это оставалось в замке, и Евпраксия не побуждалась вернуть богатство.
— Ты вольна делать всё, что тебе нравится, - ответила наконец Гедвига и прикрыла глаза рукой.
Евпраксия могла уходить и слегка поклонилась Людигеру. Он же вонзил свой взор в Евпраксию, и в нём опять появилось нечто от рыси, вышедшей на охоту. Когда же княгиня сделала невольное и резкое движение рукой, вызванное безразличием к её вдовьей судьбе со стороны Гедвиги, перед взором Людигера вспыхнуло мелькнувшее однажды видение — летящая в него стрелою рука, которая и поразила его.
— Прощайте, матушка Гедвига, и не поминайте лихом, — собралась с духом Евпраксия и направилась к двери.
Но едва она скрылась за ней, как позади послышался окрик:
— Стойте, княгиня!
Евпраксия не желала ещё раз быть обожжённой рысьим взглядом и побежала. Но сапоги Людигера гремели всё ближе. Ей удалось достичь лестницы, а внизу стоял её спаситель. Родион в два прыжка влетел на лестницу, и Людигер наткнулся на его грудь.
— Забудь о княгине, граф, ежели дорога жизнь! Говорит тебе о том боярин Родион.
Людигер вскинул руку, дабы ударить боярина, но Родион перехватил её и сжал с такой силой, что заставил Людигера сесть на ступени лестницы.
— Вот и сиди. Так-то лучше!
Покидая Штаден, Евпраксия настраивала себя на весёлый лад. Она надеялась, что новая полоса жизни принесёт ей больше радости и покоя, может быть, она найдёт настоящую любовь. Ей хотелось встретить человека, подобного Родиону, хотелось быть счастливой. Мысли о Родионе иногда пугали её. Не могла она, не имела права обидеть, оскорбить добрую Милицу, дать ей повод для ревности и страданий.
В гамбургский замок княгини Оды беглецы приехали в горячую пору. Шли сборы в дальнюю дорогу князя Вартеслава. Княгиня Ода и плакала от предстоящего расставания, и гневалась за непослушание сына, и печалилась оттого, что сама не может уехать в милый сердцу Киев, потому как стояла на пороге нового замужества, с графом Вартовом из Ганновера, с которым познакомилась в Кёльне на похоронах императрицы. Встретив Евпраксию в просторном вестибюле и повинившись в том, что не могла заехать в Штаден, она поделилась своим горем:
— Голову потерял мой сердечный сынок, не спит, не ест, всё Русью бредит: то Днепр у его ног плещется, то золотые купола взор ожигают. Л я так думаю, что ожгла ему очи княжна смоленская, Елена. Да ты ведь помнишь её, ежа годом старше тебя и в Киев с батюшкой приезжала. — Поток слов тётушки изливался обильно. Да Евпраксии нравился её русско-немецкий говор. — А я уж и смирилась: пусть катит в Киев. Вот только не знаю, соберусь ли на свадьбу, потому как сама в тенета попалась.
Прибежал Вартеслав. Он был грустно-весёлый. Обнял Евпраксию, попечаловался:
— Вдовствуешь, лебёдушка, тяжкий крест несёшь. — И подлил масла в огонь: — Да махни ты на всё рукой, поедем со мной на Русь. То-то дорога ближней покажется.
Евпраксия засмеялась, оживлённо сказала:
— Не опередил ты моей потуги, Вартеславушка. — И обратилась к Оде: — Я ведь тоже на Русь собралась, тётушка. Да и поеду вместе с братцем. Вольная я отныне.
Княгиня вздохнула, слезу набежавшую смахнула, подумала, что на сборы Евпраксии уйдёт дня три — надо ведь с банком всё уладить. А да и хорошо, что три лишних денька с сынком побудет. Однако, размышляя о сборах в дорогу племянницы, Ода вспомнила о том, что было ей сказано в Кёльне: «Не побуждай княгиню Адельгейду уехать на Русь, не ищи себе беды». Однако княгиня Ода осталась верна себе, пренебрегла предупреждением фаворита императора и закружилась со сборами в дальнюю дорогу сынка и племянницы.
Ан судьбе было неугодно, чтобы молодая вдова покинула Германию. Этой невинной и светлой душе суждено было ещё много пострадать, прежде чем через десятилетия она вернётся на родимую землю.
Император не забыл о своих интересах к княгине россов. С того самого дня, как тело погибшего маркграфа Штаденского увезли из Кёльна, за каждым шагом Евпраксии началась слежка. Люди императора уже знали, что она покинула Штаден и появилась в Гамбурге и к императору уже летела эстафета. Теперь, когда она была свободна от брачных уз и от свекрови, государь счёл, что руки у него развязаны, потому как вольный орёл. Одно мешало императору искать пути сближения с вдовой: каноны веры, не позволяющие раньше чем через год вступать в брак с новой избранницей. Генрих набрался терпения и дал себе слово дождаться часа, когда каноны церкви останутся не нарушены. Потому-то и было поручено маркграфу Деди сторожить в течение года княгиню. Недреманное око исполняло волю императора исправно. Едва получив весть от гонцов из Гамбурга, Деди поспешил к императору, доложил ему, спросил:
— Что повелеваешь сделать, ваше величество?
Генрих задумался и понял, что своенравная россиянка может улизнуть от него. И он счёл бы для себя позором, если упустил бы эту дикарку после стольких лет охоты. Его изощрённый ум нашёл, как ему показалось, единственную надёжную меру.
— Ты, верный Деди, останови её немедленно и найди ей место в Кведлинбургском монастыре. А чтобы она не сочла нашу волю насилием, я напишу ей любезное послание.
— Мудрая мысль, мой государь, — порадовался маркграф. Ему и впрямь не хотелось проявлять над будущей императрицей какого-либо насилия, ибо оно могло со временем обернуться против него.
От Кёльна до Гамбурга путь неближний, но маркграф, уповая на Бога и быстрых коней, сам повёл в Гамбург полусотню рыцарей и лучников, дабы исполнить волю своего кумира.
Глава пятнадцатая ЗАТОЧЕНИЕ
В начале февраля все дела в Гамбурге были улажены и Вартеслав с Евпраксией уже горели от нетерпения отправиться в путь. Лишь княгиня Ода находила то одну, то другую причину, чтобы отдалить час расставания. Но так или иначе, а этот час пришёл. И ранним утром 3 февраля по лёгкому морозу небольшой поезд из двух дормезов, трёх повозок и десяти конных воинов покинул двор замка княгини Оды. Она вышла за крепостную стену, махала путникам рукой и плакала. На сердце у неё было тяжело, но не только от разлуки с сыном и племянницей, а ещё от предчувствия какой-то беды.
Предвестие этой беды прихлынуло на двор замка спустя чуть больше суток. В полдень перед воротами замка появился большой конный отряд воинов, в замок от крепостных ворот прибежал страж и сказал княгине Оде, что её хотят видеть именем императора. Княгиня вышла к воротам и увидела в оконце маркграфа Деди.
— Впустите его, — сказала она стражам.
Маркграф переступил порог калитки, поклонился Оде, поцеловал ей руку, весело спросил:
— Ваша светлость, что же вы не распахнёте ворота перед воинами императора?
— Не вижу в том нужды. Я их не приглашала, — ответила княгиня, давно зная, что маркграф всегда был вестником беды. — Что привело тебя в Гамбург, любезный Деди?
— Мне должно увидеть графиню Адельгейду и передать ей послание императора.
— Но её в моём замке нет. Она, поди, в Штадене.
— Увы, ваша светлость, из Штадена она уехала пять дней назад и теперь пребывает здесь.
— Да нет её, — утверждала княгиня. — Если есть желание, поищи.
— Но как же мне исполнить волю государя и вручить послание? — спросил Деди в надежде на то, что Ода ответит, дескать, оставь его, а я передам. Но этого не случилось.
Ода не хотела, чтобы какое-либо послание императора попало в руки её племянницы. Она знала одно: в послании кроется коварство, ибо Рыжебородый Сатир жить без него не может. И теперь Оде важно было выиграть время, впустить воинов в замок и удерживать их в нём сколько будет возможно.
— Я могу тебе помочь лишь в одном, разрешу вам ждать Евпраксию в замке, поскольку она, наверное, ещё в пути из Штадена.
Но хитрость Оде не удалась. Деди только улыбнулся.
— А может, она в пути на Русь? Я ведь тебя предупреждал княгиня. Потому поведай мне, где она, и не ищи гнева государя. К тому же я могy послать воинов на улицы города, и они узнают, когда и куда приехала-уехала графиня Адельгейда.
Княгиня Ода поняла, что ей не угнаться в хитрости за маркграфом.
— Верно, узнаешь. Ладно уж, скажу правду: она уехала на Русь три дня назад. А у меня лишь ночь провела. — И княгиня направилась к замку.
Маркграф последовал за нею. В пути Ода велела камергеру впустить в замок воинов императора и накормить их. Сказала Деди:
— Я думаю, маркграф, вам теперь некуда спешить.
— Да, я и мои люди устали, — согласился Деди, думая о том, как узнать истинное время отъезда Евпраксии из Гамбурга. И, не дохода до дверей замка, он вдруг сказал: — Ваша светлость, я сам распоряжусь, кому из воинов отдыхать. — И поспешил к воротам. Он нагнал камергера и спросил: — Любезный, я забыл узнать у княгини Оды, в каком часу покинула замок графиня Адельгейда из Штадена?
Камергер задумался лишь на миг.
— Час не помню. Но мы провожали княгиню и Вартеслава вчера, сразу же после восхода солнца.
— И они выехали на дорогу в Мейсен, не так ли?
— Да, ваша светлость, — не подозревая в коварстве маркграфа, ответил простодушный камергер.
— Спасибо, любезный. И передай княгине, что я пообедаю у неё в другой раз. — С гем хитроумный Деди и покинул замок.
Княгиня Ода поняла, как старый лис Деди обвёл её вокруг пальца, и метала ему вслед гневные молнии. «Чтоб ты продырявилась, винная бочка! Чтоб у тебя конь споткнулся и придавил твою тушу!» Но гнев Оды не достигал хитреца.
Преданный императору гончий пёс Деди, как его величали завистливые приближённые Генриха, мчал к Мейсену, не жалея ни себя, ни воинов. Давая отдых коням, он заставлял всадников спешиваться, и они бежали рядом с конём, держась за стремя. И они одолели расстояние от Гамбурга до Мейсена за трое сучок и нагнали-таки поезд Вартеслава и Евпраксии. Деди нашёл путников на постоялом дворе. Был поздний вечер, и потому маркграф не стал никого беспокоить. Он разместил воинов на отдых, часть из них поставил на охрану постоялого двора и наказал:
— Чтобы ни одна живая душа не покинула двор без моего ведома.
И никто из усталых путников, спешивших покинуть Германию, до утра не узнал, что они под стражей. А утром, когда на постоялом дворе всё пришло в движение, люди поняли, что они находятся под стражей императорских воинов. Двор был оцеплен, никого за ворота не выпускали. Маркграф Деди терпеливо ждал в трапезной постоялого двора появления Евпраксии. Он увидел её, когда она спускалась по лестнице, готовая отправиться в путь. Рядом с нею шёл князь Вартеслав, за ними — Родион. Маркграф Деди раскланялся и сказал:
— Я доверенное лицо императора Генриха Четвёртого, маркграф Саксонский, должен вам, графиня Адельгейда, сделать важное сообщение.
Вперёд выступил князь Вартеслав и заслонил Евпраксию.
— Ей нет нужды выслушивать какие-либо сообщения, ежели они не касаются великой Руси. Нам пора в путь.
— Князь, вы молоды, и вам не пристало так разговаривать с канцлером великой Германии. Я привёз личное послание императора только графине Адельгейде. Потому извольте не мешать нам. — И Деди двинулся на Вартеслава. Он же схватился за меч. Но Евпраксия прикоснулась к его руке:
— Братец Вартеслав, он пойдёт со мной, и мы поговорим. — И княгиня направилась вверх по лестнице в свой покой. В нём Милица собирала вещи. — Душа моя, оставь нас на время, — сказала ей Евпраксия — И когда Милица вышла, попросила Деди: — Маркграф, говорите, что заставило вас преследовать меня?
— Ну полно, ваша светлость. Я вас не преследую, а всего лишь исполню волю императора. Я привёз вам его послание. — И Деди достал свиток. — Вот оно. Но прежде чем отдать, я скажу то, что в нём изложено. Так пожелал император. А сказано тут вот о чём: «Ваша светлость графиня Штаденская Адельгейда-Евпраксия, прошу вас забыть о побуждении покинуть Германскую империю. У вас есть долг перед новым отечеством и его императором. Исполните его с честью, достойной славянских женщин. Каюсь, я полюбил вас, как только увидел в замке княгини Оды. Вы должны помнить тот день. Всевышний милостив к нам, мы свободны. И близок день, когда я предложу вам руку и сердце. А пока побудьте некоторое время в Кведлинбурге, любимом вами. Ваш покорный слуга император Генрих Четвёртый». — Маркграф подал послание Евпраксии и добавил: — Теперь вы можете вскрыть его и прочитать, дабы убедиться в сказанном мною.
Евпраксия взяла свиток.
— Я вам верю, маркграф. Но передайте императору: ему вольно любить кого угодно. Однако у меня нет желания оставаться в Германии. И пусть шлёт сватов в стольный Киев.
Маркграфа трудно было смутить любым словом.
— Ваша светлость, вы уже не россиянка, но немка российского корня. А у вас есть долг перед отечеством, перед церковью. Наш император не может вдовствовать и жить в сиротстве. Божий перст указал на вас, и вам должно исполнить его волю.
Восемнадцатилетней княгине трудно было состязаться в споре с искушённым в интригах фаворитом императора. Но в ней всё протестовало, она была возмущена тем, что над нею пытаются совершить насилие. В то же время самолюбию весёлой правом молодой вдовы льстило признание императора в своих чувствах. Однако Евпраксия вспомнила все те происки, которые, начиная с Мейсена, предпринимал против неё Рыжебородый, вспомнила, что смерть супруг а на совести императора, и всё возмутилось в ней с новой силой. В её серых, обычно ласковых глазах вспыхнул гнев. Но она не выплеснула его, помня, что гнев унижает человека. Она засмеялась. И это поразило Деди больше, нежели бы она на него накричала.
— Вот уж славно выйдет, когда мы в шесть рук возьмёмся творить злочинство. Вчера маркграфы Штаденские, сегодня императрица Берта! А завтра на кого мы ополчимся? — спрашивала Евпраксия Деди и заливалась смехом.
— Избави бог, избави бог, — непривычным для себя тоном воскликнул маркграф. — Мы ни в чём не виновны. Они сами на себя наложили руки. Я открою вам тайну, которую должен был унести в могилу. В своей болезни государыня Берта виновата сама. Она пребывала в любовной связи с графом Любером. Однажды слуги императора, которые следили за Бертой по его воле, выследили государыню во время прелюбодеяния. И они так усердно наказали прелюбодеев, что перестарались: граф был убит, а государыня потеряла рассудок. Я тогда встал на сторону государыни. Я рвал и метал от негодования и, если бы имел право вызвать Рыжебородого на поединок, сделал бы сие не задумываясь. А тут в Кёльне появился ваш супруг. Его вызвала государыня, дабы просить о мщении. Он дал клятву отомстить императору и, взяв в оружейной зале стилет, пришёл ко мне, дабы я просил императора принять вашего супруга.
— И что же?
— Нет, большего вы от меня не услышите. Я боюсь, что тайное станет явным, и тогда меня ждёт топор или виселица.
— И правильно делаешь, граф Деди, что сомневаешься во мне.
— Да, да, сомневаюсь. Но я не трус, не трус! — закричал Деди. — И честь для меня превыше всего. Я согласился быть пособником маркграфа Штаденского. Я отобрал у него ненадёжный стилет и дал яд, показал кубок, в который он должен был высыпать снадобье. Но быть же такому несчастью: рассеянный Генрих подал Рыжебородому свой кубок! Как случилась эта роковая ошибка, теперь уж никому не ведомо. Да мне уже всё безразлично. Ведь если вы уедете в Киев, мне всё равно грозит смерть.
Маркграф говорил с такой искренностью, что не искушённая в лицедействе Евпраксия поверила ему. Откровение Деди даже смутило княгиню. Орла подумала, что он страшно рискует, делясь с нею тайной. Что, если орла станет супругой императора? Однако Евпраксия не была лишена здравого смысла. Она подвергла сомнению исповедь маркграфа Деди. И всё-таки пришла к выводу, что он не нарушит волю императора и не отпустит её на Русь. Сказала:
— Хорошо, маркграф, дай мне подумать до полудня.
— Я и сам был намерен предложить вам то же, — согласился Деди. — К тому же у вас есть с кем посоветоваться. Позовите князя Вартеслава, он не толкнёт вас на ложный путь.
— В таком случае скажите Вартеславу, чтобы поднялся ко мне, — попросила княгиня.
— Исполню, — ответил Дели и с поклоном ушёл из покоя.
Прошло не меньше четверти часа, когда появился Вартеслав. Евпраксия за это время открыла послание императора, прочитала и удивилась, что маркграф передал сто слово в слово. И вновь россиянка почувствовала гордость. Лесть Генриха IV щекотала её тщеславие. Да и какая бы женщина не смутилась от предложения стать императрицей. Вартеслав пришёл с расстроенным видом.
— Ты знаешь, сестрица, что над нами стоят пятьдесят воинов. И они охотятся за нашим имуществом, шныряют по возам. И если бы я не пресёк их пронырство, они добрались бы до большого сундука.
— Ах, что там сундук, братец! Помоги мне разобраться в другом. — Евпраксия подала Вартеславу бумагу. — Вот, почитай. Император ищет меня.
Вартеслав прочитал послание и положил сто на стол, усмехнулся.
— Этот Рыжебородый добьётся своего.
— Ты думаешь, что я соглашусь?
— Я думаю о том, что Генрих Четвёртый не выпустит тебя из державы. Иначе он прислал бы одного гонца с этим признанием, а не пустил бы вдогон полусотню во главе с Деди. Эта гончая псина добычи не упустит.
Что же мне делать, любезный братец?
— Тут только два пути, а третьего нет. Либо ты дулю показываешь императору, либо в Днепре тебе больше не купаться.
— Ты думаешь?
— Думай не думай, а золотое яичко не высидим.
Глаза Евпраксии засверкали дерзостью.
— Нет, я этому Рыжебородому покажу всё-таки дулю!
— Лучшего не придумаешь, сестричка! Я бeгy собираться в путь! — И Вартеслав скрылся за дверью.
На дворе он велел возницам выезжать к воротам. А увидев маркграфа Деди, подошёл к нему.
— Маркграф Саксонский, ты северянин, я — тоже. Не будешь же ты стоять на моём пути?!
— Не буду, князь. Отравляйся не мешкая. И это лучше всего для тебя.
— Я уезжаю вместе с сестрой, — твёрдо сказал Вартеслав. Он увидел, что на дворе появилась княгиня, крикнул: — Евпракса, садись в колесницу. Мы готовы в путь.
Фаворит императора хитро улыбнулся. Он знал, что ему ничто не помешает исполнить волю государя, и спокойно наблюдал, как покидали двор колесницы, повозки, десять воинов Вартеслава. Они проехали метров триста, когда Деди дал команду воинам двигаться следом и сам поднялся в седло. Деди знал, что за восточной окраиной Мейсона есть развилка дорог. Главная убегали на утреннее солнце, другая — тянулась на полдень. Там, на этой развилке, маркграф и задумал выполнить волю императора. Он пустил свой отряд рысью, догнал поезд Вартеслава и Евпраксии и умелым маневром рассёк его на две части. Два десятка воинов окружили колесницу Евпраксии и повозку с большим сундуком на ней и повернули лошадей на южную дорогу. Остальные тридцать воинов, не давая никому из спутников Вартеслава опомниться, погнали их коней на восток.
Вартеслав сообразил наконец, что случилось, велел остановить дормез, крикнул оруженосцу подать ему коня, взметнулся в седло и ринулся было следом за княгиней. Но пять или шесть воинов с обнажёнными мечами перекрыли ему путь, и один из них, в рыцарском облачении, сказал:
— Князь, не делайте глупостей. Вас велено убить, если помешаете остаться графине Адельгейде в Германии.
— Так попробуйте! — крикнул Вартеслав и, обнажив меч, ринулся на воинов. — Прочь с дороги! — крикнул он.
Но попытка пробиться силой оружия не удалась. Кто-то из воинов Деди достал коня Вартеслава и подсек ему мечом заднюю ногу. Конь заржал и упал, придавил ногу Вартеслава. Два воина бросились на него и обезоружили. Воины князя бросились на выручку, но их взяли в хомут, и им было сказано, что, если обнажат мечи, их князь будет убит. Вартеслава проводили до колесницы, отдали ему меч, и маркграф Деди с весёлой улыбкой сказал:
— Не переживай, князь. Ты ещё придёшь на поклон к государыне-императрице Адельгейде.
Пожелав доброго пути князю, маркграф Деди со своим стременным помчался догонять Евпраксию. А его тридцать воинов до полудня сопровождали Вартеслава и остановились на отдых лишь в местечке Нимпяц.
Догнав колесницу княгини Евпраксии, маркграф увидел, что здесь тоже не всё спокойно. Бушевал Родион, который был за возницу. Он слетел с облучка, метнулся к коням, взял их под уздцы и, обнажив меч, попытался пробить себе дорогу на восток. Но дормез плотным кольцом окружали двадцать воинов. Родион шёл на них, размахивая мечом, они отступали, отбивали его удары, но щадили, кричали ему, что их терпению придёт конец. И вот уже их мечи засверкали над его головой. Всё это видела Евпраксия и, забыв о том, что Родион сражался за её волю, выскочила из колесницы и встала перед Родионом. Его жизнь для Евпраксии оказалась дороже свободы.
— Остановись! Тебе не одолеть их!
— Как они смеют! Пусть уйдут с дороги! — ярился Родион.
— Они не уйдут. Воля императора для них превыше всего.
— Но ты — россиянка! Тебе урон!
— Вижу! Да смиряюсь. А ты иди, родимый, на Русь, иди. Я отпускаю тебя вместе с Милицей.
— Ну уж нет! — с каким-то отчаянием крикнул Родион. — Я к тебе, Евпракса, не одной службой привязан! — И, метнув меч в ножны, Родион вскочил на облучок.
Маркграф Деди наблюдал, пока Евпраксия и Родион обнажали свои чувства. Он понял, что всё близ колесницы разрешилось миром, и крикнул:
— Спасибо, маркграфиня! Вы радужны, вам слава!
Евпраксия на восторг Деди не ответила и скрылась в дормезе, дабы попечаловаться о своей судьбе с Милицей.
Через три дня, к удивлению княгини, её привезли в Кведлинбургский монастырь. Аббатисой здесь была уже не сестра императора, а пожилая женщина со строгим лицом. И, как показалось Евпраксии, с холодным сердцем. Позже княгиня узнает, что она была графиней. Ещё говорили, что она какая-то дальняя родственница императора из Штабии. О судьбе прежней аббатисы Адельгейды ниш ничего не знал. Сказывали, что она так и не вернулась в Кведлинбург, уехав на поиски своих воспитанниц.
На сей раз княгиню приняли в монастыре как почётную гостью. Ей отвели просторную, из двух покоев, келью, оставили при ней Милицу и дали в услужение двух послушниц. Родиону нашлось место в хозяйственных службах. Вместе со служками он досматривал монастырских лошадей.
Жизнь в обители ни в чём не изменилась, устав соблюдался строго. Воспитанниц теперь держали только с десяти до тринадцати лет. Потом княгиня узнает причину тому, а пока она втягивалась в монотонную монастырскую жизнь, очень похожую для неё на заточение. Да так оно и было. Скоро Родион ей скажет, что за стенами монастыря воины императора день и ночь несли службу.
Евпраксия, однако, не впала в отчаяние, она умела бороться с однообразием жизни. Предоставленная самой себе, она много читала, благо книг в монастырской библиотеке оказалось достаточно. Не забыла и то, чему учила её матушка, каждый день час-другой занималась оттачиванием своих перегон на деревянном чурбане, обтянутом толстым войлоком. Аббатиса, узнав о её досуге, осудила княгиню. Но Евпраксия на исповеди рассказала ей о домогательстве графа Людигера Удо и тем нашла себе оправдание.
И миновало восемь месяцев хотя и монотонной, но в общем-го спокойной жизни. Евпраксия за это время значительно преобразилась. Она взяла своё ростом, стать в ней полностью проявилась, а оживлённое лицо стало ещё более привораживающим. Она как-то забыла об императоре, о его происках и побуждениях. Но однажды он напомнил о себе.
Появился Генрих IV в Кведлинбурге благодатной сентябрьской порой. Он снял в городе дом и поселился в нём с небольшой свитой. Было похоже, что император приехал не на один день. Он привёз с собой архиепископа Аннона, из Кёльна. С ним и появился в обители на другой день после приезда. Аббатису оповестили о визите императора и архиепископа заранее, и она устроила им торжественный приём по чину и с колокольным звоном. На площади перед храмом гостей встречали пением псалмов все обитательницы монастыря. Евпраксия не сочла нужным встречать императора и вместе с Милицей находилась в своём покое, читала вслух по-латыни Мелитона Сардийского «О воплощении Христовом».
— Для не лишённых смысла не нужно тем, что творил Христос после крещения, доказывать действительность, чуждую призрачности, души и тела Его и одинаковость человеческого естества Его с нашим. Дела Христовы после крещения и особенно чудеса показывали и доказывали миру, что во плоти Его сокрыто Божество...
За чтением Евпраксия не заметила, как открылась дверь и на пороге возник император. За его спиной стояли архиепископ и аббатиса. Они вошли в покой, и первым к Евпраксии подошёл Аннон. Она встала перед ним.
— Прими, дочь моя, благословение Божие во имя Пресвятой Девы Марии. — Аннон осенил её крестом. — Аминь.
— Спасибо, ваше преосвященство, — ответила с поклоном Евпраксия.
Следом за архиереем к ней подошёл император. Его рыжая борода торчала задорно, зелёные глаза брызгали весельем. Он показал в улыбке белые крепкие зубы. И было похоже, что он хотел понравиться княгине. Она же не нашла в нём ничего интересного, отметила нездоровую кожу лица, синеву под глазами, причину которой княгиня знала. Под пристальным взглядом россиянки Генрих почувствовал неловкость и поспешил сказать то, что приготовил ещё по пути в келью.
— Я рад вас видеть, прелестная маркграфиня Штаденская, но удивлён тем, что вы заточили себя в этой убогой келье. — Он уже играл и в своей игре почувствовал себя как рыба в воде, оставаясь непредсказуемым. Он чуть ли не с возмущением спросил аббатису: — Матушка Гонория, как ты могла поместить столь высокую гостью в жалкой келье?!
— Государь, сие обитель, но не дворец, — смело и сухо ответила аббатиса.
— Да, да, я об этом помню, — смягчил тон Генрих и вновь обратился к Евпраксии: — Если ваша светлость пожелает, я сниму лучший дом в Кведлинбурге.
— Зачем же, сударь, тратиться на содержание узницы, — едко заметила Евпраксия.
— Ну полно, какая же вы узница. А если вы считаете, что это так, то я хочу облегчить вашу участь.
— Тогда отпустите меня на Русь. А то ведь и воеводы узнают о моих бедствиях. Там и с ратью придут.
Генрих улыбнулся. Ему нравилась боевитость княгини. Такая спуску не даст, и скучать с нею не будешь, отметил он. И дерзнул позвать Евпраксию на прогулку.
— Я приглашаю вас на вольную беседу в монастырский сад. Там прелестно, и под сенью сада я скажу вам, как желаю облегчить вашу участь.
— Это так просто, государь. Я же сказала, что вы можете сделать щедрый подарок мне прямо здесь. Забудьте, что на белом свете живёт россиянка Евпраксия, и — никаких хлопот.
— Сие не так просто, ваша светлость, — ответил император.
Евпраксия не пустилась в досужую беседу при очевидцах. Она попросила Милицу подать ей беличью накидку и направилась к двери.
— Идемте, государь. Я покажу вам монастырский сад, в котором пролетели многие дни моей жизни.
Они ушли. Аббатиса и архиепископ остались в келье в ожидании возращения государя и княгини с прогулки. Гонория и Аннон значительно переглянулись и присели, одна — на скамью, другой — в кресло, но в разговор не вступили. Каждый думал о своём, но на поверку вышло бы, что об одном: об очевидном домогательстве императора внимания княгини. И никто из них ей не позавидовал. Да и завидовать было нечему, считали они, зная разнузданный и коварный нрав императора. Гонория и Аннон ещё попечалились по безвременно погибшей императрице Берте и молили Бога о милости в том, чтобы Он не допустил торжества погрязшего в грехах над новой жертвой.
Той порой Евпраксия и Генрих истинно наслаждались прогулкой по саду, гуляя по дорожкам среди усыпанных спелыми плодами яблонь. Генрих же сорвал румяное яблоко и угостил им Евпраксию. Он был многоречив, рассказывал о военной победе над папой римским Григорием VII, о том, как штурмовал Рим, о многих других доблестных военных походах, порождённых его буйной фантазией. Ему хотелось покорить Евпраксию, прежде чем сказать ей о том, зачем он приехал в Кведлинбург. И хотя Евпраксия уже предполагала, о чём поведёт Генрих речь, она оказалась для княгини неожиданной.
— Сиротство, в коем я пребываю, доведёт меня до безумия. Потому я припадаю к вашим ногам, маркграфиня Штаденская, княгиня россов Адельгейда-Евпраксия, и прошу вашей руки. Да, да, вашей руки. — Император встал перед Евпраксией на одно колено и с жаром продолжал: — Я свободен перед Господом Богом, и церковь благословит наш брак. — Его зелёные глаза смотрели на княгиню умоляюще. — Я люблю вас давно, и вы это знаете...
Умиротворяющая природа осени, волшебные краски сада расслабили в Евпраксии пружины сопротивления. Мысли её улетели в стольный Киев. Вот она уже стоит перед матушкой и батюшкой на коленях и вопрошает их: «Скажите, родимые, как быть мне, несчастной вдовице: отказать германскому императору или протянуть руку согласия?» И великий князь всея Руси Всеволод ответил любимой дочери без сомнения: «Мы печалимся о твоём безвременном вдовстве. Но так, очевидно, было угодно Господу Богу. Он же тебя не оставил милостью. Он призывает тебя, родимая, помнить, что мы живём не для ублажения себя, но ради чести и возвеличения державы. Ты войдёшь в сердца россиян первой императрицей. Это ли не гордость державы. Вот и весь сказ!» И матушка сказала своё слово: «Благословляю тебя, родимая. Да берегись любострастия, семью береги!» И ответила Евпраксия императору, как наказали ей родители и по Божьим заповедям:
— Ты, государь, не обессудь. Рано ещё нам прелестные речи вести. Вот минует год, сам знаешь с какого дня, тогда и приходи. А я уж здесь в заточении погощу.
Император проявил покорность воле княгини. Он сказал, что будет терпелив и дождётся своего часа. Евпраксия и Генрих вернулись в обитель. Вскоре император и архиепископ покинули монастырь. Но своему слову император не изменил. 28 декабря, спустя год и одни день после кончины императрицы Берты, Генрих вновь появился в Кведлинбурге. И всё тот же архиепископ Аннон из Кёльна исполнил в монастырской церкви обряд обручения. И с этого часа стало ведомо всей Германии о том, что император Генрих IV обрёл невесту, красоте и богатству которой могут позавидовать государи многих держав.
Глава шестнадцатая ИМПЕРАТРИЦА
Хотя молодая вдова и отважилась отдать руку и сердце императору Германии, она вовсе не представляла себе, какие обязанности и права у императрицы, чем она должна заниматься и как вести себя в императорских замках и дворцах. Пребывая в полном неведении, Евпраксия, однако, была способна к размышлениям и обладала цепким умом. Вскоре же после обрушения и отъезда императора из Кведлинбурга она вспомнила о тётушке Оде и послала Родиона в Гамбург с просьбой к ней приехать в Кведлинбург. Помнила Евпраксия, что княгиня Ода была искушённой в дворовых и государственных делах и знала не понаслышке, как вести себя, чем жить государыне великой державы. В бытность свою великой княгиней Руси она не ударила в грязь лицом.
Однако встреча Евпраксии и Оды состоялась не вдруг. Да и вообще могла не быть, потому как в Северной Германии началась междоусобная брань. Император Генрих счёл себя оскорблённым маркграфом Экбертом Тюрингским и осадил его замок Глейхен. И хотя в этом замке самого маркграфа Экберта не было, небольшой гарнизон его держался стойко. Осада замка грозила затянуться на многие месяцы.
Между тем молодой и дерзкий маркграф Экберт перехитрил Генриха. С войском в тысячу воинов он скорым маршем подошёл к Кведлинбургу и осадил город и монастырь, в котором ещё томилась невеста императора. Отважный Экберт отправил Генриху гонца с предупреждением о том, что если он и впредь будет осаждать замок Глейхен, то Кведлинбург и монастырь будут уничтожены, а его невеста станет наложницей маркграфа.
Император не на шутку испугался. Но сказывал потом Деди, что не за невесту, а за её состояние, которое хранилось при ней в монастыре. Тот же маркграф Деди посоветовал Генриху послать на освобождение от города и монастыря вовсе не преданного императору воинствующего архиепископа Гартвига, уроженца Кведлинбурга. Генрих вознегодовал:
— Он изменит мне и уведёт войско в стан врага!
— Нет, государь, Гартвиг честный рыцарь и твоё повеление выполнит достойно.
— Смотри, с тебя шкуру сниму за измену Гартвига, — пригрозил Генрих фавориту.
Он поставил Гартвига во главе тысячи конных воинов и послал его под Кведлинбург на помощь горожанам и монахам.
В те долгие осадные дни Евпраксия хотя и натерпелась страху, но по примеру своей тётушки княгини Анны носила на крепостные стены камни и бросала их на врага, когда он шёл на штурм, увлекала за собой других обитательниц монастыря.
Но подошло войско Божьего воина Гартвига, и защитникам Кведлинбурга показалось, что маркграф Экберт только этого и ждал. Тёмной ночью он снял осаду, проторил себе дорогу через цепь императорского войска и увёл своих воинов к осаждённому замку Глейхен. Воины Генриха, не ожидавшие хитрого маневра Экберта, были застигнут врасплох, побросав осадные орудия, шатры, повозки, в панике бежали, оставив на пути бегства многих убитых и раненых.
Эта междоусобная потасовка длилась три месяца и завершилась позорным поражением императора.
Вскоре же после прекращения военных действий, весенними днями 1089 года, появилась в монастыре долгожданная княгиня Ода. Питая неприязнь к императору и обожая племянницу, она долго сетовала на Евпраксию, упрекала её.
— Господи, как ты могла, сердешная, согласиться на супружество с этим Рыжебородым Сатиром. Поверь мне, с ним никакой радости не наживёшь. Уж какая тихая и уступчивая была Берта, а вон как обернулось. Ты же не будешь терпеть извращений супруга! — Побушевав таким образом, Ода успокоилась и принялась вразумлять невесту, как вести себя в будущей императорской жизни. — Ты прежде всего запомни вот что: ни перед кем не склоняй головы. Тебе, дочери великого князя и великого народа, есть чем гордиться. Твой батюшка был зятем византийского императора, он родной брат французской королевы, свёкор принцессы английской. Он в родстве с королями Венгрии, Норвегии, Швеции, Польши. Никто из прежних германских императриц не может встать с тобой вровень по знатности. Помни и другое: твои предки по женской линии были не только добрыми семеюшками, но и деятельными государынями, да ведь ты и сама наречена Благоделательной. Они вместе с мужьями, а часто и без них управляли державами. Помнишь великих княгинь Ольгу и Рогнеду, твою бабушку Ирину — все они были любимы народом, потому что радели о нём. — Просвещая Евпраксию, Ода не ссылалась на себя, хотя на Руси её тоже чтили за добрые дела.
Княгиня Ода прожила в Кведлинбурге несколько дней, и все эти дни она передавала нажитое, будучи великой княгиней. Евпраксия была ей благодарна. Особенно за последний совет.
— За малолетством тебе неведомо было, что даже у нас в Киеве государевы дворы жили в хитрованиях, наговорах, обманах и злом подсиживании друг друга. Здесь и того хуже: все поедом едят один другого. Поэтому тебе мой совет таков: возьми в свой двор лишь тех, кто служил матушке Берте. За то тебе будет их любовь и преданность.
Позже Евпраксия не раз вспомнит умные наставления княгини Оды. Они помогут юной императрице во всём, что касалось не только внутренней дворцовой жизни, но и жизни империи. Волею судьбы она будет втянута в ту борьбу, какую развяжет со своими вассалами и сыновьями Генрих IV. В этой борьбе Евпраксия займёт достойное место и не посрамит духа и личности россиянки.
Понадобилось Евпраксии немало мужества, когда войско Генриха было разбито воинами Экберта. Император появился в Кведлинбурге, бежав с поля боя из-под Глейхена. Он пришёл в покои Евпраксии гордый, довольный собой, словно одержал знаменательную победу, смотрел весело и пытался шутить.
— Я ещё покажу этому прыгучему зайцу, дабы не обманывал в чёсаном бою. Надо же, додумался воевать с монашками! Да, может, сам в женской сутане стены штурмовал?
Княгиня Евпраксия слушала Генриха с грустью на лице. Она думала, что ему не следовало появляться в монастыре, будучи опозоренным бегством. Но теперь это уже не имело значения. Евпраксия скрепя сердце выслушала императора, который просил её завершить их сговор о супружестве обрядом венчания и свадьбой.
— И потому я зову вас, государыня моего сердца, в лучший собор Германии в Кёльне, где совершат над нами тайную волю Всевышнего.
Евпраксия собралась с духом и ответила:
— Я уже говорила, что согласна идти под венец. Но дай слово императора, что не будешь жалеть о супружестве со мною. Я ведь тебя не люблю.
Генрих оставался верен себе, встал в позу и заявил:
— Я никогда и ни о чём не буду сожалеть, если вы, ваша светлость, будете относиться ко мне с уважением. А я постараюсь его заслужить.
— Хорошо, государь, я постараюсь вас уважать.
— И на том спасибо. Кстати, я приготовил для вас сюрприз, со мною прибыл истинный герой отечества, архиепископ и рыцарь Гартвиг, который освободил Кведлинбург от осады мерзкого Экберта. Генрих вышел из покоя и вскоре вернулся.
Следом за императором вошёл в покой архиепископ Гартвиг. Евпраксии казалось, что судьба подшутила над ним, облачив в сутану священнослужителя этого рыцаря с мужественным лицом, широкими плечами и сильными руками. Ему было не больше сорока лет, тёмно-карие глаза светились ласково. Он был знаком с дядей Евпраксии, великим князем Изяславом, и сказал об этом княгине, помня, что это будет неприятно императору.
— Дочь моя, я знал твоего дядюшку Изяслава, мы много с ним беседовали о твоей родине.
Генрих помнил, как молодой Гартвиг, тогда ещё не священнослужитель, граф, настаивал на том, чтобы император собрал германское войско и повёл его на Русь, освобождать коварно захваченный у Изяслава престол. Генрих почувствовал в словах Гартвига упрёк за то, что в ту гору не сдержал своего обещания, но проглотил обиду.
— Ты, святой отец, лучше скажи маркграфине о том, когда свершишь над нами обряд венчания.
— Что там говорить, ваше величество. Надо ехать в Кёльн. Там и прояснится день венчания, — ответил Гартвиг.
Через двое суток император и все, кто прибыли с ним, покинули Кведлинбург. Уехала с ними и Евпраксия. Генрих сам руководил сборами в дорогу. Он больше всего беспокоился о том, чтобы не забыли в монастыре сундуки и ларцы с состоянием Евпраксии. Оно по-прежнему не давало покоя Генриху. Да того дня, как он сможет, наконец, прикоснуться к нему, оставалось чуть больше трёх недель.
Через неделю поезд императора прибыл в Кёльн. Будущую императрицу поместили в замке короля Генриха Птицелова, в том замке, где завершила свой земной путь императрица Берта. Правда, Евпраксии отвели другую половину замка, где уже изрядно потрудились мастера и в покоях всё сверкало чистотой и манило уютом. Спальня Евпраксии была просторна, светла и отделана красивыми шёлковыми тканями. В замке ещё царила тишина, было безлюдно. Бывшие придворные Берты, вся прислуга разошлись, разъехались по своим гнёздам и замкам. Никто из них не желал служить императору, который свёл в могилу их госпожу. Лишь капеллан, стражи и несколько работных людей оставались при замке.
В последнюю неделю перед венчанием у Евпраксии нашлось время написать отцу и матери весточку о том, что она готовится стать императрицей. Она сочла, что батюшке будет важно знать об этом событии. Оно во многом изменит отношения как с Германией, так и с другими соседними державами. Так оно и было.
Однако нести из Кёльна о венчании и короновании княгини Евпраксии в Киеве были приняты по-разному. Глава православной церкви митрополит Иоанн отнёсся к тому неодобрительно. Знал он, что за минувшие три года Византия порвала всякие отношения с Германией и вступила в переговоры с заступившим недавно на престол Римской церкви папой Урбаном II, ярым противником Генриха IV.
Брак Евпраксии и Генриха IV, считал митрополит Иоанн, подрывал добрые отношения Византии и Руси. Великий князь Всеволод одобрил супружество любимой дочери. Он счёл, что она поступила мудро, по заветам отцов. Вето сердце проснулась гордость: его дочь — императрица великой державы. По этому поводу в Киеве прошло вече, где Всеволод донёс до горожан весть о породнении с Германией. Горожане приняли эту весть похвально. За это Всеволод отблагодарил их многими бочками медовухи и браги. Одержимый жаждой порадовать каждого, он не забыл и о Евпраксии. От щедрот своих князь собрал немало добра ценного: мехов, рыбьего зуба, жемчуга и золота с серебром. И отправил всё это с попутными купцами, дав им в сопровождение десять воинов под началом сотского Тихона.
К тому времени торжества по случаю коронования и венчания завершились. Они были пышными и красочными. На них повеселились как горожане Кёльна, так и многие гости. Собрались на торжество и члены ордена николаитов. Они прибыли в Кёльн по личному приглашению императора, и были среди них те, кто надругался над императрицей Бертой. Не забыл Генрих пригласить и барона Хельмута, который одним из первых опозорил маркграфа Генриха. Здоровяк Хельмут восторгался на пиру юной императрицей и в кругу своих друзей говорил всякие пошлости в её адрес: «О, я ещё потешусь над этой королевой, когда придёт мой час».
Хронисты той поры пространно писали о втором супружестве императора. «Коронование новой императрицы, а потом и венчание исполнялись порядком, заведённым при короновании германских императриц, — были совершены в Кёльне упомянутым магдебургским епископом Гартвигом, хотя в Кёльне был и свой епископ, Гариманн, но он был ещё только назначен, и сделали это по протекции Гартвига, его родственника. Но, главное, Генрих пожелал, чтобы торжественная ординация его новой супруги была совершена именно архиепископом Гартвигом, этим новым его „другом”, недавно перешедшим на сто сторону из враждебной партии».
Чего добивался император, приближая Гартвига, осталось никому не ведомо, но он дал повод своим врагам отрицать законность коронования и венчания, потому как архиепископ Гартвиг находился под отлучением синода.
Генрих IV посмеялся над тщетными усилиями врагов разлучить его с обретённой прекрасной княгиней россов и в августе 1089 года издал манифест о своём вступлении в брак с повелением молиться за новую императрицу Адельгейду.
После венчания прошло три дня и три ночи. Генрих был неутомим и всюду поспевал, всюду бражничал, при этом вовсе забыл на это время о своей молодой супруге, о своём супружеском долге. Евпраксия, однако, не очень переживала его отсутствие в спальне дворца Конрада II, но сожалела лишь о том, что рядом с нею нет Милицы и Родиона. Они оставались в замке Генриха Птицелова.
На четвёртый день император наконец появился в покоях супруги. Он был весел, беззаботен и нисколько не смутился тем, что Евпраксия не обращает на него внимания. Он нашёл нужным извиниться.
— Ты меня прости, государыня, что пропал на эти дни. Я готовлю собрание николаитов. Это так важно, так важно! А теперь должен сказать тебе самое главное. Мы сегодня же отправляемся в Бамберг. Это маленький, тихий городок, где мы обретём покой и радость супружества.
— Как сочтёшь нужным, государь, а я покорна твоей воле, — ответила Евпраксия равнодушно.
Сборы были недолгими, потому? как уезжали налегке. Император торопил Евпраксию и даже уговорил её пока оставить в замке Птицелова Милицу и Родиона, которых она хотела взять с собой.
— Ты не переживай за них, государыня. Они тремя днями позже приедут вместе со всеми придворными, — успокаивал Генрих молодую супругу.
Однако Евпраксия тревожилась за своих близких. Что-то настораживало её в поведении императора, и всё, что он говорил, казалось ей ложным. Всё это Евпраксия затаила пока и дала себя увезти из Кёльна.
В небольшом Бамберге, в самом центре его стоял красивый старинный замок. На другой же день по приезде Генрих собрал местную знать и устроил пирование в честь своего супружества. Он познакомил Евпраксию с вельможами, с дамами и назначил епископа Рупрехта Бамбергского духовным отцом императрицы. Он проявил к Рупрехту щедрость и подарил ему имение на императорской земле Бамберга.
Евпраксия ещё не успела привыкнуть к непредсказуемым поступкам супруга, ещё ждала его по вечерам в спальне, дабы провести вместе извечно обязательную супружескую ночь. Но Генрих вновь забыл о ней. И на третий день пребывания за утренней трапезой заявил, что должен срочно вернуться в Кёльн, чтобы исполнить неотложные государственные дела. Молодая императрица не стала пытать государя о сути этих дел, но с грустной улыбкой сказала:
— По-моему, государь, ты забыл, что у нас с тобой медовый месяц.
— Я пробуду в Кёльне всего лишь неделю. Ты не успеешь соскучиться, — заверил Генрих.
Однако у Евпраксии уже появились основания ему не верить. Распинаясь о любовных чувствах, он забыл о первой брачной ночи и обманул в том, что следом за ним прибудут в Бамберг придворные, а с ними — Милица и Родион. Она задумалась над тем, с какой целью он женился. И совсем немного времени пройдёт, когда полностью проявится суть поведения её супруга.
Через три дня после отъезда Генриха в Бамберге появился антипапа Климент III. Он тотчас же нанёс визит императрице и благословил её на долгое супружество, пожелал счастливой жизни. Евпраксия много слышала о Клименте. И все слухи были противоречивы. Теперь у неё появилось своё мнение об этом слащавом и изворотливом иезуите. Она сочла, что своим поведением он напоминает императора. Едва благословив Евпраксию, он попытался узнать у неё, не посылала ли она на Русь гонцов с уведомлением о своём короновании. И если нет, то он готов приложить к её посланию и своё.
— Отныне, государыня, Германская империя и Россия должны жить в добром согласии. И для начала нам важно обменяться посланиями. Как вы сочтёте моё предложение, ваше императорское величество? — вопрошал он.
Пятидесятилетний, с простоватым, округлым лицом бывший граф Виберто из Пармы был хитёр не менее, чем его друг Генрих IV. Потому даже у не сведущей в политике россиянки он надеялся узнать многое о состоянии великой Руси. Однако первые же её слова смутили Климента.
— Моё супружество, ваше преосвященство, никак не повлияет на разлад или на дружбу Руси с Германией. Ежели вы с добром, то и мы тем же ответим. Пока же ваши прелаты пытаются поссорить нас с Византией. Но с какой стати моей родине терять достойного соседа ради призрачной дружбы с германскими архиереями.
Климент даже не попытался возразить. Он понял, что у этой юной государыни есть ум и она знает больше, чем может показаться. Да, действительно, священнослужители, над коими властвовал Климент III, добивались ссоры между Русью и Византией, как добивались ссоры и с Римской церковью, когда на её престоле был папа Григорий VII, а теперь — папа Урбан II.
Той порой император добрался до Кёльна. У городских ворот его встречал маркграф Деди, и они не проследовали во дворец Конрада, а отправились на другой конец города в замок Генриха Птицелова. Император не скрывал своего ликования по поводу того, что так скоро и скрытно появился в резиденции императрицы. Он приблизился к сокровищам своей супруги, которые, как он считал, по праву брачного союза принадлежали не только ей, но и ему. А поскольку он старший среди равных, то ему и распоряжаться ими, успокаивал он себя. Ведь только одному Богу ведомо, как нужны были Генриху те многие тысячи византийских золотых милиаризарий, за которыми он охотился более четырёх лет. Как он восторгался бережливостью супруги, которая за минувшие годы не растратила и десятой доли своего состояния. И вот это богатство рядом. Оно в замке Птицелова под охраной верного императрице росса Родиона. Да простит его, императора, Всевышний, если Родион вздумает сопротивляться и не отдаст по доброй воле того, что ему не принадлежит.
Полуденный замок встретил императора настороженно. Здесь уже несколько дней были обеспокоены исчезновением госпожи. После венчания и торжеств императрица пропала. Старые слуги знали порядок и не могли предположить, что государыня просто забыла о них. Генриха их беспокойство не волновало. На вопрос камергера барона Юргена он сказал:
— Ждите, она скоро вернётся. — И велел отвести его в покои, которые занимала императрица. — Кто там в них? — спросил он камергера.
— Только фрау Милица, — ответил Юрген.
«Ишь, как славно», — подумал император. И тут же испугался. Ведь Родион, которого Генрих хорошо знал, малый не промах, мог спрятать состояние Адельгейды так, что без него и не найдёшь. Но всё оказалось проще и в то же время сложнее. Богатство Евпраксии находилось рядом с её спальней в кладовой за дубовой дверью, окованной железом. На запорах висели два замка. Генрих позвал Милицу и спросил её:
— Где же ключи от этой кладовой?
— Они у Родиона, ваше величество, — ответила она.
— А где Родион?
— Не ведаю, государь. Он ищет госпожу. Вы должны знать, где она.
— Ваша госпожа в должном ей месте. Я только что от неё. А давно ли ушёл Родион?
— Его нет третий день.
Генрих посмотрел на Деди и возмутился:
— Это безобразие!
— Ваше величество, вам не надо беспокоиться, — произнёс Деди. — Сейчас я растолкую Милице её долг, и дело пойдёт на лад.
— Исполни сие. Да не медли.
— Милица, — обратился к боярыне Деди, — император увёз супругу из Кёльна, и она отдыхает в загородном замке. Сегодня же ты и Родион отправитесь с нами гуда. Поняла?
— Да, ваша светлость, — ответила Милица.
— Славно. Теперь я дам тебе экипаж и трёх воинов, и вы отправитесь на поиски Родиона. И чем скорее найдёте, тем лучше.
— Хорошо, ваша светлость. Но я не знаю, где искать Родиона.
— Подумай. Может быть, он во дворце Конрада или в доме у Гартвига. Ищи, Милица, ищи, это же твой муж.
Маркграф Деди увёл Милицу, распорядился, чтобы камергер дал ей экипаж, сделал наставление своим воинам и вернулся к императору.
— Мой государь, паши руки развязаны. Позволь мне добыть твоё состояние и вывезти зуда, где вы сочтёте с Адельгейдой за лучшее хранить его.
Генрих понял лукавого фаворита и согласился с ним при условии, что он не будет присутствовать при взломе дверей. Он спустился в трапезную. Камергер Юрген уже накрыл стол. Государя ждали трос вельмож. Как уселись за стол и выпили по кубку вина, граф Кноф Швабский спросил:
— Ваше величество, мы надеемся, что вы скоро соберёте нас на новую ассамблею, когда это будет?
— Скоро, очень скоро мы повеселимся, — ответил император. Он прислушивался к звукам в замке. Ему не хотелось, чтобы кто-то услышал, как взламывают дверь в кладовую.
Однако маркграф Деди справился с нею без особых хлопот. Ему принесли из кузницы огромные клещи, и он лишь немного поднатужился, вытаскивая из дверных петель кованые костыли. Вскоре перед Деди лежала горка костылей, а воины открывали тяжёлые двери. Маркграф был во всём предусмотрителен. Потом, когда всё состояние Евпраксии упаковали в холстах, сундук и ларцы были поставлены на место и Деди распорядился поставить на место двери и вогнать костыли в старые гнезда. Он не хотел лишней молвы. После того как узлы вынесли чёрным ходом на двор замка и упрятали в крытом экипаже, Деди пришёл в трапезную, выпил кубок вина, ухватил кусок говядины и сказал императору, что в замке им делать больше нечего.
Пребывание императора в Кёльне не затянулось, он даже не нашёл нужным заехать во дворец Конрада. Теперь, когда в его руках оказалось огромное богатство, он лихорадочно думал о том, как поскорее собрать большое войско и двинуться с ним на юг, в Италию, там укрепить свою власть, очистить папский престол от неугодного и непокорного Урбана II, самозванца из лионских французов Олдона де Ложери. Потому Генриху важно было перебраться в Мюнхен, а гам и ещё ближе к рубежам Италии. Он поручил графу Манфреду Дезентийскому остаться на несколько дней в Кёльне, дабы перевезти часть имущества в Мюнхен, туда же отправить придворных. Верному Деди он велел заехать в Бамберг и успокоить императрицу.
— Ты передай ей, любезный, что как только избавлюсь от военной угрозы на юге державы, так и приеду к ней. И пожелай ей приятно довести время. Да не проговорись о том, что случилось в замке Птицелова.
— Государь, не обижайте верного Деди, — посетовал Генриху маркграф.
Однако «верный Деди» не поспешил в Бамберг. В Кёльне его удерживали личные интересы, в загородном доме маркграфа должна была исполниться его давняя жажда мести, которая не давала ему покоя восемь лет. Ещё в Гамбурге во время посещения замка княгини Оды ему, отпетому холостяку, приглянулась фаворитка княжны Евпраксии Милица. Здесь, в Кёльне, только ей было сказано, что нужно найти Родиона. Но своим воинам он приказал отвезти Милицу в загородный дом и там беречь как зеницу ока. Отправляясь в своё имение, он забыл о повелении императора ехать в Бамберг. Судьба императрицы его волновала меньше всего, как не переживал о ней и сам император. Милицу он нашёл в полном здравии. Она была под стать ему, крупная и крепкая. Руки сами тянулись к её сильному и красивому телу. Однако подойти к ней оказалось не так-то просто. Она была в разъярённом состоянии, словно буйволица. Обман, который совершил над ней Деди, она не собиралась ему прощать. И она готова была наказать пройдоху так, как тому училась вместе с Евпраксией. Что случилось после между маркграфом и боярыней, осталось ведомо только Всевышнему.
Вскоре и Евпраксия поняла, что она обманута. С каждым днём пребывания в Бамберге она всё больше убеждалась в том, что император поступил с ней жестоко и она ему не нужна, что в Бамберге, как и в Кведлинбурге, она находилась в заточении. Она оказалась лишена всех, кто был ей близок, кто был любезен из прежнего окружения императрицы Берты. Злым умыслом её лишили даже любимой Милицы и верного Родиона. О их судьбе и судьбе придворных, оставшихся в Кёльне, она ничего не знала. Окружённая немногими придворными императора и незнакомыми ей слугами, она медленно исходила тоской. Ей казалось, что она вот-вот надломится, покинет Бамберг и умчит куда глаза глядят. Так бы всё и случилось, не появись близ неё душевный утешитель, минестериал Бамбергского собора патер Мейнгер. Этот добрый, умный и ласковый человек своим постоянным присутствием в замке, своими беседами поддерживал дух Евпраксии и вселил в неё надежду на то, что скоро её временное изгнание прекратится и она войдёт в императорское окружение полноправной его хозяйкой.
Однако вскоре увещевания Мейнгера потеряли силу. Пришла беда, которую Евпраксия пережила с трудом. Спустя месяц после приезда в Бамберг поздним вечером слуга доложил, что у ворот замка её спрашивает какой-то странный человек, грязный, заросший бородой и плохо говоривший по-немецки. Сердце Евпраксии забилось тревожно, она догадалась, кто пришёл к замку. Накинув мантию, она побежала к воротам. Стражи осветили факелом человека, и она узнала в нём Родиона.
— Свет мой сердечный! — воскликнула Евпраксия, взяв Родиона за руку и вводя на двор замка. — Как же ты нашёл меня? И до чего же ты измучен, измождён! Что с тобой случилось? — задавала Евпраксия вопросы, не дожидаясь ответа и ведя его в замок.
Родион отозвался лишь один раз:
— Подожди, матушка, всё поведаю.
Евпраксия привела Родиона в трапезную. Увидев камергера, велела принести хлеба, вина, мяса. Усадив Родиона за стол и сама сев напротив, смотрела на него с женской жалостью.
— Как ты исхудал, родимый, глаза даже провалились!
Родион качал головой и посматривал на дверь в поварню. Он был голоден и умирал от жажды. Когда слуги принесли всё, что требовалось, он взял кубок вина и выпил его одним духом, потом торопливо взял кусок мяса и хлеба, принялся жадно есть. Утолив немного жажду и голод, сказал:
— Прости, матушка, маковой росинки кой день во рту не было.
— Ешь, ешь, теперь тебе некуда торопиться, — успокоила его Евпраксия.
— Чего уж там, терпеть можно. А то, что поведаю, матушка, за горло держит. Как твои обряды начались в Кёльне и через четыре дня ты не вернулась в замок Птицелова, я пошёл тебя искать. Но в замке Конрада никто не знал, куда уехали-пропали ты и император. Я пытал многих вельмож придворных, расспрашивал дворню, никто и намёка не дал, где тебя искать. К городским воротам ходил, стражей опрашивал. Все говорили, что не видели, чтобы император уезжал из города. Я подумал, что стражи меня обманули, и отправился искать вас по замкам, что близ Кёльна. И там не нашёл вашего следа. — Родион выпил ещё вина, взял кусок мяса, хлеба и продолжал рассказ: — Я вернулся в замок Птицелова только через десять дней. Там меня ждала новая беда: пропала Милица. Конюх Линкер сказал, что она по распоряжению толстяка Деди уехала искать меня. Сказал ещё, что к ней были приставлены зри воина. Я прождал её два дня, но отчаяние одолело, и я отправился на её поиски.
— Ой лихо мне, Родиоша! Не только тебя искать её выпроводили. Она кому-то мешала, — взволновалась Евпраксия.
— Тогда я тоже о том подумал. И когда снова стал расспрашивать Линкера, то узнал, что в тот день, как её увезли, в замке был император и другие вельможи с воинами. Когда я всё это узнал, матушка, то понял, что Милица попала в руки маркграфа Деди. Он ведь не раз точил на неё глаза. Но сие промелькнуло молнией. У меня ёкнуло сердце от другого озарения. Я побежал наверх в твои покои, достал ключи, открыл чулан: он оказался пуст. Пуст, матушка! — закричал Родион. — Всё твоё добро украдено!
— Господи, как же так?! Да кто посмел?! — бледнея, воскликнула Евпраксия.
— Он и посмел, матушка, император. Поди, у него ключи были или в замке где хранились.
— Но как у него рука поднялась на чужое добро?
— Ах нет, матушка! С венчанием-то он и добру господином стал. Потому так и добивался супружества с тобой.
Евпраксия закрыла лицо руками и заплакала. «Господи, и как это я, хитрая, опростоволосилась и забыла матушкины наказы! Как попалась в сети коварного пройдохи?» — причитала она. Но, выплакав нахлынувшие слёзы, впервые в жизни озлилась: «Ну нет, тебе это даром не пройдёт, Рыжебородый Сатир».
— А здесь ты как оказался? — спросила Евпраксия Родиона.
— Так Линнер опять-таки помог. Видел, говорит, я в храме архиепископа Гартвига и епископа Рупрехта Бамбергского. Они же родичи, императору любезны. Вот и подумай над этим, может, в Бамберг сбегаешь, — сказал он.
— И я подумал, что император всё и разыграл, как ловкий охотник; тебя отвёз в Бамберг, а сам вернулся в Кёльн.
— Всё так и было, — согласилась Евпраксия.
— Коль так, вот я и появился, — развёл руками Родион. И вспомнил о Боге: — Милосердный, надоумь своих рабов, что им делать.
Они долго сидели молча, думая каждый о своём. Евпраксия страдала от потери состояния и Милицы. Родион искал путь, как добраться до маркграфа Деди и спасти свою семеюшку. Он был убеждён, что её похищение — дело рук императорского проныры. Они просидели в трапезной до полуночи, но так и не придумали ничего путного. У них родилось десятки вопросов и не было пи одного ответа. Где-то за полночь Евпраксия наконец вспомнила, что Родиону нужно отдохнуть, позвала слугу и велела ему отвести Родиона ко сну. Да и сама вскоре отправилась в спальню, сочтя, что утро вечера мудренее и на свежую голову она найдёт-таки, что противопоставить коварству супруга.
Глава семнадцатая ВРАЖДА
Молодая императрица Римско-Германской империи Адельгейда-Евпраксия не пала духом после прихлынувшей беда. Да, она страдала от потери Милицы и ей было жалко достояние, столь щедро выделенное отцом. Но её жизнерадостный характер справился с напастями, и она стала деятельнее, чем прежде. Она отправила гонцов на поиски императора и проводила в путь Родиона искать Милицу. Она познакомилась, поговорила со всеми придворными, кто её окружал в Бамберге, и искала тех, кому могла довериться, если не считать патера Мейнгера. А так только появился в городе архиепископ Гартвиг, потянулась к нему. Он заслужил её доверие тем, что не дал маркграфу Экберту разорить Кведлинбургский монастырь. Слышала она от епископа Рупрехта, что до междоусобицы императора с маркграфом Экбертом Гартвиг вовсе не входил в число доверенных лиц императора, а был его противником. Что побудило Гартвига перейти из враждебного стана в ряды Генриха, ведомо было Гартвигу и Всевышнему. Но этого императрице оказалось достаточно, чтобы однажды попросить у архиепископа совета и даже исповедаться.
Гартвиг — умница и проницательный человек — рассмотрел в исповедуемой не просто молоденькую первую даму империи, но личность незаурядную, с особым, не распознанным никем славянским характером. Знал Гартвиг, что такие личности способны на достойные дела и подвиги. Он верил, что не только честолюбие толкнуло её стать императрицей, но нечто большее. В чём это «большее» заключалось, Гартвиг пока не пытался разгадать. Он был уверен, что сие выявит лишь время.
Выслушав исповедь молодой женщины, Гартвиг счёл, что и сам должен быть с нею откровенным. Он рассчитывал, что из его откровения императрица почерпнёт много полезного и придёт час, когда они вместе выступят против коварного властителя.
Был конец ноября. Погода уже испортилась, с Балтийского моря дули холодные ветры, принося затяжные дожди. Жизнь в Бамберге замерла, и в такие дни было особо приятно посидеть у жарко пылающего камина и побеседовать с любезным тебе человеком. Так было и в ранний ненастный вечер четверга, когда Евпраксия и Гартвиг сидели вдвоём у огня. Евпраксия давно хотела узнать прошлую жизнь супруга. И она попросила о том архиепископа:
— Ваше преосвященство, поведайте минулое Генриха, если вам будет сие угодно.
Гартвиг согласился не тотчас. Он подумал, что рассказ может иметь чреватые последствия. Однако пришёл к мысли о том, что государыне нужно знать прошлую жизнь государя. Тогда ей будет легче понять нынешний образ жизни непредсказуемого человека. Свой рассказ о Генрихе архиепископ начал издалека:
— Ваш супруг родился в благодатную и мирную пору нашего отечества. То был год одна тысяча пятидесятый. Увы, получив по наследству от отца или от деда страстный характер, он попал в самые неблагоприятные условия воспитания. Ему не было и шести лет, когда он после смерти отца был возведён на престол императора. Сначала управление государством находилось в руках благочестивой вдовствующей императрицы Агнесы. Но она оказалась в своей чрезмерной любви к сыну слишком снисходительной и не могла справиться с необузданным нравом сына. К двенадцати годам Генриха терпение матери иссякло. Она взмолилась, епископат услышал её мольбу и освободил от маленького деспота. Воспитание государя поручили архиепископу Анно Кёльнскому. Но спустя два года он бежал от тирании Генриха и попросил у архиереев милости уйти в монастырь. К Анно проявили снисходительность, и за воспитание взялся архиепископ Адельбер Бременский. — Гартвиг осенил себя крестом. — Господи, да не упомяну Твоего имени всуе. Но правда превыше всего. Чтобы удержать свою власть, данную положением воспитателя, он подлаживался к юному государю и позволял ему делать всё, что тот пожелает. — Гартвиг замолчал и смотрел внимательно на Евпраксию, думал о чём-то своём.
— И что же дальше? — побудила она Гартвига.
— Предоставленный сам себе, Генрих скоро уже не выносил малейших возражений его воле со стороны государственных мужей, чинил всё по своему разумению. Да это ещё было сносно. Но пришёл час, когда страстный темперамент увлёк юного государя на путь безудержного распутства. Он встал во главе секты николаитов, где процветали все извращения плоти. Его матушка Агнеса не выдержала буйных выходок сына и удалилась в италийский монастырь. Епископат отстранил Адельберта от воспитания императора. И как только ему исполнилось шестнадцать лет, его поспешили оженить на обручённой с ним ещё отцом Генрихом Третьим маркграфине Берте Сузской. Она приходилась сестрой матери вашего покойного супруга Гедвиге. О, какие надежды тогда питала Германия. Все ждали, что супружество упорядочит жизнь Генриха. Но мягкая, скорее нежная, чем слабохарактерная Берта, не сумела повлиять на своего супруга. И года не прошло, как он вернулся в свою развратную сету и забыл о молодой жене. Он продолжал распутничать и даже насильничать над невинными девицами. — Гартвиг вновь замолчал, похоже, что шептал молитву, прислушивался к порывам ветра, к шуму дождя, и было очевидно, что у него нет желания продолжать рассказ. — Простите, государыня, я утомил вас.
Но Евпраксия тронула Гартвига за рукав сутаны, попросила:
— Продолжайте, святой отец, это так важно...
— Но мне бы хотелось пощадить ваши уши и ваше целомудрие. Какое насилие он совершил над своей благочестивой женой Бертой. И вот уже совсем недавно над родной сестрой, близкой вам аббатисой Адельгейдой. Только сатана в образе человека может отважиться на подобное надругательство...
Слушая Гартвига, Евпраксия почувствовала, как по её лицу текут слёзы, а в груди разлился холод ужаса.
— И он ещё жив, этот изверг! — воскликнула она. — Боже милостивый, ты должен покарать его!
— Час придёт, и Всевышний воздаст ему по делам его. Пока же ничто не может образумить злочинца. Было уже два съезда князей, где он осуждался за злодеяния. Сказывали, что у саксонских князей в углах звенело, когда очевидцы перечислили распутные преступления императора. Тогда впервые раздались голоса и требования о низложении Генриха. И был найден достойный преемник престола — герцог Рудольф Швабский. Но на тех съездах оказалось много сторонников Генриха. Тот же маркграф Деди Саксонский заявил, что всё порочащее императора — чистейшая ложь, невероятные преувеличения и злые сплетни. Тогда он сохранил престол. Но мною лет Германию потрясали восстания северных городов. Они одного порядка: подданные не хотели иметь императора насильника и растленца. Конечно же и церковь не осталась в стороне. Папа римский Григорий Седьмой несколько раз обличал императора публично и даже отлучал его от церкви. Но вы уже знаете, чем кончилось противостояние Генриха и Григория. И что будет дальше, мне неведомо...
Гартвиг поднялся от камина, подошёл к столу, выпил вина. Евпраксия ждала продолжения рассказа, но архиепископ неожиданно повернул речь в другое русло:
— В тот раз, когда я впервые увидел вас в Кведлинбурге и ещё не знал, что вы невеста императора, мне показалось, что вы прошли мимо меня в царской короне. И я подумал, что если бы Всевышний внял моему озарению, то судьба многострадальной Германии повернулась бы в лучшую сторону. Я тогда помолился Господу Богу. И теперь могу сказать, что моя молитва дошла до Господа. Дошла! И вы не переживайте, что пока у вас всё плохо получается. Перемены наступят, они придут скоро, и Германия будет процветать. Так процветает Франция. Господи, да ведь ваша тётушка, королева Франции Анна, совершила столько чудес, встав рядом с королём Генрихом Первым. Вы с Липой от одного корня. И это знамение Божие! Знамение! Ноне Франция при сыне Анны, короле Филиппе, живёт в благоденствии. Это сильная и мирная держава, с которой считается вся Европа. Сегодня признаюсь вам, что надежда привела меня в ваш стан вскоре же, как узнал о вашем обручении. Надежда, и ничто больше. Я ваш покорный слуга и единомышленник, я готов вам служить не щадя живота, государыня! Целую на том крест! — И Гартвиг, больше отважный воин, чем священнослужитель, поцеловал свой нагрудный крест.
В покое воцарилась тишина. Яркий огонь камина озарял возбуждённые лица Гартвига и Евпраксии. Он продолжал ходить. Она сидела сосредоточенная. Ей было над чем подумать после этой чистосердечной исповеди. Человек набрался мужества раскрыть ей истинное лицо её супруга. И за это он заслуживал уважения. Ведь он подвергал себя смертельной опасности. И надо думать, знал о том, открывая императрице преступления Генриха Однако Евпраксия знала себя. Ни словом, ни намёком, ни при каких обстоятельствах она не выдаст доверившегося ей человека. Помнила она матушкины заповеди: человек, открывший тайны сердца и души, есть истинный и падежный твой друг. И она сказала:
— Спасибо, святой отец, что вы открыли мне глаза. Я ведь уже многое знаю о моём супруге. Теперь я вооружена. И потому мне очень важно узнать о моей тётушке, королеве Анне. Расскажите как-нибудь о ней.
— Я исполню вашу простату, дочь моя. А теперь разрешите откланяться.
Евпраксия встала. Она протянула руку к руке архиепископа и поцеловала её. Он же взаимно приложился к её руке.
Наступила зима. Монотонно проходили дни, потому как в замке Бамберг жили без страстей. Из внешнего мира сюда не долетали никакие новости. Гонец, которого послала Евпраксия на поиски супруга, канул словно в воду, а прошло уже более трёх недель. Не вернулся и Родион, уехавший на поиски Милицы. Потом он расскажет, что из Кёльна отправился в Кведлинбург. Ему показалось, что там, в своём домике, и скрывалась Милица от невзгод. Евпраксия этой зимой часто ходила в храм, молилась Богу. В храме она иной раз встречалась с Гартвигом, и он провожал её в замок, всякий раз в такие дни до позднего вечера не покидал его стен. Так он однажды исполнил просьбу Евпраксии и рассказал о её тётушке, королеве Франции Анне.
В январские и февральские вечера излюбленное место для беседы оставалось у камина. Рассказывая, Гартвиг любил пригубить вина, и в такие минуты Евпраксия отмечала, что он всё-таки больше рыцарь, нежели священнослужитель.
— Вот я говорю вам, что к концу столетия пашу империю ждут великие трясения, — заводил беседу Гартвиг. — И они уже начали проявляться. В Италии на королевский престол избран сын Генриха, Конрад. И это вопреки воле отца. Итальянцы боготворят этого достойного юношу — он ведь ваш ровесник — и будут защищать и трон, и обретённую свободу словно львы.
— Неужели отец пойдёт на сына войной? — спросила Евпраксия.
На этот вопрос Гартвиг ответил не сразу. У него была новость, которую в Бамберг принесли паломники из Мюнхена. Они рассказывали Гартвигу, что в этом испокон воинствующем епископстве собирается войско. И Гартвиг знал, что эта весть причинит императрице боль. В войско шли только наёмники. И нанимал их император за деньги Евпраксии. Гартвиг счёл, что об этом ей не следует говорить, ибо сказанное прозвучало бы ответом на её болезненный вопрос.
— Мы будем молить Бога, чтобы Он вразумил своего наместника не поднимать руку на сына. Пока такого у нас не случалось.
Евпраксия вспомнила родовое предание, когда Владимир Святой хотел было идти войной на своего сына Ярослава. Всевышний того не допустил. К тому же и кара была сверх меры.
— Нам должно просить Спасителя о том, — согласилась она с Гартвигом.
Однако божественные силы не могли пробиться в погрязшей в пороках душе императора. Он спешно, не жалея капитала супруги, готовил Германию к войне с Италией. В январе девяностого года он собрал рейхстаг и требовал лишить Конрада короны. Рейхстаг принял такое решение.
Но в Италии оно не возымело силы и не произвело никакого впечатления. В эти же дни в Италии началось мощное народное движение против Генриха. Император был напуган тем, что против него поднялась самая могущественная графиня Италии Матильда Тосканская. По настоянию папы Урбана II она обвенчалась с сыном не менее могущественного герцога империи Вольфа Швабского. Их объединённые военные силы могли противостоять любому войску императора, какое он способен был собрать.
Графиня Матильда всегда относилась к Генриху враждебно и презирала его. Теперь она угрожала ему и требовала освободить герцогство Швабия от императорского войска. Действовал против императора и папа Урбан II. Через своих легатов ему удалось объединить враждебные императору силы в Северной Германии, где много было сторонников короля Конрада, который был родом из Саксонии.
Враждебные стороны наращивали силы до марта девяностого года. А в первых числах весеннего месяца по Южной Германии затрубили фанфары и Генрих IV со своим маршалом Ульрихом Эйхштейном повели войско в Италию. К апрелю остались позади горные перевалы Альп, пешие и конные колонны успешно продвигались к Вероне, потому как воинство папы Урбана II и рыцари Матильды Тосканской пока не оказывали серьёзного сопротивления. С противником справлялись арьергарды Генриха, и 10 апреля он вошёл в Верону, расположился в своём королевском замке и дал отдохнуть воинам. Генрих мог позволить себе не спешить с развитием военных действий. Деньги для содержания войска у него были. За спиной, в Германии пока царила мирная жизнь. Потому он решил дать волю рыцарям и меченосцам поохотиться за резвыми итальянскими девицами и сам с приближёнными развлекался так, как никто другой не умел делать. Начались сборища секты николаитов.
Здесь, в Вероне, под тёплым небом Италии, император впервые за семь месяцев со дня бегства из Бамберга, вспомнил о молодой супруге. И в Бамберг из Вероны эстафетой помчались гонцы.
За минувшее время жизнь в Бамберге протекала по-прежнему в дрёме. Ещё в феврале уехал по своим делам архиепископ Гартвиг и Евпраксия лишилась наставника и приятного собеседника. Он присутствовал на заседании рейхстага и, к удивлению фаворита императора маркграфа Деди Саксонского, голосовал против низложения короля Конрада.
Не было в Бамберге и Родиона. После поездки в Кведлинбург он отправился искать Милицу под Кёльном. Сказали ему, что она может быть в замке Фрицляр. Замок Родион нашёл, но Милицы там не оказалось. И всё же судьба Милицы вскоре стала известна. Поздней весной в Бамберге появились купцы, и они привезли слух о том, что в старице на Рейне, выше Кёльна, рыбаки нашли тело утопленницы. Опознать её было уже невозможно, но сказывали купцы, что с шеи у неё было снято ожерелье из мелких жемчужин и золотой крестик православной веры.
Родион в эти дни только что вернулся в Бамберг и ещё не пришёл в себя после долгих странствий. Но, прослышав о том, что рассказали купцы, в третий раз покинул Бамберг. Евпраксии он сказал:
— Её ожерельице-то, матушка, и крестик — тоже. Так ты уж меня прости, отправлюсь предать тело Милицы по нашему обиходу.
Евпраксия вместе с Родионом попечалилась, поплакала над горькой судьбой любимой Милицы, дала Родиону денег, коня и отпустила его.
— Поезжай с Богом, а как вернёшься, панихиду отслужим, — сказала она верному гридню.
А через несколько дней после отъезда Родиона в Бамберге появился гонец с повелением Евпраксии ехать в Верону. Она попыталась расспросить гонца, какая неволя заставила государя уехать в италийские земли, но гонец того не знал, потому как был в эстафете последним и Вероны в глаза не видывал. Одно он знал твёрдо: государыне велено покинуть Бамберг немедленно.
— Государь император ждёт вас с нетерпением, ваше величество, — доложил гонец.
Императрица не нашла нужным дать ответ посланцу. Ей было неведомо, когда она покинет Бамберг, потому как без Родиона она и шагу не сделает в сторону Вероны.
— Иди отдыхай, воин. Ты исполнил свой долг с честью, — сказала Евпраксия гонцу и велела слуге отвести его в караульное помещение.
Родион вернулся лишь через полмесяца, почерневший от горя. В кожаной кишени на груди он привёз ожерелье и крестик, кои выкупил у рыбаков. По просьбе Евпраксии епископ Рупрехт отслужил в замковой капелле панихиду по убиенной рабе Божьей Милице двадцати трёх лет от роду. В час панихиды Евпраксия и Родион ещё больше ощутили сиротство на чужой земле. Вновь они рвались душой и телом на Русь и пока не знали, что в это время в Гамбурге, в замке княгини Оды, уже многие дни пребывали посланцы из Киева, которые привезли Евпраксии ценные свадебные дары, золота и серебра от батюшки с матушкой. Не ведая того, императрица вновь становилась богатой.
Однако пока что убожество её жизни было очевидным. Она покидала Бамберг так, как не выезжали в дальний путь даже бедные бароны. Её дормез, на облучке которого сидел Родион, сопровождали ещё два экипажа с придворными и три возка с прислугой и запасами пищи. Замыкала поезд седмица воинов. В храме по воле Рупрехта звонил проводной колокол. За крепостную стену, проводить отъезжающих вышли десятка два горожан. Лица их были печальны.
Дальнее путешествие оживило угнетённое состояние Евпраксии. В пути она не спешила, никого не погоняла, в каждом городке останавливалась на сутки или двое. Постепенно весть о том, что по германской земле едет императрица, опередила её, и ей устраивали многолюдные встречи. Евпраксия не чуждалась этих встреч. Более того, она пересела в открытый экипаж. И горожане, крестьяне, видя свою юную государыню, в восторге кричали ей здравицы. Она иной раз выходила из экипажа и шла по улицам в толпе горожан, останавливалась с ними на площадях, стояла на богослужениях в церквях. Так было до самых Альп, в которые Евпраксия въехала с восторгом и холодком страха в груди. Она иной раз кричала в испуге:
— Родиоша, не гони лошадок, под гору улетим!
Родион уже пришёл в себя от потери жены, отогрелся под южным солнцем. Ему было приятно видеть, как радуется окружающему миру его любезная госпожа. «Госпожа, что мне для тебя сделать, — восклицал он в душе, — чтобы ты не знала печали!» Чувство привязанности, которое он испытывал к Милице, стало уже рассасываться, и он не считал себя виновным в том, что её век оказался коротким и с горестным концом. Иногда ему хотелось разгадать, что же с нею произошло за те несколько месяцев, как она исчезла. Позже, однако, он узнает трагедию этой преданной ему россиянки. А пока он всё чаще поглядывал на свою госпожу и улыбался, когда она радовалась окружающим её горам, долинам, селениям горцев, когда любовалась вольными орлами, кои парили выше гор. И в нём вновь подспудно запылал тлеющий больше двух лет огонь любви к Евпраксии. Сильный духом Родион таил этот огонь умело, и ни одна искра его не обожгла Евпраксию. Он чтил её как императрицу, но не больше.
Окрепшие в дальнем путешествии и воспрянувшие духом летней порой Евпраксия и Родион приехали наконец в Верону. И тут бодрое настроение Евпраксии стало угасать. В груди появился холод страха. Да, она испугалась предстоящей встречи с супругом, потому как узнала о нём столько ужасного, грязного, что не смогла бы посмотреть открыто и спокойно в его наглые глаза. Она даже укорила Гартвига, который внёс в её душу смятение.
И надо же было проявиться милости судьбы, когда оказалось, что Генриха в Вероне нет. Он только что уехал в Падую на переговоры с властителями Венеции. Маршал Ульрих Эйхштейн, встретивший императрицу, сказал ей:
— Увы, не могу вас порадовать, ваше величество: император отсутствует и вернётся в Верону не раньше как через неделю.
Евпраксия благосклонно улыбнулась и ответила, что ей, конечно, досадно. Однако она порадовалась в душе, что встреча с Генрихом отодвинулась. Сказала маршалу:
— Это хорошо, что государя нет. Я приду в себя от дальней дороги.
В Вероне всё было великолепно. Императорский двор располагался в роскошном дворце, окружённом мощными крепостными стенами, возведёнными ещё во времена расцвета древней Римской империи. Евпраксия едва успела осмотреться в своих просторных и светлых покоях, обставленных богатой и искусно сделанной мебелью, со своей опочивальней, обитой парчовыми тканями, как ей пришлось порадоваться встрече с полюбившимся ей человеком. Камер-дама, приставленная к ней, доложила, что её хотел бы видеть архиепископ Гартвиг. Евпраксия тотчас покинула спальню и встретила пастыря в Розовой гостиной.
— Ваше величество, государыня, я радуюсь вашему приезду, — улыбаясь, произнёс Гартвиг и осенил её крестом. — Я вижу на вашем лице радость жизни. Слава богу!
— Да меня оживило путешествие. А вы давно в Вероне?
— С того дня, как в Бамберг ушла эстафета. Мы ждали вас раньше, но сомневались из-за дороги.
— У судьбы свои капризы... — Евпраксия попросила сесть Гартвига к столику с вазой цветов и сама села. — Нy, расскажите, как тут дела, воюет ли государь?
— Пока в замирении. Да вот что скажет совет в Падуе. Пойдут венецианцы за императором — быть замирению порушенным.
— И тогда война?
— Да, к великому сожалению. Вновь тысячи убитых, искалеченных, разорённые города, селения. А ради чего?
— Но вы-то знаете, ради чего?
— Знаю, но в том утешения не нахожу. Всё лишь ради удовлетворения своих амбиций, властолюбия и других низменных побуждений.
Императрица задумалась: как можно только ради этого убивать неповинных людей, рушить мирный уклад жизни, сиротить детей, оставлять вдовами тысячи женщин? Мысли накатывались волнами, и все были тяжёлые, мрачные, сдавливали грудь, затрудняли дыхание. И Евпраксия скорее крикнула, чем спросила:
— Но что же делать? Что? Вы, святой отец, должны знать, как остановить безумца!
— Эх, матушка императрица, я-то знаю, но силы мои ничтожны, и голос мой слаб, и чужак я среди придворных. Потому мне не дано просветлить разум падшего в грехах. К тебе я взываю. Тебе, истинной государыне, дано Господом Богом повлиять на супруга.
— Но как?
— Прежде всего его надо лишить средств для ведения войны. И ты должна потребовать, чтобы он вернул тебе твоё состояние. Нет у него права тратить деньги на разбойные дела.
— Не знаю, не знаю. Моё состояние теперь и ему принадлежит. Он более четырёх лет охотился за моим приданым и так просто от него не откажется. И в Бамберге он держал меня не случайно.
— Если не вернёт мирно, обратись к князьям рейхстага. Они тебя поддержат, в этом я уверен.
Евпраксия не хотела публичной тяжбы с императором.
— Ох, святой отец, не решусь я на открытый суд с государем.
— Сознаю, государыня, сие трудно. Но за тебя встанут сыновья Генриха. Вместе с его сыновьями поднимутся города и многие земли Германии и не дадут развязать войну Восстания городов уже не раз останавливали императора от роковых шагов.
— Дайте поду мать, святой отец. Вы вовлекаете меня в открытую борьбу, а я к ней не готова. Я слабая женщина.
— Нет, дочь моя, ты не слабая, а сильная. И стоит тебе ощутить поддержку единомышленников, как силы твои прирастут и ты победишь. Потому хочу сказать последнее: те, кого я назову из придворных, - это люди преданные нам с вами. Да, да, мне удалось собрать в Вероне многих из тех, кто служил императрице Берте.
— И что же, даже мой камергер барон Шульц из тех. кто служил Берте?
— Это славный человек. Доверяйтесь ему во всём. Он любил матушку Берту.
Постепенно Гартвигу удалось убедить императрицу в необходимости сохранить в державе мир. Он вновь напомнил ей о том, в какой сложной обстановке боролась за прекращение междоусобных войн её тётушка королева Франции. Однако то, что сделала королева во Франции, императрице Евпраксии не удалось повторить в Германии. Здесь всё шло иным путём, более сложным и трагическим.
Император вернулся из Падуи через неделю. За минувшие дни Евпраксия осмотрелась во дворе, вошла в свою роль, узнала своих приближённых, которых представлял ей архиепископ Гартвиг. Ещё она познакомилась с Вероной, которая покорила её красотой и величием древних памятников. Не приходилось ей ранее видеть подобных городов, где каждый камень дышал тысячелетнем. В поездке по городу Евпраксию сопровождал ставший её «рыцарем» Гартвиг. Он знал историю Вероны и с удовольствием рассказывал о её прошлом.
— Никому не известно, когда здесь возник юрод. Но вот эта величественная триумфальная арка воздвигнута девять, веков назад во времена императора Гаменомы. Тогда Верона процветала, торговала со всем Средиземноморьем. А спустя три века её опустошили гунны, которых привёл из Каспийских степей Аттила. Он ведь и по вашей земле прошёл с разбоем.
Гартвиг показал Евпраксии церковь Санта-Мария, возведённую в VI веке, а рядом с нею полвека назад построенный пышный мраморный мавзолей.
— Это творение графов делла Скала Сан-Зено, — пояснил Гартвиг.
Он отвёз императрицу к древнему римскому амфитеатру времён великого императора Антония.
— Здесь, в этой мраморной чаше, смотрели бои гладиаторов и представления лицедеев двадцать две тысячи зрителей. Поистине Верона была великим городом,- восторгался Гартвиг. И тут же с грустью заметил: — Но скоро она может превратиться в руины, как при гуннах.
Дни, проведённые в прогулках по Вероне, останутся в памяти Евпраксии самыми светлыми за более чем двухлетнее пребывание в древнем городе.
Длинная череда бедствий уже приближалась к россиянке. И ей потребуются всё её мужество и стойкость, дабы выстоять в невзгодах, — всё, что было заложено в ней матушкой княгиней Анной.
Появление императора в Вероне осталось не замеченным горожанами. Он въехал в город глубокой ночью. Лишь на дворе перед дворцом всё пришло в движение, когда появились двести рыцарей, меченосцев и лучников. Император ещё дремал в карете, а маркграф Деди уже влетел во дворец, поднял всех на ноги и распорядился, чтобы в трапезной накрыли столы, подали вина, закусок.
— Император голоден, — заявил Деди камергеру. Евпраксия проснулась от шума, подошла к распахнутому окну, посмотрела на двор и поняла, что приехал Генрих. Она надела мантию, но спальни не покинула. У неё не было желания встречать супруга, а на сердце было тревожно от томившего её предчувствия.
Когда двор опустел, она вернулась в постель и пошаталась уснуть. Сон не шёл. Она думала о Генрихе и боялась встречи с ним. Он был ей чужой, как никогда ранее. И, как понимала Евпраксия, она ему — тоже. Никакие государственные дела не заставили бы порядочного человека бросить свою супругу более чем на полгода сразу же после свадьбы. Да и нужна ли она ему теперь? Мог же он, появившись во дворце, подняться к ней, повиниться, что заставил так долго ждать, спросить, наконец, что заставило задержаться в Бамберге. Ничего этого не случилось.
Однако Генрих всё-таки пришёл в спальню Евпраксии, когда ночь была на исходе и наступало утро. Его шатало, но Евпраксия поняла, что не от усталости, а оттого, что был пьян. Генрих склонился над нею и потянулся рукою к лицу. Она отшатнулась.
— Не трогай меня, государь, — сказала она.
— Полно, государыня! Я же твой супруг!
— Нет, мы чужие. Ты уже отдалился от меня.
— Ты жена перед Богом, — сказал твёрдо Генрих и стал раздеваться. — И тебе должно принять меня.
— Тому не быть, государь. Ты пьян и мне неприятен.
— Пресвятая Дева Мария, с каких это пор я стал пугалом? — воскликнул Генрих и жёстко добавил: — И если ты не примешь меня по доброй воле, возьму тебя силой.
— Ты этого не сделаешь!
— Сделаю. Мне так угодно. — Сбросив с себя верхнюю одежду, он повалился на ложе и достал Евпраксию рукой, притянул к себе.
Она попыталась вырваться, но рука у Генриха оказалась железной, и он привлёк Евпраксию к груди.
— Моя королева, разве ты забыла, что я тебя люблю? — Он дышал ей в лицо винным перегаром, а его губы тянулись к её губам.
Евпраксия упёрлась руками в грудь Генриха и пыталась оттолкнуть его от себя. Но и это ей не удалось. Он подавлял её своей силой. И вот уже его губы приникли к её губам, он целовал неистово, жадно, ей было больно. Удерживая Евпраксию одной рукой, другой он срывал с неё ночную сорочку. Евпраксия билась в руках Генриха, кричала, умоляла. Он остался неумолим. Подмяв её под себя, он встал над нею на колени, сорвал свою рубашку и прочее, готов был овладеть ею как насильник. Но россиянка не дала ему над собой надругаться. Она крикнула: «Прости меня, Господи!» И мелькнула белая молния, ударила Генриха слева в шею, и он, словно подрубленное дерево, упал на ложе, придавив её ногами. Евпраксия выбралась из-под него, накинула на обнажённое тело мантию, побежала к двери. Но в последнее мгновение остановилась, подумала, что не должна давать придворным повода для пересудов, прошла к креслу, стоящему у камина, и спряталась в него, словно дитя, сжавшись комочком. Она и уснула в кресле. А проснувшись, увидела, что Генрих спит, оделась и покинула спальню. Она миновала залы дворца, вышла из него и направилась в капеллу. Все, кто её видел, подумали, что императрица намерена помолиться. Да так оно и было.
Глава восемнадцатая ПОД БЕЛОЙ ВУАЛЬЮ
Несколько дней после злополучной ночи Евпраксия и Генрих не встречались наедине. Лишь во время трапезы она, как и положено супруге, сидела рядом с Генрихом. Вела себя подобающе, и придворные видели в ней величие, достойное императрицы. Они удивлялись и любовались её византийским нарядом, с завистью смотрели на драгоценные украшения — на всё то, чего недоставало придворным дамам Генриха. Искушённые вельможи больше присматривались к её облику, к её лицу. Оно было не просто красиво, а величественно. Евпраксия держала свою голову на лебединой шее гордо и смотрела на придворных большими серыми глазами не то чтобы с превосходством, но с мягким задором. Обмениваясь короткими фразами с Генрихом, она улыбалась, показывая ровные, жемчужной белизны зубы. И никому в голову не могла прийти мысль о том, что их императрица несчастна, что она не только не любит супруга, но презирает его. И придёт время, когда она с улыбкой скажет ему в лицо всё, что думает о нём, каким его видит и рже знает.
Сам Генрих сидел рядом с супругой в недоумении. Прошло несколько дней после возвращения из Падуи, а у него в голове плавал туман, и в этом тумане исчезло всё, что произошло в ту ночь, когда он бражничал, а позже отправился в спальню Евпраксии. Всё выветрилось, улетучилось до того самого часа, как он проснулся в её постели. И теперь сто одолевал мучительный вопрос. Если он оказался в её постели, то приняла ли она его? По её лицу, но её поведению он не мог что-либо угадать. Наконец туман как бы рассеялся, и он сообразил, что для выяснения их отношений он должен вновь явиться в её спальню, будучи притом в трезвом состоянии. Как-то во время вечерней трапезы его поразил непринуждённый разговор Адельгейды с черноглазым красавцем графом Паоло Кинелли, и Генрих заподозрил супругу в неверности, в лицемерстве и подумал даже о том, что в ту ночь, когда он явился в её спальню, она учинила над ним некую каверзу. И он счёл делом чести всё это выяснить. Но по сути его «дело чести» всегда граничило с бесчестьем. Он понимал, что, изъяв у супруги её достояние и не попытавшись дать объяснение своему поступку и то, на какие нужды он тратил её деньги, Генрих поступал в её глазах как мошенник, но сам о себе он так не думал. И все из близкого его окружения считали его поступок достойным уважения: он тратил капитал супруги во благо державы. Были среди придворных и другого мнения вельможи. Они негодовали, когда узнали, каким путём император добыл сокровища из замка Птицелова. Но такие молчали из страха прогневать императора.
Евпраксия не испугалась гнева государя. И опять-таки во время трапезы громко и чётко потребовала у Генриха ответа на действия в замке Птицелова.
— Государь, у меня не представится такого удобного случая спросить вас, — начала Евпраксия, — почему вы без моей воли овладели моим достоянием, которое хранилось в замке Старого короля? И на что вы тратите мои деньги? Если на подготовку к войне, то я возражаю.
Изворотливый Генрих опешил. Императрица бросала ему вызов и сделала это публично. Он увидел, как у придворных вытянулись от удивления лица. И они с нетерпением ждали, как император расплатится за «пощёчину». Но были и такие, кто с состраданием посмотрел на императрицу. И зачем только затеяла свару, считали они, ведь их императору ничего не стоит выпутаться из раскинутой сети.
Так и было. Он встал и весело, непринуждённо сказал:
— Полно, моя государыня, ты просто забыла наш разговор в Бамберге. Правда, мы вели его в пылу любовного угара, в нашу первую брачную ночь. Но я тысячу раз прощаю твою забывчивость, моя любезная государыня. Женщинам сие присуще. — Он улыбался и раскланивался дамам, сидящим за столом. — Что касается того, куда идут наши капиталы, так я не думаю, что ты возразишь. — И Генрих обратился к вельможам: — Господа, подтвердите, что все деньги до последней монеты мы тратим на защиту поруганной изменником Конрадом чести великой Германии. И знайте же, государыня, — начал с пафосом Генрих, — мы затратим всё наше достояние до последнего столового кубка, — он поднял золотой кубок, — но поставим на колени Италию и её короля! Вот вам мой ответ, любезная государыня. — И Генрих с улыбкой поклонился Евпраксии.
Однако в его глазах она увидела презрение и торжество: ну как я вас отхлестал?! То ли ещё будет! — говорило его лицо. И Евпраксия знала, что Генрих не напрасно носит прозвище Рыжебородый Сатир, ничто не может загнать его в угол. Но она не сдалась и с весёлой улыбкой ударила его наотмашь:
— Увы, государь, не было у нас разговора, как не было и первой брачной ночи. Вы ведь в ту ночь бражничали. А я подумала тогда, что уже не способны на продолжение рода. — И чтобы не дать Генриху вновь уязвлять себя, Евпраксия с улыбкой всем поклонилась и покинула залу.
Многие вельможи встали из-за стола следом за императрицей. И среди них оказался архиепископ Гартвиг. И это болезненней, чем «пощёчина » супруги, привело императора в яростный гнев. Он, однако, сдержался и громко сказал:
— Господа, трапеза ещё не завершена, император ещё за столом. И я должен сообщить вам нечто важное.
Случилось короткое замешательство, но все, кроме Гартвига, вернулись к столу. Однако «важного» император ничего не сказал. Выпив кубок вина, он пошептался о чём-то с маркграфом Деди и засмеялся:
— Так и получается, господа, что я должен вам доказать, что я всё-таки рыцарь. Вы понимаете, о чём я говорю. И верьте: я не посрамлю себя!
Горячий граф Паоло Кинелли крикнул: «Браво, император!» Но прочие вельможи не проявили никак своих чувств. Они торопливо пили вино, закусывали, набивая рты мясом вепря или оленя. Все сознавали, что государь теряет своё достоинство.
В Веронском дворце жизнь потеряла покой. Придворные лишь делали вид, то они едины. На самом деле уже противостояли друг другу два лагеря: те, кто служил императрице Берте, встали на сторону Евпраксии, все прочие, в большинстве своём николаиты, сплотились близ императора. Он ещё надеялся сломить сопротивление Евпраксии, наладить мир, но шёл к этому путём, который был обречён на неудачу. Евпраксия не терпела насилия, а у него не было для неё ласковых слов, нежного обращения. Он считал, что по законам супружества она должна принадлежать ему, даже если пылает к супругу ненавистью. Как-то ночью он вновь вломился в спальню Евпраксии. Но её предупредила камер-дама, и она скрылась из покоя, провела ночь у кастелянши.
Генрих бушевал. Он раскидал постель супруги и кричал, что она ему изменяет, что убежала к любовнику. Хронисты той поры утверждали, что Генрих ревновал Евпраксию к сыну Конраду, что однажды в час «исступлённого издевательства над женой он предложил Конраду войти к ней. И на отказ последнего осквернить ложе отца Генрих стал утверждать, что тот вовсе не его сын, а одного швабского князя». Домысел хронистов остался на их совести, потому как в те годы Конрад пребывал уже во вражде с отцом и находился во Флоренции. Но в том заявлении хронистов есть и доля правды. На другую ночь Генрих пришёл в спальню супруги в сопровождении Деди Саксонского.
— Вот любуйся, достойный маркграф, её и нынче нет в постели. Но я прихвачу её в час прелюбодейства.
Евпраксия в эти дни и ночи переживала мучительный разлад в себе. Она понимала, что так продолжаться не может. И она не в состоянии куда-то каждую ночь убегать, прятаться. С другой стороны, она боялась над собой насилия, ведь не могла же она каждый раз метать в него молнии, лишать чувств. И она с ужасом думала, что ежели Генрих сломит её, то она понесёт дитя. И приходило отчаяние, она до стенания в душе кричала, что не желает иметь дитя от больного и ненавистного ей человека. И однажды ночью отчаяние привело её к Родиону. Она знала, что Родион её по-прежнему любил, но в силу благородства души скрывал это. И в её сердце ещё не угасла девическая любовь к нему. Войдя в покой, она разбудила его и, когда он пришёл в себя от изумления, попросила у него как милости:
— Друг мой любезный, выслушай меня и не осуждай. — И она со слезами на глазах рассказала ему о своей боли, о том, что ей грозит и чего она от него просит.
Если бы не слёзы Евпраксии, Родион устоял бы перед соблазном прижать к груди женщину, которую любил с юношеской поры. Но Евпраксия плакала и умоляла его принята её не осуждая, избавить от страха понести дитя от злочинца. И он отважился. «Господи милосердный, прости меня за греховное деяние! Прости!» — и прижал к груди страдалицу. Но осмотрительный воин взял над страстным порывом верх. Он поднялся с ложа и закрыл на засов дверь. Вернувшись к любимой, он вновь прижал её к себе, прикоснулся к губам и утонул в страсти. И, забыв все горести, изгнав из душ какие-либо сомнения и муки совести, они отдались друг другу так, как если бы встретились муж и жена после долгой разлуки. В близости они почувствовали голод неутолённой плоти и никак не могли насытиться. Нет, рядом с собой Родион уже не видел страдалицы, перед ним была возлюбленная, страстная, затейливая, весёлая и сладкая — слаще самой жизни. Уходила Евпраксия под утро. Она крепко поцеловала Родиона и сказала:
— Спасибо, родимый, будет у нас с тобой своя кровинушка.
Следующую ночь Евпраксия провела у себя. Но Генрих не вломился к ней. И день прошёл мирно. Вечером императрица гуляла с придворными по саду, любовалась с высокого холма городом и рекой Эч, которая протекала через Верону. Вернулась во дворец уже в темноте, поужинала и ушла в свои покои, легла в постель. Но сон не шёл. Она думала о том, что ежели император придёт, то она встретит его так, как он не мог ожидать. Евпраксия помнила о скором повороте в своей судьбе. Ночь, проведённая с Родионом, сверкала над нею неугасимой звездой.
Генрих пришёл в полночь. Он возник без шума и, увидев её в постели, приблизился крадучись. И вовсё было неожиданно для него, когда Евпраксия негромко сказала:
— Государь, ты не крадись. Я жду тебя.
У него ослабели ноги, но он собрался с духом и одолел последние шаги, сел на ложе.
— Слава бету, наконец-то мы встречаемся в согласии. — На этот раз он был трезв. — Как долго я ждал этого часа. — Признание было искренним. Ведь тяга к Евпраксии у него зародилась давно, ещё в Мейсене, когда она напугала его верблюдами. Генрих склонился над Евпраксией.
— Раздевайся и ложись, — сказала она обыденно, словно в сотый раз.
— Да, да, я мигом. — Когда он снимал одежду, руки его тряслись. Почему-то он вспомнил о возрасте. Ему шёл сорок первый год, она была моложе на двадцать лет. Но едва он прикоснулся к молодому и прекрасному телу, как силы заиграли в нём. — Ты чудо, моя государыня! — воскликнул он. — Ты волшебница.
Евпраксия обняла его, но от поцелуя отказалась. Он и не настаивал, а торопился доказать своё мужское достоинство и уже искал её лоно, дабы пронзить его могучим пестом. Она же всё крепче прижимала его к себе, руки её нежно гуляли по позвоночнику, но замерли на костреце и нажали там какую-то точку. Генрих ничего не ощутил и не понял, но почувствовал, как на лице выступил холодный пот, его пест сник, и он лежал на супруге беспомощным старцем.
— Ну что же ты, мой государь, возьми меня, не томи. — И руки Евпраксии продолжали нежно гладить его спину.
Генрих не ответил. Он отвалился от Евпраксии и затих. Лежал неподвижно и долго, потом потянулся рукой к своему песту и тут же отдёрнул руку, будто прикоснулся к коровьему соску. Спустя час он вроде бы пришёл в себя, потянулся к Евпраксии и принял её ласку, возбудился, и рука легла на её лоно и сам он, посмеиваясь над своей первой неудачей, воспрянул духом, возвысился над супругой. Но всё повторилось, как и в первый раз. После лёгкой прогулки ладоней Евпраксии по его спине он вновь ощупал себя стариком. Ничего не понимая, он собрался бежать с постели, но Евпраксия удержала его:
— Ты успокойся, государь. Ты думаешь только о том, как доказать свою мужскую доблесть. Но думай о другом, о том, что я желанна тебе.
Они ещё полежали рядом, но уже молча. Евпраксии ни о чём не хотелось говорить. Но у неё пробудилась жалость. Это ведь она заставила его страдать. У Генриха и было о чём спросить, но он побаивался, понимал причину своей боязни. «Л что, если и третий раз случится сей позор?» — спрашивал он себя. И это мучило Генриха и рождало в нём не те мысли и желания, которые внушала ему супруга, а противоположные. Он думал о том, как уязвить Евпраксию и причинить ей боль.
Однако Генрих не заметил, как забыл о своих мрачных замыслах. Нежные руки Евпраксии сотворили чудо, потому как она отважилась принять его. Её ладони гуляли по его телу легко, вольно, они сняли усталость, прах и старческую слабость. Генрих ощутил в себе силу молодости. И Евпраксия приняла его. Лишь губы прятала и не открывала глава, пока были в близости. Он отдохнул всего несколько минут и вновь потянулся к ней, взял её руки, положил себе на тело, дабы испытать от их прикосновения наслаждение. Евпраксия остановила его:
— Остудись, государь. Ты вволю насытился тем, чего добивался.
Но Генрих потерял над собою власть и выплеснул то, что долго хранил в душе:
— Моя государыня, я не забыл, в чём ты меня упрекнула при всех вельможах. Испытай же мою удаль до конца. Я готов тешить тебя до утра. — И он бесцеремонно попытался овладеть Евпраксией.
«Господи, как ты жесток и бессердечен», — подумала она. Но, стиснув зубы, сделала вид, что принимает его. Он уже ярился, уже достал её лоно. Но в третий раз он не заметил, как искусные руки супруги коснулись его спины. Они сделали своё дело быстро и безукоризненно. Генрих сник в одно мгновение, упал на ложе и в яростном исступлении принялся бить кулаками изголовницу. Евпраксия встала, оделась и, когда Генрих утихомирился, холодно сказала:
— Уходи, государь, и никогда больше не появляйся в моей опочивальне, ежели не желаешь себе худа.
Он ещё ощущал в себе ярость, и при ярком свете Евпраксия увидела бы, как в его глазах плещется ненависть. Ушёл он сгорбившись и озираясь.
После этой ночи Генрих забыл о Евпраксии. Даже за трапезой они сидели словно чужие. Так продолжалось несколько дней. А потом император и его близкие придворные в сопровождении отряда воинов уехали в Кремоне. Жизнь во дворце приутихла, все отдыхали. Лишь молодой барон Людвиг, появившийся недавно в окружении императора, проявлял чрезмерную живость в среде придворных. Он был красив и сладкоречив, умел занятно рассказывать забавные истории, особенно про монахов. Его никогда не видели в обществе девушек, но никого из дам он не обходил своим вниманием. И вдруг он проявил необычайный интерес к императрице. При виде Евпраксии он преображался, смотрел на неё влюблёнными глазами. Он всё время искал повод угодить императрице. Когда она гуляла по саду, он сопровождал её в числе придворных графинь и баронесс. Евпраксии он надоел, и она хотела попросить архиепископа Гартвига вразумить барона. Но пока искали священнослужителя, Людвиг сумел объясниться императрице в любви.
В древней Лейбницкой хронике за 1090 год по этому поводу было записано так: «В лето 1089 года император женился на дочери короля Российского. Желая испытать целомудрие Адельгейды, она же Агнеса, Генрих велел одному барону искать её любви. Она не хотела слушать прелестника, наконец, докуками его выведенная из терпения, назначила ему место и время для тайного свидания. Вместо барона явился сам император, ночью, в потёмках, и вместо любовницы встретил дюжих слуг, переодетых в женское платье, которые, исполняя приказ императрицы, высекли его без милосердия, как оскорбителя её чести. В мнимом бароне, узнав своего мужа, Агнеса сказала: и для чего ты шёл к законной супруге в виде прелюбодея? Раздражённый Генрих, считая себя обманутым, казнил барона, а целомудренную Агнесу обругал с гнусной жестокостью, нагую показал молодым людям, велев им тоже раздеться».
Нет нужды оспаривать хронистов. Почти всё так и было, лишь за некоторыми особенностями. После жестоких побоев, которые достались Генриху от слуг, которые в своё время служили императрице Берте, он месяц пролежал в постели. Евпраксия, в чём-то признавая свою вину, проводила многие часы близ постели больного. И была между супругами видимость примирения. Евпраксия повинилась в том, что согласилась на свидание, Генрих признал себя виновным в том, что подослал Людвига. Нет, он не казнил его, но прогнал в Швабию.
Придя в себя после побоев, Генрих вновь стал часто отлучаться из Вероны и однажды даже позвал с собою Евпраксию.
— Моя государыня, вельможи Падуи приглашают пас на званую трапезу в честь святого Бонифация, их покровителя. Надеюсь, мы не откажем им и порадуем их своим присутствием.
Евпраксия не хотела нарушать хрупкий мир и дала своё согласие, хотя и предупредила:
— Смотри, государь, как бы не было нам с тобой худо.
— Я надеюсь, мы не огорчим друг друга, — заверил Генрих, — завтра и покинем Верону.
Утром на другой день, когда Евпраксия вышла из дворца к экипажу, она не увидела ни одного человека из своего окружения. Появился император, и она спросила его:
— Ваше величество, чем не угодили тебе мои приближённые и слуги? И где Родион?
— Полно, государыня, я доволен и Родионом, и всеми другими. Просто я привык путешествовать в окружении преданных нам с тобой людей. — Он помог Евпраксии сесть в карету, сам поднялся в седло, и кортеж выехал в Падую.
В душе Генрих ликовал. Он придумал эту поездку, пока лежал с побоями, ощущая старческую слабость в теле, а в голове — бушующий вулкан. Его мысли в те ночи были озарены багровым пламенем. Они, как ему казалось, были значительны, и осуществление сулило ему, в чём он был твёрдо убеждён, отаву на века. Да, да, будут забыты все его прочие деяния. Уйдёт в забвение его вечная борьба с папами римскими, забудут о его вражде с сыновьями. О восстаниях горожан и вечно недовольных князей будут вспоминать с недоумением: чего им там мирно не жилось. А вот ассамблея николаитов в Падуе не будет забыта никогда, ежели он проведёт её так, как задумал. В том Генрих был уверен, потому что подобного праздника и торжества николаитов не было со времён Николая Иерусалимского, основателя ордена.
По воле императора в Падую уже съехались николаиты со всех земель Германии и Италии. Они привезли с собой жён, подружек и вольных девиц. И уже через день Падуя должна была увидеть факельное шествие по ночным улицам. По желанию императора николаиты будут только в набедренных повязках, препоясанные мечами. Их жёны и спутницы в таких же лёгких одеяниях, лишь лепестки роз на грудях. И будут речи, здравицы, тосты, море вина, танцы, игры, поединки — пир на всю ночь. И общность жён. Рыцарь — выбирай любую и наслаждайся. Мечтая об ассамблее, Генрих видел среди прочих жён и свою Адельгейду. Ей надо отдать должное, она прекрасна без облачения, лишь бы был на талии золотой поясок. Она как лесная лань, легка и грациозна и покорит всех мужей, которые увидят её. О, как он будет торжествовать, когда рыцари — один, два, три — будут справлять с нею, нет, над нею, природное торжество своей плоти. Её повезут на колеснице с высоким помостом. Шестёрка белых лошадей, украшенных султанами, будет идти медленно, величественно, а на помосте в это время исполнится извечный ритуал николаитов. Евпраксия смутится, может проявить норов, но сила солому ломит, и ей не дано будет нарушить гармонию праздника. Он всё это увидит и позже утешит тем, что поведает, как подобного ритуала не избежала и императрица Берта. С такими замыслами император въехал в благочестивую Падую в полдень следующего дня. Но всё, о чём он думал в пути, что вынашивал по ночам педелями, чему восторгался, словно видел живые картины ассамблеи, — всё это оказалось тщетой.
Падуя встретила императора враждебно. Благочестивые католики прознали, с какой целью съезжались в город молодые вельможи из многих земель. Просвещённые горожане знали, что представляют собой николаиты. Они дружно вышли на городские улицы, на площади и встретили императора грозными криками: «Нет николаитам! Вон из Падуи развратное племя!» Улица, по которой кортеж ехал к дворцу, где останавливался Генрих, была завалена хламом, сухими деревьями, ветвями. Воины императора, угрожая мечами и копьями, прогнали горожан, расчистили путь.
Генрих был смущён такой встречей. Многие николаиты испугались ярости и гнева горожан, которые бросали в них камни, палки, гнилые яблоки. Император понял, что ни о каком шествии и думать нечего. Евпраксия взирала на горожан Падуи с удовольствием, ей понравились горячие италийцы, и она пожелала заметаться среди них, кричать вместе с ними: «Николаиты, развратное племя, вон из Падуи!»
Упрямый Генрих недолго пребывал в унынии. Лишь только разместились во дворце, он позвал маркграфа Деди и графа Паоло, сказал им:
— Мы возьмём своё, любезные. Нынче быть пированию, и соберёмся мы для этого во дворце святого Бонифация из Марси. Семь лет он попирал николаитов, но мы попляшем над его прахом.
— Мой государь, падуанцы не позволят того, — заметил граф Паоло.
— Мы их не будем спрашивать. Крепостные стены и наши воины защитят нас. Идите, Деди и Паоло, распорядитесь, чтобы к полуночи всё было готово.
Маркграф Деди и граф Паоло считали волю императора превыше всего. Взяв с собой отряд воинов и множество слуг, они отправились во дворец Бонифация, который возвышался на холме за крепостными стенами Падуи. Построенный пять веков назад из белого камня, он был красив и прочен. Но последние полвека в нём никто не обитал, и он превратился в реликвию и музей. Городские власти держали там несколько хранителей и стражей, дабы всё содержалось в первозданном виде. Император Генрих, поселившись в Вероне, взял дворцы в Падуе в своё владение и теперь распоряжался ими по праву сильного. И маркграф Деди с графом Паоло появились на холме с правами победителей. Их воины вторглись во дворец, собрали всех стражей и хранителей, людей большей частью пожилого возраста, и отвели их в старую казарму, поставили у дверей стражей. Вскоре прибыли повозки с бочками вина, с тушами животных, другими съестными припасами и слуги принялись накрывать столы в залах, готовить всё к началу ассамблеи. В положенный час всё было готово, Деди вернулся к императору, доложил:
— Мой государь, ваша воля исполнена. Избранным можно отправляться во дворец Бонифация.
— Спасибо, мой верный Деди. Иди же, распорядись ими.
Близко к полуночи на дворе и во дворце Бонифация было полно молодых вельмож. Они собирались в шумные компании и с нетерпением ждали императора и императрицу. Их появление встретили бурно. И кто-то крикнул здравицу Евпраксии. Она была в шёлковом сиреневом платье с горностаевой накидкой на плечах и под белой вуалью. И это оказалось для встречающих императорскую чету так неожиданно, что воцарилась тишина, которая потом взорвалась бурей восторга. Белая вуаль притягивала к императрице взоры мужчин и женщин. В то же время всем хотелось увидеть её прекрасное лицо, излучающие искры глаза. Евпраксия была смущена такой встречей. Ведь она никогда не бывала на подобных торжествах, лишь слышала, что ассамблеи императора всегда великолепны. И во дворце Бонифация она не увидела чего-либо вызывающего неприятное впечатление. При свете факелов зал казался волшебным. На ассамблее не было принято сидеть за столами, лишь для императора и императрицы поставили кресла. Прочие же вельможи и дамы пили вино и закусывали стоя.
Всё шло пристойно. Лишь Евпраксии показалось, что собравшиеся пьют много вина. Да так и было. И вскоре уже звенели громкие и задорные голоса, шла похвальба, кто больше выпьет. В дальнем от Евпраксии и Генриха конце залы кто-то скинул камзол, рубашку, обнажив себя по пояс. Лиха беда начало. Вот уже и другие рыцари последовали примеру смельчака. Генрих захлопал в ладоши, и это было неким сигналом для всех. Упившиеся николаиты вели себя всё более вольно и скоро, забыв о всяком приличии, сбрасывали с себя все одежды, лишь оставаясь препоясанными мечами. За рыцарями последовали их дамы, вольные девицы, оставляя на себе пояски с ниспадающими вниз от живота кистями.
Евпраксия, лишь пригубившая вина, вначале удивилась происходящему, а потом в ней вспыхнуло негодование. Она взяла Генриха за руку и гневно спросила:
— Государь, как ты мог допустить такой позор? Я не желаю того видеть! — И она хотела покинуть застолье.
— Полно, государыня, — удерживая её за руку, сказал Генрих. — Тебе надо только привыкнуть к тому и самой принять участие в веселье. Я освобождаю тебя от стыда и смущения — И он попытался снять с её лица вуаль.
Евпраксия отшатнулась от него:
— Не прикасайся ко мне, государь! Тому, чего ты добиваешься, не быть! Я покидаю ваш вертеп!
Но Генрих сорвал-таки с неё вуаль, привлёк к себе и с жадностью поцеловал, а руки его уже потянулись к шитью.
— Не дичись, государыня. Мне лучше знать, чему бывать, а чему не бывать. Да пусть будет тебе ведомо: ты приглашена на ассамблею николаитов и то, что ты видишь, — наш священный ритуал. И потому сними свою одежду сама, не заставляй применять силу.
Вокруг Евпраксии и Генриха собрались пар десять обнажённых. И две девицы принялись разоблачать императора. А к Евпраксии подошёл граф Паоло Кинелли из Милана, похожий на Аполлона. Он прошептал:
— Внемли гласу Спасителя: ты прекрасна и тебе нечего стыдиться наготы. Тебе надо избрать рыцаря, и в том твоё спасение от позора.
Но Евпраксия отвергла совет графа Паоло. Она попыталась вырваться из окружения. Ей это не удалось. Всюду она видела плотную стену обнажённых тел. Бросившись к императору, она крикнула:
— Умоляю Богом, отпусти меня!
— Нет! Ты пройдёшь очищение от греха. Поднявшая руку на императора будет его рабыней! — И Генрих позвал рыцаря: — Хельмут, раздень её. Пусть все увидят, как прекрасна моя рабыня-дикарка.
К Евпраксии приблизился граф Паоло, намереваясь сам раздеть её, но подошёл великан Хельмут и лёгким движением руки далеко оттолкнул графа. Хельмут навис над Евпраксией, и в мгновение ока всё, что было на ней, оказалось у её ног. Завершив своё дело, Хельмут скрестил на волосатой груди руки и, довольный собой, любовался прекрасным телом россиянки. Та же закрыла лицо руками и стояла перед восторженной, гудящей толпой николаитов беспомощная и оскорблённая.
Однако растерянность продолжалась недолго. Возник образ матушки, она услышала её голос: «Ты сильнее всех. Не щади никого, кто попытается над тобой надругаться». Евпраксия вспомнила, как день за днём копила силу, училась быть меткой и стремительной. И, призвав на помощь Господа Бога, Евпраксия крутнулась на одной ноге, и белая молния с наконечником из двух перстов ударила Хельмута ниже правого уха. И он, продолжая улыбаться, рухнул на пол. Все, кто видел, как упал Хельмут, ахнули и замерли. Евпраксия же повернулась к императору и пошла на него. Вновь крутнулась волчком, вновь сверкнула белая молния. Но она не достигла Генриха. В малую долю мгновения его заслонил собой толстяк Деди и принял удар на себя. Евпраксия и здесь не промахнулась — Деди тоже, словно куль с мякиной, рухнул на пол. Императрица не утихомирилась, ей во что бы то ни стало нужно было достать и наказать Генриха. Но перед ним расступились николаиты и укрыли его. В этот миг императора озарило. Он вспомнил, что подобной «молнией» тоже был поражён, находясь в постели супруги. Он в ярости крикнул своим телохранителям:
— Эй, бароны, возьмите её! Она ваша!
Пять обнажённых баронов с мечами в руках окружили Евпраксию, и один из них, спрятав меч в ножны, схватил её со спины. Хватка была железной, и императрица, как ни пыталась, не могла вырваться.
— Матушка, спаси! — крикнула Евпраксия по-русски.
И и это мгновение барон ослабил хватку и Евпраксия ужом выскользнула из его объятий. Он пошатался её схватить вновь. Но это ему не удалось. Взметнулась рука россиянки, и её удар пришёлся барону в « гнездо жизни». Барон рухнул на пол. На императрицу бросился другой разъярённый барон. Евпраксия отскочила в сторону, барон пролетел мимо, а пока разворачивался, молния уже сверкнула и вонзилась в левый висок барона. Он упал замертво. И всех, кто приближался к Евпраксии, обуял животный страх.
— Ведьма! Это ведьма! крикнул один из баронов и побежал к дверям.
Другие пятились от Евпраксии, которая со сверкающими гневом глазами приготовилась к прыжку. Она видела перед собой только своего супруга. Но рядом с Евпраксией вновь возник могучий Дед и. Он крикнул:
— Смотри, государь, она убила баронов. И впрямь она ведьма!
— Ах, вот оно что! — воскликнул Генрих. — Ну ежели она ведьма, то пылать ей на костре!
— Если она ведьма, то пусть испепелит мои меч! - крикнул барон Мальфред и двинулся на Евпраксию с обнажённым мечом.
Она остановилась, подняла руку и крикнула:
— Император Генрих, помни, что за моей спиной великая Русь! - И двинулась грудью на острый меч барона Мальфреда.
Император словно протрезвел. Повелительно крикнул барону:
— Мальфред, прочь от императрицы! — И когда барон отпрянул от неё, Генрих сказал маркграфу Деди: — Любезный, позаботься об Адельгейде, матери моего будущего наследника. Сейчас же отправь её в Верону. И чтобы волос с головы не упал у неё в пути.
— Государь, лучше поручи это маркграфу Людигеру Удо. Он исполнит твою волю лучше, чем я.
— Выдумки это! Не гневи меня!
— Хорошо, государь, я исполню твою волю. Но её надо одеть.
— Вот и распорядись.
Деди позвал вольных девиц. Они одели Евпраксию в то, что попалось им под руки. И Деди увёл императрицу из зала. На дворе он распорядился подать экипаж. Евпраксию посадили в него, приставили двух служанок. Деди выделил десять воинов для сопровождения, и экипаж отбыл в Верону.
Шабаш продолжался до утра, пока хмель и усталость не свалили с ног участников. В полдень император был разбужен камергером бароном Кристофером. И первое, что заметил проснувшийся Генрих, — это страх в глазах камергера.
— Что случилось, Кристофер? — спросил он.
— Ваше величество, дворец окружён горожанами. Их несколько тысяч.
— Что им нужно?
— Им известно всё, что случилось ночью с императрицей. И они требуют казни баронов, надругавшихся над нею. Требуют, чтобы вы немедленно покинули Падую.
Генрих тоже ощутил страх. Но новый вопрос его камергеру показал, что император владеет собой.
— Кто нас предал? Найти предателя и повесить немедленно!
— Но ваше величество... — попытался возразить камергер.
— Иди и передай мою волю маркграфу Деди и маркграфу Людигеру Удо. Да вынеси горожанам тела убитых баронов. Скажи им, что это и есть насильники и они наказаны.
Позже на вселенском суде над императором, где соберутся четыре тысячи священнослужителей и тридцать тысяч католиков из многих городов Германии и Италии, голос свидетелей из Падуи будет самым громким и доказательным в преступной виновности императора Генриха. А хронисты тех времён отметят, что подобного дьявольскою преступления человечество не знало. И добавят: «Не дай бог, чтобы случилось подобное впредь». Современник Генриха IV и Адельгейды-Евпраксии, поэт Доницо, написал о императрице, претерпевшей адские страдания, поэму. Но даже он, богослов и правдолюбец, не собрался с духом осквернить слух верующих словом о злодеяниях императора. «Пусть об этом умолчит стих, чтобы не слишком развратиться», — сказал он.
Из Падуи император Генрих уезжал с позором, под улюлюканье и свист тысячной толпы.
Глава девятнадцатая ВОЙНА
Неудавшаяся ассамблея николаитов в Падуе вывела Генриха из равновесия. Появившись в Вероне, он метал молнии в своих приближённых. Но первый гнев его пал на голову безвинной Евпраксии. Он был уверен, что она предала его в Падуе. Как это она сумела сделать, Генрих не пытался разобраться и повелел ночью тайно вынести её из дворца и заточить в старом Веронском замке. Среди придворных Генрих велел распустить слух том, что императрица заболела.
В эти же дни ранней осени девяностого года в Верону прибыл небольшой караван из Гамбурга. Вместе с купцами пришёл отряд россов во главе с сотским Тихоном. Он привёз родительские дары, которые почти полгода хранились в замке княгини Оды. Тихона принял сам император. Он был озадачен и понимал, что никак не должен допустить встречи Тихона с Евпраксией и Родионом. Как всегда, император сумел выйти из трудного положения. Он велел взять Родиона под стражу и замкнуть его в каземате подвалов дворца. А при встрече с сотским сказал:
— Тебе, росс Тихон, придётся недели две подождать государыню, ибо она уехала к снятым местам в Венецию. — Но это была лишь часть задуманного обмана.
— Хорошо, государь, мы подождём, — согласился Тихон.
Но уже на другой день в казарму к русичам пришёл маркграф Деди и сказал Тихону, что тот должен немедленно ехать следом за Евпраксией.
— Примчал от неё гонец с вестью о том, что через неделю она уйдёт в плавание до Сицилии и дальше вокруг Италии до Рима, чтобы поклониться папе римскому. Ежели не успеете встретиться с нею, ждать вам до весны.
— Нет нам резону прохлаждаться здесь. Пойдём вдогон, — согласился сотский.
В тот же день Тихон оставил трёх воинов охранять добро Евпраксии и собрался в дорогу. Маркграф Деди дал ему проводника, и семь русичей отправились в путь, который придумал для них изворотливый Генрих. Сам он окунулся в заботы о войне. Для неё, как он считал, наступило благодатное время: убран с полей урожай, пополнилось за лето стадо скота, и войско голодать не будет. Он распорядился, чтобы отряды завербованных воинов были собраны под Вероной. Лишь только сборы закончились, затрубили боевые фанфары. Император и его маршалы встали во главе двадцати двух тысяч воинов и повели их на юг Италии. Так началась война, которая завершилась позорным поражением императора Генриха.
Но в начале войны удачи были на его стороне. Правда, доставались они с большим трудом. Уже через два дня войско Генриха подошло к крепости Матуа и осадило её. Над башней крепости развевалось розово-голубое знамя с тремя лилиями всем известной в Италии могущественной графини Матильды Тосканской. Защищал её граф Вельф-старший, тесть Матильды. У него в замке было чуть больше тысячи воинов. Однако крепость сама по себе казалась неприступной. И когда Генрих отправил своих воинов на штурм, защитники отразили его и нанесли войску Генриха большой урон. Этих штурмов было ещё шесть, но ни один не имел успеха. Если воинам Генриха удавалось подняться на стены, их уничтожали там. За два месяца осады Генрих потерял около двух тысяч воинов убитыми. И тогда он прекратил бессмысленные попытки и решил взять защитников крепости измором, обрекая их на голодную смерть. Оставив под Мантуа три тысячи лучников, Генрих повёл войска дальше на юг Италии. Но на его пути стояла ещё более мощная крепость — Минервиа. Генрих не отважился штурмовать её стены. Окружив её, он разрушил водоводы, снабжающие крепость водой, и обрёк её защитников умирать от жажды. Генрих терпеливо ждал победы. И она пришла. Первыми капитулировали защитники крепости Мантуа. 10 апреля 1091 года умирающие от голода воины, исполняя волю графа Вельфа, выкинули над крепостью белый флаг. А спустя месяц, за который над крепостью Минервиа не выпало ни капли дождя, умирающие от жажды защитники сдались на милость победителя. Император проявил милосердие. Отобрав у простых воинов оружие, он отпустил их по домам. Два графа-военачальника и три десятка рыцарей были взяты в плен и отправлены в Верону.
Победа окрылила Генриха, подняла его дух. Дабы закрепить её, он послал гонцов в Равенну к антипапе Клименту III и велел ему собирать какое только сможет войско и вести его на Рим. Сам послал маршала Ульриха с пятью тысячами конных воинов на помощь Клименту. Антипапе сопутствовала удача. Без боев и стычек с противником он привёл войско под Рим, лишь только подошёл Ульрих. Он овладел священным городом и заставил папу римского Урбана II бежать на юг Италии в землю Апулия. Из Рима Климент послал гонцов в крепость Миневриа с уведомлением о том, что папа Урбан низложен и что он ждёт императора на торжественную мессу. Генрих, однако, не исполнил просьбы своего верного друга. Пришла весть из Вероны о том, что императрица Адельгейда вот-вот должна разрешиться от бремени и принести дитя. Генрих не обрадовался этому известию. Он попытался вычислить срок родов и понять, кому принадлежало право отцовства: или боярину Родиону, или ему. И после долгих размышлений пришёл к выводу, что всё-таки он является отцом ребёнка. Оставив военные заботы, он поспешил с верным Деди и небольшим отрядом воинов в Верону. Примчали ко времени. На другой день по его приезде Евпраксия в муках и страданиях родила сына. Ей не показали новорождённого. Повивальная мамка, приняв дитя, тотчас унесла его из покоя, передала в надёжные руки, и он был унесён из замка в императорский дворец. Евпраксия в эти часы пребывала в беспамятстве. Она так и не узнала, что у неё родился мальчик.
Генрих недолго пробыл в Вероне. Покидая город, он взял с собой новорождённого, приставив к нему кормилице и мамок. Ещё, посоветовавшись с маркграфом Деди, он убрал охрану от даров, присланных Евпраксии, и завладел ими. Налюбовавшись вдоволь ценными мехами и шелками, перебрав-прощупав все золотые монеты, Генрих, восторгаясь своей щедростью, торжественно сказал:
— Любезный маркграф, я сегодня послужу Всевышнему, как никогда ранее.
— И в чём проявится твоя служба, ваше величество?
— По дороге в Минервиа мы заедем в два монастыря и сделаем щедрые дары. Пусть монахи служат Господу за наше здравие.
— Я всегда знал, государь, что вы щедрый человек, — Деди был безразличен к золоту, к деньгам, к тому же ему приносили хорошие доходы его имения, где бауэры выращивали виноград. Однако спросил: — Но в честь кого вы сделаете вклады? Не во имя же здравствующей императрицы?
— Полно, любезный, в честь врагов не делают вклады. — С того часа, как слуги Евпраксии побили его по воле императрицы, он считал её злейшим врагом. — И ты, пожалуйста, не упоминай при мне её имени.
Император сдержал своё слово. Из достояния Евпраксии он сделал вклады в монастыри в память о своей первой супруге императрице Берте. Он счёл это благородным поступком и гордился собой.
Завершив посещение монастырей, Генрих поскакал к войску в крепость Минервиа. Он был полон боевого задора и верил, что скоро добьётся полной победы над Матильдой Тосканской, войдёт во Флоренцию и сбросит с трона своего сына Конрада, вновь возьмёт под своё знамя Италию.
Прибыв к войску и собрав рыцарей, Генрих сказал:
— Друзья, вы знаете вкус победы, вы хорошо отдохнули. Теперь нам пора занести кулак над Тосканой и проучить дерзкую Матильду, дабы не выслушала против истинных рыцарей. Мы сломаем хребет врагу! — воскликнул одушевлённый Генрих.
Маршал Ульрих Эйхштейн, только что вернувшийся из похода на Рим, попытался выяснить планы Генриха.
— Ваше величество, вы куда намерены двинуть войско?
— Конечно же, на крепость Монтевеглио. Там главные силы графини Матильды Тосканской.
— Я бы не рисковал, — заявил Ульрих. — Граф Вельф-старший, которому удалось убежать от нас, помнит, почему потерпел неудачу в крепости Мантуа. И того не допустит в Монтевеглио. К тому же там главные силы графини Тосканской. Нам не сломить их.
— Полно, граф! Мы ведь тоже не те, что были год назад, — отозвался Генрих и спросил своего фаворита: — А ты как думаешь, маркграф, надаём тосканцам по шее?
— Я полагаюсь на ваш ум и воинский талант, ваше величество, — ответил льстиво Деди.
— Вот так-то, маршал, идти нам на Матильду! — завершил «военный совет» император.
И войско Генриха выступило к Монтевеглио. Путь им преградила полноводная река По. Переправились через неё лишь спустя сутки. А вдали уже виднелась грозная крепость. Она поднималась на высоком холме, её грозные башни подпирали небо. У бывалых воинов по спине пробежал озноб, страх леденил души. Они помнили, как штурмовали стены крепости Мантуа и сколько там положили жизней зазря. Многие ворчали:
— Не по зубам нам этот орех!
Но к крепости войско Генриха подошло без помех: не потревожили в пути летучие отряды тосканцев, не летели стрелы со стен. И крепость была окружена в первый же день. На этот раз Генрих, как и под Мантуа, отважился взять крепость штурмом. Хотелось ему доказать графине Матильде свою силу. Были построены десятки высоченных лестниц. Ночной порой их подтянули к стенам, а с рассветом сотни меченосцев вскинули их и пошли на штурм. Лучники прикрывали штурмующих стрелами. Но не дремали и осаждённые. На головы воинов Генриха посыпались камни, летели брёвна, лилась смола. Сотни воинов падали в ров на камни и там разбивались. Те, кто сумел-таки подняться на стены, погибали в схватках с защитниками, отважными и ловкими тосканцами.
За два дня Генрих предпринял три штурма, но все они потерпели неудачу. Император пришёл в ярость, сам готов, был идти на штурм. Потеряв всякую надежду овладеть крепостью штурмом, он приказал войску готовиться к длительной осаде, как это было под крепостями Мантуа и Минервиа.
Граф Вельф-старший, поднявшись на крепостную стену и увидев вдали императора, крикнул ему:
— Это тебе, Рыжебородый, сидеть в осаде от неудач, кои грядут. — У Вельфа было основание так говорить, потому как его гарнизону не грозила смерть от голода или жажды. В крепости был запас провианта на два года и неисчерпаемый источник родниковой воды в колодцах.
И миновала весна, наступило и отступило лето, пришла осень, а осаждающие всё ещё стояли бивуаком под стенами крепости и, похоже, испытывали голод. Генрих потерял голову и распорядился отбирать хлеб и скот у мирного населения, потому как все драгоценности Евпраксии были проданы и деньги ушли на покупку провианта. Графы и бароны выкачали из своих имений всё, что можно было съесть, и теперь ворчали на императора за то, он что развязал безрассудную войну.
Той порой Матильда Тосканская вместе с мужем графом Вельфом-младшим собрала достаточное войско, чтобы разбить Генриха. Когда Генриху доложили, что войско Матильды приближается, он выслал навстречу ей маркграфов Деди и Людигера Удо просить у неё мира. Он обещал снять осаду с Монтевеглио и просил взаимно лишь о том, чтобы Матильда и кардиналы признали Климента III папой римским.
Графиня Матильда остановила своё войско и собрала кардиналов на конклав, спросила их, готовы ли они признать Климента папой римским. Они равнодушно сказали: нет. После совета с кардиналами Матильда отказалась от каких-либо переговоров с императором. Она потребовала от него снять осаду с Монтевеглио, освободить крепости Мантуа и Минервиа, а также покинуть пределы Италии. Матильда предупредила Генриха, что если он не выполнит её требований, то у неё достаточно сил, чтобы выгнать его. «И помни, государь, на тебя пойдут войной два твоих сына. Такова их воля», — предупредила в послании графиня Тосканская.
Генрих взбесился. «Как она смеет натравливать на меня сыновей?! » — кричал он. И приказал снять осаду с Монтевеглио, двинул своё голодное обозлённое войско на Каноссу. Эта крепость была главным опорным бастионом графини Матильды, но имела менее мощные едены, нежели те, о которые Генрих расшибал свой нос. Он это помнил и надеялся овладеть Каноссой с ходу. Воины везли с собой штурмовые лестницы, тараны для разрушения ворот и избыток ярости за неудачу под Монтевеглио.
Однако прозорливая Матильда Тосканская, как настоящий полководец, не допустила штурма Каноссы. Она опередила Генриха, вывела войско из крепости и заняла выгодные позиции. К её войску присоединилось тысячи полторы воинов короля Конрада. Он всё-таки был вынужден выступить против отца. Объединённое войско напало на воинов Генриха, когда они были на марте. Всё случилось так неожиданно, что войско Генриха, забыв о каком-либо сопротивлении, пустилось в бегство. И никакие угрозы Генриха и его военачальников не помогли остановить бегущих в панике воинов. Они бросали снаряжение, повозки, даже оружие, лишь бы убежать подальше от наступающей конной лавины, выкатившейся из-за холмов.
Вскоре на войско Генриха обрушилась новая беда. Граф Вельф-старший вывел своих воинов из Монтевеглио и налетел на отступающих с фланга. Паника в стане Генриха усилилась. Воины, которые успели добежать до реки По, бросали оружие, снимали доспехи и вплавь одолевали водную преграду. Но сотни их тонули в быстрых водах реки.
Уцелевшие около пятнадцати тысяч воинов, перебравшись за реку, пришли в себя и были готовы отразить преследование Матильды. Но Генрих уже не хотел воевать. В глубине души он надеялся на то, что графиня Матильда оставит его в покое и не двинет своё войско за водный рубеж. Однако отважная графиня и за рекой не оставила Генриха в покое. Во главе нескольких тысяч конных воинов она вместе со своим мужем графом Вельфом-младшим перешла на левый берег По и после ночного отдыха вновь двинула свои колонны на ослабевшее войско Генриха.
Облачённая в рыцарские доспехи, графиня Матильда сама шла впереди большого отряда рыцарей. Ей хотелось сойтись с императором на поле сечи. Однако Генрих видел преимущество войска графини над своим и счёл за лучшее вновь отступать. Матильде Тосканской оставалось лишь преследовать врага. И были освобождены крепости Минерва и Мантуа. Только здесь графиня остановила своё войско. Это случилось в ноябре, когда наступила пора затяжных дождей.
Однако Матильда не оставила в покое императора. Её люди следили за каждым его шагом. Она-то уж знала его коварство. К тому же у этой молодой женщины были основания оставаться непримиримой к императору. Она, как и графиня Гедвига, была в родстве по отцовской линии с покойной императрицей Бертой. Смерть Берты она вменяла в вину Генриху. И теперь, когда волевой и сильной графине Тосканской представилась возможность уничтожить Рыжебородого Сатира, она этой возможности не хотела упускать.
Отступление Генриха продолжалось. Но он почему-то уходил не в Верону, а отступал левым берегом По к крепости Павии. Во время отступления он понял, что если ему не будет оказана военная помощь князей Германии, то ему не избежать полного разгрома. Его гонцы помчались во все земли державы, лежащие севернее Альп. Но к кому бы они ни обращались с повелением императора, никто из сильных князей, герцогов и графов не отозвался на его державный призыв. Более того, к нему дошли вести о том, что князья Северной Германии уже собирают войско, дабы идти на помощь Матильде Тосканской.
Император Генрих оказался на огнедышащем вулкане. Папа римский Урбан II призвал на помощь себе отважных епископов. Они собрали «Божью рать» и освободили папский престол в Риме от Климента III. В это же время горожане Милана, находясь за спиной Генриха, вооружили тысячи молодых людей и дали им напутствие идти воевать за Конрада, истинного короля Италии.
В этой обстановке Генрих был вынужден искать помощи в других державах. И прежде всего подумал о соседней Венгрии, с королём которой Ладисловом был дружен. Однако встречу послов Генриха с королём Венгрии сорвал граф Вельф-старший. Он словно предвидел шаг и Генриха на восток и поставил на пути его послов заслон.
В Павии Генрих нашёл убежище с остатками войска в мощном замке графов Эппенштейнов. Осмотрев крепостные стены замка, он удовлетворённо сказал маркграфу Деди:
— Здесь мы можем сидеть и три года, ежели позаботимся о запасах провианта. Время у нас ещё есть, и ты должен заняться этим, любезный.
— Но ваше величество, у меня нет денег, — возразил Деди.
— Я дам тебе последние драгоценности из нашего достояния, а ты найди купцов. Господи, спасибо дарам Адельгейды. Как бы мы без них...
Странным могло показаться одно: ни графиня Матильда, ни граф Вельф-старший не мешали императору делать запасы продуктов. А он скупал в округе всё, что могло пойти в пищу, и увозил в закрома и погреба замка.
Когда Вельф-старший спросил у Матильды:
— Что это мы, любезная дочь, даём волю Рыжебородому набивать закрома и погреба зерном и копчениями? Пора и остановить его.
— Батюшка, пусть закупает сколько душа желает. Он в том замке будет обложен до конца дней своих, как медведь в берлоге.
Однако, когда продукты были запасены, Генрих перехитрил охотников. Он разобрал в крепости деревянные строения, на реке связал из брёвен плоты — всё в ночное время — и с полусотней преданных воинов и вельмож тёмной декабрьской ночью бежал из Павии по реке вниз, к Вероне. Через два дня он был уже близ крепости Мантуа, покинул плоты и пешком добрался до Вероны, где всё ещё находился его двор.
Узнав о побеге императора из Павии, графиня Матильда обозвала себя «глупой бабой» и, забыв об оставшихся в крепости воинах императора, повела своё войско к Вероне. Туда же она попросила идти тестя и короля Конрада, дабы они приняли участие в окружении и осаде Вероны.
В исторических хрониках о той зиме сказано, что «Рождество этого года Генрих проводит в Вероне вместе со своим папой Климентом III. Здесь он в сущности был заперт, не имея возможности ни идти в Италию, ни возвратиться в Германию».
Глава двадцатая ПОБЕГ ИЗ ВЕРОНЫ
Прошло около полутора лет, как Евпраксия была заточена в Веронском замке, что находился неподалёку от Королевского дворца, в котором располагался император. Одна из крепостных стен замка нависала над скалистым берегом реки Эч. Но окружающей местности из окон замка не было видно. И Евпраксия не представляла, где её заточили. А вся прислуга, все стражи, исполняя волю императора, очень мало разговаривали с узницей и на её вопросы о том, где она находится, не отвечали. Лишь молодая баронесса Гретхен из Швабии, приставленная к Евпраксии неизвестно для чего, со временем прониклась к опальной императрице жалостью, разговаривала с ней, когда вблизи не было других обитателей замка.
Жизнь императрицы протекала однообразно и тягостно. По утрам её одевали, выводили на прогулку. В пределах замка она могла ходить, где пожелает, лишь ворота крепости никогда не распахивались перед нею. Евпраксия гуляла в любую погоду до полуденной трапезы. За стол она садилась только лишь с баронессой Гретхен. Казалось, что она приставлена к императрице только затем, чтобы следить за каждым её шагом и движением. Евпраксия как-то спросила её:
— Гретхен, тебе не надоело быть моим стражем?
Она бегло глянула на государыню, но её голубые глаза ничего не выразили, лицо оставалось непроницаемым. Ответила сухо:
— Воля императора превыше всего.
За прошедшее время в замке дважды побывал маркграф Деди и один раз граф Паоло Кинелли. Но это было уже давно. С императрицей они не поговорили, но долго расспрашивали баронессу. Евпраксия поняла, что ею интересуются лишь по причине того, что она беременна. И где-то на седьмом месяце беременности её посетил Генрих. Как поняла Евпраксия, он приехал убедиться, что она понесла дитя от него. Этот лживый, изворотливый человек был с нею ласков. Он даже нашёл оправдание тому, что держал её в заточении. Они сидели за небольшим столом в её спальне. Рука Генриха потянулась к ней, и он мягко заговорил:
— Каюсь от чистого сердца, моя государыня, и признаюсь, что я суеверен и боюсь, что без должного надзора тебя испортят и ты лишишься дитя. А оно ведь паша с тобой кровинка. Не так ли?
Евпраксия не пощадила его самолюбия. Она встала, ушла от стола и вложила в сказанное всю свою боль и ненависть:
— Как смеешь говорить подобное?! Только зверь, прежде чем растерзать жертву, бывает таким лицемерным.
— Я говорю, как побуждает сердце. Хотя ты и заслужила жестокое с собою обращение. Ты в сговоре с нечистой силой. Ни одна смертная женщина не смогла бы без её помощи бросить на пол великана Хельмута. А кто помог тебе убить братьев Эрфут? Да разве я сам не стал жертвой твоих нечистых происков. Но всё это я прощаю тебе, моя государыня, ради нашего дитя, если ты подтвердишь, что оно ни от кого другого, а только наше.
— Ты добиваешься узнать, чьё дитя у меня под сердцем? Но я не скажу того, пока не поймёшь сам, я могу подтвердить сказанное тобою, если ты накажешь виновников моего позора.
— Да никто тебя не позорил, моя государыня. В наших мессах это божественное начало! И тебе надо было лишь следовать примеру других дам. Они отдаются избранным вольно, потому как знают устав николаитов. Наш орден существует века, и всегда мы жили с жёнами вольно.
— Всем вам горсть в геенне огненной за свою сатанинскую вольность, — с горечью сказала Евпраксия. Она не могла смотреть на Генриха, взгляд его зелёных глаз обжигал её, рыжая острая борода, словно клинок кинжала, тянулась к её груди. Ей хотелось плакать от жалости к себе, но она гордо вскинула голову и отошла к окну.
Генрих понял, что он не добился того, что хотел знать определённо. Ему оставалось одно: запастись терпением, а после рождения дитя вычислить время его зачатия. А ту единственную ночь, проведённую с Евпраксией, он помнил. Покидая замок, он наказал ещё строже смотреть за императрицей. И это была не блажь, потому как он считал: у него нет законного наследника. Сыновей, предавших его, он в расчёт не брал. С тем император и уехал. Жизнь в замке вновь потекла монотонно для прислуги и печально для пленницы императрицы. Но час её освобождения приближался.
Военные действия, которые вёл Генрих, заставили его забыть о россах, коих по его воле маркграф Деди отправил в Венецию на поиски Евпраксии. В пути они немало победствовали, пришлось и мечи обнажать. Но всё обошлось благополучно и без потерь. Немецкий воин Ганс Люке оказался душевным парнем. Родом он был из Саксонии, где недолюбливали императора. И потому он скоро подружился с россами, которых, он это знал точно, император обманывал. Но до самой Венеции Ганс боялся сказать Тихону, что императрица никуда не уезжала из Вероны и искать её нужно там. И только в Венеции, на площади Дожей, Ганс открыл Тихону правду.
— Ты меня прости, что раньше утаивал обман. Ваша госпожа в Вероне. И тут вам нечего её искать.
— Что ты мне голову морочишь? — не поверил Тихон. — Не мог же сам император нас обмануть.
— Вы его не знаете. Сатир всё может.
Сотский и его воины не один час ломали голову, как им поступить. Они понимали, что ложную дорогу им указали неспроста. И стало понятным нападение на них за Падуей. Потому следовало опасаться новой беды на обратном пути в Верону.
— Слушай, друг, а ты можешь нам показать в Верону другой путь? — спросил Тихон.
— Я поведу вас безопасной дорогой. Но она труднее, — ответил Ганс. И, стараясь завоевать доверие, он рассказал Тихону, что в Вероне, кроме императрицы, есть ещё один россиянин. — При ней был телохранитель из ваших, звали его Родионом. Как вы появились, он был взят под стражу. Может быть, он где-то в казематах под дворцом.
— Ну, Ганс, ты нас порадовал и опечалил. Да я же знаю Родиона, как себя. Его не могли так просто взять под стражу. И нам надо поспешить, дабы спасти княгиню и боярина.
Тихон распорядился купить в Венеции харчей. Вскоре же восемь странников покинули Венецию и теперь уже пешие, глухими дорогами, в обход Падуи, двинулись к Вероне. На горных тропах, перебираясь через реки, горевали, что на пути в Венецию поторопились продать коней. На Ганса ворчали — дескать, мог бы и пораньше открыть правду. Однако в Верону добрались без помех.
В городе в эти дни царили тишина и безлюдие. Всех горожан, которые могли держать в руках оружие, Генрих угнал на войну. Ганс Люке привёл Тихона и его воинов в посад уже поздним вечером и определил их на постой к своему земляку, который служил при дворе Генриха кузнецом.
— Ты, дядюшка Оттон, пригрей россов. Они близкие нам и работать умеют, — сказал Ганс крепкому, словно кряж, сивобородому кузнецу. И Тихону посоветовал нужное: — Вы тут посидите тихо, на улицах не показывайтесь. Приду и скажу, как жить. — С тем Ганс и покинул подворье Оттона-кузнеца.
Пришёл он через три дня и принёс малоутешительные вести.
— Сказано мне, что государыня в Вероне, а где упрятана, никто не знает, — делился добытым Ганс вечером с Тихоном, сидя близ горна в кузнице. — А кто и знает, так молчат под страхом смерти.
— А Родион где? — спросил Тихон.
— Его всё ещё в каземате держат. — И белобрысый Ганс тяжело вздохнул.
— А волю добыть ему трудно?
— Не знаю. Да вы уж потерпите. Сейчас, сказывают, Генрих Рыжебородый побеждает своих врагов. Да прочат ему скорое поражение. Вот тогда уж и выручите Родиона. Там и про государыню узнаете. Ещё мой совет прими те: купите одежду веронцев и речь их учите. Тогда безопаснее вам будет. Но бойтесь императорских вербовщиков: схватят и силой угонят под Мантуа или Минерву штурмовать крепости.
Ганс пробыл на дворе Отгона недолго. Уходя, пообещал вскоре навестить россиян, но больше они его не увидели. Ему суждено было попасть на войну, и под Каноссой при отступлении он сложил голову. Тихон со своими воинами исполнили совет Ганса. Все семеро вскоре стали похожи на веронцев и исправно работали на Оттона и других ремесленников и мастеровых, и никто не выдал их императорским стражам.
А через год с лишним, когда Генрих потерпел поражение под Каноссой и бежал с остатками войска за реку По, спрятался в Павии, Тихон счёл, что наступило время спасать Евпраксию и Родиона. За минувшее время он и его товарищи узнали многое. Им помогало теперь то, что они вольно разговаривали по-итальянски и по-немецки. Через служанок, через дворню они узнали, где прячут Евпраксию и как подобраться к Родиону. За это же время Тихон узнал, где в случае удачного освобождения узников их можно будет укрыть. В Мантуа в эту пору стоял со своим войском король Конрад. Тихону уже было известно его отношение к отцу-императору. Они были врагами. Потому Конрад должен был принять Евпраксию, которая, как и он, пострадала от императора.
Той же декабрьской ночью, когда Генрих бежал из Павии, Тихон повёл своих ратников к императорскому дворцу. Тайными ходами они пробрались во двор и спустились в подвалы дворца, в которых было несколько казематов для узников. Все они в эту пору пустовали, и лишь в одном из них под стражей трёх престарелых воинов томился Родион. Тихон разделил свой отряд на две группы, троих отправил сразу к каземату, где сидел Родион, дабы гам связать по рукам и ногам стражника. Сам же с тремя воинами нашёл камору других стражников, в которой они отдыхали, ворвался в неё. Стражи и глаз не успели открыть, как были связаны сыромятными ремнями. Нашлись и ключи от каземата, и Тихон с ратниками поспешили спасать Родиона. Ему уже дали знать, и он ждал освободителей у двери. Лишь только сняли замок, он выбрался из каземата и почти упал на руки друзей. В свете факела он показался Тихону старцем. Но голос его был звонок.
— Я жив, я жив, други! — крякнул он и попросил оружие: — Дайте мне меч, братцы, и я проложу дорогу!
— Успокойся, Родя, мы уйдём тихо, и ни одна зверюшка не заступит нам дорогу, — сказал Тихон, обнимая узника.
— Ох, братцы, как я вам рад! Да не с неба ли вы?
— Потерпи, Родя, всё узнаешь! У нас ещё много дел впереди.
Когда выбрались за каменную стену, окружающую дворец, Родион тихо сказал:
— Братцы, как хороша матушка-свобода!
— Молчи, Родя, и слушай. Ты свободен — сие хорошо, но матушка Евпраксия ещё в заточении.
— Господи, да где она? Что с ней?! Я ведь ничего не ведаю! — воскликнул Родион.
— Она близко, в замке. Токмо её добыть надо. И мы идём гуда. А ты... Ты посиди под обрывом близ замка. Ночь тёплая и...
— Нет, Тиша, я иду с вами. И не остановлюсь, не покорюсь!
Сказано это было твёрдо — мечом не разрубить, — да Тихон и не ждал иного ответа.
— Ладно, идём. Без тебя нам было бы труднее, — согласился Тихон.
До замка было близко: стоило миновать оливковую рощу, пробраться лугом и — вот уже громада цитадели. Проникнуть в неё не представлялось возможным. В замок лежал только один путь: через ворота. И только с позволения императора. Но император находился далеко от Вероны. Это все знали. Тем и решил воспользоваться Тихон. Он перебрался с ратниками через сухой ров, подошёл к воротам, постучал, как было принято во дворце: три раза с паузами, потом ещё два раза подряд. За воротами отозвался страж:
— Кому в полночь неймётся?
— Гонец от императора, барон Бартов, — отозвался Тихон.
— Экая тебя носит, полуночника. Не открою, жди утра.
— Открой, братец Карлуша. К утру здесь Матильда Тосканская с войском будет. Уходить всем надо. Вот и думай, Карлуша.
— Нс обманываешь?
— Целую ноги Пресвятой Девы Марии.
— Ладно уж, открою.
Загремел тяжёлый засов, заскрипела и открылась калитка. Тихон шагнул на двор замка. Да туг же прихватил стража, зажал ему рот, крикнул:
— Други, ко мне!
Страж попытался сопротивляться, но Тихон сжал его крепче, проворчал: «Нишкни!» — и передал вбежавшему ратнику.
— Держи, Ян. Ты с Илиёй и Глебом остаётесь здесь. Повяжите остальных стражников. Калитку закройте, никого не впускать! — И Тихон повёл остальных воинов в замок.
Вскоре четверо русичей, ведомые Родионом, проникли в замок через поварню, вбежали на второй этаж и остановились перед дубовой дверью опочивальни императрицы. Тихон вновь условно постучал. В помещении никто не отозвался. Он повторил стук уже сильнее. И послышался довольно властный женский голос:
— Не беспокоить! Приходите утром!
— Но я барон Вартов, гонец императора! Государыне нужно уходить. Утром здесь будет Матильда Тосканская с войском!
И вновь прозвучал твёрдый ответ:
— Не открою, приходите утром. Воля императора превыше всего.
— Позовите императрицу! — потребовал Тихон и выругался: — Черт возьми!
Родион и Тихон были озадачены, они не рассчитывали на такое упорство придворной дамы. Знали они, что двери без тарана не взломать, хотя воины и советовали вломиться. Родион посоветовал припугнуть баронессу маркграфом Деди.
— Это, похоже, Гретхен, она боится толстяка.
Тихон внял совету Родиона, крикнул:
— Баронесса Гретхен, открой! Или я напущу на тебя маркграфа Деди!
И вдруг за дверью возник какой-то шум, там кто-то боролся с баронессой. Потом она вскрикнула, и стало тихо. Л через несколько мгновений тяжёлая дверь распахнулась и послышался голос Евпраксии:
— Тиша, господи, ты и по-немецки-то как по-родному баешь!
— Матушка, возьми одежду какую, да побыстрее уходить надо. Родион, где ты? Помоги государыне.
Родион перешагнул через Гретхен, вошёл в спальню. Евпраксия, увидев его, ахнула:
— Да ты ли это, родимый?!
— Я, я, матушка. Где там одежда какая?
— Всё под рукой, Родионы. Мы сейчас быстро.
И пока Евпраксия и Родион собирались в путь, Тихон склонился к Гретхен, потрогал её и достал из кафтана пару сыромятных ремней, связал баронессе руки и ноги, приговаривая:
— Ай да молодец, государыня!
Спустя несколько минут двор замка покинули десять человек. Тихон прихватил старого воина, который открыл ему ворота.
— Ты, братец мой, здесь погибнешь. Забьют тебя государевы слуги.
Старый воин ушёл из замка без сопротивления, потому как не любил императора, называл его «губителем».
Глубокой ночью Тихон привёл свой отряд в посад, к подворью кузнеца Оттона. Там была приготовлена крытая повозка и семь осёдланных коней. Тихон и воины простились с хозяином, отблагодарили его за кров и покинули двор. Их путь лежал к крепости Мантуа, в стан короля Конрада. А через две ночи путь отряда Тихона в какой-то точке пересёкся бы с движением отряда императора Генриха. Судьба оказалась милосердной к русичам. Они не встретились в ночи нос к носу с Генрихом и даже не ведали того, что могли бы встретиться. В пути они провели остаток ночи и полдня. А в полдень их остановили королевские дозоры и по просьбе императрицы проводили в крепость Мантуа.
Евпраксии предстояло увидеться с королём Конрадом. Помнила она, что на Руси его назвали бы пасынком, а её мачехой. Хронисты той поры отвечали, что он был лишь на один год моложе Евпраксии. «Это был юноша красивый, смелый и свободного духа, строгий к себе и снисходительный к другим. В Италии, где он прожил большую часть своей ранней юности, он пользовался расположением... Никто не видел с его стороны ни насмешек, ни насилия. И к новым идеям Конрад не относился так враждебно, как его отец... В нём рано развилось то мечтательное настроение, какое проявлялось и у его деда Генриха III». С таким «пасынком» Евпраксии предстояла встреча. Ранее ей не довелось его видеть, и теперь она въезжала в крепость Мантуа, испытывая волнение. К тому же её смущало убожество её «кортежа», который никак не походил на императорский. Она сидела в бедной повозке, купленной Тихоном у горожанина в Вероне. На её облучке сидели измождённый узник и старый воин, беглец из стана императора.
Однако весть о приезде императрицы долетела до Конрада раньше, чем она появилась близ крепости. И он в окружении свиты вышел встречать её к воротам. А когда она появилась и выбралась из повозки, он склонился к её руке и поцеловал.
— Матушка государыня, я рад вас видеть, — произнёс он с доброй улыбкой. — Вижу, у вас было трудное путешествие.
— Оно уже позади, — ответила Евпраксия. — Здравствуй, славный Конрад. Я благодарю Бога, что встретилась с тобой. Как говорят у нас на Руси: не было бы счастья, да несчастье помогло.
Конрад за руку повёл Евпраксию в крепость. Но в воротах им пришлось остановиться. Навстречу им шла хрупкая, белокурая нормандская принцесса Констанция. И Конрад поспешил представить её Евпраксии:
— Государыня, это моя супруга королева Италии Констанция.
— Здравствуй, славная юная королева, — сказала Евпраксия и обняла Констанцию.
— Здравствуйте, ваше величество. Мы рады вас видеть в пашей крепости, — ответила Констанция.
Потом Конрад представил Евпраксии несколько вельмож и повёл её в замок. Конрад велел позаботиться о спутниках Евпраксии и отвёл её в покой, где она могла бы отдохнуть. Вновь встретились Евпраксия и Конрад лишь во время вечерней трапезы. Им о многом нужно было поговорить. Во время трапезы Евпраксия попросила Конрада рассказать о событиях, которые произошли в течение полутора лет её заточения.
— Я прожила минулое время как в тёмном подземелье, — пожаловалась Евпраксия Конраду. — Из мира до меня не доходило ни весточки. И приставом близ меня была какая-то жестокосердая баронесса.
Конрад был не очень многословен, может быть, его сдерживало присутствие супруги, приближённых.
— Что я могу сказать, матушка императрица? Всё это время мои батюшка пытался силой навязать Италии свою волю. Идёт война, но император в ней терпит поражения. Вначале он захватил вот эту крепость и крепость Минервиа взял измором и разорил. Но за то был наказан. Спасибо отважной графине Матильде Тосканской. Она разбила его войско под Каноссой и прогнала за реку По.
— Где же теперь император и его войско?
— Он бежал в Павию, но окружён там. И войска при нём мало. Наёмникам надо платить, они разбегаются. Как всё будет дальше, пока ведомо одному Богу.
После трапезы Конрад и Евпраксия прошлись по саду. И теперь она вольно поделилась с ним тем, что преследовало её почти с первого дня появления на земле Германии. Когда же рассказывала о том, такие тяжёлые полтора года провела в Веронском замке и что предшествовало тому, она не могла сдержать слёз.
— Я слышала рассказ графини Гедвиги, как император бросил на поругание баронам твою матушку. Не буду о том говорить, ты, поди, знаешь. Но то же самое он сделал и со мной. Он счёл, что я виновата перед ним, и наказал. Он привёз меня из Падуи в беспамятстве, и, сказывают, я на другой день оказалась в старом Веронском замке. Я была на втором: месяце беременности, когда он упрятал меня от мира. И пока я носила дитя, обо мне ещё помнили и даже он однажды появился. Роды у меня были трудными, я впала в беспамятство, а как пришла в себя, то увидела, что дитя близ меня пет.
— И куда же они его упрятали, моего братца или сестрицу? — спросил Конрад.
— Я так и не ведаю, кого мне послал Бог. И сколько я ни билась узнать, куда дели дитя, вся моя боль и мужа оказались напрасными. Вот уже почти год я в неведении и страданиях.
Позже, спустя ещё год, до Евпраксии дойдут слухи, что во время новых военных действий, развязанных Генрихом IV, при бегстве императорского войска от крепости Монтебелли у него погиб сын, коему было в ту пору около двух годиков. Евпраксия оплакивала его вместе с Родионом как их родного сынка.
А пока Конрад и Евпраксия размышляли над её судьбой. И выход из этого положения нашёл юный король.
— Лучшего убежища, матушка императрица, мы не найдём, как при дворе графини Матильды Тосканской.
— Примет ли она беглянку? — усомнилась Евпраксия.
— Примет как родную. Да у неё мой братец Генрих пребывает. И тебе, матушка, с ним будет хорошо. Графиня Матильда милосердна без границ. Но она и рыцарь отменный. Наш поэт Доницио слагает о ней песни и баллады. Он боготворит её.
— Домой бы мне. Господи, как я исхожу тоской о родном Киеве, — пожаловалась Евпраксия и, вздохнув, добавила: — Что ж, я покоряюсь судьбе. Далеко ли сейчас графиня?
— Она в походе. Но мы найдём её, — заверил Конрад.
Судьба на сей раз оказалась благосклонна к императрице. Графиня Матильда уже многое знала о несчастной доле Евпраксии от архиепископа Гартвига, который вновь бросил вызов Генриху и ушёл от него в стан графини Тосканской. Он покинул Верону в те дни, когда надругались над Евпраксией и заточили её в замке. Ничего не приукрашивая, он рассказал Матильде о сатанинских шабашах и о том, какому позору была подвергнута Евпраксия. Он знал обо всём от тайного очевидца.
Матильда, слушая Гартвига, побелела от гнева.
— Мало предать анафеме этого злодея. Попадись он мне в руки, я бы сожгла его на костре! Да попадётся, — заверила графиня.
Это было как раз в то время, когда Матильда собрала в Тоскане войско и повела его под Каноссу, где во гневе и разбила войско ненавистного ей Рыжебородого. А в эти декабрьские дни, когда Евпраксия уже была в замке Манагуа, графиня попросила своего мужа, графа Вельфа, сходить с двухтысячным отрядом воинов в Верону и вызволить из заточения Евпраксию. Графиня знала, что Генрих в Павии, и, напутствуя мужа, сказала:
— Ты, дорогой, исполнишь всё успешно. Генрих тебе не помешает.
В пути граф Вельф не мог миновать крепость Мантуа. Там он и встретился с императрицей. Молодой рыцарь поначалу расстроился: не удалось ему совершить подвиг. Но, узнав, как Евпраксию освобождали, порадовался благополучному исходу. Спустя сутки после приезда графа Вельфа обитатели замка Мантуа провожали императрицу и её спутников на юг Италии в Каноссу, где их уже ждали. На сей раз кортеж императрицы выглядел достойно. Она сидела в богатой колеснице, запряжённой четвёркой белых лошадей. Её сопровождали сотни воинов. И сам король Конрад состоял в её свите. Он был рад угодить славной Евпраксии и вызвался проводить её до Каноссы, представить графине Матильде, показать своего брата Генриха.
Глава двадцать первая ПУТЬ К ВОЗМЕЗДИЮ
В крепость Каноссу в эти зимние дни с юга Италии прибывали все новые отряды воинов. Графиня Матильда, граф Вельф-старший и король Конрад готовились дать императору Генриху последний бой на итальянской земле, выгнать его за Альпы. И когда к графине Матильде пришёл гонец от её мужа с вестью о том, что в Каноссу едет императрица, Матильда обрадовалась этому сообщению и выслала далеко за крепость большой отряд воинов для почётного сопровождения. Лишь только кортеж появился в виду крепости, сама графиня села в открытый экипаж и с сотней рыцарей выехала на дорогу, ведущую в Мантуа.
Матильда встретила Евпраксию с честью, как и подобает принимать государей. В Каноссе торжествовали. Красочно описывает настроение Матильды в это время её панегерист Доницио, применяя к ней библейские фразы. «Новая Дебора (то есть Матильда) увидела, что пришло время извергнуть Сисару (то есть Генриха) и, подобно Иаили, она вонзила острие в его висок».
Будет ли так, ни сама Матильда, никто другой не ведали, но встреча, устроенная графиней императрице, вселила в Евпраксию уверенность, что издевательства и унижения от Генриха над нею позади.
В Каноссу экипажи Евпраксии и Матильды въехали рядом, колесо в колесо. Женщины успели обменяться приветствиями, и Матильда даже спросила государыню о самочувствии и здоровье. Сама тридцатилетняя графиня была в расцвете сил и красоты. Она напоминала амазонку из древнегреческих сказаний, которые Евпраксия читала в Кведлинбурге.
Воительница понравилась Евпраксии. Её лицо притягивало взор божественной чистотой и строгостью, а когда она улыбалась, то улыбка завораживала. Въехав в Каноссу. Евпраксия поняла, что восторженные крики толпы горожан предназначались графине, а не ей. Что ж, им было за что благодарить воительницу. Ведь только благодаря её мужеству Каносса не разорена императором Генрихом.
Под возгласы толпы кортеж добрался до городской площади, где стоял дворец графини Матильды. Это было красивое здание из розового камня, с балконами, с мраморной отделкой проёмов окон и дверей. Однако Евпраксия не успела налюбоваться дворцом. Матильда знала, что ей и её путникам нужен отдых, что они голодны. В большой зале, где пыли накрыты столы, Евпраксию ждал сюрприз. Её встретил архиепископ Гартвиг. И она обрадовалась ему, как родному отцу.
За столом Евпраксия грелась под взорами Гартвига и Матильды. Ей было приятно видеть Конрада и ловить любопытный взор принца Генриха. Рядом с нею сидели её верные русичи, её сердечный сокол Родион. Всё это наполняло её грудь безмятежным покоем. Правда, у неё по-прежнему болело сердце от потери своей кровиночки. Где её дитя, что с ним? И, быть может, больше всего по этой причине она жаждала отмщения Генриху. Как ей хотелось увидеть его раздавленным, униженным, но не убитым, а медленно умирающим от позора и одиночества.
Прошли сутки. Евпраксия отдохнула. Слуги графини принесли ей новую, достойную императрицы одежду. Словно зная вкусы Евпраксии, Матильда прислала ей всю одежду византийского покроя — удобную и красивую, прислала сафьяновые красные сапожки как символ верховной власти. А позже, к вечеру, она пришла в покой Евпраксии сама и с нею был архиепископ Гартвиг. Императрица уже догадалась, почему он в Каноссе, близ графини Тосканской. «Только она может справиться с Генрихом. Что ж, теперь я не одинока», — мелькнуло у Евпраксии.
В камине пылали золотистые грабовые поленья, в покое было тепло, горели светильники. Евпраксия пригласила Матильду и Гартвига сесть в кресла, к огню. Графиня спросила:
— Как вы отдохнули, ваше величество?
— Я наконец-то пришла в себя и поверила, что кошмары позади, — ответила она.
— Слава богу, отозвалась Матильда.
Какое-то время все сидели молча, любуясь весёлой пляской языков пламени на поленьях, в камине. Они знали, что предстоит трудный разговор, в котором не должно быть скрытности. Ещё не было ни слова сказано о Генрихе, но Евпраксия понимала, что речь пойдёт только о нём. Ей показалось, что он, как губительный источник, волновал всех, кто хоть раз вдохнул исходящий от него смрад.
Наконец Матильда посмотрела на Гартвига, тихо сказала:
— Преподобный отец, жизнь сделала тебя мудрой. Потому скажи нам, на какую стезю ступить, чтобы покарать зло, какое окутало наши державы?
Очевидно, Гартвиг ждал, что Матильда побудит его сказать первое слово об императоре. Однако он повёл речь осторожно.
— Я не осмелюсь взять на себя миссию пророка и судьи над человеком, о котором поведём речь. Над ним свершатся суд Господень и суд людской. Потому сочту своим долгом только то, что с вашей помощью приближу час того суда. И на том суде вместе с вами скажу обвинительное слово.
— Мы готовы следовать за тобой, преподобный отец, — ответила Матильда и прикоснулась к руке Евпраксии, словно утверждая, что та согласна с ней.
— Спасибо, ваше величество, спасибо, дочь моя. Силы мои прибывают. Но путь наш труден, борьба — и того более. Однако победы над злом никогда не даются легко, — продолжал Гартвиг. — Лишь уповая на Спасителя, мы очистим нашу землю от сатанинских сил. Потому, ваше величество, — обратился Гартвиг к Евпраксии, — я прежде всего призываю вас к чистосердечному излиянию той боли, какую вы несёте в груди своей. Сочтите нас своими духовниками и скажите всё, что высветит неблагочестивого Генриха.
Евпраксия приняла эту просьбу как нечто неизбежное. Она знала, что никто в Германии не несёт в себе того, что ведомо ей о своём супруге. Знала она и то, что многие его боготворят и чтят, как своего кумира. И только её самоотречение, её принародное покаяние дадут судьям право подвергнуть императора суровому осуждению, призвать на его голову гнев Спасителя, кару Божью.
Однако собраться с духом, пройти через муки покаяния и стыда у неё не хватало сил. Стыд — как он мучителен! Даже тогда, когда нет в том твоей вины. Целомудренная по нраву, она не могла так просто, без мук, обнажить себя даже перед близкими, полюбившимися ей людьми.
Гартвиг наблюдал за лицом Евпраксии, освещённым пламенем камина, понимал её терзания и страх сделать первый шаг к исповеди. И помог ей.
— Ты, матушка государыня, расскажи нам, какую встречу оказал тебе император в Мейсене, в день приезда на нашу землю.
Евпраксия вспомнила случившееся почти десять лет назад на площади Мейсена так явственно, что ей показалось, будто это произошло недавно. Она услыхала рёв верблюдов, увидела расстроенного рыжебородого человека в доме с балконом. Ей стало смешно, она даже улыбнулась и почувствовала облегчение, словно освободилась от тяжёлой руки, сдерживающей дыхание.
— Странно всё, — начала свой рассказ Евпраксия, — но как-то получилось, что я с первой встречи в Мейсене почувствовала к Рыжебородому неприязнь, хотя вовсе не знала его. Тогда мне показалось, что он корыстолюбив и надеялся поживиться чужим добром. Позже, когда княгиня Ода рассказала мне о том, как он, получив от великого князя Изяслава дары, обманул его, я поняла, что корыстолюбие в его крови. Вскоре же, за трапезой у тётушки Оды в Гамбурге, я увидела в его глазах похоть. Может мне так показалось, но он бесцеремонно разглядывал мою отроческую стать. Потом я об этом забыла и вспомнила вновь лишь в монастыре, когда вернулись три наши воспитанницы с той ассамблеи, на которую их увёз Генрих. На них было тяжко смотреть: испитые, измочаленные, опустошённые. Позже я узнала, что они побывали на мессах николаитов... — Евпраксия говорила тихо, делала паузы. Чувствовалось, что она вынуждена одолевать смущение, какое мучило её, когда она рассказывала об оргиях николаитов. И всё-таки она продолжала раскрывать новые и новые злодеяния Генриха.
— Когда погиб мой супруг, ко мне приезжал маркграф Дед и Саксонский. Он печалился вместе со мной, потом открылся. Так получилось якобы, что он и Генрих задумали отравить императора. Когда мой супруг пришёл во дворец, Дед и дал яд и научил, как поступить. Штаден так и сделал, высыпал яд в кубок, а как пришёл миг, подал его императору. Однако Деди утверждал, что кубок с ядом остался в руках у моего супруга. «И как он мог перепутать, уму непостижимо», — удивлялся Деди. Потом лекари нашли в кубке императора растолчённую яичную скорлупу, а в кубке маркграфа — яд.
— Всё так и было, — подтвердил Гартвиг.
Печальный рассказ об императрице Берте Евпраксии не хотелось начинать. Она знала, что её смерть осветили так, будто Берта сама наложила на себя руки из ревности. И не было над ней насилия, николаиты, дескать, не обесчестили её. «И как только злопыхатели могли заподозрить меня виновным в смерти супруги. Я же любил её и никому под страхом калии не позволял к ней прикасаться. Хотя признаюсь, что Берта бывала на наших мессах и ассамблеях», — поделился однажды сокровенным Генрих с Евпраксией.
Однако разговор об императрице Берте всё-таки случился. Его повела графиня Матильда. Ей и всем знатным родам Италии и Германии было до мелочей известно надругательство над императрицей.
— Я знаю, что сказать понтифику Римской церкви, когда дело дойдёт до суда над Генрихом. Я назову свидетелей, и они донесут до христолюбивых католиков правду о злодеянии. Есть у меня очевидцы и из николаитов, — продолжала Матильда. — Верю, что в день суда они придут с покаянием, когда бы тот суд ни случился.
— И всё-таки, ваше величество, — обратился Гартвиг к Евпраксии, — вам быть главной обличительницей и ваше слово будет решающим.
— Хотелось, чтобы всё так и было. А по-иному и не смыть мне позор, — заключила Евпраксия.
Воцарилась тишина. Ни Матильда, ни Гартвиг не побуждали Евпраксию раскрыть то, что претерпела она. Добрые люди не хотели подвергать молодую женщину новым мукам. Гартвиг встал от камина, выпил вина, как всегда это делал во время беседы, прошёлся по покою, вновь опустился в кресло и заговорил:
— Мне известно, что весной будущего года папа римский и конклав кардиналов намерены провести церковный собор в Швабии. Соберутся в Констанце на берегу Боденского озера. Потому сейчас, ваше величество, вам нужно собраться с духом и всё изложить папе Урбану Второму. Вам это посильно, вы владеете латынью.
— И что потом?
— Понтифик оповестит соборян о позорном растлении раба Божьего. И собор осудит не только императора, но и всех николаитов, как пособников дьявола. Гнездо сектантов пора разорить, — закончил Гартвиг, словно поставил точку под беседой.
Как ни была слаба в политике Евпраксия, она поняла, что вступает на путь борьбы не только за удовлетворение личного оскорбления и за то, чтобы смыть пятно надругательства, но и на путь политической борьбы. Она осознала, что уйти от этой борьбы ей не дано. Высокий титул императрицы обязывал её перед Богом и народом радеть за своих подданных. И довольно ей быть только придворной дамой, пора стать воительницей, подняться на крепостную стену, принять на себя вражеские стрелы, как это делала великая княгиня Ольга, предание о которой Евпраксия помнила с детства. За минувшие годы, что Евпраксия прожила в Германии, она узнала бедственную жизнь народа. Ведь только в отдельные годы в державе царил мир и люди не голодали, не подвергались насилию. Все прочие годы простой народ сопротивлялся насилию императора. Восстания горожан вспыхивали то в Саксонии, то в Тюрингии, то во Франконии. Народ не любил императора за постоянные обманы, за несправедливые налоги и поборы на войну. Рыжебородый всё время кого-то с кем-то стравливал, черпая в том выгоду себе. Вместе со своим антипапой Климентом III он постоянно опорочивал папу римского, будь то Григорий VII или Урбан II, сеял к истинным отцам церкви вражду среди католиков. Народ, однако, не отворачивался от понтификов Римской церкви. Не могли простить немцы и то, что император преследовал своих сыновей. Ладно бы только Конрада, который открыто перешёл в стан противников императора, но он уже отторг от себя и малолетнего принца Генриха, который никогда не знал отцовской ласки, а в семь лет, сразу же после смерти матери, был вынужден покинуть императорский двор и жить у графа Сузского, который приходился Берте двоюродным братом.
Евпраксии не хотелось соглашаться с тем, что Генрих якобы пытался развратить сыновей с малых лет. Но если верить слухам, что он заставлял сына Конрада ложиться в постель к матери или присылал в его спальню дворовых девиц с повелением обнажать себя перед принцем, то как аут не поверить, что он растлевал сыновей. Все эти размышления привели Евпраксию к мысли о том, что ей суждено будет держать ответ перед Всевышним, ежели она уклонится от свидетельства против человека, поправшего и заповеди Божии, и законы людские. И после долгого молчания она сказала:
— Святой отец, я в полном согласии с вами и напишу послание папе римскому.
— Я надеялся на ваше благоразумие, ваше величество. Но не откладывайте на долгое время сей тяжкий груд. Нам важно до созыва собора преклонить колена пред наместником Иисуса Христа.
И опять Евпраксия ответила не сразу. Вновь погрузилась в думы. И на этот раз они касались не только её и человека, который пока ещё оставался супругом. Она представила себе, как они явятся пред судом церкви и за императором останется право на защиту. Умолчит ли он о том, что не раз бросал обвинения и Берте, и ей в супружеской неверности, не призовёт ли он в свидетели барона Людвига, который подбивал её на прелюбодейство. Ведь Рыжебородому Сатиру ничего не стоит заставить бедного барона лжесвидетельствовать в пользу императора. И что тогда скажет церковный суд?
Посмотрев на лица Матильды и Гартвига, созерцающих огонь камина, Евпраксия подумала, что её покаяние будет мало чего стоить, ежели останется половинчатым. И совесть её окажется нечистой, если она скроет свою любовь к Родиону, их близость. Отрешившись от ложной стыдливости, она сказала:
— Только вы меня простите, благодетели, что моё покаяние было неполным. Осталось утаённое.
— Я вижу, дочь моя, что тебя угнетает некая тайна. Избавься от неё, и обретёшь душевный покой, — посоветовал архиепископ.
— Да, святой отец, с нею мне не пройти скорбный путь к очищению, — ответила Евпраксия и поведала о своей любви к Родиону. — Мне ли не быть грешной перед Господом, когда я полюбила боярского сына Родиона десятилетней отроковицей. На Святки мы катались с гор, и я упала в овраг. Он достал меня оттуда и вынес на гору. Я покоилась у него на руках и смотрела в его глаза, тёплые, словно матушкины варежки. В них отражалось моё лицо, и я улыбалась Родиону и наконец приникла к его груди грешной головёнкой. Мы встречались с ним каждый день, потому как его батюшка держал княжескую казну и жил с семеюшкой в наших теремах. Так мы и прикипели сердцем друг к другу с наших отроческих лет. Потом судьба привела меня в вашу державу. И он, Родиоша, был приставлен ко мне моим батюшкой в рынды.
Мы всегда вели себя чинно. Я для него оставалась матушкой княжной, и он видел тот порог, за который заступить ему было невозможно. Так было и тогда, когда я овдовела, когда пришла в себя от печали по убиенному супругу. Я стала вольной, но к этому времени потерял свою волю Родион. Он понимал, что нашим судьбам не дано сойтись, и попросил у меня благословения взять в семеюшки мою сенную девицу, боярскую дочь Милицу. И я благословила их. — Евпраксия взяла два полена, положила их в камин на догорающие рубиновые угли. — А позже была попытка уехать на Русь. Но император не позволил мне того, заточил в Кведлинбургский монастырь. Да, заточил. И было сватовство Генриха. Если бы мне знать, что ему была нужна не я, а моё достояние, убежала бы на край земли. Я того не знала, да и батюшке с матушкой хотелось угодить, их воля довлела надо мной, и я дала согласие императору стать его супругой. Господи, как я сожалею о том, что встала под венец с двуликим человеком — вот уж право — Сатиром. Он забыл о том, что якобы только любовь заставила его просить моей руки. У нас даже не было первой брачной ночи. Через четыре дня после венчания и пиров он увёз меня в Бамберг и там оставил на семь месяцев, как в заточении. За это время люди императора украли у Родиона его Милицу и, сказывали, она погибла от рук императорского фаворита, маркграфа Деди. Позже её тело нашли в старице близ Рейна. Родион вновь был при мне. А спустя семь месяцев император позвал меня в Верону и мы свиделись с ним. Как это было, о том уже знает святой отец. — И Евпраксия поклонилась Гартвигу. — Генрих не встретил меня. Сказали потом, что он был в Падуе на сборище николаитов. Вернулся он только через неделю, был испитой, обессиленный, но пытался овладеть мною. Почернев неудачу, озлился. Я знала: отдохнув, он вновь будет добиваться меня, и тогда случится непоправимое. Затяжелев, я возненавижу дитя, которое понесу от ненавистного мне человека. И тогда я сбежала к Родиону, как милость вымолила у него, чтобы взял меня. Я умоляла его, пока он не переступил порог и дал волю своим чувствам ко мне. В те же дни я не вытерпела и приняла Генриха. Теперь моя голова разрывается от дум: кто же я — прелюбодейка или нет? — Евпраксия замолчала, её знобило, она протянула руки к огню, похоже, что исповедь исчерпала её силы, по бледному лицу текли слёзы.
Графиня Матильда положила ей руку на плечо, привлекла к себе.
— Успокойся, государыня. Напишешь ли ты папе о том или не напишешь, суть не в этом. Помни о том, что не грешна перед Господом Богом. Ты была унижена и оскорблена, но не твой супруг.
Позже всё окажется несколько иначе. Евпраксию попытаются обвинить в прелюбодеянии. Но таких обвинителей будет мало. Её публичное покаяние церковь примет как искупление греха, и её освободят от полагающейся грешникам церковной епитимьи.
Графиня Матильда помогла усталой Евпраксии встать, отвела её в спальню, уложила в постель и сидела рядом, пока государыня не уснула. Уходя, Матильда подумала: «Всё будет хорошо, страдалица».
А через день в Каноссе начали готовиться к дальней поездке в Рим. Собирались на поклон к папе римскому Урбану II Евпраксия и Гартвиг.
Глава двадцать вторая ВСТРЕЧА В РИМЕ
Накануне Рождества Христова Генриху Рыжебородому приснился сон. Будто бы стоял он на высоком холме с деревянной колодой на шее, в каких водили рабов, а у подножия холма колыхалось людское море. И люди держали на длинных шестах его голову — тысячи рыжебородых голов. Генрих хотел кричать, что, дескать, сие неправда, но голос не повиновался ему, он лишь раскрывал рот и глотал воздух, как рыба. Он и толпы не слышал, которая грозно кричала: «Анафема! Анафема!» Но чётко, до единого звука, он слышал голос, льющийся с небес: «Иди с покаянием, и очистишься от грехов. Иди с покаянием, и очистишься от грехов». Генрих ждал, что будет сказано, куда идти. Но нет, звучали лишь эти слова да слышался шелест крыл.
Проснувшись на рассвете, Генрих отчётливо вспомнил сон, почувствовал тяжесть колоды на шее и с облегчением вздохнул, когда понял, что он не раб, а император. Однако облегчение было недолгим, потому как сама явь, в которой он пребывал последнее время, была хуже кошмарных снов. Кто он ныне? Император без войска, которое без чести потерял в отступлениях, а остатки предал и оставил в Падуе на потеху противнику. Он без наследника, убитого в малолетстве, и без супруги, сбежавшей неведомо куда. И это лишь малая часть бедствий. Князья, маркграфы, герцоги — все ополчились против него, ведут за собой горожан и крестьян. Да не их ли он видел у подножия холма, держащими на кольях его голову?
Генрих подумал, что сон вещий, и испугался. Больше — растерялся. Ещё вчера днём он думал пуститься в погоню за сбежавшей прошлой ночью Адельгейдой. Теперь это желание отступило под давлением звучащих в ушах слов: «Иди с покаянием, и очистишься от грехов».
Но куда идти? В храм и там припасть на коленях к распятию. Но что проку? Сие им многажды проверено. И ни одно его покаяние, ни одна молитва не дошли до Всевышнего. Разум подсказывал: и не дойдут, потому как ты увяз в грехах. Только покаяние через тернии приведёт тебя к очищению от скверны. «Да не в Рим ли мне идти с покаянием?» — панически подумал Генрих.
Наступило Рождество Христово, но в полуопустевшем веронском дворце ничто не говорило о большом христианском празднике. Император для обитателей дворца оказался выше Спасителя, а он пребывал в печали, и им надлежало заодно с государем нести сию тяжкую ношу. Во время полуденной трапезы, когда всё-таки почтили кубком вина рождение Иисуса Христа, печальный Генрих сказал появившемуся в его близком окружении маркграфу Людигеру Удо Штаденскому:
— Любезный маркграф, указано мне Всевышним идти в Рим. Пойдёшь ли ты со мной? Может, судьба будет к нам благосклонна и мы найдём в пути Адельгейду.
Сказано сие было не случайно, потому как Генрих считал Людигера свояком и причастным к судьбе императрицы. Маркграф Людигер ответил согласием и даже добавил то, что окажется провидческим:
— За вами, государь, я пойду на край света. Я так же, как и вы, жажду найти оскорбительницу вашей чести. И мы найдём её!
Генрих посмотрел на молодого фаворита повеселевшим взглядом. Ему нравился этот рыцарь. В свои двадцать лет он был похож на возмужалого воина, жил без принципов, не знал побуждений совести, считая, что она — удел слабых. Расчётливый и коварный — он был копией маркграфа Деди и вполне мог заменить его, потому как тот в последнее время с тал сомневаться в действиях императора.
Людигер Удо появился при дворе в Вероне по стечению обстоятельств в дни заточения Евпраксии под стражу. Его опекуном оказался маркграф Деди. И с лёгкой руки старого фаворита императора Людигер был принят в орден николаитов. Теперь, связанный клятвой и печатью на крови, маркграф Удо готов был служить императору до исхода дней своих. Вcё это император оценил достойно. И теперь Людигер был вторым человеком при Генрихе. Он сказал маркграфу:
— В таком случае повелеваю тебе в три дня всё приготовить к походу на Рим и отобрать триста лучших воинов. — И тут у Генриха мелькнула дерзкая мысль. — Да позаботься о том, чтобы рыцари надели сверх доспехов монашеские мантии. Монашеские! Мы пойдём в святой город с миром.
— Воля твоя, государь, превыше всего, — ответил Людигер.
Пройдёт всего три года, и маркграф Людигер Удо будет одним из предводителей немецких крестоносцев в их первом походе на Иерусалим в 1096 году. А пока с лёгкой руки императора он взялся готовить поход на Рим, не зная его истинного назначения. Дуги императора поиски императрицы были лишь поводом.
В эти же дни в Каноссе уже приготовились к поездке в Рим. И Евпраксия с Гартвигом уехали бы раньше Генриха, но из района Павии, где были осаждены остатки войска императора, примчал в Каноссу гонец с вестью о том, что Генрих сбежал из Павии в Верону. В окружении графини Матильды возникло замешательство. Как мог сбежать противник из осаждённой крепости, спрашивала Матильда своих вельмож. И с кем бежал император, не увёл ли он всех своих воинов? Вновь и вновь Матильда расспрашивала гонца. Он заверял, что войско сидит в крепости, а сколько человек убежало с Генрихом на двух плотах, того никто не ведал. Решительная Матильда не опустила руки. Он послала в Верону лазутчиков и велела готовить в поход пять тысяч воинов, которые стояли лагерем под Каноссой.
Однако все эти события не повлияли на решение Евпраксии ехать в Рим. Отъезд лишь отложили до возвращения лазутчиков из Вероны. Они вернулись быстро. На четвёртый день уже докладывали графине о том, что Генрих собирается в поход, но не военный, а мирный.
— В Вероне мы не видели воинов, лишь монахи сновали по улицам, — докладывал графине старший лазутчик виконт Харенд. — И пойдут они на юг.
— Почему так думаешь? — спросила Матильда.
— Мы слышали разговоры о Тосканском море и о Генуе.
— Выходит, в Генуе они могут сесть на корабли? — спросила графиня.
— Да, ваше высочество, — отвечал виконт. — И они у императора там есть, числом до десяти.
— Спасибо за службу, Харенд, — поблагодарила воина Матильда. — А мне надо подумать и посоветоваться, как быть.
Вскоре совет состоялся. Матильда пригласила Гартвига, Конрада, отца и сына Вельфов, рассказала им, что дополнительно выяснила у разведчиков, и спросила:
— Что будем делать?
Ответ она получила от Гартвига.
— Ваша светлость, разведчики оказались в плену обмана. Император пользовался подобной уловкой, когда рыцари надевали купеческие одежды и прятали под ними мечи. Выходит, государь задумал что-то коварное.
— Этого я не знала, — удивилась графиня.
— Отныне будете зиять. И потому мой совет один: надо позаботиться о защите графства Тосканы и Флоренции. Коли у Генриха есть корабли, ему ничего не стоит достичь ваше графство и захватить его крепости, в коих нет воинов.
— Надо его опередить, выйти ему навстречу и вблизи Гизы напасть на его корабли. Я готов к этому, - заявил молодой граф Вельф. Его чёрные глаза горели, он волновался.
— Но успеем ли мы добраться до побережья Тосканы раньше, чем Генрих? — сомневалась Матильда.
— Как не успеть, если от Каноссы до Флоренции меньше пути, чем от Вероны до Генуи.
Граф Вельф и любил свою супругу, которая была старше его, и преклонялся перед нею.
— Что ж, дорогой супруг, значит, тебе придётся мчать во Флоренцию, — решила Матильда.
— Конечно, моя дорогая, — согласился Вельф. — Мне было бы приятнее отправиться в путь с тобой, но аут столько военных забот...
Ранним утром на другой день из Каноссы выехал большой отряд воинов во главе с графом Вельфом и скрылся на дороге, ведущей во Флоренцию. А спустя час увёл своих лазутчиков рыцарь Харенд. Они ушли в Геную, дабы утвердить догадку о том, что Генрих спешил из Вероны на корабли. Разведчики не ошиблись. Император привёл в Геную три сотни «монахов», они разместились на десяти греческих скидиях, кои принадлежали императору. Многие сели на весла, и вскоре корабли ушли из Генуи. Но куда? Лазутчикам о том пока не дано было знать. А позже выяснится, что и догадка архиепископа Гартвига оказалась ошибочной. Император спешил к Риму.
Выли уже на пути к Священному городу и Евпраксия с Гартвигом. Их сопровождали восемь русичей и полсотни отважных воинов Матильды Тосканской. Где и как пересекутся пути Евпраксии и Генриха, ещё не было ведомо, но судьба уготовила им скорую встречу.
За время долгого пути до Рима через Болонью, Флоренцию, Сиену, Витарди и Сутри у Евпраксии было много времени подумать о своей судьбе. Лишь три с лишним года жизни в Германии были окрашены в светлые тона. Она не могла посетовать на жизнь в монастыре до замужества.
Аббатиса Адельгейда была ей как мать, многому её научила. Да и время супружества с маркграфом Штаденским не назовёшь мрачным. Она сумела пробудить в «ангелочке» радость жизни. И вот — император. Евпраксии так и не поняла этого человека. Неужели он женился на ней только ради богатства? Ведь что-то влекло его к ней? Такие размышления посещали Евпраксию часто, иной раз были навязчивы. И тогда она улетала в мыслях на родную землю, вспоминала матушку, которую с течением лет любила всё сильнее. Она да Евпраксии становилась святыней. Но как у них по-разному сложились судьбы. Если у Евпраксии детство и отрочество были безмятежными, то у матушки они протекали в рабстве. Утешало Евпраксию то, что теперь её незабвенная жила в почести, была любима батюшкой и киянами. Как много она отдала бы за то, чтобы побывать в Киеве, прижаться к груди матери, склонить голову перед батюшкой, повиниться ему в прегрешениях. Увы, она могла только мечтать о Киеве и батюшку ей уже не доведётся застать в живых. В эти дни, когда её колесница приближалась к Риму, в далёком Киеве на шестьдесят третьем году умирал от старых ран, полученных во многих сечах, великий князь всея Руси Всеволод Ярославич.
Во время пути Гартвиг часто замечал угнетённое состояние Евпраксии и каждый раз пытался увести её из печали. Он ехал знакомым ему путём, который прошёл дважды. Все города, какие они проезжали, ему были знакомы, и в каждом из них по его просьбе кортеж останавливался. Гартвиг показывал Евпраксии памятники старины, рассказывал о них. Во Флоренции он показал ей всё, что составляло гордость горожан, что сохранилось со времён древней Римской империи. И поднимались эпохи тысячелетней давности, оживали события, городские площади наполнялись непохожими и в чём-то очень похожими предками.
— В те века Римская империя занимала пространство от Атлантического океана и до восточных берегов Чёрного моря. Все земли по берегам внутреннего моря принадлежали империи. Ей служили сотни тысяч рабов и все боги Олимпа. — Рассказывая, Гартвиг называл имена императоров и богов Олимпа так легко и просто, будто встречался с ними. Он помнил Августа, первым получившего титул императора, и знал последнего императора Ромула Августула. В далёком 476 году во дворец Августула ворвался вождь наёмников Одиякр и пронзил императора бронзовым мечом. С той поры год смерти Августула стал годом падения Римской империи.
Рассказы Гартвига скоротали время, и в середине января 1094 года императрица и архиепископ достигли Священного города. Оказалось, что в Риме у Гартвига было много знакомых служителей церкви. И он долго перебирал их в памяти, пока не счёл за лучшее, у кого остановиться, дабы с его помощью быть принятым папой римским. Наконец Гартвигу захотелось увидеть кардинала Риньеро, человека душевного и твёрдого в слове. С ним архиепископ встречался ещё в Равене, где Риньеро был главой епископата. И Гартвиг не ошибся в выборе. Судьба благоволила к молодому кардиналу. Он был любим папой Урбаном II, и, когда придёт его час покинуть престол, он передаст его Риньеро с благословением всех кардиналов. Риньеро будет наречен папой римским Пасхалием II.
Кардинал Риньеро принял Гартвига с распростёртыми объятиями. Благочестивый пастор знал архиепископа как воителя. Догадался и на сей раз, что этого рыцаря церкви привела в Рим чужая беда.
— С чем пришёл ты к подножию престола, любезный брат? — спросил кардинал.
— Долго рассказывать, ваше преосвященство. Но я поведаю всё, потому как пришёл с надеждой на твою помощь, — ответил Гартвиг.
— Я готов выслушать тебя, брат, но прежде отдохни с дороги. Воинов твоих отведут в папские казармы. Они нынче пустуют. А вашу... — Риньеро ещё не знал, кого сопровождал Гартвиг, и замешкался.
— Ваше преосвященство, я сопровождаю императрицу Адельгейду-Евпраксию. Она идёт к папскому престолу.
— Я видел ваш скромный поезд и никогда бы не подумал, что в нём прибыла императрица, — удивился Риньеро.
— Всё довольно сложно, ваше преосвященство, — ответил Гартвиг.
— Я запасаюсь терпением, брат мой, и буду надеяться, что императрица не осудит меня за скудный приём. — Кардинал знал, что, несмотря на постоянное противоборство понтификов церкви и императора, у последнего была в Риме богатая резиденция — дворец, службы, казармы для воинов — и она, надо думать, была в распоряжении императрицы. И уж если она ищет крова у простого кардинала, значит, в императорском доме не всё благополучно, счёл Риньеро и не задал Гартвигу вопросов, чтобы выяснить суть. Он позвал услужителя и распорядился приготовить всё к приёму гостей. Сам пригласил Гартвига к экипажу, в котором всё ещё сидела Евпраксия.
— Идём, любезный брат, к государыне. Нельзя же томить её ожиданием.
Уже на другой день кардинал Риньеро отправился в папский дворец просить у понтифика Урбана II аудиенции императрице. Он пока знал о цели её визита немного. Гартвиг сказал ему просто:
— Ваше преосвященство, государыня Адельгейда-Евпраксия желает лично передать папе Урбану Второму свою грамоту. А суть грамоты — отношения между супругами.
Прозорливый Риньеро знал судьбу императрицы Берты и подумал, что и Адельгейда попала в тот же порочный крут, в коем жил Генрих IV. Ещё он подумал, что ежели это так, то желание славянской женщины вырваться из порочного круга похвально и ей нужна помощь. Потому, не опасаясь попасть впросак, доверился Гартвигу и шёл к папе на приём со спокойной совестью.
Папа Урбан II в свои семьдесят лет был ещё сильным и неутомимым служителем Всевышнего. Его ума и властности побаивались все кардиналы, примасы церквей, архиепископы и прочие священнослужители. Его считали правдолюбцем, и он славился милосердием к тем, кто был пред ним искренним. Он обладал чутьём на ложь и не терпел лицемерия, лести. Урбан II держал достойную победу над антипапой Климентом III как в сечах на поле брани, так и на политическом ристалище. Он изгнал его из Рима и низложил до конца дней. Самого императора Генриха папа римский презирал и готов был повторить над ним суд, которому тот подвергался уже дважды со стороны паша Григория VIJ. Папа Урбан II вменял себе во грех то, что до сих пор терпел главу растленной секты николаитов. Ему, верховному понтифику Римско-католической церкви, доподлинно было ведомо тлетворное влияние на боголюбивых христиан секты сатанистов. «Да видит Бог, что конец слуг сатаны близок», — многажды повторял папа Урбан II, когда упоминалось имя Генриха Рыжебородого.
Потому, когда папе Урбану доложили, что милости принять его просит кардинал Риньеро, то папа догадался, что у того важные новости и безусловно связанные с именем императора. Ибо так уж сложилось за несколько последних лет, что Риньеро всегда старался быть в курсе деяний императора.
Папа Урбан принял Риньеро без церемоний. Едва он появился, как папа сошёл с престола. Риньеро поцеловал папе руку. Они прошли к столу, близ которого стояли кресла, сели в них. Кардинал, однако, обратился к Урбану с перечислением всех его титулов.
— Святой наместник Иисуса Христа на земле, преемник князя апостолов, верховный понтифик вселенской церкви, выслушай раба Божьего Риньеро, не осуди его, потому как принёс он только правду, и ничего более.
— Говори, сын мой, мне ведомо твоё слово.
— Из Каноссы прибыл архиепископ Гартвиг. С ним — императрица Адельгейда-Евпраксия. Она просит твоей милости принять её с покаянием. Вот и всё, первосвятитель.
— И ты не ведаешь, что привело её в Рим?
— Одни догадки. Но ведомо мне, что она сбежала из Вероны, когда Генрих воевал с графиней Тосканской.
— И где теперь император?
— Архиепископ Гартвиг сказал, что он якобы пошёл морем на Тоскану. В Генуе у него был флот.
— Он идёт с войском?
— Сказал Гартвиг, что в Вероне лазутчики не видели войска, но там оказалось много монахов.
— Христово воинство? И ты поверил тому? — Тёмно-карие глаза папы смотрели на Риньеро строго.
— Я в смятении, святейший.
— И хорошо. — Папа Урбан задумался. Он попытался вспомнить, когда супруги императоров приходили в Рим с покаянием. И память подсказала, что подобного он не знает. Даже императрица Берта, у которой были причины искать защиты у папского престола, не появлялась в Риме. Риньеро он сказал: — Я приму её в Чистый четверг после полуденной мессы.
— Спасибо, верховный понтифик.
— Теперь иди. Господь зовёт меня к делам.
Кардинал склонился к руке папы, поцеловал её и с низким поклоном удалился.
До Чистого четверга оставалось два дня, и Риньеро принял сие за добрый знак. Так оно и будет. Но ранним утром в четверг между папой и императрицей возникла третья сила. И всем, кто болел за Евпраксию, пришлось пережить немало тревожных часов.
Ночью в устье реки Тибр вошли под вёслами семь скидий, и на рассвете в виду Рима пристали к берегу. С головной скидии сошли человек тридцать и направились к городу. Спустя час и остальные прибывшие покинули шесть скидий. Их было более двухсот человек, все в чёрных плащах с капюшонами. Они без единого звука, словно тени, ушли следом, за первым отрядом. Когда уже совсем рассвело, малый отряд подошёл к холму Латеран, на котором возвышались папский дворец и базилика, построенные ещё три века назад во времена папы Константина I. Дворец окружали не менее величественные храмы и палаты, возведённые в позднее время. Всё это было обнесено мощной крепостной стеной. Близ ворот крепости отряд остановился. Маркграф Людигер Удо, подойдя к воротам, сильно постучал в них рукоятью меча, крикнул:
— Именем императора и Господа Бога откройте!
В воротах распахнулось довольно большое оконце. Выглянул воин, осмотрел толпу монахов, сказал:
— Черноризцев скопом не велено пускать. А если император с ними, пусть подойдёт сюда.
От толпы «монахов» отдалился Генрих. Как и они, он был в чёрном плаще, лицо скрывал капюшон.
— Я император! Открывайте, — потребовал он, подойдя к воротам.
— Э-э, нет, так не бывает у нас. Знает ли кто тебя в обители понтифика? Назови имя. Я вот не знаю тебя, хотя и из германцев.
— Знают, знают! Сам папа Урбан! Открывай же! — грозно потребовал Генрих.
— Похоже, что плохи твои дела, раб Божий, — смело сказал воин, — ежели только наш отец может обличить тебя. Но он к воротам не выходит. Потому жди, пока прелаты не проснутся. — И страж хотел было закрыть оконце.
Но Людигер метнул в оконце руку и схватил стража за грудь.
— Голову оторву, ежели сей же миг не откроешь!
Страж, однако, успел крикнуть:
— Враг у обители! Спасайте!
К нему подбежали сразу три воина, и один из них схватил Людигера за руку, сжал её словно тисками.
— Прочь руки от Божьего воина! — крикнула он.
В тот же миг на холме Латеран затрубил боевой рог. Двор огласили крики. К воротам сбегались воины. Многие из них, вооружённые лужами, поднялись на каменную степу и положили стрелы на тетиву луков. И быть бы схватке, но Генрих образумился. Он понял, что никто сейчас не пустит его на холм Латеран и к папе он может попасть только после переговоров с прелатами. Генрих поднял руку и крикнул:
— Не стреляйте, мы уходим! — Он подошёл к «монахам», позвал: — Граф Кинелли!
— Слушаю, — раздался голос из толпы. И Паоло подошёл к императору.
— Останься здесь, любезный, добейся через прелатов, чтобы папа принял меня сегодня же.
— Исполню, государь, — ответил граф.
Император уходил на своё римское подворье, кляня себя за то, что не привёл сразу всех воинов. «Вы бы у меня сразу узнали своего императора», — ругался он в душе.
Той порой маркграф Деди пришёл к императорскому дворцу всех воинов, кои сошли с кораблей позже. У них было подавленное настроение, и они потребовали от маркграфа вина, чтобы выпить за тех, кто погиб в море. Когда они шли между островами Корсика и Эльба, на них налетел свирепый зимний шторм и три скидии бросил на скалы. Корабли разнесло в прах, и погибло почти сто воинов. Может быть, по этой причине Генрих был сдержан близ холма Латеран. Его угнетала потеря почти трети воинов. И он не отважился взять внезапным приступом папскую резиденцию, хотя, отплывая из Генуи, он и вынашивал эту бредовую мысль, дабы вновь посадить на престол церкви своего друга Климента. О покаянии же он забыл тотчас, как покинул Верону.
Папе Урбану доложили об утренней стычке у ворот лишь перед полуденной мессой. Но к этому времени его служители знали доподлинно, что в Рим прибыл на кораблях император и с ним более чем двести воинов в монашеских одеждах. Папе было над чем подумать. Помнил он, что десять лет назад воины Генриха IV малыми силами ворвались на холм Латеран и изгнали из Рима папу Григория VII. Урбан II был более воинственным, чем Григорий, и не испугался двух сотен воинов императора. С таким малым количеством идти на полторы тысячи бывалых воинов, коих Урбан держал на холме, и даже при дерзновенном замысле можно добиться только погибели, но не победы. Промелькнула у папы и другая мысль: Генрих пришёл в Рим только затем, чтобы с его помощью вернуть домой императрицу. Но папа Урбан не намерен был заигрывать с великим грешником и отдавать в жертву невинную женщину. Тем более — славянку. Ведь на её родине у Римской церкви всегда были интересы. Правда, размышляя над судьбами Генриха и Евпраксии, папа пришёл к желанию испытать императора и императрицу. Каким будет это испытание, папа ещё не знал, но желание окрепло. И он велел сообщить императору, что готов принять его спустя час после полуденной мессы.
Так получилось, что с перерывом в один час папа принимал Адельгейду и её супруга. Кардинал Риньеро привёл императрицу в тронный зал, когда папы там ещё не было. Но ждать пришлось недолго. Евпраксия и осмотреться не успела, как в глубине залы появился папа Урбан, и шёл он к императрице, а не на троп. На благообразном лице его застыла улыбка. Он улыбался потому, что перед ним стояла как бы не германская императрица, а византийская царица. Именно такую ему довелось в молодости однажды увидеть в Константинополе. Евпраксия была в строгом тёмно-синем парчовом долматике. Лицо её закрывала белая вуаль. Когда папа приблизился, она откинула вуаль, и он увидел непорочное ангельское лицо — в лучистых главах не было места ни лжи, ми лукавству. Папа протянул ей реки, но не позволил их поцеловать, а привлёк Евпраксию себе и поцеловал её в лоб. Спросил:
— Что привело тебя в Священный город, дочь моя государыня?
— Только жажда увидеть тебя, наместник Иисуса Христа, и попечалиться вместе с тобой.
Папа взял Евпраксию под руку и повёл её на возвышение, где стоял трон, сбоку от которого стояли два кресла, а между ними стол с большой вазой белых лилий. Как уселись в кресла, папа спросил:
— Хорошо ли добрались до Рима, государыня! Дорога зимой ужасны.
— Спасибо, верховный понтифик. Господь хранил нас в пути, а мы Ему молились.
— Теперь скажи как на духу, что привело тебя к трону церкви? — сразу как-то строго спросил Урбан. Он умел переключаться с доверительной беседы на жёсткий разговор.
— Я иду на суд Божий, и как мне было миновать вас, — ответила Евпраксия и достала из-за борта долматика свиток. — Вот грамота, в ней сказано всё, с чем я отправилась на исповедь. — И она положила свиток на стол.
Папа Урбан не счёл нужным открывать свиток сей же миг. Он стал расспрашивать Евпраксию о том, что вовсе не касалось супружества. Его заинтересовала княгиня Ода, маркграфы Штаденские, Русская церковь и даже верблюды, которых привела Евпраксия в Германию. Она рассказывала обо всём охотно, постепенно становясь сама собой: жизнерадостной и бойкой. Она чуть взгрустнула, когда коснулась судьбы верблюдов.
— Вы знаете, верховный понтифик, мне их жалко, этих гордых животных. Их надо было вернуть в наши степи. Теперь я даже не знаю, где они и живы ли. Может, где-то во Франции гордо ходят. Тогда четырёх из них княгиня Ода подарила королю Франции Филиппу, моему племяннику. — Беседа о «пустяках» длилась почти час, и в конце её папе Урбану доложили, что прибыл человек, коему назначена аудиенция.
— Пригласите его, — ответил папа услужителю. А когда тот ушёл, ласково сказал: — Дочь моя, государыня, будьте мужественны. Волею Божьей тебя ждёт испытание. Накиньте вуаль и сядьте за цветы. — Урбан прикоснулся к плечу Евпраксии, поднялся и прошёл к трону.
Тотчас в сопровождении двух служителей в тронном зале появился император Генрих IV. На нём было торжественное одеяние, и рыжую голову украшала корона. Остановившись в нескольких шагах от возвышения, на котором стоял трети, Генрих ждал вопреки этикету, когда папа римский сойдёт к нему. Так императору захотелось заявить о своём главенстве.
Но папа Урбан не счёл волю императора для себя безусловной. Спросил сухо:
— Что привело тебя, помазанник Божий, к трону вселенской церкви?
Генрих побледнел, а потом его лицо опалил гнев. Такой непочтительности к себе он не знал и не ожидал, но сдержался и не вспылил.
— Я пришёл к наместнику Иисуса Христа и отцу всех католиков за помощью и защитой.
— Говори, помазанник Божий, от кого тебя защитить и чем помочь?
— От меня сбежала законная супруга. Она всюду клевещет на государя, обвиняет в смертных грехах, порочит чистое имя императора. Сама же блудница, бесстыдная и развратная женщина. Я прошу тебя, наместник Иисуса Христа, издать буллу, дабы вернули мне мою законную супругу в чьих руках она бы ни была. И дайте мне право заточить её в монастырь. Я своими руками совершу над нею постриг, потому как мне было видение и такова воля Всевышнего! — уже кричал Генрих.
Он не заметил, как из-за вазы с цветами поднялась Евпраксия и смотрела на императора с презрением, но без страха и ненависти. Поднялся с трона и папа Урбан. Он сделал рукою жест в сторону Евпраксии.
— Вот твоя Богом данная супруга, — сказал он громко. — И если в твоих словах нет лжи и навета, подойди к ней, возьми за руку и верши суд праведный. — Папа приблизился к Евпраксии, обнял её за плечи и слегка прижал к себе. Другой рукой он откинул с её лица вуаль. Позвал Генриха: — Иди же, если не боишься кары Божьей.
И Генрих, надеясь обмануть Господа Бога, двинулся к Евпраксии.
— Всевышний со мной! И это её покарает перст Божий!
Кощунство Генриха в Христовом доме было очевидным.
И Всевышний покарал его. Когда Генрих попытался вскинуть руку, дабы вознести проклятие, правая рука его упала плетью, когда он поднял правую ногу, чтобы шагнуть на возвышение, она не послушалась его и нужный шаг не сделала. Генрих застыл, ещё не понимая, что с ним. Наконец, как показалось ему, он нашёл причину случившегося, хотел крикнуть папе Урбану: «Видите, святой отец, колдунья и здесь чинит мне зло!» Но и язык не повиновался ему. Гнев в его глазах угас, они бессмысленно блуждали по залу. Он стоял беспомощный и жалкий, боясь сделать хотя бы один шаг к двери, дабы скрыться за нею. Он понял, что с ним случилось: кара Божья настигла его, а не ту, что стояла близ понтифика. Однако, оставаясь верен себе, он не сдался, не признал себя побеждённым и наказанным по справедливости. В его глазах вновь вспыхнули гнев и ненависть, теперь уже к понтифику. Здоровая левая рука его потянулась к поясу, где обычно висел меч. Но оружия при нём не было, потому как вход в Божий дом с оружием запрещён даже императору.
Папа Урбан понял состояние Генриха. Он не радовался, что Господь Бог покарал нечестивца. Ему было грустно. Он позвал служителей и велел им увести Генриха из зала. Лишь только Генрих скрылся за дверью, папа вновь усадил Евпраксию к столу и сам сел. Помолчав, сказал:
— Видит Бог, дочь моя, к появлению императора я не причастен. Его привёл рок, дабы у трона вселенской церкви покарать за злодеяния и грехопадение.
— Но, святейший, и я грешница, ежели дала повод так говорить о себе!
— Не утешаю. Мне ведомы твои грехи, и о них ещё будет сказано. Я издал буллу о созыве церковного собора, который пройдёт в Швабии с первого по восьмое апреля. И там мы будем обсуждать твою жалобную грамоту, чтобы через членов этот собора оповестить всех священнослужителей Германии и иных католических держав. Позже, когда состоится суд над Генрихом Четвёртым, ты скажешь на нём всё, что изложено в грамоте. На то воля Божья и вселенской церкви. Аминь.
Через несколько дней Евпраксия, Гартвиг и их спутники выехали из Рима в обратный путь. Императрицу сопровождали до самой Флоренции три сотни папских воинов. А во Флоренции Евпраксию встречали обретённые ею друзья: графиня Матильда, король Конрад, графы отец и сын Вельфы и принц Генрих. Судьбе было угодно, чтобы отрок Генрих полюбил Евпраксию как родную мать.
Отец юного принца в эту пору пребывал в Риме. Разбитый Божьей карой, он пролежал в своём дворце полмесяца, а потом тайно тёмной февральской ночью был вывезен из Рима в Тальякоццо, а оттуда — на побережье Адриатического моря, дабы по нему вернуться в Верону.
Глава двадцать третья СУД
В Италии и Германии наступило затишье. Но оно было ненадёжное, как первый хрупкий лёд на реке. Ни Генрих, ни Матильда не распускали воинов, в кузницах продолжали ковать мечи, копья, наконечники стрел. Генрих и не помышлял о мире. Италия оставалась ему ненавистна. В неё убежали все, кого бы он мог любить, если бы они его не предали. Там нашли себе убежище его сыновья, его супруга, его бывший соратник архиепископ Гартвиг, многие бароны, окружающие теперь короля Конрада. Как можно было простить им измены? Как можно было простить папу Урбана за то, что наслал на него отнюдь не Божью кару, а дьявольскую силу? Да мог ли Генрих проявить к Урбану хоть какую-то милость за то, что тот укрывал «королевскую блудницу»? И, едва почувствовав, что выздоравливает, Генрих поднялся с постели и заявил своему преданному Деди:
— Я подниму всю Германию и накажу изменников, укрывшихся в Италии!
— Мы с тобой, ваше величество, веди пас! — отозвался Деди.
Но народ Германии не думал потакать драчливому императору. Он жаждал мира. И в день поминовения императора Генриха III христолюбивые католики удивились: «И как только у благочестивого отца мог появиться такой уродец?! Вот уж, право, Рыжебородый Сатир». Сидя у домашнего очага, немцы с нетерпением ждали начала объявленного папой римским собора в Констанце, надеялись, что на том соборе наконец-то образумят их государя.
В конце марта в Швабию на берега Боденского озера потянулись все ждущие мира и согласия в империи. Ехали и шли в Констанцу не только немцы. Туда спешили многие итальянцы, французы и те, кто нашёл убежище в иных странах от произвола императора. С большой свитой прикатил в Швабию граф Вельф-старший. И прошли слухи, что вместе с ним, скрывая лицо под белой вуалью, приехала сама императрица Адельгейда-Евпраксия. Ещё гуляли слухи о том, что на защиту её чести Киевская Русь выслала большую рать. Да будто бы семь воинов-россов давно, словно духи, летают но всей Германии и считают, сколько рыцарей, меченосцев и лучников в императорском войске. Оно же к этому времени распадалось, потому как сокровища Адельгейды-Евпраксии иссякли и платить наёмникам Генриху было нечем. Даже императорский двор Генрих не мог содержать.
В конце марта папа Урбан II попросил графиню Матильду Тосканскую снять осаду со всей местности вокруг Вероны, дабы Генрих мот беспрепятственно уехать в Германию. Матильда согласилась без оговорок. Ей тоже больше нравилась мирная жизнь, нежели противостояние. К тому времени Генрих настолько окреп, что оказался способен сесть в седло. И он поспешил уехать в Констанцу, дабы повлиять на соборян. Для того при нём шло около тысячи воинов, коих вели преданные Генриху рыцари из числа николаитов. В эти же дни получил от императора строгое повеление маркграф Деди Саксонский. Он должен был найти в Констанце Евпраксию, взять её как угодно и отвезти в Мюнхен, благо он рядом.
— Там упрячешь её в Старый замок Птицелова, чтобы даже мышь к ней не пробралась, — наказывал Генрих маркграфу Деди.
— Исполню, ваше величество, если найду государыню в Констанце, — не слишком бодро ответил Деди.
Евпраксия, однако, и не собиралась покидать Флоренцию. Матильда Тосканская предоставила в её распоряжение просторное загородное палаццо. В этом дворце любезной графини Евпраксия отдыхала душой и телом. Большую часть времени она проводила с принцем Генрихом. Это был благочестивый и умный отрок. В свои тринадцать лет он уже твёрдо встал в лагерь тех, кто боролся с произволом императора. Он никогда не произносил слово «отец». Мятежные князья были его сторонниками, поклонники папы Урбана II — его друзьями. А самый преданный папе аббат Гиршау был духовным отцом принца. Придёт час, когда принц Генрих возглавит мощное восстание горожан против отца и вынудит его к отречению от императорской власти. Но это будет потом, а пока тринадцатилетний принц прилежно учил латынь, историю Германии, Италии, Египта, Иерусалима и занимался многим другим, потому как жаждал стать образованным государем.
Евпраксия всячески поощряла занятия юного принца. Помогала ему, многому научила из того, что унаследовала от батюшки и матушки, что приобрела в Кведлинбурге. Странная поначалу была наука. У юного принца с детства на лице, словно маска, застыли печаль и холод. Евпраксия не могла смотреть на его лицо без материнской скорби и попыталась научить его улыбаться, потратила много сил и терпения, дабы принц избавился от вредной душе и сердцу печали, чтобы умел радоваться жизни. И она добилась своего. Секрет её успеха был прост. Сама умеющая улыбаться и смеяться по малейшему поводу, она делала это так заразительно, что принц забывал всё напускное и становился самим собой — живым и отзывчивым подростком.
Была и другая наука. Видела она, что принц не очень крепок телосложением и ему, считала Евпраксия, не удастся стать сильным воином, ежели не приложить к тому руки. Она привила Генриху любовь к верховой езде. Приставила к нему Тихона и велела учить принца владению мечом и другим оружием рукопашного боя. Тихону было не занимать мастерства, он искусно владел всем, что попадалось ему в руки, знал много хитроумных приёмов. Принцу Евпраксия сказала:
— Ты, славный, постарайся перенять от дяди Тихона всё, что он даст. Помни, побеждает не всегда тот, кто более силён, но кто более искусен и ловок.
— Я это запомню, матушка государыня, — отвечал Генрих и шёл с ним на плац, дабы с мальчишеским задором нападать на учителя.
Наконец Евпраксия пришла к мысли о том, что не должна держать в тайне то, чем её наградила матушка. И она принялась учить Генриха искусству иранской самозащиты.
— Зачем это мне, матушка, иранская мудрость? — поначалу удивился принц.
— Пути Господни неисповедимы. Всюду слышны разговоры о том, что христианам надо идти в Иерусалим и спасать от язычников и мусульман гроб Господа Бога. Может, и твоё время придёт идти зуда.
— Я и сам много слышал о том. И если наступит час, я надену рыцарские доспехи и пойду в Святую землю.
— Потому ты должен быть готов ко всяким неожиданностям.
— Но я учусь владеть мечом и буду всегда с ним...
— Ты уже во многом преуспел. Но враг всегда коварен, и ты можешь остаться без меча перед вооружённым воином. Что тогда?
Генрих смотрел на Евпраксию с детским удивлением. Дескать, и правда, что тогда? Она ему не подсказала, и он сдался:
— Я согласен, матушка.
— Одно помни: это наука трудная, нужно много терпения и упорства.
— Я упорен и одолею.
— Ты молодец. А теперь идём к мастерам и попросим их сделать нам истукана.
Вскоре чучело сделали по подобию того, на каком занималась Евпраксия в Киеве. Его подвесили в просторном покое в дальней части палаццо. Заниматься Евпраксия и Генрих приходили по утрам до трапезы. Они были в лёгкой одежде и принимались за дело не мешкая. Евпраксия удивлялась упорству принца. День за днём они сгоняли с себя по семь потов, пока пальцы не приобретали твёрдость металла, а удары не превратились в летящие стрелы, точно поражающие цель. Когда с них сходил седьмой пот, они садились у окна на скамью, обитую бархатом, и любовались видом на реку Арно, на лодки и морские суда, уходящие под парусами в море. В такие минуты Евпраксия вспоминала родной Днепр, видела на нём белокрылые ладьи, скользящие но могучей реке, и рассказывала Генриху о Киеве, о Руси.
— У нас Днепр шире и могучей, чем Арно. И воды в нём так быстры, что лёгкие струги и ладьи летают по нему словно птицы. Но Киев не так богат дворцами, как Флоренция. Нет ещё в Киеве таких палаццо, как этот. И терема у нас больше деревянные с лесным духом, и кияне у нас под стать былинным богатырям...
Евпраксия и Генрих забывали об окружающем их мире, он прислонялся головой к плечу Евпраксии и со вниманием слушал рассказы о загадочной и далёкой державе русичей.
— У нас так много простору и такие привольные степи, что не всякая птица пролетит их из конца в конец. А матушка мне рассказывала, что я родилась в степи прямо в кибитке, когда за нами гналась орда половцев. Ещё она вспоминала, что когда я появилась на свет, то не заплакала, а засмеялась, загулькала. Вот уж, право, было всем удивление.
Генриху эти рассказы приходились по душе, он вспоминал свою матушку, которая так его любила. Ему казалось, что государыня очень похожа на его мать, он прижимался к её плечу сильнее и просил:
— Теперь, матушка, расскажи про своих братьев. Да прежде всего про Владимира. Слышал я от Тихона, что он могучий богатырь и первый рыцарь в Киеве.
— Верно Тихон сказал. Нет ему равных в сечах. И враги, особенно половцы, боятся его пуще огня. А супруга у него — дочь византийского императора Константина Мономаха, жена знатная. Братец мой Володимир любит военные походы. Токмо ни на кого не нападает, а больше рубежи своей земли защищает. — Рассказав о Владимире, Евпраксия вспомнила двоюродного брата Филиппа, короля Франции. — Знатный братец есть у меня во Франции. Ты как поднимешься на престол, побывай в той державе. Мой брат король Филипп славный и миролюбивый государь. Есть там ещё братец принц Гуго и сестрица принцесса Эмма. И про Швецию, Венгрию и Польшу тоже помни, и там есть мои родичи.
Бежали дни, месяцы, и под руками Евпраксии, согретый её теплом и заботами, принц Генрих преобразился. Куда делись его холодность, печаль — он поднимался ловким, выносливым рыцарем. Евпраксия радовалась, глядя на юного принца. Но пока, кроме забот о Генрихе, у неё было много и своих хлопот и дел. Каждое утро Евпраксии начиналось с ожидания гонцов. Когда граф Вельф-старший покидал Флоренцию, он сказал императрице:
— Вы, государыня, не беспокойтесь. Я буду извещать вас событиях на соборе. И ничто для вас не останется тайной.
— Я верю вам, любезный граф. Но мне мало что нужно знать. Всего лишь об одном жаждаю услыхать: восторжествуют ли добро и справедливость.
Граф Вельф всё-таки сдержал своё слово. После 8 апреля во Флоренцию прибыло восемь гонцов. И последний из них привёз самую важную весть. 8 апреля 1094 года на церковном соборе в Констанце папой римским Урбаном II была прочитана жалобная грамота императрицы Адельгейды-Евпраксии. После чтения её обсуждали, и соборяне пришли к единому мнению о том, чтобы грамоту череp списки знали священнослужители не только Германии и Италии, но и других католических держан. На соборе в Констанце шёл разговор не только об императоре, но и о его секте николаитов. Правда, соборяне говорили об этом с оглядкой. Да и было отчего. Констанцу осадили воины Генриха IV. Казалось, взмахни он рукой, и по этому знаку меченосцы ринулись бы на город, разогнали бы соборян и тысячи паломников, заполонивших город. Так бы и случилось, если бы не горожане. Они вооружались и охраняли покой соборян. Папа Урбан II в своём обращении к горожанам скажет с паперти собора:
— Дети христолюбивые, только благодаря вам церковный собор не разогнали нечестивцы. Да хранят вас Спаситель и Пресвятая Дева Мария.
После событий в Констанце Германия затаилась. Не было волнения по северным городам, где страсти кипели всегда жарче, чем на юге державы. Но по всей стране ходили разговоры о том, что близок конец императорской власти Генриха IV. Белые маги, коим покровительствовала церковь, называли год, месяц и день сто смерти. А в епископстве Шверин вскоре же после церковного собора с чьей-то лёгкой руки служители храмов справили панихиду по усопшему императору? Весть о том прокатилась по всей Германии. Когда же слухи дошли до императора, то он повелел всех церковников Шверина изгнать из епископства и потребовал от папы Урбана назначать епископами только тех, кого он, император, назовёт. «В противном случае я лишу вас права назначать епископов и аббатов», — грозился император.
В отличие от папы Григория VII папа Урбан II не устрашился угроз Генриха IV и удержал инвестуру в своих руках.
Миновал тревожный год, и в январе 1095-го во все католические державы Европы из Рима были отправлены легаты. Они везли буллы примасам церквей с повелением направить в Италию своих иереев. Именем верховного понтифика Римской церкви они сзывались на новый церковный собор. На сей раз его наметили провести в области Эмилия-Романья в городе Пьяченце, где император не мог угрожать соборянам военной расправой. Открытие назначалось на 1 марта 1095 года.
Примчались папские посланцы и во Флоренцию, в палаццо графини Матильды. Её и графов Вельф папа Урбан приглашал в Пьяченцу лично. И Евпраксия приглашалась особо. Глава Римской церкви прислал ей грамоту, в которой выражал благодарность от имени собора в Констанце и просил быть безотлагательно в Пьяченце. В конце грамоты было ласково приписано: «Ты уж, дочь моя, постарайся быть на соборе мужественной».
Пригласили на собор и Генриха IV. Папа Урбан долго не мог найти такого легата, который бы не дрогнул перед императором. Знал папа, что на брошенный им вызов привлечь императора к суду Генрих может ответить непредсказуемой выходкой. И никто не мог утверждать, что посол папы вернётся от императора цел и невредим. Выбор наконец пал на кардинала Риньеро, человека мужественного, умного и умеющего постоять за себя. Кардинал Риньеро согласился на встречу с императором без колебаний. Напутствуя кардинала, папа, однако, предупредил его:
— Берегись, сын мой, государя. Видит Бог, он коварен и нечист.
Риньеро не признался папе, что отправляется в Мюнхен, где в эту пору находился император, с опаской в душе. Был же он свидетелем того, как Генрих выгонял из Рима папу Григория. Прибыв в Мюнхен, Риньеро не поспешил в императорский замок. Ему важно было знать обстановку, царящую в Мюнхене, и он отправился к папскому нунцию Джакомо Савелли. Нунций был рад встрече с Риньеро и за вечерней трапезой рассказал всё, что знал о жизни императора в Мюнхене.
— Не приведи господь видеть то, как живёт наш государь. Во дворце что ни день, то одно и то же: пиры, ассамблеи, кои похожи на шабаши нечистых... Потому не могу сказать, как примет вас государь. Он ведь многолик, — заключил папский нунций.
Джакомо не ошибся. «Многоликий» встретил легата Риньеро достойно и благодушно. И буллу принял без раздражения, хотя читать не стал. А признание императора даже удивило кардинала.
— Отныне я ни с кем не воюю. Со всеми хочу жить в мире. Моё посещение папы Урбана благодаря Божьему промыслу пошло мне на пользу. Я ко всем милосерден и желаю одного: чтобы моя супруга вернулась под моё крыло.
Кардинал Риньеро пожал плечами, вздохнул и без лести сказал:
— Но вы же знаете, ваше величество, что она на невозвратном пути.
— Полно, кардинал! Я же прощаю ей то, что она вольно себя вела и жалобу писала папе на Богом данного супруга. А ведь подобное непрощаемо. - Император улыбался, и зелёные глаза казались правдивыми. — Вот и передай папе, чтобы он препроводил императрицу ко мне.
— Я передам, ваше величество, твоё желание папе Урбану. Если понтифик исполнит его, значит, Бог с вами.
Генрих пригласил Риньеро на трапезу. Они выпили вина, дабы закрепить, по мнению императора, согласие, достигнутое в беседе. Но Риньеро не был так благодушен, как Генрих, и задал ему вопрос:
— Ваше величество, а что мне ответить папе по поводу буллы, кою я вручил вам?
— Не переживайте, кардинал, я отправлю ответ со своим гонцом.
— В таком случае, ваше величество, скажите, явитесь ли вы на собор в Пьяченце?
— Пусть понтифик не сомневается. Я приеду на собор, но при условии, что папа издаст буллу о возвращении императрицы.
Кардинал засомневался: вряд ли твёрдый в своих поступках папа Урбан пойдёт на поводу у императора. Спросил:
— А ежели папа откажется издать буллу?
Изворотливый Генрих уже знал, как поступить в таком случае. Но пока он держал свой шаг в тайне. Сказал же так, чтобы у кардинала исчезли всякие сомнения.
— Папа пойдёт мне навстречу. Я вымолю у него прощение моих грехов.
— Благословляю вас на сей подвиг, ваше величество.
Вскоре кардинал Риньеро, который станет папой римским ещё при жизни Генриха, покинул Мюнхен. Возвращаясь в Рим, он не преминул остановиться во Флоренции и посетить императрицу.
Минувший год Евпраксия прожила без потрясений, в кругу любезных её сердцу людей. Она часто встречалась с Конрадом и Матильдой. Принц Генрих большую часть времени проводил близ неё. Он подружился с Родионом и Тихоном, и это радовало Евпраксию. Её материнские чувства к принцу крепли. За прошедшее время Генрих преуспел во многих рыцарских занятиях, был ловок, неутомим. И в росте уже догнал Евпраксию. Случалось, что он полные дни проводил в седле или с утра до вечера сражался с истуканом.
Приезд Риньеро и его рассказ о побуждениях императора не внесли в жизнь Евпраксии изменений. Она была уверена, что папа Урбан её не выдаст.
— Понтифик ко мне милосерден, и я не сомневаюсь в его доброте ко мне, — сказала Евпраксия, когда выслушала Риньеро.
Всё так и случилось.
Но император последние два месяца перед церковным собором в Пьяченце не оставлял Евпраксию в покое. Два года мирной жизни державы наполнили его казну, и он назначил императрице и её двору содержание. Она перестала жить милостыней, получаемой от графини Матильды и короля Конрада, наконец-то могла позволить себе подобающее государыне существование. Генрих передал в её владение земли близ Гамбурга и Вероны. И чего никак не могла ожидать Евпраксия — отдал ей во владение замок в Вероне, в котором она провела полтора года в заточении. Каждый раз посланником от императора был граф Паоло Кинелли. Тридцатилетий красавец был обаятелен и умел располагать к себе. Его тёмно-вишнёвые глаза светились невинностью, а голос был мягок и завораживающ. Но каждый раз при его появлении во Флоренции Евпраксию что-то настораживало. Она помнила его другим, лишённым придворного лоска и циничным, особенно во время оргии николаитов в Падуе, когда он пытался снять с неё одежды. В первый раз о своём появлении в палаццо Матильды он сказал так:
— Я приехал выразить желание императора. Он просит тебя, ваше величество, переехать во дворец в Вероне. Он скучает по тебе и по младшему сыну. И его можно понять.
Евпраксия не церемонилась с графом, сказала твёрдо, откровенно:
— Ты, граф, знаешь, какие у меня воспоминания о Вероне. Потому передай императ ору, что ноги моей не будет ни во дворце, ни тем паче в Веронском замке.
Поведение графа с каждым разом становилось всё больше подозрительным. И это подтвердил Родион.
— Твой гость, матушка, словно тать шнырял по палатам. Да спрашивал прислуг, сколько при тебе воинов.
— Что ему нужно, Родионы? — взволнованно спросила Евпраксия.
— Как бы знать? Да уж неспроста шныряет. Опасица тебе грозит, государыня. Воинов бы от Матильды надо попросить.
Родион словно в воду глядел. За неделю до начала суда тёмной ночью во двор палаццо Матильды проникли двенадцать вооружённых рыцарей, одетых в монашеские сутаны. Их привели граф Паоло Кинелли и маркграф Людигер Удо. Однако Родион оказался предусмотрительным, он попросил десять воинов у Матильды и предупредил Тихона быть каждую ночь начеку. И Тихон с воинами не сплоховал. Лишь только тати перебрались через ограду и появились близ дворца, пытаясь в него проникнуть, как из каретного сарая выскочили воины, вооружённые саженными кольями, и напали на татей. «Монахи» не успели выхватить из-под сутан мечи, как их начали избивать. Да били так искусно, что вскоре десять «монахов» полегли, лишь двоим удалось убежать. Это были Паоло Кинелли и Людигер Удо. Воины Матильды и Тихона оттащили побитых татей в каменный амбар и там оставили под замком и стражей. А утром посмотреть на «улов» пришла Евпраксия. Пленники оклемались, и Евпраксия могла их допросить:
— Кто вы и зачем ломились во дворец?
Ещё на рассвете, когда «монахи» пришли в себя, они сговорились во всём признаться, покаяться и просить императрицу, чтобы она отправила их к королю Конраду.
— Мы будем преданно служить ему, государыня. А когда он пойдёт ко гробу Господню, мы отправимся с ним.
Евпраксия подумала, почему бы ей не исполнить просьбу воинов императора: пусть теперь послужат его сыну. Однако сказала:
— Если вы поклянётесь на Священном Писании, что нет среди вас николаитов, то быть вам при короле Конраде.
С ответом пленники замешкались. Они переглядывались меж собой. И Евпраксия поняла, что от них можно ждать только обмана, потому что не мог император послать на её похищение воинов, не связанных с ним клятвой. Молчание затянулось, и Евпраксия поняла, что перед нею сектанты.
— Хорошо, у вас есть время подумать, — сказала она. С тем и ушла.
Вечером того же дня Евпраксия пришла к пленникам ещё раз. И они покаялись, что все есть члены ордена николаитов. В оправдание же сказали одно:
— Мы — бедные бароны. В орден нас вовлекли силой.
— Назовите ваши имена, да дважды, а мы запомним. — И Евпраксия посмотрела на Родиона и Тихона.
Тогда бароны дважды повторили свои имена, Евпраксия велела им уходить, но при этом предупредила:
— Вы вернётесь к императору. Но помните, что на суд в Пьяченце вас позовут свидетелями.
Вид у николаитов был жалкий, но Евпраксия не проявила к ним сострадания. Она велела Тихону вывести их из Флоренции и отпустить.
И пришло время собираться в Пьяченцу. В день отъезда в город прибыл большой отряд папских воинов. Их привёл кардинал Ривьеро.
— Государыня, папе известно, что на тебя покушались. И он счёл, что этого нельзя больше допускать, — сказал кардинал, представ перед императрицей.
— Спасибо папе за заботу, — ответила Евпраксия.
На рассвете погожего мартовского дня в городе всё пришло в движение. Вместе с императрицей уезжали из Флоренции графиня Матильда, графы Вельф, архиепископ Гартвиг, многие придворные, за ними длинной вереницей следовали многие священнослужители, сотни благочестивых католиков, не было среди них лишь короля Конрада и принца Генриха. Они не хотели видеть отца.
Начало марта 1095 года Пьяченца встречала таким многолюдьем, какого не знала за всю свою долгую историю. На собор приехали кардиналы, архиепископы, епископы, аббаты, другие священнослужители из Франции, Бургундии, Германии, Италии, Венгрии. Всего собралось более четырёх тысяч иереев и священников.
Папа Урбан предполагал, что этот собор будет представительным, но ему и в голову не могла прийти мысль о том, что быть свидетелями суда над императором сочтут своим долгом более тридцати тысяч католиков, блюстителей чистоты христианской веры. И верховный понтифик порадовался тому, что печальная судьба императрицы привлекла всенародное внимание. Но была и обеспокоенность. Собрав конклав кардиналов, папа сказал:
— Братья мои, мы не можем затягивать проведение собора на многие дни. Мирянам нужны пища и кров. Где они всё найдут? Потому мы должны управиться за три-четыре дня. Завтра проведём первый совет в храме только для иереев. А послезавтра выйдем в открытое поле и начнём судебное разбирательство.
Место для открытого заседания собора было выбрано удачно. Все тридцать тысяч мирян расположились на пологом склоне горы, полукружием охватывающем чистое поле. Священнослужители заняли места у подножия склона. Для папы и кардиналов был сделан помост, и на нём поставили трон, а рядом с ним — два кресла. Кому они предназначались, никто не ведал. Миряне собрались с рассветом. Не задержались в городе и папа с кардиналами и всеми иереями. Стадом за ними прикатили император да Евпраксия, графиня Матильда, Вельфы, Гартвиг, Риньеро. Евпраксия, как всегда в особых случаях, была под белой вуалью. Но, поднявшись на помост и увидев людское море, встретившее её восторженными криками, она откинула вуаль и трижды поклонилась.
Папа указал императрице место рядом с собой. Спросил о том, как доехала. Ещё о чём-то тихо спрашивал. Море мирян колыхалось, и, словно морской прибой, докатывался до помоста людской говор. Папа ждал появления императора. Но вскоре из города примчал служитель папы и доложил ему, что император ещё утром покинул город, а куща уехал, никто не ведал. Он же, переодевшись в одежду паломника, вырядив своих фаворитов в такие же одежды, привёл на судилище свой двор вместе с мирянами и теперь затерялся среди них. Он стоял не так далеко от помоста, видел свою супругу, и сердце сто кипело от злобы. Он предполагал, каким будет приговор суда. Дважды отлучаемый от церкви, он не ждал себе пощады. Да и как, от кого было её ждать, если, кроме папы Урбана, императрицы Адельгейды, он увидел здесь клан графов Сузских, многих других родственников императрицы Берты, которые его ненавидели. Была здесь и его сестра Адельгейда, ныне монахиня, которая одна имела право осудить его на вечное заточение. Увидел Генрих и многих вельмож, дочери которых подвергались насилию на сборищах николаитов. Все они жаждали быть свидетелями обвинения.
Едва от папы отошёл вестник, как он поднялся с трона и подошёл к краю помоста. В высокой тиаре, в белой мантии с золотыми крестами, блестевшими на солнце, он казался величественным. Людское море затихло. Ни звука, ни колыхания, как в полный штиль. Служитель подал папе индюшачье яйцо, дабы повысилась чистота голоса. Папа выпил его, поднял крест и громким голосом начал свою речь:
— Благословляю вас, дети мои, боголюбивые католики, хвалю за любовь к Всевышнему и церкви и жду от вас справедливого слова в защиту крепости нравов. Мы собрались сегодня для того, чтобы предать суду недостойных имени католиков, погрязших в дьявольских кознях.
Евпраксия была, может быть, самой внимательной слушательницей, но она хорошо видела, как на склонах чащи внимают каждому слову папы все тридцать тысяч мирян. Слушая папу, она с волнением ждала того момента, когда он умолкнет и позовёт её сказать обличительное слово. Господи, как много она думала об этом мгновении. Сколько было сомнений, страха, неуверенности в себе донести до тысяч верующих наболевшее, выстраданное. Она просила Всевышнего укрепить её мужество, не дать себе сбиться на жалующуюся на мужа жену. Знала она, что таких женщин в народе не любят и её не поймут. Она не хотела также услышать взамен на её жалобу слова сочувствия и жалости. Нет, она хотела пробудить в людях лишь жажду справедливости. Только она принесёт державе пользу, только опираясь на справедливость, суд над императором обретёт божественную силу. Размышляя и по-прежнему вникая в каждое слово, сказанное папой Урбаном, она помолилась в душе Богородице, и когда, наконец, понтифик позвал её, она была готова сказать высокому суду то, что терзало её душу.
Папа Урбан подошёл к ней, подал руку. Она встала и подошла с ним к краю помоста. Папа сказал:
— Дети мои, вот перед вами помазанница Божия императрица Адельгейда-Евпраксия. У неё есть что сказать о великом долге государя и государыни перед своими подданными. Внемлите же ей со вниманием!
Евпраксия смотрела в лица людей, стоящих близко у помоста, и с каждым мгновением становилась спокойнее, умереннее в себе. Она увидела тётушку княгиню Оду и слегка поклонилась ей и даже улыбнулась. И всем показалось, что это она им улыбается, И засветились, заиграли лучи взаимного притяжения. Лица мирян стали совсем близко, и Евпраксия, как в кругу любезных людей на посиделках, повела речь.
— Слушайте все, — сказала она так, как обращаются к народу на Руси великие князья, — мне ли, вашей молодой матушке, печалиться о своей судьбе и показывать вам свои раны, когда долг мой отдать вам на службу всю свою силушку. Токмо так поступают на Руси великие князья и великие княгини. Потому говорю вам по-матерински. Чада мои родимые, очистим нашу жизнь от скверны, коя завелась среди нас, убережём наших дочерей и сыновей от надругательства и позора, изгоним из наших домов и земель сектантов николаитов. И тогда сохраним в чистоте наши души и наши сердца... — Голос Евпраксии звонко долетал до самых высоких склонов горы и был слышен всем. И сама она, освещённая полуденным весенним солнцем, была видна так зримо, будто стояла с каждым мирянином лицом к лицу. Её белая вуаль лежала на плече, её пшеничного цвета волосы отливали золотом, и многие потом божились, что видели над её головой нимб. Она казалась всем высокой и стройной, с огромными серыми бархатными глазами, она улыбалась, и все видели ямочки на её прекрасном лице. Миряне уже полюбили свою императрицу. И ей не надо было рассказывать о том, какие муки, какие надругательства, какой позор и насилие претерпела она от своего супруга. О них уже давно знала вся Римско-Германская империя. Потому собравшиеся со всех земель благочестивые католики уже налились гневом, возмущением и страстью покарать нечестивою мужа — пусть он даже император — наказать за муки и надругательства, которые он причинил их матушке, разорить заодно поганую секту.
Евпраксия ещё только рассказала, как был убит её муж маркграф Штаденский, ещё только коснулась оргии в Падуе, а миряне уже вскидывали руки и требовали от папы Урбана, дабы он возглавил их шествие к императорскому дворцу где бы он ни стоял, и благословил их предать суду недостойного имени человека, слугу дьявола. Требовали миряне и суда над приближёнными императора из тех. кто был членом секты николаитов, кто был соучастником растления молодёжи. Евпраксия слышала среди гневных голосов и голос сестры императора. В воздухе запахло грозой. Накал страстей нарастал с каждым мгновением. Миряне уже высвечивали лики затаившихся среди них николаитов. И императорские пособники выдали себя. Случилось то, чего устроители собора не ожидали. Какой-то дюжий ремесленник стаскивал чёрный плащ и капюшон с мнимого монаха и кричал:
— Здесь они, среди нас, укрылись в чёрное! — Скинув одеяние с одного, он ринулся к другому. — Смотрите, их тут много!
Сбившиеся в кучу человек двадцать «черноризцев» ещё прятали лица, но миряне потянули со всех сторон к ним руки и с гвалтом, с воплями принялись их бить. Они, словно по команде, распахнули плащи, выхватили из ножен мечи. Безоружная толпа отпрянула, а «черноризцы» попятились к роще, где стояли их кони. Но им недолго пришлось пятиться. Воины во главе с графом Вельфом-старшим окружили их, и граф крикнул:
— Бросайте оружие! Или быть вам порубленными.
— Попробуйте! — крикнул широкоплечий и сильный рыцарь, сбросив чёрный плащ. Это был маркграф Людигер Удо. Он двинулся на графа Вельфа. — Прочь с дороги! Иди я отрублю тебе голову, — размахивая мечом, кричал Людигер.
Евпраксия узнала его и сказала папе Урбану:
— Святейший, это люди императора.
Папа подозвал кардинала Риньеро и повелел:
— Брат мой, возьми воинов и арестуй злочинцев!
Воины были рядом, за помостом, и кардинал повёл их на рыцарей в чёрных плащах. Но в это время ещё один из рыцарей откинул капюшон и громко сказал:
— Стойте! Я император! И пришёл сюда, чтобы послушать эту женщину! — Он указал на Евпраксию и снял чёрную бороду, предстал перед мирянами в своём рыжем облике.
— Это он, Рыжебородый! — закричали в толпе.
— Да, это я и потому утверждаю: всё, что она говорила, — грязная ложь! — Генрих решительно поднялся на помост. — Она бесстыдная королевская блудница. Только такая распутная женщина может рассказывать толпе про свою брачную жизнь, порочить супруга!
Это было последнее, что люди услыхали от императора. Тридцатитысячная толпа мирян взревела, и этот рёв продолжался до той поры, пока император не сбежал с помоста. «Личность Генриха возбудила к себе отвращение; отовсюду на него сыпались проклятия», — писали хронисты. Миряне преследовали императора. Он побежал от них, скрылся за спинами папских воинов. Но миряне, вскинув руки, всей огромной толпой двинулись на воинов, и они вынуждены были расступиться, пропустить толпу. Тем мигом Генрих успел подбежать к воину, который держал коня, вырвал из его рук уздечку, вскочил в седло и помчался к городу. Миряне потоком миновали помост, двинулись следом за императором, за его «монахами», и поле опустело. На помосте оставались лишь папа Урбан, Евпраксия и Риньеро. Да у подножия помоста задержались десятка два вельмож. И среди них была княгиня Ода. Она жаждала обнять Евпраксию.
После полудня папа Урбан собрал конклав кардиналов и многих архиепископов и епископов в соборе Пьяченце, и было принято решение отлучить Генриха IV от церкви. Теперь оставалось донести о сути наказания императора мирянам и всем священнослужителям и выслушать их приговор.
С тем и собрались на следующий день у склона горы тысячи жаждущих осудить Рыжебородого. Когда папа Урбан, выпив положенное индюшачье яйцо, выступил перед мирянами и оповестил им меру церковного наказания, то тридцать тысяч католиков сочли отлучение от церкви и предание Генриха анафеме недостаточным. Немцы, итальянцы, французы, венгры единодушно требовали свержения императора с престола. Выступили и сказали своё слово князья Северной Германии. Они согласились с требованием католиков и постановили созвать внеочередной рейхстаг, дабы низложить императора.
Папа Урбан II благословил это решение князей Саксонии, Тюрингии, Франконии, Швабии и других земель империи. Сказывали очевидцы, что император в этот день, собрав своих преданных приближённых, советовался с ними, как покарать восставших против него. Но поскольку собравшиеся пили много вина, то всё, что они предлагали императору, было похоже на бред пьяных. Сам император, тоже выпивший много вина, чувствовал себя так, словно стоял на песке и этот песок вымывала из-под него речная вода и он всё глубже опускался в пучину.
Глава двадцать четвёртая ПУТЕШЕСТВИЕ
О событиях на церковном соборе в Пьяченце скоро стало известно всей Германии. Рассказы о них разносили по городам и землям миряне-паломники и священнослужители. Многочисленные толпы горожан собрались у храмов, на рынках и требовали от очевидцев вновь и вновь открывать картины суда. Северные города, в которых всегда ненавидели Генриха, бушевали и выступали за немедленное проведение рейхстага и низложение императора. Для многих тысяч немцев, которые видели Евпраксию, она стала кумиром. Её боготворили, хвалили за мужество, за то, что та развенчала развратного мужа. Рассказанное на соборе Евпраксией с каждым днём обрастало новыми подробностями, порою вымышленными и обязательно героическими. Секта николаитов превратилась в сонмище злых духов. Благочестивые католики требовали от церкви предать всех членов жестокой смерти, кою исполнять публично на главных площадях городов. И никому не было ведомо, до какой степени накалилось бы возмущение католиков против императора и его сатанитов, если бы летом 1095 года по Германии не прокатился мощной волною призыв папы римского ко спасению гроба Господня в Иерусалиме.
Быть может, тот призыв не возымел бы большого влияния на простолюдинов, если бы не их бедственное положение из-за неурожайного года. На полях в то лето погорели на корню хлеба, иссушились на лугах травы, не налились соком виноградники, пожухли овощи, к осени мор поразил коров, коз, лошадей. Терпение простого люда лопнуло, и ему нужно было на кого-то излить гнев и ярость за все муки, какие приходилось претерпевать.
«В год воплощения Господня, тысяча девяносто пятый, в то время, когда в Германии царствовал император Генрих, а во Франции — король Филипп, когда во всех частях Европы произрастало зло и вера колебалась, в Риме был папа Урбан II, муж выдающегося жития и нравов, который обеспечивал святой церкви самое высокое положение и умел обо всём распорядиться быстро и обдуманно.
Видя, как вера христианская безгранично попирается всеми — и духовенством, и мирянами, как владетельные князья беспрестанно воюют меж собой, то одни, то другие — в раздорах друг с другом, миром повсюду пренебрегают, блага земли расхищаются, многие несправедливо содержатся в плену, их бросают в подземелья, вынуждая выкупать себя за непомерную плату, либо подвергая там тройным пыткам, то есть голоду, жажде, холоду, и они погибают там в безвестности, видя, как предаются поруганию святыни, повергаются в огонь монастыри и села, не щадя никого из смертных, насмехаются над всем божеским и человеческим, услыхав также, что малоазийские территории Византии захвачены турками и подвергаются опустошению, папа, побуждённый благочестием и любовью, действуя по мановению божьему, перевалил через горы и с помощью легатов распорядился созвать собор в Клермоне». Так писал в ту пору хронист графа Болдуина Бульонского.
Клермонский собор в области Оверни был подобен собору в Пьяченце. Со всех земель Франции, Германии, Италии туда потянулись рыцари, простые воины, миряне, дабы получить благословение папы римского на священный поход в Палестину для освобождения от нечестивых Иерусалима и гроба Господня.
Отправляясь в Клермон погожими днями ранней осени, папа Урбан подумал о том, что на соборе должно присутствовать не только королю Франции, но и кому-то, кто должен представлять Германию. Конечно же, папа не мог позвать с собой отреченного от церкви и преданного анафеме императора. И его выбор пал на императрицу и на принца Генриха. Они в эту пору пребывали ещё во Флоренции, и папа послал к ним гонца, дабы уведомить о своём желании.
Приглашение папы Урбана заставило Евпраксию поволноваться, и не только потому, что там, в Клермоне, она могла встретиться со своим братом королём Филиппом. Юному Генриху она сказала:
— Славный принц, я еду в Клермон охотно, к тому и тебя призываю.
Красивое лицо принца озарилось улыбкой.
— Да, государыня, я тоже поеду охотно.
— Тогда будем собираться в путь, потому как через день-другой папа проедет через город и мы последуем за ним.
И, как всегда перед дальним путешествием, началась великая суета. Евпраксия, однако, отключилась от этой суеты, поручила сборы Родиону, погрузилась в себя. Она вспомнила всё, что рассказывал отец о своей любимой сестре Анне, которая стала королевой Франции. «Она была самая неугомонная и отчаянная среди нас. Даже батюшки не боялась. Но добра и милосердна ко всем. И от неё всегда лучилось тепло, обогревая всех, кто был рядом, — рассказывал Всеволод. — Да помни: от Германии до Франции рукой подать, так ты уж при случае навести братцев и сестру, кои от Анны остались. А ещё знай, что в те далёкие годы наш батюшка отправил с Анной двести воинов. Все они при ней оставались, все семьями обзавелись. Теперь, поди, их сыны поднялись, внуки... Может, кого и к себе на службу позовёшь».
Вспомнив наказ батюшки, Евпраксия хорошо помнила и другое его напутствие. «Ты там, в Германии, не чти себя чужеземкой, а слейся с народом. Будут тебя знать горожане и селяне — полюбят». Пока у Евпраксии не было возможности сойтись с народом, встать рядом с мастеровым, пройтись полем с пахарем. Она, как ей казалось, ни на шаг не приблизилась к горожанам и селянам. Теперь всё это ей доступно. Она — императрица, и при больном, преданном анафеме супруге у неё остаётся право быть истинной государыней и печься о своём народе, о его духовности, нравственности и достатке. И она сочла, что поездка в Клермон, а оттуда через Париж и север Франции в Германию и по всем землям от севера и до юга державы и будет тем сближением с подданными, к коему должны приобщаться вес истинные государи.
И всё получилось бы у Евпраксии, как было задумано. Она встретилась с графиней Матильдой и с королём Конрадом, рассказала им о своём желании объехать земли Германии и услышала одобрение.
— Тебе должно показать себя, — сказала графиня Матильда. — Тем более что после Клермона будет что сказать христолюбивым немцам.
— Я хочу, чтобы со мной поехал архиепископ Гартвиг, но он куда-то пропал, — посетовала Евпраксия.
— Мы постараемся его найди, — отозвалась Матильда, — и, даже если ты уедешь, он нагонит тебя в пути.
Вскоре во Флоренции появился огромный папский кортеж. Папа Урбан остановился во дворце графини Матильды. А через сутки двинулся дальше. Императрица выехала следом за папой. Её путешествие началось удачно. Сопровождали Евпраксию восемь русичей и полсотни воинов, коих дала ей графиня Матильда. В свите были архиепископ Гартвиг, аббат Гиршау, трое придворных и несколько слуг. Родион теперь служил казначеем Евпраксии, ему присвоили титул барона. Родион был не очень доволен титулом.
— Я, матушка императрица, есть боярин, им и останусь, — сказал он Евпраксии, когда она объявила его бароном.
— Родиоша, не печалься. Это для германцев ты барон, а для меня по-прежнему ангел-хранитель.
Да, всё было по-прежнему — они любили друг друга. И лишь целомудрие и благородство сдерживали их от того, чтобы они не бросились друг другу в объятия. И оба они свято хранили тайну единственной любовной ночи, когда отчаяние толкнуло Евпраксию просить как милости телесной близости. Правда, и теперь, на долгом пути из Флоренции в Клермон, через горные перевалы Альп, через прибрежное долины Франции, они тянулись друг к другу. И случалось так, что Евпраксия просила седлать ей коня и скакала вперёд, оставляя кортеж далеко позади. И тогда её верный телохранитель Родион пускался вскачь. Догнав Евпраксию, он молча ехал рядом, любуясь её прекрасным лицом. Она ощущала его любящий взгляд. И часто, не выдержав тягостного молчания, с лаской в глазах, она просила Родиона спеть какую-нибудь древнюю былину. И он охотно отзывался на её просьбу, долго и с душою пел про Добрыню Никитича, про Святогора:
Снарядился Святогор Во чисто поле гуляти, Заседлает своего добра коня И едет по чисту полю. Не с кем Святогору силой помериться, А сила-то по жилочкам так живчиком и переливается. Грузно от силушки, как от тяжёлого бремени...Душевная былина льётся с тихой печалью. Евпраксия подпевает Родиону. И счастливы они. Эти часы, проведённые в близком общении с любимым, наполняли Евпраксию надеждой на то, что к ним ещё придёт праздник их душ, сердец и любви.
Путешествие папы Урбана и императрицы Евпраксии завершилось 24 ноября. Пополудни кортеж появился на улицах Клермона и под гомон тысячной толпы горожан проследовал к дворцу клермонского пэра. Императрица в эти часы ехала сразу же за каретой папы римского. Она сидела в открытой колеснице и приветливо махала рукой горожанам.
На площади близ дворца пэра кортеж встречали священнослужители Франции — примасы церквей, епископы. Отдельной группой стояли король Франции Филипп I с супругой, его приближённые, брат короля герцог Гуго, пэр Клермона граф Анжей Клермонай. Лишь только Евпраксия увидела Филиппа, как сердце подсказало ей, что это родной человек. Филипп был похож на её отца князя Всеволода, как тог, по его рассказам, был похож на сестру Анну. Евпраксия была готова бежать навстречу Филиппу. Когда же он подошёл к прекрасной императрице-незнакомке, дабы поцеловать ей руку, Евпраксия дерзнула поцеловать сто в губы и сказала по-русски:
— Здравствуй, дорогой брат, нам с тобой должно облобызаться по-киевски.
Он был изумлён и смотрел на улыбающуюся Евпраксию тёмно-серыми глазами с детским удивлением.
— Господи, что я слышу?! Наконец-то я поверил, что моя сестра императрица Германии.
Евпраксия и Филипп троекратно поцеловались, а потом она представила своего питомца:
— Принц Саксонского герцогского дома Генрих, сын императора Генриха Четвёртого.
Филипп протянул принцу сильную руку Евпраксия любовалась им. Он был чуть выше среднего роста, широкоплечий, с мощной грудью. Евпраксия подумала, что матушка Анна много отдала ему славянской крови, наделила русским обличьем.
— Славный принц, я рад познакомиться с тобой, — сказал Филипп по-немецки. — Приглашаю в Париж погостевать.
Генрих зарделся от смущения, но с ответом не замешкался.
— Матушка Евпраксия много рассказывала о тебе, король Филипп. Я хотел бы стать твоим другом.
— Так и будет, славный принц, — ответил Филипп.
Не успели Евпраксия и Генрих оглядеться, как к ним подошёл герцог Гуго. Он уже знал, что Евпраксия его сестра, и без церемоний обнял её и расцеловал.
— Прости, россиянка Евпраксия, я про тебя знаю больше, чем брат Филипп. А зовут меня Гуго, и я был любимцем у матушки Анны.
— Так и было на самом деле, — засмеялся Филипп и похлопал брата по спине. — Да помни, что мы тебя все любили!
Герцог и рыцарь Гуго, победитель многих рыцарских турниров, одним из первых отзовётся на призыв папы Урбана идти на защиту гроба Господня и поведёт крестоносцев Франции в далёкую Палестину. Он прославится многими подвигами и только через пять лет вернётся на родину залечивать многие раны, полученные в сечах.
А пока король Филипп представил ещё одного близкого Ярославичам человека, графа Яна Анастаса, сына несравненных Анастасии и Анастаса, верных к самых близких вельмож Анны, королевы Франции. Вот уже более тридцати лет Ян Анастас служил верой и правдой Франции и королю Филиппу и был маршалом королевского войска.
Душа Евпраксии ликовала. Ей было весело. Она ещё раз обняла Гуго, позвала Родиона и всем представила:
— Вот вам ещё один русич, боярин Родион. Он со мной с того часу, как я покинула батюшкин дом. О, господи, я теперь словно на родной Руси! — И привлекла к себе Генриха, повела его по кругу. — Родимый, это все твои друзья! Уж поверь мне.
— Я верю, матушка, верю! — отозвался он. И не обманулся.
Генрих V простоял на троне Римско-Германской империи почти двадцать лет. И во время его царствования ни Франция, ни великая Русь его не огорчили. И он был с ними любезен.
Императрица Германии и король Франции провели в Клермоне три дня. Этого им и их приближённым хватило наговориться вдоволь, узнать друг друга поближе. Они побывали на церковном соборе, где кроме полутысячи церковных иереев собралось не меньше десяти тысяч паломников. Евпраксия уже видела подобный собор в Пьяченце. Папа Урбан, в той же тиаре и в белоснежном одеянии, выпив индюшачье яйцо, выступал с амвона храма и призывал католиков идти в Палестину, прогнать из неё неверных, взять под свою опеку Иерусалим и гроб Господень. Горячая речь папы проникла в души христиан, они воспылали жаждой и в тысячи голосов вознесли клич:
— Смерть неверным! Освободим гроб Господень! Веди нас, святой отец!
В ответ на речь папы Урбана от имени Франции выступил герцог Гуго Анжуйский.
— Франция поднимает знамя борьбы против неверных. Мы обнажаем мечи и идём на восток!
Хронисты той поры отмечали, что уже весной следующего года Францию, Германию и Италию покинули первые отряды крестоносцев. Их вели к далёкой Палестине отважные рыцари, и среди них были герцог Гуго Анжуйский, маркграф Людигер Удо и граф Паоло Кинелли.
А пока знатные сеньоры, окружённые слугами, бедные рыцари в железных панцирях, тысячи простолюдинов в холщовых рубахах и деревянных башмаках приняли призыв папы римского и разъехались, разошлись по своим землям, чтобы донести весть о крестовом походе всем жаждущим подвига во имя Господа Бога.
Король Филипп и императрица Евпраксия покинули Клермон на четвёртый день. Евпраксия охотно приняла приглашение Филиппа погостить в Париже. В пути Евпраксия и Филипп провели многие часы в одной карете. Их разговорам не было конца. Они сохранили родной язык и вспоминали всё, что было связано с родиной предков, с Русью. Звучали в их разговорах и печальные ноты. Король Филипп пожаловался:
— Нынешним летом приходили к нам морем на ярмарку в Руан купцы новгородские. Сказывали, что Русь худо живёт, раздирают её свары междоусобные. Ещё сказывали, что Олег Черниговский-Окаянный не даёт покоя не великому князю Святополку, ни твоему брату Владимиру Мономаху. Словно поганый половец на них бросается.
— А у тебя как в державе? — спросила Евпраксия.
— Живём без брани. Даже воинственные Валуа не ярятся. Тебе же сочувствую, сестра, горестна твоя доля, да хорошо ты высеют Сатира на честном миру, — весело и с улыбкой на чистом славянском лице высказался Филипп. — А то, что ты решила проехать по моей и своей державе, — это хорошо. Наш дед Ярослав Мудрый делал это каждый год. Так рассказывала моя матушка.
— Давно ли она скончалась? — спросила Евпраксия.
— Десять лет миновало, как преставилась в Санлисе, под Парижем. И ведь в один день со своей незабвенной товаркой Анастасией, матушкой Яна Анастаса. Как я их любил!
— Счастливый. А мне и голову не к кому преклонить. Была бы вольная, Родиону положила бы на грудь головушку. Да мужняя остаюсь, — попечаловалась Евпраксия.
Филипп показал сестре города Лион, Орлеан, Париж. Всюду французы строились. На реках ставили мельницы, мосты, в городах возводили храмы, жилища. Народ Франции многие годы только и знал, что трудился. Крепла держава и на многие годы после Филиппа останется такой.
В Париже, в королевском дворце на острове Ситэ посреди Сены, Евпраксия провела неделю. Она отдыхала в спальне, в которой когда-то почивала её тётушка, королева Франции. От всего этого на душе у Евпраксии было светло, празднично. И всё-таки иногда от горьких дум о своей судьбе у неё на глаза наворачивались слёзы. Она давала им волю, и они смягчали душевную боль. Но однажды ночью, не вытерпев душевных мук, Евпраксия покинула своё ложе и вошла в тот покой, где в прежние годы жили Анастас и Анастасия, а теперь в нём отдыхал Родион. Она жаждала найти у него защиту от безысходности и нашла.
— Ты меня прости, Родиоша, но если я не избавлюсь от печали и от мук, терзающих душу, то сойду с ума.
Нежный и ласковый Родион сумел утешить мятущуюся душу Евпраксии. Ликуя сам от близости любимой, он вернул и ей радость жизни. Три ночи они были неразлучны. И после этих ночей Евпраксия вновь преобразилась. Она была весела и деятельна, она смеялась, как в юные годы. Был счастлив и Родион. Он изливал свою любовь на Евпраксию, как благодатный дождь. Он познал с нею такую близость, какая до исхода дней не будет им забыта.
Накануне отъезда из Парижа король Филипп устроил в честь Евпраксии званый пир, собрались многие именитые вельможи с дамами. Всем было интересно увидеть сестру их короля, германскую императрицу. Евпраксия многих покорила на этом пиру, нашлись и те, кто помнил королеву Анну, и они признавались, что Евпраксия очень похожа на их любимицу. Евпраксия блистала рядом с Родионом, которого не смущали ни герцога, ни графы, окружающие короля. Ведь среди них были и русичи, родственные ему души. Ему и Евпраксии дышалось во Франции вольно, словно здесь был другой воздух, нежели в замках Германии.
Но праздничная неделя завершилась, и пора было возвращаться в державу, перед которой у императрицы имелись большие и малые обязанности. О том ей на седьмой день напомнил принц Генрих:
— Матушка государыня, скоро наступит ненастье, а нам ведь ещё по всей Германии нужно проехать.
— Да, славный Генрих. И завтра утром мы уезжаем.
Прощание Евпраксии с братьями было тёплым. Они сказали ей, что, ежели будет худо в Германии, чтобы приезжала к ним, в Париж.
— Заживём здесь, как на Руси, общиной, — заверил весёлый Гуго. Из Парижа кортеж Евпраксии двинулся к рубежам Германии кратчайшим путём — на Люксембург, оттуда — на Майнц. Впереди мчались гарольды, оповещая народ о приближении императрицы и принца. И сотни, тысячи горожан выходили на улицы, на площади и приветствовали «свою государыню». При въезде в города кортеж встречали колокольным звоном, благовестили, в храмах служили торжественные мессы.
Однако один из Гарольдов сослужил Евпраксии плохую службу. Как миновали рубеж Франции, недоброжелатель вместо того, чтобы оповещать народ, помчался к императору. Швабу Курту Кнухену пришлось одолеть немалое пространство по непроезжим декабрьским дорогам, под дождём и снегом, пока он добрался до Кёльна, куда недавно перебрался двор императора. Встретил гонца маркграф Людигер Удо. Выслушав, поспешил к Генриху, который был болен и лежал в постели.
— Ваше величество, из Франции возвращается императрица, — докладывал маркграф. — Следует по северным городам и всюду поднимает народ.
— Чего она добивается? — спросил Генрих, приподнявшись на локоть. Его рыжие волосы покрылись пеплом, под глазами висели синие мешки. В свои сорок шесть лет он выглядел стариком.
— Возмутить против вас подданных, — ответил Людигер.
— А где нынче маркграф Деди и маршал Ульрих?
— Они во дворце.
— Позови их.
Людигер покинул спальню, а Генрих откинулся на подушку и задумался. Весть об Аделыейде зажгла в его груди потухший было огонь ненависти. Генрих счёл, что теперь может насытить свою жажду. Оставалось лишь придумать, как это лучше сделать. Потому Генриху и понадобились Деди и Ульрих. Они пришли втроём. Выслушав императора, лукавый Деди усмехнулся.
— Ваше величество, позволь нам с Людигером поохотиться на эту лису.
— И как вы мыслите охоту?
— Мне известно, что из Италии во Францию она ушла с полусотней воинов Матильды и с восемью россами, — излагал свои мысли Деди. — Думаю, что войско её не приросло. И нам не составит большого труда загнать её в клетку. На этот раз той лисе не удастся вырваться из клетки.
— Я одобряю твой план, Деди. Потому возьмите с маршалом Ульрихом две сотни воинов и гоните её с двух сторон, пока не захлопнете за нею ворота где-нибудь в Бамберге. Ты, любезный Людигер, остаёшься при мне.
Людигер смиренно поклонился, хотя и был недоволен, что «охота на лису» пройдёт без него.
Уже на другой день из Кёльна навстречу императрице выехали два отряда вооружённых воинов и двинулись на север. Шли быстро, и через три дня, лишь только путешественники выехали из Майнца, отряды сблизились с ними. Окружив в чистом поле кортеж и отряд воинов Евпраксии, маркграф Деди приблизился к экипажу императрицы и объявил:
— Ваше величество, вы окружены и будете следовать зуда, куда вас поведут. И не вздумайте сопротивляться.
— Маркграф Деди, это насилие, — ответила она, открыв дверцу.
— Да, ваше величество, — согласился Деди.
— Но чья это воля?
— Вам известно.
Евпраксия подумала с горечью, что ей, видимо, суждено до конца дней своих бороться с Рыжебородым Сатиром. «Господи, и за какие грехи ты, милосердный, послал на мою голову этого злочинца», — воскликнула в душе Евпраксия. И сказала Деди, коего считала за тень Генриха:
— Твой господин пожалеет о том, что затеял новую свару.
Она поняла, что сейчас ничем не может облегчить свою и близких ей людей участь. И пока ей дано одно: повиноваться слугам императора, потому как видела ту силу, коя окружила её малую свиту. Три дня и три ночи гнали воины Генриха отряд императрицы куда-то в Центральную Германию. Лишь на четвёртый день перед Евпраксией показалась знакомая крепость Бамберг, в которой несколько лет назад она уже побывала как бы в изгнании.
Вскоре Евпраксию и её людей загнали в замок, а перед тем, как закрыть ворота, маркграф Деди позвал архиепископа Гартвига и сказал ему:
— Ты, святой отец, самый разумный здесь. Потому говорю тебе: сидите тихо. Носы за ворота замка не высовывайте. Мои воины будут стоять в осаде до той поры, пока не придёт повеление императора.
Некоторое время на пустынном дворе замка стояла тишина. Первым пришёл в себя принц Генрих.
— Матушка государыня, почему так с нами поступили? — спросил он. — Мы же не враги императору.
— Ты скоро всё поймёшь, славный, потому наберись терпения, — ответила принцу Евпраксия.
На дворе появился управляющий замком, слуги, вышли из экипажа и Евпраксия с Генрихом. Управляющий подошёл к императрице, поклонился и ждал, когда она спросит о чём либо или прикажет.
Было ветрено, холодно, под ногами лежала сплошная снежная каша. И состояние духа Евпраксии оставалось угнетённым. Никак не могла предполагать императрица, что её благое намерение обернётся новым мрачным заточением. Насилие взбунтовало её дух. Она сыпала на голову императора проклятия и призывала кару Божью.
Прошло два месяца бамбергского заточения. Маркграф Деди сдержал своё слово. И четыре сотни воинов посменно охраняли пять ворот замка. Но метельной февральской ночью троим узникам удалось вырваться за крепостную стену через подкоп. Ушли из Бамберга Гартвиг. Родион и Тихон. Они надеялись добраться до Гамбурга и оттуда с помощью княгини Оды призвать северных князей на защиту императрицы. Достигнув первого селения, они купили пару лошадей и крытую повозку. Им стало легче передвигаться, и через полторы недели они достигли Гамбурга и явились в замок княгини Оды. Она в это время была уже замужем за князем Бурхардом и воспитывала трёхлетнего сына Эмиля. Она приняла беглецов как родных: истопила баню, накормила, напоила. Потом была долгая беседа. Рассказывал Гартвиг.
— В замке мы голодаем. Раз в неделю нам привозили повозку хлеба, иногда приводили бычка или баранов. И не было с нами никаких переговоров. Да прознали мы от воинов, что Генрих вот уже третий месяц лежит больной в постели. Мы сидим в Бамберге, как узники, без прав и надежд. Потому просим тебя, княгиня, именем императрицы и Господа Бога позвать князей и вызволить нас из заточения.
Князь Бурхард был сдержан. Слушая, он только вздыхал. Но княгиня Ода вся кипела от возмущения и гнева.
— Завтра же я пошлю гонцов с грамотой ко всем ближним князьям и соберём войско. Мы поднимем горожан на восстание, но не дадим погибнуть императрице.
В этот же вечер Гартвиг и Ода написали несколько грамот с призывом о спасении императрицы, а утром гонцы умчали — кто в Ганновер, кто в Мейсен и другие города Северо-Восточной Германии. Не сидели без дела Гартвиг, Родион и Тихон. В Гамбурге они входили в храмы и призывали верующих постоять за свою императрицу. Их примеру последовали многие священнослужители за пределами Гамбурга. И вскоре многие города Германии знали о новом злодеянии императора.
С наступлением весны противники Генриха IV привели многие отряды воинов в Гамбург, и вскоре более чем двухтысячное войско двинулось на юг в сторону Бамберга. В пути к нему присоединялись всё новые силы, новые сторонники императрицы. И маркграф Деди, если бы не был хитёр и прозорлив, сложил бы под Бамбергом голову. Он и его воины бежали из-под Бамберга за сутки до появления в городе восставших северян. Деди давно следил за нарастающим движением горожан, за сборами князей. Там, в северных землях, у него были свои люди, которые вовремя принесли вести о приближении восставших горожан и княжеских воинов. Северяне подходили к Бамбергу с надеждой сразиться с врагами, наказать их. Но каково же было их разочарование, когда они не нашли императорских воинов. Не удалось северянам выплеснуть ярость на головы «жалких трусов». И, приближаясь к замку, они кричали:
— Позор воинам Рыжебородого! Позор трусам!
Ворота в замок были распахнуты, и северяне вскоре заполонили двор. Они звали императрицу. И Евпраксия вышла на крыльцо, многажды произнося «спасибо» и кланяясь.
— Славные северяне, низкий поклон вам и моя сердечная признательность за спасение! — сказала императрица.
Потом был совет друзей и близких. Евпраксия находилась в затруднении, не зная, куда ей идти: на юг, во владения графини Матильды, или на север в Гамбург, где был принадлежащий ей замок. И мудрый Гартвиг сказал:
— Нам, государыня, путь на юг пока закрыт. Войско Генриха нам не одолеть. Потому» сочти за благо уйти под защитой северян в Гамбург.
Императрица прислушалась к мудрому совету архиепископа и вскоре покинула Бамберг. Правда, возникли трудности с воинами графини Матильды. Они рвались на юг, в родные места, и никак не хотели идти на север и побыть при Евпраксии до лучших времён. Гартвигу с трудом удалось их уговорить.
— Вам не миновать встречи с воинами императора и вас возьмут в плен, или, хуже тот, вы сложите головы. Да и графиня вас не похвалит, если бросите императрицу в беде.
И полусотня воинов осталась при Евпраксии. В первые мартовские погожие дни императрица благополучно добралась до Гамбурга и поселилась в Королевском замке, который стоял на крутом берегу Эльбы.
Глава двадцать пятая МАТУШКА РУСЬ
И пропито более трёх лет тихой, размеренной жизни в гамбургском замке. Все эти годы Евпраксия почти не вмешивалась в государственные дела, часто встречалась с княгиней Одой и подолгу наблюдала, как в морской порт Гамбурга приплывали суда под белыми парусами, и среди них она каждый раз искала новгородские кочи и струги. Когда же они приходили, знала к себе купцов, беседовала с ними, покупала товары, радовалась каждой новой весточке из родимой земли. И страдала по ней всё сильнее год от года.
За минувшие три года император дважды пытался расторгнуть с Евпраксией брак, но каждый раз ни рейхстаг, ни папа римский, ни конклав кардиналов не давали на то согласия, защищая интересы императрицы, которая воспитывала наследника престола.
Вскоре, однако, в жизни Евпраксии вновь наступили перемены, и она вынуждена была уехать и Италию. Завершился крестовый поход, Иерусалим был освобождён от неверных, гроб Господень спасён. И крестоносцы возвращались в родные земли. Тысячи их сложили головы в трёхлетней осаде Иерусалима, а те немногие, кто вернулся, были изранены, страдали от тяжёлых болезней, неведомых в Европе.
Вернулся в Тоскану и король Конрад. Он водил в Палестину рыцарей неверной Италии. Раны его были настолько тяжелы, что через год он скончался. Но ещё раньше, когда Конрад лежал недвижим, итальянский народ низко кланялся Клименту и просил его благословить на престол принца Генриха. Конрад отдал престол брату с отрадой в душе. Знал он, что Генрих будет достойным королём. И осенью 1099 года принц Генрих был коронован, приняв титул короля Италии.
В связи с этими событиями Евпраксия и уехала из Гамбурга. В её душе вновь всё сместилось: печаль за Конрада, радость за Генриха. Молодому королю шёл девятнадцатый год. Это был благородный рыцарь без страха и упрёка, считающий чистоту чести превыше всего. К Евпраксии он испытывал сыновью любовь. Он боготворил папу римского Урбана II. И когда тот скончался как раз в те дни, как только Генриха короновали, юный государь плакал, не стыдясь своих слёз. Он остался хорошим другом и новому папе римскому Пасхалию II, бывшему кардиналу Риньеро, давнему почитателю императрицы Евпраксии и графини Матильды.
С первых же дней восшествия на престол молодой король начал борьбу против отца, добивался, чтобы его низложили. И казалось, что всё шло к тому. Папские легаты и королевские посланники тайно посетили всех князей, герцогов и графов Германии и требовали от имени папы римского проведения рейхстага, где бы император был низложен. Однако вельмож Германии что-то сдерживало сделать решающий шаг. Может быть, то, что последние годы Генрих IV вёл, как многим казалось, благообразную жизнь. Он объявил даже о том, что намерен построить в Мюнхене храм, равного которому по величию не будет в Германии. Однако это обещание оказалось очередным обманом Рыжебородого, и этот обман переполнил чашу терпения светской знати Германии.
К осени 1105 года по Германии прошёл слух о том, что князья назначили на октябрь проведение рейхстага в Майнце. Однако Генрих не дремал и тут же поспешил в Майнц, чтобы помешать проведению рейхстага. Были настороже и князья. Они собрали там большие военные силы. И лишь только Генрих появился в городе, его двести воинов были окружены и их отсекли от кортежа императора. Как только он въехал в Королевский замок, там его немедленно арестовали и заключили в темницу. Никого из приближённых императора не взяли под стражу. Даже верного маркграфа Деди Саксонского отпустили с миром. Да сказали потом, что он сам рвался в темницу к своему господину.
Рейхстаг был созван в декабре. Генриха IV привели на заседание и потребовали покаяния во всех грехах, роспуска секты николаитов и отречения от престола. И больной, немощный император всё исполнил безропотно. Рейхстаг принял его отречение единогласно и вынес решение о заключении отреченного императора в замке Интельгейм. Заточение оказалось милосердным. Но здоровье Генриха IV было подорвано, и спустя несколько месяцев на пятьдесят шестом году жизни он скончался. Немецкий народ не печалился по его кончине. Похоже, что подданные императора никогда не любили своего Рыжебородого.
И овдовевшая Евпраксия приняла кончину супруга равнодушно. Горестно и печально на душе было оттого, что за семнадцать лет жизни в супружестве с императором она не помнила ни одного счастливого дня, который подарил бы ей супруг. Утешало Евпраксию лишь то, что ей удалось воспитать сына Генриха IV достойным великой державы государем. Ей было отрадно, что юный государь продолжал чтить её как мать. Будучи королём Италии, он всегда советовался с ней, когда нужно было принять какое-либо решение государственной важности. Он не изменил своего отношения к Евпраксии и тогда, когда был коронован на императорство. После возложения короны в Кёльнском соборе Генрих V подошёл к Евпраксии, поклонился и сказал:
— Спасибо, матушка государыня, это благодаря тебе я встал нынче на престол империи.
— Полно, родимый, ты получил трон по праву наследства. — И Евпраксия обняла молодого императора, которого всегда считала за своего сына.
Может быть, вдовствующая императрица и скоротала бы при нём годы жизни до исхода дней, но в её душе с новой силой вспыхнула тоска по родине. И она уже не могла ничего с собой поделать. Призвав на совет своих верных русичей — Родиона и Тихона, она спросила:
— Не страдаете ли вы по родимой земле? Не пора ли нам вернуться на днепровские берега, испить водицы из могучей реки?
— Пора, матушка, пора, — первым отозвался Тихон. — Страдания наши безмерны. Да и ты, видим, изошлась в них.
— Верно, родимые, ничто меня здесь не держит. Вот только попрощаюсь со славным государем и в путь. — Глядя на Родиона, Евпраксия подумала: «Господи, может, в родном Киеве нам с тобой солнышко посветит. Как доберёмся в стольный град, буду просить у матушки благословения, чтобы стали мы одной семеюшкой».
Он же сказал, словно прочитав её мысли:
— И право, государыня, тебе, вдовой, на чужой земле делать нечего. А в Киеве авось гнёздышко совьёшь.
Вдове Евпраксии шёл в ту пору тридцать шестой год. И краса её нисколько не увяла. Когда же она была весела, в глазах её зажигался огонь, который, как мотыльков, притягивал к себе всех, кто смотрел в её большие серые очи.
Узнав о желании Евпраксии покинуть Германию, Генрих V примчал из Кёльна в Майнц, дабы уговорить её остаться при императорском дворе.
— Мне без тебя будет трудно, матушка государыня. И Майнц тебе пора покинуть, свой долг ты исполнила.
— Птицы летят на родимое гнездовье искать покой. Потому не неволь меня, славный. Ты уже возмужал, тебе посильно управлять государством самодержавно.
Генрих V смирился. Знал он, насколько тверда в своих намерениях его названая матушка. Он повелел своим приближённым собрать в путь вдовствующую императрицу достойно её высокой чести. На прощание, обнимая и целуя её, сказал:
— Помни, матушка государыня, здесь у тебя остаётся дом, в котором ты всегда желанна. Да передай великому князю Святополку, что он мне любезен, как и его дядюшка, король Франции Филипп.
Жалела Евпраксия, что ей не удалось проститься с Гартвигом, которого папа Пасхалий возвысил в кардиналы и позвал в Рим. Ещё печалилась Евпраксия оттого, что не простилась с тётушкой Одой, которая оставалась в Гамбурге.
На проводы Евпраксии следом за императором вышел весь его двор. Приехали многие вельможи из ближних городов и замков. Сотни конных рыцарей и простых воинов во главе с императором провожали кортеж Евпраксии далеко за Майнц. Сентябрь был благодатен, и все находились в каком-то грустно-возбуждённом состоянии. В полдень, через два с лишним часа пути, Евпраксия и Генрих распрощались. Целуя его, Евпраксия наказывала:
— Будь милосердным государем, люби свой народ, не отдаляйся от него, и твоё царствование будет счастливым. — Она перекрестила его, смахнула набежавшие слёзы и скрылась в карете.
Началось возвращение в страну безоблачного детства. На душе у Евпраксии было светло и радостно. Она торопилась покинуть Германию и уже прикидывала про себя, к кому из сродников ей заехать по пути. И выходило, что прежде всего ей придётся остановиться в Венгрии. Там её тётушка Анастасия была замужем за королём Андреем II. Знала она, что супруг Анастасии много лет назад был убит в сече. Судьбы же Анастасии Ярославны Евпраксия не ведала, но надеялась встретиться с её сыном и дочерью, которые, как знала Евпраксия, остались жить в Венгрии.
Но все благие чаяния россиянки оказались напрасными. Вмешались злые силы и подрубили последний корень, на котором держалось дерево её судьбы. В злополучном Мейсене, где двадцать с лишним лет назад она претерпела первое огорчение, на той же площади, её отряду преградили путь три рыцаря, закованные в латы, и с десяток воинов. И если бы главный рыцарь поднял забрало, то Евпраксия узнала бы в нём маркграфа Людигера Удо. Он вернулся из Палестины ещё более жестокий и наглый. До самой смерти Генриха IV он преданно служил ему и не раз просил его воли посчитаться с Евпраксией за все нанесённые ею обиды. Император запретил маркграфу чинить императрице зло. «Только мне можно наказать её!» — заявил однажды Генрих Людигеру. Теперь императора не было в живых и маркграф присвоил право наказать ненавистную особу себе. Он следил за её движением от самого Майнца. Перед Мейсеном обогнал её окольными дорогами и встретил кортеж на площади. Обнажив меч, он помчался к колеснице, в которой сидела Евпраксия. Но русичи не замешкались, встали на пути рыцаря обнажёнными мечами. И первый удар Людигера принял на себя Тихон. Подоспели спутники Людигера, и началась сеча. Зазвенели мечи, гремели щиты, ржали кони. Силы были почти равными. Но Людигер был неистов. Тихон умело отбивался от него, но достать не мог. Другие рыцари тоже были искусны и смелы. Родион с трудом отбивался от них. А тут ещё копейщики подступили вплотную и уже одолевали воинов Тихона. Родион наконец изловчился и нанёс смертельный удар одному из рыцарей. Да тут же достал копейщика. Но это было последнее, что он успел сделать. Людигер отпрянул от Тихона, подняв на дыбы коня, развернул его и с лёту ударил Родиона в незащищённую спину. Меч пронзил его, и Родион упал на шею коня. Людигер издал победный клич, но не успел опустить руку, как Тихон вонзил свой меч в правый бок Людигера, и тот был повержен.
Ещё никто не мог сказать, чем завершилась бы сеча, кто выйдет победителем, если бы кто-то из горожан не заглянул в карету и не узнал бы Евпраксию.
— Спасайте королеву! Там королева!
И десятка два горожан, похватав что попало под руки, бросились на нападавших. Вместе с русичами они в считаные минуты расправились с врагами. Лишь одному из рыцарей удалось вырваться с площади, и он ускакал. Народ на площади ещё кричал, шумел, кто-то добил умирающего рыцаря, кто-то навалился на стащенного с коня лучника. А Евпраксия, выскочив из колесницы, бросилась к Родиону, который упал с коня на брусчатку площади. Опустившись пред ним на колени и обхватив его голову, Евпраксия истошно закричала:
— Господи милосердный, за что, за что?! — Да аут же упала на Родиона, забилась в рыданиях.
На площади стало тихо, лишь доносились стенания Евпраксии, да в стороне шепталась толпа горожанок. Появился бургомистр Мейсена. И, узнав, что случилось, подбежал к Евпраксии, склонился к ней.
— Государыня, какое несчастье! Государыня, я помогу вам встать!
Подошёл Тихон и вдвоём с бургомистром поднял Евпраксию. Она упала ему на грудь и замерла. Он почувствовал, как она отяжелела, и понял, что она потеряла сознание. Тихон и бургомистр взяли её на руки и отнесли в ближний дом на площади. Там их встретила хозяйка дома и велела отнести Евпраксию на второй этаж. Её уложили на постель, и хозяйка засуетилась над нею.
Из Мейсена Евпраксия и её спутники уехали только на третий день. Два дня государыня лежала пластом. Тихон без неё распорядился похоронить двух павших соратников. Но когда настал черёд опускать в домовину Родиона, он усомнился в том, что поступал правильно. И дождался, когда наконец Евпраксия пришла в себя.
К вечеру второго дня она открыла глаза, долго что-то соображала, наконец сказала Тихону:
— Позови Родиона.
Тихон был умным человеком, понял, что случившееся на площади побоище выпало из сознания Евпраксии, и он не осмелился напомнить о том, что случилось непоправимое. Он попытался дать ей возможность вспомнить вес самой. И тогда он надеялся, что Евпраксия найдёт в себе мужество выдержать второй удар.
— Хорошо, государыня, ты полежи, а я скоро приду, — ответил Тихон и вышел из покоя.
При Евпраксии осталась хозяйка дома, женщина преклонных лет. Она слышала разговор, но не поняла чужой речи. И, надеясь, что недужная не понимает её говора, по привычке стала рассуждать сама с собой:
— Вот и в себя пришла несчастная, а не помнит, что за разбой случился у неё на глазах, скольких поубивали.
Евпраксия слушала хозяйку дома с закрытыми глазами. Сознание её прояснилось, и она вновь увидела, как бились её воины, как падали убитые. Она увидела блеснувший меч рыцаря и его удар в спину Родиона и то, как он упал. Дальше был провал, и она поняла, что в тот миг лишилась рассудка. Перевалившись на бок, Евпраксия уткнулась в изголовницу и зарыдала. Хозяйка присела поближе, гладила её по спине и приговаривала:
— Поплачь, россиянка, поплачь. Слёзы смывают горе.
Вскоре вернулся Тихон. Он молча постоял близ постели, потом спросил хозяйку:
— Фрау, почему она плачет?
— Она вспомнила, что случилось позавчера. Да и я что-то напомнила. Выходит, как и ты, она знает нашу речь.
— Да, знает, — отозвался Тихон.
Вскоре Евпраксия выплакала слёзы и повернулась лицом к Тихону.
— Ты знаешь, кто напал на нас? - спросила она.
— Да, государыня, - ответил Тихон. – Я-то его никогда не встречал, но бургомистр опознал его. Сказал мне, что это был маркграф Людигер из Штадена.
Гнев опалил лицо Евпраксии. Она поднялась на локоть и твёрдо сказала:
— Я остаюсь в Германии и пробуду здесь до той поры, пока не накажу убийцу!
— Нет нужды, матушка государыня. Тот злодей наказан, и тело его брошено мерзким тварям на растерзание, — негромко сказал Тихон.
— Слава богу, наказал-таки нечестивца. Да кому я в неоплатном долгу за избавление от зверя?
Тихон не ответил. Он лишь пожал плечами. И Евпраксия поняла, что он и есть её избавитель. Они долго смотрели друг другу в глаза, потом Тихон спросил:
— Матушка государыня, как ты распорядишься: предать ли покойного Родиона здесь земле или повезём на Русь?
— Ты и сам знаешь, воевода, что для него лучше. Теперь уж холодно но ночам. Надеюсь, довезём его до родной земли. Он так придал о ней.
— Так и должно быть, — согласился Тихон. — Нам бы неделю его сохранить. — Думая уже о том, где найти опилок и льда, Тихон покинул покой.
А Евпраксия и фрау Гретхен долго ещё коротали время вдвоём. Оказалось, что им было о чём поговорить. Двадцать четыре года назад в её доме на втором этаже прятался император Цюрих и наблюдал из-за шторы за россами и за тем, как юная фрейлейн заставила трубить страшными голосами двугорбых диких зверей.
— О нет, фрау Гретхен, то были не звери, а мирные верблюды. Да им не понравился ваш император, — невольно улыбнувшись, ответила Евпраксия.
На другой день всё было исполнено так, чтобы отправиться в путь. Фрау Гретхен подсказала Тихону, где найти опилки и лёд. Тем и другим поделился с россами мейсенский пожар. Домовину поставили на повозку, обложили льдом и засыпали опилками. В полдень небольшой траурный кортеж покинул Мейсен. Чем дальше русичи уезжали на восток, тем становилось прохладней. Наступила уже глубокая осень, с деревьев опала листва. И на восьмой день пути от Мейсенa Евпраксия и её спутники приехали в Сандомир. Здесь была последняя ночёвка на чужой земле. Утром путники пересекли рубеж между Польшей и великой Русью близ Червеня. Как въехали в город, Тихон остановился близ колесницы Евпраксии, спросил:
— Государыня, мы на родной земле. Что скажешь: остановимся или едем дальше?
— Никакой остановки, Тихон, никакой. Теперь мы и до Киева довезём Родиошу.
Евпраксия оставалась надломленной. С гибелью Родиона, казалось, сердце её перестало биться и сама она лежала рядом с любимым.
В Киев печальная процессия прибыла к вечеру большого православного праздника — Покрова Пресвятой Богородицы. Колокольный благовест путники услышали далеко от стольного града, и посветлели их лица, радостью наполнились сердца. Даже Евпраксия почувствовала, как в груди разлилась благодать от мысли о том, что она скоро увидит родимую матушку.
Вот и городские ворота. Они распахнуты. Тихон первым въехал в город, за ним проследовали колесница, три повозки и четыре верховых воина. И этот жалкий поезд в праздничном Киеве мало кто заметил, потому как тысячи горожан молились в храмах, где в этот час шла Божественная литургия, и на княжеском подворье не враз наступила суета, потому как дворовые люди привыкли ко всяким приезжим и на иных не обращали даже внимания.
Тихон остановил спешащего куда-то холопа.
— Где великий князь, где бояре, гридни? — спросил он.
— Все в Святой Софии, воевода, на молении, — ответил молодой мужик.
Той порой Евпраксия вышла из колесницы, упала на колени и принялась молиться истово, по-русски на образ Богоматери, висевшей над дверями красного крыльца.
Уже смеркалось, когда на княжеском дворе появился великий князь Святополк, двоюродный брат Евпраксии по батюшке. Следом шла вся его свита. И в первом ряду шли великая княгиня, дочь половецкого князя Тугоркана, в крещении Ефросинья, и сбоку от неё Евпраксия увидела свою матушку, княгиню Анну. Сердце её трепетно забилось. «Помнишь ли ты меня, матушка?»
Но и сердце Анны дало вещий знак, подсказало, что странница с почерневшим лицом — её дочь, и княгиня Анна подбежала к ней, прижала Евпраксию к груди. И обе они замерли без слёз и стенаний, стояли долго, пока великий князь Святополк не спросил:
— Уж не наша ли это государыня германская?
— Она, великий князь-батюшка, императрица Евпраксия, — ответил воевода Тихон.
— Чего же нам печалиться, Аннушка? — заметил Святополк. — Дай-ка я сестрицу обниму, ишь как лепно вернулась, в самый престольный праздник матушки Богородицы.
Анна ус тупила Евпраксию Святополку и наконец прослезилась. А он долго всматривался в лицо Евпраксии и тихо оказал:
— Тяжек жребий дочерей наших за рубежами отчизны. — Говорить так у Святополка была причина. Две дочери его, Обыслава и Передислава, были жёнами польского и венгерского королей, и судьбы их складывались трудно. - Да ты у нас единственная императрица великой державы. Честь и слава Руси и тебе, сестрица!
— Спасибо, братец великий князь. А лицом я сошла от утраты на германской земле любого мне боярина Родиона. Ты его помнишь.
Святополк вспомнил, как ещё девочкой тянулась к тому богатырю Евпраксии, обнял её.
— Печалуюсь с тобой, сердешная. Такие утраты даром не проходит.
— Я привезла в Киев покойного, великий князь.
— Вот и славно. Предадим сто прах земле близ Святой Софии.
Святополк и Анна повели Евпраксию в терема, и было застолье со слезами и радостью. Родные лица ласкали взор Евпраксии. Но, сидя за столом, она уже прощалась со всеми близкими, с любезным братом, с матушкой, которая не спускала с дочери любящих глаз.
Евпраксия мало прожила в великокняжеских теремах. Она покаялась во всех своих прегрешениях матушке, поведала, что претерпела на чужбине и что было ей утешением, всё открыла без утайки, пролила слёзы, когда вспомнила, как e неё отняли дитя, батюшкой которому был Родион. И попросила:
— Матушка, ты помоги мне вернуться в православную веру.
— Как не помочь, родимая, — отозвалась Анна. Да больших хлопот в том не будет. Митрополит Никифор ко мне милостив.
Анна могла бы добавить, что в Киеве и на Руси все к вдове великого князя Всеволода были милостивы, любили её и чтили за доброту материнскую. В свои пятьдесят четыре года она была ещё деятельная, и россияне шли к ней со своими бедами и тяжбами. А Святополк дал ей право быть и судьёй, и заступницей бедствующих россиян.
Так и случилось, что через две недели, в день поминовения святых Прова, Андроника и Косьмы, Евпраксию крестили в православную веру. В этот день в княжеских теремах была званая трапеза. И многие гости вознесли Евпраксии здравицу за то, что она приумножила славу великой Руси и семнадцать лет была императрицей Римско-Германской империи.
— Русь должна гордиться тобой, славная дочь, — сказал митрополит Никифор. — Мы многое знаем о твоём стоянии против еретиков и врагов христианской веры, знаем твоё достохвальное воспитание боголюбивого императора Генриха Пятого. Мы отметаем все наветы на твоё целомудрие. Потому здравствуй во благо Руси, императрица-вдовица. А мы будем чтить тебя и молиться за твою светлую душу.
— Спасибо, святейший отец, за добрые слова. Спасибо, родные и близкие. Услышьте же моё последнее слово. Покидая германскую землю, дала я обет Всевышнему принять схиму и уйти в монастырь. Так вы уж простите меня за то, что ухожу от вас. — Евпраксия обошла по кругу трапезную, всем низко кланяясь, и покинула зал.
Следом за нею тенью ушла её мать, княгиня Анна.
«Пострижение было, всего вероятнее, в женском Киевском Андреевском монастыре, где уже жила монахиней её сестра Янка. Говорят, что Евпраксия была игуменьей. Но то благожелательное предположение...
После своего пострижения Евпраксия прожила ещё два года и семь месяцев. 9 июля она умерла, приблизительно на 38-м году своей жизни, будучи очевидно и физически надломлена пережитым несчастьем. Похоронена она была в Печерском монастыре у южных дверей, причём над могилой её была поставлена часовня. Спустя два года там же похоронили её мать», — писал в своих исследованиях русский историк С. П. Розанов, расшифровав запись древней Ипатьевской летописи.
Россия всегда помнила о своей славной дочери Евпраксии Всеволодовне, внучке Ярослава Мудрого, и чтила её, как и многих других своих дочерей и сыновей.
Москва — Финеево Владимирской земли
1997—1998 гг.


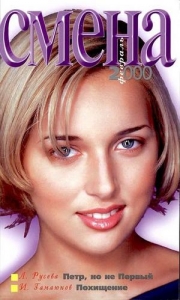

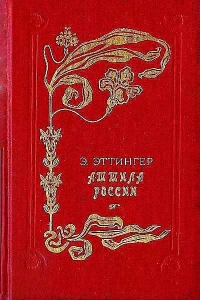
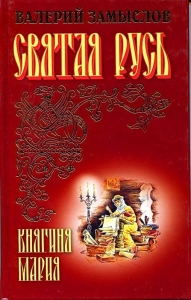


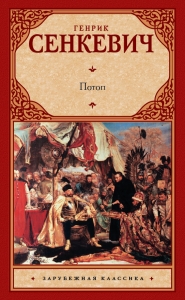
Комментарии к книге «Евпраксия», Александр Ильич Антонов
Всего 0 комментариев