Вс. С. СОЛОВЬЕВЪ ГЕНІЙ Разсказъ
I
Я проводилъ лѣто на водахъ въ — скѣ. Доктора доказывали мнѣ, что на русскія воды ѣхать — безуміе, что кромѣ всякихъ неудобствъ да лихорадокъ и вообще «безобразій» на русскихъ водахъ ничего нѣтъ и неизвѣстно будетъ-ли когда-нибудь. По мнѣ пришлось въ жизни слишкомъ много разбросать русскихъ денегъ но разнымъ «бадамъ», и, наконецъ, это ужъ надоѣло и просто возмущать стало. Ужъ будто на нашихъ водахъ такъ-таки ничего и нѣтъ кромѣ «безобразій» да лихорадокъ?.. Однимъ словомъ, я рѣшился и поѣхалъ въ — скъ.
Но мѣрѣ приближенія къ «водамъ» поѣздъ наполнялся ѣдущими туда-же, куда и я. За нѣсколько станцій кругомъ меня только и шли разговоры что о — скѣ. Всѣ рѣшительно, и мужчины, и женщины, говорили то-жо самое, что и мои доктора, бранили на чемъ свѣтъ стоитъ наши отечественные курорты и увѣряли, что такъ какъ въ — скѣ сезонъ въ разгарѣ, то никто изъ насъ ни за какія деньги не найдетъ тамъ не только свободныхъ часовъ въ ваннахъ, но и помѣщенія. Всѣ были увѣрены, что не найдутъ возможности жить и лѣчиться, а между тѣмъ — ѣхали, и даже очень спокойно. Въ виду этого успокоился и я.
Веселый, пестрый — скъ, расположенный среди красивыхъ горъ, пахнулъ на меня южнымъ свѣтомъ, тепломъ и звуками музыки, несшимися изъ густого парка.
«Чѣмъ-же это хуже „бадовъ“? — подумалось мнѣ. — Только вотъ насчетъ помѣщенія»…
Но и помѣщеніе оказалось. Меня подвезли къ большому, вовсе не безобразному дому. Появилась какая-то подслѣповатая, съ очень подозрительнымъ и слащавымъ лицомъ женщина неопредѣленныхъ лѣтъ, что-то вродѣ экономки, и повела меня по лѣстницѣ. Вотъ широкій, не совсѣмъ опрятный коридоръ; въ него выходятъ около десятка дверей; одна изъ нихъ отпирается — и я въ достаточно просторной и, къ моему удивленію, чистой комнатѣ.
— Цѣна въ мѣсяцъ?
— Двѣсти рублей! — и при этомъ лицо экономки ясно говорятъ:- «А! каково! не ожидали»?
— Я усталъ съ дороги, и не хочется искать, а потому… вотъ мое послѣднее слово: сто рублей.
Экономка дѣлаетъ презрительную мину. Я ухожу.
— Господинъ, подождите… куда-же вы?.. Угодно за сто-семьдесять-пять… больше уступить, ей Богу, не могу, не имѣю права… Сами, знаете время какое… іюль начинается скоро, а у насъ іюль… только одинъ мѣсяцъ и есть… на май, либо въ концѣ августа можно эту-же комнату не то что за сто, а и того меньше отдать… Сами знаете…
Я ухожу.
— Господинъ… да что-же вы… полтораста…
Я ухожу, уже спускаюсь съ лѣстницы…
— Сто-двадцать пять!
Я ухожу совсѣмъ, но и она уходитъ. Усталость и малодушіе одолѣваютъ меня, я возвращаюсь, беру комнату за сто-двадцать пять, привожу себя въ порядокъ, пью чай и затѣмъ, какъ-то совсѣмъ неожиданно для самого себя, засыпаю послѣ двухъ почти безсонныхъ ночей и утомительной дороги въ душномъ, раскаленномъ вагонѣ.
II
На слѣдующее утро отправился я къ доктору. Докторъ любезный, словоохотливый. Выслушалъ меня, постукалъ.
— Напрасно вы, — говоритъ:- за границу нн поѣхали.
— А что?
— Да какое-же у насъ лѣченье… безобразіе… лихорадки… неустройство…
— Послушайте, докторъ, вѣдь, однако, если ничего не устраивать, то неудивительно, что въ результатѣ окажется неустройство.
— Тутъ ничего и устроить нельзя. Это за границей можно, а у насъ, нельзя, потому что мы — Азія… Вотъ я вчера въ фонтанъ рыбъ пустить велѣлъ, а сегодня уже ни одной… Всѣхъ публика выудила!.. Что-вы послѣ этого хотите!
— Да воды-то здѣшнія дѣйствуютъ.
— Ужъ это я и не знаю что: воды-ли, ванны, воздухъ-ли, воображеніе-ли, а только что-то такое дѣйствуетъ… иной разъ пріѣзжаютъ больными, и отлично здѣсь поправляются.
— Спасибо и за это.
Назначилъ онъ мнѣ курсъ лѣченья. Сталъ я пить воды и брать ванны. День пошелъ за днемъ, одинъ какъ другой, точка въ точку. Въ семъ часовъ стаканъ воды, часовая прогулка, потомъ чай, черезъ часъ ванна. Въ два часа обѣдъ въ ресторанѣ — и уже заранѣе меню извѣстно: «супъ или патафью», «барашка», «цыплята» и «жилей». Въ пять часовъ еще стаканъ воды и часовая прогулка вокругъ «музыки». Въ восемь часовъ чай и въ девять спать.
Воды-ли, ванны-ли, однимъ словомъ, то неуловимое «что-то», о которомъ говорилъ докторъ, стало на меня дѣйствовать разслабляющимъ образомъ. Я вдругъ почувствовалъ себя чрезмѣрно уставшимъ, до того уставшимъ, что явилась настоятельная потребность забыть все, чѣмъ я обыкновенно жилъ, уйти отъ всѣхъ умственныхъ и общественныхъ интересовъ. Я обходилъ «читальню», чтобы только мнѣ не попались на глаза книги или газеты. Я по цѣлымъ часамъ сидѣлъ гдѣ-нибудь на скамьѣ, стараясь ни о чемъ не думать, только дышалъ, только глядѣлъ на синеву неба, на зелень деревьевъ, на силуэты дальнихъ горъ. Если кто-нибудь подсаживался ко мнѣ и заводилъ разговоръ съ очевидной цѣлью «познакомиться», я отвѣчалъ до того немногосложно и при этомъ глядѣлъ такъ «серьезно», что разговоръ обрывался и ни о какомъ знакомствѣ не могло быть рѣчи.
III.
Однако, недѣли черезъ двѣ, я, мало-по-малу, вступилъ въ новый фазисъ. Меня начинали занимать наблюденія надъ больными и здоровыми, надъ пестрымъ прибывающимъ и убывающимъ «водянымъ» обществомъ. И прежде всего меня поразила сравнительная немногочисленность вообще людскихъ типовъ. Я здѣсь ровно ни съ кѣмъ не былъ прежде знакомъ, никогда не встрѣчался, а между тѣмъ я отлично уже зналъ всѣхъ этихъ «дамъ» и «кавалеровъ», молодыхъ и старыхъ, даже дѣтей. Такихъ людей, съ такими-же лицами, походкой, манерами, голосомъ, я уже видалъ, и даже не разъ въ жизни. Полнаго тождества нѣтъ и быть не можетъ въ матеріальной природѣ и, конечно, если-бы даже на каждомъ квадратномъ аршинѣ земного шара выросло по человѣку, все-же никогда не нашлось-бы двухъ людей, вполнѣ тождественныхъ между собою. По число людскихъ типовъ весьма ограничено и типы эти повторяются до безконечности. Только время, народность и общественное положеніе кладутъ на нихъ свою печать, не касаясь, однако, ихъ существенныхъ чертъ. Каждое время и каждая народность вырабатываютъ нѣсколько типовъ; однако, далеко, далеко не такъ много, какъ это можетъ казаться сразу…
Но къ дѣлу. Итакъ, я наблюдалъ и передо мной ежедневно, подъ звуки музыки весьма сноснаго полкового оркестра, будто разноцвѣтные треугольники, квадратики и звѣздочки калейдоскопа, мелькали, складывались и пропадали разныя лица. И я слѣдилъ за этой игрою жизни и людскихъ интересовъ, не только внимательно, но, минутами, даже почти злорадно — такъ раздражительно начинали дѣйствовать на меня воды и ванны.
Вотъ мамаша и двѣ дочки. Онѣ стараются держаться важно и, очевидно, причисляютъ себя къ «обществу». Онѣ изъ столицы. Мамаша еще затягивается, модничаетъ и то и дѣло подноситъ къ глазамъ лорнетъ на длинной ручкѣ. Вмѣсто носа у нея — почти ничего, и огромный, выпяченный ротъ съ длинными зубами. Даже страшно — какъ есть «адамова голова». Дочки удивительно похожи другъ-на-друга и на мамашу; но при этомъ довольно недурны: носъ у нихъ немножко побольше, ротъ поменьше, стройная фигура, нѣжный, малокровный цвѣтъ лица съ прозрачной бѣлизною и синими жилками. Могутъ, пожалуй, и понравиться. А все и дѣло въ томъ, чтобы найти кого-нибудь, понравиться и выйти замужъ. Затѣмъ и пріѣхали на воды, можетъ быть принеся послѣднія жертвы, чтобы произвести должное впечатлѣніе и свѣженькими туалетами и всѣмъ прочимъ. Когда на виду, съ новыми знакомыми, за обѣдомъ въ ресторанѣ,- привередничаютъ, самыя дорогія кушанья выбираютъ; ну, а если полагаютъ, что никто не видитъ, въ неурочный часъ, въ дальнемъ уголку, такъ исподтишка совсѣмъ плохенькій обѣдъ въ шестьдесятъ копѣекъ кушаютъ. Между собой на родномъ языкѣ шушукаются, а только кто идетъ мимо — сейчасъ-же непремѣнно по французски: иначе не могутъ!
И я слѣдилъ, какъ онѣ подбирали себѣ подходящую «компанію»: для мамаши генераловъ, а для дочекъ — «приличныхъ» офицеровъ и молодыхъ людей въ куцыхъ курткахъ и съ высочайшими, несмотря на жару, воротничками. Попробуютъ день другой — не подошло, и смотришь — ужъ новое знакомство. Всѣхъ, перебрали.
Сколько разъ мнѣ хотѣлось крикнуть мамашѣ: «Матушка, да этакъ ты никогда не выдашь дочекъ! Губишь ты ихъ, совсѣмъ губишь — помилуй, ни на шагъ отъ себя, вѣчно рядомъ съ ними, будто нарочно для сравненія. Кто-жъ это ими прольстится, когда, при удивительномъ вашемъ сходствѣ, ясно какъ бѣлый день, что лѣтъ черезъ пятнадцать онѣ неизбѣжно превратятся въ такія-же „адамовы головы“! Исчезни, сгинь, пропади — тогда, можетъ быть, что нибудь и выйдетъ»…
Еще мамаша, только ужъ съ одной дочкой. Тоже, тонъ и важность у мамаши такая, что даже голову къ затылку пригибавъ. Какъ съ кѣмъ-нибудь заговорила, такъ, съ перваго слова, презрительно цѣдить'начинаетъ:
— Здѣсь жить нельзя… ничего не устроено, никакого комфорта… грязь… гадость… c'est un misérable trou — que voulezvous! я за границу ѣхала, въ Виши, и вдругъ, наканунѣ отъѣзда, такъ случилось, что нельзя… Я здѣсь въ первый разъ и, ужъ конечно, въ послѣдній… Я обыкновенно каждое лѣто за границу ѣзжу!..
Всякій день, а иногда и по два раза въ день ловилъ я эту тираду, слово въ слово, будто урокъ заученный. Она никакъ не могла начать разговора безъ этого вступленія. А дочка была премиленькая, держала себя просто, нравилась многимъ, «приличные» офицеры и молодые люди въ куцыхъ курткахъ стремились къ ней. Познакомилась она какъ-то съ адамовыми головками eu herbe. Но адамова голова-mere быстро и рѣшительно разстроила это знакомство — хорошенькое личико рядомъ съ дочками вовсе не входило въ ея планы…
Семья: мужъ, жена, дѣти, гувернантка-француженка, изъ дряблыхъ и набѣленыхъ. Повидимому, есть средства. Люди еще далеко не старые. Онъ — одѣтъ какимъ-то шутомъ гороховымъ: съ голой шеей, въ бѣлой фланелевой парѣ, въ желтыхъ туфелькахъ и — красной фетровой шляпѣ. Она — недурна, блѣдна, молчалива. Онъ, и въ ресторанѣ, и на музыкѣ, и въ паркѣ, ни на кого не обращая вниманія и слушая только себя, кричитъ на отвратительномъ, невозможномъ французскомъ діалектѣ. Дѣти расфранченныя и совсѣмъ прозрачныя, такъ что-глядѣть жалко. Она несчастна, онъ глупъ и самодоволенъ феноменально, дѣти недолговѣчны…
IV.
А вотъ вдовецъ среднихъ лѣтъ съ дочкой — подросткомъ. Человѣкъ серьезный и крайне скромный, видимо ушедшій всецѣло въ свою профессію или службу. Провинціалъ; вѣрно живетъ тамъ у себя, въ своемъ городѣ, совсѣмъ замкнутой жизнью, пол-дня работаетъ, а потомъ — къ дочкѣ — и всѣ его радости, весь смыслъ его жизни въ этомъ ребенкѣ. Дѣвочка некрасива, и некрасивость ея еще больше бросается въ глаза оттого, что она всегда очень странно одѣта. Отецъ накупилъ ей много всякихъ нарядовъ, она всегда въ новомъ. Навѣрно, передъ отъѣздомъ на воды, приходя въ лавки, онъ спрашивалъ всего самаго лучшаго, красиваго и моднаго. Самъ онъ во всемъ этомъ ничего сообразить не можетъ, не понимаетъ — совсѣмъ не его это дѣло; онъ повѣрилъ на слово прикащикамъ — и они, кажется, спустили ему всѣ свои негодные товары. Все на бѣдной дѣвочкѣ безвкусно, аляповато, сидитъ ужасно; ботинки съ какими-то огромными помпонами, на шляпкахъ желтыя птицы и зеленыя ленты, въ рукахъ ярко-голубой зонтикъ — и всегда въ этомъ родѣ. Дѣвочка больна, даже очень серьезно, она, видимо, таетъ, задыхается, мучительно кашляетъ. Только эта нежданная, долго не замѣчавшаяся болѣзнь и могла заставить отца бросить все и везти дѣвочку на воды. Онъ, очевидно, понимаетъ ея положеніе, не отходитъ отъ нея ни на шагъ, не спускаетъ съ нея глазъ и все, что онъ думаетъ и чувствуетъ, выражается на грустномъ, измученномъ лицѣ его. Въ немъ идетъ борьба надежды съ отчаяніемъ. Покажется ему, что у нея видъ лучше, что она, безъ задыханій и кашля, прошла сотню шаговъ — онъ такъ и расцвѣлъ, глаза блестятъ, на губахъ блаженная улыбка, голосъ его дрожитъ отъ восторга — онъ вѣритъ въ ея выздоровленіе. Но вотъ припадокъ удушья, кашель такъ и колотитъ, такъ и разрываетъ эту бѣдную грудь — и несчастный отецъ безнадежно, растерянно озирается по сторонамъ, будто ищетъ защиты, спасенія, хоть и знаетъ, что нѣтъ нигдѣ защиты и спасенія. Она не доживетъ до осени… что съ нимъ тогда будетъ?!. На нихъ смотрѣть невыносимо…
Еще совсѣмъ молодой, лѣтъ тридцати, офицеръ. Богатырская фигура, красивое, пріятное лицо съ выразительными черными глазами. Его можно встрѣтить вездѣ — онъ пьетъ воды, гуляетъ по парку, появляется на музыкѣ. Онъ разговариваетъ съ знакомыми, подходитъ къ нимъ, улыбается, иногда даже смѣется. Но вдругъ глаза его меркнутъ, онъ весь какъ-то сгорбивается и быстро идетъ, очевидно самъ не зная куда, никого не видя и не слыша. Онъ, сначала шопотомъ, а потомъ все все громче и громче разговариваетъ самъ съ собою, снимаетъ съ руки своей обручальное кольцо, цѣлуетъ его, потомъ говоритъ, говоритъ, глядя на это кольцо, обращаясь къ нему. За двѣ недѣли, на моихъ глазахъ, онъ постарѣлъ ужасно, его густые темные волосы почти всѣ посѣдѣли. Я встрѣтилъ его какъ-то въ паркѣ. Онъ шелъ прямо на меня и разговаривалъ со своимъ обручальнымъ кольцомъ, которое держалъ у самыхъ глазъ. Невыносимая мука слышалась въ его голосѣ. Онъ поровнялся со мною и меня не видѣлъ.
— Господи! — стоналъ онъ:- зачѣмъ-же такъ жестоко?.. развѣ я когда-нибудь стѣснялъ тебя, запрещалъ тебѣ что-нибудь?.. Какъ-же ты могла уйти такъ… тихонько, предательски?.. Маша, да, вѣдь, это невозможно!.. Ты не можешь быть такой женщиной!..
Вдругъ онъ бѣшенымъ движеніемъ надѣлъ себѣ кольцо на палецъ, ударилъ изо всѣхъ силъ себя кулакомъ въ грудь, потомъ подбѣжалъ къ молодому деревцу и съ дикимъ, почти звѣринымъ рычаніемъ, сталъ его раскачивать, силясь сломать, вырвать…
Молодая дама съ ребенкомъ и нянюшкой. Глаза у дамы темные, пунцовый ротъ сердечкомъ, зубы такъ и сверкаютъ. Очевидно, обдумываетъ и свой скромный, не безъ поползновеній на изящество нарядъ, и каждое свое слово, и каждое движеніе. Говоритъ нараспѣвъ, вставляетъ французскія фразы. Такъ и льнетъ ко всѣмъ, кто кажется ей «plus comme il faul», но дѣлаетъ это очень ловко, осмотрительно, осторожно. Она такъ любезна, такъ умильно улыбается, разговорится и сейчасъ-же скажетъ о своемъ мужѣ, который занятъ, бѣдный, и лѣтомъ служебными дѣлами, назоветъ свое имя, свою фамилію, самую настоящую русскую, довольно распространенную фамилію. Она обо всѣхъ и все знаетъ, даже и то, чего нѣтъ въ дѣйствительности, очень мило сплетничаетъ. Она достигла своего, со всѣми почти знакома, даже «адамова голова» ей любезно киваетъ и пожимаетъ руку; дни ея проходятъ весело и разнообразно.
Но я случайно зналъ ея тайну; ея мужъ и она, несмотря на свою совсѣмъ русскую фамилію, — некрещеные евреи. Наконецъ, нянюшка на что-то разссердясь на хозяйку, обнародовала это, и черезъ день весь — скъ оказался посвященнымъ. Эффектъ былъ полный. Черезъ два дня интересная дама скрылась.
Всѣхъ не переборешь. Дѣвицы, недурненькія, бойкія и скромныя, уродливыя, «станціонныя дѣвицы» въ такъ называемыхъ «русскихъ», «мордовскихъ» и «малороссійскихъ» «костюмахъ», — «станціонныя», ибо такихъ дѣвицъ непремѣнно увидишь на каждой дачной станціи. Онѣ собираются ко всякому приходу поѣздовъ и гуляютъ по платформамъ парочками, подъ ручку другъ съ другомъ, въ своихъ расшитыхъ, до непристойности опошлившихся костюмахъ. Господа офицеры разнаго рода оружія, отъ глубокой арміи до ловкихъ гвардейскихъ адъютантовъ. Находящіеся на дѣйствительной службѣ, въ запасѣ и въ отставкѣ полковники и генералы, съ утра и до ночи непробудно сидящіе за карточными столами и ничего и никого не видящіе и не слышащіе, кромѣ своихъ картъ и партнеровъ… Однако, все это начинало надоѣдать изрядно, и чувствовалось, что если не явится чего-нибудь болѣе интереснаго, то хоть бѣги вонъ, неокончивъ курса лѣченья.
V.
Рано утромъ, выпивъ стаканъ «воды» и отправляясь на обычную прогулку, я проходилъ мимо курзала. Вижу — на одной изъ деревянныхъ колоннокъ, поддерживающихъ длинный балконъ, вывѣшено писанное объявленіе. Подошелъ; читаю:
ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Севодня назначаетца въ большой зала балъ. Начало съ 9 чи. Кавалеры плотютъ 1 ру. Дамы безплотны.
Рѣшилъ посмотрѣть, какъ это N-скія дамы сдѣлаются безплотными, и вечеромъ, заплативъ «1 ру.», оказался на балѣ. Довольно обширная, но унылая зала производила нельзя сказать чтобы очень изящное и поэтически настраивающее впечатлѣніе. Обѣденные столы, обыкновенно ее наполнявшіе, были вынесены. По стѣнамъ стояли желтые вѣнскіе стулья; толстыя неуклюжія гирлянды зелени висѣли отъ одной колонны къ другой; освѣщеніе, состоящее изъ плохенькихъ, большею частію коптившихъ лампъ, укрѣпленныхъ на колоннахъ, было не блестяще. Народу, однако, начинало собираться достаточно.
Музыканты, полуспрятанные на декорированной зеленью эстрадѣ, настраивали свои инструменты. Тамъ и сямъ, на вѣнскихъ стульяхъ, уже размѣстились мамаши, тетеньки и прочія почтенныя особы. Нѣсколько полковниковъ и генераловъ, очевидно, глубокомысленно рѣшали, остаться ли еще «посмотрѣть», или, не теряя дорогого времени, засѣсть за карты. Господа офицеры и штатскіе молодые люди, въ своихъ высочайшихъ воротничкахъ и темненькихъ визиткахъ, замѣнившихъ куцыя куртки, мелькали то тамъ, то здѣсь, исчезали и снова появлялись, отыскивая знакомыхъ дамъ. Какія-то шустрыя дѣвочки, очевидно еще недавно надѣвшія длинныя платья, взявшись подъ ручки, носились взадъ и впередъ по залѣ, отчаянно стрѣляя во всѣ стороны глазами.
Я выбралъ удобное мѣстечко, такъ чтобы никому не мѣшать я все видѣть, и соображалъ, что, несмотря на открытыя окна, невыносимо жарко и что, когда начнутся танцы, нечѣмъ будетъ дышать. Вотъ раздались первые звуки милаго вальса, носящаго названіе: «Невозвратное время». Зала мгновенно наполнилась кавалерами и дамами, появившимися съ балконовъ. Нѣсколько паръ закружилось. Мимо меня пронеслась одна изъ шустрыхъ дѣвочекъ съ армейскимъ подпоручикомъ, потомъ «адамова головка» съ гвардейскимъ адъютантомъ. Все знакомыя лица… За вальсомъ слѣдовала полька, за полькой — кадриль. Жара становилась невыносимая.
Я уже рѣшилъ уйти съ бала, какъ вдругъ, невдалекѣ отъ себя, увидѣлъ нѣчто совсѣмъ мнѣ незнакомое и меня заинтересовавшее. Это была пара — мужчина подъ руку съ дамой. Онъ… но я сразу даже глазамъ своимъ не повѣрилъ, до такой степени необычна и дика была эта фигура. Человѣкъ довольно высокаго роста, худой, съ длинными руками и ногами, лѣтъ сорока, а можетъ и больше. Гладко выбритое измятое лицо: длинные волосы по плечамъ, сильно вылѣзшіе кругомъ лба и уже, посрединѣ головы, съ значительной плѣшью. Можетъ быть, и даже вѣроятно, человѣкъ этотъ въ молодости былъ красивъ, но, очевидно, безпутная жизнь до времени исказила его, а главное, онъ производилъ впечатлѣніе какой-то маски.
Одѣтъ онъ былъ въ черный фракъ съ длиннѣйшими фалдами; бѣлое гофрированное жабо покрывало всю грудь его, и изъ-подъ рукавовъ фрака, чуть не на четверть аршина, до половины кисти рукъ, болтались такія-же гофрировки. Всѣ его пальцы такъ и сверкали сомнительными брильянтами. По жилету, на двѣ стороны, была выпущена толстая золотая цѣпочка, и цѣлая коллекція брелоковъ такъ и звенѣла при каждомъ его шагѣ. Шелъ онъ необыкновенно гордой и величественной походкой, сложивъ тонкія, безцвѣтныя губы въ презрительную мину, полуопустивъ вѣки выцвѣтшихъ, оловянныхъ глазъ. Вообще вся его фигура, походка, нарядъ представляли смѣсь высокомѣрія, чванства и комизма.
«Что-же это за скоморохъ? — подумалъ я. — Откуда онъ взялся?… Вѣрно какой-нибудь пріѣхавшій давать здѣсь представленія чревовѣщатель, фокусникъ, профессоръ бѣлой магіи»…
Но я мгновенно совсѣмъ забылъ о немъ, взглянувъ на его спутницу. Эта была очень молоденькая женщина, самое большое лѣтъ девятнадцати. Противуположность ея съ тѣмъ, кто велъ ее подъ-руку, поражала своей невѣроятностью. Назвать ее хорошенькой было слишкомъ мало — мнѣ давно не приходилось встрѣчаться съ такимъ симпатичнымъ, милымъ, граціознымъ и изящнымъ созданіемъ. Она ровно ничего не сдѣлала для того, чтобы поднять и оттѣнить свою красоту. Нарядъ ея былъ очень, очень скроменъ. Темное, изъ лѣтней дешевой матеріи платьице, кое-какъ сшитое, могло-бы испортить почти всякую фигуру, но ее — не портило, а напротивъ — только еще болѣе выдѣляло стройность ея таліи, гибкость движеній, прекрасную форму плечъ.
Бѣлокурые густые волосы были скручены въ низкоположенную косу, прикрѣпленную большой черепаховой гребенкой. Ни браслета, ни брошки, — ничего, одна красная ленточка на нѣжной, будто изъ севрскаго фарфора шеѣ, да маленькій букетикъ живыхъ цвѣтовъ у корсажа. И все-же она казалась сказочной Сандрильоной передъ всѣми этими шустрыми дѣвочками и «адамовыми головками», Глаза большіе, голубые, съ длинными рѣсницами и мечтательнымъ, какимъ-то идеальнымъ выраженіемъ.
Я не замѣтилъ въ ней смущенія, неловкости, робости, но чувствовалось въ ней что-то странное, что нельзя было отъ нея оторваться. Однако, всего страннѣе, всего непонятнѣе было то, какимъ образомъ такое созданіе появилось подъ руку съ этимъ скоморохомъ, профессоромъ бѣлой магіи.
Вотъ они прошли мимо меня.
— Ты должна танцовать! — разслышалъ я его хриплый голосъ.
— Зачѣмъ?.. Уволь!.. Зачѣмъ я танцовать стану? — прошептала она, останавливая на его чванномъ, противномъ лицѣ свой чудный взглядъ.
Что-же въ этомъ взглядѣ?.. что это? Неужели любовь?.. Да нѣтъ, быть того не можетъ! А въ голосѣ мольба, и страхъ… почти отчаяніе.
Я забылъ о жарѣ, обо всемъ, слѣдилъ только за ними. Онъ заставилъ-таки ее танцовать, и она кружилась по залѣ то съ однимъ офицеромъ, то съ другимъ. Потомъ произошло что-то странное: я увидѣлъ на лицѣ ея внезапно вспыхнувшую краску, а затѣмъ мертвенную блѣдность. Она подошла къ «чревовѣщателю». Я рядомъ съ ними, явственно слышу — она шепчетъ дрожащимъ голосомъ:
— Громко, вѣдь… всѣ слышали… она сказала, что съ такими какъ мы нельзя быть въ одной комнатѣ… Уведи меня… я не могу больше…
— Когда я, наконецъ, отучу тебя отъ этихъ пошлостей! — отвѣчаетъ онъ раздраженнымъ полушопотомъ. — Ты пойми, мы должны быть выше всего этого!
Но выраженіе ея лица такъ было краснорѣчиво, вся она такъ трепетала, что онъ все-же сдался. Онъ взялъ ее подъ-руку и направился къ выходу изъ залы.
Я послѣдовалъ за ними.
VI.
Ночь была душная и совсѣмъ темная. Нѣсколько жалкихъ фонарей, поставленныхъ въ паркѣ на громадномъ разстояніи другъ отъ друга, были зажжены, очевидно, съ цѣлью раздражать больныхъ и здоровыхъ. Эти фонари наглядно указывали на то, что гдѣ-нибудь, въ какомъ-нибудь благоустроенномъ паркѣ, свѣтло, и люди не принуждены подвигаться среди кромѣшнаго мрака, рискуя на каждомъ шагу свалиться въ оврагъ, выколоть глазъ какимъ-нибудь сучкомъ, и вообще свернуть себѣ шею. Но я хорошо изучилъ всѣ дорожки парка, да и до дому было недалеко.
Не въ такомъ, однако, положеніи оказались «чревовѣщатель» и его спутница. Они медленно двигались передо мною, останавливаясь на каждомъ шагу и соображая. Вотъ онъ споткнулся, чуть не упалъ и крикнулъ:
— Однако, чортъ возьми, этакъ мы живыми до дому не доберемся!.. Да и гдѣ домъ, куда теперь?.. И спросить-то не у кого!
Я, конечно, рѣшилъ придти имъ на помощь.
— А вы въ чьемъ домѣ живете? — спросилъ я.
Онъ назвалъ домъ.
— И я тамъ живу, — сказалъ я. — Идите за мною.
Путешествіе наше было окончено, хотя и медленно, но благополучно. Мы добрались до освѣщеннаго корридора и, когда я остановился у своей двери, оказалось, что «чревовѣщатель», мой ближайшій сосѣдъ. Комнаты наши рядомъ и отдѣляются только тонкой стѣною. Тогда я сообразилъ, что утромъ кто-то перебрался въ это, до сегодня незанятое, помѣщеніе и что я уже слышалъ, возвратясь съ утренней прогулки, хриплый и недовольный голосъ новаго сосѣда.
— Такъ и вы тутъ! — съ необычайной важностью выпрямляясь передо мною, въ то время какъ его спутница проскользнула въ двери, произнесъ онъ. — Ваша фамилія?
Я назвалъ себя.
— Та-акъ-съ!.. — протянулъ онъ. — Ну, а меня… вы, конечно, знаете?
Я даже смутился, откуда и какимъ образомъ я могъ знать его?
— Нѣтъ, до сегодня я не имѣлъ удовольствія васъ видѣть, — сказалъ я, стараясь не улыбнуться.
— Странно, я — Лидинъ-Славскій…
Невозможно выразить ту важность, съ какою онъ произнесъ эту фамилію. Ну, совсѣмъ какъ-бы онъ мнѣ сказалъ: «я Бисмаркъ», или, по меньшей мѣрѣ, «Фердинандъ Кобургскій».
«Лидинъ-Славскій?! что это такое?.. — соображалъ я. — Дѣланное имя… вѣрно, актерское прозвище». Лидинъ-Славскій — какъ-будто я что-то такое слышалъ, но что именно, не могъ вспомнить. Однако, я видѣлъ ясно, что если признаюсь въ своемъ невѣжествѣ, то создамъ себѣ въ немъ непримиримаго врага, а мнѣ этого, хотя-бы ради его спутницы, не хотѣлось.
— А, очень пріятно! — проговорилъ я.
Онъ покровительственно пожалъ мнѣ руку.
— Такъ вы меня никогда не видали, ни въ одной изъ моихъ ролей? — повидимому, съ очень искреннимъ, изумленіемъ вдругъ воскликнулъ онъ.
Теперь я вспомнилъ. Да, конечно, Лидинъ-Славскій, это провинціальный драматическій акторъ, имя котораго еще недавно попалось мнѣ въ какой-то газеткѣ.
— Я живу въ Петербургѣ,- постарался я извиниться. Но и это не вышло.
— Да я игралъ и въ Петербургѣ… въ «Клубѣ взаимнаго вспоможенія»… шекспировскія и шиллеровскія роли, — объявилъ онъ. — По, можетъ быть, вы искусствомъ не интересуетесь?
— Напротивъ, я очень люблю театръ.
— Пріятно слышать. Такъ вотъ что, сосѣдъ: теперь еще не поздно, зайдите ко мнѣ, побесѣдуемъ, разопьемъ бутылку; я привезъ съ собою недурное вино…
Благосклонность послышалась въ его голосѣ.
Я хотѣлъ сказать, что мнѣ пора спать, что я лѣчусь и вина не пью, но я вспомнилъ прелестное и загадочное лицо его спутницы, и вмѣстѣ съ нимъ вошелъ въ его комнату. Это была такая же комната, какъ и моя. Въ ней никого не оказалось. Та, ради которой я вошелъ сюда, ушла въ помѣщеніе рядомъ, бывшее очевидно спальней, и полузатворила за собою дверь, предварительно, однако, зажегши на столѣ двѣ свѣчки.
Лидинъ-Славскій оглядѣлся, тряхнулъ головою и крикнулъ:
— Софи, гдѣ ты? поди сюда, да принеси намъ бутылку вина и два стакана. Садитесь… — величественно указалъ онъ мнѣ на кресло возлѣ стола.
У порога спальни показалась Софи. Она была блѣдна, тѣнь неудовольствія легла между ея сдвинувшимися тонкими бровями, сказалась въ уныломъ и въ то-же время строгомъ, на мгновеніе остановившемся на мнѣ, взглядѣ.
Лидинъ-Славскій небрежно произнесъ мою фамилію и прибавилъ:
— Это моя жена, рожденная… — онъ назвалъ одну изъ очень извѣстныхъ старыхъ русскихъ фамилій.
Я поклонился. Она кивнула головою, скрылась и черезъ мгновеніе принесла и поставила на столъ бутылку и два стакана.
— Извините, ужасно голова болитъ, я лягу, — проговорила она своимъ нѣжнымъ голоскомъ, полувзглянувъ на меня, и исчезла, Дверь за нею заперлась.
— Мы еще встрѣтимся и поговоримъ, — сказалъ я:- теперь-же нашимъ разговоромъ мы только обезпокоимъ вашу супругу…
Но онъ взялъ меня за руку и почти повелительно прохрипѣлъ:
— Садитесь, дверь заперта, кричать мы не станемъ, во всякомъ случаѣ нашъ разговоръ обезпокоитъ мою супругу меньше, чѣмъ дѣтскій крикъ въ сосѣднемъ помѣщеніи, рядомъ съ нашей спальней. Я васъ не выпущу, пока вы не выпьете со мною стаканъ вина.
— Да мнѣ вино запрещается…
— Пустяки!
— Берите бутылку и хоть перейдемъ въ мою комнату, это все-же дальше, — рѣшительно объявилъ я.
Онъ хотѣлъ было протестовать, но я уже былъ у двери, уже вышелъ въ корридоръ.
VII.
Когда я зажегъ у себя свѣчи, его нелѣпая фигура, покрытая гофрировками и съ бутылкой въ рукѣ, стояла передо мною.
— Вы, однако, попробуйте моего вина; этакого здѣсь, въ этомъ несчастномъ — скѣ, ни за какія деньги достать нельзя.
Онъ нѣсколько дрожавшей рукою налилъ два стакана.
— Попробуйте!
Онъ какъ-то ввернулъ мнѣ стаканъ въ руку, чокнулся и отпилъ изъ своего. Я глотнулъ почти машинально.
— Ну что, дурно винцо?
— Хорошо, но я все-же пить не стану, мнѣ строго запрещено, и ужъ особенно красное вино.
— Какъ знаете, — мнѣ не запрещено, и нить я буду!
Развалясь на моемъ диванѣ въ самой невозможной позѣ, онъ приподнялъ на меня тяжелыя вѣка своихъ оловянныхъ глазъ.
— Да-съ, — сказалъ онъ, кривя ротъ въ какую-то неестественную усмѣшку:- трудно у насъ на Руси живется выходящему изъ общаго уровня, живому, истинному таланту!
— А развѣ ужъ такъ трудно?
— Это вы вотъ потому, что я не умираю еще съ голоду, что могу занять двѣ дрянныя комнаты, да выпить бутылку сноснаго вина? Поэтому вы полагаете, что не трудно? — возвысилъ онъ голосъ. — Такъ и то случайно-съ, былъ моментъ-съ, когда чуть съ голоду не померъ…
Онъ налилъ еще стаканъ и залпомъ его выпилъ.
— Да-съ, съ голоду! Да и притомъ, какъ это говорится… не о хлѣбѣ единомъ живъ будешь… Какая-же оцѣнка? Какое пониманіе?.. приходится расточать всѣ эти перлы, весь огонь души передъ невѣждами, на скверныхъ подмосткахъ, въ какихъ-нибудь грязныхъ городишкахъ… Гдѣ же оцѣнка? Гдѣ пониманіе?
— А вы бы на столичную сцену… — произнесъ я, и даже испугался дѣйствія своихъ словъ.
Онъ вдругъ поднялся съ дивана, ноздри его раздулись, глаза готовы были выскочить. Онъ закричалъ:
— Что-съ? Какъ вы сказали?… На столичную сцену!.. Да развѣ у насъ, на столичныхъ сценахъ, можетъ появиться настоящій талантъ?! Вѣдь, тамъ торжествуетъ одна безнадежная бездарность… И эта бездарность сильна, она заполонила все, у нея все въ рукахъ… такъ развѣ она допуститъ?!.. Тамъ, батюшка, такая интрига, такъ всѣ сплочены, такая стѣна китайская, казенщина, чиновничество, что нечего и думать попасть туда таланту-съ!..
— А вы пробовали?
— Пробовалъ… — мрачно выговорилъ онъ.
Онъ выпилъ еще стаканъ и, такъ какъ бутылка уже оказалась пустою, то, вѣрно безсознательно, протянулся къ моему стакану и — тоже его выпилъ.
— Пробовалъ! — еще мрачнѣе повторилъ онъ:- нѣтъ, объ этомъ ужъ что говорить…
И замолчалъ.
Онъ упалъ на диванъ и костлявой рукою, сверкавшей фальшивыми брильянтами, подперъ себѣ голову. Онъ начиналъ нѣсколько хмелѣть.
— Такое время проклятое, — снова заговорилъ онъ: — что талантъ можетъ прозябать только въ провинціи, да и то нѣтъ… гдѣ таланты? Ну скажите, гдѣ таланты?… гдѣ у насъ настоящіе артисты на драматическія роли?.. Нѣтъ ихъ!.. Вы скажете: есть Лидинъ-Славскій… Ну да, только, вѣдь, я одинъ… Одинъ… поймите!.. И этотъ одинъ чуть не умеръ съ голоду! Въ прошломъ году, въ Н… Съ антрепренеромъ я разошелся… ну, дня не могъ оставаться съ этой дрянью! Денегъ въ карманѣ — ни гроша. Никто въ долгъ не вѣритъ — это, поймите, мнѣ… мнѣ! Съ квартиры гонятъ, жиды векселя ко взысканію подали… Ну хорошо, случай подошелъ… Софи… вотъ, барышня… громкой фамиліи… съ бабушкой жила безвыѣздно въ деревнѣ, а тутъ на зиму пріѣхали въ Н… влюбилась безъ памяти… ну, я подумалъ, подумалъ — и рѣшился… убѣжала она со мною… Скандалъ вышелъ отчаянный… родные тамъ ее прокляли, съ бабушкой параличъ сдѣлался… Да все это пустяки… все это невѣжество, грубость нравовъ, подлость душевная… За счастье должны были почесть… Она вотъ это поняла и понимаетъ… да только всего тридцать тысячъ у нея въ рукахъ тогда было — остальное бабушкино… теперь врядъ-ли и увидитъ что послѣ бабушки, — наслѣдства ее старуха лишаетъ. Такъ вотъ только эти тридцать тысячъ и спасли отъ голодной смерти!
Я внимательно слушалъ. Я узналъ все, что можно было узнать сразу, въ первое свиданье. На сегодня довольно. Было поздно, мнѣ хотѣлось спать.
— А здѣсь вы что же — лѣчиться пріѣхали, — спросилъ я: — или супругу лѣчить?
— Ни то, ни другое. Такъ пріѣхалъ. На дняхъ вотъ представленіе дамъ.
— Здѣсь? Представленіе?
— Ну да, тутъ еще можно… большой съѣздъ… изъ Петербурга, изъ Москвы люди, отовсюду… можетъ, и поймутъ, можетъ, и оцѣнятъ… Пусть посмотрятъ.
— Да какъ-же вы играть будете, съ какой труппой? Тутъ вѣдь никого нѣтъ!
— Труппа!.. — прохрипѣлъ онъ. — Нѣтъ-съ, довольно, я съ этими ослами и ослицами играть не могу больше! Я одинъ буду, одинъ у меня цѣлая идея… Вотъ вы увидите… Вы что-то зѣваете, да и меня сонъ клонитъ. До свиданія, сосѣдъ, до свиданья!
И мы простились.
VIII.
Однако, что же я узналъ? Внѣшнія обстоятельства этихъ двухъ людей, такъ поразившихъ меня своей противоположностью. Узналъ я, какимъ образомъ совмѣстилось, повидимому, несовмѣстимое. Но я не былъ удовлетворенъ. Неужели я, встрѣчавшій въ жизни столько людей, столько разъ обманывавшійся въ нихъ и наконецъ увѣрившій себя въ томъ, что знаю ихъ достаточно, что уже не способенъ на грубыя ошибки, снова попалъ въ просакъ? Неужели опять юная идеализація, которая теперь уже мнѣ совсѣмъ не къ лицу? Опять грубая, пошлая дѣйствительность, являющаяся въ легкихъ, неземныхъ очертаніяхъ поэтической грезы?..
Въ немъ, въ этомъ единственномъ драматическомъ артистѣ, я, конечно, не ошибся. Онъ ясенъ сразу. Но она… да, вѣдь, это вѣрно барышня изъ нынѣшнихъ дѣвицъ. Надоѣло жить въ деревнѣ съ бабушкой, захотѣлось необузданной, ничѣмъ не стѣсняемой свободы… Заговорили дурные инстинкты, до времени искаженное, исковерканное воображеніе… И вотъ ухватилась за перваго встрѣчнаго, найдя, что чѣмъ онъ невозможнѣе во всѣхъ отношеніяхъ, тѣмъ лучше. Безжалостно бросила воспитавшую се старуху, забрала деньги и убѣжала. Вѣдь, еще нѣтъ году… Теперь вотъ они вмѣстѣ, она еще обдумываетъ, готовится, присматривается, а черезъ годъ какой-нибудь, гдѣ и въ какой обстановкѣ, въ какомъ видѣ можно встрѣтиться съ этой отбросившей старыя традиціи особой? Я уже наталкивался на такихъ, и типъ этотъ мнѣ не новость…
Я почти рѣшилъ, что это такъ. Но на слѣдующее утро я встрѣтился съ нею въ паркѣ. На мой поклонъ она отвѣтила мнѣ хотя вѣжливо, но очень сухо. Я увидѣлъ ясно, что она даже боится — какъ бы я не остановилъ ее, не пошелъ бы съ нею. Я, конечно, не сдѣлалъ этого, но мнѣ достаточно было разглядѣть ее снова, при дневномъ свѣтѣ, чтобы измѣнить свой новый на нее взглядъ. Опять отъ всей ея прелестной фигуры пахнуло на меня чѣмъ-то неизъяснимо грустнымъ, мучительнымъ, идеальнымъ. Нѣтъ, это не то, совсѣмъ иное, — сказалъ я себѣ,- и снова заинтересовался ею, и снова она стояла передо мною неразъяснимой загадкой… мнѣ все мерещился ея взглядъ, устремленный во время вчерашняго бала на Лидина-Славскаго… Нѣтъ, душа ея чиста, она непричастна ни къ какому извращенію мысли и чувства. Она не изъ знакомыхъ мнѣ типовъ современной гадости и дряблости, которую теперь снисходительно называютъ психопатіей. Тутъ что-то глубже, стихійнѣе. Но все же… развѣ можетъ она любить его? Вѣдь, ужъ, пожалуй, въ одномъ этомъ- недугъ душевный…
Прошло три дня, и эти три дня совсѣмъ не подвинули впередъ моихъ наблюденій. Мнѣ какъ-то не удавалось приблизиться къ Лидинымъ-Славскимъ. Я видѣлъ ихъ все издали. Онъ величественно раскланивался со мною, она едва замѣтно кивала мнѣ головой и сейчасъ же отъ меня отворачивалась; очевидно, я чѣмъ-то заслужилъ ея особое нерасположеніе. Мнѣ даже обидно было: но я скоро понялъ причину такой немилости: я еще на балу не сумѣлъ, значитъ, скрыть отъ нея, что очень заинтересовался ею, что за ней наблюдаю, ну, а это ей непріятно, и тяжело даже. Остановясь на такомъ объясненіи, я уже не смѣлъ подходить къ нимъ.
Невозможная, шутовская фигура Лидина-Славскаго и красота его жены, конечно, обратили на себя вниманіе всего — ска. Стоило имъ появиться въ аллеѣ, въ ресторанѣ или на музыкѣ, какъ они становились центромъ всѣхъ взглядовъ. О нихъ говорилось громкимъ шопотомъ, котораго нельзя было не слышать. Сейчасъ же, въ одинъ день, создалось нѣсколько легендъ и версій. Одни увѣряли, что она княгиня такая-то, убѣжавшая отъ мужа, что они вовсе не женаты. Другіе спорили, доказывая, что она просто жидовка, наѣздница изъ цирка въ Москвѣ. Третьи были ближе къ истинѣ, но говорили, что она отравила свою бабушку и обокрала ее. Какъ бы то ни было, надъ его фигурой, его невозможными жабо и гофрировками, которыхъ онъ не покидалъ, надъ его чваннымъ видомъ и лицомъ, похожимъ на алебастровую маску, очень смѣялись. Въ отношеніи къ ней сказывалась упорная враждебность. Если бы взглядъ ея мечтательныхъ чудесныхъ глазъ не скользилъ только по этимъ лицамъ, не стремился выше этой толпы встрѣчныхъ, если бы она не была такъ разсѣяна, а захотѣла вглядѣться и вслушаться во все, что ее окружало, она врядъ-ли бы появлялась въ паркѣ и на музыкѣ. Она увидѣла бы обидныя, презрительныя мины женщинъ, циничные взгляды и перемигиванія мужчинъ, увидѣла бы, что находится въ самой враждебной и безпощадной средѣ.
Такое отношеніе было понятно. Не признать ея красоты, граціи, изящества, особенно выдѣлявшихся среди этой пестрой, безвкусной и совсѣмъ некрасивой толпы — не было возможности. Всѣ это понимали, всѣхъ это обижало и всѣ были довольны, что ея странное, почти двусмысленное положеніе рядомъ съ гофрированнымъ шутомъ дозволяло проявляться злорадству. Ея красота и прелесть были оскорбительны для женщинъ. Ея скромность, не желаніе знакомиться, разговаривать, шутить, ея немногосложныя отвѣты и строгіе взгляды прекрасныхъ глазъ были оскорбительны для мужчинъ, желавшихъ найти въ ней совсѣмъ иное…
Дней черезъ пять послѣ нашей встрѣчи на балу, Лидинъ-Славскій постучался ко мнѣ въ комнату.
— Можно войти, сосѣдъ?
— Входите…
Дѣло было въ послѣобѣденную пору. Онъ оказался въ значительно возбужденномъ состояніи; отъ него пахло виномъ.
— Васъ что-то совсѣмъ не видно, — хрипло сказалъ онъ, почти падая въ мое кресло. — Впрочемъ… не то, а вотъ что: вы слышали, это будетъ завтра…
— Что — это?!
— А мой первый сценическій конферансъ…
— Нѣтъ, не слыхалъ.
— Да, завтра, уже и объявленія печатныя всюду вывѣшены… Уфъ! рѣшился… Попробую!.. Авось, здѣшняя публика окажется малую толику смыслящей… Билеты въ курзалѣ, въ буфетѣ продаются… поспѣшите, а то въ первомъ ряду не достанете, — прибавилъ онъ вдругъ совсѣмъ уже инымъ тономъ.
— Поспѣшу, — сказалъ я. — Но что-же это за сценическій конферансъ?
Онъ скривилъ ротъ и какъ-то фыркнулъ.
— Нѣ-ѣтъ-съ, батюшка, я этого вамъ не скажу-съ! Это тайна… секретъ до завтрашняго вечера. Это видите, моя идея собственная: никогда никто до меня придумать не могъ. И не спрашивайте, не скажу!.. Сюрпризъ будетъ публикѣ; такъ и на афишахъ сказано — сценическій конферансъ — и больше ничего; эффектъ, надѣюсь, будетъ полный… Ну-съ, а теперь до свиданія… мнѣ еще приготовиться надо.
Онъ поднялся, величественно кивнулъ мнѣ головою и ушелъ.
Черезъ нѣсколько минутъ изъ его комнаты до меня донеслось какое-то завываніе его хриплаго голоса. Потомъ онъ вдругъ будто взвизгнулъ. Онъ читалъ что-то уже не своимъ, а пронзительнымъ, пискливымъ голосомъ. Потомъ опять хриплый басъ. Меня это почему-то раздражать стало. Я ушелъ въ паркъ и первое, что бросилось мнѣ въ глаза: вокругъ всего курзала и на многихъ деревьяхъ расклеенныя огромныя розовыя, зеленыя и синія афиши, на которыхъ крупнѣйшими буквами было обозначено:
Къ курзалѣ первое представленіе знаменитаго драматическаго артиста Лидина-Славскаго. Художественная новость, никогда еще до сихъ поръ не практиковавшаяся не только въ Россіи, но и во всемъ цивилизованномъ мірѣ, даже въ Америкѣ — сценическій конферансъ. Билеты можно получать въ буфетѣ курзала.
Я отправился въ буфетъ и, заплативъ пять рублей, получилъ кресло перваго ряда.
IX.
Большая зала была приготовлена для представленія «знаменитаго драматическаго артиста», для его «сценическаго конферанса». Впрочемъ, приготовленій особенныхъ не потребовалось. Лидинъ-Славскій или не пожелалъ входить въ излишніе расходы, или рѣшилъ, что для его таланта не нужна обстановка, — какъ-бы то ни было, театральныхъ подмостковъ не существовало. Съ одной стороны залы были заперты двери, выходившія на балконъ, и отъ стѣны до стѣны протянута была на толстой веревкѣ красная кумачная занавѣска, настолько невысокая, что скрывала отъ публики окна и двери только наполовину. Знакомые желтые вѣнскіе стулья были разставлены тѣсными рядами. Первый-же рядъ, у самой занавѣски, состоялъ изъ откуда-то взятыхъ креселъ, весьма сомнительной крѣпости, и еще болѣе- сомнительной чистоты.
Когда я, въ восемь часовъ, вошелъ въ залу, публика была уже почти въ сборѣ. Вечеръ задался ненастный, вѣтряный, то и дѣло накрапывалъ дождикъ. И эта погода, вѣроятно, значительно благопріятствовала сбору. Двѣ трети залы, особенно задніе ряды, оказались занятыми.
Я прошелъ къ своему креслу и очутился среди цвѣта — скаго общества. Но я не видѣлъ въ первую минуту всѣхъ этихъ кавалеровъ и дамъ, я видѣлъ только, черезъ два кресла отъ меня, прелестное лицо жены «знаменитаго» артиста. Она была все въ томъ-же скромномъ темномъ платьѣ, въ которомъ я ее увидѣлъ въ первый разъ на балу, съ той-же красненькой ленточкой на шеѣ. Она показалась мнѣ очень блѣдной; глаза ея лихорадочно горѣли, ей было такъ неловко, такъ, видимо, тяжело въ этомъ креслѣ перваго ряда, среди обращенныхъ на нее со всѣхъ сторонъ взглядовъ.
Зачѣмъ она здѣсь! Ей лучше было-бы совсѣмъ не показываться, или быть гдѣ-нибудь тамъ, за этой кумачной занавѣсью въ той гостиной, гдѣ навѣрно находится теперь онъ, и откуда онъ долженъ выйти. Зачѣмъ она здѣсь? Навѣрно, это онъ ее заставилъ, какъ тогда, на балу, заставилъ ее танцовать… Она и теперь не осмѣлилась ослушаться, и сидитъ какъ на раскаленныхъ угольяхъ; а вокругъ нея нескромное перешоптываніе, враждебные взгляды, циничныя усмѣшки. Мнѣ захотѣлось подойти къ ней, увести ее отсюда; но я не посмѣлъ даже ей поклониться, потому что она, встрѣтясь съ моимъ взглядомъ, сдѣлала видъ, что меня не замѣчаетъ. Я постарался о ней не думать.
Къ это время въ заднихъ рядахъ стало выражаться нетерпѣніе. Кто-то изо всѣхъ силъ стучалъ палкой, чей-то густой басъ крикнулъ: «пора!» Два ресторанныхъ лакея, пробравшись между рядами публики, скрылись за занавѣсью и старались ее раздернуть, что, однако, никакъ имъ не удавалось. Наконецъ, нѣсколько человѣкъ зрителей пришли имъ на помощь, и кое-какъ удалось сдернуть занавѣсъ въ одну сторону. Теперь передъ зрителями была только одна толстая веревка.
Мнѣ положительно въ первый разъ приходилось, во время представленія, оказаться на сценѣ; но, впрочемъ, никакимъ образомъ нельзя было назвать сценой то, что было предо мною. У дверей и оконъ, выходившихъ на балконъ, было поставлено нѣсколько кадочекъ, съ чахлыми миртами и олеандрами; на полу, въ двухъ шагахъ отъ перваго ряда, красовался старый персидскій коверъ, въ углу зачѣмъ-то поставили деревянную, выкрашенную въ зеленый цвѣтъ колонну и на ней бюстъ Пушкина. Вотъ и все.
Я не утерпѣлъ — взглянулъ на Софи. Глаза ея были совсѣмъ закрыты, на лицѣ выражалось страданіе. Дворъ въ боковую гостиную отворилась — и передъ нами появился Лидинъ-Славскій. Что за фигура! Онъ былъ одѣтъ въ средневѣковый испанскій костюмъ съ громадными буфами на рукахъ и на бедрахъ. Его длинныя и сухія какъ жерди ноги были обтянуты въ трико лиловаго цвѣта, за плечами красовалась коротенькая епанча, съ боку шпага. Онъ оставилъ нетронутыми свои длинные вылѣзшіе волосы и только на лицо въ изобиліи насыпалъ пудры, такъ что оно окончательно превратилось въ маску. Нельзя выразить жалкаго комизма этой невозможной фигуры! И это тутъ, въ двухъ шагахъ отъ зрителей, при блѣдномъ боковомъ освѣщеніи лампъ…
Онъ въ нѣсколько громадныхъ шаговъ, будто на ходуляхъ, вышелъ на середину и величественно поклонился публикѣ. Въ заднихъ рядахъ кто-то фыркнулъ, но впрочемъ тотчасъ же, то тамъ, то здѣсь, раздались нерѣшительныя рукоплесканія. Артистъ помолился еще разъ и, весь какъ-то изогнувшись и положивъ лѣвую руку на эфесъ шпаги, а правой сдѣлавъ неопредѣленный жестъ, началъ, возвышая свой хриплый голосъ:
— Почтеннѣйшая публика! полагаю, что прочтя мои анонсы, изъ которыхъ вы узнали, что будете присутствовать въ первый разъ на сценическомъ конферансѣ, вы были изумлены, не зная и не понимая, что это такое! Да-съ, почтеннѣйшая публика, это нововведеніе, въ искусствѣ, авторомъ котораго являюсь я. Сценическій конферансъ — это то же театральное представленіе, но только соотвѣтствующее цѣлямъ и задачамъ искусства. Представьте — дается пьеса, пьеса великаго драматурга. Что необходимо для того, чтобы знаменитое твореніе произвело должный эффектъ, запечатлѣлось въ душѣ зрителя во всей своей неприкосновенности? Что для этого нужно?
Онъ входилъ въ азартъ и начиналъ шагать по старому персидскому ковру, отъ одного его края до другого.
— Для этого нуженъ ансамбль, — продолжалъ онъ:- необходимо, чтобы всѣ силы исполнителей были равны, — чтобы всѣ роли, начиная отъ главной и до самой незначительной, игрались съ одинаковымъ талантомъ и пониманіемъ. А этого, по крайней мѣрѣ у насъ, въ Россіи, нельзя достигнуть. Нѣтъ ни одной труппы въ провинціи, — я уже не говорю о столицахъ, — которая могла бы хоть нѣсколько подходить къ ансамблю: Если найдется одинъ хорошій исполнитель, то рядомъ съ нимъ непремѣнно нѣсколько негодныхъ, которые не только не исполняютъ хорошо своихъ ролей, но портятъ игру хорошаго исполнителя… Вы видите, я одинъ, рядомъ со мною нѣту другихъ артистовъ и артистокъ. Между тѣмъ мнѣ гораздо легче, чѣмъ съ помощью цѣлой труппы, передать вамъ великое драматическое произведеніе во всей его красотѣ и блескѣ, передать такимъ образомъ, что если-бы творецъ этого произведенія присутствовалъ, — то пролилъ бы слезы восторга! Я одинъ, мнѣ никто не мѣшаетъ и, такъ какъ мое амплуа обширно, я могу одновременно исполнять нѣсколько ролей. И это будетъ вовсе не чтеніе драмы, а именно — ея исполненіе, настоящая игра!.. Конечно, окажется недостача въ нѣкоторой иллюзіи, но, быть можетъ, такая недостача очень скоро забудется. Заставлю ли я васъ забыть ее или нѣтъ — не знаю…
Онъ развелъ руками, скромно опустилъ глаза — и улыбнулся.
— Попро-обую!.. — протянулъ онъ.
Это было довольно неожиданно и почти вся зала слушала съ интересомъ…
Что же будетъ дальше?
А дальше было вотъ что. — Лидинъ-Славскій перемѣнилъ тонъ и остановился посреди ковра, снова принимая неестественную позу и опираясь на эфесъ шпаги.
— Для начала, — заговорилъ онъ:- для перваго опыта сценическаго конферанса я остановлюсь на произведеніи великаго Шиллера. Произведеніе это — «Донъ-Карлосъ, инфантъ испанскій». Находясь среди просвѣщенной публики, я увѣренъ, что всѣ зрители знакомы съ произведеніемъ великаго германскаго поэта…
По залѣ прошло нѣкоторое движеніе, изъ котораго, по крайней мѣрѣ для меня, явствовало, что большинство «просвѣщенной публики» съ произведеніемъ, великаго нѣмецкаго поэта совсѣмъ незнакомо.
— Да, вы всѣ знаете эту чудную драму и поэтому я не стану объ ней распространяться, не стану передавать содержаніе первыхъ двухъ актовъ. Я прямо приступаю къ третьему…
Кто-то громко зѣвнулъ въ заднихъ рядахъ. Кто-то шикнулъ.
— И такъ, дѣйствіе третье! — воскликнулъ Лидинъ-Славскій. — Передъ вами спальня короля. Свѣчи догораютъ на столѣ. Къ глубинѣ сцены молодые пажи сидя спятъ. Король сидитъ у стола, въ глубокомъ раздумьи…
Онъ оглянулся, и вдругъ замѣтилъ, что ни стола, ни стула нѣтъ. Онъ подбѣжалъ къ двери, крикнулъ: «Скорѣй столъ и стулъ!» — и вернулся.
Столъ и стулъ принесли, поставили на коверъ. Онъ сѣлъ и склонился къ столу «въ глубокомъ раздумьи».
— Передъ королемъ бумаги и медальонъ… — хрипло сказалъ онъ.
На столѣ ничего не было, но онъ не обратилъ на это вниманія. Голосъ его мгновенно измѣнился, сдѣлался совсѣмъ неестественнымъ, когда онъ началъ:
Она всегда была мечтательницей, — да, Не станетъ въ томъ никто и сомнѣваться. Я Не могъ внушить любви ей никогда. Но также Дала ли и она когда-нибудь замѣтить, Что ей была нужна моя любовь? Сомнѣнья нѣтъ, притворщица она!..Онъ вдругъ поднялъ голову, провелъ по своему напудренному лбу рукою, поднялся со стула, наклонился впередъ всѣмъ длиннымъ корпусомъ — и сталъ какъ бы вглядываться.
Но вся его поза, выраженіе лица были таковы, что мнѣ, да я думаю и всей залѣ, показалось будто онъ нюхаетъ…
Гдѣ былъ я? Бодрствуетъ ли кто-нибудь теперь. Кромѣ монарха? Что такое? Свѣчи Ужъ догорѣли… Какъ? Да развѣ уже день…Онъ стремительно подошелъ къ одному изъ оконъ, ударилъ въ него рукою, половинка окна отворилась и передъ изумленными зрителями оказалось нѣсколько любопытныхъ физіономій лакеевъ и горничныхъ, размѣстившихся на балконѣ, у оконъ. Половина залы огласилась невольнымъ, неудержимымъ смѣхомъ. Мой взглядъ самъ собою остановился на Софи. Она сидѣла, блѣдная какъ полотно, совсѣмъ опустивъ голову, съ безсильно опушенными руками. Вдругъ она содрогнулась, выпрямилась, краска залила ея щеки. Она обернулась на своемъ креслѣ и окинула всю залу взглядомъ, полнымъ злобы и ненависти. Но это было мгновеніе. Вотъ краска снова сбѣжала съ ея щекъ, снова голова ея опустилась на грудь…
Между тѣмъ Лидинъ-Славскій, ничуть не смущаясь, продолжалъ свой «сценическій конферансъ».
Передъ королемъ появился Лерма, Лидинъ-Славскій весь съежился, состроилъ невозможно глупое лицо — и, заискивающимъ тономъ, съ дрожью въ голосѣ почти какъ-то просвистѣлъ:
Ваше величество! Вы нездоровы?Затѣмъ онъ, будто его дернули за веревочку, вдругъ выпрямился, принялъ горделивый видъ и прежнимъ голосомъ короля отвѣчалъ:
Графъ, въ лѣвомъ павильонѣ былъ огонь… Вы не слыхали шума тамъ?..Веревочка дергалась, знаменитый артистъ превращался ежесекундно то въ Лерму, то въ короля. Затѣмъ онъ «создалъ» типъ герцога Альбы, причемъ такъ поводилъ оловянными глазами, раздувалъ ноздри и гримасничалъ, что становилось за него страшно — вотъ, вотъ, того и гляди, повредитъ себѣ какой-нибудь личной нервъ или мускулъ. Монахъ Доминго потребовалъ отъ него тоже большихъ усилій — онъ какъ-то крался, почти стлался по старому персидскому ковру, весь извивался, опять закатывалъ глаза и растягивалъ ротъ въ ядовитую усмѣшку. Но когда появился маркизъ Поза, — артистъ превзошелъ самъ себя. Онъ, очевидно, особенно подготовлялся къ этой роли, ухищряясь изобразить воплощеніе духовной красоты и благородства.
Боже, во что превратилась прекрасная, сильная сцена, созданная Шиллеромъ! Какими непонятными, расплывающимися въ громкихъ фразахъ вышли страдающій, борящійся самъ съ собою, суровый король, и спокойно-безстрашный, влюбленный въ недостижимый идеалъ свободы, маркизъ Поза!.. Бѣдный Лидинъ-Славскій положительно вылѣзалъ изъ кожи и былъ смѣшонъ до послѣдней степени. Окончивъ дѣйствіе «Донъ-Карлоса», онъ бросился на стулъ, причемъ чуть не упалъ, и перевелъ духъ. Лицо его стало красно, глаза налились кровью, толстый слой пудры, покрывавшей его, уничтожился и только почему-то осталось бѣлое пятно на лѣвой щекѣ, которая поэтому имѣла видъ отмороженной. Мало-по-малу онъ пришелъ въ себя, отдышался. Онъ обвелъ залу изумленнымъ, недоумѣвающимъ взглядомъ. Ни одна душа не наградила его, за трудную работу, аплодисментомъ. Изъ заднихъ рядовъ кое-кто уже уходилъ.
— Нѣтъ, подождемъ! — услышалъ я вблизи отъ себя:- можетъ быть, онъ покажетъ что-нибудь еще болѣе дикое… Это такъ, глупо, что даже интересно!..
Я хотѣлъ взглянуть на Софи — и не рѣшился, силъ не хватило. Однако, «знаменитый артистъ» еще и не думалъ смиряться передъ равнодушіемъ толпы.
— Почтеннѣйшая публика, — крикнулъ онъ во весь голосъ: — теперь я перейду къ другого рода произведенію, къ комедіи Шекспира — «Укрощеніе строптивой»…
Онъ скрылся въ боковой двери, и черезъ нѣсколько секундъ вышелъ оттуда, закутавшись длиннымъ плащемъ, въ шляпѣ съ перомъ на головѣ. Онъ былъ — Петруччіо. Какъ онъ кричалъ, рычалъ и грохоталъ! Но нѣчто совсѣмъ ужъ невѣроятное оказалось, когда появилась Катарина. Онъ… онъ заговорилъ женскимъ голосомъ! Это былъ такой голосъ, что вся зала, какъ одинъ человѣкъ, разразилась громкимъ хохотомъ, и взрывы этого хохота то и дѣло повторялись во все время его декламаціи.
Наконецъ, онъ не выдержалъ и, не докончивъ послѣдней сцены, остановился. Лицо его совсѣмъ исказилось.
— При такихъ условіяхъ играть невозможно! — прохрипѣлъ онъ. — Такъ вотъ оцѣнка, вотъ пониманіе!.. — Онъ, очевидно, ужъ не владѣлъ собою. Если-бы не эта его остановка, ему все же дали-бы докончить. Но теперь слова его, злобный его видъ вызвали въ заднихъ рядахъ громкія шиканья, прерываемыя смѣхомъ. Ему кричали:
— Довольно, довольно! Хорошенькаго понемножку!..
И опять смѣхъ, опять шиканія.
Онъ хотѣлъ крикнутъ что-то, но круто повернулся, и скрылся въ боковой двери. Мимо меня, по направленію къ той-же двери, мелькнула Софи. Я не могъ разглядѣть лица ея, я только видѣлъ, какъ, уже отворивъ дверь, она пошатнулась…
Вся зала поднялась. Вокругъ меня шутили, издѣвались надъ бездарнымъ, нелѣпымъ актеромъ. Въ сущности всѣ была довольны — вечеръ оказался неожиданно веселымъ.
X.
Съ тяжелымъ чувствомъ я пошелъ домой. Что-то тамъ теперь, что будетъ? Чѣмъ кончится этотъ день для несчастной женщины?.. Подходя къ дому, я увидѣлъ, что въ окнахъ Лидиныхъ-Славскихъ темно. Они, вѣрно, еще не возвращались… А между тѣмъ, вѣдь, я замѣшкался въ курзалѣ. Гдѣ же они?
Войдя къ себѣ, я подумалъ, не лучше ли раздѣться и постараться заснуть. Вѣдь, уже поздно… да и, наконецъ, причемъ же тутъ я? Но эта мысль исчезла сама собою. Я сидѣлъ не раздѣваясь, и ждалъ. Все тихо. Такъ прошло, я думаю, полчаса, если не больше. Но вотъ въ корридорѣ шумъ… ближе… у моей двери тяжелые шаги. Слышу хриплый голосъ актера:
— Ну чего ты… да отворяй же скорѣй!..
Но ключъ, очевидно, долго не попадалъ въ замочную скважину. Наконецъ, я услышалъ, какъ отперлась дверь и снова захлопнулась. Нѣсколько минутъ все было тихо. Они, должно быть, ушли въ спальню. Нѣтъ, опять слышенъ въ сосѣдней комнатѣ, сквозь тонкую деревянную стѣну, его раздраженный голосъ. Я невольнымъ движеніемъ подошелъ къ стѣнѣ, и слушалъ.
Брань… да, онъ бранится!.. И вдругъ такія отчаянныя истерическія женскія рыданія, какихъ нельзя равнодушно вынести даже человѣку здоровому, съ крѣпкими нервами, а не то что больному. У меня сжалось сердце, и я продолжалъ слушать. Рыданія оборвутся, притихнуть, и снова вырываются еще ужаснѣе. А онъ кричитъ, бранится…
Я не выдержалъ. Вѣдь можетъ быть, онъ бьетъ ее. вѣдь, можетъ быть, тамъ происходитъ Богъ знаетъ что! Будь что будетъ, — если дверь не на запорѣ, я войду!
Но разсуждая больше, я кинулся въ коррйдоръ и схватился за ручку ихъ двери. Она подалась. Я у нихъ. Комната освѣщается всего одной свѣчкой. Софи передъ диваномъ, на полу, вся растерзанная, судорожно бьется. А онъ стоитъ у окна въ угрожающей позѣ. Достаточно было взглянуть на нее, на ея растрепанные, распустившіеся волосы, на безпорядокъ ея одежды, чтобы понять, что если онъ и по прямо билъ ее, то по крайней мѣрѣ толкалъ… я не знаю что!.. Достаточно было взглянуть на него, чтобы увидѣть, что онъ совсѣмъ пьянъ. Конечно, онъ не вынесъ своего фіаско и тамъ же, въ курзалѣ, напился.
Въ то время какъ я входилъ, онъ отвернулся и сразу меня не замѣтилъ. Но она меня увидѣла. Ея рыданія оборвались, стихли. Она поднялась. Мое появленіе, очевидно, сразу поразило ее и въ то-же время остановило ея истерическій припадокъ. Она быстро подошла ко мнѣ; ужасъ, отчаяніе были на ея облитомъ слезами лицѣ. Зубы ея стучали, она едва могла выговорить:
— Это вы… ради Бога, какъ-нибудь… помогите мнѣ, я не знаю что дѣлать!.. Онъ внѣ себя… онъ хотѣлъ зарѣзаться… схватилъ бритвы, я вырвала, за окно бросила… Онъ, Богъ знаетъ что, можетъ сдѣлать… помогите…
Она не успѣла еще договорить, какъ и онъ былъ передо мною. Онъ едва держался на ногахъ.
— Вы… вы… чего? что-о вамъ надо? — заплетавшимся языкомъ проговорилъ онъ, наступая на меня. — Смѣяться… а? смѣяться… надъ истиннымъ артистомъ?..
Я постарался вызвать въ себѣ хладнокровіе и крѣпко взялъ его за руку.
— Успокойтесь, — сказалъ я, пристально смотря ему въ глаза: — успокоитесь же… произошло недоразумѣніе… вы и публика не поняли другъ друга.
Софи глядѣла на меня такимъ отчаяннымъ, умоляющимъ взглядомъ. Я крѣпче сжалъ его руку, и рѣшительно продолжалъ:
— Вы прекрасно исполнили всѣ роли, я пришелъ васъ поздравить, поблагодарить васъ.
Онъ пошатнулся и вдругъ я почувствовалъ, что онъ меня душитъ въ своихъ пьяныхъ объятіяхъ.
— Дрругъ!.. — вопилъ онъ:- хоть одинъ человѣкъ нашелся… пон-нимаетъ!.. вы пон-нимаете… вы рразвитой чел-вѣкъ… а вѣдь, это — стадо свиней… стадо… и вотъ… бисеръ… бисеръ передъ свиньями…
Я кой-какъ высвободился изъ его объятій.
— Заставьте его лечь, уведите въ спальню… — шептала Софи.
Я схватилъ его за талію и повелъ. Онъ не сопротивлялся.
Припадокъ пьянаго бѣшенства смѣнялся безсиліемъ, сонливостью.
Черезъ двѣ, три минуты мнѣ удалось уложить его. Онъ несвязно бормоталъ, повторяя все одно и то-же:
— Бисеръ передъ свиньями… каково это ар… артисту!.. Ужасная судьба… судьба ге… генія!..
Онъ захрапѣлъ.
Я тихонько притворилъ дверь изъ спальни и остался въ первой комнатѣ съ Софи. Она не плакала, не рыдала. Она неподвижно сидѣла на диванѣ, съ такимъ скорбнымъ выраженіемъ въ лицѣ, что я не въ силахъ былъ уйти. Она взглянула на меня, и изъ этого взгляда я понялъ, что могу остаться, даже долженъ остаться, что теперь, въ эти минуты, одиночество для нея невыносимо.
XI.
Я подошелъ къ ней.
— Благодарю васъ! — прошептала она, крѣпко сжимая мнѣ руку своей маленькой, похолодѣвшей рукою.
— Что онъ?.. — едва слышно, вспыхивая и сейчасъ-же блѣднѣя, прибавила она.
— Онъ заснулъ… — крѣпко, и врядъ ли проснется.
Я прочелъ въ ея робкомъ, почти угасшемъ взглядѣ стыда, смущеніе и мольбу.
— Не осуждайте его, ради Бога, не осуждайте, — умоляющимъ голосомъ начала она. — Если-бы вы знали, какъ мы… какъ онъ несчастливъ!.. Вы скажете, что, несмотря ни на какія бѣды, человѣкъ долженъ быть твердъ и не падать, не унижаться передъ собою… Да, конечно… но, Боже мой, вѣдь, силы ограничены, вѣдь, это всю жизнь, поймите! Онъ давно, почти съ дѣтства, отдалъ себя на служеніе искусству…
Мнѣ показалось, что она начинаетъ говорить будто заученый урокъ, несмотря на то, что горячая искренность и глубокое горе слышались въ ея голосѣ.
— Онъ любитъ искусство, — продолжала она:- вѣритъ въ свое призваніе, чувствуетъ въ себѣ силу таланта, да, чувствуетъ… И вотъ, всю жизнь одна только неудача, одни пораженія, непониманіе!.. Вѣдь, если-бы это въ первый разъ!! Но, конечно, еще никогда не было ничего подобнаго, только должной оцѣнки, похвалъ, громкихъ рукоплесканій, всего, безъ чего артистъ не можетъ жить, безъ чего не можетъ развивать свой талантъ, всего этого было такъ мало!.. А главное, передъ кѣмъ ему приходилось играть? — никакого пониманія, сами не знаютъ, чему шикаютъ, чему аплодируютъ! Вѣдь, не такъ-же ужъ, въ самомъ дѣлѣ, дурно онъ играетъ! Вѣдь, и сегодня, скажите мнѣ по правдѣ, неужели ничего не было въ его игрѣ? Развѣ сцена между королемъ и Позой вышла дурно?.. Онъ вложилъ въ нее столько чувства… это любимая его сцена. Ну, скажите, неужели такъ дурно?..
Взглядъ ея, все глубже и глубже устремлявшійся мнѣ въ глаза, молилъ, требовалъ отвѣта и страшно его боялся.
Мои глаза невольно опустились.
— Дѣло въ томъ, — нетвердо сказалъ я:- что самая форма этого представленія неудачна, не могла быть понята собравшейся публикой. Надо знать публику и ея требованія для того, чтобы имѣть успѣхъ.
Она жадно ухватилась и за эти слова мои.
— Да, да, вы правы, конечно! — съ нервной живостью воскликнула она:- въ этомъ и причина неуспѣха. Но если-бы вы только знали то отчаяніе, въ какое онъ пришелъ! Не судите его… онъ боленъ отъ всѣхъ этихъ неудачъ, оскорбленій его артистическому самолюбію. Я хотѣла удержать его, уговорить… но не могла. Онъ сталъ пить… и вотъ — вы видѣли!..
— Гдѣ вы узнали его, какъ сошлись, какимъ образомъ вышли за него замужъ? — спрашивалъ я, чувствуя, что именно теперь, въ эту минуту, она откровенно мнѣ скажетъ все.
Она слишкомъ долго была замкнута въ себѣ самой, въ своемъ горѣ, въ своей гордости. Но теперь, теперь осталось одно горе, и ей нужна, страстно нужна живая человѣческая душа, хоть для минутной помощи ея глубокому душевному одиночеству.
Она вдругъ стала даже почти спокойной и задумалась. Все ея дѣтски нѣжное, юное и въ то-же время уже совсѣмъ законченное, страдальческое лицо приняло сосредоточенное выраженіе. Брови сдвинулись, на лбу собралась морщина.
— Хорошо! — сказала она, какъ-то рѣшительно тряхнувъ головою и глядя на меня серьезнымъ, глубокимъ взглядомъ. — Хорошо! я скажу вамъ все. Я знаю, здѣсь ходятъ всякія сплетни про меня… и мнѣ конечно, это все равно, пусть думаютъ обо мнѣ, что угодно. Но вы… да, я не хочу, чтобы вы обо мнѣ думали такъ… чтобы вы думали не то, что есть. Я вамъ благодарна…
Голосъ ея дрогнулъ, и прелестный ротъ уже совсѣмъ почти сложился въ ту жалкую и милую мину, какая появляется у дѣтей, собирающихся плакать. Но это было на одинъ только мигъ. Она подавила въ себѣ слезы и продолжала:
— Мнѣ никого, никого не надо, мнѣ тяжело съ людьми, одной лучше, и я не хотѣла, чтобы вы… но теперь, сегодня… вѣдь, вы одни отнеслись по-человѣчески, вы одни пожалѣли и помогли мнѣ. Я вамъ скажу все…
Она наклонилась къ столу, на которомъ почти уже догоралъ огарокъ свѣчки, подперла голову обѣими руками. Ея растрепавшіеся, распустившіеся бѣлокурые волосы обильной волной упали напередъ, почти закрывая отъ меня лицо ея. Я видѣлъ только опущенныя вѣки ея глазъ и длинныя темныя рѣсницы.
XII.
— Вы вѣрно думаете, что я очень молода, — начала она:- я почему-то кажусь моложе своихъ лѣтъ, но я вовсе не молода. Мнѣ уже двадцать-два года!
И это было сказано такъ серьезно, что несмотря на волненіе, меня охватившее, я не могъ удержаться отъ улыбки.
— Нечего сказать, большіе года! — невольно проговорилъ я.
— Конечно, большіе, для женщины большіе, и мнѣ кажется, что я давно, давно живу на свѣтѣ, увѣряю васъ. Юность моя представляется мнѣ такъ далеко, и я чувствую, какъ состарилась, какъ устала, это правда!.. У меня много родныхъ, и въ нашей губерніи, и въ Москвѣ, и въ Петербургѣ, но я съ немногими изъ нихъ была близка. А теперь ужъ никто изъ родни меня знать не хочетъ, и я навѣрно съ ними никогда больше не встрѣчусь. Я сирота. Мать умерла, когда я еще была совсѣмъ маленькая. Отецъ отдалъ меня на воспитаніе бабушкѣ, а самъ остался въ Петербургѣ. Ему было уже больше сорока лѣтъ, когда я родилась. Онъ служилъ, потомъ былъ сенаторомъ. Потомъ умеръ. Я такъ и не помню его, никогда не видала. У бабушки мнѣ было хорошо. Она хотя иногда и сурова, но вовсе не зла, и по своему, пожалуй, меня и любила. Только я никогда ни отъ кого не видала ласки…
Жили мы въ деревнѣ богато. Это старое родовое имѣніе. Огромный домъ, много прислуги, у меня всегда было по двѣ гувернантки. Только никто никогда не ласкалъ меня, поймите! Сначала, конечно, я не могла понимать этого. Ну, а потомъ, потомъ — поняла, и это такъ навсегда и легло на меня. Я много думала, хотя и глупыя у меня были мысли, нотому-что я мало что знала, почти ничего не видала… а думала много, по цѣлымъ днямъ. Большой я стала рано, то-есть, по крайней мѣрѣ, такъ понимала себя…
У насъ въ домѣ огромная дѣдушкина библіотека. Онъ былъ большой любитель книгъ, особенно французскихъ, да и отъ прадѣда много осталось старинныхъ книгъ, съ конца восемнадцатаго вѣка. И вотъ, съ шестнадцати лѣтъ, эта библіотека стала моимъ единственнымъ сокровищемъ. Да и что-бы я дѣлала, если бъ не читала, скучно было-бы. Къ намъ почти никто не пріѣзжалъ въ деревню. Бабушка по зимамъ стала меня возить въ Н., мѣсяца на три. Но, несмотря на то, что она меня хотѣла тамъ веселить, мнѣ въ городѣ всегда бывало гораздо скучнѣе и все хотѣлось опять домой, въ деревню, въ библіотеку. Каждая книга давала мнѣ жизнь, свою жизнь, не похожую ни на что, видѣнное мною вокругъ себя. Но вотъ, этому два года, со мною случился переворотъ: я вдругъ разлюбила книги, надоѣли онѣ мнѣ. Многое было прочитано, но многое еще оставалось. Наконецъ, вѣдь, я могла выписывать новыя книги. Но я ихъ совсѣмъ разлюбила. Каждая книга казалась мнѣ скучной. Я по цѣлымъ днямъ бродила изъ угла въ уголъ, ничего не дѣлая, а то уходила въ большой старый садъ, и сама не замѣчала, куда иду, гдѣ я. Очнусь- и вижу, что зашла Богъ знаетъ куда. Мыслей нѣтъ, а тоска давитъ, и не могу я никуда отъ нея дѣваться!
Въ городъ пріѣхали, еще тошнѣе стало. На вечеръ повезетъ бабушка, знакомые пріѣдутъ, въ театрѣ мы, — ничто меня не интересуетъ. Недостаетъ мнѣ чего-то, да такъ недостаетъ, будто воздуха нѣтъ, будто дышать нечѣмъ…
Наконецъ, я поняла чего мнѣ недостаетъ, понимаете и вы, вы скажете: любви. Ну да, конечно, любви. Только какой! Не влюбленности, нѣтъ, увѣряю васъ. Все это казалось мнѣ пошлымъ, ничтожнымъ. Нѣтъ, мнѣ хотѣлось найти человѣка, котораго-бы я могла поддержать, спасти, отогрѣть. Вотъ какой любви мнѣ хотѣлось! Вѣдь, меня никто никогда не ласкалъ, ня баловалъ, не любилъ, и я сама никого не любила. А между тѣмъ во мнѣ было много любви. Когда я поняла это, только объ этомъ и стала думать. И вспомнилось мнѣ все, что я давно и недавно читала. Вспоминались мнѣ всѣ тѣ романы, гдѣ именно женщина спасала своей любовью мужчину, поднимала его, была ему вѣрной, надежной опорой, окрыляла его талантъ. Этотъ человѣкъ, который-бы погибъ безъ нея, вѣдь онъ дѣлался почти ея созданіемъ, Всѣ его способности, его творчество, плодотворное творчество, становилось дѣломъ ея рукъ. Его успѣхъ былъ ея успѣхомъ, и она могла законно гордиться имъ!.. Но гдѣ-же мнѣ было найти такого человѣка?.. Я почти никого не знала. А кого знала въ нашей глуши, да въ Н., все это было совсѣмъ не то…
И вотъ когда мы въ послѣдній разъ пріѣхали въ городъ, я у знакомыхъ на вечерѣ встрѣтила его. Его въ Н. во многихъ домахъ принимали. Сразу онъ мнѣ очень не понравился, но потомъ вышло такъ, что завязался интересный разговоръ. Я сама затронула то, что меня интересовало, что наполняло меня всю. Тогда, на моихъ глазахъ, онъ вдругъ совсѣмъ преобразился. Если-бы вы знали, какъ горячо онъ говорилъ! Я вслушивалась въ каждое его слово. Потомъ всю ночь не могла заснуть, все думала, думала. Потомъ я еще разъ съ нимъ встрѣтилась, и скоро я поняла, что онъ именно и есть тотъ глубоко несчастный, талантливый человѣкъ, талантъ котораго остается непонятнымъ и гибнетъ потому, что никто не приходитъ къ нему на помощь, потому что нѣтъ рядомъ съ нимъ женщины, чтобы любить его, поддержать, поднять на ту высоту, какой можетъ достигнуть его талантъ, если будутъ благопріятныя условія для его развитія…
Она боязливо и вопросительно взглянула на меня.
— Вы не говорите, что это дѣланно, что это фантазія одна?
— Вы видите, что я только васъ слушаю съ большимъ интересомъ и участіемъ.
Она продолжала:
— Мы съ нимъ встрѣчались часто, потому что я этого хотѣла, потому что я искала этихъ встрѣчъ. Конечно, онъ очень скоро замѣтилъ чувство, которое меня влекло къ нему…
— Но вы, видали его на сценѣ? — вырвалось у меня.
— Я видѣла его всего одинъ разъ. И вотъ этотъ-то вечеръ совсѣмъ ясно показалъ мнѣ, до чего онъ несчастливъ, до чего нуждаются, и онъ, и его талантъ, въ спасеніи. Давали «Гамлета». Если-бы знали вы только какими исполнителями онъ былъ окруженъ! Это былъ одинъ ужасъ! И, вѣдь, правду сказалъ онъ сегодня, что дурная игра сотоварищей портитъ игру самаго талантливаго артиста, уничтожаетъ впечатлѣніе. Все это онъ выяснилъ мнѣ, и я, конечно, видѣла, что онъ правъ. Онъ не въ своей сферѣ. Вотъ тогда, въ тотъ день, мы много, долго говорили о путешествіи его по Россіи, о томъ, что онъ долженъ быть свободенъ, но связанъ ни съ какой антрепризой… Тогда и зародилась мысль объ этихъ conférences. Я видѣла недюжинный, самобытный талантъ, а обстоятельства, среда его губитъ! Дать ему возможность выбиться изъ нужды, чтобы ему не надо было подчиняться какому-нибудь грубому антрепренеру, унижать себя игрою съ послѣдними бездарностями, и онъ будетъ спасенъ, будетъ служить искусству. Да и талантъ получитъ, наконецъ, награду!..
Я видѣла, конечно, что онъ ужъ не молодой человѣкъ, что все, что было съ нимъ прежде, не могло на немъ не отразиться. Но тутъ была для меня опять задача: заставить его забыть все прошлое, возвысить его…
Она остановилась, и неожиданныя мною рыданія вырвались изъ ея груди. Я не зналъ, что и дѣлать. Но она сама, такъ-же быстро, отерла глаза и прошептала:
— Ахъ… эти нервы! не смущайтесь… вотъ и прошло… Да… что я говорила? Да, послѣ «Гамлета» у него было какое-то очень непріятное объясненіе съ антрепренеромъ, и онъ съ нимъ разстался. Потомъ нѣкоторое время я его совсѣмъ не видала, хоть и старалась увидать. Потомъ я его встрѣтила… только какого! — отрепаннаго, блѣднаго… Онъ долго ничего не хотѣлъ мнѣ говорить, наконецъ, во всемъ признался… въ своей нищетѣ, ужасномъ положеніи… Его надо было спасти… Я нашла то, къ чему стремилась — достойную цѣль жизни. Тогда мнѣ ничего больше не надо было… Я чувствовала себя счастливой… Я думала только о немъ… Черезъ мѣсяцъ мнѣ минулъ двадцать одинъ годъ, я стала совершеннолѣтней. У меня въ рукахъ были тридцать тысячъ, оставленныя мнѣ отцомъ… Я убѣжала съ нимъ… мы обвѣнчались… этому на дняхъ годъ… и вы видите, — упавшимъ голосомъ закончила она:- я ничего не достигла, ничего не сумѣла сдѣлать… я сказалась слабой, непригодной для своей задачи…
Я былъ совсѣмъ разстроенъ, и меня начинало одолѣвать то нервное раздраженіе, мучительно возрастающее съ каждой секундой, отъ котораго я и пріѣхалъ сюда лѣчиться. Меня такъ и охватило возмущеніе противъ этого, храпѣвшаго въ сосѣдней комнатѣ, пьянаго «генія».
— Боже мой, какъ вы несчастны! — воскликнулъ я:- вамъ ни дня, ни минуты нельзя оставаться въ этой затхлой, безнадежной тюрьмѣ! Вамъ надо спасаться, иначе вы погибли…
— Да, я несчастна, — сказала она, вставая и останавливаясь передо мною:- да, но для меня нѣтъ спасенія… О какомъ спасеніи вы говорите?
— Объ единственно возможномъ. Я говорю — не медля ни дня, ни минуты уѣзжайте… если можете, уѣзжайте къ бабушкѣ… плачьте передъ нею, требуйте для себя спасенія… Если не можете къ бабушкѣ, придумаемъ что-нибудь… Только уѣзжайте!
Она холодно усмѣхнулась.
— Вы увлекаетесь, и… кажется, меня не поняли. Если я слаба, это моя бѣда, мое горе, но какъ же я могу его покинуть?! Вѣдь, пока я съ нимъ, все-же остается надежда, а такъ… что-же это такое будетъ?!
— Вы должны пожертвовать гордостью, она влечетъ васъ къ гибели… Вы его не любите! Вы любили не его, а ту высокую, идеальную цѣль, которую себѣ поставили… Вы не виноваты въ своей ошибкѣ, но, вѣдь, она ясна!..
Онъ отвратительно храпѣлъ въ сосѣдней комнатѣ, и этотъ пьяный храпъ доводилъ меня почти до бѣшенства. Я продолжалъ:
— Вы теперь видите, что «генія» — нѣтъ… онъ былъ созданъ вами… Есть только человѣкъ, который никогда не можетъ понять васъ и не въ силахъ сдѣлать ни одного шага, чтобы подняться до васъ… А васъ онъ тянетъ внизъ!.. Я вижу, знаю навѣрно, иначе быть не можетъ, вы все, все понимаете! Вѣдь, я васъ видѣлъ сегодня, съ самаго начала… вѣдь, вы заранѣе знали, что все это — одно бездарное, чванное паясничество, и ничего больше!..
Я многое бы далъ чтобы вернуть назадъ эти вырвавшіяся у меня слова, но они уже сказались. Она отступила отъ меня и пошатнулась, хватаясь рукою за сердце.
— Боже мой, какъ вы жестоки! — отчаяннымъ голосомъ простонала она. Зачѣмъ вамъ понадобилось нанести мнѣ этотъ послѣдній ударъ!!! Отнять у меня послѣднюю надежду! Вѣдь, я жила ею… и теперь… мнѣ нечѣмъ жить!.. вы болѣе жестоки, чѣмъ всѣ враги мои!.. оставьте меня… уйдите!..
Она упала на колѣни на полъ, схватилась за голову. Потомъ руки ея безсильно опустились.
— Оставьте меня!.. — еще разъ прошептала она.
Я пришелъ въ себя; но мнѣ ужъ нечего было дѣлать. Для меня ничего не оставалось, кромѣ позднихъ сожалѣній о своей нервности, самозабвеніи. Я ушелъ.
Я раздѣлся и легъ, но не спалъ и все прислушивался. У сосѣдей было тихо. Только подъ утро удалось мнѣ заснуть. Когда я проснулся, то, взглянувъ на часы, убѣдился, что ужъ давно пропустилъ обычное время питья «воды», прогулки и ванны… Одѣвшись и выйдя въ корридоръ, я увидѣлъ сосѣднюю дверь отпертою. Та самая подозрительнаго вида особа, которая торговалась со мною въ день моего пріѣзда, стояла у этой двери. Комнату чистили и убирали. Лидины-Славскіе съ часъ тому назадъ уѣхали изъ N-ска…
Я и самъ черезъ нѣсколько дней уѣхалъ, даже не окончивъ курса лѣченія. До сихъ поръ я ничего о нихъ не знаю.
1917



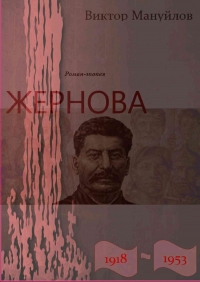


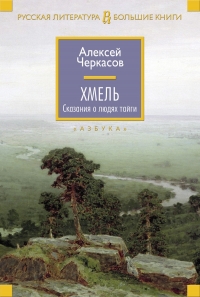

Комментарии к книге «Гений», Всеволод Сергеевич Соловьев
Всего 0 комментариев