Виктор Дьяков Дорога в никуда. Книга вторая. В конце пути
Хоть убей, следа не видно.
Сбились мы, что делать нам?
В поле бес нас водит, видно,
Да кружит по сторонам.
А. ПушкинПролог
Кровавые события гражданской войны, и все перипетии 20-х и начала 30-х годов, столь значимые для судеб людских, совершенно не изменили облика Бухтарминского края. Долины Бухтармы и Иртыша по-прежнему давали в избытке зерна, трав, мяса, рыбы, древесины, пушнины, золота, серебра… А вот состав населения изменился очень сильно. В некоторых бывших казачьих поселках, где жители активно противодействовали большевикам в период колчаковщины и во время Большенарымского восстания, население обновилось до восьмидесяти процентов. То, что край с 1923 года стал относиться к автономной Киргизской республике, которую вскоре переименовали в Казахскую, сначала ни в чем не сказывалось. Казахов в усть-каменогорском уезде насчитывалось относительно немного, и никаких более или менее значительных административных постов они не занимали. Не в пример многим прочим губерниям и уездам, коллективизация в Бухтарминском крае в новосельских деревнях, бывших казачьих станицах и поселках прошла сравнительно безболезненно. По всей видимости, сыграла роль дикая жестокость, с которой большевики подавили Большенарымское восстание белоказаков. Время-то прошло не так много, а страх «выветривается» из памяти долго, в течении жизни целого поколения. Отдельные инциденты все же случались, но в целом организация колхозов шла довольно споро. Как-то не восприняли даже крестьяне-новоселы, что власть, которая так щедро всего несколько лет назад передала им столько лучшей казачьей земли, вдруг возьмет, да и всю ее и отберет, в том числе и ту, которой наделил их еще царь. Так вроде бы невзначай и почти без сопротивления крестьяне-новоселы позволили власти, назвавшейся рабоче-крестьянской, лишить себя самого дорогого, того, за чем пришли сюда, на край света – личной земли. Тем более не посмели сказать что-то против окончательно придавленные, запуганные казаки. В этих условиях даже прошел такой фокус, что во главе первого колхоза в Бухтарме встал бывший батрак казах Танабай…
А вот с коллективизацией в кержацких деревнях возникли немалые сложности. Кержаки, до революции особого внимания и на царскую власть не обращавшие, жившие по своим законам и детей учившие по старозаветным книгам… Староверы-кержаки после отмены продразверстки легко освоились с продналогом и их дворы вновь заполнились скотом, а амбары хлебом, погреба медом и прочими продуктами щедрой горной тайги. В глухих таежных лесах, за высоченными, рубленными из бревен заборами жили кержаки. Каждый двор представлял единый жилой массив из вековых лиственниц, где под одной крышей умещались, и изба, и скотный двор с амбарами и сараями. Они качали мед на горных пасеках, соболевали-охотились за пушным зверем, разводили маралов. Нелегко было разрушать этот устойчивый вековой уклад. Царская власть и не пыталась, а вот советская… Советская не царская, она не стала терпеть, что кто-то, находясь официально под ее юрисдикцией, станет жить по своим законам, не так как она предписывает. Тяжело, с кровью, стонами, слезами, приговорами и выселениями проходила коллективизация в кержацких деревнях. И многие кержаки скребли затылки, дескать, надо бы было Колчаку помочь с этими варнаками справиться, а не на печи сидеть, другие мыслили фаталистически, все что Бог дает, все оно по заслугам.
Несмотря на грызню в Политбюро, ЦК и других высших партийных органах, власть на местах, в стремлении выслужиться, все, иногда противоречащие друг другу, руководящие циркуляры, претворяла в жизнь энергично, иной раз даже, что называется, с перехлестом, с запасом, то есть «перегибая палку»: раскулачивали не только кулаков, но и середняков, ради выполнения плана по коллективизации в колхоз загоняли силком, огульно. То же самое имело место и в борьбе с религией. Начавшаяся еще в 20-х атеистическая компания имела вполне конкретный посыл: усилившиеся в ЦК и Политбюро группировки, где преобладали евреи, испытывали генетическую ненависть к православной церкви. В Усть-Каменогорске и уезде тоже национализировали и изъяли все церковные ценности, но далее дело тогда не пошло, большинство церквей не закрыли. Видимо, сказалось удаленность от Центра и то, что местные функционеры все-таки оказались, как правило, не еврейского происхождения. И вот, странное дело, уже в 30-е годы, когда проеврейские группировки в руководящих органах партии были уже фактически разгромлены, а их лидеры уничтожены, не в ходе трибунных дискуссий, а просто по уголовному, посажены и перестреляны по сфабрикованным делам… До Верхнеиртышья, наконец, докатились с опозданием ветры, которые в Центре «веяли» еще в 20-х – началось массовое закрытие церквей. В 30-м закрыли обе церкви в Усть-Каменогорске и Собор и Троицкую, а в 1935-м Покровский Собор, чей набат доносился за много верст, взорвали. То был отголосок взрыва Храма Христа Спасителя в Москве, когда крутя ручку взрывной машины Лазарь Каганович радостно изрек: «Задерем подол матушке-России!».
Индустриализация добавила новых заводских и фабричных труб, шахтных терриконов возле рудников, которые вместе со старыми коптили синь небесную и серыми конусами извлеченной породы устремлялись ввысь. Но, в общем, по сравнению с такими символами первых советских пятилеток, как Уралмаш, Магнитка… Нет, в Верхнеиртышье подобных гигантов не возводили и край оставался в основном как и прежде аграрным, руднично-старательстким медвежьим углом и, казалось, ничто не изменит этого его статуса. Но большевики к концу 30-х годов уже преодолели внутренний разлад – в беспринципной и беспощадной схватке за власть победили наиболее беспощадные и беспринципные. Одним из первых решений-экспериментов, этого теперь единого и всевластного правительства, стало выделение автономного Казахстана из состава России в отдельную союзную республику. И Верхнеиртышью большевики уготовили совсем не праздную будущность. Уникальное сочетание богатых рудных залежей и потенциальных гидроресурсов подвигло их в 1939 году выделить усть-каменогорский и ряд сопредельных горных уездов из состава Семипалатинской области в отдельную Восточно-Казахстанскую, которую еще стали называть и Рудным Алтаем. В том же году с прицелом на будущее началось строительство Усть-Каменогорской ГЭС на Иртыше в районе деревеньки Аблакетка, а поселок горнодобытчиков Риддер переименовали в Лениногорск.
В Великую Отечественную Войну Рудный Алтай стал вспомогательным «хребтом» страны (не оспаривая приоритета Урала на звание «станового»). Не знающая неурожаев земля все четыре года спасала эвакуированных и кормила солдат на далекой передовой великой битвы. А свинец, что добывался в здешних рудниках… каждые три девятиграммовые «капли» из пяти, выпущенные красноармейцами в ту войну, сделали из того свинца. Именно с войны начался бурный рост промышленности области и самого областного центра. Если с 19-го по 39-й годы население Усть-Каменогорска практически не выросло, оставаясь на уровне тех же двадцати тысяч жителей, то уже к 1959 оно составило сто пятьдесят тысяч! За эти двадцать лет в области-медвежьем углу построили: Усть-Каменогорскую ГЭС, огромный свинцово-цинковый комбинат, НИИ цветных металлов, конденсаторный завод, металлургический завод «Востокмаш», Зыряновский и Лениногрский полиметаллические комбинаты. Здесь, на краю страны под эгидой всесоюзного министерства среднего машиностроения создавался мощный промышленный центр. Продукция Усть-Каменогорска и области, цветные и редкоземельные металлы, предназначались прежде всего для оборонной и космической отраслей – маховик гонки вооружений, подхлестнутый началом «холодной» войны начинал работать на полную мощность.
Конец кофейнообразной долины пришел тогда, когда, казалось, она должна была принести, наконец, живущим здесь людям, уставшим от войн и преобразований, покой и достаток. Ан нет, страна Советов заразилась эпидемией гидростроительства. С людьми не церемонились, а природа чем лучше, и ее, паскуду, посредством большевистской атаки, изменим, преобразим. Мало показалось одной плотины у Аблакетки, маломощной получилась ГЭС, водохранилище в условиях высоких скалистых берегов не могло разлиться и накопить большого объема воды. Другое дело, если еще одну плотину поставить выше, перегородив Иртыш в узком месте, неподалеку от деревни Пихтовка и чуть выше пристани Серебрянка. Вот там водохранилищу есть где разлиться, ведь рядом Долина. Запрудили Иртыш второй плотиной, разлилось водохранилище и… И почти вся уникальная Долина двух рек, Долина-Кофейник, поймы Иртыша и Бухтармы с плодороднейшими землями с бывшей станицей Усть-Бухтармой, Гусиной пристанью, прилегающими деревнями и поселками, оказались под водой. Над ничейной землей и экспериментировать можно без оглядки, без страха ответственности. Долго плавали по «рукотворному морю» гробы, всплывшие из затопленных, не перенесенных погостов, как последняя память о погубленной земле.
Многие из местных жителей, чьей родины больше не существовало, не пожелали оставаться жить в построенных по стандарту однотипных сборно-щитовых домах (взамен затопленных рубленных из бревен), во вновь образованных поселках, на каменистой, большей частью малоплодородной земле на незатопленном участке Долины, у самых гор. Они разбегались кто куда, большинство ехали в Усть-Каменогорск, ибо областной центр рос, строился, требовал много рабочей силы, превращаясь в один из самых красивых и перспективных городов не только в Казахстане, но и во всем Советском Союзе. Остававшиеся шли трудиться на прокладываемую от Усть-Каменогорска до Зыряновска, по незатопленному краю Долины, железную дорогу, на возводимые по побережью нового водохранилища небольшие рыбный и судоремонтный заводы, но большинство притягивал цементный завод. То было крупное предприятие, производившее цемент на основе открытых здесь же залежей глины, обладавшей уникальными свойствами. Цемент высших марок шел на строительство шахт для пусковых установок стратегических ракет, ну а цемент более низкого качества на всевозможные гражданские строительные нужды. Все это теперь работало на энергии поднятой плотиной воды.
Оставшихся жителей, оказалось недостаточно, чтобы удовлетворить потребности вновь построенного цемзавода, где требовалось до трех тысяч рабочих, более мелких предприятий и подсобного совхоза. Невиданное дело, во вновь образованном поселке осталось много свободного жилья, ведь строили на всех усть-бухтарминцев, не рассчитывая на такое количество беглецов. Потому кликнули людей со стороны, суля работу, а главное жилье. Жилья в стране Советов испокон, с самого 17-го года, как оно зародилось, всегда не хватало. Так в Долину, вернее в то, что от нее осталось, вновь поселилось немалое количество неместных, пришлых людей. Поселилось и немало казахов. Селились как близлежащие из правобережных селений и стойбищ, из Калбинских долин, так и дальние, степные казахи.
Разрушение уклада вольной жизни кочевников тоже начался с 30-х годов. Хотя еще в 20-х большевики проводили среди степняков определенную «профилактическую» работу, выкорчевывая всех, кто имел отношение к мелкобуржуазной националистической партии «Алаш-орда», которая сформировала даже свой полк в составе анненковской Отдельной Семиреченской Армии. Так вот, запугав, и без того не больно бойких степняков, власть и их стала раскулачивать, реквизировать скот, прикреплять к земле, объединять в колхозы, заставлять одних пахать землю, сеять пшеницу, других приноравливать долбить в шахтах уголь, руду, работать на заводах. Но эти новые для них дела они делали плохо и вынуждены были мириться с ролью «тупого», «тормознутого» народа, которых чему-нибудь выучить так же трудно, как из кривого саксаула сделать прямую доску. Но постепенно со сменой поколений и повышением уровня грамотности росло, так называемое, национальное самосознание степняков. Казахская молодежь уже не хотела мириться с ярлыком второсортного народа, они все более осознавали себя титульной нацией. Но в начале шестидесятых это было еще не очень заметно. Бывшую Долину теперь населяли куда более разношерстные люди, но трений, ни на национальной, ни на социальной почве не возникало. Внуки и правнуки казаков-сибирцев не унаследовали черт своих предков, два столетия являвшихся здесь фактическими хозяевами, или прятали их глубоко, всячески скрывая свое происхождение. Бывшие крестьяне-новоселы, вернее их потомки, они так и не смогли почувствовать здесь себя полноправными хозяевами, хотя ради этого в года Гражданской войны сочувствовали большевикам и потом всячески их поддерживали. Киргиз-кайсацы, теперь именовавшиеся казахами… ну основная масса степняков никогда не отличалась экстремизмом, а молодая казахская интеллигенция еще не отрастила свои националистические зубы.
Когда завершалось строительство Бухтарминского гидроузла и заполнялось водохранилище, над страной, на двадцатикилометровой высоте пролетел супостат-разведчик. Долетел он аж до Урала, но там его достали ракетой. Чтобы и дальше не повадно было, стали повсюду, возле каждого важного стратегического объекта ставить ракетные заставы. Возле плотины появился ГАЗик с пожилым, седым генералом. Генерал ездил по окрестным горам. Артиллерист, полуоглохший на войне, он в новой ракетной технике смыслил мало, но знал, что людям, коих он своим выбором обрекал на службу здесь, нужна вода и место хоть мало-мальски пригодное для жизни. Когда выбирали место для казачьих застав двести лет назад, наверное, думали так же. Если царский генерал определил место для закладки станицы-крепости Усть-Бухтарминской у впадения Бухтармы в Иртыш, то советский генерал нашел место у подножия сопки, где протекала маленькая речушка-ручеек и стояла совхозная молочно-товарная ферма. Произвели отчуждение совхозной земли, ферма стала на время казармой. Построили домики для офицеров, потом для солдат кирпичную казарму, на сопку поставили диковинные фантастического вида антенны локаторов.
Так появилась «точка», одно из подразделений зенитно-ракетного полка, выполнявшего задачу по охране гидроузла, в первую очередь плотины, от возможного удара с воздуха. Такие «точки» окружали плотину со всех сторон, создавая над ней единое радиолокационное поле, для «засечки» и последующего уничтожения самолетов противника, вознамерившихся бомбить плотину.
Ракетные заставы-дивизионы заступили на боевое дежурство в начале 60-х. А в области тем временем продолжалось бурное строительство. Пускали новые заводы, закладывали рудники. Если раньше, в основном, добывали медь и свинец, ну и, конечно, золото с серебром, то сейчас к ним добавились титан, магний, бериллий … Ну, и как следствие в середине 60-х в Усть-Каменогорске заработал титано-магниевый комбинат. Таким образом, ударно трудясь, область полным ходом двигалась к «коммунизму», пока не наступила «Перестройка»…
Часть первая. Ратниковы
1
Вечер второго декабря 1986 года, горная дорога. Фары тускло высвечивали пересекающие дорогу снежные струи. Местами, где вместо кюветов с подветренной стороны возникало препятствие, скала или бугор, снег не струился, а накапливался, образуя пока еще небольшие сугробы, обещавшие к утру превратиться в настоящие заносы. Лента шоссе, как и всякая горная дорога, не терпела длительного горизонтального положения, взмывая то вверх, то падая вниз с различной крутизной, поворачивая то вправо, то влево, со столь же разнообразной кривизной, рисуя замысловатые серпантины со звучными именами: «тёщин язык», «адова петля» и тому подобные. Видавший виды темно зеленый военный грузовик ЗИЛ-157, силясь, преодолевал эту кошмарную дорогу. Автомобиль резко замедлил ход перед очередным подъемом: в его организме, конкретно в коробке передач, что-то функционировало ненормально, потому водитель переключал передачи тяжело, со скрежетом, многократно перегазовывая. В кабине грузовика, благодаря подсветке щитовых приборов и рано наступивших, из-за низких снеговых туч, сумерек, царил полумрак. На сиденье теснилось трое, напряженный плечистый подполковник, постоянно всматривавшийся в дорогу, привалившийся к нему дремлющей головой капитан, и поминутно шмыгающий носом водитель, солдат-первогодок, в замасленном бушлате. Острое, словно обломок сухой сосны, колено капитана мешало водителю, касаясь рычага переключения передач.
– Николаич?! – с силой толкнул подполковник капитана, но в ответ услышал лишь сонное мычание.
«Ишь, дрыхнет и горя мало. Надо же умудриться спать в таком неудобстве и колодрыге», – неприязненно подумал подполковник и, плотнее запахивая полы шинели, пошевелил застывшими пальцами в юфтевых сапогах – противный холодящий ветер, проникая во все щели, немилосердно выстуживал кабину, несмотря на нудное гудение печки-обогревателя.
– Полегче, не газуй, переключайся заранее, а не перед самым подъемом! Сколько можно повторять! – тон подполковника выдавал его явное неудовольствие.
В ответ водитель недружелюбно покосился на колено капитана.
– Николаич! – на этот раз толчок внушительного подполковничьего кулака под ребра возымел действие – капитан очнулся. – Подберись, чего ноги расставил! – осуждающе выговаривал подполковник.
Капитан зевнул, потер глаза и подполковник, предвидя его желание досмотреть сон, вновь повысил голос:
– Кончай спать, не видишь, что на дороге твориться, а тут еще ты водителю мешаешь! Дома выспишься, если целыми доедем.
– Где мы? – капитан, подбирая ноги, невозмутимо поднес озябшие руки к чуть теплой струе воздуха, сочащейся из под ребер печки.
– Александровку проезжаем, сейчас на перевал полезем, – буркнул в ответ подполковник.
Слева в свете фар мелькнул памятник расстрелянным в 19-м году коммунарам. Машина, устало урча, пошла вверх по затяжному склону. Внизу осталось зловещее Александровское ущелье с маленькой речушкой и небольшой деревенькой, в которой не светилось ни единого огонька – видимо как всегда при сильных ветрах оборвало линию электропередачи и селение, находящаяся всего в трех километрах от мощной ГЭС, осталась без света. Вершина перевала. Отсюда открывалась картина, притягивающая даже много раз ее видевший глаз. Между двумя кряжеобразными сопками отчетливо вырисовывалось, освещенное многочисленными мощными прожекторами тело плотины, темное, расширяющееся книзу, кажущееся толстым, коротким, нисколько не напоминающее классический архитектурный образ плотины Днепрогеса. Гигантские «ступени» шлюзовых камер были затенены. От обоих концов плотины, карабкались по склонам сопок, а в дальнейшем предпочитая распадки, в разные стороны отходили опоры высоковольтных ЛЭП, обремененные грузом проводов…
Подполковник глянул на светящийся фосфором циферблат своих «командирских». «Седьмой час, по декабрьским понятиям почти ночь», – подумал подполковник.
– Да Федор Петрович, не будь этой «дуры», не служили бы в этой «дыре», – скаламбурил капитан, кивая в сторону плотины.
Подполковник промолчал, он глядел на хорошо знакомую ему картину и ничего не слышал, он «отключился» и мысленно «беседовал» сам с собой: «Уже двадцать лет как я здесь. Господи, если бы тогда в 66-м году сказали, что вы, лейтенант Ратников, прослужите здесь, проживете в этих горах без «выдерга» два десятилетия… Нет, не поверил бы, ни за что, это же повеситься можно… А все-таки, чертовски красиво». Река-водохранилище, словно бутылка расширялась от «горлышка» заткнутого пробкой-плотиной сначала понемногу. Но дальше, когда горы все больше расступались «бутылка» расширялась резко в обе стороны. Лед только встал, следов на нем не видно – рыбаки пока еще не рискуют выходить пытать счастья. Подполковник в последний раз окинул взглядом плотину, водохранилище, ровной белой скатертью уходящее к горизонту, где оно сливалось с беззвездной тьмой неба – машина юркнула на снижение. Водитель перевел рычаг на «нейтраль», и ЗИЛ свободно покатился под уклон. Не давая автомобилю разогнаться, водитель притормаживал. Услышав характерный визг тормозных колодок, Ратников вновь забеспокоился: «Только бы тормоза не отказали», и тут же скомандовал:
– На передаче спускайся… мать твою!!
Водитель судорожно задергал рычаг, а подполковник невольно вспомнил то жуткое чувство почти «свободного полета», когда на этой же колымаге в позапрошлом году тормоза, на примерно таком же спуске, отказали. Водитель, наконец, «воткнул третью».
– Помнишь Николаич, я тебе рассказывал, как вот также без тормозов летели? – внешне бесстрастно обратился подполковник к капитану.
Тот понимающе кивнул и тоже настороженно стал прислушиваться к тормозам, а подполковник продолжал:
– Тишина, понимаешь, полная, двигатель заглох, только рессоры скрипят, да консервы, что в кузове везли, эдак позвякивают. А в остальном, никаких ощущений земной жизни, почти невесомость космическая. Если бы хоть одна встречная машина попалась, все, амбец, либо столкнулись, либо в обрыв улетели. Потом еще на ровном месте с километр катились, пока он вот также передачу не воткнул. Тогда, правда, водитель опытный был. Гурко, помнишь, прошлой осенью уволился?
– В рубашке вы родились, Федор Петрович, – заулыбался капитан.
– Всякий раз на везение рассчитывать… это знаешь. Эх, доездимся как-нибудь. Устал я уже с полковой автослужбой биться. Машина все межремонтные сроки выходила, а им все нипочем. А нам что остается? Ко всему можно привыкнуть, даже долго грозящая опасность со временем таковой уже не кажется…
Подполковник показной бодростью пытался отогнать невеселые мысли, источником коих являлась вовсе не машина, а закончившееся два часа назад полковое совещание, с которого и ехали в свое подразделение командир отдельного зенитно-ракетного дивизиона подполковник Ратников и его замполит капитан Пырков. Поблудив в сознании, Ратников вновь замкнулся на злополучном совещании.
На днях ждали приезда нового командира корпуса. Он впервые объезжал вверенные ему части. На совещании решали, куда везти нового комкора сначала, чью голову (то есть подразделение) подставить первой. Страсти накалились, никто толком не знал этого «нового», только ходили слухи, что он очень молод для генерал-лейтенантской должности, и естественно, с сумасшедшими связями. Понятно, что никто не ведал, на что он станет обращать внимание в первую очередь: боеготовность, внешний марафет, или предпочтет хорошо накрытый стол. Добровольцев не нашлось, все командиры отдельных дивизионов – «точек» высказывали свои аргументы, чтобы оттянуть визит комкора в их подразделения. У одного казарма в плачевном состоянии, подлатать надо, у другого с техникой нелады, у третьего все снегом заметено, не проехать. Они, коллеги Ратникова, в основном еще молоды, в званиях майоров и капитанов, но имеют перед ним одно бесспорное преимущество – у них есть надежда… Надежда, что у них все еще впереди, академии, звания, должности, служба в больших городах, или цветущих благоустроенных краях. Их цель ясна – выиграть хотя бы день, подготовиться как можно лучше, показать «товар лицом», вернее наиболее симпатичную часть того «лица», скрыв худшую, произвести впечатление на новое командование, которое молодо и «двигать», наверняка, тоже будет молодых. Очень часто разгон офицерской карьеры напрямую зависит от первого произведенного на большого начальника впечатления. А им, 28-и – 30-ти летним, очень нужен этот разгон, это возраст, когда офицеру, если он еще не успел крепко «споткнуться», и смог выйти на определенный «оперативный простор», его курсантско-лейтенантские мечты о генеральских лампасах из грез обретают черты вроде бы досягаемой реальности.
Ратников, самый старый командир дивизиона в полку, в полной мере познал цену показного уважения к себе полкового начальства, использующего его опыт для выхода из ситуаций подобных нынешней. Его молодые коллеги относились к нему примерно так же, внешне с уважением, но не у всех доставало ума и такта скрывать чувство превосходства перед неудачником-старпером. Уже в начале совещания подполковник уяснил – командира корпуса повезут к первому именно к нему. Ему ведь нечего терять и не к чему стремиться, да и подразделение у него, если судить без авансов и скидок на молодость других командиров дивизионов, пожалуй, лучшее в полку. Ратников не стал спорить, подавив вспыхнувший в нем протест: нашли «мальчика для битья». Ему действительно по большому счету было все равно. Той «нити жизни», которой он следовал, уже виден конец, ибо к концу шла его офицерская служба. А ведь когда-то и он носил в «ранце жезл», но… Он не хотел ворошить много раз «перелопаченные» воспоминания, но заметно выровнявшаяся дорога способствовала ослаблению внутреннего напряжения и безрадостные мысли, спутники плохого настроения, овладели сознанием. «Почему все так сложилось? Почему некоторые его однокашники по училищу, не блиставшие в учебе, сейчас командуют полками, бригадами? Почему его ровесники и даже более молодые, поступили и позаканчивали уже академии, хоть служили не лучше, а то и хуже? Почему, наконец, на днях к нему в дивизион приедет 35-ти летний полковник, без пяти минут генерал, и будет, возможно, распекать его, заслуженного 40-ка летнего подполковника». И раньше и сейчас, ссутулившись в тесноте кабины, Ратников не находил однозначного ответа.
Тряхнув головой, подполковник попытался отогнать навязчивые думы. Машина, наконец, из горного распадка вырвалась на узкую полосу равнины. Слева, возле самых гор из двух длинных труб исторгал стелющийся дым цемзавод. Обычно дым заводских труб, после прохождения через систему фильтрации, имел светло серый оттенок. Но в конце каждого квартала фильтры на неделю по ночам втихаря отключали, и резко увеличивающаяся тяга в печах помогала «вытягивать» план. Правда, без фильтрации в трубы вылетали тонны всевозможной кремниевой и углекислотной дряни, сопутствующей цементному производству, которая оседала на всем окружающем пространстве, зимой буквально отравляя снег, летом траву, забивая легкие людей и животных, воздействуя на кожу и слизистую оболочку глаз, плодя легочных и прочих больных. Впрочем, фильтры тоже никак не гарантировали безопасность выбросов, ибо улавливали не такой уж большой процент цементной пыли и вредных газов, но производство существенно тормозили. Об отключении фильтров свидетельствовало изменение цвета дыма, он сильно темнел. «Годовой план, надо думать, совсем плох, если они за месяц до Нового года и с шести вечера фильтры поотключали», – сообразил Ратников, глядя на мрачный темно-серый дым, валивший из заводских труб.
Справа, на берегу водохранилища сверкал огнями рабочий поселок «Новая Бухтарма», большую часть жителей которого составляли рабочие цементного завода. За двадцать с лишком лет существования поселка, там выросло поколение, жизнью которого стал цемзавод и все что с ним связано. То были люди в большинстве своем уже к 35-ти – 40 годам приобретавшие специфические болезни, источником которых служили условия труда на заводе и ужасная экологическая обстановка. Как ни странно, вспомнив про больных, коих в поселке насчитывалось немало, их ввалившиеся щеки, впалые грудные клетки, подполковник обрел нечто вроде душевного равновесия. Что такое чины, должности – главное здоровье.
Участок, где стоял завод и располагался поселок, был самым большим куском суши оставшейся от Долины, до двух километров в поперечнике. В прочих местах между водой и горами на правом берегу оставалось местами не более ста метров, а на левом вода почти везде вплотную подступила к горам. За поселком водохранилище быстро приблизилось к шоссе. Потом дорога огибала, обнесенный высоким бетонным забором, рыб-завод. Из-за забора виднелись крыши цехов, а в открытую дверь проходной просматривались вмерзшие в лед у заводского причала небольшие рыболовные суда. За заводом дорого вновь резко сворачивала в горы.
– Возле проходной тормозни, – приказал водителю подполковник.
2
Ратников увидел свет в окнах директорского кабинета, расположенного на втором этаже, в здании управления завода. В связи с этим ему пришла мысль разжиться копченой рыбой. Мало ли что, вдруг молодой комкор отобедать пожелают, вот тут-то и пригодятся дары «рукотворного моря». Ведь совсем недавно, в брежневские времена, очень часто ключевым моментом при встрече любого начальства становилось именно угощение со всеми попутными мероприятиями. С прежним директором рыбзавода Василием Степановичем Зелениным, ушедшим прошлым летом на пенсию, Ратников на протяжении многих лет поддерживал тесные, дружеские отношения. Он выручал директора в путину, выделял солдат, когда не хватало рабочих рук, когда осевшие от рыбного груза сейнеры непрерывно выгружали сорошку, леща, судака, и прочие неприхотливые виды рыб, пришедшие на смену осетровым, лишившимся из-за стометровой плотины пути на нерестилища, то есть переставшим размножаться… Василий Степанович не оставался в долгу: свежая, копченая и свежемороженая рыба частенько появлялась сверх солдатского рациона в дивизионной столовой и на столах в домах офицеров.
Именно давняя дружба подполковника с пожилым директором не раз подвигала последнего на довольно откровенные признания. Так после смерти Андропова, когда в воздухе явно обозначились всевозможные послабления и пересмотр некоторых ранее незыблемых исторических истин, касавшихся гражданской войны в этих местах… Так вот, как-то встретившись старые друзья заперлись в директорском кабинете, выпили, и Василий Степанович, с годами ставший слабым на воздействие алкоголя, вдруг всплакнул и, размазывая рукавом слезы по морщинистому лицу, дрогнувшим голосом заявил:
– А у меня ведь Федя, родственница здесь объявилась… сестра двоюродная. И ведь столько лет уже рядом живем, а ничего друг о друге и не знали.
– Да, что ты говоришь, Степаныч? Постой, ты же говорил, что без отца рос, мать тебя одна растила и родни никакой. Откуда сестра-то взялась? – удивился такому признанию Ратников.
– Говорить-то я говорил, и тебе, и всем, даже жене, ее родне, своим детям… что отца не знаю, не помню, а ведь точно знаю, кто он у меня. А признаться не мог никому, боялся… так вот. Но, нельзя же всю жизнь вот так, когда то надо и правду сказать, а то может умирать скоро, а я всю жизнь с этой тайной своей…
– Постой, Степаныч, ты же с двадцать первого года рождения. Так ты что же хочешь сказать, что отец у тебя, того, не советский, – высказал очевидную догадку Ратников. – Ну, так про то уже можно без боязни говорить. Некоторые даже наоборот, гордятся. Вон у меня лейтенант один из училища пришел, Малышев, так он деда своего белогвардейца совсем не стесняется, даже наоборот.
– Да нет Федя, у меня-то папаша не совсем тот белый, которым похвалиться можно. Про сотника Степана Решетникова слышал?
– Нет, не слышал. А кто он такой был?
– Ну, ты даешь. Сколько лет тут живешь, а историю нашего края изучить так и не удосужился. В штаб свой в Серебрянске каждый раз мимо памятника коммунарам расстрелянным ездишь?
– Ну, езжу, так что? – не понял, к чему клонит собеседник Ратников.
– Так вот, расстрел тех коммунаров, отец мой, сотник Степан Игнатьич Решетников организовал… Понял?
– Понял… – Ратников воззрился на Василия Степановича уже с неподдельным удивлением, и до него стали постепенно доходить все сопутствующее услышанному. – И как же Степаныч… ты тут с этим жил. Да это же… как же тебе удалось-то все анкеты, КГБ и прочее, райкомы и обкомы обойти и директором стать?
– А вот так Федя. Сам удивляюсь, что никто не дознался, от кого я у матери тогда народился. Да она и сама молчала. Только в 62-м году, незадолго до смерти все мне рассказала. Она же работницей, в прислугах в доме у Решетниковых была. Отца очень любила, а он на нее ноль внимания. Воевал все время, то на империалистической, то на гражданской у Анненкова. А тут брат его младший, молодой офицер, на атаманской дочке женился. А та барышня, в станичной школе учительствовала и к домашней работе не привычна, зато приданного много принесла. Вот мать мою и наняли в работницы, чтобы эту невесту по хозяйству не неволить. А как отец в последний-то раз, где-то в начале 20-го года тайком приехал… тогда же не как сейчас, тут станица была и крепость, которые сейчас затопленные. Ну, вот он приезжал, чтобы восстание поднимать против большевиков… тут у них с матерью и случилось. Так уж она его любила, что на все готова была, не венчанная с ним. Потом он в горы ушел и летом 20-го года стал одним их руководителей Большенарымского восстания. Знаменитого Никиту Тимофеева, командира Красных горных орлов с его отрядом он здесь неподалеку вдрызг разбил. Потом восстание подавили и отца раненого взяли в плен. Я в начале 21-го родился, а его где-то через два-три месяца расстреляли. Мать сумела скрыть свою связь с отцом, а так как батрачкой в его доме была, то и никаким преследованиям со стороны советской власти не подвергалась. И я тоже себя стопроцентным советским человеком всегда осознавал, до того самого 62-го года, когда уже Усть-Бухтарма на дне водохранилища оказалась, а мы в Новой Бухтарме жили, – Василий Степанович разлил по стаканам остатки водки.
– А мать, значит, не побоялась тебе отчество-то отцово дать? – заинтересовавшийся Ратников уже не смотрел на свой стакан.
– Не побоялась. Да и как тут догадаешься, мало ли Степанов на свете. А вот фамилию побоялась, свою дала, – директор одним махом опрокинул содержимое стакана в себя.
– Постой, а откуда тогда сестра-то, и кто она? – Ратников не спеша сглотнул водку и начал разламывать кусок копченой сорошки.
– Да ты ее знаешь, Федь… Ольгу Ивановну Байкову.
– То есть как? Ты имеешь в виду учительницу поселковой школы, Ольгу Ивановну? – изумленно вопрошал Ратников. – Что-то не возьму в толк, с чего ты решил, что она сестра твоя?
– Да я бы и сам не взял в толк, если бы она не захотела вернуть себе девичью фамилию. Помнишь, тот громкий скандал, когда она на банкете Танабаева мордой в корыто с помоями ткнула? Сразу после того она и захотела себе девичью фамилию-то вернуть. А она у нее оказалась Решетникова. Представляешь, так и заявила, я Ольга Ивановна Решетникова, мой дед здесь станичным атаманом был, мать в станичной школе преподавала, отец у Анненкова до есаула дослужился, полком командовал, а дядя и того хлеще, расстрелял коммунаров.
– Вот это да! И когда ж это она все заявила? – изумленно качал головой Ратников.
– Да недавно. Как пошла в Поссовет, фамилию восстанавливать. Конечно, с ее стороны, наверное, имела места своего рода демонстрация. Тоже ведь всю жизнь хоронилась, а тут прорвало. И мне, представляешь, так стыдно стало, я мужик побоялся, а она баба, не побоялась. Пошел я к ней. Так и так, говорю, родственник ваш. Она мне, конечно, не верит. А чем я подтвердить могу, только фотокарточку предъявил, где отец при погонах с шашкой сфотографирован. Это все что у матери от отца-то осталось. Она ее прятала и мне прятать наказала, как помирала. Ольга-то посмотрела на карточку, да, говорит, это дядя Степан, я его по нашим семейным альбомам помню.
– Ну и как, после этого поверила?
– Не сразу…
Тогда Ратников так и не понял, зачем одинокой пятидесятилетней женщине, понадобилась вся эта шумиха, ворошение прошлого. Не совсем он осознавал и чувства Василия Степановича, который до сорока лет прожил стопроцентным советским человеком, потом просвещенный сходящей в могилу матерью, что он не совсем советский, и вот на старости узнавший, что у него тут рядом живет его двоюродная сестра. Так или иначе, но возможно, для Василия Степановича его «выход из подполья» обернулся тем, что его довольно быстро спровадили на пенсию. Впрочем, может быть, что просто так совпало – ведь старому директору шел уже 65-й год и он «перехаживал» пенсионный возраст.
В начале этого года Василия Степановича неожиданно для всех сменил не зав. производством, его старик готовил на свое место, и которого тоже хорошо знал Ратников, а молодой нацкадр, присланный республиканским министерством рыбного хозяйства. Ратников не спешил с ним знакомиться, ожидая, что тот, будучи более молодым, и имея нужду в дешевой рабсиле, сам нанесет «визит вежливости» командиру близлежащей воинской части. Но директор все не ехал и сейчас подполковник, пересилив себя, решил-таки «бросить пробный шар». Он растолкал, вновь было закемарившего, замполита и предложил зайти на рыбзавод. Пырков, позевывая, согласился.
Пожилой вахтер, приземистый, грузный, заросший седоватой щетиной, встретил офицеров, своих старых знакомых, радушно:
– Какие гости к нам, Федор Петрович… и комиссар с вами! Что-то вы совсем к нам дорогу забыли.
– Недосуг Никодимыч. Даже вон к Василию Степановичу некогда заскочить, проведать, дела, текучка. Кстати, что там с ним, говорят, заболел?
– Да, болеет, года-то не маленькие, – вахтер грустно вздохнул. – Вроде такой человек, чуть не двадцать лет здесь заводом рулил, сколько тут дел наворочал, понастроил, а сейчас вон, никому не нужен… Вы то что, к директору?
– Да. Он у себя? – осведомился Ратников.
– У себя. Целыми днями сидит как сыч в кабинете. После Василия Степаныча тут у нас совсем туго стало, – лицо вахтера обострилось в злобной гримасе.
– Что, лютый такой? – усмехнулся Ратников.
– Не то, Петрович. Слышал, небось, своих на завод устраивает, да на самые «теплые» места. Уж на что я сейчас тут пешка, и то боюсь, выживет на старости лет, не даст до пенсии спокойно доработать. Все калбиты, как только он приехал, все норовят к нему устроиться. Мужики, которые на заводе с самого его основания сильно им недовольны, да и мастера, и начальники цехов. Как пришел, здесь все наперекосяк пошло. План годовой, считай, уже завалили, – с мстительными нотками рассуждал вахтер.
– Плохо дело. Может и ходить не стоит? – засомневался Ратников.
– А тебе-то чего пужаться. Зайди, приструни его, при форме как-никак. Оне ее форму-то еще побаиваются. Вот вдвоем с комиссаром и скажите ему, какой тут при Василии Степаныче порядок заведен был, чтобы не фордыбачил и старых работников уважал, калбит хренов, – лицо вахтера вновь исказилось гримасой крайней неприязни.
– Да что моя форма. Я ж просить иду, – пояснил Ратников причину своего визита.
– А что, рыба нужна? – с явной заинтересованностью спросил вахтер.
– Само собой. А есть?
– Есть, когда ее не было. Свежей, конечно, нет, а копченая найдется. Зайдите, может даст, – обнадежил вахтер.
Ратников колебался. Он кое что слышал о новом директоре. Тот был выходец с юга Казахстана, внешне казался высокомерным. Сам собой в сознании подполковника нарисовался портрет по подобию тех представителей казахской национальной интеллигенции, что пытались придать пробуждающемуся чувству национального самосознания агрессивный характер, посеять нетерпимость и ненависть к русским в среде в общем-то терпимого и скромного степного народа.
Целиком погруженный в службу, Ратников вникал в вопросы межнациональных отношений только, так сказать, в прикладном порядке, связанные с состоянием воинской дисциплины в его подразделении. А в частях несущих боевое дежурство до сравнительно недавнего времени личный состав был достаточно однороден: русские и украинцы составляли подавляющее большинство. Но лет, эдак, пять назад, будучи в командировке в Алма-Ате, Ратников, тогда еще майор, поселился в четырехместном гостиничном номере с тремя директорами школ, двумя казахами и одним немцем (в Казахстане проживало довольно много немцев выселенных в Отечественную войну с Украины и Поволжья). Директора приехали из глубинки на свое совещание. Как-то уже поздней ночью, Ратников, привыкший спать чутко, в ожидании тревог, проснулся от приглушенного, вполголоса разговора своих соседей. Говорили по-русски, так как, видимо, немец не знал казахского. Директора-казахи пытались в чем-то убедить директора-немца. Притворившись по-прежнему спящим, Ратников прислушался и понял, что речь идет о художественной литературе. Они говорили об известных писателях и вешали на них «ценники» по своему усмотрению. Немец не возражал и не поддерживал, он в основном слушал. Даже поверхностно знакомому с темой разговора Ратникову стало не по себе, когда, видимо, подвыпившие самородные критики сравнивали Пушкина с Абаем, а Толстого с Мусреповым. Причем в обоих случаях собеседники (кроме немца) приходили к однозначному выводу, что мастерство и талант их земляков заметно выше. Затем они сформулировали еще один вывод, что только колониальная зависимость от России, как до, так и после революции, не позволили этим казахским гениям стать столь же знаменитыми во всем мире. Ратников хоть и происходил из деревни, но за годы учебы в военном училище и после, благодаря регулярному чтению журнала «Юность», стал, как ему казалось, неплохо разбираться в современной литературе, но что касалось старой классической литературы, о которой и шла речь… Полусонное состояние и полное незнание творчества упомянутых казахских авторов, и довольно смутное, ограниченное рамками полузабытой школьной программы, своих гениев, удержало Ратникова от вмешательства в ту дискуссию. Но до него дошло – эти педагоги не сами додумались до такого рода сравнений, это им внушили, или к тому подвели на совещании какие-то весьма авторитетные лица, не сомневаясь, что слушатели доведут услышанное до своих коллег и учеников. С той поры Ратников с предубеждением относился к казахам-интеллигентам. Серьезнее к межнациональным отношениям заставил отнестись и возросшая «пестрота» национальностей в казарме, все чаще на этой почве возникали проблемы.
Идти на поклон не хотелось, но замполит уже проследовал через проходную и Ратников почти по инерции двинулся следом.
– Петрович?! – уже на территории завода догнал офицеров вахтер. – Если не договоришься, не даст, у меня с десяток хвостов найдется, поделюсь.
Подполковник благодарно кивнул в ответ.
3
В небольшом кабинете за столом сидел среднего роста щуплый человек лет 28-30-ти. Красноватые воспаленные глаза устало и отчужденно взирали на вошедших из-за стекол очков в дешёвой «школьной» оправе, отчего узкий разрез глаз директора казался еще уже. Ратникова сразу же внутренне возмутило то, что новый хозяин кабинета, в который он столько лет, что называется «открывал дверь ногой», не предложил им сесть, а молча разглядывал, как инопланетян. В сознании подполковника сразу возникла ассоциация: «чертов чабанский сын, специально выдерживает нас на ногах, кайфует, дескать, мои предки перед каждым казаком, не говоря уж об офицерах, трепетали, а тут передо мной целый подполковник навытяжку стоит». Ратников без приглашения, с силой выдернул из под стола ближайший к нему стул, и с независимым видом уселся. Пырков остался стоять, смущенно переминаясь с ноги на ногу.
– Я вас слушаю? – с нескрываемой досадой произнес, наконец, директор и откинулся на спинку стула.
Поздние гости ему явно помешали. На столе лежали листы исписанной бумаги и включенная электронно-счетная машина. Конец года заставлял сидеть на работе допоздна, с головой окунувшись в тонны, проценты, рубли… В тоне, котором был задан вопрос, Ратников тоже уловил полное пренебрежение к своей персоне. Злоба медленно подступала откуда-то снизу к горлу. Замполит, хорошо знавший своего командира, попытался взять инициативу на себя:
– Мы из близлежащей воинской части, соседи ваши. Товарищ подполковник командир, а я замполит. С прежним директором мы хорошо дружили и помогали друг другу. Надеемся эти отношения продолжить…вот. Нам бы рыбки копченой с ящичек, – просящее подвел итог своим словам Пырков.
Директора просьба ничуть не удивила. За тот непродолжительный срок, что руководил заводом, он уже выслушал подобных просьб без счета, от людей разного ранга и положения. В условиях острого продовольственного дефицита, который царил в первую очередь в советской провинции с конца 70-х годов, всем от него требовалось одно и то же – рыба. Голова шла кругом, концы с концами не сходились, годовой план «горел». Едва ли не все кругом, его заместители, начальники цехов и даже рабочие с интересом сторонних наблюдателей заключивших пари, ждали, когда он оступится, свернет себе шею на этом директорстве. В стремлении укрепить свое положение, он принял на работу несколько казахов, по рекомендации директора базирующегося в Новой Бухтарме совхоза Танабаева. Танабаев сразу предложил союз по национальному признаку, ибо несмотря на то, что являлся местным уроженцем и потомственным советским руководителем, в среде местных начальников его никогда за равного не держали. Увы, помощь Танабаева вышла боком. Бывшие работники совхоза, скотоводы, оказались совершенно непригодны к монотонной и грязной работе в цехах разделки и засолки рыбы, не выдерживали непривычной и вредной для здоровья атмосферы коптильного производства. К тому же они в отличие от старых опытных рабочих не умели незаметно воровать рыбу. Они ее просто перебрасывали через забор родственникам и не раз за этим ловились охраной. Конечно, опорой ему они в ближайшее время стать никак не могли, а только вызывали пересуды и озлобление заводских старожилов.
– Нет у меня рыбы, товарищи. План годовой не выполняем, ни одного ящика, к сожалению, продать не могу, – директор беспомощно развел руками.
Он действительно не мог дать рыбы, после того как отказывал всем, включая даже родственников, которые буквально забрасывали его телеграммами, уверенные, что он вышел в большие начальники, сел на «хлебное» место и теперь весь свой род завалит даровой рыбой.
– Может как-нибудь… – снова начал было просить замполит, но энергично поднявшийся со стула Ратников его резко перебил.
– Пойдем отсюда. Здесь все ясно!
Презрительно сощурив глаза, подполковник вышел, пробыв в кабинете не более трех-четырех минут, не попрощавшись. В полутьме заводского двора его догнал Пырков.
– Ну, что же вы!? Надо было немного с ним поговорить, наладить отношения, тогда, может быть, он и дал бы, – разочарованно говорил замполит.
– А ну его к …! Молокосос, сука! Он же ждал, чтобы я перед ним как собака на задних лапах запрыгал. Перебьемся и без его рыбы. Подождем до весны, когда лов начнется. Посмотрим, как он запоет.
Запыхавшийся вахтер с кошелкой, из которой торчали рыбьи хвосты, догнал их уже у самой машины:
– Что так разбежались-то… не дал?
– Идет он … твой директор! – зло выматерился Ратников.
– Он такой же мой, как и твой. Я ж предупреждал. Значит, так ни одного хвоста и не дал? – удовлетворенно не то спросил, не то констатировал факт вахтер.
– Не дал… сука! – раздраженно подтвердил Ратников.
– На, вот, здесь с десяток, – вахтер с готовностью протянул кошелку.
– Спасибо Никодимыч. Сколько я тебе должен?
– Обижаешь. Летом косить буду в ваших местах. Поди, не шуганешь, по дружбе…а? – вахтер хитро рассмеялся, явно довольный исходом дела.
– Конечно, приезжай, только предупреди загодя…
– Ящик рыбы пожалел, план не выполняет… А ведь тащат у него из-под носа, почем зря. Эта вот рыба, наверняка ворованная, – подполковник презрительно покосился на подарок Никодимыча. Лучше бы пропускной режим наладил… хозяин, мать его… – даже отъехав от завода, Ратников не мог успокоиться.
– И все-таки, надо бы с ним повежливее, еще пригодится, – по-прежнему осуждал несдержанность командира Пырков.
– Еще не известно кто кому больше нужен, и ниже кланяться должен, – выразил свое мнение Ратников.
Дорога, свернув от водохранилища, шла на подъем в невысокие предгорья. Пыркова опять укачало, но Ратников уже не обращал на него внимания. Горы стали положе, дорога теперь повернула от разлившегося водохранилищем Иртыша и шла параллельно тоже разлившейся Бухтармы в сторону поселка Коммунарский, где на землях, некогда принадлежащих Кабинету Его Императорского Величества, а в 18-м году образовали свою коммуну рабочие питерского обуховского завода, сейчас размещался совхоз с символическим названием.
Обычно Ратников долго помнил зло, но если его первопричиной явилось недоразумение, здравый смысл рано или поздно торжествовал в сознании Федора Петровича. На этот раз он «остыл» довольно быстро. Не успел замполит погрузиться в очередной сон, а автомобиль миновать освещенный многочисленными фонарями гигантский глиняный карьер, из которого черпали основное сырье для цемзавода… В общем, подполковник уже жалел о случившемся на рыбзаводе, недобро поминая вахтера: «Справоцировал старый хрыч. Десять рыбин дал, а сено возами переть будет, вон у него хозяйство-то какое. И с директором из-за него конфуз получился, обидел ни за что. Может он и мужик-то неплохой». Подполковник раздраженно пнул ногой мешавшую ему кошелку.
Ратников не чувствовал тяжести вновь привалившегося к нему замполита – его опять затягивала трясина воспоминаний. Вспомнил как тяжело переживал ту первую свою крупную служебную неудачу, десять лет назад, во время стрельб на полигоне, когда ракета выпущенная его дивизионом прошла мимо учебной мишени. В тот раз стрельбу «завалил» весь полк. Ратникова наказали негласно, не отразив наказания в послужном списке, но больнее ударить можно было, разве что судом офицерской чести. Ему отказали в праве поступать в академию. Но почему командир другого дивизиона, у которого ракета вообще не сошла с пусковой, этого права не лишился, благополучно поступил, окончил и уже который год бригадой командует? Тогда Ратников не вдавался в подробности – его наказали за дело. Три года спустя, он опять пытался ухватить «жар-птицу» за хвост, поступал уже на заочное отделение (на очное вышли года). На этот раз стрельба прошла успешно, и дивизион занял первое место в полку по итогам соц-соревнования. И вступительные экзамены он сдал… но не прошел по конкурсу «личных дел», придрались к задержанному на девять месяцев майорскому званию. И опять некоторые другие поступили, несмотря на такие же и даже худшие экзаменационные оценки и задержки в званиях. Никакого чуда – все они, или имели «лапы», или умели в нее «давать», или еще что-то, а конкурсный отбор в академию никогда не определялся набранными экзаменационными баллами.
После вторичного фиаско единственной, правда довольно тусклой, «путеводной звездой» для Ратникова стало получение последнего, возможного для командира дивизиона воинского звания – подполковник. Тяжело осознавать близкий конец карьеры офицеру, заряженному на гораздо большее, и не жалевшему на службе сил и здоровья. В последние годы он уже не лез в передовики, предпочтя более спокойный удел крепкого середняка. Тем не менее, стычки с начальством участились. Особенно Федор Петрович плохо «переваривал» молодых и удачливых «академиков». Они все ему виделись «блатными», выучившимися вместо него. В результате подполковника тоже перехаживал почти полтора года.
Машина сделала крутой поворот и затряслась на ухабах: свернули с шоссе на грунтовку, ведущую к дивизиону. Пырков сразу очнулся:
– О, родимую тропку ощущаю, скоро приедем.
Ратников не отреагировал. «Рытвины и ухабы» напомнили хоть и не о близком, но неотвратимом – где достать летом гравий и песок для ремонта этого 3-х километрового участка дороги закрепленного за дивизионом. Эту мысль он отогнал легко – до лета еще далеко – и «освободившееся место» тут же вновь заняло полковое совещание. Там, кроме приезда комкора, обсуждали еще ряд вопросов связанных с состоянием воинской дисциплины в подразделениях полка и борьбой с неуставными взаимоотношениями. Эта часть совещания напоминала экзекуцию. Когда речь заходила об очередном «ЧП» в каком-нибудь подразделении, вставали со своих мест соответствующие командир с замполитом и униженно выстаивали пока начальник политотдела полка «клеймил их позором». Подобные вставания именовались в офицерской среде метафорично: дёргать задом гвозди. На прошедшем совещании больше всех надергал «гвоздей» тридцатилетний командир дивизиона, пришедший в полк по протекции из штаба корпуса. Протекция, видимо, оказалась не очень сильная, ибо его костерили безжалостно, да и было за что. За те полгода, что он «рулил», в его дивизионе не прекращались самоволки и это еще полбеды. Неделю назад зам начальника политотдела, большой спец по осмотру солдатских задниц, за что получил прозвище «гинеколог»… Так вот «гинеколог» заставил в том дивизионе молодых солдат спустить трусы и обнаружил на ягодицах целой группы бойцов последнего призыва следы «отпуска баночного довольствия», то есть синяки от ударов бляхами ремней, которыми «старики» обычно так вот «прописывали» молодых.
Один раз пришлось подняться и Ратникову с Пырковым. В вину им поставили слабую воспитательную работу с молодыми офицерами, имея в виду конфликт, произошедший между старшим лейтенантом Малышевым и ефрейтором Гасымовым. Если бы наружу выплыла вся правда о той стычке, возможно, стоять бы им с замполитом на парткомиссии, а Малышев вполне и недавно полученной третьей звездочки мог бы лишиться. Тот конфликт, благодаря стараниям Пыркова, удалось притушить, замять, так что до полка дошли лишь слабые отзвуки, дескать, старлей отматерил и попутно дал ефрейтору небольшую затрещину. А на самом деле имело место настоящее рукоприкладство, да еще с оскорблениями на национальной почве. Ратников хоть и не был свидетелем, но легко представлял случившееся. Коренастый старший лейтенант с огромными кулаками, и вот один из этих кулаков-кувалд резко набрав скорость вступает в прямой контакт с неприятно лоснящейся наглой физиономией дивизионного каптера Гасымова. Неординарный случай застиг Ратникова врасплох, хотя он, в общем-то мог бы и предвидеть нечто подобное заранее. Ведь он знал, что Гасымов хам и наглец, а его родственники, которых он частенько упоминал как людей «умевших жить», по всей видимости крупные мошенники и спекулянты. Знал, что Гасымов любит похвастать необычным для советской действительности богатством своей семьи, и о том какая прекрасная, обеспеченная жизнь ожидает его после «дембеля». Знал Ратников и то, что Малышев, большую часть жизни проживший в Батайске под Ростовым, с трудом переваривает этнических кавказцев. Все это подполковник знал, но не предупредил этой стычки. Попытки поговорить со старшим лейтенантом после случившегося ни к чему не привели. Малышев угрюмо замкнулся и однообразно твердил: «Не выдержал, готов понести наказание». Но при этом никаких угрызений он явно не испытывал и виноватым себя не считал…
4
Тот инцидент произошел три недели назад, в начале октября. Совсем недавно прибывшие в дивизион молодые лейтенанты, выпускник военного училища Сушко и двухгодичник, выпускник Московского Энергетического Института Рябинин, обложившись схемами, сидели в ленинской комнате и занимались самоподготовкой. Они изучали устройство сложного радиотехнического узла из состава обслуживаемой ими техники. Вернее Рябинин помогал Сушко осилить схему. В войсках ПВО ни для кого не было секретом, что выпускники гражданских ВУЗов, не идя ни в какое сравнение со вчерашними курсантами военных училищ по общевойсковой подготовке, за редким исключением, значительно превосходили их в теории точных наук. Рябинин исключением не оказался, радиотехнические схемы «читал» как книги и быстро осваивал вверенную ему технику. Он в очередной раз доказывал, что МЭИ это фирма и на военной кафедре института офицеры-преподаватели, коим вместо войск посчастливилось туда попасть, честно отрабатывают московскую прописку.
В самый разгар занятий, когда лейтенанты уже «по уши» залезли в дебри изображенных на схемах радиоэлементов, в ленкомнату нарочито-небрежной походкой вошел каптер ефрейтор Гасымов. Этот солдат занимал в дивизионе особое место. Его призвали после окончания математического факультета одного из периферийных пединститутов Азербайджана. Среди призывников последних лет, где с каждым годом рос процент выходцев из Средней Азии и Закавказья, плохо, или вообще не владеющих русским языком, выпускники институтов, не имеющих военных кафедр, считались «золотым фондом» личного состава Советской Армии. Их, как правило, назначали на самые трудные и ответственные солдатские и сержантские должности по обслуживанию техники, где главную роль играла именно грамотность, образование. Но с Гасымовым получилась «осечка». Этот математик с высшим образованием не потянул должность оператора ЭВМ, рассчитанную на добросовестного выпускника средней школы. Не прижился он и в стартовой батарее, где требовались физическая сила и подвижность. Свою судьбу на время армейской службы Гасымов устроил, используя момент, когда Ратников находился в отпуске. Он сумел «убедить» замещающего Ратникова начальника штаба дивизиона майора Колодина перевести его на должность каптера. Что и было сделано, по слухам, не бесплатно. Из Азербайджана на адрес начальника штаба, будто бы приходила какая-то посылка. Так или иначе, Гасымов сел на «теплое» место. Справедливости ради надо отметить, что в каптерке он довольно быстро навел образцовый порядок, ибо до него там самолично хозяйствовал старшина дивизиона прапорщик Муканов…
Предки старшины до затопления Долины жили на левом, казахском берегу Иртыша. Но после того, как и их селения, кладбища и пастбища оказались под водой, перебрались подальше в глубь калбинского хребта, поближе к Чертовой Долине. Но туда, на высоту и скудные для разведения скота места поехали не все, некоторые перебрались на правый берег и осели в Новой Бухтарме и близлежащих деревнях, благо свободные квартиры имелись. Родители Муканова работали в совхозе у Танабаева, но он сам после срочной службы, поработав в совхозе совсем немного, предпочел пойти в прапорщики. Старшиной он являлся довольно требовательным, но грубым с подчиненными, мог поддерживать дисциплину в казарме, но имел недостаток свойственный многим казахам – патологическую безалаберность в хозяйственных вопросах. Каптеров Муканов тоже подбирал из соплеменников под стать себе, и на протяжении тех полутора лет, что он «старшинил», в каптерке «черт мог ногу сломать».
Ратников предпринял, было, попытку избавиться от такого старшины, но веских причин для его снятия не оказалось: Муканов не пил, с начальством держал себя вежливо, особенно предупредителен был с политработниками. Именно в политотделе полка Ратникову популярно объяснили, почему необходимо укреплять связь с коренным местным населением, как говорится, народ и армия едины. А хозяйственная жилка? Ну что ж, то дело наживное, на то он Ратников и командир, подчиненных воспитывать. Потому, увидев как Гасымов начал приводить в порядок вещевое имущество дивизиона сосредоточенное в каптерке, подполковник не стал препятствовать его нахождению на данной должности.
Ну, а в тот памятный день Гасымов пребывал в хорошем настроении, что побуждало его пообщаться. За год службы он немало поднаторел в деле «учения жизни» своих сослуживцев, солдат срочной службы. Теперь он, видимо, решил, что пришло время приняться и за молодых офицеров. Не спрашивая разрешения, каптер подсел к лейтенантам и бесцеремонно завел разговор. Сушко, видимо, и в училище не отличавшийся бойкостью, сейчас попав на «точку» вообще сник, засомневался в выборе жизненного пути. Рябинин, всего четыре месяца как в армии, тоже еще не «оперился» и терялся в сложных ситуациях. Не зная как реагировать на наглость каптера, лейтенанты молча, прервав занятия, слушали гасымовские поучения.
– Вот вы все учитесь, учитесь, а жизни совсем не знаете, – небрежно кивнул на разложенные схемы и инструкции каптер. – Чтобы хорошо жить ничего этого не надо знать. Вот я институт закончил, – а почти не ходил туда, мой старший брат тоже, а дипломы и он, и я получили. – Приняв настороженное внимание слушателей за проявление интереса, Гасымов продолжал. – Я еще не работал нигде, а у меня дома шестнадцать тысяч на книжке лежит. У брата сорок пять и «Волга» есть. У всех офицеров вместе на этом дивизионе столько нет, а может и во всем полку.
Насмешливая физиономия каптера при упоминания им «достатка» офицеров приняла откровенно презрительное выражение. Лицо Сушко тоже претерпело изменения, из растерянного превратилось в удивленное и даже промелькнуло подобие восхищения. Его, парня из малообеспеченной семьи, словесное жонглирование многими тысячами рублей впечатляло. Рябинин хмуро молчал, он понимал, что наглеца надо поставить на место, но не решался.
Уловив в глазах слушателей немой вопрос, Гасымов откровенно с удовольствием поведал историю возникновения семейного капитала:
– Брат от предприятия, где работает, в командировку в Сибирь каждый год поезжает, лес закупать. Там кому надо заплатит, бутылку поставит, столик в ресторане закажет и ему лишнего леса загрузят. А дома он эту излишку с помощью отца продает. Лес у нас дорогой, из рук рвут. За год наш семья имеет больше чем другие за жизнь. Я как на дембель пойду жениться буду. Мне дом брат купит, подарит, машину – отец. Вот как жить надо! А вы тут какие то плющки-финтифлющки разглядываете, – Гасымов презрительно ткнул пальцем в треугольные изображения диодов на близлежащей к нему схеме.
Войдя в раж, каптер не услышал, как кто-то неслышно подошел к полуоткрытой двери ленкомнаты, привлеченный его голосом, и невидимый, стоял за нею, слушая.
– Ну, вам то еще ничего, два года отслужите, в Москву вернетесь, а в Москве жить можно, – утешил каптер Рябинина. – А ваше дело совсем плохо, всю жизнь по таким вот «точкам» промучаетесь, – теперь он «обрадовал» совсем сникшего Сушко.
Фривольно закинув ногу на ногу, Гасымов достал пачку «БТ». Он всегда покупал самые дорогие сигареты, имеющиеся в дивизионном магазине, в то время как прочие курящие солдаты и большинство офицеров предпочитали дешевые «Астру», или «Приму». Но покурить ему на этот раз не пришлось.
– Убери сигарету, сука черножопая, и встань, когда с офицерами разговариваешь! – в дверях стоял старший лейтенант Малышев с лицом искаженным гримасой ненависти…
Старшему лейтенанту Николаю Малышеву исполнилось двадцать четыре года. Это был импульсивный, физически развитый парень. Гасымову всего на год меньше, но внешность он имел, так сказать, среднеазербайджанскую, то есть, внешность кавказца, но не кавказца-джигита, худощавого, резкого, взрывного, а кавказца рыночного торговца, мордатого, чрезмерно тяжелого в заду, неповоротливого, и в то же время хвастливо-наглого. Исходя из этого, у каптера не имелось шансов противостоять в физическом столкновении. Впрочем, он и не успел ничего сделать, кроме того, что вскочить, опрокинув стул на котором сидел… Буквально через две минуты каптер уже выползал из ленкомнаты на четвереньках, «освещая», себе путь быстро наливающимися синевой подбитыми глазами.
Все это, до мельчайших подробностей, замполит знал уже пару часов спустя, сопоставив показания «участников» и «свидетелей». Гасымов порывался жаловаться в Политотдел, ГЛАВПУР, министру обороны, и, что особенно подчеркивал, члену Политбюро Гейдару Алиеву. Пырков сначала сбил с него спесь, пугнув тем, что если дать делу официальный ход, то при расследовании всплывет и содержимое его «поучительных» фактически антисоветских высказываний, в которых он проповедовал личное обогащение посредством расхищения социалистической собственности. И это, ох как не понравится в вышестоящих политорганах и, вполне возможно, даже его высокопоставленному замляку в Политбюро ЦК КПСС. Более того, содержание его хвастливой болтовни может дойти (если послать соответствующее письмо) до его родных солнцеобильных мест, и там его родичам вполне может «непоздоровиться». В общем, это дело плавно спустили на тормозах, но чтобы каптер получил хоть какое-то моральное удовлетворение и не рвался жаловаться через голову дивизионного командования, Малышеву объявили «строгий выговор» за нетактичное поведение с младшим по званию, не упоминая ни рукоприкладства, ни оскорбления на национальной почве. Гасымову же, в свою очередь, дали понять, что прощают и слова его и попытку закурить в святом для любого советского военнослужащего месте…
Наконец, глубокая извилистая колея вывела автомобиль к конечной цели – впереди ясно обозначились огни «точки». Машина, словно чуя близкий конец своим мучениям, перестала «капризничать». Бросив взгляд на приближающийся военный городок, Ратников привычным хозяйским взглядом отметил недостаточное количество фонарных огней. «Одиннадцать… один не горит, завтра надо команду электрикам дать, лампу поменять», – автоматом работала мысль, приученная за последний десяток лет к постоянному беспокойству за этот небольшой островок человеческой жизни, в котором он являлся главным лицом, или, как говорили отдельные, не симпатизировавшие ему офицеры и их жены – царем-самодержцем.
Фары высветили из снежной темени железные ворота со звездой и небольшую постройку – караульное помещение. Водитель засигналил, замполит спросонья вздрогнул, через несколько секунд из «караулки» выбежал солдат с автоматом, на ходу застегивая шинель, открыл металлически лязгнувшие ворота. «Радиотехническая батарея в наряде», – вглядываясь в сощурившееся от света автомобильных фар лицо солдата, вновь механически отметил Ратников. «Посмотреть, как там у них в караулке?» – появилась, тут же подавленная неким чувством мысль. Это чувство, название которому: да пропади оно все пропадом, нет-нет да и навещало в последнее время подполковника, с частотой обратно-пропорциональной количеству остававшихся ему до увольнения в запас лет. Пока то чувство боролось с другим, что присуще любому человеку, приученному к дисциплине и носит название служебного долга… машина уже миновала ворота, проехала вдоль забора, отделявшего ДОСы от казармы, и остановилась напротив входа в казарму.
5
Спрыгнув с подножки машины, Ратников отметил, что не ошибся: один фонарь действительно не горел. Легкая поземка наполовину занесла строевой плац. «Утром вместо физзарядки» придется от снега очищаться, за ночь тут много наметет», – размышлял Ратников, шагая к казарме.
Казарма, красно-кирпичное одноэтажное длинное здание, с первого взгляда казалось утопающим в сугробах, но при более внимательном рассмотрении проявлялась каждодневная кропотливая работа: нигде по всему периметру снег вплотную к зданию не подступал. Только южная, торцевая сторона, с которой к казарме примыкал клуб-пристройка, портила общую картину. Здесь лишь дверь очищена от снега, а вся остальная наружная стена до самых окон завалена снегом.
– Николаич? – Ратников обернулся к следующему за ним Пыркову. – Опять твой лодырь снег от клуба не отбросил. Который раз тебе напоминаю?
Подполковник говорил о подчиненном замполита, клубном работнике рядовом Физюкове.
– Да не успевает он, Федор Петрович. Он же целыми днями то стенды мастерит, то плакаты пишет, стенгазету рисует, а тут еще этот снег, вступился за «своего» замполит.
– А что я комкору скажу, когда приедет? Нет, ты уж как-нибудь сам решай вопросы, связанные с твоими объектами. А клуб это твое родное. Не мог, что ли, у командиров батарей людей попросить? Завтра же с подъема возьми у Сивкова трех человек и до завтрака расчисти свое заведение, – отрывисто бросил подполковник, берясь за ручку казарменной двери.
В казарме, ярко залитой светом люминесцентных ламп, к подполковнику поспешил рослый, немного лупоглазый лейтенант Рябинин, на левом рукаве повязка дежурного по дивизиону. Несколько сбивчиво, краснея от пристального прищура командира, лейтенант подал команду «Смирно!» и доложил, что за время его дежурства в дивизионе происшествий не случилось. Ратников огляделся: на полу ничего к чему бы можно придраться – только что протерли. Глянул на дневального у тумбочки – тот вытянулся, отдал честь, ремень затянут. Прикопаться явно не к чему, а так подмывало привычно отчитать этого столичного молодчика: «Как это не случилось, да у вас…!!!»
Неожиданно, в притихшей, как всегда, когда заходил командир, казарме раздался грохот упавшего на пол тяжелого предмета. Ратников повернулся и пошел в «эпицентр» этого звука, в спальное помещение. Дежурный с растерянным видом поспешил следом. Несколько десятков человек, все кто находились в казарме, повернулись к обнаженному по пояс, невысокому мускулистому солдату. Источником грохота являлся он, вернее упавшая 24-х килограммовая гиря. Видимо, услышав команду «смирно» он прервал свою тренировку с гирей и поставил ее на гимнастического козла, чтобы потом после команды «вольно» продолжить занятия. Но впопыхах поставил слишком близко к краю и тяжелый снаряд, соскользнув, рухнул на пол. Гиревик растерялся и смотрелся испуганным взъерошенным котенком. Ратникова боялись, и такая реакция солдата была вполне естественна.
Подполковник ощутил сухость во рту – предвестник подступавшего гнева. «Тут командир корпуса приезжает, а вы беситесь!» – хотелось кричать ему. За двадцать лет офицерской службы он научился зло и беспощадно распекать подчиненных. Со временем это получалось уже самопроизвольно: раздражение подкатывало, неуправляемо неся в бездну гнева… Ратников смотрел на крепкого парня, с растерянным лицом ожидавшего командирской брани и наказания. И… у подполковника непонятно откуда вдруг явилась совершенно нестандартная мысль: «А какое ему дело, что комкор едет. Он день отпахал, отдежурил, сейчас отдыхает, на что имеет полное право». Простая логика, в общем-то, давно уже вынашиваемая в сознании, как-то разом сняла напряжение, успокоила подполковника, тем более что «виновник» рядовой Кудрин солдатом был неплохим и никогда особых нареканий не вызывал. Зато в ожидающих взглядах некоторых «зрителей» читалось: «наконец-то и ты попался «тихушник», побыл хорошим, хватит, сейчас «батя» на тебя разрядится…»
– Я починю, товарищ подполковник, – опережая командира, зачастил Кудрин, – никаких следов не останется.
– Хорошо, только аккуратнее и попроси Григорянца, чтобы помог тебе, – только и сказал Ратников, и к немалому удивлению казармы, тут же повернувшись, пошел в канцелярию, негромко приказав дежурному:
– Рябинин, пойдем со мной.
Лейтенант нехотя пошел следом, уверенный, что его ждет нахлобучка.
Михаила Рябинина с первых дней службы в дивизионе стали звать студентом. Сначала это его обижало, но потом он понял, что это прозвище и несколько пренебрежительное отношение «прилипает» ко всем двухгодичникам. Как и положено лейтенанту командира дивизиона он побаивался, особенно его «фирменного» пристально-пронизывающего взгляда, от которого становилось не по себе, даже если и не чувствуешь за собой никакой вины. За свое недолгое время службы Михаил пришел к неутешительному для себя выводу – командир его недолюбливает, вот только неясно почему.
В канцелярии дивизиона, расположенной в противоположном от спального помещения крыле казармы, прямоугольной комнате с тремя потертыми письменными столами – командира, начальника штаба и замполита – грубо сваренным двухэтажным сейфом с облупившейся кое-где темно-зеленой краской… Вся эта приевшаяся своей казенщиной обстановка дополнялась неоднократно чиненными исцарапанными стульями с грязными ножками. На командирском столе лежала кошелка с рыбой – это шофер занес забытую Ратниковым в машине рыбу. Подполковник открыл сейф и с неприязнью зашвырнул туда кошелку, возбуждающую неприятные воспоминания часовой давности. Он сел за стол, лейтенант остался у двери, в тревожном ожидании.
– Подойди ближе, что стал как неродной… Ты в курсе, что к нам скоро, может даже на следующей неделе приезжает с проверкой новый командир корпуса? – Ратников сделал многозначительную пузу.
На «студента» данное известие не произвело никакого впечатления. В этой связи в голосе Ратникова послышались недовольные нотки:
– Напрасно думаешь, что к тебе лично это не имеет отношения, тебе тоже надо кое в чем над собой поработать.
Глядя на не по росту сшитую, короткополую, топорщащуюся по бокам шинель лейтенанта подполковник тут же выдал и конкретное «руководство к действию»:
– Шинель смени.
Рябинин обладал неплохой фигурой, напоминая Ратникову его самого в молодости – рослый, стройный… Но на вечно бедном полковом вещевом складе подобрали только эту шинель, короткую для него и в то же время свободную в бедрах, будто на бабу шили, а не на офицера.
– У меня другой нет, – вызывающе ответил лейтенант.
– Попроси у кого-нибудь на время.
– А что, пусть посмотрят как нас, двухгодичников здесь экипируют, – все больше «смелел» студент.
– Цыц, – словно ребенка, осадил его Ратников. – Другую шинель тебе комкор все равно не даст, а повод для разговоров будет. Скажут, на тебя глядя, что у нас тут все как пугала огородные ходят… – Подумав, добавил, – Ладно, весной, как на полковой склад завоз будет, напомни мне, начальнику тыла позвоню, сменим тебе шинель.
Ратникову в последнее время все больше начинал нравиться этот старательный хоть и «колючий» парнишка, которого он спервоначала встретил с явным предубеждением, в «штыки». Свою неприязнь и придирчивость он оправдывал неопытностью лейтенанта. Лишь спустя некоторое время подполковник сам себе признался, что страдает скрытой формой зависти. Он бессознательно завидовал тому, что Рябинин москвич, что через полтора года он отслужит, и уйдет с «точки» и снова будет жить в центре цивилизации, где-то там в районе Площади Ильича, что он за свои двадцать два года жизни не знал, да скорее всего и не узнает в будущем тех мытарств, которые выпали, да еще и выпадут на его, Ратникова долю. Тому обстоятельству, что подполковник «потеплел» к студенту способствовало поведение самого Рябинина. Тяготы службы и даже попреки он сносил стоически, к служебным обязанностям относился старательно. Опираясь на хорошую институтскую базу, быстро осваивал вверенную ему технику…
– Сколько градусов в казарме? – перешел к обычному командирскому «допросу» дежурного Ратников.
– Четырнадцать, – четко ответил Рябинин, зная, как не любит командир, если дежурный не знает точно температуру внутри спального помещения.
– Немного, – со вздохом констатировал подполковник.
Причина «зусмана» в казарме имела чисто «головотяпское» происхождение. Когда строили казарму, потолочные перекрытия, имеющие специальные углубления «колодцы», положили неправильно, наоборот, как корыта, и вместо воздушной теплоизоляционной «подушки» получились резервуары для скопления проникающей с крыши влаги. И хоть эти пустоты давно уже засыпали шлаком, он не смог стопроцентно заменить «подушки» и солдаты в казарме с поздней осени до весны вынуждены были «закаляться».
Офицеры у себя в ДОСах в сильные холода отапливались самостоятельно. Не особо надеясь на паровое отопление, они дополнительно обогревали свои щито-сборные «финские» домики с помощью имеющихся в квартирах печек-голландок, благо уголь даровой. Ну, а кто ленился печки топить, обогревались с помощью разного рода электрообогревателей, в том числе и самодельных «козлов», опять же благодаря тому, что не работали электросчетчики и плату за «свет» брали некую среднюю.
– Пойдешь к кочегарам, – продолжал свой инструктаж Ратников, – скажешь, пусть угля не жалеют, за эти дни надо температуру в казарме поднять.
– Я то скажу, но они ведь, начальником тыла заинструктированы об экономии и меня вряд ли послушают, – возразил лейтенант.
– Здесь не начальник тыла, я командир. Скажи это мой приказ. Что сейчас пережгем, в оттепели компенсируем… если получится.
Расход угля строго планировался и регулярно контролировался службой тыла полка. Но если к приезду нового комкора в казарме будет холодно, у него наверняка возникнут соответствующие вопросы. И сможет ли молодой полковник, бывший лётчик, почти никогда не сталкивавшийся с кочегарками, углем, личным составом, понять все эти трудности, которые порой невозможно никак преодолеть.
– А куда замполит пропал? – вдруг спросил Ратников.
Дежурный, недоуменно пожал плечами.
«Домой, наверное, свалил… Счастливый, может вот так плюнуть на все. А ведь для него этот визит комкора куда важнее, чем для меня, у него-то «поезд» еще не ушел, он еще может в свою академию успеть», – подумал Ратников.
Эти мысли вновь разбудили «задремавший» было гнев, который волнами подступал, вызывая неприятные спазмы в горле. Но тут же усилием воли он его подавил: «А черт с ним со всем, будь, что будет, все равно ничего не изменить, раз на роду написано». Ратников взглянул на часы – без пяти восемь. Желание вызвать замполита и переложить на него часть забот прошло. Идти домой не хотелось. Там, скорее всего, ждал неприятный разговор с женой. Потому он готов был ухватиться за любую причину, лишь бы оттянуть время. В дверь постучали…
6
В канцелярию вошел среднего роста непрезентабельный человек с длинными как у орангутанга руками, далеко торчавшими из рукавов меховой танковой куртки.
– Разрешите обратиться, товарищ подполковник! – четко по уставу произнес вошедший.
– Заходи Валера. Что там у тебя? – приветливо отозвался подполковник.
Тридцатидвухлетний автотехник дивизиона прапорщик Валерий Дмитриев родился в Усть-Бухтарме, а вырос уже в Новой Бухтарме, смолоду работал шофером на автобазе. Но потом, ввиду низких заработков шоферов перешел на цемзавод в «обжиг», самый вредный для здоровья цех, где платили куда больше. За пять лет такой работы Валера серьезно надорвал свое здоровье. Потому и подался он в близлежащую воинскую часть на должность автотехника, благо в автомобилях разбирался неплохо, а на дивизионе всегда имелся дефицит прапорщиков.
– Товарищ подполковник, вот я составил опись запчастей, необходимых для ремонта нашего автотранспорта, – прапорщик подал лист бумаги.
– А чего это ты мне его принес? Не знаешь, что ли как это делается? Составь официальную заявку и как положено представь в полковую автослужбу, – Ратников смотрел на прапорщика недоуменно.
– Да без толку все это. Я этих заявок в полк без счета перевозил. Но там, того что нам надо нет. Это можно достать только в поселковой автобазе, на их складе.
– Ну, так достань, ты же там работал, небось, всех там знаешь, – начал уже слегка раздражаться подполковник, как всегда, когда подчиненные, как ему казалось, хотели переложить на него выполнение своих обязанностей. Ладно, Рябинин, тебе все ясно? – обратился он к, по-прежнему стоявшему перед ним, дежурному. – Давай, иди к личному составу, у нас тут с автотехником свой разговор будет.
Дежурный козырнул и скрылся за дверью.
– Товарищ подполковник, за все это или деньги платить, или бутылки ставить надо. Даже если я свою зарплату положу, расплатиться не хватит, – нервно прояснил ситуацию прапорщик.
– Так ты, что предлагаешь, мне что ли водку автослесарям и кладовщикам на автобазе ставить?! – повысил голос и подполковник.
– Да нет. Тут надо с самим завбазой договариваться. А лучше, чтобы он нашу транспортную машину к себе в теплый бокс поставил и распорядился ей полный техосмотр сделать. Там и условия и специалисты есть, – терпеливо гнул свое Дмитриев. – Вы же сами знаете, что на ней надо коробку передач перебирать или вообще менять. Иначе, аварии не избежать.
Ратников задумался, вспомнил скрежет, с которым переключал передачи водитель. Автотранспорт всегда был одним из больных мест дивизионного хозяйства. Потому и обрадовался он, когда два года назад к нему из поселка пришел служить этот куркулеватый, невзрачный мужик. Ратников надеялся, что Дмитриев, наконец, наведет должный порядок с автотранспортом. Но чуда не произошло, автотехник сразу поставил вопрос ребром – будут запчасти, отремонтирую машины, и никак иначе, при этом сам «доставалой» он становиться не собирался.
– Так ты что же хочешь, чтобы я поехал к заведующему автобазой и уговорил его отремонтировать нашу машину? Или ты предлагаешь мне дать ему в «лапу»?
Прапорщик слегка потупился, и как-то враз стушевавшись, заговорил стеснительным тоном:
– Федор Петрович, вам надо не его просить, а Ольгу Ивановну… Решетникову.
– Решетникову… учительницу!? – изумлению подполковника не было предела. – А она-то здесь при чем?
– Видите ли, зав автобазой, он как я недавно узнал, ей вроде родней приходится. Не знаю какой родной, но дед заведующего, как только она объявила, кто она есть на самом деле, сразу всем говорить стал, что она получается им как родня, и он сам у ее матери в школе учился еще до советской власти. В общем, я думаю, если она попросит, заведующий пойдет навстречу. А вы же с ней, с Ольгой Ивановной, хорошо знакомы. Другого пути у нас все равно нет. В полковой автослужбе с запчастями полный голяк, а так, может, удастся. Попробуйте, пожалуйста, – моляще попросил прапорщик.
Ратников тупо уставился в пол. До такого сам бы он никогда не додумался, просить учительницу своего сына воздействовать на директора автобазы, чтобы тот помог ему в ремонте дивизионного автотранспорта. Не мог он и в очередной раз не удивиться, как вдруг в последние два-три года во всей округе вырос авторитет и значение, до того в общем-то скромной и малозаметной учительницы русского языка и литературы ново-бухтарминской средней школы. В связи с этим он не мог не спросить после некоторой паузы:
– А что у вас там, в поселке говорят… ну про Ольгу Ивановну? С чего это она вдруг… ну такой уважаемой стала?
– Я и сам удивляюсь. Я ведь тоже у нее учился, когда она еще Байковой была. Училка и училка, а оказалось вона как, внучка станичного атамана, родилась в Китае. Я же еще с малых лет помню, когда в Усть-Бухтарме жили, дом тот, в котором клуб помещался. Про него так и говорили, атаманский дом. И крепость помню и церковь. Колокольню, когда взрывали, смотреть бегал, мне тогда лет пять было, – рассказывал Дмитриев.
– А зачем взрывали-то, в пятидесятых вроде с религией уже не боролись? – вопросом перебил Ратников.
– Да нет, тут другое. Колокольня-то высокая, кирпичная, а там сейчас водохранилище. Чтобы пароходы случайно не напоролись, – пояснил прапорщик и продолжил свои мысли. – Если бы она лет десять назад такое отчебучила, ей бы тут не жить было. А сейчас как все с ног на голову перевернулось, столько народу к ней в родственники набиваются. Будто советская власть то ли ослабла, то ли другой стала, если она из такой семьи и стала чуть не самым уважаемым человеком в поселке. Но так оно и есть Федор Петрович, поговорите с ней, ей не откажут, ей Богу. Она же и супругу вашу знает.
– М-да… чушь какая-то. О ремонте машин договариваться с учительницей. Впрочем, можно попробовать. Ну, а ты-то, Валера, как ко всему этому относишься. Ты же вырос здесь, ты-то сам кто изнутри больше красный или белый? – подполковник оперся локтями на стол и с интересом воззрился на прапорщика.
– А я сейчас никакой. Когда еще малой был, в школе учился – насквозь красный был. Но где-то лет в пятнадцать бабка мне всю историю моей семьи рассказала. Так я сначала не поверил ей. А потом… потом понял, что так оно и получается, что по родне я получаюсь никакой, ни красный, ни белый. У прадеда моего, здесь неподалеку хутор был с землей, так его и красные и белые грабили. А деда с братьями потом в продразверстку за то, что хлеб свой не отдавали, постреляли, хутор разорили. Бабка с отцом моим годовалым и его сестрой пятилетней христарадничала тут по деревням, батрачить нанималась, за кусок хлеба. А у прадеда на хуторе и коров стадо было, и бараны и пашни целых сорок десятин и лугов столько же. Кстати, один из его покосов недалеко от нашего дивизиона был. Помните родник, что меньше чем в километре отсюда, куда летом иногда за водой женщины наши ходят? Ну, так вот, там тоже была его земля, траву они там косили. Все поотбирали. А прадед за все это двадцать пять лет царю верой и правдой солдатом отслужил. И с турками воевал, Бухару и Коканд брал. Так что, получается, от той революции родня моя крепко пострадала. Но, я думаю, и они тоже были не красные и не белые, и я вот такой же. Я вообще за то чтобы ни на одну обочину не заваливаться, я чтобы по середине дороги ехать, – выражал свое кредо Валерий Дмитриев.
Ратников с изумлением смотрел на прапорщика, тот впервые так с ним разоткровенничался и поведал столь необычную историю своей семьи. После ухода Дмитриева подполковник минут пять просидел в раздумье, потом через дневального вновь вызвал дежурного.
– Садись, – Ратников указал на стул, на котором только что сидел прапорщик.
Неожиданное предложение несколько смутило лейтенанта, его глаза изобразили немой вопрос. Тем не менее, он осторожно присел на край стула.
– Как у тебя Миша служба-то, привыкаешь?
Еще более изумленный вопросом и обращением по имени лейтенант растерянно пробормотал в ответ:
– Все нормально, товарищ подполковник.
– Не ври. Наверное, после Москвы-то, здесь жить, ад кромешный?
– Да нет… – лейтенант замялся. – Конечно, сначала с непривычки тяжеловато было, а сейчас привык более или менее, жить можно.
– Жить и в свинарнике можно. Ну, а все-тки, как тебе, новому человеку, со стороны кажется. Плохо мы здесь живем?
– …. Плохо, товарищ подполковник, – помявшись и поерзав на стуле, решил-таки быть откровенным Рябинин. – Я вообще не предполагал, что у нас в армии существуют подобные «точки». Преподавателям с военной кафедры не верил. А ведь они далеко не в худшем свете нам эту жизнь представляли.
– А конкретно, что тут у нас тебе больше всего не нравится?
Лейтенант в шинели, перетянутой ремнями портупеи, шапке, от внутреннего напряжения вспотел и у него на лбу появились капелька пота. Он движением руки смахнул ее.
– Мне, конечно, трудно судить, но кажется, у нас тут не все устроено так, как должно быть, – Рябинин настороженно-вопросительно наблюдал за реакцией командира.
– Ну-ну, конкретнее? – поощрил Ратников.
Вздохнув, как перед прыжком в глубину лейтенант вновь заговорил:
– Чтобы военнослужащий, все равно кто, солдат или офицер, мог нормально работать, нужны нормальная еда и отдых. А у нас в столовой кормят не очень. Повара, неврастеника этого, давно пора гнать.
Ратников, упершись взглядом в какую-то точку на столе, чуть заметно кивнул. Таким образом подбодренный лейтенант продолжал:
– А какой может быть отдых, когда люди не могут нормально выспаться. Через два дня на третий в карауле или нарядах, а в свободные дни снег убирают с утра до вечера, позицию чистят, пусковые, капониры. А потом, уставшие как собаки, в холодной казарме спят, одежду и портянки сушат на чуть теплых батареях. От всего этого ночью в спальном помещении настоящий смрад. Это же не служба, а сплошные мучения. Как тут дисциплину поддерживать? В дивизионе ведь только вас, ну может быть, еще пару офицеров по настоящему слушаются. А занятия как проводятся? Ведь солдаты на них просто засыпают. Разве можно измученным слушателям вдолбить такие сложные понятия как принцип работы радиолокационной техники? А каков наш старшина?… Ну, я не знаю. Он вроде служил во внутренних войсках, может для того рода войск он и был бы хорош, но здесь есть солдаты не просто со средним образованием, но и со средне-техническим и даже с высшим, а он уж очень груб и малообразован, над ним же просто потешаются. И еще. Я не понимаю, как в такие войска как наши вообще могут призывать людей плохо, или вообще не владеющих русским языком. С ними вообще занятия проводить невозможно, они же ничего не понимают…
На протяжении всего монолога Рябинина лицо подполковника сохраняло абсолютно спокойное, даже несколько безразличное выражение. Но когда лейтенант остановился, чтобы «перевести дух», он тут же бросил реплику:
– Насчет нерусских, у нас в ПВО еще терпимо, в пехоте вообще мрак. Это как раз вполне объяснимо. Ты у матери с отцом, который по счету ребенок?
– Первый, – несколько растерявшись от того, что его сбили с «обличительной ноты» ответил лейтенант.
– Еще братья и сестры есть?
– Есть, сестра младшая.
– И всё?
– Всё.
– Вот и в каждой русской, белорусской, украинской да, пожалуй, и в татарской семье так же. А ты бойцов, что со Средней Азии призывают, личные дела посмотри. У них восемь-десять детей не редкость. Вот потому их все больше и становится, – поучительно пояснил Ратников.
– Но надо же как-то выходить из положения, обучать языку, – нашелся Рябинин.
– Вот ты возьми и обучи, – Ратников саркастически усмехнулся.
– Я? – изумился лейтенант. – Я радиоинженер, а не филолог.
– Мы тут все не филологи. Легко говорить, что кто-то что-то и кому-то должен, а сам задарма работать не желаешь. А почему кто-то другой должен? Ведь это труд, обучить человека чужому языку. А ты как наши большие начальники рассуждаешь, на дармовщину все, – Ратников пытливо посмотрел на лейтенанта, оценивая как тот воспринял его слова.
С полминуты в канцелярии царило молчание.
– А в общем ты, конечно, прав, – вновь заговорил подполковник, удовлетворившись тем, что кажется, сбил таки с собеседника спесь, – все подметил верно. Но ничего нового от тебя я не услышал. Я даже могу тебе еще кое-чего подбросить для размышлений на досуге. Вот ты знаешь, сколько наши бойцы получают денежного довольствия?
– Семь-восемь рублей, – машинально ответил Рябинин, не понимая, к чему клонит командир.
– Ну и как, по-твоему, это справедливо?
– Не знаю, но так ведь всегда было. Я слышал, что несколько лет назад рядовые вообще три восемьдесят получали.
– Это я и без тебя знаю. Отвечай, раз ты тут о недостатках разговор завел. Семь рублей за бессонные ночи в карауле, на морозе и ветре, тонны перелопаченного снега, несение боевого дежурства – это справедливо?
Ратников явно «заводился», а лейтенант все более «тушевался», молчал, не зная, что отвечать.
– Вот то-то. Ты 260 рублей получаешь, а почти им ровесник, и отличаешься лишь тем, что институт с военной кафедрой окончил, а уволишься так же через два года. А у кого работа тяжелее? – Подполковник своими словами окончательно «подавил» лейтенанта и видя это удовлетворенно продолжил. – Вот несправедливость, всем справедливостям несправедливость. А ты тут великодушного из себя строишь, за бедным солдатиков заступаешься. Если такой великодушный, вот и отдай им свою зарплату, облегчи участь, – теперь подполковник смотрел уже иронично.
– Я ее заработал, – опустив глаза, ответил Рябинин.
– А они, солдатики, что же получается, за семь рублей, да за то, что кормят их тут на рубль пять копеек в сутки, да обмундирование, что на них, которое тоже немного стоит, за все за это два года службу тяжелую тащить должны? Это же задарма получается! – вынес свой вердикт подполковник.
– Но с этим мы ведь ничего не можем поделать. Это не от нас зависит, увеличить денежное содержание солдат, – возразил лейтенант.
– А в тех случаях, что ты тут привел, от нас, то есть, от меня все зависит? – подполковник спрашивал, глядя немигающими глазами на лейтенанта, будто уж на лягушку.
Рябинин заерзал на стуле, опять обмахнул вспотевший лоб, но ответил храбро:
– В общем… я, может быть не все учитываю, но думаю вы бы могли…
Ратников, до того напряженный, вдруг, как будто расслабившись, откинулся на спинку скрипнувшего под ним стула и негромко рассмеялся, качая головой:
– Все тут почему-то думают, что я всесилен, только делать ничего не хочу. Но поверь, во всем, что ты тут говорил, примерно та же ситуация, что и с солдатской зарплатой. Ничего невозможно изменить, хоть лоб расшиби. Это не от меня и даже не от полкового и корпусного командования зависит, все это оттуда, сверху идет, все давно так заведено и расписано, – Ратников ткнул пальцем в потолок. – И если ничего не меняется, значит, они не считают нужным ничего менять.
– Неужто, и повара заменить так трудно? – не согласился Рябинин.
– И повара, и старшину, да и не только их. Ты думаешь, другие повара, что до этого тут кошеварили лучше готовили? Точно так же. В учебке за шесть месяцев невозможно из случайного восемнадцатилетнего парня сделать хорошего повара. Все я вижу, все я знаю, тяжело солдату. Нашим-то еще что, прослужат тут два года, да домой уедут, а те, что в Афган попали, там ведь вообще жизни не пойми за что отдавать приходиться…
Ратников не удержался и вышел за «рамки», но тут же спохватился и резко оборвал «дебаты»:
– Ладно, заговорились мы тут. Давай иди к людям. Дневального пошли к комбатам на квартиры, чтобы завтра к подъему в казарму прибыли, марафет наводить будем.
– Есть! – лейтенант вскочил со стула, приложил руку к шапке и четко повернувшись, вышел. «Неплохой парень, хоть и москвич. Старается», – доброжелательно подумал, глядя ему в след, подполковник.
7
Уже собравшись, наконец, идти домой, Ратников открыл сейф и достал кошелку, осмотрел содержимое. До того у него совсем не возникало настроения даже посмотреть, что за рыбой оделил его вахтер. В газету оказались завернуты десять средней величины копченых сорошек. Но не только рыба, а и газета привлекла внимание Ратникова, то была «Комсомольская правда» от 30 ноября с большой фотографией маршала Жукова и статьей под ним на всю оставшуюся часть страницы. Девяностолетие знаменитого маршала отмечалось широко и с помпой. Подвергнутый опале при Хрушеве, он фактически был реабилитирован при Брежневе, после чего началось нечто напоминающее неофициальную канонизацию маршала. В фильмах, газетных статьях, воспоминаниях ветеранов войны, Жуков представал как непогрешимый военный гений, которому Советский Союз едва ли не в первую очередь обязан за победу над Германией. Его образ, созданный во многих художественных фильмах актером Михаилом Ульяновым, еще более способствовал пропагандистскому воздействию на весь советский народ. Можно было сказать, что к 80-м годам в стране и, конечно, в армии воцарился культ Жукова. Ратников вспомнил, как вчера вечером по телевизору показывали очередной документальный фильм о Жукове. Он заметил, с каким восхищением смотрит на экран его сын, шестнадцатилетний Игорь. Потом сын задал ему неожиданный вопрос:
– Пап, как ты думаешь, а Жуков более великий полководец, чем Ганнибал, Македонский или Суворов?
Вопрос по времени пришелся на период «напряга» во взаимоотношениях с женой, и Ратников совсем не был готов отвечать на него. С немалым трудом он переключился с банальных житейских проблем, к проблеме «глобально-исторической». Пожалуй, он удивил сына, что не ответил сразу и однозначно: «Да, конечно, куда им всем до Георгия Константиновича», а фактически ушел от ответа:
– Не знаю, сынок, как-то никогда об этом не думал. Эти полководцы, Ганнибал, Македонский и Суворов, они ведь выиграли множество сражений…
– А Жуков разве мало сражений выиграл, и ни одного поражения не потерпел, – настаивал на своем Игорь.
– Не я знаю я, Игореша. Чтобы оценить полководца надо смотреть, как бы это сказать, с более дальней дистанции, с большего временного расстояния. Те, старые полководцы… их имена и дела даже через века кажутся великими, само время доказало их величие. А Жуков… может быть, но неизвестно, как он будет выглядеть с большей временной дистанции. Мы ведь сейчас, что знаем, только его победы. А может, были и неудачи? Это пока что неизвестно, официально во всяком случае. И потом, что он за человек, тоже толком неизвестно, ведь не может такого быть, чтобы личность состояла только из радужных красок, каким нам его нарисовали. Подождать надо, сын, когда все можно будет оценить вполне объективно…
Ратников для колебаний имел некоторые основания, и сам к таким мыслям пришел сравнительно недавно. В школе и военном училище он о Жукове думал, так же как и все его сверстники, как большинство советских людей – даже в период хрущевского правления вокруг Жукова существовал неофициальный героический «нимб». Но, в отличие от более поздних поколений офицеров, он пришел в войска, когда там еще служили, вернее, заканчивали службу, офицеры-фронтовики. И каково же было его, молодого лейтенанта, удивление, когда в конце 60-х его, такой же как сейчас Игоря, восторженный отзыв о легендарном маршале далеко не все из фронтовиков поддержали. Нет, они не опровергали официальное мнение и неофициальную молву, не хаяли Жукова, они просто переводили разговор на другую тему, или отмалчивались. Это не могло его не удивить, заинтересовать, но ветераны обычно не шли на откровенность. И все-таки, однажды ему удалось «разговорить» одного из фронтовиков. Это был тогдашний зам начальника штаба полка, который, будучи на майорской должности стал подполковником благодаря именно своим фронтовым заслугам. Тогда Ратников пригласил в ресторан штабных офицеров, поблагодарить за то, что они вовремя и без задержек отправили его представление на старшего лейтенанта.
– Жуков… конечно генерал был грамотный, но крутой, чрезмерно крутой. Про него говорят, что справедлив был… не знаю, но на моей памяти он поступил очень несправедливо. Моего командира полка он под трибунал отдал, ни за что отдал, – кривя лицо и смахивая слезы, говорил захмелевший ветеран. – В сорок четвертом это случилось, я после ускоренных лейтенантских курсов попал в артиллерийский полк, был заместителем командира батареи противотанковых орудий. – Фронтовик замолчал, выпил водки и не обращая внимание на притихших слушателей, откровенно заплакал. – Я сейчас среди вас сижу, живу, детям своим жизнь дал только благодаря моему командиру полка, если бы не он… Тогда крупную группировку немцев окружили на Украине. Фронтом сначала Ватутин командовал, а Жуков координировал взаимодействие нашего фронта с соседним по ликвидации этой группировки. Он пообещал Сталину, что устроит немцам еще один Сталинград. В общем, как потом говорили, не столько координировал, сколько мешал Ватутину, во все вмешивался, лез. Наш полк бросили затыкать дыру, когда немцы не стали сидеть в котле как под Сталинградом, а мощным клином пошли на прорыв. Полсотни «тигров» шло в голове того клина. Они раздавили два пехотных полка, что стояли на том участке и перли дальше. Нашему полку приказали перехватить их, остановить и сжечь танки артиллерийским огнем. Занять позиции, означенные в приказе, это было натуральное самоубийство. Нас бы просто втрамбовали в землю, даже не почувствовав этого. Вот наш командир и решил ослушаться, позиций тех не занимать, а развернуть орудия в другом месте, чтобы не подставляться под их гусеницы и не бить напрасно по непробиваемой лобовой броне «тигров», и поражать их с боку, в борта. Земля тряслась, когда эта армада мимо нас шла – жуть. Ну, мы сожгли где-то машин 10–15, но основная масса, конечно, ушла. Больше мы сделать никак не могли, а если бы поперек их встали, только бы погибли зазря. В ту «дыру» потом где-то половина немецкой группировки из окружения вырвалась. Может ничего бы и не случилось, да тут Ватутин погиб и Жукова назначили нашим комфронта. А он в том, что немцы из окружения вышли нас обвинил. Командира полка под трибунал, заместителей под трибунал, командиров дивизионов понизил в должностях. Ну, я там самый молодой оказался, меня не тронули. Уже тогда я понимал, что жизнью командиру обязан и не я один, если бы он согласно приказа позиции занял, нас бы всех там на метр в землю. А его за это разжаловали и в штрафбат. Что дальше не знаю, в штрафбате долго не жили. И вообще, скажу я вам ребята, как на духу, может и великий полководец Жуков, но про него нельзя сказать как про Суворова или Кутузова, слуга царю, отец солдатам… Слуга он Сталину был, конечно, тот любил его за жестокость, и за то что людей не жалел, для него что солдат, что офицер как личности не существовали, они для него были мусор, также как и для Сталина. Потому и симпатизировали они друг дружке. В конце войны Жукова ведь на направление главного удара, на Берлин перебросили, на смену Рокоссовскому, чтобы именно он Берлин брал и никто другой, чтобы вся слава ему досталась. Так оно и вышло, вся слава у него, вон как славят, а правду… правду еще не скоро про него скажут. Так что, хотите верьте ребята, хотите нет, но не таков он был, как его в фильмах и книгах рисуют…
Эти неожиданные откровения не могли не произвести на свежеиспеченного старшего лейтенанта Ратникова сильного впечатления. Нельзя сказать, что он сразу и бесповоротно изменил свое мнение о Жукове, но… Потом ему не раз приходилось встречаться с самыми различными ветеранами, участниками войны и он иной раз осторожно выспрашивал их мнение о Жукове. Большинство придерживалось официального мнения: железный мужик, маршал победы… Но случались и иные точки зрения. Один ветеран из совхоза Коммунарский, всю войну прошедший рядовым, видел Жукова всего раз, и выразился о нем так: «Идет вдоль строя, в глаза смотрит, и словно взглядом давит, к земле пригибает, возле меня остановился и спрашивает»:
– Чего солдат, страшно!?
– Никак нет, товарищ маршал, – отвечаю.
– Как не страшно, врешь, меня все боятся!
– Вижу, недоволен он моим ответом, потом дальше пошел и два раза на меня оборачивался, и так смотрел, словно запомнить хотел…
А некоторые отставники-офицеры, которых приглашали на «круглые» юбилеи полка, уже в 70-е годы, разомлев от водки за праздничным столом и, видимо, осмелев, но все же полушепотом говаривали, что у Жукова имелись и крупные неудачи, о которых официальные историки помалкивают, и про то, что потери в его войсках были едва ли не самые большие. Другие вообще в стратегическом отношении выше Жукова ставили Конева, Толбухина, Петрова, а его славу целиком приписывали хорошему отношению к нему Сталина и раздутой вокруг его имени информационной шумихе, где успехи выпячивались, а неудачи замалчивались.
По всем этим причинам не смог Ратников на вопрос сына ответить однозначно, он сам ни в чем не был уверен. Тем не менее, именно жуковская, так называемая, требовательность, вот уже несколько десятилетий ставилась в пример всем офицерам, особенно молодым. Стремитесь походить на маршала Жукова, требуйте с подчиненных так, как он умел требовать – его приказ всегда был закон для подчиненных. Не раз эти слова Ратников слышал из уст больших начальников, даже тех, кто сами в аспекте требовательности не очень преуспели, а карьеру сделали в основном за счет других факторов: хитрости, изворотливости, везения, бессовестного «вылизывания задниц начальству», или благодаря помощи влиятельных родичей. Многие простодушные «слушатели» пытались претворять эти слова в жизнь и руководствовались в своей служебной деятельности именно этим «напутствием» – пытались требовать, как требовал Жуков. При этом не учитывалось, что как в стране, так и в Армии уже не стало той, сталинской дисциплины, основанной на животном страхе, благодаря чему могли так эффективно «требовать» Жуков и ему подобные, как военные, так и штатские советские начальники. Потому эффект у таких командиров где-то с шестидесятых годов получался прямо противоположный ожидаемому – их ненавидели подчиненные как солдаты, так и офицеры и при первом же удобном случае устраивали «подлянки». А на отдаленных «точках» в результате подобной «требовательности» случались даже солдатские бунты или устраивание «темных», избиений командира подчиненными ему офицерами. И это почти всегда, что называется, «сходило с рук». Ведь Жуков за неисполнение своего приказа мог, как посадить, а в военное время даже расстрелять того, кто его приказ не исполнил. И он очень часто прибегал именно к таким мерам. Но в шестидесятых, а тем более в семидесятых и восьмидесятых годах офицер, тот же командир дивизиона, фактически потерял большую часть тех «рычагов воздействия», которые имелись в распоряжении офицеров в сталинские времена. Посадить того же солдата, злостного нарушителя воинской дисциплины даже на гауптвахту стало почти невозможно. Для наказания виновный должен был совершить поистине какое-нибудь вопиющее, откровенно уголовное преступление. А если он ходит в самоволки или посылает на три буквы офицера – за это в первую очередь политработниками обвинялись сами офицеры в неумении «разговаривать с солдатом» и предписывалось… да-да, усилить требовательность. Как усилить, если тебя посылают!? На это политработники советовали найти подход к подчиненным, опять же научиться «разговаривать с солдатом». То, что среди солдат попадаются и те с кем вообще не возможно разговаривать… Это как оправдание не принималось. Немудрено, что многие офицеры, особенно те, кто обладал немалой физической силой, пытались «требовать» посредством физического воздействия на непослушных подчиненных. У некоторых это даже получалось, но именно у командиров-мордобойц чаще всего случались массовые неповиновения.
Ратников обладал немалой физической силой, но никогда не распускал руки. Бить маленького солдатика – он считал это несолидным. Бить большого – вполне можно было получить сдачи. Хотя он знал, что наиболее дальновидные из командиров-мордобойц именно избивая слабосильных нарушителей дисциплины, запугивали остальных и создавали некое подобие уставного порядка в казарме. Нет, он искал другие пути поддержания приемлемого уровня воинской дисциплины. Ох, как это нелегко, когда в руках командиров почти не осталось легальных рычагов воздействия в первую очередь на маргиналов призванных в ряды Вооруженных Сил. Ярчайший пример армейского бардака, вид почти неуправляемой казармы Ратникову пришлось наблюдать в конце семидесятых годов в Новокузнецке. Дело в том, что до 1980 года Серебрянский полк входил не в Алма-Атинский корпус, а подчинялся отдельной Новосибирской армии ПВО. В те годы Ратникову частенько приходилось ездить в командировки в различные части этой армии. Так он оказался в Новокузнецке в тамошнем полку ЗРВ. Увиденное там запечатлелось в его памяти так, что он до сих пор все помнил в мельчайших подробностей. Тогда Ратников не смог устроиться в гостиницу и ночевал в одной из казарм полка… То, что солдаты называют прапорщиков и младших офицеров на ты, это были еще «цветочки». Во время вечерней поверки в ответ на называемую старшиной фамилию солдата почти весь строй дружно отвечал «я», так что установить точно есть ли в строю данный человек или нет было невозможно. Когда на следующий день Ратников спросил старшину, знает ли он сколько примерно людей из его подразделения находились во время поверки в самоволке, пожилой прапорщик грустно ответил:
– Знаю не примерно, а точно, вчера в строю отсутствовал почти весь старший призыв, да и из «годков» несколько человек.
Когда Ратников выразил удивление, почему он о таких вопиющих нарушениях не докладывает, прапорщик опять же пояснил:
– Товарищ майор, докладывать нет смысла, все всё знают, но мы ничего не можем сделать. Здесь и похуже случается, а это… Эх если бы мне до пенсии не оставалось шесть лет ушел бы ей Богу, а так терпеть приходится, никуда не денешься.
– И давно такое у вас? – поинтересовался Ратников.
– Да уж несколько лет, как нынешний командир с начальником политотдела полком нашим рулят. Они солдат вообще не наказывают, зато наверх идут доклады о полном отсутствии в нашем полку нарушений воинской дисциплины. В передовиках ходим.
В тот же день Ратников увидел еще один пример высокого уровня воинской дисциплины этой «передовой» части. Главный инженер полка, собирался выезжать на какую-то «точку» с проверкой. Но солдат-водитель УАЗика отказался ехать:
– Не поеду… замотали вы меня, суки… устал я!
На него и кричали, и пытались по-хорошему уговорить, на что он матерился и говорил, что видал эту службу и всех своих командиров в гробу. В конце концов от него отстали и за руль сел другой водитель «молодой», последнего призыва.
– Вы думаете, ему чего-то за это будет? – говорил Ратникову тот самый старшина. – Ничего. У нас только «молодые», да те кто по полгода прослужил выполняют приказы. «Старики» вообще не слушаются, а «годки» через одного. Вот так и живем.
Таких полков Ратников больше не видел ни где, ни в Новосибирской Армии, ни в Алма-Атинском корпусе. Но увиденное в Новокузнецке в дальнейшем очень помогло ему в служебной деятельности. Ведь он воочию убедился, во что может превратиться Армия при столь «чутком» руководстве. Он как никто понимал, к чему могут привести крайности в современных условиях, такие как чрезмерная требовательность вплоть до рукоприкладства, или наоборот, чрезмерная «демократия».
8
На часах половина девятого, но подполковник вновь не смог пойти домой, ибо в канцелярию постучали…
– Да!
Дверь открыл худощавый, горбоносый, черноволосый младший сержант.
– Разрешите, товарищ подполковник?
– Да, заходи!
– Разрешите обратиться?
– Да, Григорянц, что у тебя? Пол в казарме, помог заделать?
– Да, там на пять минут работы было. В свинарнике я перегородки уже починил, а вот в овощехранилище ничего не получается…
Вартан Григорянц пришел в дивизион более года назад, после окончания учебного подразделения. Он стоял на должности командира расчета одной из систем станции наведения ракет. Но уже в первой ознакомительной беседе Ратников выяснил, что этот долговязый бакинский армянин ценнейшая находка для дивизиона. Где-то с седьмого класса он школьные каникулы проводил не в пионерских лагерях, а помогал своей семейной бригаде, ездил по всему Союзу, строя по договорам различные сельхозобъекты: коровники, свинарники, склады, амбары, овощехранилища… Вартан умел плотничать, штукатурить, класть кирпич и делать множество других строительных дел. Разве часто можно найти такого на все руки мастера среди 18-ти – 20-ти летних вчерашних школьников?
Пожалуй, в каждом крупном и среднем советском городе имелись всевозможные мелкие мастерские, этакие киоски, всякого там мелкого ремонта, обувные и прочие предприятия сферы услуг. Но можно ли такое представить, что в огромном многонациональном городе во всех такого рода «учреждениях» явно преобладают люди одной национальности, причем не самой многочисленной в данном городе. Такой город в Советском Союзе был и имя ему Баку. А те ремесленники, портные, сапожники, пекари – армяне, бакинские армяне. Впрочем, тех армян армянами в полном смысле слова назвать было уже нельзя. Народ старше которого на планете являлись разве что евреи… Так вот армяне гордились своим древнейшим происхождением и культурой, и за тысячи лет привыкли жить в окружении других более молодых и многочисленных народов и имели ограниченные возможности развиваться на основе своего языка, письменности. Потому они тянулись к тому, что им казалось более приемлемым, перспективным. Бакинские армяне однозначно тянулись к русской культуре. Они отдавали детей в русские школы, ибо армянских было очень мало, а азербайджанские они игнорировали. Результат налицо – поколение бакинских армян, выросших при советской власти, русским языком владели как родным, значительно лучше, чем армянским. А на каком языке говоришь, на том и мыслишь. Кем были в реальности бакинские армяне вопрос довольно сложный, но то, что руки у многих из них росли откуда надо, это непреложный факт. Вот из такой семьи потомственных трудяг происходил Вартан Григорянц.
Хозпостройки в дивизионе за более чем двадцать лет изрядно обветшали, и Ратников «бросал» Григорянца то в свинарник, то в овощехранилище, то латал его руками казарму, то чинил заборы. Таким образом, на СНР младший сержант был нечастым гостем, и почти забыл то, чему его учили в «учебке». На полковых совещаниях главный инженер полка постоянно обвинял Ратникова, что он использует специалиста не по назначению. Но подполковник легко парировал эти выпады тем, что не просил у полка, ни плотников, ни штукатуров, обходясь, так сказать, своими силами.
– Что именно у тебя не получается в овощехранилище? – озабоченно спросил Ратников.
– Почти все столбы подгнили, менять надо. Это только весной сделать можно, одновременно с просушкой, – пояснил Григорянц.
– Значит, ты предлагаешь закрома пока не трогать?
– Да, не стоит один два столба менять. Лучше за зиму все приготовить, доски, столбы, а весной картошку, которая останется, наверх сушить вынести, и сразу все поменять.
Ратников помнил трехмесячной давности компанию по заготовке овощей. Картофель на дивизион завозили как всегда из совхоза «Коммунарский». На этот раз заготовили далеко не лучший продукт, а тот который вырастили «ради плана». То были необыкновенно крупные клубни. Именно величина картошин насторожила Ратникова – он заподозрил неладное. Перебравший, убравший и съевший за свою жизнь (как каждый рядовой русский человек) немало картошки, он, однако, никогда не видел таких «чудо-клубней». Попытку отказаться от этого картофеля сразу пресек начальник тыла полка. С директором совхоза орденоносцем Землянским у него был заключен договор. Сам директор совхоза в сентябре как раз находился в отъезде, и с ним встретиться и договориться тоже не получилось, а когда он приехал «клубни-богатыри» уже лежали в дивизионном овощехранилище. Землянский потом взгрел своего заместителя, а Ратникова честно предупредил, картошка по всем статьям хорошая, есть ее можно без всякой опаски, но не лежкая, утешив, что если до весны не долежит, он из своих резервов подбросит, по знакомству, без оплаты. Гнить эта картошка стала почти сразу, как заложили, и по субботам в парково-хозяйственные дни из овощехранилища регулярно выбрасывали по полтора два мешка гнили – не хотели долго храниться напичканные пестицидами, а не земными соками клубни.
«Нет, до весны, да еще в сырости, она не протянет, и к Землянскому ехать тоже не охота. Он хоть и обещал, но просто так все равно не даст. Нет, надо все-таки попробовать хранилище как-то починить сейчас, может сохраним картошку…»
Свои размышления подполковник, конечно, не стал высказывать Григорянцу. Зачем знать солдату о безразличии большого начальства, которому плевать что ест, так называемый, личный состав, какую картошку, качественную или перекормленную удобрениями. Они ведь не сомневались, что их детям никогда не достанется есть такую картошку. Ратников воздействовал на Григорянца по-своему:
– Как весной, весной же ты увольняешься!?
– Можно за апрель успеть, – ответил «домашней заготовкой» младший сержант.
– Это у вас в Баку в апреле уже лето и сухо, а здесь самая сырость, снеготаяние. А что если я тебя в мае придержу? В мае как раз подсохнет. А? – Ратников сощурил глаза в хитрой улыбке.
Григорянц на глазах сник. Он мечтал уволиться в поощрительную партию к майским праздникам.
– Не бойся, шучу, – поспешил его успокоить подполковник. – А овощехранилище все равно тебе чинить, больше некому. Давай Вартан мозгуй, говори, что от меня требуется, и недели через полторы-две начинай. Это будет твой дембельский аккорд.
– Зачем через полторы, можно и на этой начать, – безрадостно отреагировал Григорянц, ибо ему не удалось избежать неприятной продолжительной работы в прогнившем, пропахшим плесенью и гниющими овощами, хранилище.
– Нет, пока не надо. Ты пока что лучше побудь на своей штатной должности. Тут к нам командир корпуса с комиссией приезжает. Так, что срочно становись опять оператором координатной системы. Не забыл еще, как с осциллографом работать? Доподлинно известно, что в составе комиссии главный инженер корпуса едет, а он, как известно, по координатной спец, спросить что-нибудь может. И это… попробуй как-нибудь руки отмыть, ацетоном что ли, а то они у тебя в краске все, сразу видно, чем ты тут занимаешься.
Разговор с Григорянцем как-то исподволь подвиг Ратникова к размышлениям о нем. Удивительно армянин, кавказец, а кроме внешности на остальных кавказцев совсем не похож. Правда, в дивизионе имелся еще один примерно такой же, грузин, сержант Церегидзе. Он тоже уж слишком отличался от прочих «гордых сынов Кавказа» своей скромностью и тихим нравом. Но тот от этого своего «несоответствия» так страдал, что об том знали едва ли не все на «точке». Нет, Григорянц это вообще особая статья, он даже по ментальности скорее кто угодно, но только не кавказец, оттого и друзья у него в основном славяне, а с прочими джигитами он старается вообще не контачить. Может оттого, что рос в русской среде, учился в русской школе. А вот те же армяне из Армении они такие же, как прочие кавказцы.
Подполковник вздрогнул и словно очнулся от тяжкого мыслительного оцепенения, посмотрел на часы…
Домой Ратников попал только к девяти часам вечера. «Всего час продержаться, а там опять в казарму, на вечернюю поверку уйду», – думал он, отряхивая снег с сапог, стоящим на веранде веником. Ему сейчас больше всего не хотелось возобновлять нудный вчерашний разговор с женой, на излюбленную тему большинства женщин со значительным стажем семейной жизни: кто виноват? После того разговора жена всю ночь проспала, повернувшись к нему спиной, а утром, когда он собирался выезжать в управление полка, молчала насмерть, что грозило длительной размолвкой.
9
Офицерская и семейная жизнь у Ратникова началась одновременно: свадьбу сыграли через день после его выпуска из училища. Все знакомые и родные наперебой говорили, что жених с невестой, как никто друг другу подходят. Ему 20-ть, ей 18-ть, она выпускница торгового техникума, он – молодой лейтенант, оба высокие, видные… ярославские. Правда, она городская, а он деревенский, с области. Тогда в середине шестидесятых, офицер был еще в хорошей «цене» и Ане завидовали подруги. Переполненная счастьем, она и предположить не могла, что из двадцати лет супружеской жизни первые двенадцать вообще будет «сидеть» без работы, а потом ей придется работать всего лишь продавцом маленького дивизионного магазина, безо всякой перспективы роста, то есть ей предстояло превратиться в бесплатное приложение к мужу. Не могла тогда Аня и предвидеть, что со временем уже она будет завидовать тем же подругам, оставшимся в Ярославле, повыходившим замуж даже за простых работяг, но ставших товароведами, заведующими отделов, а то и директорами магазинов, универсамов… а главное, свивших уютные гнезда-квартиры, обзаведшихся дачами, машинами, живущих стабильной и относительно спокойной жизнью. Повезло, правда, далеко не всем ее однокурсницам. Кое-кому и небо в клетку с конфискацией судьба уготовила – заниматься торговлей в СССР было хоть и прибыльно, но довольно рискованно, попробуй, удержись от соблазна, когда кругом дефицит всего и вся. Да и в личной жизни далеко не у всех все образовалось. Но кто же равняется с неудачниками, а к сорока годам пора уже обрести устойчивый «якорь», а не плыть по течению, доверяясь капризуле-судьбе.
Какая область человеческих отношений наиболее широко и многогранно описана, обэкранена, изображена, изваяна? Конечно любовь. И это справедливо, ведь любовь, это источник жизни, ее двигатель (не единым разумом живы), самое прекрасное и возвышенное из чувств, присущих людям. Но, вознося до небес любовные страсти и страдания, авторы и постановщики обычно стараются не очень акцентировать внимание читателя или зрителя на отправных точках зарождения сего великого чувства, ибо уж очень они плотские, приземленные. Как правило, это всего лишь внешность его, или её. Увы, это так, в первую очередь притягивает «оболочка», а уж потом все остальное, так называемый «внутренний мир». И обозрение этой «оболочки» чаще всего происходит…
Сама жизнь сотворила те мероприятия, где молодые люди ищут своих суженых: посиделки, гулянья, балы… После революции 17 года все это в основном осталось в прошлом. В советское время в этом важнейшем деле доминировали танцы. Танцплощадки, Дома Культуры и им соответствующие места стали самым притягательным «магнитом» для молодежного досуга. Они, кроме всех прочих, выполняли и те функции, которыми на Западе были озадачены брачные газеты и всевозможные бюро знакомств, и даже, в некоторой степени «вестибюля» домов терпимости. С той же целью организовывались танцы и в военных училищах. Но здесь имелись некоторые сугубо специфические отличия: на училищном КПП без ограничений пропускали всех девушек, и в то же время тормозили и разворачивали гражданских парней. Таким образом, на училищных танцах курсанты оказывались вне посторонней конкуренции, да еще под зорким присмотром своих взводных и батарейных офицеров. Все это исключало появления там пьяных и всякого рода открытых проявлений грубости и хамства. Не мудрено, что такая организация танцев, гарантирующая полную безопасность, особенно нравилась девушкам. К тому же многие из них были не прочь познакомиться с курсантами – тогда армия еще не утратила определенной притягательности.
Вот на таких танцах в военном училище и познакомился курсант Федя Ратников со своей будущей супругой. И причина, что потянула его пригласить Аню на танец, оказалась самая, что ни наесть приземлено-плотская – ему внешне понравилась девушка. Что именно? Пожалуй, все по совокупности: светлые волосы стриженные под «бабетту», фигура, которую ладно облегали модные юбка и кофточка, гордая, эдакая королевская посадка головы, но более всего, конечно, на его вкус очень красивые, полные ноги. Шел 1964-й год и уже стартовавшая на Западе мода ни «мини» в Союзе ощущалась разве что в Москве, Ленинграде, да Прибалтике, но кое какие «веяния» проникли и в Ярославль, потому девушки все более смело укорачивали юбки, открывая ноги. Он приглашал ее на все медленные танцы. Но на «твист» самый модный тогда быстрый танец, Федя выходить не решался. Уж очень срамными казались ему, деревенскому парню, эти вихляния бедрами под музыку, да еще в форме. Однако он с неведомым дотоле ревнивым чувством следил как «его» партнерша демонстрирует эти самые «срамные» телодвижения в кругу подруг. Они ему в ее исполнении вовсе не казались безобразными, она это делала настолько естественно и красиво… «Твист» танцевали в основном девушки друг с другом, так как большинство курсантов, подобно Феде стеснялись «дергаться» таким образом и предпочитали пережидать быстрый танец. Но танго, вернее его простонародный вариант, не требующий особого умения, лишь не наступай партнерше на ноги… Федя не пропустил ни одного медленного танца и на пятом окончательно познакомился, а на седьмом назначил свидание…
Аня в свои шестнадцать лет уже отчетливо осознавала себя красивой и в этой связи имела свои «критерии отбора» для молодых людей, стремящимися с ней познакомится. Сама высокая, без малого сто семьдесят сантиметров, для той, еще доакселератной поры, почти баскетбольный рост, к которому еще пять-десять сантиметров добавляли каблуки-шпильки, да еще высокая прическа. Эта «высота», конечно, отпугивала большинство невысоких парней, да она и сама не признавала таких, на которых приходилось смотреть сверху вниз. С Федей как раз оказалось все в порядке, его 183-х сантиметров вполне хватало, чтобы Аня даже на своих каблуках смотрела на него немного снизу. Впрочем, дело было не только в росте. Возможно, сыграла определенную роль застенчивость этого довольно видного, и в то же время по-деревенски произносящего слова курсанта. Чувствовалось, что такой не станет шептать на ухо всякие пошлости, или во время танца, вроде бы невзначай передвигать руки с талии на бедра и слишком плотно прижиматься. А может, она просто по женскому наитию безошибочно определила в парне ту надежность, что ищут и так и не находят многие бабы-бедолаги. На этот вопрос Аня, пожалуй, не могла бы ответить ни тогда, ни позже. Тогда же он приглашал ее раз за разом на танго, а когда она с подружками «откалывала твист», то невольно краснела, чувствуя на себе в этот момент именно его взгляд, хоть находилась в «перекрестии» многих.
То, что началось на танцах в училище имело логическое продолжение, и в конце концов привело к памятному для Феди и Ани дню свадьбы. Вернее, свадеб было две. Первую играли в доме невесты, вторую через неделю в доме жениха. А до свадеб имело место без двух месяцев два года той поры, что недаром именуют «золотой», когда парень ухаживает за девушкой. Федор сразу ухаживал всерьез, ни минуты не сомневаясь в выборе, и Аня довольно быстро это осознала, отбросив все свои прежние увлечения. Впрочем, до Феди ничего серьезного у нее не было и быть не могло. Ее мать работала на железнодорожном вокзале буфетчицей и имела возможность «приносить» домой. Потому она растила дочь в относительном достатке. Мать ее баловала, в первую очередь это касалось продуктов питания, но в поведении никаких вольностей не позволяла. Так, что позже восьми вечера Аня домой никогда не приходила. Сама анина мать являла собой пример нравственной чистоты советского образца. В 50-е и 60-е таковыми считались одинокие женщины, растящие детей и спокойно с достоинством переживающие свое одиночество, не ищущие мужика «любой ценой». Действительно ли Анастасия Андреевна так любила своего умершего еще в начале 50-х годов от последствий фронтовых ранений мужа, что не пожелала видеть на его месте ни кого другого, или не хотела травмировать дочь, или сыграл роль острый дефицит в то время мужчин подходящего возраста (тому поколению не повезло, их молодые годы пришлись на войну стоившую России многих миллионов жизней в первую очередь мужчин). Так или иначе, но она полностью посвятила себя дочери, и Аня, выросшая без отца, сиротой никогда себя не ощущала.
Мать и дочь всегда понимали друг друга с полуслова, и когда Аня впервые, через пять месяцев знакомства, в середине зимы пригласила Федора к себе домой и познакомила с матерью, та почти сразу же поняла, что заботиться о дочери ей осталось не долго. Но тогда она ни на секунду не усомнилась, что счастье дочери, важнее ее собственного не удавшегося в личном плане существования. А для женщины всего несколько лет пожившей супружеской жизнью, к тому же с весьма нездоровым мужем, счастье заключалось в долгой семейной жизни, и чтобы муж был здоровым. А то, что этот худой, долговязый деревенский парень в шинели и сапогах по-настоящему надежен и совершенно здоров, Анастасия Андреевна тоже поняла довольно быстро. Некоторое время спустя она даже перестала опасаться оставлять дочь одну с Федей в своей однокомнатной квартире…
Квартиру с удобствами в типовой новостройке-пятиэтажке Аня с матерью получили чисто случайно в 1960-м году. До того они жили в довольно старом покосившемся личном доме с «удобствами во дворе», доставшимся Анастасии Андреевне от своих родителей. Анина мать не работала ни на моторном заводе, ни на шинном, ни на каком другом крупном ярославском предприятии, рабочих и служащих, которых в первую очередь селили в квартирах с удобствами в районах новостройках, которые начали бурно возводить с конца пятидесятых годов. Но им можно сказать повезло, их старый домик в ходе реконструкции исторического центра города попал под снос, и взамен была предоставлена квартира на северной окраине города в Брагино. Сначала не больно обрадовалась Анастасия Андреевна ехать с привычного обжитого центра на окраину аж за промзону, но когда в 1960 м году въехали в новое жилье поняла, насколько легче жить, имея постоянно как холодную, так и горячую воду, ванну и теплый туалет. Потому и Аня, довольно быстро привыкнув к удобствам, уже вроде бы и не мыслила свою жизнь без них. Естественно и Федя, впервые попав хоть и в маленькую, но благоустроенную квартиру Ани не мог сдержать восхищения от невиданных для него так называемых «удобств». Мать Ани, зная, что этот курсант родом из деревни, спросила, как ему понравился город. И здесь Федя стал расточать похвалы Ярославлю, в потоке которых не мог не удивиться большому количеству красивых церквей. На что Анастасия Андреевна на правах исконной жительницы города, заметила:
– Разве это много, здесь их едва ли не вдвое больше было, столько красоты порушили.
Сказала и осеклась, не покажется ли в какой-то степени антисоветскими её высказывания, навеянные ее собственными детскими воспоминаниями из тридцатых годов, когда в Ярославле особенно рьяно разрушали православные храмы?
Но Федя отреагировал вполне нормально, безо всякой подозрительности:
– Да что вы говорите, неужто?…
– Папка пришел!
Люда, дочь-пятиклассница кинулась Ратникову на шею. Она заранее вышла на кухню, услышав, как отец отряхивает снег на крыльце. – Что ты так долго, машина-то уже давно приехала? – укоризненно вопрошала дочь.
– Да все дела, Людок, – виновато отозвался Ратников, расстегивая шинель.
– Всегда у тебя дела. Фильм интересный, заграничный не посмотрел, уже вторая серия кончается.
– Ну, что ж теперь, – Ратников сделал вид, что искренне сокрушается.
Он снял шинель, сапоги, одел поданные дочерью тапочки:
– Иди досматривай, я тут сам справлюсь.
– Давай, я тебя покормлю, – вдруг совсем по-взрослому предложила дочь.
Люда, зная, что мать еще со вчерашнего злится на отца и сейчас уже два часа психует про себя, на то что он приехав, тем не менее домой не торопится… При таких делах, мать может и совсем не выйти на кухню. Девочка, ухаживая за отцом, испытывала огромное удовольствие.
– Как твое горло? – осведомился Ратников, усаживаясь за стол.
– Почти уже не болит.
– В школу в валенках ездила?
– В валенках.
– По дороге все нормально было?
– Нормально… Только в одном месте буксовали долго.
Пережевывая теплую жареную картошку, Ратников смотрел на бледное, худенькое лицо дочери, ее тощую угловатую фигурку. При этом он всегда испытывал одни и те же ассоциации выражавшиеся словами: «Эх беда-беда. Разве ей тут жить. Вон ведь дохлятинка какая, как зима, так из простуд не вылезает, а тут ни врачей толковых, ни витаминов». Чувство жалости к дочери переплеталось в нем с неудовлетворенностью собой.
Из комнаты доносились звуки музыки, сопровождавшие сцену из фильма и комментарии Игоря. «Ишь, паршивец, засмотрелся, даже отца встретить не вышел», – с обидой подумал Ратников. Тем не менее, своим старшим сыном он всегда гордился. Складный получился парень. Казалось, во внешности он унаследовал все лучшее, что было в родителях: рост, размах плеч – от отца, осанку и черты лица – от матери. Вот только волосы у сына какого-то среднего цвета, что-то между светло русыми Анны и темно-русыми Ратникова. И учился Игорь хорошо, хоть и не прикладывал особых усилий. В поселковой ново-бухтарминской школе, куда каждый учебный день возила дивизионных школьников специальная машина, Игорь считался одним из лучших математиков и лучшим спортсменом. В составе школьных сборных его не раз отправляли на областные и районные математичесукие олимпиады и спортивные соревнования. Здоровья от родителей он тоже унаследовал, как говорится, вагон и по этой причине не считал особенно нужным его беречь. Не взирая на противодействия матери, он почти никогда не застегивал зимой куртку, позже всех в классе одевал шапку и раньше всех снимал ее весной. Сын родился, когда у Ратниковых еще все шло нормально, или, по крайней мере, им так казалось, и они верили в лучезарное будущее. Люда родилась уже в другое время. За те пять лет, что прошли между рождениями сына и дочери, случилось очень много событий, которые подорвали веру Ратниковых в то самое будущее на поприще успешной офицерской службы главы семейства.
10
В первые дни знакомства с Аней, Федя не мог преодолеть естественной стеснительности. Внешне девушка, с которой он познакомился, так «смотрелась», что ему сначала показалась – она старше и опытнее его. Причем, в понятие «опытности» он включал настолько многозначный смысл, что сам, наверное, точно не смог бы его расшифровать. Какова же была его радость, когда он осторожно выяснил, что Аня моложе его на два года и, как и он, в любовных делах не очень искушена, разве что целоваться не стеснялась. Но и у Федора первоначальная стеснительность скоро прошла – он быстро «прогрессировал». Так, на первом свидании он лишь смущенно брал в свою большую, колющую наждачными мозолями (результат регулярных тренировок на перекладине) руку, маленькую ладошку Ани. Ее руки его просто приводили в восхищение умопомрачительной диспропорцией: сама довольно крупная и такие маленькие, почти детские ладошки. У себя в деревне он ни у одной, ни девушки, ни женщины не видел таким маленьких, нежных рук. Уже через несколько увольнений, он настолько освоился, что дальше у них все «продвигалось» легко и естественно, дойдя до объятий и поцелуев, где-нибудь в полутьме кинотеатра на заднем ряду. А когда он стал вхож в ее дом, и они оставались наедине, с наждачной крепостью его мозолей познакомились не только ладони Ани, но и еще более нежные части ее тела, маняще круглившиеся под кофточкой и юбкой.
Все то не ново, как говорится, взаимное влечение полов, но на то людям и дан разум, чтобы быть выше примитивных инстинктов, относится друг к другу с уважением. Но, стоит ли себя сдерживать? Если хотите быть счастливым сейчас, сию минуту, будьте счастливы и отбросьте все дурацкие предрассудки и условности. Конечно, во все времена можно найти молодых, да и не только молодых людей мыслящих подобным образом – бери от жизни все. Но, так же, во все времена далеко не все руководствуются такими принципами. По этой причине никогда не выведутся кажущиеся старомодными влюбленные, которые думают не только о своем удовольствии, но и о том, как это воспримет возлюбленный, или возлюбленная, и даже более того, которые до свадьбы в постель – ни в какую. Впрочем, Аня и Федя под ту сверхнравственную «эталонную» категорию полностью не подходили. Да, они оба удивительно синхронно чувствовали предел, допустимую черту, которую не переступали, но в остальном… Могли ли Аня с Федей стать мужем и женой до свадьбы, неофициально, то есть, банально переспать? Теоретически да: когда руки парня, который тебе очень нравится, не грубо, но настойчиво проникают тебе под одежду, ласкают, заставляют в томлении ежиться, тихо охать, когда созревшее для любви тело девушки уже не подвластно все слабеющему «голосу разума»… Редкая, может быть сверхнефригидная девушка сможет сохранить в такой ситуации самообладание. Аня никаких фригидных отклонений не имела и в такие минуты испытывала естественные желание сию минуту стать женщиной. И если бы Федя настоял (времени было достаточно, Анастасья Андреевна часто по выходным работала, когда Федя ходил в увольнение) то она вряд ли смогла бы воспротивиться. Но по-сельски воспитанному Феде оказалось чуждо понятие легкого, временного флирта. Он искал подругу жизни и непоколебимо верил, что таковую нашел. А раз так, то зачем торопиться, ведь можно обидеть, заронить в ее сердце подозрение, недоверие. Он не переступил раньше времени заветной черты, хоть и чувствовал, что это вполне достижимо. Результат не замедлил сказаться. Когда Федя уходил, и Аня с ужасом вспоминала свою полную беспомощность… она в конце концов стала безгранично ему доверять. Тем не менее, перед каждым свиданием, она сама себе давала слово быть сдержанной и не позволять ему то, что позволяла на предыдущем свидании. Она больше беспокоилась не о своей чести, а о том, как бы он не подумал о ней, как о слишком доступной и не сделал бы неправильных выводов. Но вот они опять оставались вдвоем, включали телевизор… и почти не смотрели на экран, а только друг на друга, и все повторяется вновь. Она не могла, не хотела сопротивляться его рукам, а Федор правильно оценивал ее поведение: Аня все это могла позволить только ему одному. И он этим пользовался, позволяя себе буквально все, кроме самого-самого… апогея, кульминации любви. Он научился ориентироваться в крючках и кнопках ее одежды, узнал, как выглядит его суженая в «костюме Евы», которым остался очень доволен.
На втором году знакомства, они уже не ходили ни на танцы, ни в кино. Они хотели быть друг с другом совсем одни. А танцевали они, опять же, оставаясь одни в аниной квартире под патефон. Именно во время одного из таких танцев, Анастасии Андреевне почти случайно удалось приоткрыть «завесу» истинных отношений дочери и Феди. Несмотря на большой «кредит доверия» к аниному парню, она имела естественное желание поподробнее узнать, чем занимается дочь с потенциальным женихом в ее отсутствие. Однажды в субботу после обеда Анастасия Андреевна подменилась на работе и неожиданно нагрянула. Еще на лестничной площадке через дверь своей квартиры она услышала тягучую медленную мелодию. Открыв дверь своим ключом, постояв, не раздеваясь в прихожей, она, убедившись, что ее приход остался незамеченным, не удержалась и так же тихонечко подкралась к двери в комнату и чуть ее приоткрыла… Что она ожидала увидеть? Наверное то, что знала из небольшого любовного опыта своей молодости: объятия, поцелуи, ну самое большее расстегнутую сверху, на пару пуговиц кофточку дочери. Не баловала Анастасию Андреевну, потомственную ярославскую мещанку, по молодости судьба. Наслаждаться даже таким естественным способом в предвоенные и послевоенные время, не говоря уж о военном, почему-то считалось зазорным. До войны главное – пятилетку выполнить, во время войны – ударно трудиться в тылу, после войны – восстанавливать хозяйство, и ни шагу, ни в лево, ни в право лучше не делать. Анастасия Андреевна хотела подглядеть тихонечко, порадоваться за дочь, и так же тихонечко закрыть дверь, а потом с шумом, будто только пришла, возвестить о себе. Но то, что она узрела, враз поломало весь этот план, для нее это было слишком…
Не проповедуя пуританства советская власть в те годы сумела так «заканифолить» мозги именно законопослушным людям, что понятия которое впоследствии стало обозначаться словом эротика, секс, советским людям были совершенно чужды. Нет, против физиологического совокупления власть ничего не имела, но, казалось, делала все, чтобы удовольствия от этого люди обоих полов получали как можно меньше. Негласно считалось, что муж с женой даже голыми в постели быть не должны, она обязательно в ночной рубашке, он в рубахе и кальсонах. Возможно, все это делалось от того, что сами высшие члены партии и правительства смотрелись настолько непривлекательно в своем естественном виде, что спали со своими женами именно так, вот и негласно повелели всему советскому народу то же. В общем, эротику, опять же негласно, объявили атрибутом буржуазной морали… и законопослушные граждане этому беззаветно верили.
Так вот, Анастасия Андреевна увидела дочь в объятиях Феди, медленно качающихся под патефон. Но, то место, где покоилась рука парня аниной талией назвать было никак нельзя, как и то место куда залезла его вторая рука. И это бы еще полбеды: в зашторенном полумраке комнаты мать увидела, что на дочери из одежды всего лишь юбка и тапочки, причем на юбке расстегнута молния, и она приспущена вниз на бедра, открыв белые шелковые трусики. Туда и засунул свою ладонь Федя, приспустив и трусики тоже. Настасья Андреевна не удержалась от возгласа удивления. Дочь отпрянула от Федора, и стало совсем очевидно: на ней отсутствовали и кофточка и бюстгальтер, а на груди и плечах явно проступали сизые дуги-отпечатки от засосов. Ситуацию сгладило то, что сам Федя был в брюках и рубашке, к тому же он проворно убрал руку из-под резинки трусиков Ани, а вторую с ее голой спины и мгновенно застегнул пуговицы на своей рубашке. То что они оба смутились… Нет, то была просто паника. Федор спешно оделся и ретировался, а Аня до глубокой ночи успокаивала мать, что ничего больше они бы себе не позволили, и что если бы Анастасия Андреевна пришла чуть позже, то никак не застала бы дочь танцующую вообще нагишом. Федя сориентировался быстро и, форсируя события, уже на следующий день официально попросил руки Ани, чем опять-таки не столько успокоил, сколько разволновал анину мать.
Справедливости ради надо отметить, что физическая сторона взаимоотношений Ани и Феди хоть и являлась доминирующей, но не была единственной. Аня ведь была городской девушкой, что не могла не сказаться на ее развитии. Она в определенной степени интересовалась эстрадой, театром, разбиралась во многих других видах искусства. Здесь она на голову превосходила Федора, который до училища знал только колхозный клуб, где по выходным на разбитом киноаппарате крутили не первой свежести фильмы. К тому же с 62-го года у Ани дома появился телевизор, в те годы на селе вообще невиданное чудо. Во многом, благодаря общению с Аней, Федя менялся буквально на глазах. Именно она, будучи подписчицей и активной читательницей «Юности», пристрастила и Федю к чтению этого модного среди молодежи журнала. В результате, выправлялась его речь, из лексикона исчезали обороты и слова типа: чай пойду, эва какой, шибко… На последнем курсе училища он фактически догнал курсантов-горожан в знании таких, прежде для него дремучих областей как кино, эстрада, молодежная литература и немалая заслуга в этом была Ани.
«Путь к сердцу мужчины лежит через желудок», – и эту истину уже с помощью матери усвоила Аня. Правда, вечно голодный после скудных курсантских харчей Федя «мёл» все, что ему подавали в анином доме и не мог в должной степени оценить кулинарные таланты, ни своей будущей жены, ни тещи. Анастасия Андреевна, много лет проработавшая в различных учреждениях общественного питания, была знакома с системой организации питания в казенных заведениях и потому не удивлялась волчьему аппетиту Феди. Но до дочери, выросшей в доме, где холодильник постоянно забит всевозможными продуктами, это долго не доходило, как говориться сытый голодного не разумеет…
Фильм кончился. Из комнаты послышались позывные программы «Время», после чего на кухне появился сын. Ухватившись за дверной косяк, он повис на нем в полуподтяге.
– Привет пап, как дела?
– Лучше всех. Перестань, доску оторвешь. Как твои успехи?
– Средне. За сочинение три-четыре получил, – сын спрыгнул на пол, вызвав определенное сотрясение.
– Ты хочешь сказать, по литературе три? – уточнил отец.
– Да, а по русскому – четыре, – тоном, выдававшим явное нежелание вдаваться в не очень приятные подробности, ответил сын.
– Что, образ не раскрыл? – тем не менее, продолжал допытываться отец.
– Да, поди ее разбери, что этой старухе надо, может и образ. В Люберцах к этим самым образам так не прикапывались, как она, – недовольно отвечал сын.
– А почему ты считаешь, что здесь должны меньше прикапываться? – продолжал дискуссию с сыном Ратников, завершая ужин чаем с клубничным вареньем.
– Ты что пап, нашел с чем сравнивать. Там же почти Москва, школа городская, а здесь что… Казахстан и школа поселковая, – возразил Игорь.
– Это ты зря. Иной раз, чем дальше живут люди от своего исторического центра, тем больше свой язык, литературу и историю чтут. Вот и ваша Ольга Ивановна такая. Какой образ-то был?
– Коммунистов в «Поднятой целине».
– Ну, и что Ольга Иванова тебе сказала?
– Сказала, что они у меня в сочинении получились не живыми людьми, а какими-то манекенами, – по-прежнему с недовольством отвечал Игорь.
– Ну, наверное, так оно и есть, – не поставил под сомнение вердикт старой учительницы Ратников.
– Не знаю. Но теперь из-за нее я могу в этой четверти хорошистом уже не стать, если по литре четвертную тройку получу. На пенсию ей давно пора, – кривил губы Игорь.
– А это уже не твоего ума дело! – вдруг повысил голос Ратников, отставляя чашку. – Ты что же хочешь, чтобы тебя учила учительница, для которой чеснок и шесть ног одно и то же?
Ратников имел в виду широко известный среди русскоязычного населения Казахстана анекдот об учительнице-казашке, преподававшей русский язык. Довольно хорошо он знал и Ольгу Ивановну, энергичную, подвижную, несмотря на свои 52 года. Впрочем, впервые Ратников познакомился с Ольгой Ивановной еще в 1970 году, когда она была еще женщиной среднего возраста, а он молодым старшим лейтенантом. Но тогда их знакомство получилось мимолетным и не имело никакого продолжения, хотя случившийся меж ними разговор, кстати, на литературную тему, запомнился Ратникову очень отчетливо. Затем Ольга Ивановна, когда Игорь уже учился в 5–8 классах, была у него классным руководителем, и Анна, постоянно встречалась с ней на родительских собраниях и с тех пор отзывалась о ней в восторженных тонах. Тем не менее, сведения о ней до последнего времени носили весьма отрывочный характер. Ольга Ивановны была разведена и имела уже взрослого сына, но сейчас в поселке она жила одна, отдавая всю себя школе. Два года назад случилось то, о чем в поселке и окрестностях говорили до сих пор. Ольга Ивановну тогда отстранили от классного руководства, причем в самый разгар учебного года. Случилось это после фронтальной проверки школы комиссией Минпроса республики. Некоторое время было неясно, за что заслуженного опытного педагога, незадолго до выхода на пенсию, подвергли таким гонениям. Потом Ратников «из первых рук» от директора школы узнал, что Ольга Ивановна «погорела» из-за своей несдержанности. В ходе той памятной проверки разразился скандал после обмена «мнениями» между Ольгой Ивановной и относительно молодой проверяющей-нацвыдвиженкой, имеющей степень кандидата исторических наук. Многие учителя поселковой школы выражали недовольство «в тряпочку» той проверяющей, ставя под сомнение ее истинную квалификацию. Она хоть и не путала шесть ног с чесноком, но весьма оригинально трактовала некоторые события из истории Казахстана, да и по-русски изъяснялась с заметными, особенно для школьных филологов, ошибками. В общем-то не гонористая, но так до конца и не проникшаяся мировоззрением истинной, урожденной гомо-советикус, Ольга Ивановна не выдержала высокомерных поучений и вслух выразила сожаление, что ее отец в 16-м году не встретил в чистом поле прародителя нынешней кандидатши наук и не прервал в зародыше данное издевательство. Реакция не заставила себя ждать. Последовал доклад в министерство – у «кандидатши» там оказался родственный блат. Оттуда последовала команда – уволить без права преподавания… Почти год длилась тяжба, в которой на сторону учительницы дружно встали РОНО и ОБЛОНО – в этих учреждениях преобладали русские, среди которых были и однокурсники Ольги Ивановны по усть-каменогорскому пединституту. Стояли уже 80-е годы, некогда ярко красный Советский Союз сильно «полинял», и среди начальников всех рангов оказалось немало людей вовсе не красного происхождения и далеко не интернационалистов. Все кончилось компромиссом: Ольгу Ивановну не допустили до классного руководства, но доработать до пенсии разрешили.
Но еще до этих событий, после знаменитого инцидента на банкете с директором совхоза Танабаевым, Ольга Ивановна официально вернула себе девичью фамилию. Вот тогда среди жителей Новой Бухтармы и окрестностей, вдруг, обнаружилось не так уж мало людей, связанных с нею либо родственными, как бывший директор рыбзавода, либо еще какими-то узами. Кто-то из древних стариков помнил ее деда, кто-то учился у ее матери, чей-то отец или дед служили вместе с ее отцом или дядей. Таким образом, по местным масштабам Ольга Ивановна стала очень заметной фигурой, хотя до того прожила здесь же в поселке целых пятнадцать лет как бы в «тени».
11
К тому моменту, когда Федя сделал предложение, Анастасия Васильевна морально уже была готова к неизбежному расставанию с дочерью. Ей оставалось лишь всплакнуть и сказать: «Молодая ведь, погуляла бы еще». Впрочем, сказать лишь к слову, заранее зная, что дочь этому совету не последует. В зимние каникулы, перед последним училищным семестром Федя поехал домой в деревню и поставил, наконец, в известность и своих родителей о предстоящей свадьбе. Отец, Петр Матвеевич, колхозный механизатор, промолчал, ожидая реакции истинной главы дома, своей супруги. Мать, Ефросинья Васильевна сначала опешила. Сын ей впервые поведал, что в городе уже больше года встречается с девушкой. Но, немного покричав на сына, де, для него мать с отцом пустое место, даже не посоветовался… осторожно осведомилась: «она хоть девка?» Федя ждал этого естественного, вытекающего из деревенского менталитета матери, вопроса, но изобразил возмущение: «Да, как ты мам могла подумать, что я с шалавой свяжусь!?» Несколько успокоившись, мать задала и другие столь же естественные вопросы: как из себя, работящая ли, не дохлятина, ведь городские такие доходяги, соплей перешибешь? Тут уж Федя с увлечением поведал все, и какая Аня красавица и вообще замечательная во всех отношениях, попутно развеяв опасения матери насчет ее хрупкости. Поняв, что сын просто по уши «втрескался» и не может объективно судить об избраннице, мать чутьем определила, что до постели у них еще не дошло. По инерции все же поинтересовалась, умеет ли эта замечательная Аня готовить, стирать, убираться… На это Федя не нашел, что ответить, не знал. В период влюбленности молодые люди, как правило, на такие вещи внимания не обращают.
Конечно, Ефросинья Васильевна имела желание поближе познакомиться с назревающей городской родней и как только каникулы закончились и сын уехал в училище… В общем, вдвоем с мужем в будний день, благо стояла зима и отпроситься на пару дней в колхозе было не сложно, они нагрянули в город. Поплутав среди однотипных «хрущевок», по адресу, написанному сыном на бумажке, они отыскали нужную им квартиру. С узлами и корзинами, в которых везли деревенские подарки, вызывая презрительные ухмылки встречных своими тулупами и валенками, чета Ратниковых взобралась на 4-й этаж. Правда, сначала пришлось часа два подождать на лестничной площадке, пока придет с работы мать Ани… Новая родня Ефросинье Васильевне не понравилась, еще до того как она их увидела. Причин оказалось две, первая, то что невеста городская и вторая, что мать ее торговый работник. Последнее, в стереотипе мышления рядового советского человека, не имевшего возможности регулярно тащить что-то в дом с места работы, означало – ворюга. Потому никакие попытки Анастасии Андреевны ублажить вдруг свалившихся кандидатов в родственники в отношении матери Феди не имели успеха. Петр Матвеевич, напротив, остался весьма доволен и разнообразием выставленных будущей кумой закусок, и бутылкой «перцовки» и еще более пришедшей после техникумовских занятий невестой.
Увидев Аню, Ефросинья Васильевна отметила, что сын не преувеличивал – видная, и сомнений не возникло, действительно девка. Но и то, чего она более всего опасалось, тоже подтвердилось – избранница сына показалась ей балованной, своенравной и по всему не будет с нее послушной, уважающей свекровь снохи.
Прошла весна, набрало силу лето. Сдали госэкзамены, сначала Аня, затем Федя. Состоялся торжественный выпуск из училища и свадьба, сначала у невесты, потом вторая, у жениха… Аня не в первый раз оказалась в деревне. Но те авральные выезды осенью в подшефные колхозы на уборку всякого рода овощей, куда студентов техникума бросали целыми курсами, нельзя, конечно, назвать знакомством с сельской жизнью. Сейчас она попала в настоящую русскую избу с печкой-лежанкой, с самоваром, ухватами, чугунами, сенями и скотным двором. Красота летнего сельского пейзажа очаровывала. Никакого сравнения с теми осенними унылыми картинами, которые она наблюдала на сельхозработах, когда кругом стояла непролазная грязь. Сейчас же многоцветье природного великолепия звучало в резонанс с ее счастьем.
Медвежье, так архаично-стародавне называлась родная деревня Феди. Увы, вся окружавшая деревню прелесть: зеленые моря льна с голубыми капельками васильков, светло-желтые поля пшеницы, коричневого отлива ржи, и все это в обрамлении березово-осиново-рябиновых лесов и перелесков… Так вот, все это никак не гармонировало с убожеством деревенского быта. Чувствовалось, что здесь когда-то жили если и не богаче, то веселее, и связано это было с тем, что из деревни постоянно уходила молодежь. Если раньше, до коллективизации здесь удерживала земля, собственность, то сейчас земля была ничья, колхозная. До середины 50-х у колхозников не было паспортов, и они оказались фактически прикреплены к земле, этакая разновидность крепостного права. Но когда Хрущев сделал послабление и выдал паспорта, уже ничем нельзя было удержать молодежь в деревнях.
На Аню жилище родителей Феди произвело тягостное впечатление, прежде всего отсутствием телевизора и тем, что свет здесь включали только с осени до весны, а летом жили без электричества. Но особенно непривычно было ночью – рядом за стеной (молодые спали в сенях рядом со скотным двором) блеяли овцы, кудахтали куры, мычала корова. Не раз Аня в испуге просыпалась, когда огромная черно-белая корова Ратниковых начинала вдруг смачно чавкать, громко дышать, а то и чесаться о стену, сотрясая все вокруг. Неприязнь свекрови Аня тоже почувствовала, но не подала вида, тогда еще не предвидя, что началась многолетняя в основном заочная борьба-противостояние снохи и свекрови. Ефросинью Васильевну более всего раздражало то, что нравилось ее сыну, маленькие руки Ани. Хотя она понимала, что сын со снохой будут жить далеко от нее и, казалось бы, какое дело ей до её рук… Ей было просто обидно, что у нее самой с детства ладони постепенно превращались в «клешни», страшные и сильные от десятилетий каждодневных усилий по сжатию и оттягиванию коровьих сосков, переноски на ухвате из печи и назад тяжеленных чугунов, от теребления колючих стеблей льна, поднятых на вилы многих тонн сена, и от прочей тяжелейшей крестьянской работы, как по дому, так и фактически дармовой, колхозной. Иногда у Ефросиньи Васильевны возникала прямо-таки идея-фикс: взять сноху за руку и сдавить ее пухлую ладошку своей «клешней» так, чтобы она корчилась и кричала от боли. За что ей такое счастье, такая легкая жизнь, чем она ее выстрадала, жила как у Христа за пазухой, труда не знавши, а теперь еще и такого парня отхватила. То, что ее Федя парень, каких поискать, она никогда не сомневалась. Хотя, казалось бы, её неприязнь должна быть направлена и против матери Ани, своей ровесницы, которая тоже умудрилась прожить, вроде бы, не столь уж трудную жизнь. Но Ефросинья Васильевна, здесь учитывала, что мать Ани давно уже живет без мужа, что она считала страшным невезением, которое с лихвой «компенсировало» и ее легкую работу, и возможность «приносить» домой и даже городскую квартиру с теплым туалетом и ванной.
Себя же Ефросинья Васильевна считала страшно несчастливой и невезучей. Даже спустя десятилетия жизни, она не могла забыть, как ее с 12-ти летнего возраста впрягли в работу, не дав даже доучиться в начальной школе. Так тогда в Медвежьем и окрестных деревнях «впрягали» очень многих детей, но она помнила и то, что некоторые родители этого не делали, а напротив всячески оберегали своих чад от непосильного труда, особенно девочек. Они сильно отличались от таких как она, уже вовсю стиравших белье, доивших коров, мывших полы. Оберегали их по-разному, у кого в доме всю работу взрослые делали, у других работников и работниц нанимали. Как она завидовала тем детям, имевшим таких родителей, до самых тридцатых годов завидовала. В тридцатых завидовать стало некому и нечему, совсем даже наоборот. Началась коллективизация, раскулачивание и те заботливые родители были ограблены и высланы вместе с семьями в северные, малопригодные для жизни районы. Пострадала и ее семья. Отца Ефросиньи Васильевны тоже раскулачили, хоть и жил он не больно хорошо и детей не баловал, в черном теле держал. Не хватило у коммунистов-активистов кулаков для выполнения плана по раскулачиванию, вот середняков и «привлекли». Конечно Василия не так кулачили, как настоящих богатеев, тех вырывали «с корнем», высылали всю семью и конфисковывали имущество. Здесь же сослали только его самого да почти всю скотину с инвентарем забрали, а мать с пятью детьми, слава Богу, из избы не погнали и одну корову оставили – иначе бы все перемерли.
И замуж Ефросинья Васильевна пошла не за того, кто нравился. Высокого златокудрого сына мельника, на которого с детства засматривалась Фрося, выслали вместе с родителями на Север. Крепко намучившись в девках, она уже перед самой войной пошла за колхозного тракториста Петра Ратникова, у которого с родословной все оказалось в аккурате, бедняки были его родители, как говориться, ни кола, ни двора… Правда и здесь этот двор не сам по себе испарился. Бедняками Ратниковы стали как раз за два года до коллективизации. Видно жаль стало громовержцу Илье Пророку семью разбогатевших в НЕП хуторян Ратниковых, не ведавших о грядущем «великом переломе». Пустил он свою стрелу-молнию, да так метко, что враз весь хутор и сгорел, и дом с имуществом, и скотный двор со скотиной, и амбар с зерном, и сарай с сеном. Только отец с матерью да десятилетний Петя с младшей сестренкой успели выскочить. Так они в одночасье из крепких хозяев превратились в бездомных и безлошадных, скитающихся у родственников по углам из милости.
За Петра Фрося пошла не по любви, какая тут любовь по таким временам. На деревне ее подкулачницей дразнили, красотой она тоже не отличалась, года поджимали, и пришлось идти за того кто посватал. Впрочем, муж тракторист-передовик-комсомолец оказался надежной защитой… Глядя на цветущую, резвую, неуработанную сноху, Ефросинья Васильевна испытывала чувства схожие с теми, когда завидовала кулацким дочкам, но не только. Видя, с какой любовью и вниманием относится к молодой жене сын, она и здесь чувствовала себя обделенной – ведь она в своей жизни не знала этой благодати, быть любимой любимым. Более того, в молодости она даже с Петром не пожила, что называется, в свое удовольствие. После женитьбы два года к ряду ходила беременная, родила двух дочерей-погодок, тут и война подоспела. Четыре года мужа ждала и вроде сначала по нем не очень горевала. А как пошли на деревню похоронки, да стали приходить с войны калеки… напугалась, поставила в угол, спрятанный при раскулачивании образ, хоть и не больно веровала в Бога, после всего с ней случившегося. Молилась за мужа. Вымолила – вернулся и даже целый. Петр Матвеевич воевал механиком-водителем САУ, трижды горел в своей бронированной машине, был контужен, но все как-то удачно, без серьезных последствий. В войну же с полдеревни баб без мужиков осталось. После этого Ефросинья Васильевна не то чтобы сделалась по настоящему верующей, но образ из угла уже не убирала. Тут в сорок шестом, наконец, родился сын, Федор, самый последний, самый любимый и удачный из детей Ефросиньи Васильевны.
Старшие дочери как-то непутево устроились в жизни. Холодно и голодно было в деревне в военные годы, девочки с младенчества недоедали, росли квелыми и невзрачными. А для девки-то внешность первое дело. И за дочерей испытывала обиду Ефросинья Васильевна, глядя на брызжущую здоровьем и упругую телом Аню. Замуж, правда, обе дочери вовремя повыходили, разлетелись, уехали из Медвежья, но жили неважно. Старшая, Екатерина в соседней области с мужем пропойцей мучилась, все время клянчила у родителей деньги двух детей кормить да на ноги ставить. Вторая, Вера, вроде получше устроилась, рядом с Москвой, в Люберцах жила, и с мужем как будто в ладу, да вот горе, детей Бог не дал, а без детей какая семья. И вот уже и младший сын в офицеры вышел и тоже молодую жену привез. И вроде все у них хорошо, и он ее любит, и она, так и льнет к нему, не стесняясь свекрови. И это как-то непонятно и чуждо, для не знавшей счастья любви матери…
– Папка, а что ты меня не спрашиваешь, какие у меня отметки? – порывалась влезть в диалог отца и брата Люда, явно желая похвалиться.
Ратников как бы спохватился:
– А разве я тебя не спросил?
– Нет, Игоря все спрашиваешь, а я сегодня по английскому четыре получила.
– Ну, ты у меня молодец, объявляю благодарность.
– Игорь, иди палас поправь, и кресло на место поставь, – наконец подала голос из глубины комнаты жена.
Сын нехотя, со страдальческой миной отправился выполнять материнский приказ.
– Сколько раз повторять? Посмотрел телевизор, кресло на место, тут у тебя слуг нет.
Сделав выговор сыну, Анна в халате, с рассыпавшимися волосами вышла на кухню и молча, даже не взглянув на мужа, стала убирать со стола. Люда тихо прошмыгнула в комнату вслед за братом, оставив родителей наедине, надеясь на их примирение. Она очень переживала их размолвки.
– Пап, тетя Вера письмо прислала, на холодильнике лежит, – шумя переносимым креслом, сообщил Игорь.
На холодильнике действительно белел распечатанный конверт.
Живущая в Люберцах бездетная Вера души не чаяла в племяннике. В прошлом году она сумела уговорить Анну и та согласилась отправить сына к ней пожить на неопределенное время. Анна лелеяла надежду, что поучившись в почти московской школе Игорь приблизится к осуществлению ее заветной мечты – видеть сына студентом престижного московского ВУЗа типа МВТУ или МИФИ. Прожив с мужем на «точках» двадцать последних лет, она не приняла случившегося за это время изменения шкалы жизненных ценностей, по прежнему живя критериями шестидесятых годов: самые престижные ВУЗы технические, самые перспективное для мужчины занятие наука, самое почетное – стать ученым, ну на худой конец инженером. Несмотря на то, что сама являлась дочерью буфетчицы и тоже была торговым работником, Анна не любила свою профессию.
12
В тот свой первый «медовый» месяц, когда они пребывали в Медвежьем, Федор досконально уяснил, что мать совсем не рада его выбору. Он нарочно не разъяснял Ане причину грохота, который по утрам устраивала рано поднимавшаяся Ефросинья Васильевна: разбудить лежебоку-сноху, чтобы догадалась встать и помочь. А уж она бы ей работу нашла. Аня, конечно, просыпалась, но вставать не спешила, простодушно считая, что она здесь гостья, да и Федя, как бы пресекая возможность появления такого желания, обнимал ее, трогал… и она ощущая его руки, уже не обращала внимания ни на что другое. Молодожены поднимались строго к завтраку. Аня плохо ела однообразную деревенскую пищу, отдавая предпочтение, разве что свежим прямо с грядки овощам. Сказывалась привычка к разнообразным городским блюдам, что ее мать регулярно готовила из того, что приносила со своего вокзального буфета. Тем не менее, уже через неделю пребывания в деревне она почувствовала, что и бюстгальтер и юбка стали ей тесны. Как-то за обедом свекр, добрый, но затюканный властной женой, посетовал на плохой аппетит невестки. Аня отшутилась, что вообще ей пора на диету садится, а то фигуру теряет. На что свекровь, недобро зыркнув на ее «красноречивые» формы сказала:
– Тут, милая, не в еде дело, бабой становишься.
Аня зарделась и молча нехотя продолжала цедить вонючую похлебку из вяленой баранины, сетуя про себя: как это до нее самой не дошла причина тесноты ее прежней девичьей одежды.
Немая напряженность между снохой и свекровью привела к тому, что деревенскую часть «медового» месяца пришлось сократить. Сославшись на то, что Федору желательно быть на месте службы пораньше, они уехали, пробыв в Медвежьем чуть более недели. Уезжать тем более было необходимо, потому как Аня ни в какую не хотела идти мыться в общественную колхозную баню. Почти шесть лет живя в квартире с ванной, она весьма смутно помнила те далекие детские годы, когда они ходили с матерью в общественную городскую баню, и воспоминания те оказались весьма жуткие. Аня терпеть не могла раздеваться и ходить голой при посторонних. Совершенно не стесняясь Федора, она в то же время не переносила пристальных и оценивающих женских взглядов. В Медвежьем, правда, существовали и еще один способ мытья, кроме коллективного. В некоторых семьях мылись как в старину, прямо в избе, в русских печках. Печку протапливали, затем из нее вынимали всю золу, настилали чистую солому, лезли в нее и там парились и мылись. Даже одному человеку там было тесно, неудобно и стены в саже. Увы, в Медвежьем как и в большинстве окрестных деревень и сел совсем не было личных бань. Вроде бы какая проблема – лес кругом, почему бы не срубить каждой семье свою баньку? Но до революции лес весь принадлежал помещикам, после революции некоторые разбогатевшие мужики срубили себе бани. Но после коллективизации лес стал государственным, а те немногие личные бани при раскулачивании пожгли, или растащили по бревнышку, как ненужную трудовому крестьянству кулацкую утеху. Так и мылись по-прежнему в печках, а в 50-х колхоз построил общественную баню.
От печки Аня тоже отказалась наотрез, с ужасом предчувствуя перспективу залезть голой в этот закопченный полукруглый зев под неодобрительным взглядом свекрови. Как только приехали в город и переступили порог квартиры, Аня кинулась набирать воду в ванну, громогласно оповещая Анастасию Андреевну, что она грязная как свинья и пока не вымоется, ни есть, ни пить, ни рассказывать ничего не будет. Ужасной, дикой показалась ей, городской девушке, жизнь всего лишь в какой-то сотне километров от ее квартиры.
Тогда Аня посчитала, что большего кошмара, чем в деревне она уже переживать не будет. Она почему-то была абсолютно уверена, что все офицеры служат в городах и живут в благоустроенных квартирах. А так как оклад даже младшего офицера в среднем намного превышал зарплаты рабочих и служащих, то их ожидает весьма обеспеченная по советским меркам жизнь, тем более сама она собиралась устроиться на работу по специальности в том городе, куда распределят Федю. Потом, смотря по обстоятельствам, можно и в институт поступить – Аня отдавала дань и этой советской моде тех лет. Федя был настроен не столь оптимистично, зная специфику расположения войск ПВО. Но и он надеялся, что его пронесет мимо «точки». То было обыкновенное заблуждение, ничем не обоснованная вера в свою везучесть, свойственная едва ли не всем вступающим в самостоятельную жизнь молодым людям.
Увы, армейская действительность для Ани оказалась еще кошмарнее деревенской «медовой недели». Федю распределили очень далеко от родных мест, в Восточный Казахстан, на дальнюю «точку» в горах. Наверное, если бы не бесконечная вера в чувства друг друга они бы начали ссориться на бытовой почве с первых же дней своей «точечной» жизни. К тому же помогала уверенность, что это всего лишь временные невзгоды. Ведь в стране Советов со школьной скамьи приучали к этой мысли, что преодолеваемые трудности, это временное явление, вот еще немного, еще чуть-чуть… и заживем. Так или иначе, но первые житейские «ухабы» изрядно сгладило то, что Федя с Аней еще не «надышались» друг другом.
Южный Алтай, куда попали молодые супруги, по-своему тоже оказался необычайно красив. Для жителей среднерусской равнины здесь всё было внове, и бурные горные речки, спешившие нести свои воды до Иртыша и Бухтармы, и густые непролазные заросли шиповника на склонах пологих гор, поляны в распадках в июле красные от полевой клубники, обилие видов всевозможных трав и цветов, лиственные перелески на среднегорье и сплошная хвойная тайга, если подняться повыше, вечный снег и лед на самых высоких вершинах, так называемые белки. Здесь можно было встретить не только зайца, волка или тетерева, но и лося и даже медведя. Сначала жизнь на «точке» не могла не показаться интересной, даже завлекательной. Аня с удивлением обнаружила, что жены сослуживцев Феди уже по-многу лет здесь живущие, женщины необыкновенные не только в плане терпеливости и умения переносить пресловутые тяготы и лишения, но и тем, что по уровню развития совершенно не соответствовали всем этим диким условиям жизни.
В те годы за офицеров еще шли почти сплошь образованные женщины и девушки. И на «точках» насчитывалось немало женщин с высшим образованием, родом с больших городов, в том числе и землячек Ани (результат местонахождения военного училища). Последнее обстоятельство позволило ей довольно быстро адаптироваться в новой среде. Налицо был парадокс: эти женщины, учившиеся на педагогов, инженеров, экономистов, товароведов… здесь топили печки, собирали хворост, руками стирали белье, копали огороды, сажали овощи, и почти никто не работал – негде было. Но это еще полбеды – они все мучились здесь с детьми, баней и туалетом. Дети, естественно, часто болели, а на «точке» по штату из медперсонала предусмотрен лишь фельдшер-солдат, обычно неопытный молодой медик и уж конечно не педиатр. Туалет, дощатая будка на улице, являлся главным врагом здоровья женщин и потому в холода они вынуждены были «ходить» в ведро, прямо дома. И все равно, многие именно в туалете застуживались и потом мучились по-женски. Один из необходимых атрибутов жены неблатного советского офицера – железобетонное здоровье. Если такового нет, то не стоило и замуж за военного выходить – и себе и мужу жизнь отравишь.
Увы, и с помывкой имелись определенные проблемы. Вся «точка» мылась в грязной солдатской бане при кочегарке. В банный день, субботу, выделялось три часа для женщин, затем три для офицеров, и последними мылись солдаты. Не успел, все равно почему, до следующей субботы ходи грязный(ая). Понятное дело, такое коллективное мытье стало для Ани немалым испытанием. Она уже без прежнего ужаса вспоминала русскую печку у свекрови. Если бы таковая имелась в ее теперешней сборно-щитовой однокомнатной квартире, она бы непременно ею воспользовалась. Но, на «точке» в домах офицерского состава имелись только печки-голландки. Так что ничего не оставалось, как идти в субботу в урочный час и мыться вместе со всеми прочими женщинами, коих на «точке» набиралось где-то с полтора десятка человек. В бане женщины, конечно, кроме мытья еще и обменивались всевозможными новостями, сплетничали, рассказывали истории типа: дескать, солдаты-кочегары незаметно просверливают стены в бане и подсматривают за офицерскими женами. Дырок в стене никто не обнаруживал, но все равно мыться было жутковато. Зато преодолевалась стыдливость. Теперь Аня уже и сама посматривала по сторонам и отмечала – кто как выглядит. Она же и в бане привлекла внимание – самая молодая с ладным, ядреным телом.
Когда Аня рассказала мужу, конечно без подробностей, что многие здешние женщины как ей показалось, неважно выглядят, тот еще более укрепился в мысли, расшибиться, но устроить для своей жены сносное существование. Тем не менее, сначала это не получилось, ибо Федор был всего лишь лейтенант, и Ане ничего не оставалось, как наравне с прочими женщинами впрягаться в «воз» точечной жизни, учиться делать все то, что она в своей городской жизни, за маминой спиной, не делала и не знала как делать. И здесь им обоим помогала любовь. Даже если дни ужасные, желанная ночь все сглаживала и исправляла. К тому же служба у Федора сразу пошла неплохо, и ему пророчили быстрое продвижение. Анна со временем определила, что среди жен офицеров существует примерно та же субординация, что и среди их мужей. Главная на «точке» командирша, жена командира дивизиона, затем по «рангу» идут начальница штаба, замполитша и так далее. Причем жены командира и его замов держаться отдельно и как бы составляют местную «элиту». За два года службы на своем первом дивизионе и Федор, и Аня осознали одну бесспорную истину: на «точке» командир Бог и Царь. Даже командир полка не имеет такой всеобъемлющей власти, какой обладает командир дивизиона на своей «точке» Ну, что может командир полка? Ну, наказать, испортить жизнь офицеру, не более того. К тому же, как и все прочие офицеры, он живет в квартире в городе, где уже не он хозяин, тут и горком, и райком, и милиция. А над командиром дивизиона-«точки» никого нет, он может воздействовать не только на офицера, но и на его семью, потому что буквально все: квартиры, магазин, продсклад, санчасть, автотранспорт, личный состав… – все в его распоряжении, в его власти. И не дай Бог кому-то из офицеров, прапорщиков или их жен конфликтовать с командиром или его женой – податься некуда, кругом горы, до командира полка и начальника политотдела далеко, а командир дивизиона вот он, рядом. Довольно быстро Аня поняла и как много зависит на «точке» от жены командира. Умная и в то же время властная командирша – второй человек в дивизионе, а если муж тряпка и под каблуком у жены, то и первый – она фактически командует через мужа (само собой исключая боевую работу).
В 1969 году Федора перевели с повышением на вот эту точку, располагавшуюся на границе совхозов Бухтарминский и Коммунарский. Здесь у Ратниковых родился Игорь. На первой «дальней» Аня рожать боялась, слишком далеко и тяжело было добираться до роддома, а она ни собой, ни ребенком рисковать не хотела. Тем более на той точке иной раз роды приходилось принимать фельдшеру-солдату, и случались мертворожденные, а один раз едва не умерла сама роженица. Здесь же условия оказались гораздо лучше, тут до поселка и города имелась прямая дорога и Ратниковы решились на ребенка. Вообще-то они планировали не менее трех детей, но как говориться, человек предполагает, а Господь располагает…
В письме Вера чуть не через предложение справлялась про племянника, сообщала, что к Новому году пришлет посылку с полюбившимися ему за время годичного пребывания у нее в Люберцах «Фантой» и «Пепси-колой». «Дался же он ей, хоть бы про племянницу слово написала», – Ратников неодобрительно хмыкнул и отложил письмо.
– Всем привет, тебе, конечно, персональный, – громко сказал он Игорю.
– Я знаю, прочитал, отозвался сын из комнаты.
– Да, Ань, в Военторге просили месячную выручку и отчет с первой оказией передать, – Ратников обращался к жене так будто они вчера и не ссорились.
Восьмой год Анна работала продавцом в дивизионном магазине. До того не получалось. Сначала дети маленькие были, да и на поступление в Академию надеялись. Затем место продавца (свято место) долго не освобождалось. Аня, имея рядом мужа командира дивизиона, ничего не боялась, ни ревизий, ни военторговских чиновников, ни неожиданных проверок кооперирующегося с ними начальника тыла полка. За годы службы Ратников «оброс» хорошими знакомыми в самых различных организациях, прежде всего в Новой Бухтарме, в том числе в ОРСе и других. Потому связываться с Ратниковым даже матерым тыловикам-ворюгам было себе дороже. Работа Ане хоть и не нравилась, но давала немало выгод. Даже при абсолютно честном ведении торговли неглупый продавец никогда не остается в накладе. Если же немного «крутиться» то «навар» и немалый обеспечен. Это Ане еще давно-давно, когда отдавала ее в торговый техникум, внушила ее мать Анастасия Андреевна. Но чего Аня никогда не позволяла себе, то это не пользовалась такими низкими, но весьма распространенными в военной торговле приемами, как обсчет и обвешивание солдат. Но уж зато в «привоз» промтоварного «дефицита» для семей офицеров, она сначала отбирала все что хотела для себя, и только потом запускала в магазин других женщин. Благодаря этому она, как никто на «точке» одевала детей, да и сама прибарахлялась. Правда, ей самой с годами одеваться становилось все сложнее. Ей уже требовался 54–56 размер, а модные красивые женские вещи, что привозили в Военторг, обычно не превышали 50-го…
13
Первоначально Федор так гладко продвигался по службе, что Аня уверовала – на «точке» они долго не задержаться. Но научиться пришлось не только огородом заниматься, но и в холодной воде стирать, и с командиршами ладить. При такой жизни Аня не могла не измениться внешне. К большому неудовольствию Федора ее руки постепенно утрачивали свою припухлую мягкость и сама она из резвой, но нежной девушки превращалась в сильную, выносливую женщину. У нее оказалось в наличии одно из необходимых качеств офицерской жены, крепкое здоровье, и она не стала в результате неустроенности и лишений больной развалиной. Не потеряла она и женской стати, привлекательности. Даже сильно располнев после первых родов, Анна «исхитрилась добавить» в основном в тех местах, увеличение объема которых не уродуют женщину.
Присутствовала в точечной жизни одна особенность, которая прельщала Анну – ей нравилось быть командиршей. Оценивая прочих виденных ею командирш, она отмечала их сильные и слабые стороны, поведение, степень влияния на мужа и жизнь «точки». Когда Федор получил капитана и его вновь перевели на другую «точку» уже начальником штаба дивизиона, она по-прежнему не сомневалась, что ждать уже недолго – мужу обязательно дадут дивизион и, покомандовав им года два, он поступит в академию. Тогда Аня еще не осознавала, чего она хочет больше, вернуться к городской жизни или стать командиршей. Конечно, вернуться в привычную, благоустроенную в бытовом плане среду очень хотелось, но и перспектива стать первой «дамой» дивизиона, ох как манила.
У Ивана Алексеевича Бунина есть рассказ «Темные аллеи». Там главная героиня, содержательница постоялого двора, уважаемая хозяйка с головой, умело ведущая дело. Опустим главную, любовную сюжетную линию, а лишь выделим третьестепенную, обнародованную в рассказе – образ женщины-хозяйки. Сколько их тогда было на Руси, таких хозяек, владевших и руководивших либо совместно с мужьями, или в одиночку всякого рода поместьями, заведениями, фабриками, заводами, своими большими домами – не счесть. В советское время из той эпохи получил известность далеко не лучший персонаж, горьковская литературная героиня Васса Железнова. Но до Октября 17-го в России существовал целый слой женщин-хозяек, самого различного происхождения и классовой принадлежности. Сохранился этот тип и в советское время – природу ведь никакими ГУЛАГами не истребишь. Только вот чем они могли руководить в условиях ликвидации частной собственности? Разве что отдельные мужланки-матюгальницы пробивались в председательши колхозов, типа той, которую сыграла в фильме «Простая история» одна из самых грубых и неженственных актрис советского кино Нонна Мордюкова, ну еще в школьные директора или детсадовские заведующие. Имел место и такой пример, когда бывшая ткачиха Фурцева руководила всей советской культурой. Но в основном уделом советских хозяек стало «руководство» в пределах своих малогабаритных квартир или домиков. Возможности проявить себя женщинам с хозяйскими наклонностями в советское время были крайне ограничены. Видимо у Ани тоже имела место эта тяга, доставшаяся от кого-то из ее давних предков-мещан – она желала ощущать себя хоть и неофициальной, но хозяйкой, пусть даже на такой вот «точке». Может быть и со свекровью у Ани не получились взаимоотношения, потому что там нашла коса на камень. Две сильные, волевые хозяйки, одна пожилая, так и не удовлетворившая это свое подсознательное желание, вторая молодая, но тоже в душе хозяйка и тоже еще не удовлетворившая… Ане в этом плане повезло больше чем свекрови. Она в какой-то степени получила такую возможность.
Ратников стал-таки командиром дивизиона, но значительно позже, чем они с Аней рассчитывали. В начальниках штаба его продержали более трех лет и только к 30-ти годам он, наконец, получил назначение опять сюда, на точку, располагавшуюся на границе земель двух совхозов Бухтарминского и Коммунарского. Дочь родилась, когда и он и Аня уже начали терять веру в свою счастливую звезду. Нервы супругов все чаще сдавали, они ссорились, искали недостатки друг у друга (последним в основном грешила Аня). Сказалось это или нет на рождении Люды, но девочка росла слабой и болезненной, часто пропускала школу, оттого училась неважно.
Приняв дивизион, Ратников опять воспрял духом, у него вновь вроде бы замаячили радужные перспективы. К тому же он получил, наконец, возможность устроить более или менее приемлемые условия для жизни своей семьи. Именно его усилия в этой области оказались совершенно неожиданны и непонятны для окружающих, вызывали недоумение и даже возмущение прочих офицеров и особенно их жен. Действительно такого до него не делал ни один командир: никто не строил только для своей семьи отдельного утепленного туалета, никто до него не решался, наплевав на все циркулярные запреты, возить свою жену и детей в ту же больницу на боевом тягаче, если отсутствовали или были неисправны транспортные машины. Никто до него не начинал строить отдельную офицерскую баню. И хоть в последнем случае Ратников старался не только для себя и своей семьи, но и для всех офицеров и их семей, но и это сначала показалось чем-то необычным, отклонением от исконных принципов «точечного» существования. И еще многое в поведении Ратникова не нравилось ни сослуживцам, ни полковому начальству. Но чего он не делал, того чего не гнушались некоторые командиры дивизионов, так это не воровал продукты с дивизионного продсклада, и не присваивал себе ни в каком виде солдатских грошей и переводов. Правда солдаты у Ратникова «пахали» крепко и не только на боевой работе. Все бытовые объекты на дивизионе он возводил без помощи из полка, солдатскими руками. Сам себя он оправдывал тем, что имеет на это право, раз высокое командование и страна не удосужились обеспечить человеческие условия для жизни на отдаленных «точках».
Без эксцессов не обходилось. Сначала на Ратникова втихаря жаловались некоторые подчиненные офицеры, что дескать занимается не тем, отрывает личный состав от боевой и политической подготовки. А снедаемые завистью, при виде его заботы о собственной семье, их жены тоже из-под тишка стучали в политотдел на Анну: иш какая фря, и сортир ей персональный, и машину когда пожелает, и в магазине наглеет… Продолжался этот «стук» не долго. Ратников всеми доступными средствами так «защемил» недовольных, что самые непримиримые вынуждены были перевестись на другие дивизионы, а остальные наглухо замолчали. Анна, в свою очередь, сумела одна безо всяких союзниц поставить на место наиболее ярых сплетниц, диктуя свои условия через женсовет дивизиона. Нет, она не стала его председателем, но все решения там принимались только с ее позволения. Окончательно укрепила авторитет Ратникова в короткие сроки построенная добротная офицерская баня, которую можно было топить в любой день и ходить туда семьями.
И вот все вроде бы пошло на лад, Ратникову удалось прочно забрать все бразды правления, поднять, и дисциплину, и уровень боевой подготовки. Аня же не брезговала быть в курсе всех дрязг внутри офицерских семей: кто как живет, кто пьет, кто бьет, кто гуляет, кто вот-вот разведется, кто из холостяков на известной в Новой Бухтарме «гулёне» жениться собирается и «осчастливить» ее присутствием «точку»… Посовещавшись, супруги намечали план предупредительных действий. Анна «работала» с женами, Федор с их мужьями и им нередко совместными усилиями удавалось избежать нежелательного развития событий. По особому относились к Анне и солдаты. В ее присутствии несвойственную им вежливость выказывали даже самые отъявленные матершинники и грубияны. А если, к примеру, она шла домой из того же магазина с сумками, наперебой предлагали помочь поднести, хотя далеко не со всеми «офицершами» они были столь вежливы и предупредительны. Конечно, здесь причина не только в том, чтобы помочь командирше, но и просто оказать услугу красивой женщине, кои на «точках» всегда были в определенном дефиците.
Помогая мужу в нелегкой службе, Анне иной раз в его отсутствие приходилось даже неофициально его «замещать». Однажды, когда Ратников уехал в командировку, в дивизионе едва не случилось ЧП. Приревновавший свою жену некий старший лейтенант принялся ее нещадно избивать. Прибывший на крики замполит был выброшен из квартиры здоровяком-ревнивцем и растерянно опустил руки, а старлей тем временем вновь «взялся за жену». И тогда именно Анна объявила «сбор по тревоге», обзвонила, собрала всех офицеров, в результате чего общими усилиями буяна связали и женщину спасли. В другой раз Анна, собирая с детьми в окрестностях «точки» клубнику, заметила шатающихся вблизи дивизиона молодых, но явно «потертых» девиц. Дома она сразу поставила в известность мужа, с уверенностью предположив, что ночью эти девицы «уведут» солдат. После отбоя устроили засаду и в стогу совхозного сена рядом с позицией «накрыли» трех тех самых девиц и шестерых солдат (по паре на каждую). А сколько раз ей удавалось раскрыть загодя всевозможные доносы на мужа, используя женскую болтливость и своих осведомительниц. И организация всякого рода празднований, совместных выездов на водохранилище, все эти мероприятия не обходились без ее участия.
Увы, ничто не помогло. Ни относительно здоровый «климат» внутри дивизиона, ни успехи в боевой и политической подготовке, ни достаточно высокие дисциплинарные показатели. В Академию Ратников не поступил ни в первый, ни во второй раз. Так и командовал он уже десять лет дивизионом. Менялись солдаты, офицеры, приходили и уходили, а он оставался…
Вчерашний скандал возник вроде бы из-за пустяка. Хотя по состоянию на конец 1986 года, не такой уж и пустяк. Это на заре советской власти, когда почти вся страна по баракам да коммуналкам ютилась, на такие мелочи как недостаток жилплощади реагировали как на временную трудность. Тогда в сознание всего населения страны успешно вдалбливалась идея, что сейчас люди мучаются, чтобы их дети сытно и просторно жили. Но в 80-х годах это уже не срабатывало. Коммунизм, пришествия которого как раз обещали на эти годы, так и не объявился. Жить по-прежнему было и не сытно и очень, очень тесно. В дивизионе, в стандартных четырехквартирных сборно-щитовых ДОСах имелись только однокомнатные и двухкомнатные квартиры. Вряд ли архитекторы, что в 50-х годах конструировали эти квартиры-самолеты, где с веранды, если открыть все двери, просматривалась задняя стена последней комнаты, где дети, вставая ночью по нужде не могли миновать комнаты, где спали родители (или наоборот)… Вряд ли они планировали одновременно и размеры семей офицеров, что будут жить в этих квартирах – не более одного ребенка, а уж если два, то только однополые. Просто не принято было тогда в стране Советов вообще думать о каких-то удобствах для обыкновенных «серых» людей. А то, что на «точках» будут служить люди, не относящиеся к военной «элите» никто, видимо, не сомневался. Так оно, впрочем, и вышло. За 25 лет существования дивизиона и полка этот «прогноз» подтвердился. Ратниковы же сейчас как никогда болезненно ощущали неудобство квартирной планировки: у них ведь разнополые дети, здоровенный парень и растущая дочь, и им каждому нужна своя отдельная комната. Люда спала в одной комнате с родителями отгороженная шифоньером. Отправляя Игоря к Вере, супруги надеялись, что у дочери, наконец, будет своя комната, но, увы, вновь вся семья вместе и терпит большие неудобства.
Допив чай, Ратников принялся, было, мыть посуду.
– Я сама, – отставила его жена.
Он послушно отошел, посмотрел на нее в профиль. Она перехватила его взгляд.
– Что смотришь, старая стала? – в вопросе прозвучал отголоски затухающей ссоры.
– Ну, что ты, – как бы извиняясь, ответил Ратников.
– Что стоишь, иди отдохни, – по-прежнему достаточно неприязненно говорила Анна.
– Некогда, на поверку скоро идти надо, – вновь виновато, давая понять, что готов помириться, сказал Ратников.
– Зачем тебе идти, ведь и так весь день дома не был?
– На днях новый комкор едет. Людей морально приготовить надо. К тебе в магазин, тоже, наверное, зайдет. Ты там уж не очень.
– Не бойся, не стану же я ему жаловаться, что у меня муж два десятка лет по «точкам» мотается и семью тут гноит, – «обнадежила» Анна.
– Ну вот, опять ты начинаешь, – Ратников болезненно сморщился.
– Ладно не кривись, не люблю смотреть на тебя такого, – Анна подошла к нему, положила руку на плечо, подошла совсем близко, касаясь его… Это означало полное примирение.
Ратников благодарно посмотрел на жену и задал стопроцентно «выигрышный» вопрос:
– Тяжело тебе со мной?
– Когда как. Вчера убить готова была, а сегодня вроде легче, живи пока. С потомками я измучилась Федь, а ты вон в работе весь, дома почти не бываешь. С Игорем никакого сладу, а тебе хоть бы что, – уже по домашнему мягко, то ли журила, то ли жаловалась Анна.
– А что случилось, по учебе вроде все нормально у него, только вот по сочинению тройку получил?
– Совсем, гаденыш, не слушается. Сегодня опять без шапки из школы приехал, жарко ему. Вот заработает менингит. Я все руки об него отбила – ему хоть бы что, а ремень он прячет. И еще… Помнишь, я тебе говорила, что он с какой-то девочкой переписывается, со своей бывшей одноклассницей из Люберец? Так вот, он оказывается не только с ней, ему еще одна пишет, я вчера письмо перехватила. Допросила паршивца, сначала отнекивался, потом признался, что еще с одной там познакомился, только уже не с одноклассницей, а с семиклассницей, ну то есть сейчас она в восьмом, ее дом недалеко от дома Веры. Прямо не знаю, что и думать. Запретить что ли ему это донжуанство, рано еще, сейчас об учебе думать надо, – как-то неуверенно не то спросила, не то предположила Анна.
– Ну, это я тоже не знаю, – в свою очередь развел руками Ратников. – Да пускай переписывается, в таких делах, сама знаешь, запретами ничего не добьешься…
– Как пусть, ладно бы с одной, а то ведь сразу с двумя…
14
Игоря словно подменили после годичного пребывания у тетки в Люберцах. Не находящие применения материнские чувства Веры оказались настолько велики, что она чуть вконец не испортила парня, безмерно балуя его и все позволяя. Учиться он стал заметно хуже и не оттого, что в новой школе строже спрашивали. Просто значительную часть времени там Игорь проводил не за уроками, как при родителях, а в знаменитых люберецких подвалах-качалках, где до умопомрачения занимался атлетизмом, ну и свою «лепту» внес возникший у него интерес к девочкам.
Новая городская жизнь Игоря отличалась от прежней «точечной», как небо от земли, но он удивительно органично и легко в нее вписался. Во многом помогла разносторонняя физическая закалка. Отец с малых лет старался привить ему любовь к занятиям спортом. Они вместе по многу километров наматывали на лыжах зимой и весной, благо снег на горных склонах вблизи «точки» лежал до середины апреля. Летом нередко выезжали на водохранилище и там подолгу плавали. Перед крыльцом их квартиры были врыты столбы с перекладиной, на которой привык крутиться Игорь. Уже в бытность Ратникова командиром дивизиона возле ДОСов заливали небольшой каток, где Игорь научился отлично кататься на коньках и неплохо владеть клюшкой. В поселковой школе он всегда выделялся своей спортивностью. В Люберцах же вообще физическую силу в 80-х возвели в ранг культа. Потому, когда Игорь впервые появился в новой школе к нему первым делом на перемене подошел парень из его класса и предложил побороться на руках. К удивлению многочисленных зрителей «новенький» легко одолел соперника. Тогда за честь класса решил постоять другой парень, явно покрепче. Игорь «заломил» его, и правой, и левой. За несколько первых дней он переборолся со многими девятиклассниками, и только один из них, первый силач, устоял – борьба закончилась вничью. Таким образом, Игорь в новой школе сразу произвел фурор, ведь все кто его «вызывали» давно и регулярно «качались» гантелями, штангой и имели внушительные на вид мускулы, и вдруг какой-то долговязый и не слишком могучий на вид новичок их всех укладывает. Как это объяснить? Видимо все дело тут в природных задатках и нормальной здоровой жизни, большая часть которой проходила на свежем горном воздухе, которой до того жил Игорь. Ну и, конечно, немалую роль сыграла разносторонняя общая физическая подготовка, которую не заменит никакая однообразная накачка мышц в душном и тесном подвале.
Таким образом, Игорь завоевал авторитет среди новых одноклассников. Они и привели его в свою «качалку». Здесь Игорь впервые увидел разборные гантели и тренажеры для накачки отдельных групп мышц. Иные местные парни занимались тут по многу лет, некоторые даже в ущерб своему здоровью, бессистемно, недозированно, да еще и без достаточно калорийного питания дома. Все это иногда приводило к внутримышечным кровоизлияниям и сердечным болезням. Игорь с удовольствием окунулся в этот мир. Обладая отменной физической «базой» и имея отличное питание у тетки, он легко переносил нагрузки и стал быстро набирать мышечную массу. К сожалению, с учебой в новой школе все пошло не столь успешно. Здесь было не принято хорошо учиться, особенно среди парней завсегдатаев «качалок», и Игорь волей-неволей стал скатываться на тройки. Тетя Вера, мягкая и добрая, не могла заменить мать, которая обычно жестко, иногда и с помощью отцовского ремня лечила «троечную» болезнь сына.
В Люберцах у Игоря появились новые друзья. Их крепкая спайка, готовность прийти друг другу на помощь очень импонировали ему. С другой стороны он не понимал их конечную цель. Ведь они «качались» не для того, чтобы добиться успехов в спорте, или восхищать мускулами девчонок на пляже. Им, детям в большей части ничего не добившихся в жизни родителей-пролетариев, сила нужна была для самоутверждения. Игорь не мог проникнуться их ненавистью к москвичам, особенно ко всякого рода панкам, хиппи, рокерам, металлистам и к прочей, как они выражались «накипи». Себя они именовали «люберы». Если бы Игорь попал в Люберцы в детском возрасте, возможно, он бы тоже принял идеологию «люберов». Но он к 15-ти годам уже имел хоть и довольно аморфное, но в общем вполне определенное собственное толкование жизни. В сознании Игоря, жившего до того в лоне своей семьи, не познавшего в «зародыше» стадного ясельно-детсадовского коллективного воспитания, да и в поселке, в школе проводившего только учебное время… Для него казались дикими взаимоотношения в семьях своих новых друзей. Здесь дети, как правило, в грош не ставили родителей, особенно отцов, более того некоторые их презирали. Бывая в квартирах и домах приятелей, он наблюдал, что тамошние внутрисемейное общение часто пестрит матерными «переборами», причем от отцов не отстают и матери, в том же духе им отвечают не только сыновья, но и дочери. Игорь, конечно, не впервые слышал матерщину, и в поселке, и в казарме ее было предостаточно. Знал он и что отец частенько матерится в казарме. Но дома он себе этого никогда не позволял, не говоря уж о матери. И еще одно «открытие» сделал там же в Люберцах Игорь. Ему показалось, что тамошние матери и даже отцы побаиваются своих «накачанных» сыновей. Это вообще не укладывалось в голове Игоря. Неужто, эти бугаи могут не только выматерить, но и поднять руку на своих родителей? Он все время пребывавший под жестким материнским контролем, привык ей повиноваться, более того, никогда не воспринимал наказание, даже побои как нанесение какой-то обиды, подсознательно уверовав, что мать имеет на это полное право. Правда, родители его новых товарищей часто являли собой довольно неприглядное зрелище. Отцы, или вообще отсутствовали, или были пьяницами, рабочими низшей и средней квалификации, матери заморенные и уработанные на всевозможных вредных производствах, на которых иной раз было противно смотреть. Впрочем, таковых родителей Игорь видел и среди своих одноклассников в Новой Бухтарме. Но там почему-то дети даже таких родителей не презирали и не стеснялись. Почему? Может потому, что здесь рядом Москва, где люди жили совсем иначе, и там многие родители могли обеспечить своим детям иное качество жизни, на порядок выше? Лично у Игоря вопрос, должны ли дети уважать своих родителей никогда не возникал, он считал это само собой разумеющимся. Он привык гордиться как своим отцом, всесильным хозяином дивизиона, так и строгой, красивой даже в домашнем халате матерью. А главное, он видел, что его семья это единый монолит, и он считал себя неотъемлемой частью этого монолита.
В подвале как-то за компанию Игорь впервые попробовал водки. Ему не понравилось, хотя местные ребята глушили там ее частенько. Удивительное сочетание спорт и алкоголь, хотя ту «накачку» спортом в полной мере вряд ли можно было назвать. Этому примеру Игорь следовать не стал и совсем близко с местными парнями так и не сошелся, слишком велика оказалась разница мировоззрений. И в Москву с ними на «разборки», когда его как крепкого парня стали приглашать ребята, он не ездил. Отказывался как мог, де тетка не пускает, вызывая в ответ насмешки ребят, которые давно уже ни у кого никаких разрешений не спрашивали. Игорь очень боялся в Москве «вляпаться» за компанию, как это часто случалось во время гастролей «люберов» в столице. Они там часто попадали после драк в милицию, а Игорь более всего боялся опозорить и тетку, и родителей, потому предпочитал терпеть насмешки.
В общем, узнал и нахватался парень за год подмосковной жизни… По душе ему пришлось и усиленное питание, которое обеспечивала для него тетя Вера, вернее ее муж. Именно на мужа, который работал в Москве, Вера взвалила задачу покупать в центральных московских магазинах всевозможные напитки, вошедшие тогда в моду, всякие там Фанты и Колы, и обязательно мясные деликатесы, всевозможные буженины и окорока, которые даже в ближнем Подмосковье люди невысокого полета видели редко, не говоря уж о более отдаленной провинции. Сама тетя Вера тоже времени зря не теряла, варила, жарила, лично пекла отличные пироги и торты. И все это для любимого племянника. Чем была вызвана такая симпатия немолодой 46-ти летней женщины, только ли отсутствием своих собственных детей? Если уж ты так хочешь заботиться о детях, а родить не можешь, возьми из детдома, осчастливь обездоленных своим избытком материнских чувств. Но почему-то детдомовцев берут далеко не все бездетные пары. Очень многим, и женщинам в том числе, присуще чувство родной крови, своего корня. 70 лет советская власть пыталась нивелировать это крайне враждебное для коллективизма чувство. Пионерские лагеря, пропаганда «подвигов» в духе Павлика Морозова, принуждение детей отказываться от родителей «врагов народа» и еще много чего делалось, чтобы оторвать человека от семейных корней и загнать в коллектив. Но далеко не все поддавались на социальную пропаганду, большинство пассивно, тихо, но противились. Добрая, болезненная сестра Федора Вера ни за что не стала бы кормить и заботиться о совершенно чужом ей ребенке. Другое дело любимый племянник, сын столь же с детства обожаемого ею младшего брата.
Кроме бесплодия мученица Вера еще страдала и диабетом и работала на легкой, мало оплачиваемой работе, перебирая бумаги в канторе. О муже за двадцать с лишком лет совместной жизни заботиться ей надоело, еще и поэтому племянник оказался столь обласканным. Но, не имея навыков воспитания и необходимой в этом деле твердости характера, она предоставила Игорю полную свободу. Будь на его месте кто другой, эксперимент мог бы кончиться плохо – соблазнов кругом имелось предостаточно. Вера же, видя, как племянник словно на дрожжах растет и поправляется, не сомневалась, что все идет правильно.
Мужу Веры с приездом Игоря хлопот прибавилось, племянник жены показался ему чрезмерно прожорливым. Но он уже давно махнул рукой на все, что делалось в доме – пусть жена потешится, порадуется хоть чему-нибудь. У него же была своя цель в этой жизни. Долгие годы верой и правдой провкалывавший на московском почтовоящичном предприятии, он терпеливо ждал очереди на получение квартиры в Москве. И ждать оставалось вроде бы уже недолго. Зачем ему нужна была эта квартира в 50-т лет, бездетному, когда имелся свой собственный дом? Но так многие мыслили, не жалели здоровья, сил ради московской прописки – нужна же человеку какая-то цель в жизни.
Ты хоть скажи ему, – продолжала Анна наставлять мужа на воспитание сына, – чтобы в казарму перестал ходить. Он же там с Фольцем борется.
– Да пусть борется, раз силу девать некуда, – возразил Ратников.
– Ты что, совсем спятил, – Анна всплеснула руками. – Он же мальчишка еще. А тот 20-ти летний мужик, да еще борец-разрядник. Был бы он тренер, другое дело. Швырнет мальчишку об пол, калекой сделает. Вон одна уже есть чуть живая, – Анна понизила голос, чтобы не услышала дочь.
– Да пожалуй, – Ратников вспомнил плохонький мат и гирю, пробившую пол. И тут же решил перевести разговор на другую тему. – Ладно, а что за фильм вы там смотрели, даже оторваться не могли? – с некоторой обидой за не очень радостную «встречу» спросил Ратников.
– «Джейн Эйр», две серии, завтра продолжение будет. Неплохой фильм, хотя, конечно не «Сага о Форсайтах»…
В том же примирительном русле беседа «текла» дальше. Анна за ночь и день «перегорела» и потеряла интерес к возобновлению нудного разговора, состоявшего в основном из попреков и жалоб на свою несчастную судьбу, отсутствие «зрения» по молодости: где были ее глаза, что она так промахнулась в выборе жениха. К тому же в семье существовало железное правило: когда у Ратникова по службе назревало что-то важное, срочные дела, начальство с проверкой едет, к полигонным стрельбам готовятся… Анна откладывала все распри и не словом уже не вспоминала о «загубленной молодости». Хандра ее охватывала обычно в затишья, но в экстремальные моменты она помогала мужу, как могла: и на детей прикрикнет, чтобы от отца отстали, и от всех забот по дому оградит, и магазин откроет во внеурочное время, если нужда возникнет. Зато в затишье, когда в голову лезут всякие «неделовые» мысли, создавались предпосылки для зарождения ссор, тихих, вполголоса, чтобы соседи не услышали через звукопроницаемые стены и не злорадствовали. От тех ссор дети затихали и как мыши, притаившись, ждали, надеясь на быстрый конец родительской размолвки. Ратников иногда не выдерживал этого методичного, с обязательным нелицеприятным упоминанием его родни (в первую очередь матери), обличительного прессинга жены и убегал из дома в казарму, срываясь там на подчиненных и дежурной службе.
15
Взаимоотношения тетки с мужем Игорю показались очень странными. Дом, в котором тетя Вера жила с дядей Пашей был их собственным, но довольно ветхим, с небольшим огородиком в шесть соток. Так вот, жили они вроде вместе, но со стороны казалось, что состояли не в родстве, а заключили меж собой какой-то договор по распределению обязанностей. Тетка готовит пищу, стирает, ее муж отдает зарплату и тащит из Москвы дефицитные продукты, ну еще на досуге собирает марки. Они никогда не ругались, ни о чем не спорили, но в то же время никогда и не беспокоились друг о друге. Например, дядя Паша совершенно не расстраивался, даже не отрывался от созерцания своих марок, когда у жены обострялась болезнь, а она, в свою очередь, никогда не переживала, если муж задерживался после работы, или тоже заболевал. Казалось, умри один из них, ничего бы не изменилось в жизни второго.
Такое взаимное равнодушие резко контрастировало с тем, что Игорь привык видеть дома. Да, мать частенько напускалась на отца по делу и без оного, но вместе с тем она болезненно переживала за все его дела, не находила себе места, если он откуда-нибудь опаздывал. А отец, как он старался угодить матери, упредить ее желания, а иногда и капризы. А уж если кто-то из родителей вдруг заболевал… Наблюдая за отцом с матерью, Игорь видел, что иногда они как бы делают себе разрядку, ведут не как взрослые. Не раз, находясь в соседней комнате, он становился заочным свидетелем того, как отец прерывал поток упреков матери в свой адрес каким-то действием… в результате которого мать умолкала, и уже через некоторое время вместо обличающего тона, слышался ее приглушенный голос, уговаривающий отпустить ее, иначе дети могут увидеть.
В семье тетки не наблюдалось даже намека ни на что подобное. Непонятно было Игорю и то, что тетка с мужем спят на разных кроватях. Игорь до того не сомневался, что все мужья с женами спять вместе, с определенной целью. И здесь он имел опыт невольного подслушивания за родителями – в «точечных» ДОСах, стены были тонки и звукопроницаемы. Уложив спать их с сестрой, потом в течении получаса то отец, то мать, заглядывали в его комнату, после чего тихо переговаривались:
– Ну что спит? – спрашивала, например, мать.
– Да вроде спит, – отвечал отец.
– Подожди… ну что ты… давай еще подождем, – просила мать.
Отец в ответ обычно недовольно бурчал что-то типа, что ему завтра рано вставать, идти на «подъем» в казарму, после чего родительская кровать начинала издавать ритмичные скрипящие звуки.
В доме у тетки по ночам ничего не скрипело, и в баню они с мужем тоже ходили раздельно, хотя она у них была своя личная, на огороде, которую построил еще отец дяди Паши. Игорю эта баня не понравилась – теснота, без отдельной парилки. С дивизионной, построенной под руководством его отца, не сравнить. Здесь Игорь мылся с дядей Пашей, а тетя Вера мылась одна. И это не укладывалось в голове Игоря: кто как не муж должен тереть мочалкой спину жене. В их семье все кому-то терли спину в бане, разве что Люда по малолетству и слабости не могла тереть спину матери, но эту обязанность выполнял отец. После того как мать мыла сестру, отец приносил ее закутанную до глаз домой, а сам шел к матери. Очередь Игоря наступала, когда домой приходила вся распаренная в банном халате мать. Вдвоем с отцом они лезли в парилку и там от души хлестали друг-дружку вениками. Привыкшему к таким семейным взаимоотношениям, Игорю жизнь тетки со своим мужем казалась лишенной всякого смысла. Впрочем, особо приглядываться Игорю было недосуг – школа, тренировки, свидания. К тому же лично к нему тетка источала столько доброжелательности и заботы, что он просто не мог в чем-то ее обвинить, и если и считал кого виноватым в столь странных семейных взаимоотношениях, так только дядю Пашу.
Когда, после почти годичного пребывания Игоря у тетки в Люберцах приехали в отпуск родители… Они с трудом узнали сына. Перед ними предстал, разодетый в столичные модные обновы (джинсы, рубашку, кроссовки…) значительно переросший мать и едва не догнавший в росте отца, здоровенный парнище с распиравшими рубашку мышцами. Железные «пилюли» люберов и теткин обильный стол, помноженные на природное здоровье в совокупности превратили мальчика в атлета. Ознакомившись со школьным дневником сына, Ратников только крякнул, а Анна безапелляционно постановила – прекратить эксперимент. Вера расплакалась, прося оставить Игоря, который стал для нее отрадой в однообразном, бесцельном существовании, объектом заботы и обожания. Но Анна, видя, что сын за этот год не только вырос, окреп, но, и, кажется, отбился от рук, была непреклонна.
Игорь не противился возвращению, хоть жизнь в Люберцах и оказалась очень интересной. Он, как это ни странно, скучал по «точке», Новой Бухтарме, поселковой школе, местам, где родился и провел почти всю свою жизнь, по отцу с матерью, сестренке, по привычному и понятному укладу гарнизонной жизни. К тому же его подмывало предстать перед своими прежними одноклассниками, похвастать столичным «прикидом», приобретенной в «качалке» мускулатурой, порассказать о жизни в столице и окрестностях. В этот последний отпуск Ратниковых, летом 1986 года, Игорь с важностью исполнял обязанности семейного гида. Он с видом сторожила водил родителей и по Люберцам, и более или менее ориентировался в прилегающих районах Юго-Востока Москвы. Как-то он признался отцу, что собирается после школы поступать в Московское общевойсковое училище имени Верховного Совета РСФСР, а в увольнение потом будет приезжать к тетке. Оказалось, что немало люберецких парней в свое время окончили и сейчас учатся в этом училище, располагавшееся хоть и в черте Москвы, но совсем рядом с Люберцами, сразу за окружной магистралью их разделяющей. Ратников не выказал по этому поводу своего мнения, только попросил пока ничего не говорить матери. Для нее это было бы неприятная новость, ибо она имела все основания считать, что хуже доли военного, а тем более его жены, ничего на свете нет. «Ему еще год в школе учиться. За это время много воды утечет», – рассуждал Ратников, в то же время удивляясь, что сыну не опротивела, виденная им с детства офицерская жизнь.
Беспокойства же Анны в те дни лежали совсем в иной плоскости. Она выведывала у Веры, как вел себя Игорь, чем занимался. За этот, показавшийся ей бесконечным, год она не раз пожалела, что так неосмотрительно отпустила сына. Особенно сильно ее терзала тревога, как бы Игорь не связался с дурной компанией или аморальными девицами. Ведь он такой видный и в то же время домашний, неопытный. Она не на шутку расстроилась, узнав, что сын почти каждый вечер где-то пропадал допоздна. Разъяснения Игоря насчет «качалки» ее не успокоили. Уже забыв, какой сама была в 16-ть лет, Анна считала, что сына нужно еще опекать и опекать. Её беспокойства были не так уж и безосновательны. В «качалку» действительно иногда приводили девиц в возрасте от 14-ти лет и старше. По совместительству подвал, особенно зимой, являлся и местом для свиданий. Обычно парни и девушки дожидались конца тренировки и оставались там после неё. К этим компаниям присоединялись и некоторые «качальщики». По слухам там и «пили», и «дурь» курили, и уж конечно заваливали девок на гимнастические маты. Игоря тоже не раз приглашали «оттянуться» после тренировки, приглашали и девчонки значительно старше его. Он смущался, краснел, но наотрез отказывался, несмотря на то, что определенный интерес к девушкам у него уже, что называется, «проснулся». Но те девицы, которых приводили в «качалку» были ему явно не по нутру. Ему нравились совсем другие, например, Ирина, сидевшая в классе прямо перед ним. Ее тугая коса, маленькие сережки в розовых ушках, ее матовая шейка… Все это он видел перед собой каждый учебный день, ее прямую спину, которая, судя по тому как глубоко врезались в нее, хорошо различимые под форменным платьем бретельки бюстгальтера, была совсем не худенькой…
То была еще одна причина, по которой Игорь стал хуже учиться. Он отвлекался на уроках и не мог внимательно слушать учителей. Особую роль играли уроки физкультуры. Здесь девочки не столько занимались, сколько показывали себя (прежде всего те, у кого имелось что демонстрировать). В Люберцах девчонки показались Игорю куда привлекательнее, чем в Новой Бухтарме. Не последнюю роль здесь конечно играла одежда – в Подмосковье, особенно в ближнем женщины одевались намного лучше, чем в далекой провинции. На той же физкультуре девочки-старшеклассницы занимались в костюмах для аэробики, о которых в Верхнеиртышье еще и не слышали. Сказывался и общий уровень жизни. В Люберцах в среднем жили гораздо лучше, лучше не только одевались, но и питались, было где достать – Москва рядом.
В классе Игоря некоторые мальчики и девочки дружили, отдельные даже больше чем дружили. Но Игоря и к «тусовочным» девочкам не тянуло. Например, та же Ирина и ее подруги не ходили ни на какие молодежные тусовки. Но именно такие «домашние» девочки его и привлекали, которые хорошо учились, разговаривали без мата, в движениях и походке которых не просматривалось резкости, и они не пытались походить на мальчишек. Сравнивая тех и этих, он еще сильнее «отталкивался» от девчонок с «крутизной»…
Время до 22-х часов пролетело незаметно, и Ратников теперь уже не горел желанием уходить из дома, в который всего час назад не хотел идти. Но пресловутое «надо» заставило одеться и покинуть теплый семейный уют. Свой выход из дома подполковник подгадал к началу вечерней прогулки. Солдаты топали по плацу и орали «Не плачь девчонка». Пока Ратников прошел несколько десятков метров от дома до забора, на плацу закончили с «Девчонкой» и заорали «У солдата выходной». Орали как всегда не все и потому для создания видимости массового исполнения «молодые» орали как можно громче, надрывая связки. Из-за снежного вала, опоясывающего плац, командира пока не видели, но орали для него: услышит, дома сидючи и успокоится – песня поется, распорядок дня соблюдается.
На неожиданное появление подполковника гуляюще-поющий строй отреагировал усилением звука – в хор включилось больше голосов, но все равно пели не все. Некоторые «старики» умудрялись беззвучно шевелить нижними челюстями, но большую часть не поющих, тем не менее, составляли те, кто просто не мог петь по причине незнания, или плохого знания русского языка.
– Прекратить песню! – скомандовал руководящий прогулкой старшина, увидев командира и гортанно-громогласно «повернул» солдатские головы в его сторону:
– Ссссмииирррнооо!! Ррравнене на лево!!!
– Вольно! – сразу отозвался Ратников.
Старшина продублировал команду и тут же последовало:
– Запевай!
Теперь пели про «слезы, капающие на копье». Ратников неприязненно скривился от очередной порции идиотских слов, вырывающихся из полусотни орущих глоток. Когда-то, еще на заре своей командирской деятельности он довольно долго безуспешно пытался научить своих солдат петь, а не орать. Со временем он уяснил основную причину тщетности своих усилий: эти песни нельзя петь, они того не стоят, а других современных строевых, которые бы пелись от души, с удовольствием и гармонично накладывались на строевой шаг, просто не существовало. Сейчас прозвучали бы анахронизмом и «Смуглянка», и «Дороги» и по настоящему строевая «Солдаты в путь», тем более «Синий платочек» – их время ушло, то время когда для армии считали за честь писать песни лучшие поэты и композиторы. Сейчас другое время, не лучшее для армии, потому для нее и пишут плохие авторы, им же тоже кормиться надо.
– На прогулку все без эксцессов вышли? – уже в казарме спросил Ратников у дежурного.
– Так точно, – заверил Рябинин.
В дверях появились возвращавшиеся с прогулки солдаты. Они входили громко топая, чтобы отряхнуть с сапог снег, на ходу расстегивая шинели, потирая красные с мороза руки. Проходя мимо командира, отдавали честь, говорили вполголоса. Обычно, когда оставался один дежурный, они вваливались громогласной толпой, громко хлопая дверями. У молодежи много сил, ни бессонные ночи в карауле, ни каждодневная пахота по уборке снега, ни дисциплинарные рамки не перебивали желания озорничать, веселиться…. жить. Глядя на них, сейчас относительно тихих и вежливых, отлично зная, что многие из них совсем не такие на самом деле, Ратников в душе надеялся, что не только из страха наказания они такие при нем. Он надеялся все-таки, что его не только боятся, но и уважают. Недаром же меж собой они его «батей» зовут. Нелюбимых командиров не такими прозвищами наделяют.
16
Как получилось, что в Люберцах Игорь столь занятый в «качалке» и учебой, смог, тем не менее, познакомиться не с одной, а сразу с двумя девушками?… Ну, не так уж он сильно упирался на уроках и в «качалке», чтобы, что называется, ничего вокруг не видеть. Тем более с Ирой они учились в одном классе, сидели на соседних партах и их взаимная симпатия «крепла» постепенно. Однако, вне школы, кроме нескольких совместных походов на каток, да посещений кинотеатра никаких других «контактов» у них не возникло. Ира происходила из интеллигентной семьи, ее отец являлся начальником цеха одного из люберецких заводов, мать врачом. Жили они в пятиэтажке, в квартире со всеми удобствами. Она с самого начала дала понять, что не желает «форсировать» отношения с этим видным мальчиком, приехавшим откуда-то с Казахстана. Да, в темноте кинозала она позволяла держать себя за руку, во время свиданий даже немного себя «потискать». Но во всем остальном Ира жила интересами обычной советской девушки своего времени: сначала хорошо закончить школу, далее поступить в институт, окончить его. Все остальное потом. Даже давая свой адрес Игорю, когда стало известно, что он уезжает с родителями, она, по всей видимости, не думала о каких-то серьезных отношениях.
С Леной все оказалось по иному. Мать Лены была коммунальной служащей, а отца она вообще не знала. Они познакомились по дороге в школу. Увидев идущую туда же, куда и он довольно крупную девчонку с портфелем Игорь ее догнал и уверенный, что она его ровесница спросил:
– А ты из какого класса, из 9-го «А»?
Самого Игоря определили в 9-й «Б» и там он этой девчонки не видел. Всего в школе имелось два девятых класса, и других школ поблизости в том районе не было.
Девочка слегка покраснела и смущенно ответила:
– Нет, я из «Б».
– Как это из «Б», я в «Б» учусь, тебя ни разу не видел, – удивился Игорь. – А, ты может быть из восьмого класса?
– Нет, я из седьмого, еще более смутилась девушка, вернее девочка.
– Из седьмого!? – Игорь не мог скрыть настоящего изумления, глядя на уже вполне сформировавшуюся фигуру, грудь, бедра…
Да, тринадцати лет ей никак нельзя было дать. «Может второгодница или даже два года сидела», – мелькнула у Игоря мысль, хотя по лицу и его выражению девчонка на тупую, ну никак не походила, скорее совсем наоборот. Она оказалась не только не по годам рослой, крупной, но и обладала какой-то особой «задумчивой» красотой, которой просто не могла обладать глупышка. Тем не менее, во время той их первой встречи ее возраст разочаровал Игоря. Да она совсем маленькая – решил он, и обогнав пошел себе дальше, почти сразу перестав о ней думать. Но вскоре они встретились вновь, ибо Лена пришла к тете Вере с какой-то просьбой от своей матери. Ее мать и тетя Вера жили неподалеку друг от друга и хоть не были подругами, но соседские отношения поддерживали. Пока тетя Вера лазила в подпол за тем, за чем пришла Лена, Игорь успел обменяться с ней несколькими фразами. Девочка смотрела на него так… Но Игорь этого не замечал, ибо по-прежнему считал ее, несмотря на внешнюю привлекательность, маленькой для себя. Обратил он на нее внимание уже зимой, в школе, когда их класс пришел на очередной урок физкультуры в школьный спортзал, а его еще не успел освободить седьмой «Б», вернее девочки этого класса, которые там заигрались в баскетбол и не услышали звонка об окончании урока. Когда девчонки увидев вошедших в зал мальчишек-старшеклассников с визгом стали убегать, а наиболее хулиганистые девятиклассники растопырив руки вроде бы их ловить… Самая крупная и фигурная семиклассница не завизжала и не побежала, а с достоинством пошла к выходу и оказалась рядом с Игорем.
– Здравствуй, – произнесла Лена и чуть задержалась.
– Здравствуй, – ответил Игорь, на этот раз не в силах оторвать глаз от девочки, облаченной в облегающий ее тренировочный костюм с двойными белыми лампасами по плечам куртки и брюкам. Впрочем, нижнюю часть ее спортивного костюма брюками с полным на то основанием назвать было нельзя, то были обтягивающие ее штаны, обтягивающие так… Лена, находясь совсем рядом, сейчас чем-то напомнила Игорю его мать, когда та так же облачалась в спортивный костюм и ходила в нем по дому, занималась уборкой. Через тонкую ткань прорисовывалась зрелая женская плоть, которой в избытке обладала Анна Демьяновна Ратникова. И он, делая, например, уроки, украдкой подсматривал за матерью, когда та поворачивалась к нему спиной и не могла отследить те взгляды. И когда вознамеривалась за какую-нибудь провинность наказывать сына, Анна тоже облачалась в спортивный костюм, так как в нем было удобнее ловить, наклонять и лупить нашкодившего сына, нежели в платье, или халате. А Игорь и не думал сопротивляться в полную силу, даже будучи уже хоть и худощавым но довольно рослым восьмиклассником. Вернее он только убегал, уворачивался, но оказать более действенное сопротивление в какой-то степени даже опасался – уж очень мягкими, нежными смотрелись, облитые тканью тренировочного костюма, налитые формы материнского тела. Не дай Бог ненароком своими угловатыми костлявыми конечностями причинить всей этой колышущейся мякоти какой-нибудь ущерб…
И вот уже в Люберцах он что-то очень похожее узрел в девочке-семикласснице – облитое тканью спортивного костюма налитое нежной мякотью, конечно еще не женское, не такое фактурное, как у матери, но с отличными задатками девичье тело. Сами собой в его сознании возникли сравнения тринадцатилетней Лены с его одноклассницей, нравившейся ему пятнадцатилетней Ирой. Ира превосходила Лену ростом и имела, в общем-то, хорошую спортивную фигуру, ибо с детства занималась художественной гимнастикой. У нее явственно прорисовывалась талия, а грудь, живот и бедра были, так сказать, подтянуты, гармонично сочетались друг с другом, то есть излишне ничего не выпирало, не колыхалось. Но у Лены в фигуре уже в ее возрасте угадывалось куда больше женского, даже можно сказать бабьего, то, что с раннего детства привык видеть Игорь в облике собственной матери, и что с возрастом формировало его, так называемый, мужской вкус. Грудь у Лены казалась не такой подтянутой, «стоячей», как у Иры, зато чувствовалось, что со временем она станет значительно больше, хотя, скорее всего, «стоять» не будет, а слегка отвиснет и будет колыхаться, особенно сильно без бюстгальтера, опять же как у матери Игоря. Казалось бы именно Игорю, спортивному, мускулистому парню должны более нравиться такие же спортивные девочки, но нет… Узрев через спортивный костюм визуально мягкий округлый и обещавший со временем еще более округлиться и выдаться вперед животик Лены, явно не обладавшей развитыми мышцами брюшного пресса, он сам, имевший стальной пресс, вдруг почувствовал до того никогда не посещавшее его волнение. В этом животике было столько призывной неги, он так волнительно колыхался при движении, особенно в такт с колыханием груди. У Игоря вновь возникла ассоциация с матерью, как у нее колыхались одновременно грудь, живот да в придачу и прочие округлости, когда она, например, выбивала половики или вывешенный на улице ковер. Или когда, опять же, выведенная из себя каким-нибудь его проступком, она с отцовским ремнем бегала за ним по квартире, и он инстинктивно более опасался эти округлости как-то задеть и причинить матери боль, чем получить от нее ремнем.
На четырнадцатом году жизни девочки, как правило, в половом развитии далеко опережают своих ровесников-мальчиков. Потому Лена не могла не заметить этот взгляд, который Игорь оказался не в силах отвести от тех мест, которые так «красноречиво» облегал ее спортивный костюм. Чуть зардевшись, она с лукавой улыбкой произнесла:
– Можно пройти?
Особой необходимости спрашивать разрешения не было, ее одноклассницы просто прошмыгивали мимо девятиклассников из зала в свою раздевалку. Так же могла поступить и она. Но Лена предпочла задержаться, дать себя рассмотреть получше, и когда Игорь посторонился, с высоко поднятой головой прошла мимо, теперь уже чувствуя его взгляд на своей спине и ниже…
Отношения, если их так можно назвать, с Леной не имели ничего общего отношений Игоря с Ирой. С Ирой имела место просто дружба одноклассников симпатизирующих друг другу. С Леной… то было что-то совсем иное. Эта не по годам развитая во всех отношениях девочка явно пыталась ему нравиться, и Игорь в конце концов не мог этого не почувствовать. Тем не менее, именно с Ирой отношения как бы носили официальный, публичный характер с обязательными, хоть и нечасто случавшимися «атрибутами» подростковой дружбы (кино, каток…). С Леной отношения были «заочные» – они встречались в основном случайно, он вроде бы даже пытался сначала не замечать ее, разве что отвечал на «здравствуй». Но ее взгляды, обращенные на него, он это не мог не почувствовать, то были совсем не детские взгляды. И вот в спортзале впервые не по детски посмотрел на нее и он. Тем не менее, «заочность» их общения таковой оставалось до самой весны.
Перед восьмым марта, сэкономив из денег, что посылали ему родители, Игорь покупал подарки и подписывал открытки, матери, сестре, тете Вере, бабушкам, Ире. Ему бы и в голову не пришло поздравлять Лену, если бы та, вдруг, не сделала ему подарок на 23 февраля. Она «подстерегла» его по дороге в школу и вручила мужские духи «Шипр», которые достать в условиях товарного дефицита можно было только съездив в Москву. Естественно теперь он обязан был «отдариваться» на восьмое марта. Все подарки он купил в той же «качалке», где параллельно с накачкой мускулатуры отдельные завсегдатаи занимались продажей импортных шмоток и косметики. Там он и приобрел для матери французскую компактную пудру, для сестры югославский детский берет ее размера, для тетки тоже пудру, для Иры польскую губную помаду. По инерции продолжая и Лену считать малявкой, он думал ей подарить примерно то же что и сестре, но все же сообразил, что дарить надо что-то иное, а лучше всего учитывая его ограниченные финансовые возможности мелкую но обязательно «взрослую» косметику. Потому для нее он приобрел югославские тени для век. Подарок хотел вручить, так же, как и она ему, где-нибудь по дороге или в школе. Но, как нарочно нигде не мог ее встретить и потому уже вечером в сам праздничный день пришлось идти к ней домой. Игорь думал, что отдаст подарок с открыткой и тут же вернется, но «малявка» думала совсем по-иному и поломала все его планы. Самым неожиданным оказалось то, что Лена поблагодарив за подарок, стала приглашать его в дом. Игорь как мог отнекивался, не представляя, что он, оказавшись в доме, скажет ее матери. Но Лена как бы ненароком сообщила, что она дома одна и удивительно настойчиво продолжала уговаривать:
– Мама допоздна у подружек будет, она в гости пошла и меня звала, а я не захотела идти. Трудно сказать, как собиралась встречать женский праздник сама Лена. Неужто, она была уверена, что он к ней придет? Но он вполне мог и не прийти, а если и прийти, то только отдать подарок и тут же уйти, как и собирался сделать. Тем не менее он вошел в дом, снял куртку.
– Хочешь есть?… Я сейчас…
– Нет, не хочу, я недавно пообедал… меня тетя Вера ждет, я сказал, что скоро вернусь…
Через пять минут Игорь уже сидел за столом, а хозяйка неполных четырнадцати лет хлопотала вокруг него вполне по-взрослому. Сказать, что Игорь смутился, ничего не сказать, он был просто растерян, поминутно оглядываясь на дверь, с ужасом предчувствуя, что будет, если все-таки придет мать Лены. Тем не менее, он принялся за еду хоть и совсем не хотел есть. Лена положила на стол непочатую коробку с конфетами:
– Вот попробуй отличные конфеты, мама по делам в Москву ездила и достала, они с коньячной начинкой.
Не рискнув в открытую, «по взрослому» поставить своему гостю на стол какое-нибудь спиртное, эта девочка вот так интуитивно все же предложила ему то же спиртное, но в такой вот безобидной форме, в виде дефицитных конфет с коньячной начинкой. Игорь выпил чашку кофе, съел три конфеты, и хотел, было, уже распрощаться, когда обнаружил что «малявка» между делом умудрилась переодеться, сняла домашний халат и предстала в полупрозрачной блузке и юбке, туго охватывавшую ее сверху и клешеную снизу от бедра к коленям. На ней также оказались новые импортные колготки, не длинную, но толстую темно русую косу она перекинула вперед. Лена смотрелась совсем взрослой девушкой, ибо и в ушах у нее сверкали сережки, которых пять минут назад не было, как и крестика на цепочке тускло желтевшего на ее шее. Игорь уставился на нее, словно не узнавая, и не знал, что сказать и как себя вести, ведь было яснее ясного, что все эти переодевания делались ради него и уходить стало как-то неудобно. Лена по-своему расценила его взгляд, обращенный на ее серьги и крестик:
– Ты не думай, это не мамины, это мои… вернее бабушкины. Она у меня в позапрошлом году умерла, и ее золотые вещи ко мне перешли. Так положено… Потанцуем?
Предложение прозвучало для Игоря совсем неожиданно. Не дожидаясь ответа, Лена как будто заторопилась.
– Только я туфли одену, – она побежала в другую комнату… и оттуда уже вернулась обутая в туфли на высокой «горке». На этой «горке» она уже, что называется, почти сравнялась с Игорем. Они ритмично стали передвигаться под магнитофонные записи «Самоцветов», «Рикки э повери», «Тото Кутуньо», «Машины времени», «Цветов»… Им было все равно, что то за музыка, рок или попса. Они уже настолько тесно прижались друг к другу, что Игорь всем своим телом ощущал то, что наблюдал визуально тогда в спортзале через ткань спортивного костюма, только сейчас уже через ткань блузки и юбки, ее тело, казавшееся на контрасте с его мускулатурой невероятно мягким и нежным. Прежде всего он ощущал податливые грудь и живот, а его руки сами собой сползли с ее талии на бедра. А она будто этого не замечала. Танец следовал за танцем, они уже съели все конфеты, Игорь больше не смотрел на дверь, он смотрел только на Лену, его руки проникли снизу к ней под блузку и постепенно продвигались к бюстгальтеру. Она негрубо но решительно высвободилась из его рук – как раз закончилась кассета – отошла к магнитофону, хотела поставить другую, но передумала, и повернувшись к нему вдруг спросила:
– Я тебе нравлюсь?
– Да, – несколько ошарашено ответил Игорь.
– А Ирка, из твоего класса… она тебе больше нравится?
Вопрос поставил Игоря в тупик, он не знал, что отвечать. Но Лена избавила его от этой необходимости:
– Не хочу чтобы она тебе нравилась, я буду красивее ее, когда подросту, я и сейчас красивая, смотри, – она вдруг кокетливо улыбаясь стала перед ним поворачиваться то одним боком, то другим, то в полоборота, то спиной. Если бы мне сейчас было столько лет, сколько ей, я бы, знаешь, какая была?
Игорь на это совершенно не мог ничего сказать, чувствуя, что почти четырнадцатилетняя Лена в некоторых вопросах, явно взрослее его почти шестнадцатилетнего.
– А ты мне нравишься с самого первого раза, когда я тебя увидела. Знаешь, как я злилась когда видела тебя с этой Иркой? Глаза ей выцарапать была готова.
Даже коньяк, что Игорь употребил вместе с конфетами не подвиг его к пониманию такой откровенности, он по-прежнему пребывал в глубоко «тормознутом» состоянии, и не знал как реагировать. Совсем забыв, что уже вечер, и что наверняка беспокоится тетка, которой он сказал, что отлучается ненадолго – как тут не потерять голову от таких признаний от девчонки, которую он, в общем, почти не замечал. Но не потеряла голову «малявка» Лена, где то уже около восьми вечера, она после очередного танца сказала, что скоро уже вернется ее мать и им надо расставаться. На прощание они целовались так, будто это было уже далеко не первое их «свидание». Тут все же Игорь не сдержался и несколько раз «засосал» ее шею и верх груди. Лена… эта юная кокетка притворно охала, и вроде бы сожалела, что теперь останутся следы.
После того вечера проведенного с Леной, отношения с Ирой, конечно же, показались Игорю слишком «пресными». Тем не менее, он их не прерывал, чем вызывал яростные, «красноречивые» взгляды Лены. Ира, впрочем, и не подозревала, что у нее появилась соперница. Но ведь Игорь ей был интересен в роли красивого и здорового парня, с которым где-то два-три раза в месяц сходить в кино или прогуляться по так называемому «Бродвею», а потом распрощаться с дежурным поцелуем. Ни в каком другом качестве он, во всяком случае на ближайшее будущее, и не рассматривался. Свидания с Леной тоже носили урывочный характер – она приглашала его к себе, когда мать уезжала по делам в Москву. И Игорь ради этих свиданий жертвовал своими тренировками в «качалке». Но случались эти свидания не часто, два раза в марте, два раза в апреле, да раз в мае. А в июне приехали родители и стало ясно, что десятый класс Игорь будет заканчивать в своей прежней школе, в Новой Бухтарме.
Ирина известие об отъезде Игоря восприняла спокойно хоть и выразила сожаление. Лена отреагировала совсем по-другому, на ее глазах выступили слезы, и она с трудом сдержалась, чтобы не расплакаться. Но когда он стал уверять, что после десятого класса сюда приедет, и будет учиться в Москве, а жить у тетки, Лена радостно запрыгала, словно вспомнив свой истинный возраст, а затем кинулась ему на шею, взахлеб твердя:
– Игорек, милый, я буду тебя ждать, только приезжай!
И вот теперь письма от Иры и от Лены приходили попеременно на «точку» и мать, перехватывая их, уже не один раз серьезно поговорила с сыном, и решилась таки поставить в известность и Ратникова, чтобы наметить совместный план действий против этого, как она называла, «донжуанства».
17
В новом учебном году Анну стали вызывать в школу из-за того, что одноклассники сына все чаще стали страдать от резко возросшей физической мощи Игоря. Ратников по этому поводу обычно ничего не говорил, считая, что стычки между мальчишками дело обычное. Но Анна после таких вызовов стала приезжать крайне раздраженной (не ближний свет мотаться за двадцать километров туда-сюда). Раньше она в таких случаях прибегала к весьма действенному средству – ремню. Но заведенный порядок пришлось изменить после годичного пребывания Игоря в Люберцах. Еще, будучи в гостях у Веры, Анна заметила, что сын слишком уж вольно себя ведет, даже огрызается на замечания, чего раньше никогда не случалось. Дома, она с первых дней принялась методично выбивать из него этот «дух вольности». Окрики и легкие шлепки за плохо вымытые руки, разорванный рукав, или грязь, принесенную в дом с улицы, все это Игорь внешне сносил, как и прежде, но вот он допустил более серьезное «прегрешение»…
В один из осенних дней дивизионные школьники возвращались из школы. А возили их на машине, оборудованной специальной будкой, в которой и помещались дети. В тот день мальчишки начали шалить. Игорь самый старший, не говоря уж о том, что самый сильный тоже принял участие в потасовке, уподобясь Гулливеру среди лилипутов. Не соразмерив силы, он неудачно швырнул головой о стенку будки вредного сына начальника штаба майора Колодина. Из головы этого тщедушного семиклассника потекла кровь. По приезду школьников на «точку» к Анне прибежала мать пострадавшего и закатила скандал. Колодина давно копила зло на командиршу и травма сына, что называется, переполнила чашу ее «терпения». Зло то основывалось на нежелании Анны собирать вокруг себя, как это имело место на других «точках», коалицию из жен заместителей командира дивизиона. Она относилась к «замшам» так же как и к прочим, ничем не выделяя. Тут Колодину как прорвало, она в течении минуты озвучила все свои набухшие претензии, в том числе и насчет многочисленных взысканий, которыми Ратников как елку игрушками обвешал ее мужа. Дескать, мало того, что издеваются над мужем, теперь и до сына добрались. Помрачневшая Анна горой надвигаясь на мелкую Колодину, вытеснила ее из своей квартиры, зло напутствуя вслед:
– Заткнись стерва, я тебе это еще припомню!
Последняя часть фразы сразу отрезвила Колодину и она, предчувствуя неминуемые санкции, быстро ретировалась. Выведенная из себя Анна решила примерно наказать сына, по ее мнению совсем распустившегося у тетки. Применять по старинке ремень против здоровенного 16-ти летнего парня было весьма необдуманно, но она так сильно разозлилась, что не могла рассуждать трезво. Сына Анна всегда наказывала дома, чтобы никто не видел. И сейчас она, выпроводив дочь гулять, переоделась в спортивный костюм и, вооружившись ремнем, вошла в комнату притихшего Игоря. Тот стал оправдываться, но это не возымело действия – у матери за последнее время против него накопилось много всего. Еще полтора года назад, когда сын учился в восьмом классе и она вот также его наказывала… Наверное, и тогда вряд ли бы она смогла с ним справиться и наказать как обычно – за шею наклоняла сына и лупила ремнем по заднице – если бы он вздумал сопротивляться. Но Игорь тогда почти не смел сопротивляться, разве что бегал от нее по квартире. Сейчас она вновь решила, что вполне может провести ту же экзекуцию. Но сын на этот раз воспротивился, стоял как скала, и наклонить его у Анны никак не получалось. Отчаявшись, она стала просто стегать его ремнем по рукам, но и здесь не смогла добиться желаемого результата, ибо сын поймал жалящий конец ремня и ловким рывком обезоружил мать. Анна даже не успела возмутиться такой наглостью, ибо сын тут же убежал на улицу. Испугавшись, Игорь до вечера не возвращался домой и лишь пришедший со службы отец нашел его в квартире у офицеров-холостяков. К чести Анны, она в тот день и словом не обмолвилась о случившемся. За ужином чувствовалась какая-то напряженность, которую опять-таки сняла сама Анна. Как ни в чем не бывало, она стала делать сыну обычные выговоры и награждать «дежурными» шлепками. Игорь аж просиял на радостях, видя, что мать на него не сердится.
Поразмыслив о случившемся, супруги уяснили, что в отношении сына требуются коррективы воспитательного процесса. Но даже тут Анна не позволила мужу вмешаться, сохранила свое преимущественное право на воспитание и наказания. Она стала меньше распускать руки, сделав больший упор на уговоры и упреки, несколько снизила запретительный ценз. Тем не менее, контроль по-прежнему осуществляла жесткий, так что сын постоянно чувствовал над собой не подавляющую, но твёрдую волю матери.
К дочери Анна относилась совсем по-иному. Она переживала за ее слишком замедленное физическое развитие. Как-то насмотревшись в бане на проступающие ребрами и позвоночником тело Люды, она поделилась опасениями с мужем:
– Что делать будем, 12-ть лет девчонке, а у нее нет намека на грудь, и живот совсем не проявляется, какой-то бесполый заморыш. Как такую замуж выдавать будем?
Ратников резонно возразил, что еще рано, подрастет, выправится. Однако Анна не успокоилась, мысленно переносясь в свое детство, вспоминая себя в 12-ть лет, когда она после летних каникул пришла в свой класс и, переодеваясь на урок физкультуры, вдруг обнаружила, что майка на ее груди топорщиться значительно сильнее, чем у других девочек. Когда начался урок, сей факт не остался без внимания мальчишек и самый хулиганистый на весь зал возвестил: «Гля, ребя, как у Аньки-то грудя выпирают…». Выпирало, конечно, не так уж сильно, но явно выпирало только у нее, потому и вызвало такую реакцию. Тогда она была готова сквозь землю провалиться. Но, прошло время, «выпирать» стало у многих и в конце концов у всех девочек, и это уже никого не шокировало. Анна сейчас припоминала своих самых худосочных одноклассниц: в каком возрасте они начинали обзаводиться женскими формами, и тревога за дочь несколько притуплялась. Тем не менее, обидно, что именно у нее, всегда считавшейся девчонкой фигурной, в теле, растет такая невзрачная, болезненная дочь. Анна никогда не била, и очень редко наказывала Люду. Ей казалось, что та умрет от слишком сильного к ней прикосновения. Дочь чувствовала эту жалость, сродни брезгливости и тянулась к отцу.
Дивизион строится на вечернюю поверку. Старшина опять издает гортанные звуки – любит покомандовать, покрасоваться перед строем. Да не к тому командиру попал Муканов: чем каблуками щелкать лучше бы регулярно счет дивизионному имуществу вел, да казарму ремонтировал без напоминаний.
– Вольно! – перебив старшину на середине доклада, скомандовал Ратников. – Начинайте поверку! – подполковник спешил. Ему надо многое успеть сказать, поставить задачу и в то же время вовремя уложить людей спать – времени выслушивать многословный рапорт не было.
Муканов говорил по-русски свободно. Поселяясь в Новой Бухтарме казахи, до затопления жившие на левом берегу, довольно быстро русифицировались и уже их дети русский язык знали лучше родного. Если бы не монголоидная внешность и разные религии, наверняка произошло бы почти полное смешение их с русскими, как это случилось, например, между русскими и мордвой, удмуртами, карелами… Но в данном случае именно внешность, некоторые бытовые особенности и в последнюю очередь религия (казахи никогда не являлись ревностными мусульманами) сыграли взаимоотталкивающую роль. Русские еще с дореволюционных времен считали казахов во всех отношениях ниже себя, и с ними, как правило, не «мешались». Нельзя сказать, чтобы к этой единственной на «точке» казахской семье допускали какую-нибудь дискриминацию, но они держались обособленно. И одна из главных причин той обособленности заключалась в разном понимании чистоплотности. Кто его знает, если бы какая-нибудь средняя русская семья оказалась в окружении немецких семей, в таком же замкнутом мирке, наверное, ту семью чистюли-бюргеры и бюргерши именовали бы неряхами (а кое-кто и русскими свиньями). Такое же примерно отношение к Мукановым сложилось и на «точке». Для остальных обитателей «точки», особенно женщин, квартира старшины с ее особым кислым запахом, как в кочевой юрте, казалась рассадником всякого рода заразы. После них старались не занимать очередь в баню, а уж если не получалось, то тщательно отмывали полок горячей водой. У каждого народа свои критерии чистоты, и кто тут более прав… Может быть мыть мылом мостовую, по-немецки – это уж слишком, а может и совсем не вреден тот самый плохо переносимый без привычки кислый запах войлока и курдючного сала, которым буквально пропитаны казахские юрты. Ведь до революции казахи в тех юртах и жили, и кочевали и при этом не вымерли от эпидемий. А вот когда их стали насильно в колхозы загонять, да на землю сажать… Сколько их тогда перемерло, и не считал никто. Говорят, не один миллион.
Поверку Муканов проводил быстро, на память, почти не заглядывая в список. Опоздавших в строй не было – все знали, что на поверку придет сам командир. В заключении поверки, как обычно, старшина сделал объявления: зачитал наряд на завтра, сержанты назначили уборщиков… Поверка закончилась, строй ждал, что скажет командир, хотя для многих солдат, то уже не было тайной. Ратников находился еще в пути, когда «уши» дивизиона, телефонисты, пустили вихрем распространившийся слух: скоро приедет большое начальство, новый корпусной командир.
– Товарищи! – официально начал подполковник, подчеркивая значимость сообщения. – Довожу до вашего сведения, что в ближайшее время к нам в подразделение, в целях ознакомления, приезжает новый командир корпуса полковник Агеев, который заступил на место убывшего к новому месту службы прежнего командира корпуса генерала Хоренко!
То, что Хоренко просто-напросто «ушли» с должности и отправили дослуживать начальником кафедры в академию, дабы освободить перспективное место для молодого, «растущего» не по дням, а по часам Агеева, Ратников, конечно, говорить не стал.
– Наша с вами задача, показать новому комкору, что мы здесь не зря хлеб едим, свое дело знаем и делаем! Теперь конкретно, – оборвал официальную часть своего обращения подполковник. – Завтра с подъема вместо физзарядки стартовая батарея расчищает плац и все дорожки к нему. Бланько, запоминай, завтра комбату своему передашь, – обратился он к рослому сержанту, стоящему крайнем на правом фланге. – Кроме того, стартовикам же выделить трех человек в распоряжение замполита. Клуб Физюкову поможете расчистить, и еще четверых на свинарник.
– Товарищ подполковник, трех мало будет, – писклявый голос Физюкова нарушил безмолвие строя.
– Хватит! Ты бы почаще лопатой махал, сам давно бы справился и людей бы из-за тебя по пустякам не отрывали бы! – вынес окончательный вердикт Ратников.
– Что он мой, что ли, этот клуб? – обиженно отреагировал Физюков.
– А чей же!? – Ратников повел рукой, будто обнимал весь строй. – У них у всех свои обязанности имеются. Они пусковые установки, взводные укрытия, капониры, станцию наведения ракет каждый день обслуживают и от снега очищают, в караул через день ходят, и еще завтра тебе помогать должны, бездельнику!
Строй с молчаливым одобрением внимал командиру. Работающее большинство не любит пристроившихся на теплых местах ловкачей. Подполковник намеренно не оборвал Физюкова по уставному, а «избил» словесно, объяснив, кто есть кто в дивизионе.
Ратников время от времени практиковал отдание приказаний не через офицеров, а вот так, непосредственно контактируя с солдатами. Вообще-то по субординации надо было вызвать командиров батарей (на ночь глядя) и те довели бы командирские установки до своих подчиненных, но… Ратников осознавал, что это может обернуться бессонной ночью и для солдат и для офицеров. Каждый комбат в свою очередь вызовет начальников отделений и командиров взводов, те опять соберут солдат и до полуночи будут ставить и уточнять задачу. А ночью все должны спать, кроме дежурной службы, чтобы отдохнуть насколько это возможно в прохладной казарме и завтра работать. Ведь и завтра и все последующие, до приезда комкора, дни предстояла обычная нелегкая советская штурмовщина.
18
Строй состоял из нескольких больших и меньших двухшереножных групп-подразделений. Самая многочисленная группа – стартовая батарея – больше всех пестрела национальным разнообразием. Раньше, на заре зенитно-ракетных войск в «старты» набирали, как правило, крепких, рослых и не очень грамотных ребят. Тяжелая однообразная служба-работа, отработка нормативов заряжания, то есть перегрузка тяжеленной ракеты с транспортно-заряжающей машины на пусковую, обслуживание самой пусковой, все время на улице – это требовало в первую очередь физической силы и выносливости. В последнее время критерии отбора у стартовиков выдерживались только по отношению к грамотности. Из тех, кто стоял в строю, только сержант Бланько и еще пара столь же здоровых украинцев отличались ростом и статью. Немец Фольц, уралец Зорин, аварец Магомедов, башкир Закиров – эти солдаты были среднего роста, но тоже достаточно крепко сбитые. Остальные сложением не вышли, потому что в стартовую батарею попало много представителей среднеазиатских республик, в основном поджарых, мелкорослых. А куда их еще девать? Бегать за тягачом, забивать кувалдой сошники, расчищать от снега пусковую, дело конечно тяжелое, но ведь и грамотности особой не нужно и к языку требования меньше. А среднеазиаты хуже всех говорили по-русски. Зато на левом фланге, где стояли связисты, над строем возвышалась яйцеобразная голова и необъятные плечи 194-х сантиметрового гиганта Линева. Не увильнуть бы Линеву от службы в «стартах», если бы не оконченные до призыва курсы ДОСААФ по специальности связиста.
Водители и тягачисты выделялись более грязным обмундированием, неподдающимися никакому мылу темными мазутного цвета руками со сбитыми ногтями и особым «букетом» запахов, смеси бензина, соляры, тормозной жидкости и масла АС-8. Но еще грязнее смотрелись дизелисты, рядовой Фомичев, второй и последний москвич в дивизионе, невысокий хлюпик и длинный нескладный верзила ефрейтор Матвейчук.
– Переодеться есть во что? – обратился подполковник к ефрейтору, критически оглядывая его замасленное хе-бе.
– Так точно! У меня наверху нулевое хе-бе лежит, – доложил Матвейчук.
– А почему твое обмундирование на рабочем месте, а не в каптерке? – возник естественный вопрос у подполковника.
– Там целее будет, – уклончиво ответил ефрейтор.
– Я те дам целее, чтобы сдал куда положено!
Матвейчук, потупив глаза, промолчал. Он не сомневался, что у командира просто не хватит времени проверить выполнение своего приказа, да и забудет такую мелочь, если скоро такие серьезные гости ожидаются. А в каптерке ефрейтор с некоторых пор ничего не держал, все прятал у себя на дизелях. Черная кошка пробежала меж ним и Гасымовым и дизелист имел все основания не доверять каптеру.
Бывшего студента сельхозинтитута Богдана Матвейчука, теперешнего ефрейтора и электромеханика-дизелиста в дивизионе долгое время считали «балластом». Во-первых, он имел «грех» с гражданки – его выгнали с 3-го курса, за пронос спиртного в общежитие института. Во-вторых, он представлял из себя весьма противоречивую особь: одновременно и грамотный и балбес, разболтанный неряха и в то же время высокомерный, сильный и не боящийся столкновений парень. Ко всему он действительно оказался очень неравнодушен к спиртному. В общем, порядочного разгильдяя с претензиями воспитали из своего сына научные сотрудники (отец старший, мать мнс) одного из украинских сельхозНИИ. Ближе к концу службы Богдан несколько остепенился, решил внять письменным наставлениям родителей, чтобы получив положительные характеристики в армии, восстановиться в институте.
Ратников и в Матвейчуке сумел отыскать качества годные для полезных дел. «Состарившись» Богдан стал одним из лидеров в казарме. Тому способствовало и знание им азов музыкальной грамоты (умел играть на гитаре) и увлечение тяжелым роком. Был ли он на самом деле «тяжелым» меломаном или просто «пускал пыль в глаза», оставалось тайной – никто в дивизионе в музыке особо не разбирался. Удивительно, ведь на вскидку, казалось, что большая часть советской молодежи с ума сходит от рока, всяких там хеви-металл, а на поверку выходило, что в целом страна была не так уж и сильно «рокоризована». Так или иначе, но подметив, что кроме авторитета Матвейчук обладает еще командирско-организаторскими качествами, Ратников «бросил ему соплю на погоны» (присвоил ефрейтора) и частенько назначал старшим на различные работы. Толк был, его слушались и производительность труда руководимых им групп, как правило, превышала показатели тех, что возглавляли сержанты. Этой весной Матвейчука планировали ставить на сержантскую должность, командиром отделения дизелистов. Но он в очередной раз не удержался и на Пасху «причастился» невесть каким образом добытым «тройным» одеколоном. Это не осталось незамеченным и в результате на должность поставили дисциплинированного и исполнительного казаха Омарова, выпускниека сельхозтехникума, одного с Матвейчуком призыва. На предварительной беседе страстно мечтавший получить лычки Омаров (вот и верь молве, что только хохол без лычек не хохол), обещал навести порядок в этом довольно неблагополучном отделении. Услышав многообещающие заверения, Ратников запоздало засомневался: уж очень Омаров жаждал стать хотя бы маленьким, но начальником, хотя сам в дизельных электростанциях разбирался довольно слабо. Выбора, к сожалению, не оставалось, пьяницу Матвейчука все равно «зарубил» бы политотдел, а брать на столь важную для жизнедеятельности дивизиона должность сержанта без хотя бы приблизительно профильного образования тоже было рискованно.
Опасения оправдались. Омаров и не собирался совершенствоваться в знании работы дизелей и в теории электричества в целом. Он простодушно считал, что сержант должен только указывать, а работать это удел рядовых дизелистов. Но в дивизионном отделении ДЭС у Омарова ничего не вышло. Матвейчук сам желал стать сержантом, хоть в разговорах с сослуживцами, конечно, утверждал, что лычки ему задаром не нужны. Уже через два месяца «омаровского» командования он устроил свежеиспеченному сержанту провокацию. В тот день на «точке» пропало электричество – на подстанции в Новой Бухтарме сработала защита. Дело обычное, где-то на мгновение ветром перехлестнуло провода. Матвейчук знал, что самое большее через полчаса-час дежурный электрик на подстанции опять включит рубильник. А на это время надо было запитать дивизион от своих дизельных электростанций, чтобы не подорвать боеготовность и вообще жизнедеятельность «точки». Радиостанции, холодильники, кухня, кочегарка, другие объекты – все нуждалось в бесперебойной подаче электроэнергии. Матвейчук завел дизеля, но выдавать энергию отказался, заявив, что его дело за работой энергоагрегатов следить, а включать рубильник должен командир отделения. Омаров запитал дивизионную сеть от дизеля, не отключив внешней сети. Он никогда не интересовался как это делается, на что и рассчитывал коварный ефрейтор. Офицеров рядом не оказалось, ведь все знали, что Матвейчук много раз успешно проделывал все эти манипуляции при отключении «сети». Когда с подстанции подали ток, произошло несовпадение фаз внешней сети с дизелями. Не сработай тогда «защита» на дивизионной подстанции, могла бы случиться крупная авария.
Происшествие расследовали, но «раздувать» не стали (какая ерунда, если кругом «неуставняк», вешаются, топятся, дезертируют…). Матвейчук схлопотал пять суток гауптвахты, но авторитет Омарова оказался сразу и непоправимо подорван. Тем не менее, с должности его не сняли. За незнание обслуживаемой техники снимать с должности не то, что сержанта, офицера и то не было принято. Другое дело если бы Омаров, например, напился или поколотил «молодого», тогда пожалуйста. Такие существовали неписанные законы, традиции непонятно кем заведенные. Командиры, правда, в том видели вину политработников, дескать, для них главное верность делу партии и правительства, а остальное, в том числе и техника, их не колышет. Таким образом, Омаров продолжал носить лычки, получать сержантское денежное довольствие, но фактически хозяином на дизелях оставался неуклюжий ефрейтор.
Кроме дизелистов остатки находящейся в наряде радиотехнической батареи составляли, лишь по штату в ней числящийся Григорянц, рядовой Ламников, бывший челябинский радиолюбитель и радиохулиган. Ламников оборудовал радиомакет в учебном классе и потому был временно освобожден от нарядов. Не попал в этот день в наряд и рядовой Лавриненко, оператор РЛС, выпускник Житомирского политеха.
Сразу трех выпускников этого ВУЗа, ввиду отсутствия в нем военной кафедры судьба обрекла на солдатскую службу рядовыми именно здесь. Ратников за все свои офицерские годы помнил единицы солдат, которых мог характеризовать словами: положительный во всех отношениях. Ничего удивительного, очень хороших, как и очень плохих – единицы, основную массу человечества составляют люди, в которых сочетаются, как положительные, так и отрицательные качества. К таким единицам абсолютно положительных людей относился Алексей Лавриненко. Умница, добрый, отзывчивый, скромный, в то же время активист в лучшем смысле этого слова, редчайший экземпляр комсомольского вожака со стажем, при этом совершенно не обладавшего качествами рвача и карьериста. Старше всех в казарме по возрасту, Алексей отличался спокойным уравновешенным характером и, несмотря на свое образование, не гнушался делать «черную» работу и естественно пользовался всеобщим уважением. Полгода назад он возглавил комитет комсомола дивизиона, причем наотрез отказался от заигрывания с замполитом, который надеялся, что он, как и большинство предыдущих секретарей, будет информировать его про «настроения» среди личного состава. Лавриненко в Житомире ждала жена и 2-х годовалая дочка, что опять же говорило о нем как о крепко стоящем на ногах семейном мужике.
В последние годы в дивизионе сложилась невиданная ранее ситуация. Никогда раньше не призывалось такого количества солдат с институтским образованием, или недоучившихся студентов. С другой стороны, все больше солдат представляли южные республики, и те призывники, напротив, отличались, за редким исключением, слабой общей и особенно технической грамотностью, не исключая и тех, кто заканчивал тамошние республиканские институты и техникумы. Ратников старался не допустить возможных на этой почве трений, пресекал слова-оскорбления типа «чурка нерусская» и т. п. Но проблемы, тем не менее, все множились. Положение усугубляла и позиция отдельных офицеров, экстремизм одних и полное равнодушие, или пофигизм других.
Ратникова, конечно, нельзя было отнести к тем немногим носителям «активной жизненной позиции» для которых «все вокруг наше». Понятие «мое» он никогда ни с чем не путал, но вместе с «его» домом, «его» семьей, был еще и «его» дивизион. Потому он искренне возмущался леностью и равнодушием отдельных офицеров. Так же не понимал, например, какой-нибудь директор завода, почему его рабочим и даже отдельным инженерам плевать на план и соцсоревнование, председатель, что колхозникам до фени урожайность на колхозных полях, ну а руководство страны также не понимало, почему не хочет добросовестно вкалывать народ, чтобы сделать страну еще более могучей.
19
Ратников закончил распределять людей на завтрашние работы и скомандовал: – Отбой!
Часы показывали около одиннадцати. Подполковник зашел в канцелярию, рука привычно легла на батарею. «Горячо, градусов 60-т на выходе, не меньше. Значит, Рябинин уже озадачил кочегаров», – подумал он удовлетворенно. Дежурный, словно ожидая похвалы, стоял тут же в дверях канцелярии.
– Вот что Миша, ты бойцов подгоняй, особенно «молодых», они же все медленно делают. Чтобы до одиннадцати всех уложил, пусть выспятся, завтра нелегкий день. Да и вся неделя предстоит такая же, – Ратников озабоченно вздохнул.
Он сам надеялся «урвать» хотя бы шесть часов сна. В последнее время, где-то года полтора-два, он стал замечать за собой, что если спит ночью меньше шести часов, потом весь день ощущает ноющую затылочную боль.
– Товарищ подполковник, тут с вами еще Фомичев поговорить хочет, но боится подойти, – Рябинин кивнул головой в сторону спального помещения.
– А ты чего это вдруг за него хлопочешь? – недовольно спросил Ратников.
– Земляк все-таки, – непроизвольно нахмурившись, пояснил Михаил.
– Ну, и земляк у тебя…
До армии Фомичев, закончившей ПТУ, работал электриком в одном из московских СМУ. По призыву, как и большинство москвичей, он попал в «учебку», но сержантского звания ему там не присвоили, сообразив, что сержантом он будет никудышным. В дивизионе выяснилось, что и солдат он никакой. Казалось, природа-мать не наградила его ни одним, даже самым пустяковым талантом: он все делал плохо, везде не успевал, служил мишенью для насмешек. Отсюда и его стремление всего избегать: работы, зарядки, занятий по физподготовке, политподготовке и любых других – он нигде не блистал. И все же один талант у него имелся, талант довольно редкий и в его положении просто необходимый. Он не испытывал от своей никчемности никакого внутреннего дискомфорта, никакого чувства стыда и на все недоброжелательные высказывания в свой адрес, тихо про себя «плевал». Вот бы такой «талант» какому-нибудь неуверенному в себе гению – горы свернет.
– Что ему нужно, земляку твоему? – Ратникову не хотелось больше задерживаться, и он не прочь был избежать этого разговора.
– Письмо ему какое-то из дома пришло, вот он и хочет к вам подойти, и попросил меня посодействовать.
– А зачем просил-то, сам что ли подойти не может в нормальное время, а не на ночь глядя? – подполковник спрашивал уже с долей раздражения. – Ты-то знаешь, в чем там дело?
– В общих чертах, да.
– Ну, так в чем?
– Пусть сам скажет, это его семейное, – Рябинин явно не собирался становиться чем-то вроде душеприказчика Фомичева.
Ратников не просто не любил хлюпиков, он их опасался больше чем отъявленных нарушителей дисциплины. Хлюпик – это ходячее ЧП, источник постоянной опасности. Такие чаще других оказываются биты, хуже работают, служат, а если ко всему и нервы не в порядке, имеют обыкновение вскрывать себе вены, вешаться, заниматься членовредительством, убегать из части… Хлюпики в армии, как никто другой, приносят массу хлопот и неприятностей. Причем страдают от них не только командиры, но, в не меньшей степени и сослуживцы, которые берут на себя часть их обязанностей, которых посылают вместо них на самые тяжелые, а в боевой обстановке и опасные задания. Количество «слабаков» в последние годы тоже резко возросло. Если лет десять назад таких в дивизионе набиралось от силы два-три человека, то сейчас Ратников к этой категории относил аж шесть человек и приглядывался еще к двум «кандидатам». Он постоянно, по мере сил держал их в поле зрения и того же требовал от их непосредственных начальников. Пока что успех такого «слежения» был налицо – ратниковские хлюпики в основном избегали побоев и вроде бы не собирались пока прощаться с жизнью или бежать до дому. Этим они выгодно отличались от своих «коллег» с других «точек», регулярно «дававших на гора» подобные ЧП.
– Ладно, позови его.
Ратников нехотя снова опустился на свой стул. Фомичев (невысокий, тщедушный, грязный) буквально скользнул в дверь тихим мышонком.
– Что там у тебя стряслось? – подполковник смотрел неприязненно-вопросительно.
– Я… товарищ подполковник, письмо от матери получил.
– Ну, и? – У Ратникова возникло подозрение, что разговор пойдет о здоровье матери Фомичева.
– Понимаете… – Фомичев замолчал, будто чего-то застеснялся, хотя это чувство ему тоже было вряд ли ведомо.
– Ну, не тяни резину, и тебе и мне спать уже пора, – подогнал Ратников.
Покраснев, как от натуги Фомичев, наконец, продолжил:
– Она пишет, что брат связался с лимитчицей и собирается на ней жениться.
Зрачки Ратникова удивленно расширились, но он как можно спокойнее спросил:
– Брату сколько лет?
– В январе восемнадцать, весной в армию.
– Не пойму я что-то, при чем здесь я, да и ты за брата решать не станешь, как и с кем ему жить, – пожал плечами подполковник.
– Тут вот в чем дело… – Фомичев еще более побагровел. – В общем, мать опасается, что она жениться, то есть замуж выйдет, а он в армию. Тут она развод устроит, лимитчица эта, «жировку» сделает, отсудит комнату, а мы в одной останемся. Они, эти лимитчицы, часто так делают, чтобы в Москве быстрее прописаться. Брат мать не слушает, уже заявление подавать собираются, как ему восемнадцать стукнет, ей то уже 19-ть… – Фомичев говорил быстро, проглатывая окончания, явно опасаясь, что командир его не дослушает. – Мне бы в отпуск, я б его образумил. Мне ведь тоже из-за него в одной комнате с матерью жить неохота.
Неприятный осадок появился у Ратникова от поведанной Фомичевым истории, далекой от его понимания. Потому он решил «проконсультироваться»:
– Ну-ка, позови дежурного.
Фомичев через минуту вернулся с Рябининым. Даже в своей мешковатой шинели, рослый, стройный лейтенант смотрелся орлом рядом с невзрачным земляком.
– Слушай Михаил, я в ваших московских делах не очень разбираюсь, объясни мне, чего он хочет. Действительно, это такое горе, если его брат женится на лимитчице?
– Не знаю, – на лице у лейтенанта появилось брезгливое выражение, – в таких делах только пенсионеры хорошо разбираются.
– Как же, товарищ лейтенант, вы разве не знаете? Так часто бывает, запудрит деревенская девка парню мозги, въедет в квартиру, пропишется, а потом разведется и комнату отсудит. И свободна и прописка московская в кармане, – Фомичев был искренне удивлен, что офицеры не могут понять таких само собой разумеющихся, по его понятию, вещей.
– Ты бы, чем об этом думать, лучше бы спортом занялся, глядишь, не был бы таким… – Рябинин не стал уточнять, только выразительно отмахнул рукой. – Товарищ подполковник, дело это яйца выеденного не стоит, они там сами во всем разберутся.
Фомичев явно не ожидал подобной реакции «земляка», он очень рассчитывал на его понимание и помощь, но не терял надежды разжалобить командира:
– Товарищ подполковник, мы только три года назад как отдельную квартиру получили, мать всю жизнь в коммуналке промучилась.
– Ты матерью не прикрывайся, о себе печешься, так и скажи. А может любовь у брата твоего и не надо им твоей комнаты, – перебил Рябинин.
– Товарищ подполковник, – уже молящее просил Фомичев, – отпустите пожалуйста!
Ратников тяжело с отдувом вздохнул и подумал: «Надо же, романтичный оказался этот Рябинин, а вот Фомичеву, хоть он и моложе, этой романтики, пожалуй, с рождения не дано». Он не сочувствовал Фомичеву, ему было жаль его мать. Он представил ее себе, характерный типичный пример матери-одиночки, попавшей смолоду в столицу, которая «слезам не верит». Пожилая, малограмотная выбившаяся из сил, поднимая на ноги двух сыновей, существовавшая на одну небольшую, тяжело дававшуюся зарплату, всю жизнь мечтавшая об отдельной квартире, всего привыкшая бояться. И теперь, напуганная слухами, она вновь боится потерять с таким трудом заработанное, относительно благоустроенное жилье. Но помочь он ей ничем не мог.
– Видишь ли, Фомичев, пойми меня правильно, отпуск по семейным обстоятельствам предоставляется по веским основаниям, например, смерть или болезнь близких, при наличии соответствующей телеграммы, заверенной военкомом. Так что, извини, не положено.
– Можно ведь и без телеграммы, мне очень надо, – канючил Фомичев.
– Отпуск предоставляется за успехи в боевой и политической подготовке. А у тебя какие успехи? Служил бы ты нормально, а так, что другие скажут? – продолжал разъяснять свою позицию Ратников.
– Я так и думал, что откажите, – обреченно проговорил Фомичев.
– Ну, сам посуди, на каком основании я тебя отпущу, на основании твоей блажи? Я бы тебе тоже посоветовал мужиком быть, спуску всяким Матвейчукам не давать, от работы не бегать. Будешь хорошо служить поедешь в отпуск, у тебя еще целый год службы впереди, – терпеливо убеждал подполковник.
– Как тут служить, если я один, а нас, москвичей, не любят, – нервно огрызнулся Фомичев.
– За что ж тебя любить, если ты всякий раз сачконуть норовишь. Посмотри, как другие работают.
– Просто за меня заступиться некому. Вон грузины, тоже на работе не переламываются, а их никто не трогает, не парафинит, – неожиданно хлюпик обнаружил наблюдательность.
– Что ты мелешь? У нас в дивизионе грузин один Церегидзе! – резко повысил голос подполковник.
– Да мне без разницы, все они черные одинаковые, но как другие не вкалывают, и все на хороших местах.
Камень был в командирский огород: отчаявшись вымолить отпуск, хлюпик обнаглел.
– Что ты тут болтаешь, это Григорянц, что ли не работает? Да он один за целую бригаду пашет. Ладно, шагай отсюда, пока… – неуставная совсем недвусмысленная команда давала понять, об окончании «аудиенции».
Фомичев, съежившийся под негодующим взглядом командира, качнулся, словно его ударили, неловко повернулся и быстро засеменил к двери.
– Вот ублюдок мелкий, туда же, критикует! – вырвалось у Ратникова.
– Я ведь за него сначала заступаться пытался, а теперь вижу, не стоит он того. Эту породу я хорошо знаю. Таких доходяг шпана всегда для затравки вперед посылает, драки затевать. А здесь он один и нутро гнилое сразу проявилось, – Михаил презрительно покосился на закрывшуюся за Фомичевым дверь.
В канцелярии воцарилось молчание, вскоре прерванное Ратниковым:
– Давно у меня в дивизионе москвичей не было и я, грешным делом, считал, что там у вас молодежь сплошь какие-нибудь рокеры, панки, металлисты и прочая сдвинутая шелупонь. Вон Игорь мой, год там пробыл и чего только не понабрался. А тут сразу два москвича и ни один, ни то, ни другое, ни третье. А может и ты, когда помоложе был, в студенческой среде неформалил? – с усмешкой спросил Ратников.
– Никогда к ним не тянуло. Хотя знаете, большинство из этих неформалов вполне безобидны, – охотно втянулся в разговор Михаил.
– Чего ж тогда везде им кости перемывают кому не лень, и в газетах и по телевизору? Да ты садись Миша, – подполковник указал на стул за столом замполита. – Когда я молодой был, помню, тогда вот также стиляг позором клеймили.
– Да, не знаю, наверное, это как-то непривычно для большинства, что они делают, как одеваются, да и для милиции есть отдушина, работу изображать.
– Что ты имеешь в виду? – не понял Рябинина подполковник.
– Ну, сами посудите, разогнать группу тусующихся парней и девчонок куда как безопаснее, чем на шпану, или настоящих бандитов ходить, – с плохо скрываемой злостью пояснил Михаил. – И вообще, значение всех эти неформальных сообществ сильно преувеличено, раздуто газетчиками. Они на броском материале имя себе делают. Конечно, в Москве всякого навалом. Но вы вот часто там бываете?
– Проездом каждый год.
– Ну, и видели этих самых неформалов?
– Да, как-то, знаешь, не пришлось. Я, правда, особо не присматривался.
– К ним и присматриваться не надо, их сразу видно. Просто их не так уж много, Основная часть молодежи у нас вполне обычная, нормальная, не сдвинутая. Работают, учатся, с такими же нормальными девушками ходят, женятся, семьи заводят. К тому же большинство такие же как я, дети простых работяг и не имеют ни свободного времени, ни лишних денег, чтобы болтаться по ночам на мотоциклах, обряжаться во всякие побрякушки, прически себе сооружать в виде гребня, знаете, «ирокез» называется, или рожи размалевывать…
Рябинин говорил уверенно, даже увлеченно, приводя в виде положительного примера, конечно, прежде всего, самого себя, и своих друзей, знакомых, не сомневаясь, что таких как он и подобных ему даже в Москве абсолютное большинство.
– А вы знаете, – продолжал Михаил, – что есть не только неформалы, о которых вы здесь упоминали, но и те, о которых ни одна газета не пишет. Это так называемые антинеформалы, они борются и с панками, и с рокерами, и с металлистами, и с кришнаитами.
– Нет, первый раз слышу, – с интересом внимал Рябинину подполковник. – А почему же тогда о них молчат?
– Да потому что они у власти в фаворе. Это всякие там «ленинцы», «отечество», и мордовороты накачанные, что из Подмосковья наезжают. Вот они с неформалами борются, – по выражению лица Михаила чувствовалось, что и к этим «борцам» он относится безо всякого пиетета.
– Как борются? – спросил было Ратников. – Хотя, конечно, насчет подмосковных я в курсе. Мне сын говорил. Он сам в их компанию едва не угодил. Но ведь это обыкновенное хулиганье, они ездят в Москву просто подраться.
– Во-во, и «ленинцы», и «отечество» то же самое. Они борются не лозунгами и личным примером, а кулаками и дубинами. Про них не пишут, потому что в ЦК комсомола не велят. А про нормальных ребят и девчонок газетчикам писать не интересно, обыденная тема, скука. Куда престижнее про выпендрюжников писать, опять же только про тех, про кого разрешают.
– Ну и ну, чудеса да и только. Ладно, черт с ними, – Ратников махнул рукой, давая понять, что все это интересно, но так далеко отсюда, – давай-ка лучше о наших делах поговорим. Как ты думаешь, ведь кое что этот доходяга Фомичев верно подметил. Очень уж не пыльно у нас многие кавказцы здесь устроились, а?
– Просто они дружные, и за себя постоять могут, но конечно и хитрят, пристраиваются. А дружность их основана на том, что в их характере много сходных черт, таких которые у других не наблюдаются. В основе у них какая-то особая гордость, они хоть в открытую не говорят, но почти каждый из них не кавказцев ниже себя считает.
– Ты что этим хочешь сказать? – вновь насторожился Ратников.
– Ну, например, заставить кого либо из них чистить сортир почти невозможно, даже молодые считают этим заниматься ниже своего достоинства. Гордые они уж очень.
– Гордые говоришь. А сортиры за них, значит, другие, не гордые чистить должны? – задумчиво спросил Ратников.
– Так обычно и получается, сержанты чаще на вонючие работы посылают других, – подтвердил Рябинин.
«Вот ведь как, он считанные месяцы в дивизионе, а заметил, а я как слепой, не видел ведь. Правду говорят со стороны, свежим взглядом виднее», – напряженно и озабоченно размышлял Ратников.
– И вообще сержанты даже «молодых» кавказцев стараются особо не напрягать, побаиваются. Их старослужащие всегда за своих «молодых» вступятся, не как другие. – Увидев, что лицо командира стало более чем пасмурным, Рябинин поспешил добавить. – Это, конечно, мое личное наблюдение, я ведь впервые с таким многонациональным коллективом сталкиваюсь, могу что-то и не так понять. К тому же и в кавказской среде есть исключения. Тот же Григорянц, он вообще только по фамилии армянин, а так во всем остальном совершенно русский, или Церегидзе, то же нормальный парень, без их болезненной гордости. А вот Гасымов, каптер, мне кажется, очень дурно влияет на своих земляков, – Рябинин покраснел, не без основания опасаясь, что сейчас командир напомнит ему о том инциденте с каптером, произошедшем в ленкомнате, где Михаил повел себя не лучшим образом.
Но Ратников думал совсем о другом:
– А разве в своем институте ты с ними не сталкивался?
– Да было… учились у нас по разнарядкам с союзных республик, но их как-то немного было. В гуманитарных ВУЗах Москвы таких гораздо больше. Но с теми, кто у нас вроде все нормально было. Я вообще думал, что в Союзе везде так дружба и взаимопонимание. А теперь вот посмотрел на нашу казарму и сам себе вопрос задаю: а если бы у нас в институте их было не единицы, а много, были бы у нас и тогда такие же хорошие взаимоотношения? – признался Михаил.
– Что ты, – вдруг подхватил Ратников, – я вот сорок лет живу, из них двадцать три служу, а с этой проблемой только вот сейчас по-настоящему столкнулся. Раньше-то как было, в режимные части только русских да украинцев с белорусами призывали, ну еще мордву, там чувашей, удмуртов, татар. С ними со всеми никогда в этом плане никаких хлопот, все по-русски говорят, все работают одинаково, едят одно и то же, да и мыслят примерно одинаково. Южных-то, как у вас в институте, совсем мало было. А сейчас вон их сколько, и подход к ним совсем другой нужен. Вроде почти 70 лет Советская Власть стоит, а уж очень они отличаются и кавказцы и азиаты, будто в разных государствах жили и в школе по другим программам обучались. В Москве-то, поди, о таких проблемах, наверное, и не слышали.
– Да как вам сказать, там тоже с южными напряженка случается, особенно на рынках…
Разговор прервал взгляд брошенный подполковником на часы, они показывали половину двенадцатого:
– Ох черт, сколько времени-то набежало. Ладно, на сегодня хватит. Давай Миша, уталкивай тех, кто еще не лег, а я, пожалуй, пойду. Чертов Фомичев, добрые полчаса сна отнял со своей жировкой…
20
Когда Ратников покидал казарму, вьюжный вечер уже трансформировался в спокойную погожую ночь. Ветер стих, будто его и не было. Над черным стержнем трубы кочегарки дым поднимался сначала строго вверх, и лишь затем, значительно выше начинал стелиться к югу. Почти все небо в звездах, и только уходящие на горизонте за окрестные горы тучи напоминали о недавней непогоде. «Хорошо, намести много не успело, если завтра с подъема начнем к обеду очистимся. Только бы снова пурга не навалилась», – подумал подполковник собираясь за забором, отделявшим ДОСы от казармы, свернуть к своему дому. Но задержался, обратив внимание на освещенные окна квартиры, где жили холостяки. «Чего это они там не спят, а может опять втихаря смылись?» – невольно Ратников припомнил, как однажды, вот так же, оставив не выключенным свет, офицеры-холостяки, старший лейтенант Гусятников, и тогда еще лейтенант Малышев, без разрешения ушли в поселок, где организовывалось какое-то вечерне-ночное празднество в заводском доме культуры. Тот самовольный уход обнаружился из-за их забывчивости: на свет заглянул замполит, поднявшийся среди ночи для проверки караульной службы…
Вообще-то вопросы быта и свободного времени холостых офицеров и должен «курировать» замполит, но Пырков на этом участке своей работы особой активности не проявлял. Потому Ратников время от времени был вынужден посещать холостяцкую квартиру и делать ее обитателям соответствующие внушения. Основаниями для этого обычно становились, слишком громкая музыка, царящий в квартире беспорядок и прочие особенности жизни не связанных семейными узами молодых людей. В последний раз Ратников посещал обитель холостяков пару недель назад при несколько загадочных обстоятельствах. В тот вечер тоже было ясно и тихо, и тоже в казарме дежурил Рябинин. Вот только снега выпало значительно меньше. Тогда внимание идущего из казармы домой подполковника привлекли не освещенные окна, потому как было еще не столь поздно, и свет горел во всех квартирах. Его привлек, хорошо слышимый в сухом, слегка морозном воздухе скрип с силой отворяемой двери холостяцкой квартиры. Из нее не то вылетел, не то выбежал, но явно не совсем по своей воле невысокий человек в зимней зеленой офицерской куртке, спешно нахлобучивая на голову шапку. Ратников узнал недавно назначенного на должность молодого командира радиотехнической батареи старшего лейтенанта Харченко. Так же полубегом, не замечая слившегося своей шинелью с серым забором Ратникова, Харченко добежал до своей квартиры и скрылся за дверью. «Что там стряслось, неужто на троих сообразили и повздорили?» – подумал подполковник, хоть это было и маловероятно – в отличие от большинства холостяков с других «точек» Малышев и Гусятников спиртным не увлекались. «Уж лучше бы пили», – иногда в сердцах думал о них Ратников. Он имел многолетний опыт сосуществования и борьбы с офицерами-пьяницами, а эти двое оказались какого-то нового, неведомого ему склада. Ратников не терпел никакой таинственности во вверенном ему подразделении и в тот день он решительно зашагал в сторону холостяцкой квартиры.
Вокруг крыльца снег, в отличие от квартир семейных офицеров, не был убран, и к двери вела протоптанная в снегу тропка. И это бы еще полбеды, снег этот был испещрен желтыми пятнами – холостяки в темное время ленились бегать до уличного туалета и по малой нужде оправлялись прямо с крыльца. «Надо заставить обязательно убрать это безобразие», – как обычно в таких случаях родилась у подполковника «дежурная» мысль, когда он открывал дверь. На веранде, заваленной всяким хламом, он постучал во внутреннюю дверь.
– Ну, что еще не ясно!?
Сопровождаемая этим возгласом дверь распахнулась, едва не ударив, успевшего сделать шаг назад подполковника. В дверном проеме – возбужденное курносое лицо, сверкающие неприязнью глаза – стоял нервно подавшийся вперед парень в темно-синем спортивном костюме. Закатанные рукава открывали широкие запястья, увенчанные столь же внушительными кистями рук. Увидев командира, Малышев смутился, его метавшие искры глаза сразу «потухли», лишь в глубине зрачков продолжали тлеть какие-то мелкие угольки, как остатки залитого водой костра.
– Это вы, товарищ подполковник?!.. Извините.
– Что тут у вас за шум, на ночь глядя? Комбат, что ли от вас выскочил как наскипидаренный? В дом-то пригласишь?
– Да, конечно, пожалуйста, – Малышев посторонился, освобождая путь в квартиру.
Подполковник проследовал через затоптанную грязными следами от сапог и валенок кухню, где на столе бесформенной грудой теснилась немытая посуда. Сток от умывальника как всегда у холостяков зимой замерз, и под раковиной стояло почти полное помойное ведро. В комнате было довольно тепло, но самодельный обогреватель-«козел» слишком «сушил» воздух. На неряшливо заправленной койке полулежал, упираясь спиной в кроватную спинку, второй холостяк старший лейтенант Гусятников тоже в спортивном костюме и не первой свежести носках. Он даже не двинулся с места, хотя, вне всякого сомнения, различал командира через полуприкрытые веки. В хорошо знакомом Ратникову холостяцком бардаке показалось что-то не как обычно. Ратников присмотрелся. Явно стояла не на месте кровать Малышева и на полу разбросано множество обиходных вещей, место которых на столе или в тумбочках. Только образцово заправленная темно-синим солдатским одеялом койка дежурившего Рябинина выглядела островком порядка в окружающем хаосе. На столе стоял телевизор, развернутый экраном к окну, со снятой задней крышкой, ощетинившись всеми своими радиотехническими внутренностями. Ему бедолаге не давал покоя заядлый радиолюбитель Гусятников, все пытавшийся путем расчета и подбора радиодеталей поднять коэффициент усиления видиотракта, этого измученного временем и многочисленными «эксплуататорами» аппарата. Рядом с распотрошенным телевизором паяльник, канифоль, олово, кучка резисторов, конденсаторов, индуктивностей… тут же газеты, журналы и довольно толстая книга. Ратников не удержался от любопытства взял книгу. «Достоевский, полное собрание сочинений», – прочитал подполковник, не замечая, что оставшийся за его спиной Малышев напрягся и как бы подался вперед в сдерживаемом желании забрать книгу. Ратников открыл первую страницу: «Бесы, роман в трех частях». Этого романа Достоевского он не знал и видел впервые, хоть дома Анна и собрала уже значительную библиотеку. Более того, он никогда ничего о нем не слышал, несмотря на то, что Достоевского стал почитать после того, как года три назад заставил себя перечитать «Преступление и наказание». Тогда он с удивлением обнаружил, что этот казавшийся в школьные годы скучный и нудный роман сейчас таковым ему уже не кажется, читался легко и с интересом. Он даже мысленно согласился с тем, что было написано в аннотации: роман «Преступление и наказание» – одно из величайших творений человеческого гения. Сейчас же Ратников изумился, что холостяки тоже читают Достоевского, но, не показав виду, положил книгу на место и продолжил осмотр комнаты.
Обернувшись к входной двери, он убедился, что «Купальщица» Ренуара, цветная репродукция из журнала «Огонек», прикреплена на своем обычном месте, над дверью. По этой причине случайные гости замечали ее только когда оборачивались, собираясь уходить. За «Купальщицу» холостяки долго «воевали» с политработниками, до тех пор, пока на место прежнего начальника политотдела полка, действовавшего по старым комиссарским законам: «не дозволять никакой порнографии», не пришел новый, относительно молодой выпускник ВПА им Ленина. Он неожиданно «Купальщицу» как раз одобрил, дескать, какая же это порнография, это произведение искусства. Не знал этот «новатор», что если, к примеру, открыть дверцу платяного шкафа, то на обратной стороне можно обнаружить множество фотографий вырезанных, как из зарубежных журналов, так и отечественного кустарного производства, которые к разряду высокого искусства вряд ли можно отнести. Ратников никогда не лазил по шкафам в чужих квартирах, но замполит как-то довел до него, что у холостяков там наклеена настоящая порнография. Пырков хоть и закончил высшее военно-политическое училище, тем не менее, не имел четкого представления об истинном значении этого слова. Когда Ратников, отреагировав на «тревожный сигнал», посетил холостяков, и, просто без крика, попросил показать ему «секретную» дверцу, то ничего, как ему показалось порнографического там не обнаружил. На тех снимках женщины были без мужчин, правда почти без одежды, но никакой грязи и безобразных поз. Как потом Ратников рассказал об этом жене: «Никто в раскоряку, на манер легально демонстрируемых по телевизору танцев на льду в исполнении фигуристов Бестмьяновой и Букина, там не стоял.»
Тем не менее, претензии к моральному облику холостяков высказал и женсовет «точки». Многие «офицерши» были недовольны тем, что их мужья по вечерам после службы частенько идут не домой, а задерживаются у холостяков, чтобы «раздавить» там припасенный заранее «пузырь». Холостяки сами почти не пили, но, что называется, помещение предоставляли «страждущим». Женщин возмущал даже не столько сам факт пьянки, а то, что их благоверные одновременно глазеют на те самые фотографии и репродукции. Председатель женсовета, жена командира стартовой батареи капитана Сивкова не раз пыталась посетить «логово разврата», но ей холостяки вежливо, но твердо давали «от ворот поворот». В конце концов она обратилась к Анне и призвала ее во главе делегации женщин провести соответствующую ревизию. Анна сначала отнекивалась, но и в ней, в конце концов возобладала естественная женская слабость – любопытство. Жене командира холостяки отказать не посмели, только попросили полчаса на наведение мало-мальского порядка. За это время они поснимали наиболее «откровенные» снимки. Так что потом, когда Ратников поинтересовался у Анны результатами их «рейда», жена лишь пожала плечами – она ожидала куда большего. На вопрос мужа:
– Как и эта голая девка, что у них над дверью висит, тебя не смутила?
Анна загадочно улыбнулась и ответила:
– Кого как, некоторых даже очень. Колодина как змея шипела, что все это сорвать надо. Она видимо думала, что это я срывать должна, или тебя заставить. Дура орастая. А тебе не кажется, что эта самая купальщица очень даже красивая?
– Но все-таки… она же голая, – не совсем уверенно возразил Ратников.
– Нет, ты ответь, как ты ее находишь, ведь не один раз видел, наверное? – не то с усмешкой, не то с упреком спрашивала Анна.
– Ну, не знаю, – смутился Ратников, боясь не угадать нужного ответа и разозлить жену.
– Как выдрессировала я тебя, товарищ подполковник, – засмеялась Анна. – Не бойся, не буду я тебя ревновать к картине. Она тебе никого не напоминает?
И тут только до Ратникова дошло:
– Ба, вот я дурак-то, думаю, что ты меня пытаешь, а ты вот о чем… Действительно на тебя очень похожа… лет десять назад. Твою голову к той девке приставить, и почти одна к одной.
– Десять лет, говоришь? А сейчас, что совсем, значит, старая развалина стала? – уже нарочито строго, но со смешливыми глазами спрашивала Анна.
– Ну что ты, нет… только уже другая стала, больше на тех, что Рубенс рисовал похожа, – нашел как «извернуться» Ратников.
«Ревизия» женсовета не дала результатов. Анна не поддержала криков «порвать похабщину», да и председательница Сивкова, после осмотра оказалась настроена не столь решительно, видимо от того, что особого безобразия и сама не увидела, а скорее всего от привычки делать то, что хочет командирша. А Анна «добро» на бабью травлю холостяков не дала. Вообще приходящие в дивизион молодые офицеры становились за редким исключением все более «раскованные». Разве мог Ратников в свои лейтенантские годы позволить себе такое, или его ровесники кто холостяковал на «точках». Тогда многие молодые лейтенанты выпускали «пар» через ставшие со временем легендарными пьяные кутежи, что считалось почти нормальным явлением и не особо возбранялось начальством, если не влекло за собой негативных последствий. А что еще оставалось? «Порнография», даже в виде репродукций с произведений искусства преследовалось строже, не говоря уж о каком либо инакомыслии, даже самом безобидном.
– Что тут у вас творится, почему такой бедлам? – спокойно задал вопрос Ратников.
– Да так… поговорили, – неопределенно ответил Малышев.
Гусятников, не меняя позы, безмолвно то ли спал, то ли обозревал потолок.
– Вы бы хоть раз в неделю убирались, что ли? – Ратников осуждающе покачал головой.
Холостяки были молоды, но не так, что бы очень. Владимиру Гусятникову шел 26-й год, Николаю Малышеву на два года меньше. Впрочем, в этой квартире не было деления по старшинству. Даже «студент» Рябинин довольно легко вошел в доверие к холостякам-старожилам.
– Зачем к вам комбат приходил? – продолжал допытываться Ратников.
– Хотел, чтобы мы с ним вместе завтра в казарму на подъем пошли, – по-прежнему отвечал один Малышев.
– Зачем, сам что ли не справиться? – не понял Ратников.
Ответа не последовало, повисло неловкое молчание. Ратников мысленно «махнул рукой» – все равно от них ничего не добьешься – повернулся, собираясь уходить.
– Товарищ подполковник! Разрешите обратиться! – строго по уставу, но, тем не менее, лежа на кровати, открыв полностью глаза, громко и внятно произнес Гусятников.
– Валяй, – как бы подчеркнул несерьезность обращения к старшему начальнику из такого положения Ратников.
Но старший лейтенант не обратил внимания на иронию.
– По каким критериям определяется выдвижение офицеров на вышестоящие должности? – с места в карьер начал Владимир и резко вскинувшись, сел на кровати…
21
Владимир Гусятников происходил из рядовой рабочей семьи города Дзержинска Горьковской области. В школе успевал в основном между «три» и «четыре», хотя учителя физики и математики упорно пытались внушить его матери, швеи из ателье, что он очень способный и потому его нужно заставить регулярно заниматься. Но, ни мать, ни отец, рабочий одного из многочисленных предприятий города химиков, не вняли этим советам. Впрочем, строго судить их за это вряд ли можно. Оба уставали, особенно отец на своем вредном для здоровья производстве, жили тесно, к тому же в семье имелся еще один ребенок, младший брат Володи, страдающий врожденным пороком сердца. В общем, аттестат Володя получил неважный, что и позволило военкоматовским работникам уговорить его поступить в военное училище. А учиться он очень хотел, сам чувствовал, что в школе «работал» на заниженной мощности. Он, конечно, мечтал не о военном училище, а о престижном институте, но отлично понимал, что имея троечный аттестат, в хороший гражданский ВУЗ можно поступить только имея блат, или возможность нанять хороших репетиторов. Ни того, ни другого у парня из глубинки не было, и он стал курсантом Горьковского Высшего зенитно-ракетного училища. Именно в училище у него, наконец, «прорезались» его способности к точным наукам. На 3-м курсе Владимир пришел к выводу, что ошибся в выборе профессии: ему стало тесно в рамках училищной программы, он тяготел к более фундаментальным знаниям. За полтора года остававшиеся до получения офицерских погон, Гусятников сделал несколько попыток уйти из училища: писал рапорта по команде, заваливал экзамены, грубил командирам, и, что вообще невиданно для военных учебных заведений – пропускал лекции и самоподготовки.
Не помогло. На рубеже 70-х и 80-х годов, когда учился Владимир, престиж офицерской профессии упал настолько, что в военные училища шло совсем немного по-настоящему «башковитых» молодых людей. Гусятников был один из тех случайно туда попавших немногих и его не отпустили. Не всем же глотки в командирском порыве драть, или в парадной шеренге ноги красиво задирать, кому-то и технику обслуживать надо, понимать как она работает, уметь ремонтировать. Единственным «достижением» Владимира стали несколько четверок и пара троек в дипломе. И, естественно, вместо «красной корки», в его руках оказалась обычная, синяя, не дающая права выбора военного округа для дальнейшего прохождения службы. На распределении ему все припомнили, за все отыгрались, заслали вот сюда, в дыру, на «точку».
В дивизионе, наученный горьким опытом, Гусятников уже не делал попыток уйти из армии. Напротив, он с первых дней по уши залез в технику и быстро преуспел, через два года его повысили в должности, он стал начальником отделения, и до майорской должности комбата, которая фактически гарантировала ему поступление в инженерную академию, казалось, оставался всего один шаг. Этим летом возможность сделать этот шаг, вроде бы замаячила. Прежний комбат, майор Кравчук, однокашник Ратникова по училищу, по состоянию здоровья детей перевелся на новое место службы. Гусятников не без основания рассчитывал занять освободившееся место, ведь именно он являлся заместителем Кравчука и кроме того одним из лучших в полку инженеров-технарей. Но «на верху» решили иначе. С Ратниковым для вида посоветовались, спросили, кого он видит новым комбатом. Подполковник ответил предельно откровенно, он охарактеризовал Гусятникова как отличного инженера, но не умеющего ладить с личным составом, уж очень замкнут, раздражителен, с подчиненными высокомерен. Солдаты платят ему той же монетой, хоть и считают меж собой «богом техники». Ратников посоветовал использовать Гусятникова где-нибудь на чисто инженерной должности, например, в службе ракетно-артиллерийского вооружения полка или корпуса. Впрочем, то что те должности заняты так прочно, что туда старшему лейтенанту с «точки» без посторонней помощи не попасть, он тоже понимал. Тем не менее, ставить Владимира командиром батареи Ратников не рекомендовал. Он конкретно никого не предлагал, но дал понять, что в его дивизионе на эту должность ставить некого. Он надеялся, что комбат придет со стороны, тем более на других «точках» полка имелись капитаны, которым уже давно пришла пора выдвигаться. Однако случилось то, чего никто не то что не ожидал, но не мог предсказать даже при наличии очень сильной фантазии. Комбатом ни с того, ни с сего назначили Петра Харченко, старшего лейтенанта, начальника расчета, бывшего подчиненного Гусятникова, правда, по возрасту годом его старше.
На своей прежней должности Харченко ничем выдающимся не отметился, и технику он знал средне, и с личным составом хоть и не конфликтовал, но и особой требовательности не выказывал. В общем, на должность комбата он вроде бы претендовать никак не мог, тем более что занимал всего лишь старлейскую должность, то есть даже не был начальником отделения. У Петра имелся еще один изъян, так сказать, не служебного плана. Он до недавнего времени испытывал что-то вроде комплекса неполноценности: ему никак не удавалось познакомиться с нормальной девушкой. Для стремившегося к обзаведению семьей Петра то была настоящая трагедия. Ему почему-то постоянно попадались «шмары». Одна из таких особ, проживающих в городке Серебрянске, где располагался штаб полка, со школьных лет поднаторевшая в «постельном» искусстве, в прошлом году сумела «очаровать» и женить на себе Петра. Он на радостях в первый же отпуск повез ее к родителям на Украину. Происходил Харченко из военной семьи, отец был отставным подполковником. Что уж там приключилось во время тех «смотрин» Петр не рассказывал, но по возвращению молодые сразу же развелись. Родители, не доверяя больше «вкусу» сына, решили ему помочь, и уже в этом году из последнего отпуска Харченко привез новую жену. Интерес вызвала ее национальность. Все ждали, что Харченко привезет, скорее всего, украинку или русскую. Но новая жена Петра родом была с Прибалтики и оказалась наполовину латышкой наполовину финкой. То была девушка лет двадцати пяти, рослая, костистая с некрасивым удлиненным лицом, но в то же время с пышными белокурыми волосами. По внешности не составляло труда догадаться, что жизнь ее не баловала: бледная кожа лица, крупные в ссадинах руки свидетельствовали о том, что она немало лет занималась ручным трудом в плохо вентилируемом помещении. Вскоре стали выясняться обстоятельства, пролившие слабый свет на некоторые перипетии «давно минувших дней», оказавшие самое непосредственное влияние на события последней осени. А они были таковы: не прошло и полугода после второй свадьбы, как Петра Харченко, среднего офицера, не хватавшего «звезд», ставят командиром радиотехнической батареи, то есть со старлейской должности сразу на майорскую, минуя должность начальника отделения. При этом и командира дивизиона и всю «точку», что называется, поставили перед свершившимся фактом.
…Услышав вопрос Гусятникова, подполковник тяжко вздохнул, и, предчувствуя, что как бы он не ответил, предстоит не очень приятный и по всему непростой разговор, присел на стул рядом с койкой Рябинина.
– Не нужно тебе Володя комбатом становиться, пойми ты, не твое это, – с миной сострадания на лице проговорил Ратников.
– Ладно, я знаю, чем я вам не нравлюсь. Согласен, с бойцами у меня не клеится, но разве это главное для командира радиотехнической батареи? У нас же не пехота, не ать два, и не с автоматов в белый свет палить надо, – вдруг энергично принялся излагать свою точку зрения Гусятников. – А бойцы… что бойцы, как-нибудь бы притерлись.
– Пока вы друг к другу притирались, сколько дров ты бы успел наломать? Оружие-то у нас, действительно ты здесь прав, коллективное, и один ты ничего не сделаешь. А с людьми надо бережно, особенно сейчас, когда вон сколько призывают со всякими пороками, или по-русски не разговаривающих. А ты чуть что: дебил, бандерлог, плод пьяной любви. Так нельзя Володя, – терпеливо внушал Ратников.
– А вы думаете, ваш Харченко лучше меня будет батареей командовать, – в словах Гусятникова сквозила неприкрытая обида. По всему было видно, рассуждения командира до него не доходили, он не сомневался, что его незаслуженно обошли, и теперь мечта об академии откладывалась на неопределенный срок.
– Перестань, никакой он не мой. Что касается его назначения, я здесь совершенно не при чем, – чуть не оправдывался подполковник.
– Как это не при чем? Вы же командир дивизиона, вы ему характеристику на выдвижение писали, – напористо наседал Гусятников.
– Ничего я не писал, все без меня решили, – уже с некоторым раздражением отвечал Ратников.
– Как же это… без вас? – теперь удивился и наблюдавший за разговором как бы со стороны Малышев.
Для молодых офицеров никогда не вращавшихся в больших штабах, их командир дивизиона казался в воинской иерархии фигурой очень крупной. А раз так, то ни один вопрос, касающийся дивизиона, тем более кадровый, не мог решиться без его ведома и согласия. Они не могли поверить, что решение такого вопроса как назначение командира батареи могли принять в обход Ратникова.
– Вот это да, – с невеселой усмешкой произнес Гусятников. Вот это блат у Харча появился, а я то думал… – Володя не договорил, но можно было догадаться: «что вы здесь и в самом деле, Бог и Царь». В слух же сказал. – Оказывается, когда надо им своего продвинуть, они даже вас не спросили. Стоит ли тогда так на службе надрываться, раз вас ни в грош не ставят?
На этот раз Ратников уже не сдержался:
– Знаешь что, молодой человек, попридержи язык! Я бы, конечно, мог сейчас тебя осадить за наглость и в наряд, дежурным через день запустить на недельку. Но боюсь, ты все равно не поймешь, что служу я не командиру полка и не министру обороны, не генсеку. Надеюсь, это понятно, ради чего я надрываюсь?
Ратников намеренно не произносил слова Родина, понимая, что это будет звучать слишком уж пафосно и высокопарно, специально, так сказать не договорил, надеясь, что это произведет на слушателей больший эффект. Гусятников, однако, не стушевался:
– Меня, конечно, осадить можно, я же не блатной, а вот Харча попробуйте осадить. Знаете, зачем он к нам сейчас приходил?!
– Володька заткнись! – попытался остановить друга Малышев, но тот уже шел в «разнос».
– Он изложил тут нам целую революционную программу, как вас и остальных «стариков» с должностей сковырнуть и самим на ваши места встать, пока не состарились. Чтобы успеть и власти вкусить и академии позаканчивать, чтобы, как «оно» выразилось, разбег подлиннее был для прыжка на генеральские должности.
Владимир остановился, то ли дух перевести, то ли осознав, что в запале сболтнул лишнее.
– Ну, и как же этот переворот осуществится, – с улыбкой, не подав и вида, что внутренне весь напрягся, поинтересовался Ратников. Казалось, услышанное не произвело на него никакого впечатления.
Владимир, насупившись, молчал, лицо его покрылось нездоровым румянцем.
– Ну, Володя, сказал «а», говори и «б», – подтолкнул подполковник.
– А… ерунда все… не стоит, – робко попытался «повернуть оглобли» Гусятников.
– Нет уж, говори все, раз начал, – теперь уже жестко потребовал Ратников. – Я ведь все равно узнаю, что вы тут замыслили.
– Да не мы. Это он с нами, как бы сделку хотел заключить, ну а мы его вышибли, – наконец, начал «давать показания» Владимир.
– Чуть в морду не заработал, – поддержал его Малышев.
Холостяки смотрелись явно смущенными. Чувство неприязни к Харченко боролось с нежеланием прослыть «стукачами».
– Что за сделка, давайте-ка поподробнее, – продолжал методично «наседать» Ратников.
Гусятников, видя, что назад пути нет, начал, что называется «колоться» окончательно:
– В общем, ему позарез отличиться надо. Он хочет к итоговой проверке батарею отличной сделать. В одиночку без единомышленников, он сам чувствует, не потянет. Вот и просил нас помочь ему это дело провернуть.
– Ну, и что же тут плохого? – Ратников удивленно поднял брови.
– А то, – Гусятников заговорил зло, – где вы видели, чтобы в наших условиях так вот просто из говна конфетку делали? У нас ведь учебной базы нет, бойцы караулом, боевым дежурством и борьбой со снегом измотаны. Ко всему некомплект личного состава, и процент чурок от призыва к призыву все возрастает. Какая тут отличная батарея? Так вот, он ничего макаренковского не предлагает, а хочет поднять уровень подготовки за счет регулярных дополнительных занятий, проводимых в личное наше и солдат время. Дескать, полгода повкалываем, а затем плоды пожнем.
– Что-то не очень понятно, а поконкретнее можно? – Ратников с интересом «переваривал» услышанное.
– Можно. Я со студентом по его плану должен на технике день и ночь пропадать, но чтобы ни одного сбоя, ни одного случая небоеготовности, за эти полгода не допустить. Кроме того, в личное время мы должны проводить дополнительные занятия по технической подготовке и основам радиотехники. Колька, – Гусятников кивнул на Малышева, – с самим Харчем вместе, посменно через день в казарму на подъем приходить должен, физзарядку и прочие элементы распорядка дня контролировать. Он же должен в выходные дни дополнительные занятия по физподготовке проводить, кроссы, марш-броски и прочее. Таким образом, Харч за пять месяцев, что до итоговой проверки остаются, хочет с нашей помощью натаскать батарею по всем главным дисциплинам на отличные оценки. Чтобы полковые экзаменаторы диву дались, как он замечательно командует. А если этот план сработает, то его через год обещают командиром дивизиона поставить, причем не какого-нибудь абстрактного, а конкретно нашего. А? Что вы на это скажете? Неплохо в 27 лет!? – в возгласе Гусятникова проявилось то, что больше всего и возмутило друзей-холостяков – они, прежде всего, не могли примириться с тем, что хозяином «точки» станет, считавшийся раньше не «семи пядей во лбу», Петя Харченко, на поверку оказавшийся амбициозным рвачем.
22
Одним из важнейших свойств людей является привычка. Не та привычка, что «замена счастия», а свойство привыкать к чему или кому либо. Целые страны, народы привыкали к какому-нибудь культу, например Сталина, Мао, Тито, Франко… КПСС. Но разве такая привычка возможна только в глобальных масштабах? Точно так же всегда существовали более локальные культы на уровне каких-нибудь губернаторов, бар-помещиков, владельцев фабрик и заводов, в советские времена, секретарей обкомов и райкомов, председателей колхозов… На дивизионе уже десять лет царил культ Ратникова, вернее Ратниковых, и офицеры со своими семьями волей-неволей с ним мирились. Культ был, но далеко не такой уж зверский, как о нем распускали слухи. На подобных точках случались и похлеще, когда, например, всех терроризировал командир пьяница и дебошир, или всех «доставала» командирша-дурища. Нередко имел место культ командиров-воров, сколачивающих себе за годы командования немалые деньги. Случались и командиры-ходоки, любители приударить за женами своих подчиненных, используя свое служебное положение.
В данном, конкретном случае имел место семейный культ, к тому же далеко не самой плохой семьи. Жить под таким «гнетом» было не так уж тяжко, и в конце концов все население «точки» приспосабливалось и к Ратникову, и к Анне. Так же приспособились и холостяки. На них даже распространялась особая «милость» командирши – она никогда не отказывала продавать им товары в кредит, если они оказывались «на мели», в отличие от, в чем либо перед ней провинившихся, офицерш. Правда иногда и холостякам перепадало от тяжелой «командорской длани», и они могли полностью прочувствовать кто на «точке» хозяин… и хозяйка. Так командир если попасть ему под горячую руку в недобрый час, мог со зла законопатить молодого офицера во внеочередное дежурство по дивизиону, или не отпустить с «точки» в выходной день. Со стороны командирши тоже время от времени холостяки чувствовали отношение типа барыни к своим слугам.
Малышева, особенно на первом году его службы, очень нервировали поручения, что давала ему командирша, когда он назначался старшим школьной машины. Обычно эти поручения давались в следующей последовательности: Ратникова останавливалась за несколько метров от машины, и жестами «подзывала к себе» старшего. У Николая это вызывало немой протест и возмущения, когда он был вынужден вылезать из машины, с готовностью подходить к командирше и почтительно изрекать:
– Слушаю вас Анна Демьяновна…
А командирша очень любила эту процедура и довольно часто поручала старшему машины, либо чего-нибудь купить в поселке, либо отправить телеграмму, либо еще что-то. Потом, отвезя школьников и вернувшись из поселка, Малышев не раз жаловался Гусятникову, именуя командиршу не иначе как в конец оборзевшей бабой, разыгрывающей из себя королеву местного масштаба. На что поживший больше его на точке Гусятников резонно замечал:
– Думаешь, что разыгрывает? А я вот уже так не думаю. В ней ведь и в самом деле есть что-то эдакое… Вот представь если бы командиром был Колодин, его бы жена смогла себя здесь так вести? Да ты бы сразу послал ее куда подальше. А тут, чуть не на полусогнутых к ней бежишь, что изволите…
– Кто бежит, я!? – возмущался Малышев.
– Да ладно, не кипятись, не ты первый, не ты последний, – урезонивал друга Владимир. – Этой, как ты выразился, оборзевшей бабе на «точке» никто перечить не посмеет. Мне кажется, её и сам Ратников побаивается. Говорят, они дома часто цапаются, но сор из избы никогда не выносят. Нет она… как бы тебе это… В общем, есть такая порода баб, которым всегда возникает желание услужить. Вот, она именно из той породы…
Да, холостяки тоже подчас были недовольны Ратнковыми. Но чтобы на их месте оказался кто-то другой, они себе такого и представить не могли, и не только они. К Ратниковым на дивизионе привыкли, неосознанно как бы уверовав, что они здесь были до них, останутся и после них. Потому нацеленность Харченко на должность командира и произвела на холостяков такое сильное негативное действие. Их крайне раздражала эта перспектива видеть почти своего ровесника, ничем их не превосходящего, скорее наоборот, на месте Ратникова, как и его сухопарую полулатышку полуфинку на месте Анны.
В тот ноябрьский вечер, внимательно выслушав признания холостяков, Ратников невозмутимо улыбнулся и спросил:
– Ну, а вам-то за этот ударный труд в личное время чего-нибудь Петюня пообещал?
Холостяки явно замялись и переглянулись. Потом Гусятников набрался-таки решимости поведать и это:
– Пообещал… Меня вместо себя комбатом сделать и через год в академию отпустить. Кольку, НШ вместо Колодина поставить. Даже студенту приз придумал: если хорошо вкалывать на него будет, кандидатом в партию принять. Он ведь уверен, что каждый двухгодичник только и думает, как бы карточку кандидатскую заполучить, чтобы потом на гражданке получше устроиться. По себе, гад, судит.
Ратников по-прежнему внешне оставался невозмутим, хотя полученная информация оказалась из ряда вон выходящей. Вот и считай после этого, что разбираешься в людях. Пять лет служил бок о бок с человеком и не подозревал, что в нем заложено такое.
– И вы что же верите в реальность этих наполеоновских планов, что и меня, и Колодина уберут, а вас молодых и рьяных на наши места поставят? – насмешливо спросил подполковник.
– Нет, конечно. Он, сука нас за быдло держит! – возмущенно воскликнул Малышев. – Ему-то со всего этого шухера, может, что и обломится, а нам вряд ли. Ведь это у него, а не у нас покровитель объявился. Как дурней последних хотел нас использовать. Чуть пятак ему не начистил. Слинял вовремя, а то бы точно схлопотал, – Николай до хруста сжал кулаки.
– И вы думаете, что у него что-то выйдет? Неужто, я позволю проводить занятия в личное время, вечерами, после нарядов, караула и в выходные дни? – Ратников покачал головой.
– Товарищ подполковник. Здесь он как раз все верно рассчитал. Если вы запретите, то сами же и пострадаете. Там наверху начальству наплевать, что бойцы устают. Они скажут, что вы полезную инициативу молодого комбата зажимаете, тем более сейчас, когда за него есть кому вступиться.
Этот аргумент, высказанный Гусятниковым, имел основания. Никогда еще «верхние» начальники не ругали за работу во внеурочное и личное время. Более того, слова в характеристиках офицеров: «выполняет свои служебные обязанности, не считаясь с личным временем», считались высшей похвалой.
– Его покровитель не так уж и всесилен, и на него управа найдется, – недовольно поморщил лоб Ратников.
– Может и так, но то, что он смог его через звание на комбата пихнуть, о многом говорит. Так, что Харч вполне может осуществить задуманное с нашей помощью или без. Во как родители постарались, и жену, и дядю доброго Харчу нашли, – зло почти прошипел Гусятников.
– Ты что завидуешь? – ехидно поинтересовался Малышев, и, не ожидая ответа, высказал свое мнение. – По мне лучше всю жизнь холостяковать, чем с такой ведьмой жить.
– У тебя и без этого все шансы вообще не жениться, как и у меня. За месяц отпуска жениться можно только как Харч тогда, в первый раз…
Между «делом» холостяки попробовали диалогом меж собой обратить внимание командира на их «бедственное» положение. Речь шла о старой и никем всерьез не решаемой проблеме – дефицита свободного времени у холостых офицеров служащих на «точках». Это самым непосредственным образом сказывалось на поисках ими «подруг жизни», а если говорить откровенно, делало ненормальной жизнь молодых людей. А в редкие выезды с «точки», на скорую руку с подходящей девушкой познакомиться было крайне сложно. Тут сказывалась и специфика окружающей местности. Испокон, молодые офицеры, как правило, ищут невест среди студенток или выпускниц ВУЗов и техникумов. Девушка рабочей профессии, без образования, молодому лейтенанту вряд ли глянется. Ну, а таковых, в значительном количестве можно было найти только в ближайшем крупном городе, то есть областном центре Усть-Каменогорске. Но до него аж сто пятьдесят километров, более того зимой, когда заметало перевалы и кончалась навигация по Иртышу, добраться можно только на поезде, который ходил раз в сутки. И спустя семьдесят советских лет Бухтарминский край так же в зимнее время был хоть и не в такой степени но отрезан от остального мира. Так, что познакомиться там с девушкой и встречаться с ней лейтенанту с «точки» было нереально. Ближе? До того же Зыряновска сто километров и туда ходят автобусы, но это маленький рабочий городок, в котором нет никаких учебных заведений кроме школ и ПТУ. Серебрянск, местоположение штаба полка – еще более убогий городишко. Самое близкая и доступная – Новая Бухтарма, поселок с населением в восемь тысяч человек, но то население состоит в основном из рабочих и работниц цемзавода, рыбзавода, совхоза… По мнению тех же холостяков искать воспитанных, образованных девушек было просто негде… почти. Этим «почти» смог в какой-то степени воспользоваться Малышев, он совсем недавно познакомился с молодой учительницей новобухтарминской школы, приехавшей по распределению после окончания усть-каменогорского пединститута.
Таким образом, действительно остро эта проблема стояла только перед Гусятниковым. Он, будучи старшим среди холостяков до сих пор так и не обзавелся постоянной стабильной девушкой. Причина была, возможно, в излишне высоких требованиях Владимира, и, в не меньшей степени, в его внешней неопрятности и непривлекательности. А вот у Малышева, хоть он об этом и не очень распространялся, в Ростове имелась еще одна пассия, которую он вроде бы рассматривал как будущую невесту и только ждал, когда она окончит институт. Гусятников, рискуя физиономией, иногда издевался над другом, уверяя, что любая современная студентка к окончанию ВУЗа никак не может остаться «девочкой». Примерно также он подтрунивал над Рябининым. У «студента» тоже в Москве осталась девушка, его бывшая сокурсница, и вроде бы согласившаяся его ждать. Во всяком случае, он копил деньги, явно собираясь вернуться со службы «богатым» и сразу жениться. Насколько нравственно вели себя там за тысячи километров отсюда их невесты или почти невесты, ни Николай, ни Михаил точно знать не могли. Но сами, тем не менее, несмотря на трудности выезда с «точки», не упускали редкие возможности «прошвырнуться» либо в Новую Бухтарму, либо в Серебрянск.
Ратников же думал о «дьявольском» плане Харченко и потому не отреагировал на имевший целевое назначение диалог холостяков. Он держал в уме предыдущее высказывание Гусятникова о неизбежности успеха дальнейшей карьеры Харченко, и все последующие как-то прошли мимо него. В этой связи он и попытался как-то успокоить ребят:
– Не принимайте вы это особо близко к сердцу. Даже если и сделает Петюня карьеру, а вы нет. Ну и черт с ним. Я в ваши годы тоже мечтал о погонах с зигзагами, а сейчас… идет оно все. Я подполковник, кто-то генерал. Ну и что? Ну, не повезло мне, а кому-то повезло. Надо свое дело делать, а чины и награды – это как судьбе будет угодно и от нас мало что зависит.
Подполковник бросил взгляд на часы, он слишком задерживался, и дома его наверняка ждала взбучка от жены. Он уже собирался уходить, но не удержался, высказал еще один, упрек не упрек, но свое мнение о молодежи, которое уже давно зрело в его сознании:
– Вот гляжу я на вас и думаю: совсем вы другие, не такие как мы были в ваши годы. Мне-то тогда казалось, все что начальство делает, это непреложная истина, а вы вот уже не верите, во всем сомневаетесь, себя умнее всех считаете.
– Вот и наворотили дел эти начальники от этой вашей веры в них, а до вас еще больше, – вновь обрел агрессивность Гусятников.
– Это ты про что? – насторожился Ратников, забыв, что собирался уходить.
– Да про все. Если бы власть не наглела, может, и всех этих бед не было бы, и пустых прилавков, и в Афган бы не влезли, – Гусятников вновь улегся на койку и отвернулся.
– Про это ребята не вам и не мне судить. И у вашего поколения все еще впереди, и ваши ровесники в правительство когда проберутся, не меньше глупостей натворят и ничем вы этому не помешаете, так же как и мы и наши отцы и деды, – наставительно произнес Ратников.
– Все дело в воспитании. Вы человек воспитания 60-х годов, мы 80-х, а в 70-х произошел перелом, раздел мировоззрений, до и после, – глядя в сторону, говорил Владимир.
Теперь уже против воли Ратников вновь был втянут в спор.
– Хотите пример, как мы с вами по-разному воспринимаем одни и те же понятия? – Гусятников повернулся и вновь оперся о спину кровати.
Ратников пожал плечами, но глаза выдали возникший интерес.
– Вот вы ярославский, супруга ваша тоже. Как бы вы отреагировали на переименование Ярославля, присвоение ему имени какого-нибудь генсека? – Гусятников спрашивал, прищурив глаза, с явным подвохом.
– Это невозможно, так же как переименовать Киев, Рязань, Москву, – ничуть не поколебавшись, ответил подполковник.
– А может быть восприняли бы это с «чувством глубокого удовлетворения», как и прочее большинство вашего поколения. Также как раньше воспринимали переименование Твери, Самары, Нижнего Новгорода…
– А о казачьих городах Владикавказе и Верном сейчас уже вообще никто не помнит, что были такие, как и о том, что и Усть-Каменогорск и Семипалатинск и Павлодар казаками основаны, – вмешался уже Малышев.
– От этой вашей слепой веры в непогрешимость высшего руководства те и творили что хотели, – продолжал обвинительную тираду Гусятников. – А туда, в это руководство, как раз такие типа Харча нашего пробиваются, вот они и рулят, газуют…
23
В тот день Ратников не избежал домашнего скандала, так как пришел домой только к полуночи. Холостяки словно сговорившись передавали «эстафету» один другому и после того как «выдохся» Владимир за командира «взялся» Николай. И вновь, собравшийся, было, уходить Ратников задержался, вернее заслушался. Поводом для «второго раунда» стала песня, которую негромко запустил на кассетном магнитофоне «Романтика-308» Николай.
Задремал по ольхой Есаул молоденький …………………….Хриплый розембаумовский голос лился из магнитофона, привлекая, впрочем, не столько тембром голоса, сколько содержанием, словами песни.
Николай Малышев был потомственным военным, но не таким, как тот же Харченко, он не был сыном советского офицера, он был внуком… царского офицера. Не очень любящий вспоминать, что его отец простой советский служащий, Николай, напротив, с гордостью говорил о деде, бывшем сотнике, участнике 1-й мировой и гражданской войны на Юге России.
Он во сне видит Дон Да лампасы дедовы ……………………Если бы Ратников умел читать мысли, то он в глазах Николая уловил бы борьбу двух противоречивых чувств. С одной стороны пелось о его родных местах, да пелось так, как при советской власти вроде бы и не разрешалось, явно воспевая вольность и удаль казачью. С другой стороны эту песню о его родном Доне пел еврей, о которых опять же на Дону со времен Троцкого и Свердлова хорошо и говорить, и думать было не принято.
– Как поет! Но почему он, почему никто из потомственных казаков или просто русских не сочинили, не спели ничего подобного, почему наши боятся, не догадались, что время пришло, а он не испугался и догадался. Опять они во главе, как революцию нам возглавили, так и сейчас о нашем прошлом опять они запели первыми, – вырвалось у Николая.
Гуляй да пой Казачий ДонПостепенно умолкал хриплый голос.
Ратников не нашелся, как отреагировать на этот «крик души». Впрочем, Малышев и не ждал ответа, говорил сам, видимо наслушавшись, как спорили командир с Владимиром – он ведь тоже, много чего хотел высказать командиру. И когда еще такой случай подвернется с ним поговорить во внеслужебной обстановке, да еще тот сам пришел и как бы задал неофициальный тон общения.
– Как эту песню услышу, деда вспоминаю. Мальчишкой я его ужасно боялся. Бывало, как глянет из под бровей – ну прямо мороз по коже, – Николай наклонился и отключил магнитофон. – Он ведь настоящий офицер, рубака был, из тех, кто баклановским ударом владел. Знаете, это когда человека шашкой наискось с одного удара надвое разрубали. Помните фильм «Два товарища»? Дед, когда этот фильм смотрел, плакал. Знаете, там есть такая сцена, когда белые офицеры во главе с полковником, клином идут в море топиться. Другие фильмы о гражданской войне смотреть не мог, говорил сплошная брехня. Он Новочеркасское юнкерское училище кончал. А я тоже у себя сначала поступал в РАУ, на стратега, по конкурсу не прошел, а уж в Орджо потом с теми же баллами приняли, там каждый год недобор бывает. Училище наше на месте бывшего владикавказского кадетского корпуса расположено. Мы спали в тех же самых казармах, в которых до революции кадеты жили. Здание старое капитальное, стены из красного кирпича метровой толщины, коридоры с арками, длиннющие. А церковь, в которой кадеты молились, сейчас под спортзал приспособили, только купол убрали.
– Знаешь Коля, многие военные училища располагаются в такого типа старых зданиях. Наше Ярославское училище тоже в бывшем здании кадетского корпуса помещается, и еще есть такие, я не раз про то слышал, – счел нужным вставить реплику Ратников.
– Когда я после выпуска домой приехал, дед велел мне к нему в парадной форме явиться. Он тогда уж еле ходил, больше лежал. Но меня увидел, сразу встал, со всех сторон оглядел. Вижу, доволен, а сам все приговаривает, не тот, не тот офицер сейчас, испортили большевики все, все традиции испоганили. А потом молиться стал, Бога благодарить, что внука перед смертью сподобил офицером увидеть, – продолжил свой рассказ Малышев.
– Так у деда твоего судьба похожа на шолоховского Григория Мелехова? – Ратников события гражданской войны на Дону, как и большинство советских людей, рассматривал прежде всего через «тиходоновскую» призму.
– Нет, ничего общего. Шолохов ведь писал Григория с реально человека Харлампия Ермакова. А тот из рядовых казаков, на фронте в офицеры вышел и потом во время верхнедонского восстания отличился, даже дивизией командовал. А дед он потомственный казачий офицер, его отец тоже офицером был. Да и не метался он никогда как этот Ермаков-Мелихов, то к тем, то к этим. Дед, он всегда за белых воевал в корпусе генерала Мамонтова. Его в 20-м году на Кубани в плен взяли, когда он в тифу лежал, каким-то чудом его не тронули, и потом как-то обошлось. Но он до самой смерти как был белым, так и оставался. Хотя мысли свои только в кругу семьи высказывал, потому видимо и не загребли его ни разу. Переубедить его невозможно было, не та, говорит, Россия стала, испохабили большевики страну, – охотно пояснял Николай.
– И сколько он прожил? – задумчиво поинтересовался Ратников.
– Девяносто два года. Я его тогда после выпуска в последний раз видел живым. Знаете, как он меня напутствовал. Служи, говорит, России, а не начальству. Начальство оно меняется, а Россия всегда будет. И вы ведь сейчас нам, примерно, то же сказали. Разве не так, Федор Петрович?
«Ишь ты, какую аналогию провел», – подумал Ратников, чувствуя, что, тем не менее, польщен, хотя его понимание кому он служит не могли совпадать с тем, что имел в виду бывший казачий сотник. Для Ратникова родина прежде всего олицетворялась великим и могучим Советским Союзом, страной созданной гением Ленина, построенная большевиками и т. д, и т. п… так его воспитывали, так его учили. Подполковник уклонился от ответа, промолчал, а Малышев вновь заговорил о деде:
– К концу жизни он все же немного подобрел к советской власти, за то, что страну великой сохранила. В пионерском возрасте, я часто с ним спорил, доказать пытался, что Советский Союз более великая страна чем его царская Россия. Я ему цифры всякие привожу. Помните, лет десять назад у нас модно было все сравнивать с тринадцатым годом. А он мне – бумага от лжи не краснеет. Я ему про победу в Отечественной войне, что СССР и в одиночку мог бы Германию победить, и без второго фронта, а вот царская Россия нет. А он мне – русская императорская армия врага до Волги, как советская, никогда не допускала и людей в сражениях столько не теряла. А что касается победы в одиночку над Германией, он так хитро усмехался и говорил, что важнее второго фронта была та жратва, которую союзники нам по ленд-линзу поставляли. Ведь к лету сорок второго немцы захватили почти все хлебопроизводящие районы СССР, Украину, весь Дон, Кубань, частично ставрополье, центрально черноземный район. И если бы не то продовольствие голод бы дикий начался, и не двадцать, а как минимум шестьдесят-семьдесят миллионов человек потеряли бы. Вижу и здесь я не очень компетентен и опять на Гражданскую войну перехожу. Я ему, вам в Гражданскую империалисты многих стран помогали. А он мне – брехня, помощь была мизерной, и на всех главных фронтах никаких интервентов не было, воевали мы сами, а вот за большевиков кто только не воевал, и китайцы, и венгры, и латыши, причем не единицы, а в больших количествах, целыми полками воевали. И еще на что он мне просто глаза открыл, что у большевиков в руководстве русских почти не было, большинство составляли евреи, латыши, кавказцы, поляки. Оттого они русскую кровь лили от души, в охотку. Тогда я свой главный козырь привожу: почему же вас разбили? А он и на это по-своему отвечает, не нашлось де у нас вождя, который смог бы нас всех объединить, таких, какими у большевиков были Ленин и Троцкий. Они умом, хитростью и жестокостью белых вождей превзошли. Ленин простых мужиков декретом «О земле» купил, после которого они в Красную Армию и пошли валом. А наши вождишки, все помещичьи усадьбы сохранить хотели с барышнями тургеневскими. Вот и профукали, и барышень, и Россию. Ну, а я тогда как положено по пионерско-комсомольски мыслил, что на уроках истории в голову задалбливали, тому и верил. Говорю деду, что белые прежде всего своими зверствами от себя народ оттолкнули. А он мне, что ты можешь знать о том, как большевики зверствовали? Были, говорит, и с нашей стороны жестокости, но что красные в казачьих станицах творили, слов не хватит рассказать, или как матросы любили над пленными измываться. Офицеров пленных на части рубили, кожу сдирали, а про сестер милосердия и вспоминать страшно, что с ними делали. Он в подробности-то особо не вдавался, но давал понять, что зверствовали и те и другие, красные особенно отрывались в станицах и в буржуазных кварталах, а белые в рабочих слободах и еврейских местечках. Вижу, насчет Гражданской войны он мне не по зубам, опять на современность перевожу, Гагарина, Королева ему в пример ставлю, как советские достижения. Так он и здесь нашелся. И в старой России великие ученые и летчики были, и радио в России изобрели, и таблицу Менделеева открыли, и телевидение тоже бы в России было впервые изобретено, если бы не было этой революции, и русский инженер Зворыкин из страны не иммигрировал и первый кинескоп был вынужден в Америке разрабатывать. Кстати, а вы в курсе, что у истоков телевидения стоит русский?
– Нет, первый раз слышу, – удивленно пожал плечами Ратников. – И фамилия эта, Зворыкин, ничего для меня не говорит.
– Да у нас специально это завают. Как же белоэмигрант к тому же бывший колчаковский офицер и такое сделал, как и то, что первый вертолет тоже белоэмигрант разработал, Сикорский.
– Про Сикорского я вообще-то слышал, – задумчиво проговорил подполковник. – И что же он, дед твой, всю жизнь надеялся, что старое вернется?
– Не знаю, он на этот счет не откровенничал. Может и надеялся. Но большевиков считал наказанием от Бога, за грехи посланных русскому народу. Жил он тихо, разговаривал на все эти темы только со мной. Сына, то есть отца моего, терпеть не мог, за то, что тот в партию вступил, почти не разговаривал с ним. Ну и отец его тоже не жаловал, даже стыдился, всячески скрывал свое происхождение, в анкетах писал из крестьян, хотя до революции его происхождение считалось из обер-офицерских детей. Ну, это что-то вроде кандидатов в дворяне…
Интересный у тебя дед, – вновь задумчиво произнес Ратников.
– Знаете, я чем старше становлюсь, тем больше начинаю ему верить. Не такая уж убогая была наша страна до революции. Посудите сами, разве возможно в отсталой стране создать столь высокую культуру, которая была тогда в России? – не то спрашивал, не то утверждал Малышев.
Подполковник в ответ хмыкнул и невесело усмехнулся:
– Конечно, перебрали идеологи-пропагандисты насчет отсталости. То, что Россия и до революции была великой державой – это факт. Но с другой стороны, соображай, если бы в стране был хоть относительный порядок, разве бы накопилось у народа столько гнева на царскую власть, дворян, помещиков?
– Так вы, значит, тоже считаете, что все правильно, так и надо было ломать все под корень? – с вызовом спросил Николай.
– Не знаю я, Коля. Я не был свидетелем тех событий, и ты не был. А дед твой, хоть и очевидец, но судья-то тоже совсем не беспристрастный.
– Да, возможно вы и правы, – Малышев с трудом подбирал слова, он почему-то стал волноваться, будто собирался сказать что-то чрезвычайно важное. – Я понимаю, и тогда не все хорошо жили, большинство народа очень плохо жило, бедность, безземелие, даже голод был. А сейчас!? К чему пришли!? Тогда хоть кто-то жил по-человечески, а сейчас почти все как собаки. Вон, куда ни сунься в магазинах на прилавках шаром покати. За нормальными шмотками надо либо втридорога спекулянтам переплачивать, либо в Москву лететь, и там в очередях сутками стоять, жратвы нормальной, колбасы нигде нет. Ну, нас военных еще как-то снабжают, а в Новой Бухтарме, в Серебрянске, кроме минтая ничего ведь нету. Преступность наглеет, нацмены на глазах борзеют. Дальше катиться уже некуда. Так на кой нужна была революция, Гражданская война, стоившая стольких жертв, чтобы партийная верхушка, генералы с маршалами, да их детки жировали, а все остальные как сволочи, впроголодь жили?
Это был уже «перебор», Ратников оказался не готов к ответу на столь «антисоветский» вопрос. Будь тут замполит, он бы вправе был привлечь коммуниста Ратникова к партийной ответственности за то, что тот вместо того чтобы в корне пресечь антисоветчину, дискутирует…
– Ладно, что-то заговорились мы тут, – поспешил свернуть столь «опасный» разговор Ратников.
– Действительно, времени-то уж сколько, – словно очнулся Малышев и скрипнув кроватью на которой сидел, пружинисто встал.
Вся его фигура источала прочность: большая слегка взлохмаченная голова на короткой шее, торс тупоносой трапецией суживался от плеч к талии, и все это прочно опиралось на плотные слегка кривоватые ноги. «Иш ты, бычок какой», – одобрительно оценил фигуру Николая подполковник.
Ратников тоже поднялся, и напоследок решил все-таки несколько отдалиться от последней темы разговора, перевести его в более созвучное реальности и «точечной» жизни русло:
– Вот что Коля, ты бы про все это поменьше думал. Тебе что больше заняться нечем? Ты же офицер наведения, вот и совершенствуйся по своей боевой специальности, а если у тебя вот так мысли двоиться будут, ничего у тебя не получиться, поверь мне… Что это с Володей-то? Эээ… да он спит, слушал нас с тобой слушал, да и заснул. Ему тоже не о том, что его на должность прокинули надо думать, а как уровень боевой подготовки отделения поднимать. А насчет Харченко… что ж, спасибо за информацию… И это, не бойтесь, я не собираюсь, то что вы мне сказали нигде озвучивать, но конечно, приму к сведению…
Опять зайти к холостякам как в тот вечер, означало идти на риск, вновь ввязаться в обмен мнениями, втянуться в очередной затяжной спор, на непредсказуемые темы, к тому же сейчас было еще позднее. Потому Ратников на этот раз уже без колебаний решил идти домой. Это решение сразу принесло облегчение, позволило отстраниться от неоднозначных воспоминаний. Ратников зашагал к своей квартире.
24
Как угадать веяния времени, цену той или иной «истины», еще вчера преподносимой бесспорной, не требующей доказательств аксиомой. Каких-то двадцать лет прошло после того, как он выпустился из училища, а как все поменялось. Вроде, все то же флаг, герб, гимн, та же страна, а уже и не та. Что это, хорошо или плохо? За детей, да за старость свою страшновато становится. А без изменений, пожалуй, никак не обойтись, недаром Перестройку эту затеяли, видать, по-старому жить уже никак нельзя. В то же время в непогрешимость руководства страны уже не так верится – все ли они делают правильно? А раньше-то как верили! И как было не верить? Ведь это они, непогрешимые, привели страну к победе в такой войне, потом вывели страну во вторую сверхдержаву мира. Вторую по валовому объему промышленного производства. Что из себя представлял тот «вал» и степень его полезности для достижения нормальной жизни населения страны? Это как-то оставалось «за скобками». В 60-е, годы его молодости особенно смаковали это второе место и подсчеты, когда, наконец, Союз догонит и перегонит Америку, выйдет на первое. И как было усомниться в тех планах, страна лидировала, казалось, в такой важнейшей отрасли как освоение Космоса, в спорте занимала первые общекомандные места почти на всех Олимпийских играх. То, что по всем средствам массовой информации очернялась дореволюционная Россия, принижались ее достижения… Тогда это казалось бесспорной, естественной правдой. Как тут было не поверить молодым неопытным людям, постоянно идеологически обрабатываемым, что именно коммунисты-большевики создали эту передовую промышленность, науку, воспитали здоровую, физически крепкую молодежь. А какие достигнуты успехи во внешней политики. Тогда в 60-е, в мире, казалось, назревало то, о чем мечтали многие большевики-ленинцы, – назревала мировая революция. Кубинский «костер» обещал охватить пожаром весь «третий мир». Мировое пламя тогда так и не «занялось», но ох как дорого стоили «дрова» и усилия по «раздуванию». Кто за все это платил, и из чьего кармана те «непогрешимые» главковерхи брали средства? Над этим Ратников стал задумываться много позднее, а тогда… Тогда казалось, что все по силам, и через двадцать лет страна выйдет на это самое первое место в мире, и не только по валу, но и по выпуску промышленной и сельхозпродукции на душу населения. То есть свершиться то, чего Россия никогда не достигала, она станет не только сильнее всех, но и богаче, то есть ее население будет жить лучше всех в мире. Именно его Ратникова поколению те непогрешимые руководители обещали коммунистическое завтра. И тогда в это верилось, и именно его поколению предстояло своротить эту гору дел. Почему не своротили? Надорвались? А может не то делали… не туда вели непогрешимые… партия и правительство? Вон сколько рек позапрудили. А зачем? Иртыш двумя плотинами перекрыли, плодороднейшую Долину затопили, людей с насиженного места согнали. А из восьми агрегатов-турбин Бухтарминской ГЭС работают всего два – не нужно, оказывается здесь столько электроэнергии. А сколько до затопления Долина хлеба давала, скота кормила, сколько ценных пород рыб после перекрытия погибло? Что это – ошибка? Но ошибка, которую нельзя исправить уже не ошибка, это что-то другое. Может и на Волге, и на Енисее с Ангарой вот так же ошиблись?
И ведь их отцы, они тоже, то ли были так затурканы пропагандой, то ли запуганы еще с тех коллективизационных тридцатых годов, что не смели даже помыслить, не говоря уж о том, чтобы выразить устно, даже в пьяном разговоре несогласие с той самой линии, что проводили Партия и Правительство. Ратников вспоминал отца, разговоры с ним, вспомнил своих односельчан, ровесников и старшего поколения…
Восемь лет назад Ратников ездил хоронить отца. Стояла поздняя осень, дороги разлезлись и гроб везли на кладбище, находящееся за пять километров от Медвежья, в селе, где когда-то находилась церковь, помещичий дом с садом. Сейчас не было ни первого, ни второго, ни третьего, а на фундаменте церкви поставили бревенчатый сельсовет. В последний путь медведковского механизатора, так и не успевшего оформить свою заслуженную пенсию, везли по старинке на телеге запряженной лошадью, машины не могли проехать, вязли по самые мосты. Прожил отец 62 года. Здоровый, крепкий, в меру пьющий мужик, избежавший тяжелых ранений на войне… Впрочем, считалось, что он прожил весьма немало, большинство его ровесников уходили из жизни еще раньше.
Ратников еще в детстве услышал выражение: «Работать как негр на плантациях». Так говорили о тяжелой, дармовой работе. Уже с дистанции прожитых лет обозревая годы своего детства, он все чаще приходил к выводу – отец и прочие колхозники работали так же, почти задаром и не менее тяжело, чем те самые негры, о которых иногда певали жалостные песни по центральному радио. Эти люди в треухах, керзачах и ватниках, не зная выходных, праздников и отпусков, обеспечивали в 50-е – 60-е годы дешевый и относительно разнообразный ассортимент продуктов в больших городах. О тех годах, сейчас, в полуголодные восьмидесятые, с умилением вспоминали многие пожилые столичные жители: «И какой колбасы в магазинах только не было, хочешь бери «докторскую», хочешь «отдельную», хочешь «чайную». А если денег много так и подороже можно, «любительскую». Конфеты каких хочешь, а пастила, а зефир… И куда оно все подевалось?!»
Тем не менее, свое личное, было роднее и ближе колхозного даже для них, замордованных всесильным начальством и переданным от старшего поколения, хранимым в памяти с детских лет страхом перед раскулачиванием и насильственной высылкой на Север, на край земли. Ратников хорошо помнил, как в еще не электрифицированную деревню протянули радиотрансляционную линию из центральной усадьбы колхоза. В избах поставили динамики и каждый день поздно вечером, когда едва волочившие от усталости ноги люди собирались ко сну, московские радиопередачи прерывались и глухой, прокуренный голос колхозного бухгалтера, по совместительству выполнявшего обязанности колхозного радиоглашатая… Тот голос врывался в освещаемые керосиновыми лампами и кое у кого сохранившимися лампадками под образами жилища: «Говорит радиоузел колхоза, товарищи колхозники…». И пошло поехало, что кому делать, куда ехать, пахать, сеять, косить, теребить лен… Люди же ждали только одного сообщения по этому радио, оно звучало раз в год, в разгар лета. Тогда глухой голос великодушно разрешал три дня подряд всем колхозникам не выходить на государственную барщину, а косить сено на свою скотину. Случалось это «великодушие» где-то на стыке июля и августа, когда колхоз уже в основном запасся сеном на зиму (сколько не запасали, все одно до следующей весны не хватало – чем больше закладывали, тем больше гнило), а рожь, ячмень, пшеница и лен еще не созрели. Преподносились эти три дня, не знающим продыха людям как великое благодеяние и неукоснительная забота о нуждах рядовых колхозников. Если бы не эти три дня (и три ночи), вся домашняя скотина неминуемо передохла, а она была главной кормилицей, ибо все продукты, производимые колхозом, подчистую забирались в счет выполнения спущенного сверху плана. Жаловаться? Кому? Как тут нацменам не позавидовать, им хоть русских во всем обвинить можно, и за колхозы и за бедность, жизнь собачью. А тут кого? Сами эту власть над собой поставили и вроде бы она даже рабоче-крестьянской зовется.
Все три дня в деревне творилось невообразимое. Если бы кто попробовал подсчитать производительность труда, достигаемую в эти дни, когда люди работали сами на себя – не то что западным фермерам, но и лихим энтузиастам-рекордсменам, воспетых в пропагандистском фильме «Время вперед» (дышло им в пасть, творцам производственных рекордов, ради рекордов) такое не снилось. Все хорошие луга уже выкосили для колхозных буренок, и люди метались по лесам и кустарникам, выискивая заранее запримеченные травяные островки. За трое суток хоть тресни, а надо заготовить сена на всю зиму. Задача невыполнимая, но люди работали как заведенные все три дня и три ночи без перерыва, не обращая внимания на погоду, привозя на свои подворья воз за возом, иной раз за многие километры. Однажды, во время такой сумасшедшей косьбы, ошалевший от усталости, со слипающимися глазами от бессонных ночей 15-ти летний Федя чуть не скосил прилегшего покемарить в траве мальчишку лет семи, принесшего еду своим родителям, косившими по соседству.
Деревенские мальчишки и девчонки завидовали тем городским детям, что приезжали в деревню летом на каникулы к своим бабушкам и дедушкам (еще с 30-х много молодых медведцев, спасаясь от раскулачки, голода, местных активистов, подались в города и там осели). Завидовали и красивой городской одежде, а более всего возможности отдыхать в летние каникулы. Федя уже с 12-ти лет летом в каникулы подряжался пасти овец, и в том не было ничего необычного, в те годы в деревне работали все дети после начальной школы. Познав с детских лет всю «прелесть» дармового колхозного труда, Федор твердо решил в деревне не оставаться, и так думал не он один.
Мужчины из поколения отца часто не доживали и до шестидесяти. Коллективизация, война и тяжелый неблагодарный труд без должной отдачи делали свое дело. Люди жили не долго, с ними умирала среднерусская деревня, а молодежь разбегалась кто куда, не желая жить, как жили их родители, не веря, что на селе можно жить лучше.
Ратников стоял у своего крыльца и, взявшись за дверную ручку, отвлеченный бегом мыслей, никак не мог за нее потянуть. Наконец осторожно открыл дверь, стараясь не шуметь. Сонный уют дома несколько отвлек его от головной мороки…
– Ты что так долго, – зашептала Анна, когда он стал укладываться рядом с ней.
– Да, в казарме пришлось задержаться, – так же шепотом отвечал Ратников.
– Сколько времени, знаешь?
– Знаю, спи.
– И когда же ты угомонишься, наконец? Вон замы твои все уже спят давно. А тебе что, больше всех надо? – привычно, не повышая голоса, укоряла жена.
– Потерпи, может это в последний раз.
– Что, в последний раз? – спросила Анна, поднимая голову с подушки.
– Думаю нового комкора попросить, чтобы подыскал мне другую должность, поспокойнее. Пусть даже с понижением, но в городе. А для того, чтобы иметь моральное право на такую просьбу, надо дивизион в лучшем виде представить, чтобы новый доволен остался, – высказывал только что пришедшее ему в голову, как заранее обдуманную мысль, Ратников.
– И что ты ему скажешь? – скептическим тоном спросила Анна, перебив подушку и вновь на нее укладываясь.
– То и скажу, что уже двадцать лет офицером служу, а еще ни разу квартиры с теплым туалетом и горячей водой не имел.
– Наконец, и до тебя дошло. Я тебе уже, который год об этом толкую, – с готовностью подхватила Анна, вновь вскинувшись и сев на постели.
При этом одеяло сползло, открыв молочного цвета округлые полные плечи с бретельками ночной рубашки. Обычно при виде обнаженных плеч жены Ратников не упускал случая положить на них свои жилистые ладони, слегка вдавливая пальцы в податливое тело, оставляя медленно рассасывающиеся отметины. Но сейчас такого желания не возникло – он слишком вымотался, и морально и физически. Анна же что-то еще хотела сказать, но из-за шифоньера послышалось шевеление потревоженной голосами дочери.
– Ладно, давай спать, а то мне завтра рано вставать. Если не высплюсь, опять весь день голова будет ныть, – совсем тихо шептал Ратников, боясь окончательно разбудить Люду.
Но Анна, услышав, что он вновь собирается подниматься ни свет ни заря, не могла сдержать возмущения:
– Как, ты опять на подъем пойдешь? Который день в полшестого встаешь, ни мне, ни детям спать не даешь! – умудрялась «кричать шепотом» Анна.
– Да не на подъем и не в полпятого… Я завтра вместе с вами встаю потому, что себя старшим на школьной машине запланировал, – нехотя отвечал Ратников, предчувствуя, что теперь жена не отстанет и придется все рассказать о том, зачем он завтра едет в поселок.
– Тебе что послать некого, зачем самому-то ехать? Если офицера послать не можешь, у тебя для этого целый прапорщик-автотехник есть, – недоумевала Анна.
– Дмитриева я с собой беру. Завтра нам обоим там надо быть, вопрос с ремонтом транспортной машины решить. Боюсь я за нее, не сегодня-завтра коробка передач рассыплется, и не дай Бог, где-нибудь на серпантине. А нам только еще человеческих жертв не хватает. Тогда уже точно по-хорошему и в хорошее место отсюда не уйти.
– А ты что на автобазу пойдешь договариваться? – предположила наиболее вероятное Анна.
– Да нет, – уже позволил себе слегка более раздраженный тон Ратников, – Дмитриев говорит, что зав. автобазой… ну он там какой-то родней приходится Ольге Ивановне… ну учительнице русского и литературы. Вот я завтра сначала к ней хочу, вроде бы как насчет Игоря переговорить, а потом невзначай попрошу помочь, чтобы она меня с ним свела. Как думаешь, поможет? Она же вроде всегда, и к Игорю, и к тебе хорошо относилась. Ты же вроде когда-то контачила с ней.
– Ну, как… контачила. Это же, когда она у Игоря классной была, а я на родительские собрания приезжала – вот и весь контакт. Кто бы мог подумать, кто она есть на самом деле. Учительница и учительница, ну хорошая учительница, – за разговором Анна уже как будто совсем не хотела спать.
– Да, не просто хорошая. Она и раньше отличалась. В учителя-то сейчас идут, кто ни попадя. Иной бы по-хорошему в прачечной белье стирать или уборщицей полы мыть, а она на безрыбье пединститут кончит и учит в чем сама не петрит. А Ольга Ивановна не из таких, я в ней всегда какую-то породу чуял, и предмет свой она не как другие знает, в рамках учебника, – не согласился с женой Ратников.
– Чего ж ты хочешь, конечно, она же за границей в Харбине еще училась, не в школе, в гимназии. А это совсем другое образование. Что-что, а это-то я понимаю. Я про то говорю, что она внучка местного станичного атамана, дочь белого офицера и племянница другого, того кто командовал расстрелом коммунаров в Александровке. Ты понимаешь, мне казалось, что все, что с теми временами связано уже давно быльем поросло и в пучину времени кануло, никто и не помнит.
– Да и я про то думал. Вон как времена-то изменились. Раньше все дедами-буденновцами гордились, мне даже обидно было, что моя-то родня от всех этих потасовок как-то в стороне осталась, ни в тех, ни в других не отметились. И здесь, я же помню, еще десять лет назад все дедами партизанами из «Красных горных орлов» хвалились. А теперь оказывается чуть не у половины деды и прадеды у Анненкова или у самого Колчака служили. Поди разберись, кто врет, а кто правду говорит. Интересно, а Ольга Ивановна в свое время тоже детей водила к тому памятнику расстрелянным коммунарам, ведь там же обычно принимают в пионеры всех здешних школьников. Ведь и Игоря, и Люду там в пионеры принимали, специально на автобусе возили. Как у Гайдара, помнишь, плывут пароходы – привет мальчишу, пройдут пионеры – салют мальчишу. А тут племянница того, кто тех малчишей замочил, раз и привела пионеров, – Ратников не смог сдержать тихого смешка.
– В пионеры принимают в младших классах, а она насколько я помню, в старших всегда преподавала. К тому же это обязанность, скорее всего, пионервожатой, – отозвалась Анна.
– Ладно, утро вечера… – Ратников зевнул, – спать давай, сколько уже, – он посмотрел, с усилием превозмогая полутьму на будильник, стоявший рядом на тумбочке. – Ух ты, первый час…
25
Анна, успокоенная присутствием мужа, заснула довольно быстро, а вот Ратников, напротив, никак не мог забыться. Несмотря на усталость, пережитые события бессистемно лезли в голову, но постепенно как-то исподволь наползли воспоминания об том самом Александровском ущелье, памятным тем, что ему много лет назад, осенью 1966 года пришлось там ночевать. Воинская колонна совершала марш из управления полка на одну из «точек». Тягачи, гусеничные и колесные тащили многотонные пусковые установки, прицепы с зачехленными ракетами, КУНГи, набитые всевозможной электронной начинкой… Один из гусеничных тягачей, транспортировавший стационарную дизельную электростанцию вдруг встал, отказавшись тащить свой груз, да и себя тоже, на самой середине того самого ущелья. Полчаса с ним провозились, но завести так и смогли, после чего решили не задерживать колонну, а оставить электростанцию с тягачом на дороге, с тем, чтобы дождаться присланных из полка новых тягачей для буксировки обоих единиц. Но кого оставить для охраны обездвиженной техники? Перво-наперво, конечно, механика-водителя, ведь он к тому же и виновен, что его тягач оказался не готов к маршу. А старшего? Думали не долго, самым молодым среди всех старших машин оказался только полтора месяца назад пришедшей из училища лейтенант Ратников – его и оставили.
В те годы автотранспорта на дорогах области было еще не так много, зато куда чаще ездили на лошадях, запряженных в телеги. Пока было светло, лейтенант с водителем похаживали вокруг тягача с прицепом, поглядывали на проезжавшие мимо подводы, автомобили, автобусы, улыбались поглядывавшим на них девушкам… Но обещанные тягачи так и не пришли. Ущелье начало погружаться во тьму. По шоссе уже больше никто не ехал, где-то в полукилометре мерцала редкими огоньками маленькая деревушка Александровка, с другой стороны доносилось мычание коров из длинного приземистого коровника и шум течения быстрой горной речушки, извивающейся по самому низкому месту ущелья. Небо заволокло осенними тучами – воцарилась зловещая полутьма. Солдат-водитель завернулся в бушлат и похрапывал на заднем сиденье, а Фёдор, будучи в офицерском плаще сильно продрог, и заснуть не мог. Он вышел из кабины тягача, побегал, поделал гимнастические упражнения, чтобы согреться, потом огляделся. Ему стало жутко. Казалось, что окружающие ущелье скалы надвигаются все ближе и вот-вот раздавят. Он решил дойти до ближайших огней. До молочно-товарной фермы было гораздо ближе. Молодой человек в 20 лет вполне может выдержать ночь без сна, к тому же его толкало желание найти место, где можно согреться, а может быть и пообщаться, поговорить, чем мерзнуть на пустынной дороге в этой жуткой тьме.
Федя парень деревенский и хлябью возле фермы, то есть обыкновенного колхозного скотного двора, его было не испугать, тем не менее, пачкать сапоги ему не хотелось. Пытаясь обойти наиболее грязный участок, разбитый коровьими копытами и загаженный их же «лепешками», он вышел из полосы света фонаря, на который собственно и шел.
– Эй, кто там, куда идешь… чего тебе!? – это тревожно кричала какая-то бабка, вышедшая из малюсенького пристроенного к ферме закутка. Коровы за бревенчатыми стенами, услышав голос сторожихи, заволновались, начали мычать.
– Бабушка, вы не бойтесь!.. Тягач на дороге, видели стоит? Так вот я оттуда… Погреться можно, а то холодно, жуть? – жалобным голосом взывал Федя.
– Военный, штоль!? – спросила сторожиха.
– Да, военный, сломались мы тут…
– Ну, иди сюда… погрейся и чаю попей. А то я смотрю кто-то по темноте шарится. Может варнак какой на колхозное добро зарится, – уже без настороженности ворчала бабка.
– Да нет, что вы… Как мне тут к вам выйти, чтобы грязи поменьше?
– А вот здесь… вот так по закраю и иди…
Электричества в сторожихином закутке не было, здесь топилась железная печка-буржуйка и горела керосиновая лампа. Сторожиха смотрелась лет на шестьдесят-семьдесят и, видимо, страдала бессонницей, потому что, так же как и Федя ни разу не прикорнула, и они проговорили, не замечая времени более двух часов.
– Откуда будешь-то, сынок? – спросила сторожиха, когда Федя немного отогрелся, выпив горячего чая.
– Издалека бабушка… из Ярославской области, – отвечал Федя.
– Это где ж такая есть, в России?
– Да, в самом центре, до Москвы триста километров.
– Сам-то городской, иль нет?
– Нет, деревенский. С малолетства вот тоже так коров да овец пас. У нас там коровы в общем стаде пасутся и колхозные и личные, а овцы только личные, колхоз не держит. Мы их там по домам пасем, сегодня одна семья, завтра соседская, – пояснял Федя, подливая себе чая.
– Ну, и как вы там живете… хорошо, наверное, раз от Москвы-то недалёко? – по-видимому, сторожиху очень интересовал ответ на этот вопрос.
– Да не знаю, как и сказать-то, когда там жил казалось не больно хорошо живем, а вот посмотрел тут на ваши деревни и, пожалуй, у нас немного получше будет. Моя-то деревня Александровки вашей поболе и дома получше.
– Мать-то с отцом есть? – не обратив внимания, на нелестный отзыв о ее деревни, спросила сторожиха.
– Есть, и отец и мать, и две сестры старшие.
– Сестры в деревне?
– Нет, обе замуж в города вышли.
– А чего ж это вы все разбеглися-то, раз, говоришь, жизнь у вас там лучше, чем здеся? – вдруг сурово спросила старуха.
– Ну, как вам… – Федя даже немного растерялся. – Да не мы одни, у нас там уж почти вся молодежь разбежалась. Скучно уж больно, особенно зимой, мир хочется посмотреть.
– Вот и здеся тоже оставаться никто не хочет, тоже все бегут как оглашенные. У меня двое сыновей, оба на строительстве ГЭС работали. Так не то что в деревню не стали возвращаться, и в Серебрянске оставаться тоже не захотели, в Усть-Каменогорск подались, там на стройке работают, в общагах мучаются, но назад в колхоз ни в какую не хотят. Вот тоже так, скучно им тута, – старуха нахмурилась и умолкла.
Федя почувствовал себя неловко, но уходить из относительного уюта и тепла в прохладную сырую ночь, в холодный тягач не хотелось. Чтобы разрядить обстановку он решил переменить тему разговора:
– У вас тут, я слышал, в гражданскую войну бурные события происходили. Вон памятник коммунарам стоит. Их что тут прямо и расстреляли? Вы то, наверное, помнить должны, вам тогда сколько лет-то было?
Сторожиха ответила не сразу, поднялась что-то поискала в углу небольшого помещения, вернулась, прикрутила фитиль лампы… Зачем все это она делала было неясно, но Федя, видя что она не отвечает, не решился переспросить, и в помещении воцарилось молчание. Ответила она через несколько минут, когда Федя уже и не ждал, думая, что старуха обиделась на всеобщее стремление молодежи бежать из деревни и больше не хочет разговаривать.
– Девять лет мне тогда было.
– Девять… в девятнадцатом. Так вы с десятого года? – удивленно протянул Федя, не веря, что женщине, которую он величал бабушкой всего 56 лет и она чуть старше его отца и матери. – Тогда вы, наверное, и не помните.
– Я все помню, – так же после некоторой паузы ответила сторожиха. Вот тута их расстреляли, на энтом самом месте, где ферма стоит и коровы срут, – неожиданно зло и в то же время с каким-то непонятным удовлетворением проговорила сторожиха.
– А вы… вы, наверное, видели все, или прятались, – продолжал допытываться Федя.
– Зачем прятаться, мы все в чистое нарядились и смотреть пошли.
– Как это смотреть, – не мог понять бывший пионер, нынешний комсомолец и лейтенант Советской Армии, на родине которого не проходили фронты гражданской войны, воспитанный в чисто советском духе. – Там же белые красных, большевиков расстреливали?
– Ну да, большевиков… Вот сход и собирали, решали как быть и наши, и березовцы… порешили расстрелять, – как-то буднично поведала сторожиха.
– Погодите, какие ваши? Разве ваши родители не крестьяне были, вы же говорите, что в этой деревне с рождения живете?
– Это она сейчас деревня, а тогда она считалась казачьим поселком. Большой был поселок, против нонешнего впятеро, а то и боле был. И отцы, и деды, и дядья у меня казаки были, – опять с каким-то зловещим спокойствием поведала сторожиха.
– Так, что и ваш отец в расстреле том участвовал? – Федя не мог так просто поверить, что беседует с дочерью белогвардейца. Ему тогда тоже казалось, что все «беляки» бесследно сгинули в той гражданской, не оставив, ни следа, ни потомства.
– Не было у меня тогда отца, его еще в германскую убили, мать за его брата родного вышла опосля, то есть за дядю мово. Так вот он расстреливал, и закопали тут же, – по-прежнему невозмутимо говорила строжиха.
– И это как же вы после-то? – спросил совершенно ошарашенный Федя.
– Опосля-то?… Так и жили. Как красные пришли, дядя с поселковым атаманом в горы ушел и больше не вернулся. А нас тут мытарили, мамку мою два раза ссильничали… других, у которых мужья в партизаны на белки ушли, тоже. Как ни взойдет какой-нибудь отряд, так сразу, где здесь жены беляков живут, или где тут казара живет, это оне так казаков называли. В дома заходят, жрут, грабят, птицу, скотину режут, а как пожрут тут же хозяйку на перину, или прямо на полу. Меня спасло, что малая еще была, а кому побольше те не убереглись, бывало и 12-ти летних сильничали…
Федя сидел, сжимая в руках кружку, и не мог поверить, но и в то, что женщина говорит неправду, он тоже не мог поверить. Он не знал, что делать и как реагировать, сидел красный то ли от выпитого чая, то ли от услышанного, а скорее всего, и от того, и от другого. Совсем недавно вышедший на экраны приключенческий фильм «Неуловимые мстители», показывал гражданскую войну совсем другой, увлекательной, веселой, с благородными красными героями.
– Ой, сынок… ты что!? Ой, обалдела я дура старая!.. Ты… ты не слушай, прости меня Бога ради, не верь, это я так сама не знаю чего нашло-то на меня. На вот еще попей чайку горяченького… нако-на выпей, – сторожиха словно спохватившись, очнулась от приступа непонятной откровенности и просила чуть не плача. – Что же это я болтаю-то, ведь потом-то очень даже неплохо мы жили при советской-то власти. Нам тогда новоселов подселили, а то ведь мужиков-то почти не осталось, одне бабы, а оне многие и замуж за тех новоселов повыходили. Многих брали, разве что тех, про кого знали, что помногу раз их сильничали не брали. И вообще после 22 году куда спокойнее жить-то стало. И я вот выросла, в колхозе работала, замуж вышла, двух робят вырастила, в городе в Усть-Каменогорске живут, семьи у обоих, квартеры скоро получить должны. Нет, советская власть не даст пропасть. А что я тебе тут… не верь, забудь сынок, прости ты меня дуру, ради Христа…
Воспоминания двадцатилетней давности совсем отбили сон, уж очень они были какие-то скверные, оттого, видимо, так глубоко и отчетливо запечатлелись в памяти. Тут же в процессе самопроизвольного брожения «по волнам своей памяти» Ратников стал припоминать наиболее яркие эпизоды тех лет. «Капитально остановился» на еще одной примечательной встрече, произошедшей в годы его офицерской молодости. Мимо данного эпизода пройти было никак нельзя, ибо пожалуй единственный раз в своей жизни он встречался с глазу на глаз, более того имел продолжительную беседу с одним из самых известных людей страны. Это получилось чисто случайно, но и та встреча и разговор, опять же, ярко отпечатались в его памяти, хотя тоже случились довольно давно в октябре 1970 года. В том памятном октябре, тогда уже командира батареи старшего лейтенанта Ратникова отправили в командировку в Зыряновск. И надо же такому случится, что та командировка совпала с тем днем, когда там давал свои концерты Владимир Высоцкий. На последнем начавшемся в девять часов вечера концерте и побывал Федор, а потом, воспользовавшись, что они остановились в одной гостинице, он пригласил артиста к себе в номер, где они и проговорили далеко за полночь. Как ни странно, эта встреча имела определенную заочную связь и с Ольгой Ивановной, тогда еще далеко не старой учительницей. Именно следствием той беседы с Высоцким стало и знакомство и первая беседа на окололитературные темы между тогдашним двадцатичетырехлетним старшим лейтенантом и 36 летней учительницей ново-бухтарминской средней школы. Впрочем, тот мимолетный разговор не имел продолжения и Федор Петрович за столько лет успел его подзабыть. Но, именно сейчас, ночью, мучимый бессонницей Ратников отчетливо вспомнил не только их совместную выпивку и разговор с Высоцким в гостиничном номере, но и тот, казалось, бы ни к чему не обязывающий обмен мыслями молодого офицера и учительницы средних лет. К тому же тогда Федор еще понятия не имел о прошлом Ольги Ивановны…
26
В ту командировку в октябре 1970 года Федор ехать очень не хотел – и в батарее дел было невпроворот, и дома жена с полугодовалым сыном. Тем не менее, в управлении полка в положение молодого комбата войти не пожелали и в приказном порядке его «пристегнули» к двум полковым майорам, направляющимся в Зыряновск для проведения мобилизационных сборов. Едва командировочные офицеры сошли с поезда Усть-Каменогорск – Зыряновск, в глаза Федору бросилась афиша возвещавшая, что завтра в течении всего дня в городском ДК «Горняк» состоятся сольные концерты артиста театра и кино Владимира Высоцкого. Вместе с Федором тогда командировали майора Доронина, ответственного за мобилизационную работу в полку и главного энергетика полка майора Киржнера. Эти офицеры, Доронин недавно, а Киржнер давно, уже уволились в запас по возрасту, но след, оставленный в памяти Федора Петровича той трехдневной командировкой, оказался настолько глубок, что он хорошо помнил их обоих.
Так вот, увидев афишу, Федор предложил своим старшим товарищам сходить на концерт, раз уж гастроли московской знаменитости совпали с их командировкой. Майоры, в общем, были не против, и Доронин переговорил на эту тему с встречавшим их зыряновским райвоенкомом. Военком пообещал прозондировать почву, но ничего конкретно не посулил. Федор же очень надеялся, что столь нежеланная для него командировка обернется возможностью воочию увидеть артиста, который тогда год от года набирал популярность на пути к неофициальному титулу кумира советских людей, в первую очередь молодежи.
Переночевав в гостинице, офицеры на следующий день стали проводить запланированный мобилизационный сбор. У райвоенкомата собралось до трех сотен резервистов из города и района в возрасте от 25 до 40 лет, в основном рабочих с металлургического комбината и рудников, располагавшихся в окрестностях города. Они, согласно мобилизационного плана, должны были в случае объявления войны поступать в распоряжение наиболее близкой к Зыряновску воинской части, полка ЗРВ, дислоцированного в Серебрянске. Этому полку в военное время в кратчайшие сроки предписывалось развернуться в бригаду. В ходе непродолжительных бесед с каждым из резервистов офицеры с учетом их опыта срочной службы и образования определяли ВУС, военно-учетную специальность, которая и закреплялась за данным резервистом. С этими делами управились к обеду. А после обеда военком сообщил, что билетов в кассе ДК нет даже на последний концерт, который начинался в 21 час. Тем не менее, военком оказался в городе фигурой весомой и сумел договориться, чтобы командировочных офицеров пустили в зал без билетов на приставные места. На последний концерт в зал набилось народу значительно больше, чем имелось посадочных мест, в том числе и приставных. В общем, народ просто стоял в проходах, и с приставных мест сцены было почти не видно из-за спин стоявших. Федору чтобы что-то увидеть тоже пришлось простоять почти весь концерт. Майоры, увы, прежде всего сорокалетний Киржнер, также стоять долго не могли, и большую часть концерта вынуждены были просто слушать Высоцкого, ибо сцены не видели.
А на сцене имела место быть одна и та же картина: невысокий человек в вязанном свитере, с длинными волосами сидел на стуле перед микрофоном с гитарой в руках и глухим хриплым голосом пел свои песни, как широко известные всей стране, так и малоизвестные, а то и вовсе не известные местной публике. Федор, и этот голос, и исполнителя знал очень хорошо. Но впервые он видел и слышал его, так сказать, вживую. И даже в том душном, битком набитом зале с отвратительной акустикой, ощущалась какая-то необычная магическая сила его голоса. То была не децибелльная сила оперных солистов, то была какая-то другая, внутренняя сила, дававшая барду возможность властвовать над слушателями, куда в большей степени, чем обладателям иных сверхмощных голосов. После исполнения каждой песни в зале возникала овация, раздавались выкрики-заказы исполнить ту или иную известную песню. Бард на эти пожелания не реагировал – видимо у него имелся отработанный график очередности песен, и он его строго придерживался. Тогда у Федора было еще отличное зрение, и он отчетливо видел, что песни даются артисту не без труда, его осунувшееся лицо нет-нет, да и кривила гримаса усталости. Видимо, предыдущие пять концертов данные им в течении дня его основательно вымотали и последний шестой он явно вытягивал «на зубах». Где-то в середине концерта бард, дождавшись когда утихнет очередная овация, обратился к залу:
– Чем меньше вы мне будете хлопать, тем больше я вам успею спеть…
В тех словах прослеживалась суть уникального артиста. Он не сомневался в своей запредельной популярности, и ему не нужно было ее подтверждение в виде долгих и продолжительных аплодисментов. Прежде всего, ему хотелось донести до зрителя даже в этом захолустье как можно больше своих песен. Федор все два часа простоял на ногах, не ощущая никакого дискомфорта, ничуть не устав, в отличие от майоров, которые еле дождались конца. Понятно, что и в гостиницу офицеры вернулись в разном настроении, Федор полный впечатлений, майоры матерясь и ругая его за то, что «сбил их с понталыку», уговорив сходить на этот концерт. Особенно майоров возмущало то, что они промучились в тесном душном зале вместо того чтобы «культурно» отметить завершение командировки, ведь в запасе у них имелось три бутылки водки и солидный запас закуски, коими их снабдили жены.
– А сейчас что, уже двенадцатый час ночи, а допивать и доедать надо, не назад же все это завтра везти, – выдал руководство к действию полковой «мобист» Доронин.
И в тот момент, когда командировочные принялись «накрывать на стол», дабы не пропала водка и закусь… тут Федора вдруг осенило:
– Товарищи майоры, а ведь Высоцкий наверняка тоже в этой гостинице ночует. Насколько я знаю она в городе одна. А что если пригласить разделить его с нами ужин, а?
Майоры сначала чуть не подняли своего молодого коллегу на смех, явно не веря в успех этой затеи. Потом, опять же со смехом, предложили, если у него свербит в одном месте бегать в полночь по гостиничным номерам, то пусть идет и приглашает, не сомневаясь, что Федор никуда не пойдет. Но Федор пошел. Он спустился в вестибюль гостиницы и осведомился у дежурного администратора: здесь ли остановился артист Высоцкий. Оказалось, что действительно Высоцкому отдел культуры горкома снял номер люкс, куда его совсем недавно и привезли с концерта. Но самые удивительным оказалось то, что бард гастролировал один, безо всякой свиты и сопровождающих, и в номере он проживал тоже один.
Федор осторожно постучал в дверь люкса. Ответа не последовало. Постучал громче… Послышался звук поворачиваемого в замке ключа, дверь распахнулась в проеме стоял Высоцкий… Он явно не соответствовал своей фамилии. Федор, совсем недавно видя артиста на сцене, определил что он невысок, но не ожидал, что до такой степени. Бард оказался чуть не на голову ниже его. Свитер он уже снял и теперь был в рубашке и брюках. Попутно Федор кроме небольшого роста отметил еще две отличительные черты внешности барда. Первое, чудовищьные «мешки» под глазами и еще… Без свитера у него особенно бросалось в глаза сочетание, казалось, несочетаемого: по всему это был физически достаточно крепкий, сильный человек, но при этом он имел узкие, скорее подростковые нежели мужские плечи.
– Извиняюсь за беспокойство Владимир Семенович. Позвольте поблагодарить вас за замечательный концерт, – словно отдавая рапорт старшему начальнику, заговорил Федор, попутно излучая доброжелательную улыбку.
– Рад, что вам понравилось мое выступление, – устало и несколько удивленно ответил бард.
Высоцкий хотел еще что-то сказать, но почему-то запнулся, словно не найдя нужных слов. Этой заминкой воспользовался Федор, обрушив на артиста новую порцию улыбчивого дружелюбия и слов:
– Владимир Семенович, мы офицеры гвардейского Серебрянского зенитно-ракетного полка приглашаем вас в свой номер разделить с нами наш скромный стол, и если вы не против, можно немного и выпить…
Высоцкий слушал старшего лейтенанта, глядя на него снизу вверх, слегка прищурив взор. Даже после того как Федор перестал говорить, он выдержал небольшую паузу, о чем-то размышляя, потом словно очнулся:
– Что ты там сказал старлей… поесть… выпить? А знаешь, я ужасно хочу жрать. У меня вообще-то кое что есть, тут меня снабдили, но после этих концертов просто нет сил даже консервы открыть, не то чтобы что-то согреть. Устал до невозможности, ничего не могу, даже уснуть не могу, нейдет сон, – вдруг с какой-то обезоруживающей доверчивостью к совершенно незнакомому человеку признался Высоцкий. – Где вы, говоришь, базируетесь?
– Этажом ниже, комната 224, – не веря в свою удачу, дал «координаты» Федор.
– Хорошо, я скоро подойду…
Высоцкий подошел через пятнадцать минут. В дверь он постучал негромко и вежливо осведомился:
– Здесь остановились гвардейцы-ракетчики?
На этот раз он был в том же самом свитере, в котором выступал в «Горняке». Начали знакомиться. Первым представился Киржнер:
– Борис Григорьевич, коренной киевлянин…
Зачем главный полковой энергетик назвал, откуда он родом было непонятно. Высоцкий в ответ как-то мельком, но пронзительно на него взглянул, пожал руку и тут же отвел глаза, будто не желая больше смотреть на этого человека.
– Владимир, – протянул свою руку Доронин.
– А чего же вы ни отчества ни родины своей не назвали, – спросил Высоцкий и тут же насмешливо скосил глаза на Киржнера, чем явно смутил того.
– Да к чему отчество Владимир Семенович, мы же с вами и тезки и одногодки. А родом я с Сибири, из под Красноярска, – простодушно улыбался Доронин.
– Очень приятно, рад знакомству с тезкой, да еще ровесником, на этот раз Высоцкий с искренней доброжелательностью пожал руку Доронину.
– Ну, а я Федя, родом с Ярославской области, – с прежней не сходящей с его лица лучезарной улыбкой подал свою большую ладонь старший лейтенант.
Высоцкий и ему ответил такой же улыбкой.
– Прошу к столу Владимир Семенович, – Доронин сделал приглашающий жест.
– Да, вот ребята, возьмите, это от меня презент вашему столу, – Высоцкий до того державший левую руку за спиной оттуда ее выпростал. В руке у него оказалась бутылка кубинского рома «Гавана-клуб».
– О, импортное! – принимая бутылку, изрек Доронин, рассматривая этикетку…
Высоцкий действительно оказался страшно голоден. Едва выпили за знакомство он, извинившись за свой волчий аппетит, принялся, наворачивать все, что перед ним стояло на столе. Пододвинул к нему тарелку со своей домашнего приготовления курицей и Киржнер, со словами:
– По семейному, бабушкиному рецепту готовили.
Высоцкий в ответ вновь ожег взглядом уже седого майора, но к курице не притронулся, предпочитая ей соленья что привез из дома Доронин, и пирожки которые напекла, собирая мужа в дорогу, Аня… Потом пили за защитников Родины. Потом, за творчество Высоцкого и разговор, несмотря на то, что уже минула полночь, потек легко и непринужденно. Очередной тост Высоцкий вдруг предложил за тридцать восьмой год, в котором они с Дорониным родились. При этом он как бы намеренно игнорировал более старого Киржнера. Полковой энергетик внешне перенес это стойко, не моргнув глазом выпив за год рождения обоих Владимиров. Потом пили еще и еще, потом водка кончилась и раскупорили ром принесенный Высоцким, хоть тот и предупредил, что мешать водку с ромом небезопасно… Центром и связующим звеном застольной беседы был Высоцкий, а так как он намеренно не общался с Киржнером, тот все более ощущал себя за столом лишним. Может потому, а может ему действительно стало после рома невмоготу, но пожилой майор заявив, что на сегодня свою норму выпил, отбыл на свою кровать, и вскоре оттуда послышалось мерное похрапывание. Отряд, что называется, не заметил потери бойца. Тем временем между оставшимися собеседниками дистанция все более сокращалась. Когда в очередной раз Доронин назвал Высоцкого Владимир Семенович, тот заявил, чтобы тот больше не смел его больше так называть. Для тезки и ровесника он только Володя. Растроганный Доронин пьяно запричитал:
– Спасибо Володя. Всем расскажу, как ты на всю страну известный уважаемый человек, а нас вот так уважил, пришел к нам, не отказал… Мы что, мы люди простые, на таких как ты, как на звезды на небе смотрим…
Вскоре ром оказал свое сногсшибательное воздействие и на Доронина, и он, извиняясь перед Высоцким, тоже отправился спать. Едва и второй майор захрапел вслед за первым, бард до того казавшийся едва ли не таким же пьяным вдруг усмехнулся и вполне трезвым голосом заявил Федору:
– А ты хитрый старлей, выпиваешь не до дна, иной раз по полрюмки оставляешь.
– Да у них же желудки луженые, они же проспиртованы насквозь, и если бы я пил на равнее с ними, уже бы давно пластом лежал, – откровенно озвучил причину своей хитрости Федор. А вот от вас Владимир Семенович никак не ожидал, что вы наших майоров перепьете, – в голосе старшего лейтенанта звучали нотки уважения.
– Да не перепил я их, просто знаю один секрет, позволяющий и тосты не пропускать, и при этом мордой в тарелку не тыкаться. Я же не так просто задержался перед тем, как к вам идти. Впрочем, сейчас это не важно. Слушай Федь, хочу тебя спросить, ты мои песни хорошо знаешь?
Вопрос Высоцкого прозвучал для Федора совершенно неожиданно…
27
Воспоминания шестнадцатилетней давности оказались прерваны. Анна вдруг повернулась во сне на бок, лицом к мужу и он, до того касавшийся ее плеча и бедра теперь ощущал куда более мягкие живот и грудь. К тому же теперь она дышала ему прямо в щеку. Именно последнее обстоятельство заставило и его несколько скорректировать положение своего тела. Ратников лег чуть выше, и теперь дыхание жены приходилось уже ему в район плеча и не отвлекало. Вскоре процесс воспоминаний возобновился…
– Да, у меня дома целая магнитофонная катушка ваших песен и мы с женой их часто слушаем, – Федор с удовольствием признался, что является поклонником барда.
– Ну и как они тебе, все ли нравятся, только честно? – бард явно хотел услышать правдивое мнение, а не дежурные хвалебные дифирамбы.
– Конечно все, – Федор не прочувствовал, что же от него хочет артист.
– Хорошо, а какие самые твои любимые? – «зашел» с другой стороны Высоцкий.
– Да многие… «Штафные батальоны» например, или «Я як-истребитель». А жене особенно песни из «Верикали» нравятся. Вот в отпуске были, посмотрели фильм «Хозяин тайги», мне и оттуда ваша песня понравилась…
Высоцкий внимательно с непроницаемым лицом слушал старшего лейтенанта, а потом объяснил причину своего интереса:
– Ты Федь извини, что я к тебе с этими вопросами пристал. Но меня очень волнует, как мои песни воспринимает современная молодежь, но не вся. Мне совершенно не интересно мнение шпаны из подворотен, да и простых работяг тоже не очень. Что им нравится из моих песен, я знаю. А как воспринимают их ребята вроде тебя, молодые офицеры, инженеры, ученые, моряки, полярники, студенты. Потому скажи мне честно, может кому-то из твоих знакомых в моих песнях что-то конкретно не нравится и что именно. Со стороны-то оно видней.
Наконец и Федор осознал, чего именно хочет от него услышать бард, потому не сразу нашелся что ответить, к тому же воздействие выпитых водки и рома мешало ему сосредоточится.
– Знаете, Владимир Семенович, раньше мне все ваши песни нравились, – неуверенно начал Федор и поняв, что сказал не то, будто споткнувшись, замолчал.
– А сейчас, что уже не все, – бард не мигая в упор смотрел на собеседника, словно подгоняя того думать быстрее.
– Да нет, я не то хотел сказать, – поспешил выправит ситуацию Федор. – Тут дело не во мне. Просто я недавно от подруги своей жены, тоже жены офицера, которая работает учительницей в поселковой школе… Ну, в общем, та подруга тоже ваша поклонница, но у себя на работе поделилась мыслями о вашем творчестве с тамошней учительницей русского языка и литературы. И вот та учительница высказалась о ваших песнях не очень. Мы, конечно, с ней не согласны, ни я, ни жена, ни ее подруга.
– И что именно той учительнице не понравилось в моих песнях? – на скулах барда стали заметно шевелится желваки, а во взгляде явно нарисовалось какое-то ожесточение.
Федор заерзал на стуле, будто тот стал горячим, но ничего не оставалось, как быть откровенным до конца:
– Ну, в общем, там у вас песня «На нейтральной полосе» начинается словами «На границе с Турцией, или с Пакистаном». Вот она и обратила внимание, что этот текст безграмотный с географической точки зрения, потому что у нас действительно есть граница с Турцией, а с Пакистаном нет и никогда не было. И в песне «Удар удар, еще удар» такая же история, Буткеев у вас одновременно и краснодарец и сибиряк. А этого просто не может быть, так как…
– Погоди, погоди, я что-то не врублюсь, – перебил Высоцкий. – Ох, водку эту с ромом не надо было мешать, мысли путаются. Ты Федя не скачи как пришпоренный. – Не пойму, какая же тут ошибка? Вот майор, тезка мой и одногодок, Володя, он же сибиряк из Краснодара.
– Да нет, Владимир Семенович, майор этот он не из Краснодара, а из под Красноярска. Это разные города. Красноярск в Сибири, а Краснодар на Кубани, – пояснил Федор, про себя недоумевая, что объездивший с гастролями весь Союз знаменитый артист, не знает, вроде бы, таких простых вещей.
– Действительно, – в некоторой прострации, чуть поразмыслив, согласился бард. – А песня эта она уже года четыре как написана и я как-то не задумывался Краснодар… Красноярск. Но сейчас уже ничего не изменить, поезд ушел, эту песню по всей стране именно с такими словами знают и поют, без особого сожаления констатировал факт артист. А с этим Пакистаном, у нас, что действительно границы нет?
– Нет, с Турцией есть, а с Пакистаном нет.
– Надо ж ерунда какая. Хотя знаешь, вспомнил, несколько лет назад, на этот Пакистан, будь он неладен, мне уже кто-то указывал, что неточность. Я ведь никогда особо не был силен в географии. Сейчас вот поездил по стране, более или менее ориентируюсь, а раньше, – Высоцкий устало махнул рукой. – Потому и встречаются в некоторых моих песнях такие вот… неточности.
– Знаете, а я, когда слушал ваши песни, тоже все эти неточности как-то не замечал, вообще не воспринимал, настолько мне ваши песни нравились, хотя я географию всегда хорошо знал. И до сих пор бы внимания не обращал, если бы не та учительница, – словно оправдывался Федор.
– Надо ж… – бард с усмешкой покачал головой. – А эта учительница замечательная, которая все замечает, она, что тоже молодая?
– Я, вообще-то с ней не знаком, так со стороны иногда видел, когда старшим на школьной машине школьников с нашей точки возил. Да нет, она средних лет, пожалуй даже постарше вас будет, – вновь оправдывающимся тоном ответил Федор.
– Понятно. Запомни Федя, хоть эта ваша сельская училка и знает, что у нас нет границы с Пакистаном, а я не знаю… не знал, это все чушь, ерунда, плюнуть и растереть. Потому что не ее, а мои песни слушают и поют миллионы людей. И если я написал, что Буткеев из Краснодара сибиряк, то эти миллионы этому верят, и про границу с Пакистаном тоже. Чтобы критиковать мои стихи надо иметь моральное право, а такового эта ваша училка не имеет. Меня может критиковать только настоящий большой поэт, а таковых, только тебе признаюсь… таковых и вовсе нет, – Высоцкий явно разозленный разлил остатки рома, получилось меньше чем по полрюмки.
– Ну, как же, Владимир Семенович, неужели у нас нет хороших современных поэтов? – недоуменно отреагировал Федор на высказывание барда, вслед за ним словно воду сглотнув ром.
– А кто? Я вижу ты парень подкованный, грамотный. Давай на вскидку, кого ты из современных считаешь большим поэтом. Не хорошим, таких много, а настоящим большим, который войдет в историю как Пушкин, Лермонтов, – Высоцкий принялся закусывать тем, что оставалось на столе, но по-прежнему как будто не замечал курицу Киржнера.
– Ну, не знаю… ну кто сейчас больше всех на слуху… Мы «Юность», журнал выписываем, там иногда печатают, потом на их стихи тоже песни поют. Например, Рождественский, Вознесенский, Евтушенко, – назвал фамилии трех наиболее продвинутых советских поэтов Федор, ибо и его и Анны вкусы, как и значительной части советской молодежи тех лет формировал именно журнал «Юность».
– Я так и думал, что ты их назовешь. Знаю я их, с Андрюшкой Вознесенским очень даже дружен. Но опять по секрету признаюсь тебе, эти ребята очень ловко устроились, умудряются и диссидентов из себя корежить и в то же время от власти все иметь, и членство в Союзе Писателей, и книги хорошими тиражами, с гонорарами тоже нехилыми, и за границу их свободно пускают. Ну, да ладно Бог с ними, умеют жить ребята, молодцы. А вот ты на память хоть одно из их стихотворений сейчас вспомнишь? – Высоцкий хмуро смотрел на Федора, доедая последний остававшийся на столе Анин пирожок.
– Я… на память?… Да как-то сейчас… Хотя вот сейчас… Ведь это Евтушенко написал слова песни «Хотят ли русские войны», я ее помню, хотя и не всю, – озвучил первое, что пришло в голову Федор.
– А еще? – продолжал «давить» Высоцкий.
– Кажется, на слова Рождественского Магомаев пел песню «Свадьба»… – более ничего из творчества названных им поэтов Федор не вспомнил.
– Не густо. А моих песен ты сколько знаешь?
– Много, не сосчитать.
– Вот и народ так же. Этих официальных две-три, ну может с десяток, если их всех скопом посчитать, знают, а мои неофициальные по нескольку десятков, поют, друг у друга с магнитофонов переписывают. Разве не так?! – бард на последней фразе повысил голос.
– Так… – восхищенно смотрел на него Федор.
– Так кто же по-настоящему большой, народный поэт, они официальные члены Союза Писателей, или я… не член ничего!
Федор растерянно моргал глазами, не зная, что отвечать.
– Вот так-то старлей, запомни, настоящий судья для поэта, артиста, это не критик хоть столичный, хоть сельский, а народ, зрители, слушатели…
В комнате воцарилась тишина, нарушаемая только храпом спящих майоров. У Федора шла кругом голова и от «коктейля», получившегося в результате смешения водки с ромом и осознания, что своими словами он основательно разозлил барда. Высоцкий хмуро обозревал остатки пиршества на столе. Похоже, ему еще хотелось выпить, но спиртное закончилось. Из закуски оставалась только курица Киржнера и немного доронинской квашеной капусты. Высоцкий, в очередной раз проигнорировав курицу, поддел на вилку капусту и стал с хрустом ее жевать.
– Да, тяжелая здесь у вас служба ребята, прямо скажу не фонтан, – бард вдруг резко сменил тему. – А вам тут за отдаленность и прочие неудобства какой-нибудь коэффициент к зарплате доплачивают, или как на Дальнем Востоке, где год за полтора идет?
– Коэффициент есть, но так мелочь, всего пятнадцать процентов к должностному окладу, а выслуга как в Москве или Крыму год за год, – с явным неудовольствием озвучил «плату» за перенесение «тягот и лишений» Федор.
– Знаешь, – бард перестал жевать и заговорил вновь доверительно, – я ведь большую часть жизни в Москве живу, ну еще в детстве с отцом в Германии, он там служил. А сейчас вот последние лет десять по Союзу часто туда-сюда мотаюсь и не перестаю удивляться, сколько же у нас малопригодных для нормальной жизни дыр. Мне вот тут говорили, что в этих горах добывается чуть не вся таблица Менделеева. Так почему же при таком богатстве люди здесь так убого живут? – Высоцкий одновременно обращался вроде бы к Федору и в пространство.
– Ну почему же, Владимир Семенович, я хоть сам и деревенский родом, но успел всякого повидать, и не так уж плохо здесь живут люди. Я вот здесь уже четвертый год после училища, так вначале и жена стонала, и сам хотел отсюда поскорее куда-нибудь перевестись, но постепенно привыкли. Люди здесь в большинстве своем живут очень хорошие, а это главное, – вступился за край Федор.
– Это ты молодец, и жена твоя, что духом не падаете, и вообще спасибо тебе за откровенность, за приглашение, за то, что накормили. Тезка вон, как проспится, ты ему передай мою благодарность, его капуста под выпивку отлично шла. Как бы мне хотелось сейчас, что-нибудь для тебя спеть, да нельзя, и гитару не взял, да и не время. Когда вот так же в компании выпиваю, и меня уговаривают спой да спой, не могу, противно, каким-то холуем себя чувствую. А вот так как сейчас, по-человечески, от души, и с интересными людьми, самому спеть охота, безо всяких уговоров. Вы ребята мне понравились, и ты Федя и Володя, одногодок мой. Не забудь передать ему всех благ, хороший он мужик, – Высоцкий вновь явно намеренно не упомянул Киржнера, давая понять, что его он почему-то нормальным мужиком не считает, хоть не перекинулся с ним и словом.
– Передам непременно, – поспешил заверить барда Федор.
– И еще Федя вот что хочу тебе на прощание сказать. Ты слышал такое выражение: жизнь надо прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы.
– Да слышал, это из какой-то книги, – подтвердил Федор.
– Не важно откуда, главное в точку. А ведь большинство людей проживают отпущенные им годы плохо, скучно, мучительно. У кого-то для лучшей жизни не достает, то ума, то желания работать, и они получают, что заслуживают. А бывает часто и так, вроде умный мужик, не лентяй, а живет не там и не так, как он мог бы жить. Вот и у вас тут та же история. Вот этот ваш майор, который киевлянин, мог бы все эти годы у себя в Киеве портки кроить, или еще чем-нибудь подобным заняться, жить и не мучиться. А он вот здесь, седой уже, а только майором стал. За что такие мучения? – Высоцкий недоброжелательно покосился на Киржнера, протянул вилку к капусте, но на тарелке уже и ее не осталось.
Федор молчал, чувствуя, что бард еще далеко не закончил своих напутствий. Видя, что тот по-прежнему не притрагивается к курице, он пододвинул ее к себе и, оторвав ножку, стал обгладывать.
– Вот ты говоришь, что здесь люди живут хорошие. Так почему же эти хорошие живут так плохо. И ведь почти везде так. Чуть от Москвы на восток, не дома, а хибары с бараками и в магазинах, ни жратвы нормальной, ни промтоваров. А вот, скажу тебе, на Украине и на Кавказе куда как лучше живут. Я знаю, про кавказцев многие говорят, что люди они не очень хорошие. А я со многими из них знаком, и скажу, да, они народ особый, но одно у них не отнять – они почти все умеют жить, устроить для себя и удобную, и сытую жизнь. Там у них и дома лучше, и дороги, и с питанием у них лучше. А вот здесь у вас, как и на Урале, и в Сибири, увы, жить совсем не умеют. Не умеют жить в кайф. Вот тебе и мой главный совет, надо жить в кайф. Понимаешь? И я так и живу, занимаюсь тем, чем хочу, играю на сцене, снимаюсь в кино, пишу и пою свои песни. А прояви я в молодости слабость, соглашательство, ничего бы этого не было. Сидел бы себе где-нибудь в НИИ или какой-нибудь конторе штаны протирал и мучился, как мучаются большинство людей. Но это еще не все, и любимое дело может так надоесть. Сколько раз я свои роли и в спектаклях, и в кино через силу играл, иногда даже на спектакли не приходил, напивался в стельку, настолько противны мне те роли были. Это когда я в «Служили два товарища» снимался, я ту роль как песню пел, насколько тот офицер был мне близок. А иной раз от роли прямо с души воротит, а играть надо. Вот в такие моменты надо уметь разряжаться, и получать тот же кайф, от всего, что можно получать. Догадываешься, что я имею в виду? – Высоцкий улыбнулся слушающему его чуть не с открытым ртом собеседнику.
Федор в ответ лишь недоуменно пожал плечами, а бард продолжил:
– В жизни много нам совершенно неведомого, и надо хоть раз, но попробовать все что можно и даже, что нельзя, так называемые запретные плоды. Кайф ведь водкой и бабами не ограничивается. Нас вот всех заграницей пугают. А я хочу там побывать, и не только в соцстранах, но и на Западе. Посмотреть хочу как там, что хорошо, что нехорошо, сам хочу судить, а не верить на слово всем этим политкомментаторам. За жизнь надо успеть, как можно больше повидать и попробовать. Ты анашу курил когда-нибудь, – вновь задал неожиданный вопрос бард.
Федор несколько секунд пребывал в размышляющем ступоре, а потом вновь ответил с предельной откровенностью:
– Да, как-то не приходилось. Я ведь в Ярославле учился, и там у нас эта дурь не в ходу была. Водку в казарму проносили, бывало, а вот это, нет. А вот ребята, что в Орджоникидзе учились, в тамошнем училище, многие курили. Говорили дерьмо, никому не понравилось.
– Нравится, не нравиться, это другой вопрос, главное попробовать, а уж дальше сам решай, стоит или нет по второму и третьему разу. Ты, наверное, в курсе слухов, что я колюсь? – на этот раз как-то обыденно спросил Высоцкий.
– Нее… не слышал, – Федор, не скрывая изумления воззрился на артиста.
– Тем не менее, это чистая правда. И ничего, живой как видишь. Главное чтобы зависимости не допустить, а попробовать все нужно, все ощутить, почувствовать, чтобы потом, в конце жизни не было мучительно больно. И я не сомневаюсь, мне больно не будет, ведь я живу в полный кайф, потому, что по большей части делаю что хочу. Вот сейчас мне срочно надо заработать много денег, я на все плюю на театр и прочее, все бросаю и еду на эти денежные гастроли. И я эти деньги получу, я не имеющий звания народного артиста, которого начальство ненавидит, здесь в дыре получаю за концерт 80 рублей при ставке 34 рубля с полтиной. Побольше, чем любой народный. Считай, за шесть концертов я сегодня за день заработал 480 рублей и все они мои, я ни с кем не делюсь. Отсюда я поеду в Усть-Каменогорск, там дам концерты, потом в… забыл тут у вас есть еще такой же, как этот горняцкий городок. Как его, – артист пощелкал пальцами и сделал мыслительную мину, но не вспомнил.
– Лениногорск, – подсказал Федор.
– Точно, и там у меня тоже шесть концертов. И везде меня ждут, и готовы платить почти по полтысячи. Потом лечу в Чимкент и то же самое. С этих гастролей я привезу почти 2000 рублей, и это за какие-то две недели. Ты сам-то сколько получаешь?
– Около двухсот чистыми в месяц, – отвечал Федор завороженный гастрольными заработками артиста.
– Ты наверно думаешь, зачем мне такая прорва денег? Сидел бы как все в своем театре на 120 рублях, ждал бы прибавки за стаж, или на коленях вымаливал звание и опять же прибавку. Но я не могу жить без кайфа. А деньги мне нужны не для того чтобы в ресторанах водку пить, или машину купить. Я ведь скоро женюсь Федя, а невеста у меня такая… В общем, не хочу перед ней нищим советским артистишкой предстать. Ты фильм «Колдунья» смотрел?
– Владимир Семенович, вы уж совсем нас тут за отсталых держите – раз далеко от Москвы живем, так щи сапогом хлебаем. Что-что, а насчет ваших отношений с Мариной Влади я в курсе, – с некоторой обидой отозвался Федор.
– Интересно, откуда, неужто, даже сюда слухи дошли? – на этот раз изумился Высоцкий.
– Ну, не знаю откуда этот слух, но моя жена она всегда интересовалась всей этой богемной жизнью, узнала откуда-то и меня в курс ввела.
– Да уж, сарафанное радио, оно самое быстрое в мире, рассмеялся Высоцкий. Запомни еще один закон жизни Федя, жить в кайф, это обязательно не испытывать недостатка в средствах, ни в чем и никогда…
28
Ратников вздрогнул и тут же «вынырнул» из воспоминаний в реальность. Сонная тишина дома показалась какой-то ненастоящей, а прошедшие в сознании картины прошлого, наоборот случившиеся только что и наяву. Эти две памятные встречи, сначала со старой казачкой, потом с Высоцким вроде бы не оказали на мировоззрение Ратникова никакого основополагающего влияния. Он и к Гражданской войне своего отношения не изменил, как был убежденным сторонником красных, так и остался, да и совет кумира миллионов советских людей Владимира Высоцкого, жить в кайф, был явно не для него – он никак не смог бы так жить. Но тот ночной разговор в гостиничном номере не прошел бесследно, более того имел косвенное продолжение, правда уже не с самим артистом, а, как ни странно, с майором Киржнером и потом… с Ольгой Ивановной, тогда еще носившей фамилию не Решетникова, а Байкова. За все эти годы то был их единственный обстоятельный разговор, хотя с тех пор уже и прошло много лет и мимоходом, мельком они встречались неоднократно, когда ему, случалось, заезжал за детьми в школу. Анна контактировала с Ольгой Ивановной куда чаще, но, опять же, это касалось только школьных дел и успеваемости детей. Тот же давний разговор с учительницей Ратников почти забыл, но сейчас почему-то восстановив в памяти встречу с Высоцким, явственно вспомнил и его.
Течение мыслей подполковника на этот раз прервала не внешняя, а внутренняя причина – позыв сходить по малой нужде. Обычно зимой вся семья «ходила» в ведро, установленное в коридоре. Но сейчас Ратникову вдруг захотелось выйти на воздух. Он осторожно поднялся, одел брюки, потом на цыпочках дошел до вешалки, накинул «танкач», шапку и так же бесшумно вышел из квартиры. Ему, казалось, что свежий морозный воздух поможет привести голову в порядок и, наконец, заснуть. Пока ходил туда-сюда, он вроде бы действительно перестал «жить прошлым». Тут и Аня, когда он укладывался, все же проснулась и шепотом выругала его за то, что шарится и не дает ей спать. Жена правда тут же вновь уснула, а Ратников… На Федора Петровича, увы, вместо долгожданного сна вновь нахлынули воспоминания, уже как третья серия, продолжение первых двух. Впрочем, действие этой серии происходило всего лишь спустя несколько часов после ночного разговора с Высоцким.
Утром следующего дня командировочные офицеры пробуждались очень тяжко и наверняка опоздали бы на автобус до Серебрянска, отправляющийся в полдевятого. К счастью этого не допустил военком. Он предвидел, что его коллеги после трудов праведных и концерта наверняка хорошо выпьют. Потому он загодя прибыл в гостиницу и до тех пор барабанил в дверь номера, пока пробудившийся раньше всех Федор не поднялся и не отпер ее. Военком приехал уже с билетами на автобус и стал всячески поторапливать мучающихся с похмелья офицеров. Благодаря этому им удалось вовремя «выдвинуться» из гостиницы к военкомовскому УАЗику, который и доставил их на автовокзал. Пока ехали и ожидали рейса, немного оклемались и загружались в автобус уже в более или менее нормальном виде. Киржнер почему-то выразил желание сесть рядом с Федором, а Доронин сидел перед ним. Едва автобус тронулся, Киржнер стал допытываться у Федора:
– Федь, а вы там после того как я отвалил, еще долго сидели?
– После вас Владимир Иванович минут через сорок спать пошел, ну а мы с Владимиром Семеновичем еще где-то часа полтора сидели. Ром допили и закусь тоже доели, удовлетворил любопытство майора Федор.
– А курицу мою кто доел? – чувствовалось, что ответ на этот вопрос очень волновал Киржнера.
– Я съел, очень вкусная была.
– А тот, значит, – так и не притронулся… побрезговал? – одновременно как бы и спросил и сделал вывод Киржнер.
– Ну почему побрезговал, с чего вы взяли, может он просто курицу не любит? Зато я с удовольствием ее оприходовал, – не согласился с мнением майора Федор.
– Ты это ты, а он… – Киржнер явно колебался, стоит или нет продолжать этот разговор, замолчав, он посмотрел по сторонам…
В маленьком ПАЗике сидели в основном женщины, пожилые и средних лет, ехавшие по своим надобностям в поселки и деревни двух соседних районов горной части области, Зыряновского и Серебрянского. Они либо дремали, либо вполголоса переговаривались. К тому, что говорит седой майор молодому старшему лейтенанту, никто не прислушивался. И все же Киржнер еще более понизил голос и наклонился к уху Федора:
– Он ведь, гад, специально меня вчера игнорировал, после того как я сказал, что родом из Киева, и курицу мою приготовленную по еврейски есть не стал.
– Борис Григорьевич, вы что же хотите сказать, что Высоцкий оттого не стал есть вашу курицу, что не любит евреев? – Федор едва сдерживаясь, чтобы не рассмеяться всем видом показывал, что подозрения майора нелепы.
– Фу, тяжко как. Черт бы побрал его ром, голова гудит и дышать тут нечем… Нее, надо с этой пьянкой завязывать, иначе точно до пенсии не доживу. Тут еще Иваныч с его командировкой, – Киржнер неодобрительно уперся взглядом в затылок и обтянутую шинельным сукном спину сидящего перед ним Доронина.
– Да брось ты Григорич, во всем я виноват. Будто вы там у себя в службе вооружения каждую пятницу в конце рабочего дня не квасите, запретесь и глушите ее родимую безо всяких командировок, – чуть повернув голову назад, ответил на «укол» Доронин.
Киржнер насупился и ничего не сказал. Некоторое время ехали молча, но старого майора по-прежнему буквально распирало поделиться своими соображениями о вчерашнем. И он вновь наклонился к уху старшего лейтенанта:
– Понимаешь, дело не в том, что он не любит евреев, тут другое. Он испугался, что я как коренной киевлянин, да еще спьяну начну говорить о его отце.
– А что его отец? Я слышал он офицер-отставник, фронтовик, не то подполковник, не то полковник, – не понимал, куда клонит Киржнер Федор.
– Да нет, я не о том. Его отец, он ведь родом тоже из Киева. Ну, а у нас там есть такая привычка как у одесситов, об известных людях, имеющих хоть какое-нибудь отношение к Киеву все узнаем, прежде всего всю родословную вплоть до третьего колена. И он наверняка об этом знает, – пояснил Киржнер.
– Ну что же вы могли за столом такое сказать об его отце, что Высоцкого так испугало, – по-прежнему не понимал, но уже проявлял интерес Федор.
– А то, что его отца зовут Семен Владимирович, и его самого, скорее всего, в честь деда назвали. Но стопроцентно выяснено, что деда Высоцкого первоначально звали не Владимир, а Вольф, и был он киевским стеклодувом, ремесло которым в Киеве занимались в то время исключительно евреи. Отсюда и отчество отца Вольфович, а не Владимирович. То есть, отец Высоцкого стопроцентный еврей, – многозначительно акцентировал последние слова Киржнер.
Федор с полминуты молча переваривал услышанное. Услышанное означало, что Владимир Высоцкий кумир миллионов советских людей, кумир его и его жены, любимый бард, артист, такой вроде совершенно свой, русский и… еврей. Это совершенно не вязалось ни с его обликом, ни с поведением, ведь он умел своими ролями и песнями затрагивать такие чувствительные струны души именно русских людей, что могло быть свойственно только истинно русскому человеку. При всем их таланте и любви народной те же Бернес и Утесов, всегда оставались, прежде всего, евреями, ибо в основном воздействовали на умы. Высоцкий же напрямую воздействовал именно на душу.
– Не может быть, – наконец отреагировал Федор с какой-то иступленной верой в невозможность того, что он услышал. – Он же такой… я же с ним говорил… он же с нами водку пил и не пьянел, – не зная, что говорить, Федор говорил первое, что ему приходило в голову.
– Я тоже водку пью, хоть и еврей и, будь помоложе, вам бы вчера не уступил. Я ведь, прежде всего, осознаю себя советским офицером и мне по статусу положено уметь пить. А он советский артист и ему тоже самое положено. Я тебе еще раз говорю, у нас в Киеве про таких людей все знают досконально. И я с полной ответственностью заявляю, что Высоцкий по отцу еврей, это доказанный факт. Его двоюродная сестра живет в Киеве, и она стопроцентная еврейка. А вчера он, – Киржнер презрительно мотнул головой в сторону удалявшегося Зыряновска, – очень опасался, что я расскажу напрямую или еще как о его еврейском происхождении. А он не хочет, стесняется этого, потому он вчера так себя и вел по отношению ко мне киевлянину и еврею. Про первое я сам ему сразу же сказал, а второе на моей роже написано. Он и смекнул, что я, наверняка, в курсе его родословной и делал все, чтобы я не имел возможности даже рта раскрыть. Ведь мог же все по-человечески устроить, отвести меня в сторону и сказать, если чего про меня знаешь, будь человеком не распространяйся. Да я и так ничего рассказывать не собирался. Так нет, все молчком исподлобья на меня зыркал, будто взглядом сжечь хотел…
Федор стал припоминать некоторые перипетии прошедшей ночи. Действительно после того как из-за стола ушел Киржнер, Высоцкий вроде бы стал ощущать себя менее скованным, с него словно спало какое-то внутреннее напряжение. От услышанного и домысленного Федору стало совсем не по себе. Хотя вроде бы, какая разница кто у Высоцкого отец, от этого его песни не стали хуже. Тем не менее, информация Киржнера неприятно поразила и побудила говорить с ним более резким тоном:
– Так вы что хотите сказать, что любой талантливый, выдающийся человек обязательно имеет еврейскую кровь?
– Нет Федя, я так не считаю, – мягко с добродушной улыбкой отвечал Киржнер, и тут же поморщившись потер виски.
– Говорите по отцу, а мать, кто у него мать? – решил все до конца узнать Федор в надежде, что любимый бард все же не до конца еврей.
– Мать у него русская, но с отцом Высоцкого развелась когда еще он ребенком был, а воспитывала его мачеха, кстати, по национальности армянка, – опять с некой подковыркой поведал сей факт Киржнер.
На этот раз Федор никак не отреагировал, но и этот факт его неприятно поразил, что такого человека воспитывала не «простая русская женщина», а представительница нации, которая в череде народов СССР тоже считалась весьма хитрой. Любви к барду не поколебало ни слабое знание тем географии, ни прочие неточности в его песнях, но сейчас Федор чувствовал себя так, словно у него украли очень ценную дорогую для него вещь.
Киржнер наблюдал за гримасами, возникающими на лице старшего лейтенанта с явным удовлетворением. По всему майор очень обиделся на сына своего земляка и теперь вот так мстил за обиду, пытаясь развенчать барда хотя бы в глазах одного из его поклонников.
– Федя, ты крещенный? – вроде бы резко сменил тему Киржнер.
– Вообще-то да, – Федор удивленный вопросом, посмотрел на майора соответствующе.
– Не бойся, не стану я тебя клеймить позором за то, что ты, мол, коммунист, а крещеный. Я не политработник. Все правильно, так и положено, тебе, русскому быть крещеным, православным. А я вот обрезанный, как и положено еврею. Ты рос в русской семье и тебя мать с отцом, как и положено воспитали, прежде всего, по-русски, я в еврейской и меня воспитали как еврея. Советское это все уже потом. А этот, – гримаса презрения исказило широкое носатое лицо майора. – Я уверен он и не обрезан, и не крещен. Он ни по-русски, ни по-еврейски не воспитан. Он человек без нации, потому и еврейство свое скрывает, но и настоящим русским тоже быть не может, потому что не матерью родной воспитан, не бабкой. Ты только не подумай, что я таких вот полукровок за людей не считаю. Я знаю полно таких наполовину русских, наполовину евреев. В Киеве, кстати, таких немало. Но они, как правило, либо русские по натуре, либо евреи. Чаще тут мать имеет решающее значение. Если мать русская, она и воспитает русского, а если еще и к бабке в деревню возит, то все, ничего еврейского в таком полуеврее не останется. А этот, повторяю, он и не еврей, и не русский, то есть стопроцентный советский человек. Он даже более советский, чем все наши идейные, пламенные коммунисты, политработники, члены Политбюро. Наверное, за то его вся эта верхушка и ненавидит…
– Григорич, кончай парню мозги компостировать. Володя нормальный мужик, я в этом вчера сам убедился. Чего ты на него взъелся, за то, что он курицу твою есть не стал? Тебе же Федя объяснил, может он просто курятину не любит, – вдруг повернул голову и включился в разговор Доронин.
– Да при чем здесь курица, – отмахнулся Киржнер, явно раздосадованный, что его перебили.
– Федь, не слушай его, очнись, скоро к повороту на твою точку подъедем, – обратился уже к пребывающему в состоянии «смятения чувств» Федору Доронин. – Выбрось всю эту чушь из головы, что Григорич тебя нашпиговал. Тебе сейчас предстоит три километра по полю топать, будь осторожен, сам знаешь, на волков можно напороться, – пытался возвратить старшего лейтенанта в реальность майор Доронин.
– Ты уж не пугай понапрасну, Иваныч. Какие волки средь бела дня, – возразил Киржнер.
– Ну это-то я получше тебя Григорич знаю. Как-никак восемь лет на этой «точке» отбухал, – довольно резко осадил Доронин Киржнера, сумевшему за всю свою долгую службу счастливо избежать «точечной» службы. – Водитель, вы там у съезда с дороги остановите, тут у нас один товарищ выходит! – крикнул через салон Доронин и автобус сразу стал притормаживать.
Федор благополучно добрался до места своей службы, хоть и не обращал ни на что внимания, почти не смотрел по сторонам, ибо продолжал «переваривать», что ему поведал в автобусе коренной киевлянин Борис Григорьевич Киржнер. Причем его мучила не «вненациональность» Высоцкого, а обычное негодование русского человека: неужто и здесь не обошлось без евреев, неужто даже Высоцкий…?! Такие мысли часто мучили русских интеллигентов на протяжении почти всего двадцатого века. И все же, придя домой, Анне Федор о частичном еврействе Высоцкого решил ничего не говорить. Не то чтобы он не до конца доверял Киржнеру, но решил не расстраивать жену, ведь она однозначно восприняла бы это известие, так же как и он, крайне негативно. Не обмолвился он об этом и сослуживцам, ни тогда, ни потом.
Очередная «серия» воспоминаний закончилась. Федор Петрович вновь вынырнул в настоящее, в декабрь 1986 года, в свою постель, на свою «точку», ту же самую, на которой он в первый раз служил в том 1970 году. Потом, в 1972 его перевели на другую, на должность начальника штаба дивизиона, где он прослужил до 1976, после чего вернулся, став уже командиром дивизиона. А тогда… тогда первые три «серии» имели и заключительную, четвертую. И теперь он уже просто не мог заснуть не «посмотрев» и ее.
29
Никому ничего не сказав о разговоре с Киржнером, Федор в то же время не делал тайны о совместном застолье с Высоцким. Аня буквально вытрясала из него все до мельчайших подробностей, как концерта, так и ночного разговора. Много раз пришлось всё это пересказать и сослуживцам. Тем не менее, и разговор с полковым энергетиком не выходил у Федора из головы. И вот уже где-то в декабре того же 1970 года, когда его назначили старшим на школьную машину… Высадив школьников, Федор не поехал сразу назад, ибо имел кое какие поручения, как от тогдашнего командира дивизиона, так и от других офицеров и их жен. Пока он их выполнял, минуло десять часов утра, и открылся поселковый книжный магазин. И к продавщице этого магазина у него имелось некое дело. С ней «крутил» один из его «точечных» сослуживцев, офицер-холостяк.
– Здравствуй Тань, – поздоровался Федор, заходя в магазин, едва он открылся, и где еще не было ни одного покупателя.
– Ой, здравствуй Федя! – Ты сегодня старшим приехал?… А я хотела к вашей машине подойти, спросить, чего это Женя уже вторую неделю не приезжает.
Продавщица была худощавая женщина 27 лет, явно не во вкусе Федора, но его сослуживец как раз любил худых и чуть старше себя. С ней были знакомы едва ли не все женщины с «точки» и многие офицеры. Еще до рождения Игоря Анна частенько специально выезжала в Новую Бухтарму, чтобы пробежаться по поселковым магазинам и обязательно зайти в книжный – книги всегда были дефицитным товаром.
– Да работы сейчас у него не впроворот, вырваться не может, но просил передать, что в эту субботу обязательно приедет, – выполнил и это поручение Федор.
Тут дверь магазина отворилась и в него вошла тоже худощавая, одетая в простенькое пальто и столь же неброскую шаль, но невероятно прямая, осанистая женщина средних лет.
– Здравствуйте Таня, – приятным голосом поздоровалась женщина с продавщицей и вежливо кивнула Федору.
– Здравствуйте Ольга Ивановна. Вы, наверное, за теми дидактическими пособиями, которые заказывали. Извините, но они еще не поступили, – продавщица виновато развела руками.
Федор тут же догадался: ведь это та сама местная учительница русского и литературы, про которую говорила подруга Ани. Федор вышел из магазина и хотел уже идти к своей машине. Но что-то его удержало. Что? Конечно же случившийся полтора месяца назад ночной разговор в гостинице с Высоцким, и на следующий день в автобусе с Киржнером. Ему вдруг нестерпимо захотелось спросить эту учительницу, что так критически отзывалась о творчестве барда. О чем спросить? В тот момент он и сам толком не мог сформулировать свои вопросы. Но само желание его буквально захлестнуло. Он просто хотел услышать еще одно компетентное мнение. Федор задержался у магазина, ожидая учительницу и, едва она вышла, подошел:
– Извините, вас ведь Ольга Ивановна зовут?
– Да, чем могу быть полезна? – удивленно воззрилась на обратившегося к ней высокого молодого офицера учительница.
– Вы ведь в школу сейчас пойдете… нам по пути, и я бы хотел вас кое о чем спросить, – Федор вдруг засмущался и покраснел.
– Подождите молодой человек, я действительно иду в школу, и если вы хотите меня о чем-то спросить, то хотя бы представьтесь, – с укоризненной улыбкой отвечала Ольга Ивановна.
– Извините пожалуйста, конечно, меня зовут Федор, а фамилия Ратников, еще раз извините, – лицо старшего лейтенанта смотрелось настолько виноватым, что учительница поспешила принять извинения.
– Хорошо, хорошо, да не расстраивайтесь вы так. Так о чем вы хотели меня спросить?
Ольга Ивановна неспешным шагом пошла по направлению к школе, Федор, приноравливаясь под ее шаг, рядом.
– Дело в том, что моя жена подруга Анфисы Косиловой, ну Анфисы Николаевны, что у вас в школе математику преподает. Так вот она, будучи у нас в гостях, передала ваше мнение о песнях Высоцкого, ну что в его текстах много неточностей и тому подобное. А полтора месяца назад, представьте, я ездил в командировку в Зыряновск и побывал на его концерте. И не только на концерте, после мы с ним встретились и довольно долго говорили уже в гостинице.
– Поздравляю, но раз вам передали мое мнение о творчестве Высоцкого, то, наверное, вы поняли мое отношение к нему? – тон учительницы выдавал удивление, что Федор заговорил с ней на эту тему.
– Да, это я понимаю. Но в том разговоре я ему сказал о вашем мнении насчет географических неточностей в его песнях. А он сказал, что все это ерунда, второстепенное. Главное, говорит, то, что его песни с этими неточностями миллионы людей слушают и поют. А потом он меня прямо спросил: как ты думаешь кто сейчас в Союзе лучший поэт? У меня жена с детства журнал «Юность» выписывала, ну и меня к нему же пристрастила. Я кого оттуда помнил тех и назвал, кто сейчас особенно на слуху: Рождественского, Вознесенского, Евтушенко. Он в ответ рассмеялся и в общем не впрямую, но дал понять, что сейчас лучший в стране поэт это он, потому что его стихи переделанные в песни знает значительно больше людей, чем тех поэтов, кого я назвал.
Ольга Ивановна внимательно слушала, ее лицо не выражало совершенно никаких эмоций, казалось, что ей совершенно неинтересна данная тема.
– Вот я и хочу узнать ваше мнение как специалиста… филолога. Я вообще-то и сам Высоцкого чистым поэтом никогда не считал, бардом да, то есть не совсем поэтом. А вы как считаете, его стихи лучше вот этих поэтов, которых все считают настоящими поэтами?
Они прошли половину пути до школы, и Федор уже видел стоящую рядом с ней их школьную машину. Ольга Ивановна вдруг остановилась и спокойно даже равнодушно заговорила:
– Знаете, а я пожалуй не смогу ответить на ваш вопрос.
– Как это… почему? – Федор даже немного растерялся.
– Потому что я не могу сравнивать поэтов или прозаиков, которые мне не нравятся. Да они все разные, друг на друга не похожие, но лично мне совершенно чуждые и большим поэтом, по-моему, ни один из них не является. Извините за откровенность, и за то, что не оправдала ваших ожиданий, но такая я вот несовременная, старомодная, – Ольга Ивановна виновато улыбнулась.
– Но подождите, при чем здесь современность, эти поэты, они ведь скорее вашего поколения, – ответ учительницы не удовлетворил Федора.
– Да, пожалуй, вы правы, те трое официальных действительно где-то моего возраста, или чуть старше, Высоцкий чуть помоложе. И все равно, ну не нравятся они мне… все не нравятся, хоть убейте, – негромко рассмеялась и возобновила движение Ольга Ивановна.
– Вы хотите сказать, что все современные поэты вам не нравятся? – уже с некоторым вызовом спрашивал Федор.
– Почему же? Кроме вами упомянутых, есть и другие, но они не умеют так продвигать, я бы даже сказала, навязывать обществу свое творчество, как эти четверо. Они скромные спокойные люди, потому им и сложно прославиться при жизни. Мне, например, очень нравятся стихи Николая Рубцова. Вам знакомо это имя?
– Нет, – недоуменно покачал головой Федор.
– Поверьте, это настоящий самородок с нелегкой судьбой. Такая же судьба и у его стихов. Они очень тяжело пробиваются к читателю. Он, кстати, где-то ровесник мне и тем, кого вы назвали, кроме Высоцкого, конечно, и в отличие от них до сих пор пребывает в неизвестности, потому, что печатают его весьма редко. А ведь некоторые его стихи тоже так и просятся в песни. Неужели вы, по всему интересующийся поэзией молодой человек, ни разу не слышали и не читали его стихов, таких как «В горнице моей светло», или «Тихая моя родина», – уже как бы стыдила собеседника Ольга Ивановна.
– Знаете… не так уж я и интересуюсь… да кое что знаю… но Рубцов как-то мимо меня прошел, – оправдывался Федор. – И что, по-вашему, он сейчас лучший поэт?
– Кто лучше, кто хуже, на это только время ответит. Но то, что он один из лучших я не сомневаюсь. Вот еще одно имя могу вам назвать – Юрий Левитанский. Он, правда, значительно старше и Рубцова и тех, что вы назвали. Очень умный и я бы сказала интеллигентный поэт…
Они уже стояли возле школы, Ольга Ивановна остановилась, не заходя за ограду, на школьный двор, ибо явно еще что-то хотела довести до сведения и сознания собеседника.
– Интересно вы оцениваете их, Ольга Ивановна. Вот этой самой интеллигентности в стихах как мне кажется нет, ни у Рождественского, ни у Вознесенского, ни у Евтушенко нет, тем более у Высоцкого. Интеллигентность это у поэтов прошлого была, у Пушкина, Лермонтова, – неожиданно выдал и свое теоретическое обоснование Федор.
– О, да вы обладаете способностью анализировать произведения поэтов разных эпох. А вот с этими вашими суждениями я полностью согласна. Действительно большинство русских поэтов в 20-м веке в погоне за дешевой популярностью в первую очередь у пролетарских масс, именно интеллигентность в своих стихах почти полностью утратили. И стихи Левитанского из этого ряда сильно выбиваются. Возможно это объясняется тем, что он не русский по-крови, а еврей. Почему-то именно у наиболее одаренных поэтов-евреев сохранилась эта старомодная интеллигентность в творчестве. Таковыми были и Пастернак и Мандельштам, а теперь эту эстафету несет Левитанский. Кстати, в отличие от Рубцова его печатают намного чаще. Вот и в этом году у него вышла книга стихов под названием «Кинематограф». Я ее недавно мельком видела, знакомые где-то достали. Пролистала и две вещи запомнились, «Диалог у новогодней елки» и еще «Сон о рояле» – это, на мой взгляд, настоящие шедевры. А вы разве ничего о Левитанском не слышали?
– Извините… нет, – Федор смущенно развел руками, одновременно фиксируя в поле зрения свою машину, так как к ней подошел прапорщик с их «точки», приехавший в поселок по каким-то своим надобностям. – Значит ваши любимые современные поэты это Рубцов и Левитанский, – вновь направил беседу в интересующее его «русло» Федор.
– Нет, просто из современных я их больше всех ценю, а мой любимый поэт всегда был и будет Павел Васильев, единственный и неповторимый… Что и это имя вам не знакомо? – уже более чем укоризненно спросила Ольга Ивановна.
– Нет… А он, что тоже из современных? – уже не знал куда деться от своей полной некомпетентности в данном вопросе Федор.
– Нет, он творил в 20-х и начале 30-х годов. Он погиб в тюрьме в 1937 году 26 лет от роду. Как же все-таки мало живут русские поэты, причем самые талантливые. Пушкин – 37 лет, Лермонтов – 28, Есенин – 30, а Васильев и того меньше, – вдруг сокрушенно покачала головой Ольга Ивановна.
Федор мельком взглянул на часы, потом на машину. То, что в нее кроме детей подсел прапорщик, рождало определенные опасение, что по приезду он «заложит» Федора командиру дивизиона. Ведь вместо того, чтобы ехать на «точку», он непонятно о чем болтает с учительницей. То было объяснимо, если бы у него имелись дети школьного возраста, но у Федора сыну еще не исполнилось и года. Но его так заинтересовал разговор с Ольгой Ивановной, что он решил не отказывать себе в удовольствии продолжить его.
– А как вы считаете, те поэты, которых я назвал, если они не такие уж по-вашему хорошие, значит скоро они начнут сдавать свои позиции и будут забыты? – в вопросе явно звучал вызов.
– Я не провидица и могу высказать только свое мнение. Мне же кажется то, что вы сейчас сказали, вполне может произойти в обозримом будущем с творчеством Рождественского, Вознесенского и Евтушенко. Что же касается Высоцкого тут все несколько сложнее, – учительница несколько замялась, словно засомневалась, стоит ли чрезмерно откровенничать с почти незнакомым ей человеком.
– Не хотите ли вы сказать, что его песни останутся в памяти людей, несмотря на их явную не интеллигентность, грубое содержание и географические ошибки? Но тогда получается, что именно он, несмотря ни на что, настоящий народный поэт, такой же… ну как Есенин. Есенин ведь тоже далеко не интеллигентные стихи писал, а его не забудут никогда, – экспромтом сделал вывод Федор.
– Если быть до конца точным у Высоцкого меня лично больше коробят не географические, а смысловые ошибки. Например, в его песне, кажется она называется «Штрафные батальоны», есть такое выражение, горящие русские хаты. Не может быть русских хат, хаты могут быть украинские, белорусские, но только не русские. Русские бывают избы. Но, похоже, ему это все равно. Тот же Есенин никогда бы такой ошибки не допустил. И потому их нельзя равнять, это несовместимые поэтические категории. У Есенина был настоящий божий дар, на мой взгляд, таким дарованием у нас в этом веке не обладал никто, да и сейчас не обладают. Творчество Есенина взросло на русской народной почве, у него под ногами была такая твердь. У Высоцкого я таковой даже отдаленно не вижу, как и ни у кого из современных поэтов. Разве что у Рубцова, но даже он по одаренности до Есенина сильно не дотягивает. А песни Высоцкого, думаю, еще довольно долго будут популярны по другой причине, – Ольга Ивановна была вынуждена прерваться, так как с ней поздоровалась группа идущих из школы девочек-старшеклассниц, которые с интересом посмотрели на беседующего с их учительницей высокого молодого офицера. Едва они прошли, Ольга Ивановна продолжила. – Вы обращали когда-нибудь внимание на то, каким категориям людей нравятся песни Высоцкого, особенно наиболее грубые из них, где встречаются слова типа «детских грыбочков» и «послушай Зин». Лично меня эта вульгарность и его исполнительская манера, на нарочитом нервном надрыве неприятно бьет по ушам, я просто не могу такое слушать.
– Вы хотите сказать, что такие песни в основном любят работяги и всевозможный приблатненный элемент, – высказал напрашивающуюся догадку Федор.
– Не совсем так. Поклонниками подобного творчества может быть не только пролетариат, но и определенный слой интеллигенции, у которой налет этой самой интеллигентности очень-очень тонок. Понимаете, о чем я говорю?… О большей части интеллигентов в первом поколении. А у нас сейчас таковых очень много особенно среди инженерно-технических работников, да и среди школьных учителей их тоже абсолютное большинство. Так вот, основной контингент поклонников Высоцкого как раз и составляют кроме, конечно, пролетариата, такая вот интеллигенция, – подвела итог своим умозаключениям Ольга Ивановна.
– Не совсем вас понимаю, это что же все кто интеллигент в первом поколении, то есть не совсем интеллигентам, ну типа меня, все мы потенциальные поклонники Высоцкого? – в голосе Федора звучала обида.
– Да нет… Я же не назвала интеллигентов в первом поколении ненастоящими. Ломоносов тоже был интеллигентом в первом поколении, как и множество других выдающихся ученых и писателей. Интеллигентность не всегда передается по наследству, это прежде всего некое врожденное качество помноженное на образование. Потому и в первом поколении человек может быть интеллигентным во всем, а другие закончив ВУЗ и даже всевозможные аспирантуры, тем не менее, остаются людьми грубыми, самоуверенными. Мне кажется именно таким интеллигентам всегда будут нравится песни Высоцкого, они им близки и понятны, – пояснила свою позицию Ольга Ивановна.
– Тогда получается, что уже дети этих кого вы имели в виду, став интеллигентами во втором поколении и избавившись от недостатков предков… им уже песни Высоцкого не понравятся, и лет эдак через двадцать его сегодняшней популярности наверняка не будет, – чуть подумав высказал очередную догадку Федор, забыв про время и не обращая внимания на прапорщика, который стоял возле машины и смотрел на него, всячески давая понять, что пора бы уже ехать.
– И опять не совсем так, – покачала головой Ольга Ивановна. Ведь эта условно ее назовем новая интеллигенция, которая сейчас воспитывается на песнях Высоцкого, она еще учится в школах и институтах, а кто уже выучился, занимают пока что низшие руководящие должности. Но пройдет время, кто-то из этих поклонников дорастет до больших чинов в области культуры, политике. Будет к тому времени жив или нет Высоцкий, даже не имеет значения, потому что выросшие на его песнях будут еще долго его громко славить уже с высоты своих должностей. То, что его ненавидит нынешняя власть, вовсе не означает, что он будет столь же неугоден следующему поколению начальников. В чем вы правы, так это в том, что число его поклонников, конечно же, будет сокращаться со временем, но пока в среде нашей интеллигенции будет преобладать, если так можно сказать, ее люмпен-разновидность, его творчество будет очень широко востребовано. Ольга Ивановна, с легкой улыбкой снизу вверх смотрела на Федора, силящегося вникнуть в смысл ее рассуждений. – Вы, наверное, думаете, вывалила тут какой-то ворох зауми, а вам, наверное это совсем и не надо.
– Нет, почему же, мне это очень интересно, – поспешил заверить, что все осознает и понимает Федор, хотя на самом деле услышанное изрядно сбило его с толку.
– Извините, но мне пора. И еще, если то, что я вам сейчас сказала противоречит вашему мировоззрению, не берите в голову, забудьте… Всего хорошего, рада была познакомиться, – распрощалась учительница.
Когда Федор, в состоянии глубокой задумчивости, наконец, подошел к машине, прапорщик стал ему недовольно выговаривать:
– Чего ты там с этой училкой, так долго трепался? Она же совсем не в твоем вкусе. Ты же как Анька твоя баб любишь, чтобы корма была большая и как у нас на Украине говорят, титьки як видра. А тут и стара для тебя, и як дробына.
Федор не отреагировал на эту скабрезность. Он молча залез в кабину и дал команду водителю ехать на «точку»… С того дня, как и после того разговора со сторожихой, многое изменилось в его восприятии окружающей действительности. Окончательно изменилось и отношение к своему прежнему кумиру Владимиру Высоцкому, хотя внешне он продолжал оставаться его поклонником и с удовольствием слушал его песни.
Все эти «просмотренные» одна за одной серии воспоминаний совсем отбили сон. Ратников понял, что если он и дальше будет размышлять в том же направлении, то вообще не заснет. Надо было вспомнить что-то более приятное, простое, не требующее напряженных раздумий. И таковое довольно скоро проявилось в сознании, воспоминания куда более свежие. То случилось где-то уже в самом начале восьмидесятых летним днем. Ратников по службе поехал в управление полка и на центральной площади Серебрянска вдруг увидел чем-то знакомого ему человека. Этот лысый мужик прохаживался по площади и с пристальным любопытством посматривал по сторонам. Ратников заехал на площадь буквально на пять минут, чтобы захватить с собой на «точку» одного из полковых офицеров, проживающих там рядом. Он бы не вспомнил, что это за человек, если бы к нему время от времен не подходили люди, в основном женщины, и не просили автограф. И только тут до Ратникова, тогда еще майора, дошло, что это не кто иной, как Юрий Сенкевич, знаменитый путешественник и телеведущий популярной передачи ЦТ «Клуб кинопутешествий». Сенкевич, видимо, наслышанный о красотах Южного Алтая приехал снимать телефильм для своей передачи. Фильм он снял и показал в «Клубе кинопутешественников» где-то полгода спустя. Это воспоминание переключило Ратникова на мысли об уникальной природе места, где он жил последние двадцать лет своей жизни, успокоило и, наконец, он смог уснуть.
Часть вторая. Внучка атамана
1
Поселок Новая Бухтарма располагался на наиболее широкой полосе земли, что осталась от Долины после разлива водохранилища. Если старая, или Усть-Бухтарма была головной станицей, центром всего Бухтарминского края и волости, то Новая Бухтарма представляла столь часто встречающийся в советской действительности рядовой рабочий поселок. Ядро поселка образовали около двух десятков блочных жилых пятиэтажек с центральным отоплением и соответствующими удобствами и несколько двухэтажных сборно-щитовых, в которых размещались поссовет, милиция, клуб, отделение связи, дом быта, баня, неподалеку довольно большая кирпичная школа. В благоустроенных пятиэтажках, как правило, проживало цемзаводовское и поселковое начальство, некоторые учителя, инженерно-техническая интеллигенция и рабочие, которые многолетним усердным трудом и соответствующим поведением заслужили право на эти квартиры. В основном же, процентов семьдесят жителей поселка ютились в невзрачных квартирах в одноэтажных щитосборных домах и таких же бараках. Цементный завод находился в непосредственной близости от поселка, у самых гор. Его трубы дымили день и ночь, выбросы оседали в основном на поселок и вдоль водохранилища. Стеной нависающие над остатками Долины горы не давали тем выбросам распространяться в сторону. За двадцать лет существования завода ухудшилось не только состояние окружающего воздуха, но и пришла в почти полную негодность земля, пропитавшись цементной пылью. На этой, ставшей пепельно-серой почве, мало что вырастало. Лучше всех это знали владельцы дачных участков, которые завод выделял своим рабочим чуть ниже по течению на берегу водохранилища. Знало и руководство совхоза Бухтарминский. Потому его основные поля располагались не на побережье, а выше в горах. Владения совхоза простирались почти до самой воинской части, где начинались земли совхоза Коммунарский. Директором совхоза Бухтарминский являлся внук первого казаха-коммуниста Бухтарминского края Танабаева. Председателем тогда еще колхоза был и его отец, сын бывшего батрака Танабая, уверовавшего в советскую власть и возглавившего первый колхоз в Усть-Бухтарме. И вот теперь по наследству уже совхоз возглавил третий Танабаев. Совхозом «Коммунарский» руководил директор Землянский и руководил весьма успешно. «Коммунарский» являлся передовым хозяйством, Землянский не раз удостаивался всевозможных наград, имел ордена «Ленина», «Трудового красного знамени», «Знак почета». Конечно, земля в «Коммунарском» была лучше, чем в «Бухтарминском», но не настолько, насколько рознились показатели этих двух совхозов. По сути, между совхозами-соседями должно было быть обычное социалистическое соревнование. Но такового не было, и быть не могло. Тем не менее, вопрос о снятии с должности Танабаева, так же как в свое время и его предков не стоял никогда. Основной причиной было то, что в его лице торжествовала старая большевистская идея, взятая из слов пролетарского гимна: «кто был ничем, тот станет всем». Вот и поднимали Танабаевых на «щит», как одно из наглядных достижений советской власти. О нынешнем директоре тоже писали в газетах и книжках, с ним фотографировались писатели, космонавты, иностранные гости, восхищались биографией его семьи. Но, вот о том, что в его совхозе из года в год средняя урожайность не превышала 10–15 центнеров с гектара, а в соседнем Коммунарском была 20–25… про это не писали и не афишировали.
С утра 3-го декабря, едва Ольга Ивановна появилась в школе, её вызывал директор… С тех самых пор как Ольга Ивановна, до 1983 года носившая фамилию бывшего мужа, вдруг стала Решетниковой и уже не таясь объявила, что истинным местом ее рождения является не дальневосточный детдом, как значилось во всех анкетах, а китайский город Харбин, и что она вовсе не сирота от рождения… К столь неординарным поступкам Ольгу Ивановну подтолкнула целая череда обстоятельств, в основе которых лежали довольно безрадостные для нее события. Сначала она развелась с мужем, электротехником работавшем на цемзаводе, отказавшимся дальше жить в таком, по его мнению, гиблом месте. Впрочем, муж уехал к себе на родину в Барнаул еще в 1977 году. Годом позже окончил школу ее сын Сергей, поступил в Новосибирский электротехнический институт, окончил его, служил двухгодичником в армии в Красноярске и после окончания службы там же остался жить и работать. Получилась так, что она фактически уже второй раз за жизнь потеряла семью.
Явить миру свое «истинное лицо» Ольга Ивановна решилась после того, как умер Брежнев. Момент «явления», как ей казалось, был выбран верно. В восьмидесятых годах резко упал уровень снабжения во всей области. Люди, образно говоря, все более «клали зубы на полку». Многие из старожилов, живших в этих местах из поколения в поколение, начали вспоминать рассказы своих родителей, дедов, о том цветущем крае и сытой жизни, которые были здесь когда-то. На поверку оказалось, что не так уж мало в поселке и окрестных деревнях осталось и истинных свидетелей той жизни, стариков и особенно старух 70-ти – 80-ти лет. То есть людей, родившихся еще до революции и даже учившихся в усть-бухтарминском высшем начальном станичном училище, в котором преподавала мать Ольги Ивановны, Полина Тихоновна…
Ольга Ивановна прошла на второй этаж в кабинет директора. В приемной поздоровалась с секретарём, бойко стучавшей на пишущей машинке пожилой женщиной, лицо которой при этом осветилось дежурной подобострастной улыбкой.
– Зачем вызывает, не в курсе? – с бесстрастным лицом осведомилась Ольга Ивановна, зная истинную цену улыбки секретаря директора, первой школьной сплетницы.
– Вроде хочет, чтобы вы помогли елку для школы достать, – шепотом, косясь на дверь директорского кабинета, поведала секретарь.
Директор встретил ее в тон секретаря, той же подобострастной улыбкой:
– Ольга Ивановна, голубушка, – директор, рыхлый круглолицый толстяк пятидесяти пяти лет, поднялся ей навстречу из-за стола. Над столом обязательный портрет Ленина. Когда после смерти Брежнева генсеки стали умирать со скоростью раз в полтора-два года, он и решил «повесить» Ленина, чтобы часто не дергаться. – Я вас очень прошу, сходите в Поссовет, вы же с Караваевой подруги. Попросите у нее, когда поедут в тайгу рубить елки для ДК, детсада и других административных учреждений, чтобы и нам срубили, большую, в актовый зал. А то неудобно, который год новогодний утренник под сосной проводим. Новый год положено с ёлкой встречать…
Ольга Ивановна недовольно нахмурилась – по таким пустякам «напрягать» председательницу Поссовета, хоть она и была ее лучшей подругой, не хотелось, что она и обозначила в тоне своего вопроса:
– И что… это прямо сейчас надо сделать?
– Ну, а когда же, голубушка? У вас же сейчас по расписанию два «окна» подряд. А с автобазы, я узнавал, где-то на будущей недели под «Федулин шыш» специально машину отправят за елками.
В близлежащих перелесках и на этом, и на другом берегу водохранилища ели не росли, только сосны. Потому за елками перед каждым Новым годом централизованно отправляли автомашину за шестьдесят километров в горы, в тайгу. Там рубили в основном молодые елочки, которые и продавали населению через поселковый хозяйственный магазин. Ну, а для официальных учреждений срубали несколько больших капитальных ёлок. Вообще-то школа имела свою «квоту» среди тех учреждений, но после того как председателем Поссовета избрали Марию Николаевну Караваеву, бывшую учительницу поселковой школы, в свое время очень сильно конфликтовавшую с директором… В общем, при Караваевой школе уже большие елки или не доставались вообще, или доставались такие, которые в актовый зал было стыдно поставить, лучше уж где-нибудь поблизости подходящую сосну срубить, что и делал директор, доезжая до ближайшего перелеска на своем «Москвиче».
Мария Николаевна Караваева была на десять лет моложе Ольги Ивановны. Когда она в конце шестидесятых прибыла в школу на отработку диплома после окончания института, Ольга Ивановна, к тому времени уже достаточно опытный педагог ее опекала. С тех пор меж ними установились добрые приятельские отношения. В отличие от Ольги Ивановны, у Марии Николаевны с происхождением все было в порядке, и она этим пользовалась, не брезгуя делать возможную в провинции карьеру. Конечно, не осталась бы Караваева в поселке, предпочтя после отработки диплома «подняться» на областной уровень, если бы не вышла здесь за снабженца с цемзавода. Со временем ее муж стал начальником отдела снабжения завода, что тоже помогло Марии Николаевне со школы «перепрыгнуть» аж в Поссовет, да не просто, а в кресло председателя. Примечательно то, что ее свекровь, старуха-долгожительница и местный сторожил, аж 1906 года рождения, в свое время училась в Усть-Бухтарминском высшем станичном училище и узнав, что Ольга Ивановна является дочерью ее собственной школьной учительницы, научившей ее читать и писать… В общем, связаны Ольга Ивановна и Мария Николаевна оказались многими «нитями».
Ольга Ивановна спустилась в вестибюль, навстречу, здороваясь и уступая дорогу, шли ученики. В основном это были болезненного вида, бледные мальчишки, девчонки, подростки. Впрочем, если у младших школьников худенькие лица и тонкие шейки вызывали жалость, то у некоторых подростков ущербный внешний вид сочетался со злыми глазами, на их щеках играл нездоровый румянец. То было вызвано не столько воздействием ущербной экологической обстановкой и наследственностью, сколько употреблением алкоголя «домашнего» производства и курением дешевой, а потому плохой «дури». Эту моду, курить анашу, завезли молодые новобухтарминцы, отслужившие в Афганистане. На учеников Ольга Ивановна смотрела спокойно. Она привыкла к этим мальчикам с хилыми грудными клетками и узкими плечами, к этим девочкам в основном без признаков груди и бедер… Но вот, невольная улыбка тронула губы старой учительницы – это в двери ввалились школьники из воинской части и впереди… Как не нарадоваться на такого красавца, Игорь Ратников – десятиклассник, ростом и статью выделялся изо всех. Похоже, не было глаз, которых бы он не привлекал к себе, завистливых и восхищенных. На ходу расстегивая куртку по пути к раздевалке, Игорь увидел Ольгу Ивановну…
– Здрасте, Ольга Ивановна! Там мой папа приехал, хочет с вами поговорить. Он сейчас сюда придет, – выполнив поручение отца, Игорь побежал сдавать куртку.
Ольга Ивановна посмотрела через большое окно вестибюля на школьный двор. У машины с будкой, привозящей «военных» школьников, стоял высокий подполковник в хорошо подогнанной шинели, с широкими и неестественно прямыми плечами, которые казались прямее, чем на самом деле, благодаря твердым металлическим вставкам в погоны. Рядом с ним стоял, переминаясь, похожий на длиннорукую обезьяну, среднего роста прапорщик Дмитриев, тоже хорошо знакомая Ольге Ивановне личность, ибо четырнадцать лет назад он окончил эту же школу. Она не стала ждать Ратникова, а одела пальто, старое, но хорошо сохранившееся с неброским искусственного меха воротником, и сама подошла к военным:
– Доброе утро Федор Петрович, здравствуй Валера. Вы хотели со мной о чем-то поговорить? – она обратилась к подполковнику.
– Здравия желаю, – молодцевато приложил руку к шапке и чуть поклонился Ратников.
– Здравствуйте Ольга Ивановна, – суетливо зашевелился, будто ему что-то изнутри мешало спокойно стоять, Дмитриев, и поспешил сделать шаг назад и чуть в сторону, словно хотел спрятаться от своей бывшей учительницы, за своего нынешнего командира.
– Да, если у вас найдется для меня немного времени, – произнес подполковник, окидывая взглядом невысокую, хрупкую пожилую учительницу в дешевом пальтишке, и отмечая про себя, что ее фигура совершенно не изменилась с того самого памятного дня в 1970 году когда он с ней разговаривал на «поэтическую» тему.
Этот взгляд перехватила Ольга Ивановна и поняла его по своему… «Да, я одинокая, немолодая, бедная и не могу так одеваться, как ваша жена», – скорее почувствовал, чем прочитал Ратников в этом ответном взгляде, невольно смутился и отвел глаза. Ольга Ивановна и прочие школьные учителя, как и родители поселковых школьников, все были свидетелями случавшихся иногда приездов в школу жены командира воинской части. Они во все глаза смотрели, на это зрелище, как из будки величаво сходит, поддерживаемая под руку старшим машины с одной стороны и водителем с другой эта… Нет, расфуфыренной Ратникову, как ее за глаза звали поселковые бабы, конечно же, из зависти, назвать было нельзя, тут нужно совсем иное определение. Особенно шикарно подполковничиха смотрелась зимой. Она приезжала, то в пальто с огромным воротником из черно-бурой лисы, то в приталенной импортной шубе из блестящего меха, то в пальто с воротником из ламы, то в дубленке из монгольской овчины. Причем к каждой из этих одежд у нее имелась своя особая шапка или шикарный зимний платок. Подобного разнообразия зимнего гардероба, наверное, не было даже у жены директора Цемзавода. При этом она так шла, так несла себя. И потом, когда уже в школе эти шубы, пальто, или дубленка были сняты, тут уж мужчины аж жмурились – настолько одновременно удачно и вызывающе подчеркивали импортные платья, юбки, кофточки, сапоги… изобильные и ладные формы подполковничьей жены. А у Ольги Ивановны возникали ассоциации со строками из стихотворной поэмы любимого ее Павла Васильева:
Охают бедра. Ходит плавно Будто счастьем Полные ведра не спеша Проносит она. Будто свечи жаркие тлятся, Изнутри освещая плоть, И соски, сахарясь, томятся, Шелк нагретый боясь проколоть. И застегнут на сотню пуговиц Этот душистый телесный клад.– Да, умеет одеваться, – констатировали факт учителя-женщины, а наиболее завистливые добавляли. – Имеет возможность достать. – А Ольга Ивановна, добавляли уже не в слух, а про себя. – И воздухом не таким дышит, и кушает не как мы тут, и муж у нее такой…
Ратников мгновенно переборов смущение от «столкновения взглядов», перешел к делу:
– Извините, мне надо с вами кое-что обсудить.
– Вы, наверное, хотите поговорить со мной об успеваемости Игоря по моему предмету? – высказала наиболее вероятное Ольга Ивановна.
– Нет-нет… я не насчет детей. У меня к вам не совсем обычная просьба. Прошу вас, уделите мне минут пятнадцать-двадцать, и желательно, чтобы нас никто не услышал, – нагнал некой таинственности подполковник.
– Вы меня тоже извините, но у меня сейчас дела, я должна отлучиться в Поссовет, и сколько там пробуду, не знаю, – ответила Ольга Ивановна, не в состоянии даже примерно догадаться, что за дело к ней вдруг нашлось у подполковника.
– А мы подождем. Давайте мы вас до Поссовета подбросим, а потом назад привезем. Вы, не против?
– Если вас это действительно не затруднит… спасибо.
Дмитриев тут же выдвинул лестницу, а подполковник галантно предложил руку, на которую Ольга Ивановна благодарно кивнув, оперлась, поднимаясь в будку.
2
– С какой нуждой Ивановна? – Мария Николаевна отделила озабоченное лицо от телефонной трубки, которую, тем не менее, продолжала слушать.
– С просьбой Маша, с просьбой, с чем же еще к тебе сюда ходить, – отвечала Ольга Ивановна, снимая пуховой платок и усаживаясь напротив председательницы.
– Ты бы хоть раз просто так, поболтать зашла, – изобразила недовольную мину Мария Николаевна, небрежно кладя трубку на аппарат. – С просьбами ко мне и без тебя тут целыми днями ходят. У меня от них и так голова кругом идет. Вода, уголь, дрова, текущие крыши… Бес попутал, на эту чертову должность согласиться, совсем не бабье это дело.
– Так откажись, – с усмешкой посоветовала Ольга Ивановна.
– Поздно, Ивановна, сейчас уж впряглась в воз, просто так из этих оглобель не вывернуться. Номенклатура, даже такая захудалая как моя должность, это знаешь такая трясина, она живой не отпустит, нет. А ведь все это ты меня тогда с толку сбила. Если бы ты тогда сказала, не ходи Машка, я бы и не пошла, а теперь вот… и пути назад уж нет.
– Да брось ты Маш. Что я не помню, как ты еще в школе говорила, хоть куда, только из этого школьного гадюшника ноги унести. Забыла что ли? – Ольга Ивановна расстегнула пальто.
– Ох, и не хочу вспоминать, как вспомню, так вздрогну. Поверишь, до сих пор как директора вашего встречу, так от одного его вида поганого на весь день настроение портится. Не знаю, как ты столько лет там выдерживаешь, этот педколлектив терпишь, пропади он пропадом, серпентарий чертов, – Мария Николаевна сделала жест рукой, словно отмахивалась от жалящего насекомого. – Ладно, говори, с чем пожаловала, да еще с таким мощным эскортом. Гляжу, тебя на машине привезли, сам командир воинской части, – всматриваясь в окно, откуда видна была военная машина, председательша говорила с легкой иронией.
– Ой, Маш… да это как-то случайно получилось. Собралась к тебе идти, а ему что-то надо от меня, не пойму чего. Ну и предложил, давайте подвезу, – с некоторым смущением пояснила Ольга Ивановна.
– А чего ты теряешься? На твоем месте, будь я одна, я бы такого подполковничка мигом охомутала, – бедово сверкнула глазами председательница.
– Ну, ты, это ты, а я – это я. Да и о чем тут говорить, я против него старуха. А потом ты, наверное, забыла какая у него жена.
– О, да… Это верно. Таких баб тут у нас во всем поселке не сыскать. Конечно, одевает он ее, но там есть и на что одевать, – с оттенком зависти проговорила Мария Николаевна.
– Да ну тебя Маша. Вроде умная серьезная баба, на такой должности сидишь, а не перебесилась до сорока лет, черти что на уме, – с улыбкой отмахнулась Ольга Ивановна. – Давай-ка о деле поговорим. Я к тебе, собственно, вот с чем. Вы машину к Федулину Шишу планируете за елками посылать?… Ну так и для школы одну хорошую, большую, чтобы в актовый зал поставить.
– Извини Ивановна, лично для тебя, все что смогу, а для этого гада ничего не сделаю. Пусть сам топор берет, едет и рубит, и чтобы его там волки или медведь задрали, сволочь эту, – незамедлительно отреагировала председательница, давно уже ненавидевшая директора школы.
Это случилось четыре года назад в ноябре 1982 года, вскоре после смерти Брежнева. Тогда только избранная председателем Поссовета Мария Николаевна, пригласила на званый банкет в поселковый ДК своих бывших коллег из школы и наиболее влиятельных, высокопоставленных людей поселка. Присутствовали директора цемзавода, рыбзавда, совхоза, и прочие всевозможные местные начальники. Не понятно, что ударило тогда в голову Танабаеву, наверное, невысокого качество шампанское алма-атинского производства, а может ему, единственному за столом казаху, захотелось чем-то выделиться. Ни с того, ни с сего директор совхоза вдруг начал хвастать. Нет не успехами его совхоза, которых не было, он заявил, что является в поселке единственным потомственным начальником, так как получил свой пост как бы по наследству, и является советским руководителем уже в третьем поколении.
– А вот ты Василий Степаныч, скажи, кем был твой отец? – обратился он к директору рабзавода, чем привел его в полное замешательство, ибо тогда еще Василий Степанович считался вроде бы сыном мифического красного партизана, погибшему в боях с белобандитами. Старик подумал, что Танабаев каким-то образом раскопал правду о его истинном отце и со страха едва не потерял дар речи. Но тот, тут же и развеял эти страхи, не дожидаясь ответа, выразил свою версию:
– Ты знать его не знаешь, кто и что он. А у меня дед один из первых местных коммунистов, и первый председатель местного колхоза, отец первый председатель совхоза. Понимаешь, что это такое? Это дииинастия…
С тем же вопросом захмелевший Танабаев стал докапываться до других приглашенных. Естественно никто такой родословной как он похвастать не мог, все, что называется, оказались начальниками в первом поколении, происходили из семей простых рабочих, крестьян или мелких служащих. Да и перед советской властью предки нынешних поселковых начальников особыми заслугами не отметились. Ну, и ко всему, большинство оказались пришлые, со стороны. Только трое кроме Танабаева: директор рыбзавода, заведующий автобазой, да начальник снабжения цемзавода являлись местными уроженцами. С происхождением Василия Степановича, опять же, с официальной точи зрения, все было ясно. Но и более молодые, зав автобазой и главный снабженец цемзавода, на приставания к ним с тем же вопросом Танабаева, тоже реагировали весьма странно, отнекивались, жаловались на память и старались как можно скорее отойти от надоедливого директора совхоза. В конце концов со своим вопросом Танабаев подсел и к новоиспеченной председательнице поссовета…
Танабаев, как потом выяснилось, считал чуть ли не личным оскорблением, что на такой важный пост назначили женщину, вчерашнюю училку. Ведь в казахских семьях женщина, по большому счету, вообще за человека не считалась, а тут… Пьяный, вызывающий тон, грубость, все это произвело сильное негативное впечатление на Марию Николаевну, тогда еще скромную и очень стесняющуюся своего избрания, и тем, что стала вровень с местной элитой. Ее муж, тот самый начальник отдела снабжения цемзавода, скрываясь от Танабаева, куда-то запропастился, и, естественно, за жену не вступился. Зато рядом оказался директор школы, с которым у Марии Николаевны уже сложились довольно натянутые отношения. Растерявшаяся Мария Николаевна на вопрос о происхождении даже не успела ответить, как в таких случаях отвечают обычно, что родители ее люди простые, но честные, работали от зари до зари, никогда ни чужого, ни государственного не брали… Но за нее, вдруг, стал отвечать директор школы, отлично знавший личное дело своей бывшей учительницы:
– Отец тракторист из уланского района, мать на ферме дояркой работала, а она сама, выучилась на стипендию от колхоза…
Танабаев, сам директор совхоза, не мог не знать, что посылаемые от совхоза стипендиаты в сельскохозяйственные и педагогические ВУЗы поступают фактически без экзаменов, и, как правило, это троечники. Раскачиваясь на стуле, уже не контролировавший себя, Танабаев громко расхохотался:
– Все ясно, я таких степендиатов уже несколько человек выучил… знаю я их… И тебе место на той ферме, где мать твоя работала… – он еще хотел что-то спросить, но не успел.
– А свое место ты хорошо знаешь?! – этот вопрос был задан с такой ненавистью в голосе и так четко, что его хорошо расслышали едва ли не все присутствующие. Его задала сидевшая рядом с новой председательницей ее подруга, немолодая учительница поселковой школы Ольга Ивановна Байкова.
Танабаев аж онемел от такой, как ему в тот момент показалось наглости, но тут же оправился, ответил как попавший в засаду горбатый Карпуша Жеглову из последней серии недавно показанного на Центральном телевидении фильма «Место встречи изменить нельзя»:
– А это кто еще тут гавкает? Я то свое место знаю, мой дед…
– Твой дед у моего деда в батраках из милости жил и его баранов пас!
В наступившей гробовой тишине Ольга Ивановна, невысокая, сухонькая, прямая как спица, гладко причесанная… с гордо поднятой головой удалилась из банкетного зала. Тогда никто ничего толком не понял, разве что Василий Степанович «просчитал», что нежданно-негаданно обзавелся родственницей, но он, конечно, не обмолвился об этом и словом даже в кругу своей семьи. А Ольга Ивановна вскоре принесла в Поссовет, где уже хозяйничала ее подруга, свои истинные метрики, выписанные в городе Харбине, справку о крещении из Никольского собора того же города… метрики и справка были необычные, написанные по-дореволюционному с ятями. Она попросила Марию Николаевну помочь вернуть ей девичью фамилию и заменить паспорт. Мария Николаевна не могла отказать, хоть и долго отговаривала. Уж очень эта фамилия, Решетникова, могла Ольге Ивановне повредить, ибо непосредственно ассоциировалась с белым офицером, расстрелявшим коммунаров, чей культ вот уже седьмой десяток лет насаждался здесь, в Бухтарминском крае.
После того банкете Танабаев притих. Но поползли слухи, теперь уже исходящие из уст еще живых очевидцев, несколько по иному трактовавшие историю знаменитого деда Танабаева, нежели в «растиражированной» официальной версии. Теперь уже все в округе узнали, что дед потомственного директора совхоза до своего «взлета» действительно батрачил у станичного атамана Фокина, и никогда не был никаким красным партизаном. Дальше-больше, и в ЧК он не служил, а был всего лишь нештатным осведомителем-стукачем и коммунистом стал уже гораздо позже, так сказать, по разнарядке – в волости срочно нужен был хотя бы один коммунист-казах из местных. Танабай подходил как никто: бывший батрак, бедняк, хорошо говоривший по-русски. Так он стал коммунистом. И в председателях в 30-м году он оказался по совокупности тех же причин: коммунист, казах, бывший батрак – живое олицетворение строки из «Интернационала». Всё это очень сильно ударило по престижу директора совхоза, и он, затаив обиду, не упускал возможности, чтобы расквитаться. Пытался «настучать» даже в обком партии. Видя, что районные и областные власти никак не воздействуют на, по его мнению, все более наглевшую «белогвардейку», Танабаев через свои связи организовал-таки приезд из Алма-Аты той самой комиссии с фронтальной проверкой. Одна из членов комиссии и спровоцировала Ольгу Ивановну. Но выгнать ее совсем из школы – это той комиссии оказалось не под силу. За Решетникову горой встали, прежде всего, в ОБЛОНО. Видимо, в Усть-Кменогорске сумели сделать определенную карьеру на ниве просвещения некоторые из потомков казаков 3-го отдела бывшего Сибирского казачьего войска.
Тут как раз продолжилась чехарда с генсековскими смертями – Андропов, Черненко. Ну, а когда Горбачев объявил свою Перестройку с Гласностью, тут Ольга Ивановна вообще в моду вошла, а главное и другие, произошедшие от казаков, новобухтарминцы начали о себе заявлять, что они тоже не Иваны и Марьи отцов своих и дедов не помнящие. К Ольге Ивановне стали наведываться, звать в гости и когда она приходила, доставали из сундуков старые, пожелтевшие фотографии, на некоторых из которых она узнавала и знакомых ей с детства по фотографиям из харбинских семейных альбомов, дедов, бабок, дядю, совсем юных отца и мать… Выяснилось, что еще живы несколько старух, успевших поучиться у ее матери, а муж ее подруги, тот самый начальник снабжения цемзавода, являлся внуком казака, служившего под командой её отца у Анненкова. В его семейном фотоальбоме оказалась фотография, запечатлевшая отправку станичной сотни на Семиреченский фронт в феврале 1919 года. На той сильно потрескавшейся фотографии священник с кадилом обходит строй казаков, держащих в поводу коней.
Стали ощущаться новые веяния – белогвардейцев повсюду неофициально начинали реабилитировать. В областной газете Рудный Алтай даже появилась статья об атамане Анненкове с его большой фотографией. Тон статьи был вроде бы нейтральным, но в ней атаман уже именовался не садистом и палачом, а одним из виднейших деятелей белого движения. Ну, и как бы в резонанс с изменением политической конъюнктуры власти Серебрянского района решили отменить обязательный «обряд» выезда детей в Александровское ущелье, где у памятника казненным коммунарам юные пионеры клялись «быть готовыми к борьбе за дело коммунистической партии».
Посодействовать привезти в школу большую елку для актового зала Мария Николаевна наотрез отказалась, демонстративно переведя разговор:
– Слушай Ивановна, ты вчера «Джейн Эйр» смотрела по телевизору?… Видела какой мужик в главной роли… как там его фамилия, забыла?
– Тимоти Далтон. У тебя Маша, чем старше становишься, тем больше мозги завихриваются на этой почве, – с улыбкой покачала головой Ольга Ивановна.
Потом вновь зазвонил телефон, и Мария Николаевна надолго припала к трубке. Едва закончила говорить, зазвонил другой аппарат, райкомовский. Ольге Ивановне оставалось только откланяться. Выходя из здания Поссовета к дожидавшимся ее военным… тут ей пришла в голову «спасительная» мысль:
– Федор Петрович, а вы за новогодними елками для себя какой-нибудь транспорт посылаете?
– Конечно, где-то недели через две гусеничный тягач в горы, в тайгу пойдет. У нас и место запримечено, каждый год там елки рубим. Вот Валера старшим и поедет, – подполковник кивнул на сутулившегося в своей танковой куртке прапорщика. – А вам что, елка нужна?
– Не мне, тут другое. Нам в школу елка нужна, но только большая, чтобы в актовый зал поставить, это метра четыре высотой, – в голосе учительницы сами-собой образовались просящие интонации.
– Какую надо, такую и привезем. Это все в наших силах. Верно Валера? – обратился к прапорщику подполковник, незаметно ему подмигивая.
– Конечно. Ольга Ивановна, я сам и срублю, и привезу, – тут же заверил Дмитриев.
– Ой, спасибо! Прямо не знаю, как вас и благодарить Федор Петрович. Вы же хотели о чем-то со мной поговорить? Поедемте в школу у меня еще одно «окно» есть, там прямо в кабинете и поговорим…
В кабинете русского языка и литературы, с портретами Пушкина, Толстого, Горького и Маяковского на стенах, батареи порового отопления были вроде бы горячие, но проклеенные простой бумагой двойные рамы окон сильно «сифонили». Потому Ольга Ивановна осталась в накинутом на плечи пальто, а Ратников лишь расстегнул шинель.
– Так чем же я могу быть полезной нашей славной армии, – с улыбкой спросила Ольга Ивановна, когда она уселась за свой учительский стол, а подполковник разместился на ближайшей парте.
Ольга Ивановна никогда не забывала о той первой встрече с тогда еще старшим лейтенантом Ратниковым. Но то произошло так давно и при последующих мимолетных встречах Ратников ни разу о том не упомянул, так что старая учительница не сомневалась, что он вряд ли о том разговоре уже и помнит, да и по всему с годами его интерес к поэзии явно уменьшился.
– Меня к вам собственно Валера Дмитриев надоумил обратиться. Он сказал, что на местной автобазе заведующий вроде бы вам родственником приходится, – Ратников говорил негромко, чтобы если кто и подслушивал у дверей не смог бы ничего толком расслышать. Он замолчал, ожидая реакции на столь неожиданное начало разговора, но Ольга Ивановна никак не отреагировала, и подполковнику ничего не оставалось, как продолжать «раскрывать карты». – Понимаете, у нас возникла серьезная проблема с автотранспортом. Я не знаком с заведующим автобазой, и не могу напрямую к нему обратиться с просьбой, отремонтировать нам машину. И вот я бы хотел как-то через вас…
– Вы хотите, чтобы я замолвила за вас слово перед заведующим? – удивленно посмотрела на подполковника учительница.
– Да… если это конечно вас не затруднит… А елку мы вам достанем, обязательно, – тут же поспешил добавить Ратников.
– А с чего вы взяли, что заведующий ко мне прислушается, – Ольга Ивановна усмехнулась, – в этом вас тоже Валера Дмитриев убедил?
Ратников только развел руками. Видя его замешательство, Ольга Ивановна негромко рассмеялась:
– Да, не родственник он мне. Просто наши родители и деды родом из этих мест. Мы, как бы это сказать, самые коренные местные жители, и нас тут сейчас, ну может быть десятая часть от общего населения поселка, а то и меньше. Вот и пытаемся помогать друг другу, если можем, конечно. Ладно Федор Петрович, я записку напишу Григорию Павловичу с просьбой оказать вам возможное содействие. А уж как он решит, и как вы с ним договоритесь… В общем, ничего обещать не могу.
Она вырвала листок из блокнота и стала писать…
– Спасибо вам, – поспешил поблагодарить Ратников, и тут же словно куда-то спеша зачастил, – И еще, Ольга Ивановна я слышал начальник снабжения цемзавода, он тоже из ваших, ну сторожилов местных. Не могли бы вы и ему вот так же записку черкнуть? А то, понимаете, нам следующим летом надо будет дорогу от шоссе до дивизиона «поднимать», а для этого песок и гравий нужны…
На этот раз учительница лишь укоризненно покачала головой:
– Вы Федор Петрович максималист, ей Богу. За елку хотите меня на сто двадцать процентов использовать. Нет, пока что не могу, давайте до другого раза оставим, а пока и этого достаточно. И еще, это я уже к вам как к отцу обращаюсь. Обратите внимание на успеваемость Игоря. Он после подмосковной школы стал откровенно пренебрегать гуманитарными предметами. Так можно нахватать троек в выпускном классе и, сами понимаете, общая картина его аттестата будет выглядеть не лучшим образом, если рядом с пятерками по физике и математике, ну еще по физкультуре будут тройки по литературе и истории. И передайте мою обеспокоенность супруге…
3
В Харбине, в женском лицее-гимназии, где Ольга Ивановна училась до 1945 года, то есть до своего одиннадцатилетия, уклон, наоборот, был в гуманитарную область. Ведь там все устраивали по опыту и подобию системы просвещения существовавшей в Российской Империи. То была очень громоздкая и довольно сложная система, включавшая министерские, церковно-приходские и казачьи школы, находящиеся под различным управлением, финансированием и предоставлявшие неоднозначное и, как правило, не очень качественное начальное образование. Но средние учебные заведения в первую очередь гимназии, как гражданские, так и военные (кадетские корпуса), обладали высококвалифицированными преподавательскими кадрами и давали очень качественное в первую очередь гуманитарное образование. Те преподаватели, бежав от революции и гражданской войны в Маньчжурию, создали и на том островке старой русской жизни такие же точно учебные заведения с теми же порядками и уровнем обучения.
На что надеялись её родители в 1945-м? Сейчас Ольга Ивановна понимала, что переберись они тогда вовремя в Шанхай, не дожидаясь вступления в Маньчжурию Красной Армии, наверняка, и сами бы остались живы, и ее судьба сложилась бы совсем иначе. Как у тех ее одноклассниц, что потом из Шанхая попали с родителями в Америку, Австралию… и уже, наверное, забывшие свой родной язык, любовь к которому им так настойчиво прививали в гимназии. Но родители хотели вернуться на родину. Они бредили своей Усть-Бухтармой, и даже Красная Армия им со временем стала казаться не столько большевистской, вражеской, сколько русской, своей. Как же они тосковали, из года в год все сильнее, с тех времен, с которых Ольга Ивановна начала себя помнить, тем более под японским протекторатом жить было уже не столь вольготно как ранее. Хотя, в общем-то, именно семья Решетниковых в материальном плане жила и при японцах очень даже неплохо. Русские в Харбине вообще продолжали жить по-русски. Так же функционировали церкви, справлялись все основные православные праздники, в том числе и знаменитый Крещенский крестный ход с купанием в проруби. Стало меньше, но по-прежнему имелось в достатке русских библиотек, магазинов, фирм, всевозможных клубов и общественных организаций. Фактически до лета сорок пятого года в Харбине сохранялся этот осколок дореволюционной русской жизни.
Почему отец думал, что ему простят службу у Анненкова, а мать в Беженском комитете и потом в Бюро по делам российских эмигрантов, на что надеялись!? Их арестовали через несколько дней после торжественного вступления в Харбин Красной Армии, обоих сразу, а одиннадцатилетнюю Олю отправили в детский дом, располагавшийся в Приморском крае. Что сталось с родителями, она узнала только в пятьдесят восьмом году, в разгар хрущевской оттепели – они оба умерли в лагерях, отец в 1947, мать в 1949 м. Оба прожили по пятьдесят два года, столько, сколько сейчас в 1986-м было Ольге Ивановне.
В том детдоме состав воспитанников был очень разношерстный, впрочем, как и воспитателей. Тут присутствовали и всевозможные «дети врагов народа» и просто выловленные бродяжки, беспризорные, коих в военные годы немало появилось на просторах страны Советов. Правда, почти все дети говорили, что их отцы погибли в боях с немцами или японцами, а матери от ударного труда в тылу. Кроме Оли «белогвардеек» в том детдоме не было, а она быстро поняла, что это ей необходимо скрывать, и она так же как все врала про красного героя отца и ударницу мать… Будь она помоложе годами, вряд ли бы выдержала столь резкую перемену, после уютной и сытной харбинской жизни, где ее окружала родительская любовь и забота, это полуголодное казарменное существование. Олю согласно возраста определили в пятый класс. Но ее гимназическая подготовка оказалась слишком высока для советской школы, высока даже без учета тех ставших совершенно ненужных для нее «буржуйских» дисциплин типа обязательных трех «живых» иностранных языков, «мертвой» латыни, игры на фортепьяно и главное без «Закона божьего», чему в старой русской системе образования уделяли особое внимание. Так вот, ее подготовка после гимназии была как минимум на класс выше. У нее хватило ума и осторожности особенно этим не бравировать, не выделяться, и даже иногда намеренно отвечать на «четыре», там, где она вполне могла бы получить «пять». Среди своих сверстниц девочек-детдомовок, где почти у каждой существовала своя «легенда» о происхождении, ее так никто и не смог «расшифровать». Но, конечно, в администрации детдома все о ней знала, но там тоже были заинтересованы, чтобы их подопечные поскорее забыли о родителях и выходили из детдома стопроцентными советскими людьми. Вообще-то, в том детдоме были очень неплохие и начальники, и преподаватели, некоторые из них тоже в свое время мытарились и «сидели». Когда Олю выпускали из детдома, ей отдали ее харбинские документы, и посоветовали потерять все это, и если она еще не забыла, то поскорее забыть о своих родителях, говорить, что круглая сирота, и на всякий случай сменить фамилию. Все эти советы ей дала старшая воспитательница, с которой они находились в очень хороших отношениях. Она же посоветовала после детдомовской семилетки, ни в коем случае не пытаться сразу учиться дальше, хоть у Оли и были отличные оценки. Потому что при поступлении в тот же техникум ее будут тщательно проверять с непредсказуемыми последствиями – ведь шел-то 1949-й год. Воспитательница посоветовала устроиться на какую-нибудь не очень престижную работу, куда брезгуют идти настоящие потомственные пролетарии и прочие с «чистыми анкетами», получить там рабочий стаж, и уже зарекомендовав себя «пролетаркой» попробовать учиться дальше. Это, сказала та воспитательница, девочка, твоя единственная возможность получить хоть какое-то образование и устроиться в жизни.
Оля здорово играла роль простой советской сироты-детдомовки. И советы своей воспитательницы она усвоила очень хорошо. Она пошла в ремесленное училище, коих тогда в Союзе было пруд-пруди, и выучилась на швею. После окончания распределилась на фабрику. Она делала все как надо, старалась и в учебе, и в работе, в то же время никуда не высовывалась, в комсомол хоть и вступила, но на руководящие должности не претендовала. И заработала характеристику, в которой рядом с положительными качествами: скромная, трудолюбивая, аккуратная, с товарищами и подругами поддерживает хорошие отношения, были и так называемы отрицательные, малоинициативная, в общественной жизни участия не принимает… Два года Оля проработала на фабрике и попросила направление в педучилище. У нее получилось, ей поверили, что ее метрики утеряны, что родителей она не помнит, что они погибли, когда она была совсем маленькая, а ее добрые люди подобрали и сдали в детдом, а у ж там обогрели, воспитали и она за это власти советской благодарна по гроб. Конечно, если бы уже шел не 53-й год, все это вряд ли бы прошло, но Сталина уже не было, и олину ложь никто раскрыть не удосужился.
Забыть отца и мать она просто не могла, даже если бы и очень захотела, и метрики она не утеряла, а спрятала. Как можно забыть тихое семейном счастье, совсем иную жизнь, где она просто была сама-собой, а не играла роль. Иногда во сне Оля видела родителей, прислушивалась к их разговорам. Она видела свой большой красивый дом, заставленный дорогой старинной мебелью, громадные кожаные кресла, в которых она так любила валяться, большие зеркала в тяжелых резных рамах, ковры, шторы, портьеры, граммофон и пластинки рядом на тумбочке, пианино, на котором мать регулярно заставляла ее играть, и иконы, всюду иконы, большие с золотыми окладами, в гостиной и в других комнатах. Когда ложилась спать на голодный желудок, ей снился обильный родительский стол, и она маленькая капризуля не желает есть то то, то это. Видела отца, высокого, с каждым годом все сильнее седеющего, но стройного и красивого, фигурой почти такого же как на фотографиях из семейного альбома, где он красовался в форме казачьего офицера. Видела мать, роскошную даму, одетую то в одного меха и цвета шубу и шапочку, собирающуюся идти на праздник Крещения на Сунгари, то в длинное бирюзовое бальное платье с голой спиной, в черных перчатках до локтей, придирчиво оглядывающей себя в зеркало, прежде чем ехать на какой-то званый вечер или благотворительный бал. Она вся в изумрудах, зеленые камешки мерцают в свете большой люстры, висящей в гостиной их дома, они и на ожерелье вокруг шеи, и в ушах, и на пальцах рук. Мать кажется Оле просто ослепительной, она визжит от восторга… и просыпается. Родители «посещали» ее только по ночам. В остальное время она была вся собрана в единый сгусток воли и нервов – она хотела не просто выжить, она хотела ни в коем случае не опуститься на дно жизни.
После педучилища ее распределили в одну из школ в шахтерском поселке Приморского края, где она проработала недолго, ибо в то время строительство Бухтарминской ГЭС объявили всесоюзной ударной комсомольской стройкой. Оля резко активизировалась на ниве общественной комсомольской жизни, вовсю изображая активистку и добилась, чтобы ее отправили на это строительство по комсомольской путевке… Что тянуло ее на родину своих предков? В тот момент она, наверное, и сама толком не осознавала. Она так много слышала от родителей и бывавших у них в гостях их друзей-земляков об Южном Алтае, и в их устах он представал невероятно прекрасным и желанным краем, лучше которого и быть не может. По их словам там и хлеб колосился гуще, чем где бы то ни было, и реки кишели рыбой, и травы выше человеческого роста, и мед необыкновенной сладости, и горы в голубой летней дымке так красивы, что глаз не отвести. Ее неосознанно, наследственно тянуло туда же, куда до конца своей жизни стремились мать с отцом. В советской стране со строгой системой прописки место жительства быстро поменять можно было только так, завербовавшись на какое-нибудь строительство, но наиболее эффективно было «прикинуться» энтузиастом-комсомольцем.
Большое дело иметь специальность, диплом. Ольга не раз в мысленно благодарила свою воспитательницу из детдома. Девчонок на стройку приехало много, со всех концов страны, ехали в основном за женихами, ибо именно на таких крупных стройках обычно имел место избыток мужчин и определенный дефицит женщин. Но большинство девушек приезжало без специальности, кому везло, становились продавщицами, работницами столовых, любовницами начальников… большинству же дали в руки ломы, кирки, лопаты и отправили долбить котлован под шлюзовые камеры. Сотни молодых девчонок работали на мужской работе в нескольких километрах от Александровского ущелья, где расстреляли коммунаров, которые, вроде бы, положили жизнь за светлое будущие этих тогда еще не родившихся девчат, которые оставляли на этом котловане свое здоровье, свою молодость.
У Оли была специальность, да еще такая востребованная, в строящемся городе энергетиков Серебрянске открывались новые школы и детсады. Молодые семьи появлялись как грибы после дождя, рождались и подрастали дети. Поработав пару лет учительницей младших классов, Ольга уже беспрепятственно, на законных основаниях поступила на заочное отделение Усть-Каменогорского пединститута. Тут же в Серебрянске она и замуж вышла за молодого электротехника, приехавшего из Барнаула для монтажа электрооборудования на строящейся ГЭС. В семейной жизни Ольга тоже с самого начала «играла роль», иной раз так в нее вживаясь, что и сама забывала, кем являлась изначально, и было ли это вообще: полненькая девочка-резвушка в большом уютном доме с няней-китаянкой, поедающая ананасы, отец, в сюртуке и котелке, мать в роскошном платье и шляпе. Если для ее родителей мечтой, светом в окне, темой сновидений была Усть-Бухтарма, то для нее сейчас… Харбин, сладостные воспоминания о золотом детстве.
После 56-го года официально уже не было опасений подвергнуться дискриминации из-за происхождения. Но Ольга уже не могла не «играть роль». Даже с парнем, которому она нравилась, Ольга не могла до конца быть откровенной. Она и ему рассказывала «легенду», только слегка ее подкорректировав в связи с разоблачением «культа личности». Откуда она? Детдомовская, родители погибли в ГУЛАГе, были служащими, по чьему-то навету их арестовали и они сгинули в лагерях. Даже когда тот парень стал ее мужем, отцом ее ребенка, Ольга Ивановна долго потчевала его этой «легендой», не признаваясь, где в действительности родилась, и кто на самом деле были ее родители. Ведь тогда в 50-х – 60-х реабилитировали только жертвы сталинских репрессий, белогвардейцев никто реабилитировать не собирался, атаман Анненков оставался олицетворением белого террора и садистской жестокости, как и все, кто служил под его началом. Да и фамилия Решетников в области ассоциировалась прежде всего с анненковским офицером, расстреливавшим героев-коммунаров. Про тех коммунаров где-то в конце 50-х годов сняли пропагандистский фильм «Хлеб и розы» с артистами Кадочниковым и Самойловой в главных ролях. В том фильме не было правдивого отображения событий, более того все оказалось вымышлено от начала до конца и действие проходило совсем в другом месте, где-то в степной алтайской деревне, так же вымышлены были и имена главных героев.
Для Ольги электротехник Алексей Байков являлся не лучшей партией, в том смысле, что он был родом из Барнаула, то есть почти местный. Она бы предпочла кого-нибудь со стороны, издалека. Но как говориться, любовь зла. Впрочем, о любви тут, наверное, говорить не приходится, она хотела претворить в жизнь последнее пожелание своей воспитательницы – сменить фамилию. Ко всему, ей уже шел 26-й год и природа требовала своего. В 59-м году она вышла замуж. Так Ольга Ивановна стала Байковой.
4
Первый после «окна» урок у Ольги Ивановны был как раз в 10-м классе. Детей в поселковой школе год от году становилось все меньше – падала рождаемость. Еще десять лет назад набиралось три полноценных десятых класса и пять восьмых, сейчас – один десятый и три восьмых. После восьмилетки в девятый класс шло менее трети учеников.
Писали изложение. Ольга Ивановна читала текст, ученики слушали и потом воспроизводили его на бумаге. Большинство сидящих в классе, как юношей, так и девушек, имели явный дефицит собственного веса. Ольга Ивановна и сама после детдомовской голодухи, пришедшейся на ее возраст, когда в основном и формируется организм, так и не смогла «войти в тело». Та упитанная, упругая харбинская гимназистка, которую она видела в детстве, смотрясь в зеркало, осталась только в ее зрительной памяти, а девушкой и женщиной она всегда была худенькой, хотя очертания и пропорции фигуры смотрелись у нее достаточно привлекательно. Тем не менее, накопить даже к пятидесяти годам, хоть какие-нибудь естественные для женщины в возрасте излишки – это у нее не получалось. Сейчас, когда ей показывали старые еще дореволюционные фотографии, где иногда встречались и ее родители, деды и бабки, она удивлялась, почему в ее внешности так мало общего не только с матерью, но еще меньше с бабкой по матери, выглядевшей на фотографиях настоящей кустодиевской купчихой. Но на одной из свадебных фотографий своих отца и матери, она рядом со своей дородной бабкой-атаманшей увидала совсем худую пожилую женщину, и ей объяснили, что это ее вторая бабка. Ольга Ивановна поняла, что не только детдомовское и последующие недоедания виноваты в ее собственной худобе, тут, видимо, и гены бабушки Лукерьи сыграли свою роль. Глядя на ту же свадебную фотографию, она просто диву давалась, насколько же красивы и пригожи были ее родители в ранней молодости. Сейчас во всем поселке, она таких красивых людей вообще не видела. Едва ли не все местные жители несли какую-то печать ущербности, особенно бросались в глаза дети и подростки, которых она видела каждодневно. Тем разительнее выделялись приезжавшие дети из воинской части, особенно Игорь Ратников. Сестра, правда, у него подкачала, ну почти совсем как местная, хоть и не дышит с рождения этой цементной отравой. Зато он сам до чего же возмужал. Прошлый учебный год Игорь отсутствовал, жил и учился где-то под Москвой у родственников. Там же и невероятно быстро вырос, возмужал, превратился в настоящего богатыря. На такого юношу смотреть одно удовольствие. Ольга Ивановна и испытывала это удовольствие, глядя на Игоря, старательно выводящего буквы.
Нельзя сказать, чтобы Ольга Ивановна не пыталась стать обыкновенной, рядовой советской обывательницей. Но превратиться в советскую мещанку оказалось не так-то просто. В городе Серебрянске, что возник при строительстве ГЭС, где она жила и работала с мужем, совсем не оказалось условий чтобы «забиться» хотя бы в семейную скорлупу. Да и скорлупы-то, своей отдельной квартиры, не было. Жили Байковы, как и другие молодые специалисты в семейном общежитии. От проникающего везде и всюду коллективизма спрятаться было негде: и на работе все на виду, и дома все общее, общая кухня, коридор, душ, туалет, все в курсе, что творится у соседей и наоборот. Истинные, урожденные советские люди, во всяком случае многие, к такому привыкли с детства, они иного и не видели, так же жили и их родители. Но Ольга Ивановна знала и иную жизнь и потому, опять же, не жила, а продолжала «играть роль», везде, и на работе, и во взаимоотношениях с соседями… и в семье. Постепенно отходя от отроческого страха, она все сильнее начинала ненавидеть окружающее ее мироустройство.
Особенно тяжело было «выдерживать роль», когда приходилось водить учеников своего класса на обязательные экскурсии в Александровское ущелье к памятнику расстрелянным коммунарам, или сдавать в институтские сессии экзамены и зачеты по Истории КПСС и Научному коммунизму. После замужества вроде бы стало легче, но не надолго – ей все невыносимей становилось жить под «маской». В 61-м году у Ольги Ивановны родился сын, но в быту ничего не изменилось, ибо жилья в Серебрянске строили мало и получить свою квартиру в течении ближайших 10-ти 15-ти лет казалось нереально. К тому же строительство ГЭС завершили, и она уже перестала иметь статус ударной стройки коммунизма, что автоматически означало резкое снижение уровня снабжения промышленными и продовольственными товарами. Тут Ольга Ивановна и предложила мужу, ввиду бесперспективности дальнейшего пребывания в Серебрянске, переехать на жительство во вновь строящийся поселок Новую Бухтарму, где им наверняка предоставят, наконец, отдельную квартиру.
До заполнения водохранилища Ольга Ивановна успела побывать на родине предков в Усть-Бухтарме. Ольга Ивановна, припоминая рассказы родителей, успела походить по улицам этой обреченной бывшей казачьей твердыни, увидела осевший земляной вал крепости, заколоченную церковь. В здании районной администрации, которая перебралась в Серебрянск, бывшем станичном правлении, когда-то сидел ее дед, станичный атаман Тихон Никитич Фокин. Нашла она и жилище своих дедов. Обширный атаманский дом за три десятка лет клубной деятельности и отсутствия настоящего хозяйского догляда превратился в большую полуразвалюху с покосившимся крыльцом и явно неисправной крышей. В старом решетниковском доме жили какие-то сторонние люди. Потом, когда все перебрались, пришли бульдозеры окончательно разрушить Усть-Бухтарму, сравнять ее с землей, чтобы дно рукотворного моря было ровным. Ольга Ивановна сходила и на кладбище, где испокон хоронили усть-бухтарминцев, но не нашла там и упоминания, ни о Решетниковых, ни о Фокиных. Ее предки, как отец с матерью, так и деды, будто бы и не существовали никогда на свете, сгинули без следа. А теперь и само место, где жили тысячи людей верно служивших России, должны были поглотить поднятые плотиной воды Иртыша и Бухтармы.
А в непосредственной близости от новоявленного поселка уже вовсю строился цементный завод, самое большое предприятие всей округи, чтобы лишившимся плодородной пойменной земли людям, образно говоря, «дать кайло в руки», обеспечить истинной пролетарской работой. Это, конечно, если смотреть с идеологической точки зрения, а основная цель, с которой строился цемзавод, обеспечить стройматериалами бурно развивающийся и растущий бешеными темпами Усть-Каменогорск. Поначалу, пока его оборудование было новым, цемзавод являлся предприятием успешным и очень рентабельным, и потому сразу стал строить для своих рабочих и служащих жилье, благоустроенные пятиэтажки с удобствами. Именно ради этих квартир и шли работать на завод люди, бывшие жители Усть-Бухтармы, кто не уехал с родины, ради них гробили свое здоровье в самом высокооплачиваемом и вредном цехе, в «обжиге», ради них обрекали себя и своих детей дышать насыщенной цементной пылью воздухом. Впрочем, тогда, в начале 60-х, казалось, ничто не предвещало в перспективе экологической катастрофы. Никто даже помыслить не мог, что из-за специфического расположения окрестных горных хребтов, выбросы из труб цемзавода не будут рассеиваться, а почти все осядут здесь же на узкой полоске побережья водохранилища, на сам поселок цементников. Не могла этого знать и Ольга Ивановна, потому и без труда уговорила мужа, которому все равно грозило сокращение на прежней работе, а в Барнаул он не мог везти жену с маленьким ребенком, ибо там его родители жили в малюсеньком собственном домишке с его младшими сестрами. В общем, они без колебаний покинули общаговскую комнату в Серебрянске и поселились опять же в однокомнатной, но отдельной квартире в щитосборном домике в Новой Бухтарме. Муж сразу же устроился по специальности на завод и встал в очередь на получение благоустроенную квартиру, а Ольга Ивановна, отдав сына в ясли, стала учительницей Ново-Бухтарминской школы, тогда еще базирующейся в старом барачного типа здании-времянке.
Со стороны поступок Ольги Ивановны казался вполне логичным. Она, как и все неизбалованные хорошей жизнью рядовые советские люди просто хотела обрести лучшее благоустроенное жилье. Но не только, что-то и незримо и необъяснимо тянуло ее сюда, куда так тянуло ее родителей, где они родились, встретили друг друга, полюбили, были счастливы… Супруги Байковы получили двухкомнатную квартиру с удобствами в 1969 году, тогда же когда была сдана в эксплуатацию и новая большая двухэтажная школа. В 1970-м область подключили к всесоюзному телевидению, что сразу привнесло резкий качественный скачок в мировоззрении населения Бухтарминского края. А в 1971 году в кинозале поселкового ДК показали фильм «Служили два товарища». Посмотрели его и Ольга Ивановна с мужем. Дома, после просмотра муж всячески восхищался игрой Высоцкого, его поручиком Брусенцовым, удивился и тому, как показали обреченно-геройскую смерть белых офицеров шедших топиться в море. На это Ольга Ивановна осторожно заметила, что подобные примеры вполне могли быть не только в Крыму, где происходили действия фильма, ведь Гражданская война была почти по всей России, и здесь тоже она шла, а у нас тут, дескать, только и известно, что о расстреле коммунаров и более ничего…
– А ты как про это можешь судить, ты же не местная, – неожиданно оборвал ее Алексей…
В тот вечер после киносеанса во взаимоотношениях супругов возникла первая по-настоящему крупная «трещина», ибо Ольга Ивановна впервые приоткрыла свою «маску». В нервном разговоре она сообщила, что не такая уж здесь чужая, что имеет здешние корни… Муж и его барнаульские родители были людьми, в общем, аполитичными, потомки переселившихся на Алтай в столыпинскую реформу крестьян. И гражданскую войну его предки умудрились пересидеть не воюя, ни за красных, ни за белых. Но уж очень они боялись казаков с Бийской линии, те несколько раз наскакивали на их деревню, забирали свежих лошадей, оставляя взамен своих больных и измученных, забирали и фураж с продовольствием, это вообще безвозмездно. То же самое делали и красные партизаны, и части регулярной Красной Армии, не говоря уж о том, что все они бесплатно становились на постой, пили и ели. В общем, у предков мужа не могло быть симпатий ни к одной из воюющих сторон. А в коллективизацию, тогда только поженившиеся, отец с матерью Алексея вообще перебралась в город. И поэтому родившийся в 1933 году Леша Байков, получил уже стопроцентно пионерское воспитание, которое и давало себя знать. После того как Ольга Ивановна, наконец, решилась «снять маску», открыться мужу (кому же еще?), тот был немало этим обижен, даже оскорблен. Одно дело восхищаться «беляками» на киноэкране, в уверенности, что все они либо убежали за границу или, вымерли как динозавры, другое, когда совершенно нежданно-негаданно через десять с лишком лет супружеской жизни выясняется, что родная жена все эти годы, выдавала себя за другую, врала про родителей, безвинно пострадавших советских служащих, что на поверку-то оказывается…
Нет, муж не стал попрекать ее ни этим обманом, ни происхождением, да и Союз в 70-х хоть и по прежнему оставался «красным», но уже «полинял». Он просто посоветовал ей про это никому ни где случайно не проговориться, особенно сыну, и вообще лучше вновь «одеть маску», и продолжать жить под ней, а он сделает все возможное, чтобы этот разговор тоже забыть. Конечно, измученная «двойной» жизнью Ольга Ивановна ожидала не этого, она ожидала понимания, поддержки, но таковой не последовало. Естественно, после этого супруги стали отдаляться друг от дуга. К середине семидесятых только сын, да совместное жилье, которое не разделить, ни сменять было невозможно, связывали их. Алексея и раньше тянуло на родину, еще сильнее та тяга стала после того, как жена стала фактически чужим человеком. Поводом для его отъезда послужило известие, что младшие сестры сумели устроить свои личные жизни и покинули родителей. Старики остались одни, и Алексея уже ничто не удерживало в Новой Бухтарме. Он рассчитался на заводе и отбыл в Барнаул. В 1978 году окончил школу сын Сергей и поехал в Новосибирск поступать, пожалуй, в самый в то время известный технический ВУЗ к востоку от Урала, в НЭТИ, в котором к тому же занимал немалый пост один из техникумовских товарищей отца, сумевший сделать преподавательскую карьеру. С тех пор пять лет подряд сын приезжал к матери только на каникулы, да и то не на все, так как по дороге всегда останавливался в Барнауле у отца, бабушки и дедушки. Ну, а после окончания института в 1983 году, он опять же с помощью друга отца попал служить лейтенантом-двухгодичноком в хорошую часть, располагавшуюся в Красноярске, в самом городе. Еще во время службы Байков-младший, сумел подыскать себе место работы, в одном из тамошних оборонных предприятий, и с прошлого, 1985 года уже числился там инженером, с небольшим окладом, но по его словам с немалой перспективой на продвижение в будущем. Как сын относился к разногласиям матери и отца? Сначала с недоумением, сильно по-детски переживая, но по мере взросления, узнав истинную причину их разлада, он занял нейтральную позицию, ибо не мог осуждать мать, но и слишком многим был обязан отцу. Он видел, как неважно складывается судьба молодых инженеров, не имеющих ни каких, даже самым маломощных «толкачей», коего он приобрел благодаря многочисленным письмам и личным встречам отца со своим старым другом.
С мужем Ольга Ивановна развелась, он нашел себе женщину в Барнауле, с которой сошелся. Так она осталась совсем одна со своей работой и своей памятью, которые и давали ей смысл и силы для дальнейшего существования…
5
К проверке изложений Ольга Ивановна приступила сразу после окончания уроков. Тут к школе вновь подъехала машина с будкой, привезя вторую смену школьников и забирая первую. Впрочем, подполковник заехал не только для этого, а еще, чтобы поблагодарить Ольгу Ивановну:
– Спасибо вам! Никак не ожидал, что ваша записка произведет такое впечатление на заведующего. Сначала, когда я заикнулся о своих проблемах, он на меня как на пацана посмотрел, но когда я записку показал, подобрел, сразу, чем могу…
В своей радости подполковник совсем не опечалился известием об очередной тройке сына за изложение. Ольга Ивановна не могла не вспомнить, что когда о не лучших оценках Игоря узнавала мать, ее реакция была совсем иной. Она буквально на глазах из доброжелательной красавицы превращалась в подобие злобной мегеры, готовой как ругаться с учителем, так и жестко наказать сына… и все равно чертовски красивой мегеры. Видя, что подполковник совсем не настроен обсуждать дела сына, Ольга Ивановна решила воспользоваться моментом и поинтересоваться бывшим учеником, к которому Ратников, вроде бы, был настроен более чем благожелательно:
– Да, кстати, Федор Петрович, давно хотела спросить, а как у вас Валера Дмитриев служит?
Ольга Ивановна из-за того, что в институт поступила поздно, училась заочно и академотпусков по рождению сына и уходу за ним, окончила институт только в 1967 году, а первый свой десятый класс выпускала в 1972 году. Валера был из того первого выпуска. Когда она знакомилась с личными делами учеников своего класса, которой ей предстояло вести до выпуска как классному руководителю, то обратила внимание, что только у него и отец, и мать местные уроженцы…
– Что, Дмитриев? – не сразу дошел до подполковника вопрос учительницы. – Ах да, он же тоже ваш бывший ученик. Ну что ж, к нему у меня претензий нет, – довольно нейтрально ответил Ратников, как и всегда отзывался о подчиненных в разговорах с посторонними.
Видя, что насчет Дмитриева подполковник особо распространяться не хочет, Ольга Ивановна решила попутно спросить и еще об одном обитателе «точки», который с недавнего времени начал ее интересовать.
– А вот есть у вас такой молодой офицер, его зовут Коля, а фамилия Малышев. Как вы его охарактеризуете?
Теперь Ратников был просто поставлен в тупик. Если бы Ольга Ивановна не оказала ему столь ценную услугу, и могла оказать еще не одну, он бы наверняка возмутился: какое ваше дело до характеристик моих офицеров, это в конце концов, военная тайна. Понимала это и Ольга Ивановна, но сейчас она не сомневалась, что подполковник просто не имеет морального плана разговаривать с ней подобным образом.
– Малышев, а он, что тоже вам знаком?
– А как же, он ведь довольно часто с вашими школьниками старшим приезжает. Потом еще в прошлом году он, узнав, что я потомственная сибирская казачка, пришел, отрекомендовался, рассказал про своего деда, который оказался примерно ровесником моего отца и так же как он был офицером белой армии. Так вот он интересовался тем, как тут жили до революции, про местных казаков. И я насколько смогла настолько удовлетворила его любопытство. Увы, у нас ведь официально бытует мнение, что местная история только с 17-го года началась. Тут ведь местных краеведов фактически нет, и молодежь понятия не имеет о том кто и как здесь жил до революции.
– Как нет, в Усть-Каменогорске краеведческий музей есть, я точно знаю, – возразил Ратников.
– Там-то есть, я даже с сотрудниками знакома, но они в основном кроме советского периода занимаются сбором документов об Иртышской линии, это станицы между Павлодаром и Усть-Кменогорском, в Барнауле там есть материалы о Бийской линии. А наша Бухтарминская, горная линия, про нее совсем никаких сведений. Даже о таких фактах, что Усть-Бухтарма являлась головной станицей и к ней относились несколько казачьих поселков таких как Северный, Феклистовский, Александровский, Березовский, Черемшанский, Вороний, почти все ныне здесь живущие и понятия не имеют…
Ратников слушал Ольгу Ивановну и вспомнил ту свою двадцатилетней давности ночевку в Александровском ущелье. Интересно жива ли еще та сторожиха? В очередной раз вспомнил и давний «поэтический» разговор с Ольгой Ивановной. Но сейчас он про то ничего не сказал, а спросил совсем о другом:
– Я слышал, что вы родились и жили в детстве в Китае?
– Да, в Харбине, жила с родителями до одиннадцати лет.
– Как там вам жилось, вспоминаете, наверное?
Ольга Ивановна ответила не сразу, несколько секунд внимательно вглядываясь в подполковника. Он спрашивал с каким-то состраданием в голосе, и она решила быть с ним откровенной:
– Да, Федор Петрович, конечно, вспоминаю, детство да еще счастливое забыть невозможно. Да-да, счастливое, как это не покажется вам странным. Конечно, все устраивались по-разному, но мои родители там жили неплохо. С китайцами отношения вообще были очень хорошие, с японцами посложнее, но тоже не сказать, чтобы невыносимые, просто так без причины они русских никогда не унижали. Поверьте, с некоторыми вроде бы нашими, советскими народами жить рядом намного тяжелее.
– Вы говорите о казахах? – предположил Ратников.
– Господь с вами Федор Петрович, вы, наверное, наслышаны, что я Танабаева и эту казашку-проверяющую из Алма-Аты на место поставила и поэтому всех казахов ненавижу. Нет, я не такая уж зашоренная дура, чтобы не видеть очевидного – и с казахами жить можно. Вы, наверное, в курсе, что на другом берегу водохранилища, в горах есть казахское село, Манат называется, ну которое у самого входа в Чертову Долину. Так вот, туда в войну несколько семей немцев заселили с Поволжья. Представляете, чистоплотных, трудолюбивых немцев в одно село с далеко не чистоплотными казахами, склонными часами смотреть на дорогу или горы, и ничего при этом не делать. И, тем не менее, немцы там прижились, у них родились дети, и за все эти годы никто их не унижал и не притеснял на национальной почве, не заставляли перенимать казахские обычаи, образ жизни. Они как были, так и остались немцами. Так же и любой другой народ с казахами бы ужился. Я часто присутствовала на всевозможных совещаниях и в Усть-Каменогорске, и в Алма-Ате, других городах Казахстана, разговаривала и сама видела, есть и такие народы, с которыми рядом жить или невозможно, или очень тяжело, я имею в виду в первую очередь турок-месхетинцев и чеченцев, – заключила Ольга Ивановна.
– Не могу ничего сказать, ни о тех, ни о других, их в наши войска обычно не призывают. Хотя я слышал о них не раз и примерно то же, что и вы говорите. А вот насчет казахов вполне с вами солидарен, действительно с ними вполне можно ладить. Но вот то, что вы про китайцев и японцев сказали, признаться не ожидал, – покачал головой Ратников. – С Китаем, вон, отношения до сих пор никак не наладятся. Сейчас, еще куда ни шло, а вот пока Мао жив был мне казалось, что вполне возможна война. Слышали, они ведь постоянно предъявляют нам территориальные претензии, вроде считают что весь Казахстан китайским должен быть.
– Да нет, Федор Петрович, тут все несколько сложнее. Дело в том, что Китай претендует не на весь Казахстан, а только на земли бывшего Джунгарского ханства. Это территория Алма-Атинской, Тады-Курганской, нашей Восточно-Казахстанской и большей части Семипалатинской областей. До середины восемнадцатого века здесь располагалось обширное и мощное государство, Джунгария. Китайцы в войне его уничтожили и естественно претендовали на эти земли, но успели только Синцзян захватить, а западную Джунгарию официально Россия застолбила. Так что если с этой точки зрения судить, здесь, в общем-то, совсем не Казахстан, – прочитала краткий экскурс в историю Ольга Ивановна.
– Невероятно, первый раз об этом слышу, – изумился Ратников. – А эти самые, как их, джунгары… они то что, куда подевались, почему здесь казахи-то оказались?
– Китайцы мстили джунгарам за набеги на их территорию и мстили жестоко. Потому джунгарские племена, которые уцелели разбежались. Например, доподлинно известно, что одним из таких племен являются калмыки. Они поспешили под защиту России, аж за Волгу убежали. Более мелкие племена тоже попрятались, вымерли, ассимилировались, но в основном они были уничтожены китайцами. А что касается казахов, ну так земля-то осталась пустой, вот сюда казахские скотоводы и стали гонять скот и заняли эти земли раньше чем пришли переселенцы из России. Впрочем, если говорить о нашем Бухтарминском крае, то не казахи, а кержаки здесь самым старым местным населением являются после того как эти места покинули джунгары.
– Надо же, – продолжал удивленно качать головой Ратников. – И откуда вы все это знаете, наверное, это еще с детства, от родителей слышали?
– Да нет, это меня уже здесь, как раз усть-каменогорские краеведы и просветили. Это они соответствующие исследования провели и вот к таким выводам пришли, что весь так называемый Восточный Казахстан, Казахстаном стал только когда попал под власть России. А до того, кочевья и старшего и среднего казахских жузов распологались западнее и южнее, а сюда они сунуться не смели, потому что боялись джунгар. Наоборот, джунгары постоянно делали успешные набеги на казахов. Это конечно неофициальная версия, но на мой взгляд очень близкая к истине.
Услышанное буквально повергло Ратникова в полуминутный задумчивый ступор, из которого он вышел опять же с помощью Ольги Ивановны. Она напомнила ему о Малышеве:
– Что касается Коли Малышева, я вот в связи с чем интересуюсь. В сентябре к нам молодая учительница английского языка по распределению после института пришла. Так вот, она с ним познакомилась и встречается. Ей в общежитии для молодых специалистов комнату выделили, и он ее там регулярно навещает. А я эту девушку как бы опекаю, и потому хотела бы узнать получше, что за человек этот Коля, – Ольга Ивановна старалась, как могла вызвать, подполковника на ответную откровенность.
Не сразу Ратников перенастроился от истории и политики на житейские проблемы сегодняшнего дня. Прошло еще с полминуты, прежде чем он окончательно осознал, о чем его спрашивают:
– Погодите… эта молодая англичанка… Елена Михайловна, которая английский у моей дочери преподает?
– Да-да, совершенно верно.
– Видите ли, не знаю, что вам и сказать. Парень вроде неплохой, но сами понимаете сейчас молодежь, как бы это сказать… Ну, в общем, хоть он уже и третий год у меня служит, а я его как оказалось, не так уж и хорошо знаю, – Ратников виновато развел руками…
6
Валерий Николаевич Дмитриев появился на свет в Усть-Бухтарме в 1955 году. Его отец был тот самый мальчик, что родился от второго сына Силантия Дмитриева, фронтовика Прохора летом 1919 года. В годовалом возрасте он пережил перестрелку, произошедшую между продотрядниками и его отцом с дядьями, в ходе которой от шальной пули погибла его полугодовалая двоюродная сестра. Николай этого, конечно, никак помнить не мог и вырос, как и все его поколение стопроцентным советским человеком и во всех анкетах значился как выходец из крестьян-бедняков, что, в общем-то, уже и соответствовало истине. Ведь после разгрома и сожжения хутора, расстрела отца, остался Николай один с матерью, и безо всякого имущества. Мать до 30-го года, то попрошайничала, то нанималась батрачить к разбогатевшим в НЭП крестьянам-новоселам, и кое-как растила и кормила сына. И то, что началась коллективизация с раскулачиванием, для них стало благом. Теперь уже мать по всем статьям считалась беднячкой-батрачкой, и то, что когда-то Дмитриевы являлись богачами и владели хутором, это как-то забылось. В коллективизацию уже новые кулаки стали врагами советской власти, с которыми она безо всякой жалости и пощады расправлялась. В 32-м году они с матерью сумели перебраться в Усть-Бухтарму. Там им на жительство выделили комнату в одном из домов выселенных кулаков, в который тех в свою очередь вселили в 22-м, как пострадавших от казаков во время Большенарымского восстания крестьян-новоселов. Николай в школу так и не начал ходить: сначала, когда побирались и по людям жили некуда было, когда, наконец, свое жилье появилось ему уже стукнуло 13 лет и садиться за парту с восьмилетними, стало как-то неудобно и обидно. Однако просто болтаться по улицам парню не дали, стали привлекать к работе в колхозе, сначала пастухом, потом по мере взросления, он стал, и пахать, и сеять.
На срочную службу его призвали в тридцать девятом, и Николай сразу же угодил на финскую войну. Хоть и неграмотный он был, а понимал, что в тридцати-сорокоградусные морозы воевать в буденновке невозможно. Взял да и спросил у политрука, почему, де, у финнов на головах теплые шапки-ушанки, а у красных героев матерчатые колпаки со звездами, которые на таком холоде к той голове буквально примерзают. Чтобы больше не задавал лишних вопросов, его сразу же спровадили на передний край. В начальный период войны, когда неудачно штурмовали линию Маннергейма, Николая ранили сразу в обе ноги, и его несколько часов до наступления темноты не могли вытащить с простреливаемой нейтральной полосы. Их оказалось там много раненых, истекавших кровью, просивших помощи, замерзавших. Николай не кричал, не тратил энергию, и может быть, поэтому выжил. Ночью до него добрались санитары, положили на плащ-палатку и выволокли к своим.
Ранения оказались неопасными, но обмороженную кисть руки пришлось ампутировать. Это несчастье, как ни парадоксально, в дальнейшем сыграло для Николая определенную положительную роль – его инвалида, не взяли на Отечественную войну, и в колхозе, которым заправлял старый Танабаев, он не мог выполнять никакой тяжелой работы. В то же время, все остальное, как говориться, осталось при нем, и в условиях военного и послевоенного дефицита на мужиков, ибо с войны не вернулось и половины призванных, да и из тех кто вернулись было немало настоящих калек… В общем, нескладный, невзрачный, не умеющий ни читать, ни писать, и до того никогда не пользующийся успехом у женщин, Николай вдруг оказался едва ли не самым завидным женихом. Что такое кисть руки, когда у многих полностью нет рук, ног, глаз, прострелены легкие, вырезаны метры кишок, осколки возле сердца… Здоровье оно далеко не последнюю роль играет в семейной жизни. Но Николай не торопился жениться, он мстил своим сверстницам за то, что те в довоенную пору его откровенно игнорировали, предпочитая других, тех кто сейчас либо не вернулся с войны, либо вернулись тяжелыми калеками. Женился он только в 47-м на молодой вдове без детей, чтобы уйти в ее дом, оставшийся без хозяина, так как в одной комнате с матерью, в доме, являющейся фактически сельской коммуналкой, где ютились еще две семьи, ему уже существовать опротивело.
Легкотрудник, так с раннего детства запечатлелось в памяти Валеры прозвище, которым наделила отца мать. Почему у таких работяг, какими были дед Силантий и его сын Прохор потомок оказался лодырем? Трудно сказать, может какие-то гены очень дальних предков возобладали, а скорее всего сама, так сложившаяся, жизнь Николая спровоцировала. Как в том рассказе Лондона, где мальчишка, подсчитавший количество движений, что он сделал, когда все свои детские годы ударно трудился на фабрике, вдруг впадает в депрессию и вообще отказался не только работать, но и делать, как ему казалось, любые лишние движения. Так и Николай, наработавшись досыта в тот период, когда детям положено играть, шалить, учиться в школе он, в силу сложившихся обстоятельств, оказавшийся в течении нескольких лет на легкой работе, в конце концов, настолько привык к этой прохладной жизни, что козырял своей культей, направо и налево, отказываясь даже рубить дрова дома. Его стыдили, ставили в пример инвалидов войны, которые умудрялись работать в колхозе не только без руки, но и на одной ноге. Но заставить его работать было уже невозможно. Единственно, что Николай любил, так это рыбачить, особенно зимой. Здесь он на удивление ловко управлялся с сетями и одной рукой, а в остальном… Единственной работой на которую он соглашался, это быть ночным сторожем колхозных амбаров. Любовь же к зимней рыбалки стала в конце концов причиной его гибели. Уже после того, как они переселились из зоны затопления в Новую Бухтарму, в 1964 году Николай пошел рыбачить на лед. Но водохранилище это уже не старое русло Иртыша, где он знал какой лед в какое время, и где могут быть полыньи сделанные рыбаками, а где их никто никогда не делал. Здесь все было внове и появилось много новых пришлых людей в поселке и они делали полыньи где попадя. В одну такую полынью и попал Николай, выплыл, успел добежать до дома, но так застудился, что заболел и через два дня умер.
А Валера в том же году ходил во второй класс… «Учись и трудись, – так учила его мать, происходившая из крестьян-новоселов деревни Селезневка. – Твой отец был неграмотный и легкотрудник, оттого и жил плохо, и кончил по-дурному. Не перечил Валера матери, но и поверить не мог, что через труд можно чего-то добиться, он видел слишком много примеров, что и те кто работали надрываясь жили почти так же плохо, как и лентяи. Тем не менее, Валера пошел явно не в отца, а видимо, в деда и прадеда, мать и ее родителей, он оказался природным трудягой. Правда времена уже наступили другие и детей недетским трудом не истязали. Несмотря на усидчивость и старательность учился Валера неважно, из класса в класс переходил хоть и без задержек, но тяжело. Так же со скрипом перешел он и в пятый класс, который в 1967 году приняла Ольга Ивановна. Постепенно, из года в год общаясь на родительских собраниях с его матерью, учительница узнала всю историю его ближайших предков, которая не могла ее не заинтересовать. Валера продолжал упорно и тяжело учиться, классная руководительница как могла ему помогала, ободряла, понимая, что дело тут даже не в умственных способностях вообще, а именно в способности учиться, быстро схватывать объясняемый материал. Далеко не всегда успешно учившиеся в школе люди, добивались впоследствии каких-то успехов в чем-либо, и наоборот, посредственные школьники, вдруг в зрелом возрасте преображались и становились весьма успешными. Ольга Ивановна иной раз ободряя старательных троечников приводила им в пример композитора Чайковского, у которого в детстве и юности его учителя не находили никаких способностей к музыке, а после 35-ти лет он неожиданно для всех начал писать гениальные музыкальные произведения. Такого рода объяснения не были приняты в советской школе. Эти примеры она помнила еще из своего гимназического харбинского детства, когда тогдашние ее учителя не стеснялись говорить, что Пушкин был далеко не лучшим учеником в Царскосельском лицее, а след, оставленный им в русской литературе от этого, тем не менее, не стал менее заметен.
Закончив 8-й класс, Валера вместе с большинством таких же, как он троечников решил бросить школу и идти работать на завод, учеником токаря, или слесаря. Именно его Ольга Ивановна особенно долго отговаривала, говорила и с его матерью: дескать ты парень старательный, не лаботряс, успеешь, наработаешься, пока есть возможность учись, потом не будет таковой. Не для кого не было секретом, что на заводе, в так называемых, рабочих коллективах, молодые неокрепшие ребятишки и здоровье подрывают и будучи на побегушках у своих старших наставников очень быстро привыкают к алкоголю. Многие из бывших школьников вообще не работали, болтались по улицам сбиваясь в шпанецкии кодлы. Подростковое хулиганство вообще стала одной из характерных черт советских рабочих поселков, а Новая Бухтарма ввиду того, что большинство ее населения были рабочими и членами их семей, конечно же, получила такой статус. Впрочем, и сельхозработники тоже стали рабочими, а не колхозниками, ибо колхоз уже в бытность председателем сына Танабаева преобразовался в совхоз.
Ольга Ивановна сумела уговорить своего ученика, Валера закончил десятилетку, и даже пытался поступать в техникум в Усть-Каменогорске, но неудачно. Зато закончил курсы шоферов при военкомате и срочную служил шофером на Севере. После армии устроился в поселковую автобазу, но там платили такую мизерную зарплату, что Валера, уже «ходивший» с девушкой и собиравшийся жениться, решил заработать денег на свадьбу. Он знал, что хорошо оплачиваемая работа на цемзаводе очень вредна для здоровья, но в поселке нигде больше таких денег не заработать, и опять же, только отработав определенное количество лет на цемзаводе можно было получить благоустроенную квартиру с удобствами. Так что деваться некуда. Валера не умел халтурить, беречь себя, изображать старание, он работал в полную силу, честно, заработал денег, женился… и через четыре года начал харкать кровью. К тому времени у них с женой уже родилась дочка. Провалявшись несколько месяцев в больнице, съездив в санаторий, он решил больше на завод ни ногой. Но куда еще податься человеку, отягощенному семьей, у которого тут же старится мать, в поселке, где крайне ограниченный выбор приложения своих сил. Здесь-то и пригодились те десять классов, что заставила его закончить Ольга Ивановна. Ведь только имея за плечами десятилетку и срочную службу, можно было с гражданки поступить на службу в армию по контракту, прапорщиком. Валера и воспользовался этой возможностью, закончил пятимесячные курсы прапорщиков и прибыл служить на «точку».
Дмитриев довольно быстро договорился с бригадиром автослесарей о времени постановки дивизионной транспортной машины на ремонт. Имея санкцию самого заведующего это было несложно, тем более Валера многих слесарей знал лично еще с тех времен, когда сам здесь работал. Сейчас бывшие товарищи с легким ехидством и нескрываемой завистью расспрашивали его о службе, жизни:
– Ну что Валера, как в «кусках-то» живется, небось, скоро свою машину купишь, платят-то сколь?
На обидное прозвище «кусок», прилепившееся ко всем прапорщикам еще со старых времен, когда так презрительно именовали сверхсрочников… На это Валера не реагировал, на вопросы о зарплате и жизни на «точке» отвечал уклончиво, общими фразами. Да, он сейчас зарабатывает больше чем шофера и слесаря на автобазе, но не настолько, чтобы этим хвастать. А что касается условий жизни, тут тем более хвастать нечем, на «точке» жизнь скучная, жена таковой не довольна, то и дело сюда к матери своей уезжает. Так и приходится жить даже не на два, а на три дома, потому, как и своей родной матери помогать надо. Вот и сейчас Валера отпросился у Ратникова, чтобы после дел на автобазе, навестить сначала тещу, потом проведать мать, переночевать у нее, и завтра с той же школьной машиной вернуться на «точку».
7
После развода с мужем Ольга Ивановна не завела новой семьи. Это только в поговорке говорится «в сорок пять баба ягодка опять», а в жизни… Тем более она вовсе не выглядела ягодкой, как, впрочем, и подавляющее большинство женщин ее возраста в поселке. Но главная причина заключалась даже не во внешности Ольги Ивановны, а в том, что она больше не желала связывать свою жизнь с кем ни попадя. Ведь ее замужество явилось не результатом проявления каких-то чувств, то была в первую очередь необходимость. В очередной раз подчиняться необходимости она не хотела. Это в больших городах у женщин с определенными требованиями есть выбор, в маленьких поселках его почти нет. Выходить замуж за какого-нибудь оставшегося без семьи работягу в возрасте – у нее таких и мыслей не возникало, да и такие работяги, как изображенный артистом Баталовым Гоша из фильма «Москва слезам не верит» в Новой Бухтарме не водились. А немногочисленная поселковая интеллигенция, она вся на глазах, и ее представители соответствующего возраста, свободные от брачных уз… они ни коем образом не устраивали Ольгу Ивановну.
Целью ее жизни стало… ожидание. Нет, не сказочного изменения в своей судьбе. Она чувствовала, ощущала то, что не ощущал никто вокруг нее. Скорее всего, это опять же происходило от того, что свои первые одиннадцать лет жизни Ольга Ивановна прожила вне советского общества, успела получить основы иного воспитания, образования и мировоззрения и потому не имела в зародыше стадного менталитета, закладывавшегося в советских людей с детских садов, младших классов начальной школы. Ну, и конечно, после десятилетий жизни «под маской», ей хотелось, наконец, «открыться», заявить о себе во весь голос именно здесь, на этой земле, которую многие поколения ее предков полили своим потом и кровью, и на которой являлись когда-то полноправными хозяевами. У нее не было женского счастья, не получилась семейная жизнь и осталось только это призрачная надежда, дождаться… Хотя, когда рассуждала трезво, коротая вечера в одиночестве в своей двухкомнатной квартире, понимала – может и не дожить. Ведь СССР великая сверхдержава, КПСС твердо держит власть, в ее распоряжении огромная мощная армия, КГБ, разветвленный номенклатурный аппарат. Такую мощь извне никто не посмеет не то, что свалить, тронуть. Оставалось надеяться на внутреннее тление, а оно, бесспорно, было, и на глупость, бескультурье высшего советского руководства, одурманенного манией своей исключительности. Великая глупость из-за потери чувства реальности случилась – СССР влез в войну в Афганистане. От подобной глупости в начале века погибла Российская империя, когда недалекий царь последовательно влез сначала в японскую, а потом и в мировую войну, чем измучил и надорвал страну. Но если тогда все предопределил рок – во главе страны встал монарх, который по своим способностям никак не мог быть руководителем великой империи, то в конце века все решила изначально порочная система «наследования» власти в высших эшелонах КПСС. При той системе после Сталина пробиться в ЦК и Политбюро людям грамотным, культурным, работоспособным, шансов оставалось очень немного, потому абсолютное большинство там составляли в первую очередь беспринципные карьеристы, отличавшиеся в первую очередь не умом, а хитростью.
Когда Ольга Ивановна в последние дни декабря 1979 года услышала по радио о вводе ограниченного контингента советских войск в Афганистан, она сразу поняла, последыши большевиков (истинными большевиками, такими как Ленин, Троцкий, Сталин этих бездарных и малограмотных маразматиков считать было никак нельзя) допустили непоправимый промах, не отличив диких афганцев от цивилизованных чехов. Она догадывалась, что это начало конца советской власти. Той самой власти, с которой воевали ее отец и дядя, которая уничтожила и их, и ее мать, дедов и бабок, с самого детства искалечила и ее собственную жизнь. Будучи близкой подругой Марии Николаевны, она еще до ее избрания председателем Поссовета через ее мужа узнала о байских замашках директора совхоза Танабаева и правду о его предках. Путем несложных умозаключений, вспоминая разговоры своих родителей, часто говоривших о своей жизни в Усть-Бухтарме, она высчитала, что дед этого директора, которого сейчас считали не иначе как героем борьбы с белыми, не кто иной, как батрак ее деда, причем батрак весьма смирный, никогда не бунтовавший и не «качавший» права.
В период прохождения предвыборной компании по выдвижению кандидатов во все Советы, начиная от поселкового и кончая верховным, учителей обязывали ходить по домам и квартирам, агитировать голосовать за кандидатов от блока «коммунистов и беспартийных». Ольга Ивановна старалась напроситься по тем адресам, где жили наиболее престарелые местные уроженцы. Там, между делом, она, вроде бы невзначай, заводила разговор о старой дореволюционной жизни. Старики соответствующего возраста и находящихся в доброй памяти были не очень словоохотливы, разве что те, кто каким-то «боком» соприкасались с красными партизанами. Ольга Ивановна понимала, кто предпочитает отмалчиваться, в красных партизанах, наверняка, не были, скорее всего, даже совсем наоборот. Куда разговорчивее оказались бабки. Из их рассказов, она особенно чутко улавливала сведения о бывшей станичной школе, или как его тогда называли высшем начальном училище, где учительствовала ее мать, о ее деде, станичном атамане Тихоне Никитиче Фокине. Особенно полезный контакт у нее получился со свекровью своей подруги. Ее звали Мария Макаровна, она являлась потомственной казачкой и успела проучиться в Усть-бухтарминском высшем начальном училище с 1916 по 1919 годы и обладала редкой памятью. Удалось найти и одного очень интересного деда, но тот был совсем древний, 1898 года рождения и почти не выходил из дома. Дети и внуки старика явно стеснялись и, по всему, не могли дождаться его смерти. Ольга Ивановна вызнала и причину этого – у деда на груди была вытатуирована «адамова голова» и надпись «С нами Бог и атаман Анненков!» Дед уже лет пятьдесят нигде при посторонних не снимал рубаху, но слух о татуировке все равно распространился. В молодости за эту свою надпись на груди, свидетельствовавшую о службе у Анненкова, он отсидел, но выжил, вернулся на родину… и много десятилетий жил с этим клеймом.
Когда в конце 1983 года на том памятном банкете, Ольга Ивановна, так сказать, принародно разоблачила Танабаева, через несколько дней к ней на квартиру сама пришла свекровь Марии Николаевны.
– Что, неужто уже разрешили? – с порога спросила Мария Макаровна.
– Что разрешили? – не поняла вопроса Ольга Ивановна.
– Вот так как ты, все про старую жизнь говорить?
– А что я такого сказала?
– Да, уж сказала, мне и сын и сноха все как есть передали. Я то все ждала-ждала, заарестуют тебя после этого, аль нет? Гляжу, вроде не трогают. Да вот еще Машка-то, сноха моя, говорит, что ты свою девичью фамилию взять хочешь. Так выходит ты самой Полины Тихоновны дочка? – старуха много раз до того встречавшаяся и беседовавшая с Ольгой Ивановной, смотрела на нее так, будто видела впервые.
– Что вы в дверях-то стоите, Анна Макаровна, проходите, снимите валенки… вот вам тапочки, сейчас я и чаю согрею, поговорим, – Ольга Ивановна старалась перейти на непринужденную беседу, тем более, что стало возможным поговорить обо всем не таясь.
– Ни за что не признала бы в тебе дочку Полины Тихоновны, – удивленно качала головой старуха, – проходя в гостиную. – Мать-то твоя уж очень из себя видная была и бабка тоже, это которая атаманша. Полина-то Тихоновна такой красавицей была, по всей нашей бухтарминской линии второй такой не сыскать, да и сейчас не встретить. Да чего там сейчас, сейчас народ против прежнего совсем квелый пошел. А за Полину Тихоновну сколько в женихи набивались, а она отца твово, значит, выбрала, Иваном звали его, а по отчеству не помню, тоже видный был, высокой такой… офицер. Я еще помню, как его ранетого привезли откель-то, тогда много казаков ранетых с обозом привезли и наших, и березовских, и александровских, и черемшанских. Дядю мово тоже тогда чуть живого довезли. Где-то тама бой у них был, много казаков побило. А отец мой он в энтот поход не ходил, дома осталси. Помню, только соберетси, коня, шашку с винтовкой приготовит, мама моя как накинется на нево: ты что дуралей, сиди дома, здесь над тобой не каплет. Кто у тебя здеся главный командер, станичный атаман, Тихон Никитич, дедушка, значит, твой, а он тебе никуда идтить не приказывал. Тятя мой поругался про себя, да и все бросил, осталси. Он тогда ведь еще не старый был и повоевать хотелось, и от друзей отставать стыдно. Сколько тогда здеся людей спаслося с того, что дед твой никого не понукал воевать, да приказы, что сверху присылали, не исполнял. Все про то знали, мой отец только через то и живой остался и не он один, а так бы всех тута замобилизовали. И когда советская власть пришла, стали тут спрошать, где был да что делал при Колчаке-то, мой-то тятя и ни при чем оказался, вот его и не тронули, хотя потом и хлеб весь в разверстку забрали и скотину тоже. Вот дядю мово чуть живого заарестовали, он так опосля ранения и не поправился. Раз у Анненкова служил, значит враг. Потом он так и помер в Усть-Каменогорске, в крепости. Пришлося отцу и евонных детей поднимать вместе со своими. Ох, Господи, как вспомяну, так плачу, как тяжко было жить первые годы при советской власти. Сейчас изо всех и родных и двоюродных одна я живая и осталась, но и от их дети породились и выросли и тоже детей народили. А не уцелей тогда отец-то мой, все бы мы загнули и родные и двоюронные. Вот так, спасибо деду твоему, много тут народу живыми осталися через него. Он же тут не только казакам послабления давал, он и мужиков и что в станице жили, и которые с деревень, что сейчас под водой, не трогал, не мобилизовывал, и оне многие через то живые пооставались. Хороший, умный дядька был. Только вот сам не уберегси. Да и как уберечси, должность то у нево была за все ответственная. Это сейчас Машка наша вроде и начальница, а мало за что отвечает, потому как тут и других начальников не счесть, и на цемзаводе директор свой, и в совхозе свой и ей они не подчиненные. А тогда станичный атаман он за все ответственный был и по гражданским делам, и по военным. Ну, и еще из-за брата отца твово он пострадал. Тот тогда в 19-м как приехал в станицу весь в черном, как сатана, ей Богу, форма черная, папаха черная и с ним таки же наехали верховые человек двадцать. Заставили оне Тихона Никитича заарестовать тех коммунаров и вроде как в крепость в Усть-Каменогорск погнали, да не довели всех в Александровском и постреляли. Не было бы тово расстрелу, может и уберегси бы твой дед, – прихлебывая чай, рассказывала Анна Макаровна. – А школу нашу, я как сейчас помню, большая, из бревен была, крыльцо, коридор и классы по бокам, а у дальней стены большое помещение под библиотеку отдано было. В библиотеку ту не только мы ученики, значит, но и со всей станицы народ ходил, кто читать любил. Когда потом красные пришли ту библиотеку первым делом всю переворошили и много книг прямо на школьный двор выбросили и увезли куда-то, чтобы больше книг про царей, генералов и казаков не было. А на уроках мы не столько сам урок слушали, сколько на мать твою Полину Тихоновну любовалися. Такая уж красавица была, и библиотекой она же заведовала, ключи у нее были. Там еще батюшка приходил из церквы, он Закону Божьему учил, ну и еще заведующий был, тот совсем старый учитель был, он с первых дней как у нас в станице школу-то открыли, так тут и работал. Парней, тех еще обязательно военному делу учили, ружья разбирать-собирать, лозу рубить, маршировали оне тут. Это все у них Иван Егорыч Щербаков, был тут такой, он учил… Потом лютую смерть принял, красные ему голову напрочь снесли. А нас девчонок, как сейчас помню, мать твоя отдельно собирала и всяким хорошим женским делам учила, как одеваться, прически делать, как за столом сидеть, ложку, вилку держать, с ножом есть, как перед кавалерами себя держать, всякие там приседания делать, чтобы на барышню походить, а не на раскоряку деревенскую. Она же гимназию в Семипалатинске заканчивала и всему тому училась. Как же те приседания-то назывались, дай Бог памяти, оне у меня лучше всех в классе получалися… нет забыла… кникен кажется…
– Книксен, – поправила Ольга Ивановна.
– Во-во, верно. И мальчишек она тоже наставить умела, но по-другому, когда мальчишки нас обижали, она им такую выволочку делала. Вы, говорит, защитники своего края и своих домов и девочек должны не обижать, а защищать от всяких варнаков. Ох, сейчас то совсем по-другому учат, а тогда вот так было…
Заботы, что ожидали Ольгу Ивановну после уроков и после того, как она проводила подполковника, очень неприятные заботы – идти в дом недавно погибшего ученика школы-семиклассника. Случилась жуткая история. Этот мальчик поехал на выходные к родственникам в Зыряновск. В воскресенье после обеда он возвращался домой на рейсовом автобусе Зыряновск-Серебрянск. Дети очень часто ездили на этих междугородних маршрутах без билетов. Вообще-то ему был положен ученический билет, но он его почему-то не взял. Когда автобус доехал до центральный усадьбы совхоза «Коммунарский», с проверкой нагрянула женщина-контроллер. Обнаружив безбилетника, она высадила мальчика на первой остановке в попутной деревне, уже в надвигающихся зимних сумерках. В той деревне у мальчика не было ни родственников, ни знакомых и он пошел домой по шоссе, видимо надеясь, что его подберет попутка… Потом от него нашли только шапку и один валенок, даже хоронить было нечего… Стаи волков случались в Бухтарминском крае нечасто, но видимо в этот период таковая мигрировала из южного Алтая в высокогорные районы северного, где в тайге водилось еще много мелкой дичи, любимого волчьего корма.
Школа собрала деньги, но никто не решался идти с ними в убитую горем семью. Ольга Ивановна взяла на себя эту ношу, как одна из старейших и уважаемых учителей. Мысли о предстоящем визите и передача денег вытеснили из сознания только что случившийся пространный разговор с подполковником. Впрочем, кое что Ольга Ивановна отложила в памяти для дальнейшего анализа. Прежде всего это, конечно, необходимость разобраться насколько серьезны отношения этого офицера с «точки» и опекаемой ею молодой «англичанки». Подполковник, явно что-то недоговаривал и об этом, видимо, было бы лучше поговорить не с ним, чтобы наверняка узнать, что за человек этот Коля, и не морочит ли он девчонке голову. Единственное удовлетворение она испытывала от того, что ей удалось выполнить поручение директора. Хоть и не через Поссовет, но большая под потолок елка в школу будет доставлена. В том, что Ратников выполнит обещание, она нисколько не сомневалась, тем более что ответственным за это назначен Валера Дмитриев.
Ольга Ивановна вдохнула, взяла сумку, положила в нее конверт с деньгами и, одев пальто, направилась к выходу… На нее вдруг навалилась какая-то неведомая ранее усталость и захотелось как можно скорее пережить все предстоящие неприятности, муторные встречи, разговоры, заботы, дожить до 31 декабря, уединиться дома, лечь с ногами на диван перед телевизором и посмотреть… нет не посмотреть, насладиться «Иронией судьбы, или с легким паром». Этот совершенно аполитичный фильм показывали по ЦТ в новогодние праздники, начиная с 1975 года, и Ольга Ивановна его ни разу не пропустила. Как ни что другое это комедия действовала не нее расслабляюще-успокаивающе. Вся окружающая жизнь была настолько политизирована, что она как бы отдыхала от нее, когда смотрела этот фильм.
8
К старику-аннековцу Ольга Ивановна пошла уже в 1985 году, после смерти Андропова. К тому времени слухи о банкете, на котором Ольга Ивановна объяснила Танабаеву, кто он есть, распространились не только по поселку, но и по всему Серебрянскому району и окрестностям. Причем, как водится, слухи обросли самыми невероятными подробностями, которых не было в действительности, будто бы Ольга Ивановна явилась на банкет с казачьей ногайкой, которую хранила как память не то от отца, не то от деда, и ей прилюдно отхлестала директора совхоза. За это время «воодушевленные» ее примером, о своем белогвардейском прошлом заявили сразу несколько стариков, некоторые помнили и предков Ольги Ивановны. Гораздо больше объявилось потомков тех, кто либо воевали под командованием ее отца, дяди, либо учились у ее матери. «Клейменный» анненковец, раньше не выходивший из дома, из боязни, что его станут обзывать «беляком» мальчишки, теперь уже просто еле таскал ноги от старости. Но когда Ольга Ивановна, заранее договорившись, сама пришла, её приняли как дорогую гостью. И сын, и сноха, и уже взрослые внуки, все смотрели на нее почтительно и с благодарностью. Они столько лет стыдились своего отца и деда, а Ольга Ивановна своим поступком и наличием того обстоятельства, что ее за это не преследовали власти… это как бы неофициально реабилитировало всех местных «беляков» и их потомков, которых на поверку оказалось не так уж мало. Они, конечно, не понимали того, что инстинктивно ощущала Ольга Ивановна – эта реабилитация стала возможной лишь благодаря тому, что советская власть явно одряхлела, ослабла. Ее основной оплот, рабочие-пролетарии, крайне недовольные резким снижением своего жизненного уровня после начала афганской войны, уже не рвались вступаться за власть на, так называемом, бытовом уровне. Еще совсем недавно, в относительно сытое брежневское время, такое вот массовое «явление народу» бывших беляков и их потомков было бы не возможно, их бы тут же заклеймила позором, прежде всего рабочая общественность, после чего подключились бы компетентные органы, но сейчас…
Ольгу Ивановну усадили за стол, поставили угощение, и только после этого из своей комнатешки, «к столу был подан» сам дед. Бывший анненковец столько пережил за свои «ошибки молодости» и за то, что остался жить на родине, да еще жил так долго. Когда его под руки вывели, и Ольга Ивановна поднялась ему навстречу, сгорбленный старик вдруг сердито отстранил руки сына, выпрямился. Он оказался неожиданно очень высокого роста, значительно выше и сына, и внуков. Пиджак, явно не его, а опять же сына, оказался ему широк в поясе, но короток и впору в плечах – все это стало очевидным, когда старик перестал сутулиться, расправил плечи.
– Здравствуй дочка… Так, значит, вон она кто ты есть. А мы то все думали училка, да училка. А ты вона каких кровей, нашенских казачьих. Спасибо тебе, что калбитенка этова, Танабайку, принародно раскассировала… Я то ведь, конешно, знал из ково он произрос-то. Да, кто ж мне поверил бы, да и боялси, чесно признаю. А ты вот молодец, правильно, сколько же можно схоронясь от самих себя жить, смелая, сразу видать чья кровь в тебе. Отец-то твой, Иван Игнатьич, первый командир у Анненкова был. Он его самолично орденом за воинское умение пожаловал. Да, отчаянной храбрости и большого ума был человек. Я ведь в его сотне служил спервоначалу, когда он нас отсюда повел. Ординарцем он меня при себе определил…
– Бать, бать… ты присядь, чего стоять-то и Ольга Ивановне тоже стоять неудобно. Садись, вот рюмочку выпей, – суетился сын, лысый полный мужчина, лет пятидесяти пяти, кладовщик из ОРСа.
По всему, старик, принесший столько неприятностей своим потомкам, давно уже не удостаивался такой чести, быть приглашенным к общему столу, видимо, он питался отдельно. С другой стороны, на сына ему было обижаться грех. Другой в подобной ситуации давно бы сдал старика в областной дом престарелых, да и забыл о столь неудобном родстве, а этот нет, терпел, кормил. Вмешательство сына сбило «анненковца» с мысли, он опять ссутулился, съежился, и, тяжело переставляя ноги в валенках, прошел и осторожно сел за стол.
Не сразу дед разговорился вновь. Ольге Ивановне пришлось неторопливо, исподволь повернуть разговор в нужное ей русло… В 19-м Порфирию Митрохину исполнился всего 21 год, возраст когда казаки только призывались на действительную службу и он холостой, молодой, бежал от опостылевшей ему домашней и полевой работы, добровольно вступив в сотню формируемую Иваном Решетниковым в помощь атаману Анненкову. Он мало, что мог вспомнить о деде Ольги Ивановны Тихоне Никитиче. Станичный атаман тогда для молодых казаков был, как в советское время секретарь райкома для рядовых граждан, то есть сидел высоко, и к нему не подступиться. А вот об Иване Решетникове дед говорил в охотку:
– Орел был отец твой, дочка. Под Андреевкой, это село такое большое в Семиречье, сильно он отличился, – дед настороженно покосился на родичей, дескать, можно говорить про то, или нет, и тут же махнул рукой, видимо выпитая рюмка водки придала ему смелости. – Красные нас с пулеметов и орудий поливают, а батя твой сумел их обойти и с тыла к самой их батареи сотню вывел. Ну, атаковали, артиллеристов всех порубали, ну уж, а тут сам атаман, Борис Владимирыч, всей силой в лоб пошел. Наших устьбухтарминских казаков в том бою многих побило, и батю твоего ранило, да не пулей, коня под ним убило, и тот придавил его, ногу сломал. Наших тогда изо всей сотни, наверное, десятка два-три всего и уцелело. Я то сам в той атаке не был… Я ж говорю ординарцем при ем состоял, а еще в станице батя мой к нему подходил просил за мной присмотреть. Я ведь тогда еще неук был. Ну, вот он меня в атаку-то и не взял, пожалел, а послал к командиру полка с донесением, что атакует, чтобы тот всем полком поддержал его. Да не спроворился как-то тот командир, не повел полк и пришлось Иван Игнатичу с одной нашей сотней все делать. За тот бой ему сам атаман прямо в лазарете и крест повесил и в подъесаулы произвел. А есаулом он уже потом стал, когда мы всю эту красную Черкасскую оборону в прах разбили.
Дед замолчал, что-то припоминая, но Ольга Ивановна, впитывавшая все воспоминания об отце как губка, не утерпела:
– А потом, после того боя под Андреевкой, что было?
– А… что говоришь-то? – словно спросонья спросил дед. – Что было?… То и было, кто убитый тех закопали… ох сколько там дружков моих легли. В братской могиле их, молебствие отслужили. Ну, а нас оставшихся по другим сотням разбросали. Раненых тоже много. Им в лазарете совсем худо было, мерли сильно, март месяц стоял, ветра сильные, по ночам холод аж зубами стучали. Ну, а я, значится, в том бою так уж получилось не участвовал и ни царапины не получил, отец твой да Бог тогда меня спасли. Меня потом значит Степан Решетников, дядя твой, к себе в сотню атаманского полка взял. Но туда попасть не просто было. Перед тем Степан Игнатич у брата свово Иван Игнатьича справился, в лазарет к ему ходил, спрашивал, как Порфирий Митрохин. Ну, а батя твой и говорит, справный казак бери ево к себе. Вот так я и стал атаманцем. Тама выдали мне черное обмундирование, папаху, шинель. Весь полк в черном ходил с ног до головы, и знамя у нас было черное. А в дивизии там еще были Черные гусары, да Голубые уланы, ну а мы, значит атаманца, Лейб-Атаманский полк, – неспешно, явно напрягая память, но с удовольствием повествовал дед о своей молодости, о том, о чем вынужден был молчать более шестидесяти лет.
– Порфирий Прохорович, а эта надпись, ну татуировка у вас на груди, она как появилась? – осторожно осведомилась Ольга Ивановна.
Старик помрачнел, он не мог не вспомнить сколько несчастий принесла ему эта татуировка… Но выпив вторую рюмку и пошамкав плохо держащимися во рту вставными протезами квашеной капусты заговорил вновь:
– Оно, конечно, баловство. Знать бы тогда, что потом через это перетерпеть придетси. Средь нас, атаманцев, особливо молодых, вроде меня, атаман был ну как тебе сказать… Ох как мы ево любили. За него готовы были на всё – такой это был человек. Вот недавно газетку эту читал, «Рудный Алтай». Там про нево пропечатали, специально ходил очки себе выправлять в аптеку, чтобы стекла сильнее поставили, сам прочесть хотел. Патрет там евонный, атамана нашева, Бориса Владимирыча. Я ведь ево сколь раз самово как вот тебя сейчас видал – не человек, орел, в седле сидит как в ем родился, в бою всегда впереди, такой же как мы, весь в черном. В атаку как ангел смертный над землей летел, и пули ево не брали, а уж шашкой ево тем боле никто взять не мог. На коне скакал как хошь, в цирке так не скакали, хоть лежмя, хоть стоймя, нагами на седле, хоть вверх ногами, хоть под брюхом у лошади пролезть мог. Сказывали, один раз взял он взвод в соседней сотне и в разведку с ими поехал. Красные заметили и погоню отрядили. Кони у их свежее оказались и догнали они наших в степи и пошла рубка. Так атаман наш лично шестерых красных зарубил, казаки говорили никогда такова не видели, как он шашкой орудовал и конем управлял, и на стремя из седла выскакивал и даже на землю и тут же назад, чтобы от их шашек увернуться. Глядя на него, и остальные наши так тех красных в клинки приняли, что те своих убитых побросали, оборотились и вспять побегли… – старик помедлил, подумал. – А в статейке той мало правды про его написали. Он ведь не только огромной отчаянности был человек, но и о нас простых казаках заботился. В нашем полку почти всех по именам знал, и меня тоже. И когда он сам полк вел в бой, это была самая, что ни на есть великая честь.
– А чего ж тогда до самого Китая отступали, если он такой герой был, ваш атаман, – вклинился в разговор, недавно пришедший из армии двадцатилетний внук, в свое время тоже учившийся у Ольги Ивановны.
На него строго глянул отец, но дед на вопрос совсем не обиделся.
– Сила солому ломит, да и самое верхнее командование у нас… Никогда бы красные тогда верх не взяли, кабы всей нашей силой командовали не Колчак с этим Ивановым-Риным, атаманом омским, а наш Борис Владимирыч. Потому как он мог и войска организовать, и порядок навесть, и приказы ево всегда в точности исполнялись. А у этих… – старик досадливо махнул рукой, едва не зацепив тарелку с капустой. – Когда Колчак-то с Омска побег, мы же совсем без снабжения осталися, ни патронов, ни снарядов. А одними шашками много не повоюешь. Тут и предательство началося, начальник тыла Асанов, полковник, к красным перебежал и семиреки нас подкузмили. Красные от Верного наступать стали, а оне Копал, крепость, на которой вся ихняя оборона держалась без боя сдали. Опосля этого красные к нам в тыл и вышли. Так что атаману нашему ничего и не оставалось, как в Китай отступать.
– А вы в Китай, значит, не пошли? – спросила Ольга Ивановна.
– Не… Перед Джунгарскими воротами, атаман нас всех построил и говорит, кто не хочет со мной идти в Китай, не неволю. Возвращайтесь и ждите меня вскорости назад. Большинство из нашего полка с им ушло, а мне уж больно не хотелось по чужбине мыкаться, да и из дому я первый раз так на долго уехал, заскучал сильно по отцу с матерью, да и невеста тут у меня осталась. Но если бы атаман приказал с собой идти, ни минуты бы не сумлевался, с ним бы ушел. Но он вона какой, понимал, что в таком деле неволить никак нельзя. Прощались тогда со слезьми. Я к атаману подошел, говорю, прости брат-атаман, если что, ну и он мне, и ты меня брат прости. Он нас всех братьями называл, а мы его брат-атаман. Он и всамделе как брат нам был, и жил как мы, все больше в седле, и ночевал в степи, никаких удобств себе не устраивал. Вина совсем не пил. После про него много чего говорили, неправда все это, брехня.
– Ну, а то, что в газете написано было, что он специально беженцев, женщин, детей расположил рядом с полностью разложившейся сотней, чтобы и от тех и от других избавиться, это правда? – продолжала допытываться Ольга Ивановна.
– Брехня, – недовольным голосом отвечал старик. – Не мог наш атаман так поступить. Своих бойцов он как отец любил, хоть и сам еще молодой был. Он же знал, что у многих казаков среди беженцев их семейства. Это все по случаю получилось. Тогда ведь все перемешалось особливо в тылу. А в сотне той верно, одне мазурики, ухорезы собраны были. Выпили они, вот им и стукнуло в головы дурные, над бабами поизголяться. Средь них там и один наш станичник был, по фамилии Арапов. Он ведь тоже сначала в офицерах ходил, а потом его атаман за какое-то злодейство в рядовые разжаловал. Ты то дочка знать должна про его. Ведь Арап-то этот за матерью твоей в ту ночь бегал.
– Да, знаю. От мамы еще помню.
– Ну, раз знаешь, не стану об том. Мать-то твоя тоже геройской оказалась, наповал того Арапа застрелила. Про то потом вся наша Семиреченская армия судачила. Арап он и есть арап, бандит каких мало. Из-за таких вот, на всю нашу армию и атамана поклеп пошел. Все, что оне творили, потом самому Борису Владимирычу приписали. А он не такой был, правда, расстреливал частенько, чуть что к стенке, но все по справедливости. А иначе как, людей то сколь у него под командой было, иначе порядок не навесть, не армия, а банда будет. А у нас порядок строгий был, слово атамана – закон. Не просто так мы писали-то на грудях «С нами Бог и атаман Анненков», недаром ему стремя целовали, когда прощались, и я целовал…
9
После посещения семьи погибшего мальчика, Ольга Ивановна, преодолевая тяжесть на сердце, явившуюся следствием этого визита, вновь пошла в Поссовет. На улице смеркалось, в окнах горели огни. На этот раз пришлось подождать в приемной. У Марии Николаевны проходило заседание поселковой жилищной комиссии. Распределяли ордера на квартиры, которые цемзавод выделил поселку в своей новой, сдаваемой в будущем году пятиэтажке. Из-за закрытой двери кабинета доносились возбужденные спорящие голоса, и все перекрывающий фальцет председательницы. Наконец, заседание завершилось, члены комиссии вышли из кабинета, раскрасневшись как после бани, многие были явно недовольны, чертыхались вполголоса. Мария Николаевна сидела за своим рабочим столом мегера мегерой, но, увидев подругу, с облегчением улыбнулась:
– Ох, Ивановна, думала, никого бы больше сегодня не видеть, а тебя вот увидала, и сразу как будто легче стало.
– Что, с квартирами этими намучилась? – участливо спросила Ольга Ивановна.
– Такое дело без мучений никак не решить. Вон в поликлинике половина врачей без квартир, молодые специалисты, учителей ваших трое, а завод опять квоту урезал. По закону двенадцать квартир должен был представить, а выделил всего девять. Опять жаловаться на них надо в область, а там… ааа, – Анна Николаевна беспомощно махнула рукой. – Слушай, когда твой дед, вот так же в старой Бухтарме командовал, он квартирным вопросом занимался?
– Вряд ли, какие квартиры, – недоуменно отвечала Ольга Ивановна, – тогда ведь все в своих собственных домах жили.
– А чем же он тогда занимался? – нынешняя председательница Поссовета смотрела на внучку атамана так, будто та просто обязана знать круг обязанностей деда, которого никогда не видела, и который руководил станицей более шестидесяти лет назад.
– Ну, не знаю, – Ольга Ивановна пожала плечами. – Может быть, решал вопросы с землей, занимался межеванием наделов, к тому же тогда кроме личных юртовых наделов были и общественные земли, луга, покосы, пастбища. И учти, что тогда казаки еще и сторожевую службу несли в крепости и тут по всему этому берегу Иртыша разъезды рассылались, чтобы между казачьими поселками существовала сплошная сторожевая линия. Потом, очень важным был вопрос, за который станичный атаман в первую голову отвечал, это назначение молодых казаков на действительную срочную службу. И торговые дела тоже он решал, кого из купцов допускать торговать в станице и поселках, а кого гнать в шею, если прохиндей. И школой он занимался, и прочими социальными учреждениями. Тогда ведь была совсем другая жизнь.
– Да, действительно, другая, – задумчиво согласилась Мария Николаевна, сейчас ни земли, ни домов своих ни у кого нет, все государственное. Землей Танабаев фактически один всей распоряжается, и земля сейчас вообще не ценится, зато жилье, хоть и казенное, но в большой цене, а его как раз и не хватает.
– Чего не хватает, то всегда в цене, так всегда было, – вставила реплику Ольга Ивановна.
– Да, верно. Вот люди и рвут глотки за эти ордера… Ладно, черт с ним со всем. А ты чего пришла-то, опять насчет елки? – решила переменить тему председательница.
– Да, нет, с елкой я все решила, военные привезут. Я про Мишенковых, у которых мальчика волки загрызли. Ходила я к ним. Они требуют судебного расследования. Отец так прямо и заявил, если контролершу судить не будут, я ее тогда сам убью. Что делать-то?
– А ничего, нет такого закона, чтобы ее судить. С работы ее уже уволили, и все. Она в Серебрянске живет, квартира там у нее, а мы же все к квартирам как проклятые привязаны. Вот и получается, и осудить не можем, и отослать куда-нибудь, чтобы глаза тут не мозолила, тоже не можем. Теперь будем ждать, грохнут ее или нет… Ладно, Ивановна, не бери в голову, иди домой, отдохни, а то на тебе лица нет. Телевизор посмотри, сегодня после «Времени» концерт Пугачевой в Чернобыле, который в сентябре был, будут показывать в записи. Ты же его тоже не смотрела?… Там, говорят, она своему новому фавориту, Кузьмину, рекламу делала. Я вряд ли посмотрю, устаю так, что едва дома поем, сразу спать валюсь, а у тебя же, говоришь, бессонница, посмотри, потом мне расскажешь…
Дома, поужинав, Ольга Ивановна вспомнила, что в полдевятого начинается третья серия «Джейн Эйр». Фильм ей нравился, и она хотела посмотреть все его серии, но… Прежде всего ей хотелось в спокойной домашней обстановке, вооружившись лупой внимательно рассмотреть уникальную фотографию, которую ей сегодня передали в школе.
Сходясь ближе со старожилами, Ольга Ивановна просила у них старые фотографии. Она хотела их переснять в поселковом Доме Быта, в фотоателье и сделать нечто вроде исторического фотоальбома. Ей находили такие фотографии, извлекая из старых сундуков. На них, все больше были запечатлены бравые казаки в папахах и с шашками. Снимались в основном перед отправкой на германский фронт. Фотографии времен гражданской войны почти отсутствовали. Видимо их уничтожили, боясь преследований ЧК. Но вот сегодня в дверь её кабинета во время перемены кто-то робко постучал. Это оказался ушастый мальчик-шестиклассник, которого она не учила. Он протянул старую пожелтевшую фотографию:
– Вот, возьмите. Бабушка сказала вам отдать, а то, говорит, я умру скоро, а вы все равно выбросите. А ей учительнице-атаманше интересно будет, здесь мать ее есть.
– Как, как ты сказал… атаманше? – чуть не расхохоталась Ольга Ивановна.
– Это бабушка так вас зовет? – совсем смутился ребенок.
То была старая потрескавшаяся фотография. Не сразу Ольга Ивановна сообразила, что на ней изображены высаживающиеся с баржи люди, сгружающие какой-то инвентарь, походные кухни… «Да это же приезд коммунаров на Гусиную Пристань», – сердце Ольги Ивановны учащенно забилось. Она стала пристально всматриваться в задний план, туда, где по ее предположению должны были стоять местные жители, казаки, пришедшие посмотреть на посланцев Ленина. Человек с фотоаппаратом, видимо, имел целью снимать именно коммунаров, их жен, детей. На фотографии картузы, пиджаки, ситцевые платья, изможденные лица… Но передний план почему-то получился не слишком четким, или просто эта часть фотографии хуже сохранилась. А вот задний смотрелся гораздо лучше: казаки, казачки, казачата… папахи, френчи, ермаковки, шаровары с лампасами, кубовые платья, длинные и широкие снизу и тугие, в обтяг сверху. Взгляды тревожные, суровые, исподлобья. Казаки в сравнении с приезжими в основном рослые, плечистые, много бородатых, казачки высокогрудые, полнотелые… И вот, наконец, на самом краю фотографии, чуть поодаль от группы казаков и казачек рядом с пролеткой, запряженной парой плохо различимых лошадей, молодая девушка как будто к этой фотографии подрисованная, будто из другого мира и времени, как сошедшая с картины Нестерова «Портрет дочери», в «барском» платье зауженном к низу, в шляпе с вуалью. Ольга Ивановна вглядывалась до боли в глазах. Сомнений быть не могло – это ее совсем еще молодая мать, приехавшая, по всей видимости, с отцом и женихом 1-го мая 1918 года посмотреть приезд чужаков из Петрограда. Вот только никого рядом с нею нет, ни жениха, ни отца, то ли отошли, то ли просто не попали в пределы обзора объектива…
Под впечатлением от фотографии Ольга Ивановна уже не могла, как следует «переживать» за героев сериала «Джейн Эйр». Фотография «не отпускала», навеянные ею раздумья заставили окунуться в собственное прошлое, и уже смотря программу «Время» она как-то незаметно задремала прямо в кресле. Сон был кратковременным но, что называется, насыщенным и состоял из некой калейдоскопической «нарезки», своего рода сериал из коротких фрагментов того, что имело место быть въяве и домыслов-предположений. То она видит себя совсем маленькой и няня-китаянка одевает ее по-зимнему, чтобы вести гулять: сначала теплые ботиночки, потом пальтишко с белым, по всей видимости, заячим воротником, потом шапочку, на руки маленькую меховую муфточку. Именно та муфточка, почти такая же какие носили тогда в Харбине взрослые дамы и ее мать, позволяла и ей ощущать себя взрослой. Потом следующий фрагмент: она видит себя уже гимназисткой в синем «зимнем» шерстяном платье с черным каждодневным фартуком. Потом она уже в белом фартуке, который одевался по праздникам и в церковь. Следующий фрагмент – она опять гимназистка, но уже в «весенней» форме: опять же синяя пласированная юбка и белая блузка с синим галстуком… А вот она в сопровождении отца идет на каток, играет музыка, мимо весело со смехом проносятся на коньках гимназисты и гимназистки старшеклассники, и робко катаются младшие в том числе и ее одноклассницы. Она же недовольно торопит отца, чтобы скорей снял с нее ботинки и одел детские коньки на красивых белых сапожках… Потом новый фрагмент, она подслушивает родительский разговор, где мать восхищается то ли квартирой, то ли домом кого-то из своих знакомых и более всего тем, что у них спальня с отдельным туалетом. Отец отвечает:
– Да не завидуй ты, Поля, у нас тоже дом отменный, а главное, Бог дал, Оленька и пригожая, и умница, а у них сын балбес, дурак-дураком…
Потом «розовые» фрагменты сменяются строгими, но тоже цветными: она с родителями в церкви, молится, стараясь класть крест правильно, как это делает мать. Она чувствует особый присущий богослужению запах, видит золоченые одежды священнослужителей, тусклый свет многочисленных лампад и окладов бесчисленных икон. И тут же явь сменяется неким черно-белым домыслом полуфантазией, то чего она не видела, но то, что точно случилось уже в шестидесятые годы, в этот же храм врывается толпа китайцев одетых «под Мао», так называемых хунбейбинов и крушит все подряд, иконы, лампады, фрески…
Ольге Ивановне в ее снах из прошлого часто виделись именно харбинские церкви, и не только оттого, что там их было много Эти сны как бы восполняли отсутствие в ее советской жизни вообще всего церковного. Ведь ни в Серебрянске, ни в Новой Бухтарме, во всем районе не было ни одного храма. Из церковных праздников неофициально праздновали только пасху. Если празднованием можно назвать крашение яиц и исполнение «обряда» разбития – у кого крепче.
Ольга Ивановна вздрогнув, проснулась. Ей стало страшно в полутьме комнаты освещенной лишь светом телеэкрана. По «Москве» уже шла трансляция концерта Пугачевой из Чернобыля. Не сразу удалось «переключиться» со сна, из прошлого в современность. Но зрелища всегда отвлекают. Отвлекло, заставило забыть довольно жуткую концовку кратковременного, но многосерийного сна и сейчас.
Ольге Ивановне нравилась Пугачева. Она следила за певицей с момента появления ее на большой союзной эстраде в середине семидесятых, с ее первой ставшей известной песни «Арлекино». На ее глазах набирал силу и развивался ее талант, затмевая своим блеском и старших, и ровесников и более молодых. Но где-то года два назад Ольге Ивановне показалось, что Алла слишком рано стала осознавать себя Аллой Борисовной, перестала «пахать» и начала помаленьку «дурить». Концерт, который передавали из Чернобыля, подтвердил эти подозрения. Певица не «работала», она «играла» и явно «переигрывала», делая упор не на свой прекрасный голос, умение импровизировать на сцене, петь душой. Она, не понятно кого копируя, пыталась делать залихватские телодвижения, отпускала шутки и время от времени бросала в зал ура-патриотические реплики типа: «Только наш человек может выдержать такое испытание, которые легли на плечи доблестных ликвидаторов…». Это она несколько раз повторяла между песнями к месту и не к месту, а зрители, забившие зал, с восторгом это воспринимали, аплодировали. В том зале все восторгались суперзвездой и снисходительно относились к тому, что она привезла с собой и устроила там рекламу своему протеже Кузмину. Кузмин тоже спел дурным козлетоном несколько своих песен, которые рядом с пугачевскими хитами слушались жалкими поделками…
«Взлет» Пугачевой пришлось на время когда руководители советской культуры явно дали слабину в борьбе с тлетворным влиянием «загнивающего Запада». На рубеже шестидесятых и семидесятых они еще как могли боролись с проникновением в Союз в первую очередь рок-музыки, но в конце концов капитулировали сначала перед «Биттлз», а потом и перед другими ее носителями. Так что на рубеже семидесятых и восьмидесятых британская рок группа «Смоки» уже вполне официально была допущена на советские телеэкраны. Ольга Ивановна была далека от рока, но поп-музыкой она всегда интересовалась и искренне приветствовала, что в семидесятых в СССР в эфир и на телеэкраны, опять же вполне официально, допустили сначала французскую, а потом и итальянскую эстрадную музыку и песни. Ольга Ивановне все же больше импонировали итальянцы. Она попросила сына записать ей на магнитофон наиболее известные хиты Джани Маранди, Тото Кутуньо, Адриано Челентано, Рафаелы Кары. Но чаще всего она любила слушать дует Аль Бано и Рамина Пауэр, их чудесные «Феличита» и «Чиисара»… Так вот, сравнивая Пугачеву с лучшими европейскими исполнителями, Ольга Ивановна не сомневалась, что она им как минимум не уступает. Но вот сможет ли она перешагнуть границы СССР и стран соцлагеря, получить мировое признание, мировую славу, сродни славы Эдит Пиаф, Элвиса Пресли, Биттлз, АББы?!.. В этом Ольга Ивановна очень сильно сомневалась. И не потому, что у Пугачевой не доставало таланта или исполнительского мастерства, с ними-то как раз все было в норме. Советские правители, как дозировано пускали в Союз западное искусство, так же дозировано выпускали и свое. Оттого и случались, время от времени, побеги советских артистов на Запад, как это сделали впоследствии добившиеся мировой славы балетные танцовщики Нуриев и Барышников. Но эстрадные певцы не балетные артисты, которые несут искусство своим танцем, движением, то есть им не нужен язык. Потому, как казалось Ольге Ивановне, у Пугачевой было мало шансов стать столь же популярной в мире, каковой она являлась в своей стране – и власть в долговременное турне дальше соцлагеря не выпустит, да и языковой барьер помешает. В замкнутом советском обществе не было возможности массово и регулярно посещать зарубежные страны и, как следствие, в достаточной мере овладеть иностранными языками, петь на английском, как с успехом это делала та же шведская группа АББА. И здесь Ольга Ивановна видела, что Советский Союз, проигрывает не только экономическое соревнование. Он оказался неконкурентоспособным и в культурном плане. Те же музыкальные таланты конечно были, но либо не могли в достаточной степени развиться, либо как в случае с Пугачевой, Леонтьевым или Антоновым не могли выйти на мировую арену. Впрочем, и прорвы состоявшихся талантов, как это имело место в Российской Империи в 19 и начале 20 го веков советская культура, увы, не выдавала. Все эти сверхпопулярные в СССР Кобзоны, Лещенки, Самоцветы, Машины Времени и даже Песняры, с Верасами и Сябрами, увы были хороши только для «внутреннего пользования». Только в СССР могло быть востребовано и творчество Владимира Высоцкого, что бард несомненно осознавал и потому, даже став выездным, не делал попыток остаться на Западе.
После недолгих мысленных «лирических отступлений» Ольга Ивановна вновь сосредоточилась на концерте. Она стала присматриваться к залу, на который время от времени наводил свою камеру оператор. Среди зрителей оказалось немало людей в военной форме…
10
В Новобухтарминской средней школе учителя в основном являлись выпускниками Усть-Каменогорского педагогического института. Были и выпускники других казахстанских педВУЗов. Подавляющее большинство учителей поселковой школы мечтали отсюда уехать, хоть как, но перебраться в большой город. Самым притягательным и достижимым конечно стал областной центр Усть-Каменогорск, город по казахстанским реалиям просто уникальный. Во-первых, по национальному составу, не менее 80 процентов его населения составляли русские, во-вторых, большое количество крупных технологически сложных предприятий военно-промышленного комплекса, имеющих прямое московское подчинение, которые до последнего времени оттуда же и «подкармливались». Владелец этих предприятий министерство среднего машиностроения СССР фактически и построило большую часть города с домами улучшенной планировки. Оно же возвело в центре города ледовый Дворец спорта и содержало хоккейную команду мастеров «Торпедо», именуемую в простонародье «Устинкой», лучшую в Казахстане. Будучи далеко не первым по числу жителей, город по уровню жизни, культурному потенциалу, внешнему виду уступал разве что столице республики Алма-Ате.
Ольга Ивановна довольно часто, по нескольку раз в год ездила в Усть-Каменогорск. В шестидесятых то были в основном поездки на экзаменационные сессии, позже профессиональные командировки, например, на курсы повышения квалификации при ОБЛОНО. Город рос, строился, хорошел буквально на ее глазах. Так, в один из ее приездов в 1962 году, она присутствовала на открытии Дома Культуры металлургов, в 1965-м – первого широкоформатного кинотеатра «Юбилейный», расположившегося почти там же, где когда-то стоял храм Покрова пресвятой Богородицы, в 1969-м впервые увидела ледовый дворец спорта на пять тысяч зрительских мест, в 1970-м первый мост через Иртыш. Фактически на ее глазах создавалась и та величественная панорама набережной Иртыша от устья Ульбы, так называемой «Стрелки» где, располагались развалины старой крепости, до Речного вокзала. Эта набережная застраивалась ровной живописной линией новых 9-ти и 12-ти этажных домов, и по эстетике чем-то напоминала знаменитые морские набережные Рио-де-Жанейро и Гаваны. Ольга Ивановна очень любила бродить по этой набережной. Её коробило только название примыкавшей к иртышской набережной и вместе с ней образующую «Стрелку» набережной Ульбы, она именовалась «Набережной Красных горных орлов». Вообще в области волею советской власти наряду с коммунарами провозгласили культ этих самых «орлов», о подвигах которых конкретно никто толком не ведал. И только уже с приходом к власти Горбачева и объявления им Перестройки, стали появляться в печати некоторые вроде бы реальные факты. Таким образом, и Ольга Ивановна узнала то, о чем и сама давно уже догадывалась – подвигов-то особых и не было. Активизировались «орлы» лишь в конце 1919 года, когда колчаковский фронт рухнул, а Анненков ушел на юг, в Семиречье.
Этим летом Ольга Ивановна ездила в Усть-Каменогрск, чтобы, воспользовавшись общей либерализацией в обществе, узнать о своем деде, расстрелянном в усть-каменогорской крепости. В областном КГБ ее не обнадежили, сообщив, что архив тюрьмы не сохранился, и потому найти соответствующие документы не представляется возможным. Но там же ей посоветовали обратиться к некоторым частным лицам, которые уже давно, по собственной инициативе занимались поисками исторических документов, и пытающихся писать свою, отличную от официальной историю города. В КГБ, конечно, не сказали, что за эти деяния те неформальные историки не раз вызывались в их ведомство, в здание перед которым стоял бюст Дзержинского.
Хоть город и сильно разросся во все стороны и даже шагнул за Иртыш, на его левый берег, Ольга Ивановна любила только его старую часть. Обычно летом она приезжала на теплоходе, высаживалась на пристани Аблакетка, на автобусе добиралась до центра города и устраивалась в девятиэтажном здании гостиницы «Усть-Каменогорск». Ее прогулки начиналась от гостиницы по бывшей Большой улице, ныне переименованной в улицу Кирова. Она медленно шла вдоль ограды центрального парка, магазинов, прилавки которых год от году становились все беднее, доходила до небольшого, тем не менее, имеющего два зала, кинотеатра «Октябрь», бывший кинематограф «Эхо». На кинотеатре висела табличка, что здесь в марте 1918 года заседал первый устькаменогорский Совдеп. Далее, она доходила до набережной Иртыша и шла вдоль закованного в гранит берега к «Стрелке», месту впадения в него Ульбы. С этого места когда-то собственно и начинался город, здесь заложили крепость, узел обороны границ России от набегов степных народов. Но некогда мощная твердыня, а потом тюрьма сейчас имела жалкий вид, полуобвалившиеся выщербленные остатки стен, башен, вала. В бывших казематах размещались какие-то склады. Ольга Ивановна смотрела на все это и словно хотела угадать, в каком из этих ныне складских помещений провели свои последние дни дед и дядя.
Знакомство с местными краеведами, собирающими данные по истории города, тоже не принесли желаемого результата, они в первую очередь интересовались своим городом, а в «уездной» и «волостной» истории ориентировались весьма смутно. Зато они изрядно просветили Ольгу Ивановну по поводу знаменитых людей, происходивших из Верхнеиртышья. Причем некоторые факты оказались просто ошеломляющими. Так, она даже не подозревала, что уроженец Усть-Каменогрска, известный писатель-сказочник Константин Волков, вовсе не автор своих знаменитых сказок: «Волшебник изумрудного города», «Урфин Джюс и его деревянные солдаты» и других, а всего лишь переводчик без зазрения совести присвоивший себе чужие, переведенные им произведения. Не ведом для нее оказался и такой факт, что знаменитый белый генерал Лавр Корнилов тоже родился в Усть-Каменогорске, в казачьей семье. Узнала много нового и о своем любимом поэте Павле Васильеве, о его безответной любви к Наталье Кончаловской, которой посвящал стихи, из-за которой дрался. Практичная Наталья предпочла талантливому, но бесхитростному и несдержанному Павлу хитрого и сдержанного Сергея Михалкова, который хоть и не хватал звезд с поэтического небосклона, но от жизни умел брать все возможное и даже больше… Поведали краеведы Ольге Ивановне и о письме, что прислал еще в 70-х годах откуда-то с Северного Кавказа в обком партии бывший член первого усть-каменогорского совдепа Семен Кротов. Этот уже тогда древний старик, слезно просил подтвердить его заслуги в деле становления советской власти в Верхнеиртышье. Для чего? Чтобы выхлопотать персональную пенсию, ибо «старый большевик» под конец жизни оказался совсем «на мели», полупарализован и существовал на никудышную пенсию по инвалидности. Его детей, оказывается, еще в 30-х годах репрессировали, и они погибли как враги народа, а он остался один и никто не верил в его героическое прошлое. Когда Ольга Ивановна спросила, зачем ей знать про этого Кротова, сотрудник краеведческого музея, человек явно не советского «разлива», с ухмылкой пояснил:
– Ну, как же, если ваш дед был расстрелян по приговору о деле коммунаров в 1922 году, то им занималось уездное ОГПУ и именно Кротов, возглавлявший следственную комиссию. Таким образом, смертный приговор это его рук дело. Так что, судя по той хоть и долгой, но собачьей жизни, которую он прожил, и того, что случилось с его детьми… елей ему по делам.
И все-таки, кое что конкретное, касательно судьбы своих предков, Ольга Ивановна узнала. Узнала не напрямую, а через личность некоего Павла Петровича Бахметьева. Оказывается, в период колчаковщины-аннековщины деятельностью всего большевистского подполья в городе и уезде руководил именно он, прятавшись под «личиной» страхового агента, под ней же ездил по деревням и станицам. Зачем ездил? Вроде бы сам собой напрашивался ответ: организовывал партизанское движение, боролся с белогвардейцами в их тылу. Но вот в чем заковыка, – объясняли ушлые краеведы, которые пользуясь объявленной гласностью и перестройкой, хотели теперь выяснить истинную правду, а не ту, что была написана в официальных «исторических документах», под диктовку компетентных органов. Так вот, выяснилось, что в период с лета 1918 по осень 1919 года, во время интенсивных, кровавых боев на Восточном фронте, в усть-каменогорском уезде, за исключением восстания в тюрьме не произошло ни одного мало-мальски крупного выступления против колчаковцев. И это тогда, когда совсем рядом полыхали крестьянские восстания в Славгороде, Змеиногорске, Шемонаихе, когда красные партизаны буквально терроризировали Бийскую казачью линию, не говоря уж о Черкасской обороне. Упоминались красные партизаны, действовавшие в районе Риддера, ставшие потом «отрядом красных горных орлов». Но были те партизаны настолько немногочисленны, плохо вооружены и организованы, что фактически никакой серьезной опасности для тылов белых не представляли. Все это время в уезде функционировала подчиненная сначала Временному Сибирскому Правительству а потом Верховному правителю Колчаку администрация, работали почта, телеграф, отделения сбербанка, по Иртышу ходили пароходы, велась бойкая торговля, работали всевозможные предприятия, добывалось золото, свинец, медь, цинк, сеяли и убирали хлеб, разводили скот… Со всего этого более или менее исправно в колчаковскую казну платились налоги, продукция отправлялась, как на снабжение действующей белой армии, так и за границу в качестве оплаты за военные поставки союзников.
Так чем же тогда занималось большевистское подполье, руководимое Бахметьевым? Ответов на этот вопрос не было, были лишь догадки и гипотезы. Одна из этих гипотез звучала так: имитацией кипучей деятельности в тылу врага. С другой стороны благодаря этой имитации удалось уберечь край от кровавой междоусобицы, имевшей место в соседних областях и уездах, позволить людям пережить без голода и почти без крови это ужасное для всей страны время. И еще краеведы, на собрании которых присутствовала Ольга Ивановна, не могли прийти к единому мнению касательно личности самого Бахметьева. Кто он? Знали, что его прислали с Урала, а после изгнания колчаковцев, он возглавлял отдел народного образования уезда, основал, что-то вроде народного университета по подготовке кадров для ликвидации неграмотности среди крестьян-новоселов и казахской бедноты. А потом он так же внезапно пропал, как и появился. В этой дискуссии Ольга Ивановна узнала много интересного и для себя. Тот самый «несоветский» краевед доложил, что обнаружил в музейных архивах странную записку того же Бахметьева, датированную 1921 годом. В ней он просит начальника тюрьмы о разрешении свидании с женой для подследственного Фокина. Присутствующие на собрании краеведы, те что были в курсе о хлопотах Ольги Ивановны, сразу же на это обратили внимание. Ей показали эту записку, она держала в руках истончившийся от времени тетрадный листок, в котором неведомый ей Бахметьев просил о свидании ее бабки, с ее арестованным дедом. Это свидетельствовало, что Бахметьев каким-то образом был с ними связан. Возникла новая «тропка», идя по которой можно продолжить поиски. Теперь она могла сопоставить те факты, о которых узнала в Усть-Каменогорске с рассказами ново-бухтарминских старожилов и их потомков. То, что Бахметьев пытался помочь ее деду, свидетельствовало об одном, что они были знакомы и, скорее всего, имели какие-то общие дела. Вспомнились слова Анны Макаровны, что благодаря ее деду, тысячи людей остались живы и не попали под мобилизации, и как следствие под гонения ни при белой, ни при красной власти. А краеведы из Усть-Каменогорска эту же заслугу, за именно те же деяния в тот же период относят некому Бахметьеву. И тут же эта записка. Создавалось впечатление, что делали эти свои спасительные дела коммунист-подпольщик и станичный атаман, скорее всего, совместно…
11
В четверг 4-го декабря Ольге Ивановне предстоял очень трудный день – шесть уроков подряд без единого «окна», а вечером родительское собрание. После своего последнего «часа», она уже собиралась идти домой, когда к ней заглянула Елена Михайловна, та самая двадцатидвухлетняя учительница английского языка.
– Ольга Ивановна, вы свободны?… Я хотела бы с вами посоветоваться, – легкая, светловолосая Елена Михайловна впорхнула в класс, а Ольга Ивановна вновь пришлось присесть на стуле, с которого она едва успела подняться.
– Давай Лена. Только я тебя прошу побыстрее, а то у меня голова и ноги гудят. Хочу поскорее до дома дойти, лечь и таблетку принять, чтобы успеть до родительских собраний хоть немного отдохнуть, – не напрямую, но вполне определенно Ольга Ивановна высказала недовольство, тем что ее задерживают.
– Простите пожалуйста, но я вас не на долго… Я на предновогодний утренник хочу со своими пятиклашками сделать постановку нескольких сцен из «Волшебника изумрудного города». Вы же знаете, автор этих сказок Волков и он родом из Усть-Каменогорска. Вы не могли бы мне помочь?
Просьба была настолько неожиданна, что на мгновение поставила Ольгу Ивановну в тупик. В сознании сразу возник почти полугодовой давности разговоры с усть-каменогорскими краеведами, то что она узнала о «знаменитом сказочнике».
– Видишь ли, Леночка… – Ольга Ивановна «с ходу» не знала, как реагировать на просьбу молодой коллеги. – Я вообще-то поклонница классической русской литературы и все эти, так называемые сказки появившиеся сравнительно недавно… Нет, милая, извини, боюсь здесь я тебе ничем помочь не смогу.
– Ой, как жалко. А я так на вас рассчитывала, – на недурном личике «англичанки» запечатлелась разочарованная мина.
– Леночка, я понимаю, тебе хочется чем-то всех поразить, заявить о себе. Правильно, ты молодой классный руководитель, но я посоветовала бы тебе взяться за что-нибудь попроще, и на русскую тему. А этого «Волшебника»… ну его к Богу, – Ольга Ивановна не стала раскрывать всей плагиатной истины волковского произведения и то, почему она не хочет помогать в ее постановке.
– Вы думаете? – пребывала в растерянности молодая учительница.
– Лучше со своими какую-нибудь песенку новогоднюю разучи.
– Какую? «В лесу родилась елочка»? Это же для детсада, а больше и песен-то нету, – недовольно отреагировала на совет Елена Михайловна.
– Зачем обязательно новогодние. Ну, например, песню «Прекрасное далеко». Помнишь, из фильма «Гостья из будущего». Замечательный текст и для подрастающего поколения очень актуален, – все с большей настойчивостью убеждала молодую коллегу Ольга Ивановна.
– Может вы и правы, – задумалась «англичанка».
– Конечно, права и тебе все это будет легче устроить. Не надо эти костюмы дурацкие шить, для всяких страшил и дровосеков. Времени-то до утренника осталось три недели, когда вы все это успеете? А песню разучить всего несколько репетиций надо, учительницу пения привлеките – вот и все дела.
– Верно… Спасибо вам. Прямо сейчас же и договорюсь с Аллой Семеновной, если она еще в школе. Спасибо Ольга Ивановна, – Елена Михайловна еще раз поблагодарила и, было, побежала искать учительницу пения…
– Леночка подожди, не торопись, Алла Семеновна уже ушла, я сама это видела. Успеешь, завтра договоритесь, время еще терпит. Я вот о чем спросить хотела. Ты уж меня извините, но поверь я не из праздного любопытства… У тебя с этим офицером, Николаем, серьезно? – Ольга Ивановна спрашивала по-матерински.
– Елена вспыхнула, но тут же справилась со смущением и приняла доверительный тон, предложенный Ольгой Ивановной:
– Не знаю, мы же совсем недолго знакомы.
– Леночка я понимаю, ты молодая девушка и встречаться с парнем для тебя вполне естественно. Ну, а то что здесь кроме молодых офицеров для девушки с образованием, в общем, больше и кавалеров-то почти нет… это я тоже понимаю. Но ты хорошо обо всем подумала?
– О чем?
– О том, как ты будешь жить, если, например, свяжешь свою судьбу с ним. У тебя же в Усть-Каменогорске родители, квартира и ты собираешься после отработки диплома вернуться туда, в хороший благоустроенный город. А ты хоть представляешь, как живут семьи офицеров на тех же «точках»? А он молодой офицер и ему еще долго по ним мыкаться придется. Это только со стороны приятно смотреть на жену командира «точки» Ратникова. А ведь она всю свою семейную жизнь по «точкам» мотается. И потом, у нее такой муж, ради которого можно все это вытерпеть, он настоящая опора и защита для нее. Ты уверена, что Николай такой же? Стоит ли из-за него бросать то, что уже имеешь и идти на такой риск? – вопрос за вопросом задавала Ольга Ивановна.
У Елены прямо на глазах румянец сменился бледностью. Слова пожилой учительницы, вызывали в ней неоднозначные, противоречивые чувства. По всему, ей нравился Николай, но в то же время и жить по дырам ей не хотелось. Последнее Ольга Ивановна знала наверняка, ибо Елена уже не раз в сердцах проклинала этот поселок, в который ее загнали, и с тоской вспоминала счастливые детские и студенческие дни, проведенные в одном из лучших городов страны.
– До серьезного, надеюсь, у вас не дошло? – опять по-матерински осведомилась Ольга Ивановна.
Вопрос прозвучал настолько естественно, что Елена нисколько не обиделась, а лишь утвердительно кивнула головой.
– Вот и хорошо. Сама решай, но мои слова помни, и если что, приходи, советуйся, раз родителей рядом нет…
Пусть сначала все взвесит. Одно дело просто время проводить с интересным молодым человеком, другое идти на близость. Пока же отношения между Леной и Николаем как раз вступили в «пограничную» фазу и Ольга Ивановна сочла нужным предупредить девушку о всей серьезности последствий неверного шага. За себя, увы, Ольга Ивановна в своей жизни решать могла не часто. Ее «правда жизни» вытекала, прежде всего, из специфического жизненного опыта, основанного на выработанной с детства способности приспосабливаться к советской действительности, и в то же время на достаточно отчетливых воспоминаниях совсем иной культурно-бытовой среды, в которой она жила до 11-ти лет. Этот «симбиоз» позволил ей не только легко постигать программы советских школы и института, но и видеть то, что большинство окружающих ее людей, советских провинциалов, не могли видеть. Почти все они, даже те, кто имел высшее образование, с рождения жили в СССР в «прокрустовом ложе» советской идеологическо-воспитательной системы и потому, как правило, не имели «бокового зрения», не говоря уж об «обзорном» или «заднем», только «прямое».
Эта способность «кругового мировоззрения» позволяла видеть то, что было недоступно большей части советских людей. Например, будучи филологом, Ольга Ивановна осознавала, насколько невысок истинный уровень официальной советской литературы. Она с детства, еще в харбинской гимназии, заучив огромное количество стихов дореволюционных русских поэтов, как классиков, так и «второго ряда», давно уже сама для себя сделала вывод, что та же советская поэзия, как современная, так и раннего периода, если из нее исключить Есенина и Васильева, с прежней русской поэзией не идет ни в какое сравнение. Причем не имеет значения, что это за поэты, с пеной у рта поющие панегирики советской власти или позволяющие себе слегка подиссиденствовать. Знаменитую, разрекламированную толстыми литературными журналами троицу, «поэтов больше чем поэтов», Евтушенко, Вознесенского, Рождественского, она по своей классификации ставила ниже Некрасова, Тютчева, Фета, Баратынского, Языкова… не говоря уж о Пушкине и Лермонтове, Твардовского считала очень хорошим, но даже не выдающимся поэтом. Рубцова она очень любила, но считала, что он так до конца и не раскрылся до своей безвременной трагической гибели. Она всегда скептически относилась к женской поэзии, по этой причине не жаловала даже Ахматову с Цветаевой, не говоря уж об Ахмадулиной и Казаковой. Правда, когда стали широко доступны произведения Пастернака, а потом Мандельштама и Бродского… Эти, по ее мнению, действительно были большие поэты, во всяком случае выше всех прочих советских, опять же без Есенина и Васильева, которых она советскими считать отказывалась. Но в отношении этих поэтов имелась одна щекотливая деталь, неприятно поражавшая Ольгу Ивановну – все эти три выдающихся поэта оказались евреи. В стране с такими поэтическими традициями, при власти большевиков лучшими поэтами на Руси стали не Ивановы, Петровы, Сидоровы, которым советская власть вроде бы дала широкие возможности для получения образования, развития, творчества, а евреи. Более того, Пастернака, Мандельштама и Бродского, «подпирали» опять же не Ивановы-Петровы, а Давид Самойлов и особенно ей нравившийся, Юрий Левитанский, по ее мнению тоже превосходившие этих громкоголосых и трескучих Евтушенок-Вознесенских… То есть и «второй ряд» тоже в основном оказался еврейским.
В Верхнеиртышье евреи отродясь не селились, но даже живя здесь, и имея «круговое зрение» Ольга Ивановна не могла не думать об очевидном: «Как же так, нас сто сорок миллионов русских, да еще в придачу к ним пятьдесят миллионов украинцев и белорусов, да еще несколько десятков миллионов людей других национальностей и все они не в состоянии конкурировать в интеллектуальном плане с двумя миллионами евреев?». Она никогда не была антисемиткой, но сделанные выводы не могли не породить чувства обиды за свой народ, ведь ситуация в поэзии примерно в той же пропорции прослеживалась едва ли не во всех областях интеллектуальной жизни страны. Она понимала, что представители тех народов, которые семьдесят лет назад находились еще фактически на стадии феодализма вряд ли способны, выдвинуть «прорву гениев», даже если отдельные индивидуумы и обладают соответствующими природными задатками. Как педагог она знала, как часто способности остаются невостребованными, мертвым грузом, не развиваются по самым разным причинам. Она искала и не находила причину того, почему ее народ довольно давно уже преодолевший стадию феодализма, и вроде бы имеющий после Октябрьской революции возможность стопроцентно получать образование, этой возможностью пользуется во много раз менее эффективно, чем те же евреи. Нет, это не пробуждало в ней ненависти или неприязни к евреям, но чувство недоумения и даже стыда за свой собственный народ – несомненно, и в то же время рождало вопросы к Советской власти – кому при ней стало «творить хорошо»?
Неоднозначно относилась Ольга Ивановна и к еще одной известной личности. В семидесятых среди поселковых учителей по рукам стал ходить старый еще 60-х годов номер «Нового мира» с рассказом Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Переплетенный вручную в твердые «корочки» журнал передавали из рук в руки. Многие читали просто из любопытства. Когда журнал попал к Ольге Ивановне… Она не могла не восхититься мужеством и гражданской позицией автора, не побоявшемуся написать такое, используя кратковременную хрущевскую «оттепель». Но признать Солженицына большим мастером слова, художником… Ей, влюбленной в прозу Бунина, Солженицын показался напрочь лишенным того в какой-то мере звериного чутья, которым писал Иван Алексеевич. Бунинские «Темные аллеи», «Холодная осень», «Легкое дыхание», «В Париже»… нет, в сравнении с этими рассказами-шедеврами «Одинь день…» ей показался скорее документальной, нежели художественной прозой.
Впрочем, о творчестве Солженицына Ольга Ивановна знала не только по «Одному дню…». Еще будучи студентом, сын привез и подарил ей популярный в те годы в Союзе радиоприемник «Океан». По нему Ольга Ивановна по вечерам иногда «ловила» западные радиостанции, вещавшие на СССР: «Голос Америки», «Би-Би-Си», «Свободу»… Из этих передач она узнала о солженицынском «Архипелаге ГУЛАГ» и слышала отдельные главы. Впрочем, несмотря на интересные факты, манера изложения, язык автора ей и тут не понравился. Из этих же забугорных передач она узнала о тщательно скрываемой в СССР краже интеллектуальной собственности, перед которой даже бледнел поступок Волкова, присвоившего себе авторство популярной сказки. И все же в самый громкий скандал касающейся авторства «Тихого Дона» даже она оказалась не в состоянии так вот сразу поверить. А вот то, что Лебедев-Кумач присвоил себе чужие стихи, когда писал слова «Священной войны» ей показалось вполне правдоподобным.
Подобные «глобально-литературные» мысли, впрочем, мучили Ольгу Ивановну не так уж часто. Куда чаще она размышляла, например, над фильмами, которые смотрела по телевизору, или в поселковом ДК. Тем же своим «обзорным зрением» она сразу определила, что фильм Меньшова «Москва слезам не верит», блестяще поставленная сказка, подарок на блюдечке с голубой каемочкой партии и правительству, всей Советской власти. Да за такой подарок, будь у власти умные люди, кинорежиссер должен был поднят «на щит», обласкан, завален всеми возможными званиями, премиями, благами. Именно по реакции официальной власти на этот фильм, Ольга Ивановна окончательно поняла, что и Афганистан и все прочие глупости верховной власти не случайны, потому что, как в Кремле, так и ниже, на министерском, республиканском и областном уровнях в основном сидят весьма посредственные, недалекого ума люди. Какими бы злодеями не были Ленин, Троцкий, Сталин, но бесспорно, то личности не случайно вошедшие в историю, наделенные недюжинным умом и волей, и даже относительная малообразованность Сталина многократно компенсировалась этими двумя качествами. А кто их сменил? Хрущев, Брежнев – малограмотные и хитрые властолюбцы. Но хитрость не ум, они пришли к власти только ради власти, и совершенно не соответствовали должности главы государства. Правда, после стариков пришел относительно молодой энергичный генсек, на него многие возлагали надежды по выходу из того тупика, куда явно загнали страну предшественники. Но Ольга Ивановна, имея в качестве первой подруги председателя Поссовета, была в курсе некоторых разговоров, происходящих в коридорах райкомов и обкомов. От Марии Николаевны она знала кое-какие неизвестные широкой общественности подробности из жизни Горбачева.
Оказывается, свою первую награду, орден Ленина, будущий генсек получил в 17-ть лет, после окончания средней школы с серебряной медалью. Получил орден, будучи помощником комбайнера всего за одну уборочную! Как даются ордена комбайнерам здесь, в сельской провинции все знали, и чтобы мальчишка, вчерашний десятиклассник, удостоился высшей награды страны всего за полтора-два месяца работы! Это был нонсенс. Объяснялось все очень просто. Отец Михаила Сергеевича являлся председателем того самого колхоза и имел связи в ставропольском крайкоме. Вот он и «организовал» сыну орден, как до того «организовал» и серебряную медаль за окончание школы, скорее всего, оказывая воздействие на, от него зависящих, учителей той сельской школы. Имея орден и школьную медаль да еще подходящее происхождение, Горбачев без помех поступил на престижнейший юридический факультет МГУ. После окончания университета распределился на родину в Ставрополь! Где это видано, чтобы в стране Советов, выпускники отрабатывали диплом дома!? Еще один нонсенс, чудо воплощенное в реальность. Конечно в Ставрополе «сильными» родственниками была подготовлена «стартовая площадка» для успешной партийной карьеры Миши. В результате, уже в неполные сорок лет он смог стать первым секретарем крайкома партии. Будучи руководителем края, Михаил Сергеевич сумел «подъехать» к председателю КГБ СССР Андропову, регулярно лечившегося на ставропольских минеральных водах. Именно Андропов «вытащил» Горбачева с крайкома в Москву, в Политбюро. То есть, если первые руководители страны Советов пришли к власти в основном благодаря своим личным выдающимся способностям, «второе» поколения за счет искусства «подковерной» борьбы в ЦК и Политбюро, то Горбачев… Горбачев, прежде всего, был обязан своей карьерой ближайшим родственникам обеспечившим ему «ранний старт» и Андропову, благодаря которому он 47-и лет оказался в Политбюро, самым молодым и перспективным его членом. Это, конечно, был не Ленин, основавший партию, издававший газету, написавший тома политической литературы, безошибочно уловивший момент возвращения из эмиграции на родину, и момент когда надо было брать власть. Не Троцкий, возглавивший РВС в тяжелейший переломный момент Гражданской войны и сумевший создать боеспособную с железной дисциплиной Красную Армию, разгромившую белогвардейцев, во главе которых стояли профессиональные военные, генералы. Это не Сталин, одержавший победу в смертельной борьбе за власть с такими искушенными политиками как тот же Троцкий, Зиновьев, Каменев. Этот «чудесный грузин» оставив не удел и перебив и этих хитроумных евреев, и болтливых мечтателей типа Бухарина, «сконструировал» ГУЛАГ и с его помощью взнуздал и пришпорил страну, создал такую дисциплину страха, которой и при Николае Первом, прозванном палкиным, не было. Человеческая жизнь в его правление ничего не стоила, и жизнь была собачья, но результаты не заставили себя ждать, громкие, впечатляющие, кровавые, стоившие миллионы жизней и изломанных людских судеб: коллективизация, индустриализация, победа в войне, атомная бомба…
Нет, Горбачев, конечно, не та личность, сам ничего выдающегося не сделал: школьная медаль – по блату, орден – по блату, в университет поступил опять же по блату, в Политбюро попал не за успехи в социалистическом строительстве, а потому что всесильного шефа КГБ хорошо ублажал во время лечения. О весьма посредственных способностях нового генсека говорило и то, что несмотря на учебу в лучшем учебном заведении страны, на престижнейшем факультете, он так и не научился правильно, грамотно говорить по-русски. Его гыкающая, часто нескладная речь оказалась ничем не лучше языка его откровенно малокультурных предшественников, Хрущева и Брежнева. В общем, выродились некогда железные и беспощадные большевики в обыкновенных чиновников-карьеристов со средними умственными способностями. В критический момент истории царь Николай Второй, человек с такими же средними способностями и оказавшийся у власти по наследству, последовательно влез в две неудачные войны и погубил Империю, которую двести лет по кирпичику создавали его предки, погубил себя и свою семью. В конце 70-х годов советское правительство, не чувствуя глубокого социального и экономического кризиса, по собственной инициативе влопалось в афганскую войну, тратит на нее миллиарды рублей, проливает кровь своих и чужих народов, а в это время в собственной стране не хватает обыкновенной еды. Ольге Ивановне с ее «круговым» мировоззрением иногда казалось, что ситуация очень напоминает ту, что предшествовала 17-му году. Но об этом она, конечно, ни с кем не могла поделиться, ни полсловом – ведь рядом все имели лишь «прямое» зрение, и ее бы никак не поняли.
12
Где-то с месяц назад, незадолго до октябрьских праздников в 10-м классе шел урок литературы. Это было последнее итоговое занятие перед сочинением по творчеству Шолохова. Ольга Ивановна как всегда проводила его в виде семинара, «дергая» учеников вопросами:
– Яснова Таня, скажи мне, в чем социально-историческое значение романа «Поднятая целина»!?… Киреева!.. Какие наиболее яркие персонажи романа тебе запомнились?…
Ольга Ивановна в основном спрашивала девочек. Их в классе больше, и они значительно активнее, чаще поднимали руки и куда прилежнее готовились дома. А портить четвертные оценки, когда те уже выставлены, ей не хотелось и она шла по пути наименьшего сопротивления – спрашивала тех, кто был готов к уроку. И урок худо-бедно шел по своей «колее», как вдруг подал голос, молчавший дотоле Игорь Ратников. Он, видимо, решил «блеснуть» поощряемым в люберецкой школе, «нестандартным мышлением»:
– Ольга Ивановна, а почему в «Поднятой целине» враги советской власти представлены совсем не такими как в других произведениях про гражданскую войну? Они какие-то… ну чуть ли не положительные получились.
В вопросе чувствовался явный подвох. Задававший вопрос ученик, наверняка ждал, что учительница с такой «белогвардейской родословной», тут же начнет всячески восхвалять есаула Половцева и поручика Лятьевского. Ольга Ивановна не подала вида, что разгадала подоплеку вопроса, и начала говорить вроде бы о совсем ином:
– Ребята, кто из вас смотрел экранизацию романа Анатолия Ивановна «Тени исчезают в полдень»?
Ученики в подавляющем большинстве подняли руки. В поселке было немного развлечений для подростков и вечерами многие из них смотрели по телевизору популярные телесериалы.
– И как вы верите, что события данного фильма соответствуют реальности?
Класс растерянно молчал.
– Мне кажется, это ваше молчание говорит само за себя, вы не очень верите, что подобное могло иметь место в действительности, причем в непосредственной близости от наших мест. Для тех, кто не в курсе сообщу, что автор сценария фильма и романа Анатолий Иванов родом из нашей области из райцентра Шемонаиха, и по всему пытался описывать именно свою родину. И я тоже не верю. Конечно, что-то из показанного в фильме основано на реальных фактах, но в основном это вымысел, фантазия автора. А в события, описанные в «Поднятой целине» вы верите?
– Да… конечно… верим… – после некоторой паузы послышалось ряд голосов.
– А ведь «Поднятая целина» тоже в значительной части фантазия автора. Так почему же Иванову вы не верите, а Шолохову верите?
Класс напряженно молчал. На свой вопрос Ольга Ивановна сама же и ответила:
– Потому что Шолохов описывает события более правдоподобно. А правдоподобность достигается за счет того, что он старается беспристрастно описывать обе противоборствующие стороны. Он рисует реальных людей, их как положительные, так и отрицательные черты характера. Если бы он большевиков описывал как Иванов преимущественно в светлых тонах, а белых офицеров в темных, разве это было бы правдиво?… Нет. А так посмотрите, Нагульнов, неистовый большевик, мечтает о мировой революции, но в то же время и перегибщик, к людям относится как к мусору. А те же белогвардейцы, они такие же неистовые борцы за старую жизнь, и тоже готовы пролить моря крови, на людей смотрят как на стадо. Но, несомненно, есть в чертах их характеров и то, что не может не восхищать. Как вы думаете, о чем именно я говорю, кто ответит?
Класс молчал. Находить положительные черты у заклятых врагов советской власти? Это было внове для советской школы. Наконец тот же Игорь поднял руку со своей задней парты:
– Они смелые, не испугались вдвоем против троих. А этот поручик не испугался чекиста убить, который его допрашивал и глаз выбил.
– Правильно, в мужестве этим людям не откажешь, как и в преданности своему делу. Это не опереточные персонажи, а люди, в реальность существования которых веришь, и не зависимо от их убеждений внушающие уважение к себе. Вот в этом и отличие настоящего глубокого писателя от поверхностного. И еще вопрос, как вы думаете, почему несмотря на увлекательный сюжет и обилие столь ярко выписанных персонажей в «Поднятой целине», это произведение не получило такой всемирной известности, как первый роман Шолохова «Тихий Дон», за который он, собственно, и удостоился Нобелевской премии? – продолжала все более усложнять свои вопросы Ольга Ивановна.
На этот раз никто в классе не успел ответить, зазвенел звонок.
– Ладно, будем считать это своего рода заданием на дом. Подумайте над этим? – Ольга Ивановна наблюдала, какую различную реакцию вызвало необычное задание у учеников…
Тот памятный урок, Ольга Ивановна вспоминала постоянно. Вот и сейчас в конце рабочего дня она о нем вспомнила в связи с тем, что ей очень хотелось именно в выпускном классе дать один урок сверх программы. И тот интерес, который местные подростки выказали на уроке, посвященном творчеству Шолохова, позволял надеяться, что и ее сверхпрограммный урок будет ими воспринят с не меньшим интересом. Юноши и девушки, родившиеся и выросшие здесь, не должны чувствовать себя на отшибе основного культурного процесса, они должны знать не только писателей и поэтов из других мест, но и своих земляков. Ее ученики должны знать, что на их земле родился поэт настоящего, огромного таланта, и лишь его безвременная гибель не позволила ему стать по-настоящему большим поэтом, рядом с которым все эти евтушенки-вознесенские смотрелись бы не иначе как карликами, да и поэты-евреи наверняка бы потеснились. Ольга Ивановна буквально горела желанием провести урок о Павле Васильеве, изучение творчества которого не предусматривала школьная программа…
На этот раз старшим на школьной машине приехал Дмитриев. Ольга Ивановна увидела его из окон своего кабинета. Мысли о Павле Васильеве сразу же сменились реалиями текущего дня. Воспользовавшись тем, что некоторых «военных» учеников задержали после уроков и машина с «точки» была вынуждена их ждать, Ольга Ивановна оделась, спустилась во двор. Валера подчеркнуто уважительно вышел из кабины и поздоровался, и после нескольких начальных фраз Ольга Ивановна спросила его прямо:
– Валера, это ты посоветовал Федору Петровичу ко мне обратиться, насчет ремонта вашей машины?
Прапорщик густо покраснел и смущенно признался:
– Да… извините. Я ведь за автомашины на дивизионе отвечаю. Вот, думал делу помочь.
Он опустил глаза к земле, совсем как в те годы, когда она была его классной и за что-нибудь укоряла.
– Ну и как, помог вам заведующий? – продолжала строго вопрошать учительница.
– Так точно… о многом договорились. Третьего дня свою автомашину на автобазу, в бокс пригоним, – как командиру рапортовал прапорщик.
– Ну-ну, молодой человек, только в следующий раз, ты сначала меня в подобные планы посвящай. А то знаешь все это как-то… такое чувство, что тебя используют.
– Извините, – по-прежнему не поднимал глаз Валера.
Видя, что бывший ученик, кажется, искренне раскаивается, Ольга Ивановна заговорила более доброжелательно:
– Ладно, я уже не сержусь на тебя. Я ведь, Валера, давно хотела спросить, как ты там, на «точке» живешь-то. Гляжу, ты уже совсем военным стал, отвечаешь «так точно» и «никак нет», – она ему по-свойски, по-родственному улыбнулась.
– Да чего там… я же срочной два года служил и здесь уже третий год, хочешь не хочешь привыкнешь. А живу там… в общем, ничего живу, вот только жене не нравится. Я же прапорщик, а она, значит, прапорщица, офицерши ее по мелочи «клюют», да и работы там для нее нет. Сейчас, пока дочка маленькая еще ничего, а как подрастет да в школу пойдет… Сам вижу как тяжело многим детям по двадцать километров туда и обратно мотаться. Это такому бугаю как Игорю, сыну командирскому, хоть бы что, а другие не так эту дорогу переносят, а дочка, Катька-то, у нас тоже слабенькая уродилась. Жена, Валентина, так и говорит, подрастет дочка, мы с тобой там жить не будем, – откровенно и горестно поведал о своей боли Валера.
– Ну, а ты сам-то, что обо всем этом думаешь?
– Не знаю пока. У меня контракт на пять лет, еще два с половиной осталось. Ближе к концу буду думать, продлять или… – Дмитриев замолчал.
– Что или?
– То-то и оно, что на цемзавод опять идти мне неохота, а куда тут еще податься. На рыбзавод или в автобазу… сами знаете, как там платят. Но как цемзавод этот вспомню, как кровью плевался… прямо оторопь берет.
– Да, дилемма, – задумчиво проговорила Ольга Ивановна.
– Что вы сказали? – переспросил Дмитриев.
– Говорю, что и ты на распутье.
– То-то и оно, действительно две дороги, одна плохая, вторая еще хуже, – махнул рукой Валера.
– В таких делах советчиков быть не должно. Это самому решать надо. Сам-то к чему склоняешься?
– Прямо не знаю, жена замучила, каждый день грозит в поселок к матери своей насовсем уехать, – жаловался Валера.
– А что Валентине твоей там совсем невозможно? Она же, насколько я помню, очень спокойной и терпеливой девочкой была.
– Это только с виду, спокойная, тихая… Да там, знаете, любую довести могут. Не бабы – звери, да еще никто не работает, делать им совсем нечего, только сплетничать да скандалить.
– Ну, а жена командира, Анна Демьяновна, она то, по всему, женщина умная, справедливая? – то ли спросила, то ли утверждала Ольга Ивановна.
– Она-то… она там как царица, царствует, но не вмешивается, как на тараканов в банке на все это смотрит, или фильм по телевизору. А моя-то… она ведь и одета там хуже всех. Там же бабы… извините… женщины, все больше с городов, шмоток всяких у них полно, вот друг перед дружкой и выпендриваются от безделья. А моей где взять, всю жизнь здесь в поселке прожила, дальше Усть-Каменогорска никуда не ездила. А если чего из одежды хорошее к нам в магазин привезут, так ей редко что перепадает. А у меня что, у меня-то все в порядке, я свое дело делаю, и с командиром у меня отношения нормальные, а Валентине трудно, иной раз домой придет после этих магазинных перепалок, аж плачет, – лицо Дмитриева искажала гримаса, будто он сам ощущал боль жены.
– Ясно, – понимающе кивнула головой Ольга Ивановна. – Что тут я тебе могу посоветовать Валера. Держись, ищи выход. Знала бы, как тебе помочь, помогла бы, а так не берусь. Разве что с Анной Демьяновной поговорить, попросить, чтобы взяла Валентину твою под опеку?
– Не знаю… если вам не трудно, – в глазах прапорщика читалась благодарность.
– Слушай Валера, еще вот хотела тебя спросить, ты же там за то время, что служишь всех на «точке» узнал. Скажи мне Николай Малышев, что за человек? – Ольга Ивановна решила, что теперь она может спросить бывшего ученика об этом, и тому уже будет неудобно отмолчаться или уклониться от ответа.
– Колька?… Да как вам сказать. Вроде ничего парень. А вы в связи с чем интересуетесь-то?
– Да, видишь в чем тут дело. Ходит он к нашей молодой учительнице, вот я и хочу узнать, серьезные у него намерения, или так, дурит девчонке голову, – решила говорить все напрямую Ольга Ивановна.
– Вона, оно что. Слышал я про то, что он к кому-то тут ездит, Валя говорила. Только знаете… – Валера помедлил. – У него ведь, кажется, невеста есть в Ростове. Я это вообще-то не от него, а со слов его друга знаю, но за что купил, за то и продаю, – Валера несколько смутился. Ему хотелось и своей бывшей учительнице быть полезным и Малышева «подставлять» неудобно. Но вышло, как вышло.
Ольга Ивановна поняла состояние Дмитриева и поспешила его успокоить:
– Не бойся, я про это никому ничего не скажу. Просто девочку предупрежу, но на тебя никогда не сошлюсь. Спасибо Валера… Ладно, не буду больше тебя задерживать. Вон ваши школьники уже все вышли. И это, Валера, не забудь насчет елки, – решила и об этом напомнить Ольга Ивановна.
– Так точно, не беспокойтесь, не забуду. И для школы срублю и вам лично тоже елочку привезу, – заверил Дмитриев, уже привычным жестом бросив ладонь к виску.
– Ну, Валера ты и действительно совсем служивым стал, – рассмеялась Ольга Ивановна.
– А как же, куда ж от природы денешься. Мой-то прадед из рекрутов, за верную службу царю и отечеству землю тут получил. Вот и я служу, может чего и выслужу… Извините, ехать пора, а то ведь машине сегодня еще один рейс успеть сделать надо, женщин на родительское собрание привезти, – Валера прервал разговор, видя что уже все школьники заняли свои места в будке.
13
Родительское собрание – это нервотрепка прежде всего для учителей-классных руководителей. Ввиду того, что Ольга Ивановна была лишена «высокой чести» руководить классом, она в последние годы уже не переживала за явку родителей, возможные эксцессы в ходе собрания и спокойно сидела в учительской, «подбивая» журналы. В это время остальные учителя, в подавляющем большинстве женщины, дружно подошли к окну.
– Машина с воинской части приехала, «воячек» привезли, – кто-то прокомментировал то что происходило на школьном дворе.
«Воячки», так в поселке за глаза именовали жен военнослужащих с «точки».
– Эй, Лен, старшим-то твой лейтенантик приехал! – это уже относилось к молодой «англичанке» Елене Михайловне.
– Ишь ты, Ратникова выползает… Бедный лейтенантик, такой кобылище слезть помогает. Это ж ему сколько сил потратить надо. Лен, на тебя не останется ха… ха…ха, – в учительской возник дружный ернический смех, тут же впрочем и смолкший, ибо все внимание женщин-педагогов вновь оказалось приковано к Анне Ратниковой.
– Глядите, да у нее опять новая шуба. Вот это да, я такой еще не видала! – забыв обо всем, женщины прильнули к окну.
Достоинства очередной шубы, которую жена командира дивизиона впервые одела для выезда в «свет», что в описываемом конкретном месте олицетворял проселок Новая Бухтарма… Так вот, основное достоинство той шубы заключалось в том, что она буквально облегала верхнюю часть пышной фигуры подполковничихи, и была приталена. Мех смотрелся черным, но не совсем, а с каким-то синим отливом и блестел как у ухоженной домашней кошки. Наряды Ртниковой всегда вызывали повышенное внимание поселковых женщин, особенно в последние годы, когда в местных промтоварных магазинах и даже на базе ОРСа перестали появляться импортные и более или менее качественные отечественные товары. Женщины особенно остро страдали от дефицита промтоваров. Для того чтобы более или менее прилично одеться, приобрести сносного качества косметику, надо было очень далеко ехать. Даже в Усть-Каменогорске «выбросы» качественных промтоваров в 80-е годы случались крайне редко. Потому, снабжавшимся значительно лучше через систему Военторга, военным естественно завидовали и такие вот приезды женщин с «точки» всегда становились предметом обсуждения. В первую очередь поселковые женщины любили «перемывать кости» командирше. Её здесь уже давно знали, к тому же она, вне всякого сомнения, была самой видной изо всех «воячек», затмевая даже молоденьких лейтенатш. Впрочем, здесь все объяснялось довольно просто – за офицеров год от года все реже выходили красивые, образованнее, домашние девушки. Сказывалось снижение «рейтинга» офицеров как потенциальных женихов. Уже не срабатывал фактор ни более высокой зарплаты, чем у гражданских, ни лучшего снабжения. Эти «плюсы» не перевешивали «минусов»: тяжелых бытовых условий жизни военнослужащих, и неспокойной, ненормировнной работы-службы. Но Анна Ратникова относилась к тому поколению, когда офицер был еще в цене, когда за них шли лучшие девушки.
Зная, какое внимание привлекает именно она, Анна всегда, когда выезжала в школу на родительские собрания, имела целью не только получение информации об учебе и поведении своих детей, но и что называется, удовлетворить естественную женское желание – себя показать, услышать краем уха завистливые перешептывания местных баб. Почти в каждой женщине присутствуют в большей или меньшей степени эти два естественных качества – кокетство и стервозность.
– Ишь, выхаживает… а сапоги-то, сапоги-то на ней какие, – продолжали исходить слюной и желчью учителя, буквально пожирая глазами, идущую от машины к ступенькам школьного крыльца подполковничиху.
Ратникова шла величаво, гордо вздернув голову, не смотрела по сторонам, а только перед собой, отлично зная, что из окон школы на нее смотрят во все глаза. Идущие следом прочие «офицерши» явно терялись на ее внушительном фоне. У них и росточку было поменьше, и угадывающиеся под зимней одеждой женские округлости куда пожиже, и осанка не та. А главное они беднее, проще одеты – Анна не просто жена командира, она была и военторговским продавцом, что в эпоху товарного дефицита значило очень много. К тому же большое значение имело наличие проживавшей совсем рядом с Москвой сестры мужа. К ней Ратниковы заезжали всякий раз по пути в отпуск, останавливались на несколько дней, которые посвящали рейдам по московским магазинам, в основном по классическому маршруту: ГУМ, ЦУМ, Пассаж… Анна не сомневалась, что ее новые, этим летом купленные в Москве шуба и сапоги произведут в поселке фурор куда больший, чем прошлогоднее пальто с воротником из ламы. Хотя и тому пальто тоже досталось немало бабьей зависти – в поселке простые женщины зимой в основном носили телогрейки, а те же учительницы перелицовывали свои старые пальтишки с жидкими «искуственными» воротниками, воспоминание об относительном достатке семидесятых голов. Конечно, жены поселковой элиты имели возможность одеться получше, но в окружении скромно одетых женщин, та же Анна Николаевна стеснялась часто одевать имеющиеся у нее норковую шубу или дубленку и предпочитала ходить в пальто со старой полинявшей чернобуркой. Примерно по той же причине не решались особо кичиться богатством и прочие начальственные жены. Но и они завидовали Ратниковой, это по секрету сообщила Ольге Ивановне Мария Николаевна. И, прежде всего, завидовали тому, что подполковничиха могла хоть и нечасто, но вот так вырядиться, никого не стесняясь, и явно получая от этого удовольствие. Ольга Ивановна не завидовала, она анализировала, вспоминала рассказы родителей о том какие красивые и крупные были здешние казаки и казачки тогда, до революции. Те же свидетельства она читала в литературных произведениях одного из самых известных советских писателей, уроженцев Верхнеиртышья Алексея Пермитина, когда он описывал женщин происходивших из состоятельных семей дореволюционного Усть-Каменогорска, купчих, чиновниц, жен горных инженеров: статные, рослые, прекрасно одетые. То, что сейчас можно было сказать про Анну Ратникову, тогда можно было сказать про многих.
– Ну, все, товарищи учителя!.. Прошу расходится по классам, начинайте собрания. Я обойду все классы, буду фиксировать посещаемость, – директор напомнил о рутинных служебных обязанностях.
Ольга Ивановна осталась в учительской. Ей не надо было проводить собрания, но в некоторые классы она собиралась заглянуть, попенять родителям за то, что они оставили без ответа ее записи в дневниках детей. Потом, надо поддержать молоденькую Елену Михайловну, которая вполне могла растеряться, если некоторые годящиеся ей в матери тетки-родительницы, вдруг начнут «брать на горло».
Когда Ольга Ивановна все высказала в десятом классе, и повернулась уходить, вслед за ней, извинившись перед классной, скорым шагом, покачиваясь на высоченных каблуках, вышла и Анна Ратникова:
– Ольга Ивановна, извините, можно вас на минутку.
– Да, пожалуйста, Анна Демьяновна. Если вы хотите осведомиться по поводу успеваемости Игоря по моему предмету могу только повторить то, что позавчера говорила вашему мужу.
– Да нет, я по другому делу. Вы еще задержитесь в школе? – задала совершенно неожиданной вопрос Ратникова.
Ольга Ивановна с немалым удивлением снизу вверх смотрела на эту 38-летнюю круглоплечую и крутобедрую красавицу, отдаленно напоминавшую Федосееву-Шукшину в период ее расцвета (съемок фильмов «Печки-лавочки» и «Калина красная»), только, пожалуй, не имевшую тех характерных недостатков фигуры, что не позволяли актрисе слишком обтягивать бедра и открывать ноги выше колен.
– Да, задержусь, мне еще в некоторые классы посетить надо, скорее всего я буду в школе до самого конца собраний.
– Я вас очень прошу, пожалуйста, уделите мне минут пятнадцать-двадцать, – едва не молящим тоном просила Ратникова. – Я сейчас еще в другой класс забегу, где дочка учится, там посижу и постараюсь освободиться пораньше, чтобы вас не задерживать. Мне с вами надо обязательно поговорить. Где мне вас найти?
– Скорее всего, я буду в учительской, – Ольга Ивановна непонимающе пожала плечами.
– Нет… Понимаете, туда же другие учителя будут заходить, а мне бы с вами с глазу на глаз поговорить, – вновь молящее сложила ладони перед своей большой, к тому же поднятой тугим бюстгальтером грудью, Анна.
– Ну, хорошо, тогда давайте у меня в кабинете русского языка. Знаете, где он находится?
– Да-да, знаю, спасибо, – Ратникова смотрела с благодарностью.
– Это вас, наверное, муж обязал? – смутно догадалась Ольга Ивановна.
– Не только, мне и самой к вам надо…
В кабинете у Ольги Ивановны Ратникова появилась минут через сорок. Ее лицо не выглядело довольным, что сразу своим «педагогическим зрением» определила Ольга Ивановна:
– Что, Анна Демьяновна, видимо известия о детях вас не порадовали?
– Дааа, – с некоторым раздражением протянула Ратникова.
По всему на собраниях ей стало жарко и она, сняв шубу, держала ее в руках, оставшись в вишневом, облегающем платье, явно из очень дорогого материала, резко сужающемся от бедер к коленям и от этого несколько стесняющее движения. Но Анна каким-то чудесным образом умудрялась это неудобство трансформировать во вроде бы естественное качание бедрами. Она, придирчиво оглядев ближайшую парту, осторожно положила на нее шубу и подсела к столу хозяйки кабинета. – Прямо не знаю что и делать, старший балуется, силу ему девать некуда, младшая наоборот, тихая уж очень, стеснительная, никогда учительницу не спросит, даже если чего и не понимает. А ладно, это я уж как приеду с обоими разберусь, – с тяжким вздохом поведала Анна. – Я вот зачем к вам. Муж очень благодарен вам за услугу, что вы ему оказали, ну и, – Ратникова неловко потупилась, прежде чем продолжить. – Ольга Ивановна, вам не нужно что-нибудь из продуктов? Впереди ведь Новый год, а здесь у вас в магазинах на прилавках почти пусто. Я, правда, не в курсе, может здесь в школе учителям что-нибудь дают к празднику, наборы какие-нибудь?
– Дают, догоняют и еще дают, – Ольга Ивановна невесело усмехнулась. – Мужские носки по две пары и чай грузинский вперемешку с индийским по пачке – вот и весь наш набор в прошлом году был, и в этом, говорят, такой же будет. Да и за этим-то, помню, чуть не драка была. На цемзаводе тоже кроме ливерной колбасы ничего рабочим не дадут к празднику. Так что, если это вам не затруднительно… но только за деньги, никаких подарков, – Ольга Ивановна тоже несколько смутилась, ибо понимала, что при таком тотальном дефиците продуктов, они станут подарком даже если за них и заплатить.
– Вот и отлично, – Ратникова поднялась, явно собираясь выйти из класса.
– Вы что уже, что-то привезли?! – не сдержала удивленного возгласа Ольга Ивановна.
– Конечно, зачем тянуть. Я ведь, скорее всего, уже до самого Нового года к вам не заеду больше. Я сейчас, пять минут.
Ратникова, накинув шубу на плечи, буквально выскочила в коридор, показав немалое для такой «фактурной» женщины проворство, спустилась в вестибюль, приоткрыла двери и крикнула в морозные сумерки, туда, где на школьном дворе стояла машина:
– Володя, Бушков!
От машины, где в окружении девчонок-старшеклассниц стоял очень симпатичный на лицо солдат-водитель, тут же послышался отклик:
– Слушаю вас Анна Демьяновна!
– Неси сюда коробку!
Солдат внес за Ратниковой большую коробку из толстого картона, поставил прямо на учительский стол.
– А теперь и ящик тоже неси, – приказала подполковничиха.
– Понял, – солдат торопливо вышел.
Ольга Ивановна плотно прикрыла дверь, хотя, без сомнения, солдата с большой коробкой видели некоторые учителя и теперь наверняка пойдут пересуды и сплетни. А Ратникова тем временем выкладывала на стол содержимое коробки: две палки полукопченой колбасы, пять банок сгущенного молока, банку растворимого кофе, три банки говяжьей тушенки и две свиной, конфеты… Вновь зашел солдат и уже на пол поставил дощатый ящик сверху закрытый оберточной бумагой.
– Что это? – спросила Ольга Ивановна, глядя на ящик.
– Это… Это мандарины, пятнадцать килограммов … Давай Володя, неси яблоки, – вновь отправила водителя подполковничиха.
Ратникова присела возле ящика на корточки. В другое время Ольга Ивановна немало бы удивилась, как эта женщина, при таких объемных формах, да еще на таких каблуках так легко и свободно присела, как юная не отягощенная излишками веса девушка… Но сейчас она не смотрела на мощную выпирающую «корму» подполковничихи, она смотрела на ящик, с которого та сняла бумагу. Там лежали оранжевые плоды, вкус которых она успела подзабыть, ибо уже лет восемь их сюда просто не привозили.
Где-то до 1976 года Восточно-Казахстанская область по советским меркам снабжалась весьма неплохо. А областной центр Усть-Каменогорск вообще находился под фактическим патронажем министерства среднего машиностроения СССР, и первому секретарю восточно-казахстанского обкома Алма-Ата, Казахстан по большому счету были «не указ».
У советского руководства всегда имела место особая любовь к некоторым союзным республикам, откуда происходили наиболее влиятельные члены Правительства. При Сталине началось процветание Грузии, при Хрущеве рывок в качестве жизни и территориальном росте (за счет присоединения Крыма) сделала Украина. При Брежневе процветание Украины продолжилось, но и некоторые другие союзные республики в зависимости от «способностей» своих первых секретарей делали определенные «успехи». В результате, к середине 70-х, РСФСР, Россия, основная, стержневая республика Союза, по уровню жизни населения, оказалась позади трех закавказских республик, умело перекачивающих всеми легальными и нелегальными способами средства из союзного бюджета в свои республиканские, трех прибалтийских – где уровень жизни определялся более высокой, чем в среднем по Союзу, культурой труда и быта. Украина умело использовала низкие внутрисоюзные цены на сырье и энергоносители, поступающие в основном из России, что позволяло динамично развивать как промышленность, так и сельское хозяйство, которое в условиях благодатного климата и плодородной земли обеспечивало в первую очередь внутриреспубликанский продовольственный рынок. За счет даровых энергоносителей процветала и Белоруссия, на территории которой был создан своего рода сборочный цех всего Союза. А искусно маневрировавший руководитель республики Машеров, поставил дело так, что вечно нищие белорусы, не имеющие ни полезных ископаемых, ни плодородной земли (в составе хоть Речи Посполитой, хоть Российской империи не было областей беднее белорусских), вдруг тоже зажили значительно лучше, чем в России.
При таких «делах» до Брежнева все чаще стало доходить «шепотное» недовольство, что Россия, особенно к востоку от Москвы, живет много хуже всех этих «передовых» союзных республик, и там, особенно в небольших городах, поселках и деревнях такое плохое снабжение, что случаются случаи голода. Надо было что-то делать, как-то уравнять столь неравное положение. Урезать «подпольное» снабжение Закавказья в Политбюро не решились, зная насколько «горяча» кровь у тамошних джигитов, родной Украины – Брежнев не захотел, Белоруссии – с Машеровым, человеком очень «сильным» связываться не стали. Прибалтика не столь зависела от центрального союзного снабжения, ибо ту же сельхозпродукцию сама производила с избытком, а промтоварами обеспечивалась за счет хорошо налаженных каналов контрабанды через морские балтийские порты. Решили помочь России за счет Казахстана, где за исключением отдельных областей завязанных на оборонку и космос, жили ничуть не лучше. Ко всему тут еще и первый секретарь компартии Казахстана Кунаев крупно «лопухнулся». В один из визитов Брежнева в Алма-Ату, он, показывая генсеку город, повел его в магазины, которые по такому случаю ломились от продуктов. Брежнев, увидев продуктовое изобилие алма-атинских магазинов, изрек:
– Хорошо живете, а вот Россия голодает.
После этого снабжение Казахстана резко ухудшилось. Потом началась афганская война и вообще в магазинах стало, что называется «шаром покати», особенно в поселковых и сельских. С приходом к власти Горбачева, человека, который еще в бытность руководителем Ставропольского края спокойно замалчивал случаи массовых грабежей чеченцами скота в приграничных ставропольских селах с одновременным столь же массовым изнасилованием «джигитами» тамошних женщин и девушек… Конечно, этот руководитель изменений в сложившийся межреспубликанский «баланс» не внес: Россия к востоку от Москвы как была одной из самых голодных и неустроенных мест Союза, так и оставалась, только к ней теперь добавился и Казахстан, не имевший ловких и хитрых руководителей, умеющих «грести под себя».
14
– Господи, это же мандарины! – не смогла сдержать удивленного возгласа Ольга Ивановна. – Я их уже и вкус забыла.
– Да… Вы уж извините, хоть и отбирала, но могут и гнилые попасться, – виноватым тоном сообщила Ратникова.
В это время вновь вошел солдат-водитель и поставил на пол еще один дощатый ящик.
– А это что? – все более изумлялась сказочным по местным меркам подаркам Ольга Ивановна.
– Яблоки венгерские. Вот за них я вам ручаюсь, эти все хорошие. Здесь двенадцать килограммов. Представляете импортные яблоки в отличном состоянии два рубля за кило и эти полугнилые мандарины то же два, – возмущалась Ратникова.
– Да-да, растерянно отвечала ошарашенная учительница, увидев такое количество дефицитнейших продуктов, которых, наверное, не имели к предстоящему празднику и члены так называемой поселковой «элиты».
– Ольга Ивановна, если вы сейчас стеснены в средствах я могу и подождать, заплатите когда вам будет удобно, – продолжала демонстрировать благожелательность подполковничиха.
– Нет-нет, я прямо сейчас расплачусь… Только вот не знаю, как я эти ящики и коробку домой донесу, а если их тут на ночь оставить, то весь кабинет так благоухать будет – коллеги меня не поймут, – явно просяще пояснила ситуацию Ольга Ивановна.
– Ничего, мы не спешим. Сейчас давайте посчитаем, а потом мы все это прямо к вам на квартиру на нашей машине и довезем, – тут же предложила Ратникова.
Стали считать. Ратникова достала маленькие пружинные весы-безмен, чтобы взвешивать товар, но Ольга Ивановна не позволила, заявив, что верит на слово и за все рассчитается без «контрольного» взвешивания. Когда перебирали конфеты, она увидела, что это давно уже исчезнувшие из свободной продажи шоколадные «Мишка косолапый» и «Красная шапочка». Даже в обязательных наборах для учителей к восьмому марта имелась только карамель, да и то алма-атинского производства, очень низкого качества.
– Не беспокойтесь, конфеты все хорошие, – поспешила заверить подполковничиха, – это томские, там делают нормально и сахар почти не воруют.
– Да-да… спасибо. На неделе сыну посылку в Красноярск отправлю. Пишет, у них там такая голодовка, – переводя взгляд с одного «дефицита» на другой, как завороженная говорила Ольга Ивановна.
– В прошлый Новый год, к нам апельсины завезли, а вот в этот нет. Так что извините, развела руками Ратникова.
– Да что вы, какие извинения… Прямо не знаю, как вас и благодарить.
– Никак не надо. Это мы вас благодарить должны, – отмахнулась подполковничиха. – Да, если хотите, я могла бы вам кое что и из промтоваров привезти? Одежду, обувь. У нас иногда даже импортное привозят. У вас какой размер?
– У меня?… Небольшой… сорок шестой… был, а сейчас, боюсь, и того уж нет, старею, усыхаю, – вымучила улыбку учительница.
– А я вот наоборот, уже в пятьдесят четвертый не влезаю, – вроде бы с сожалением, но в то же время и с рисовкой, сама на себя, эдак вскользь взглянула Ратникова, дескать, да, вот я какая, баба в теле, но тут же вновь перешла к делу. – Кстати, самые модные платья, сейчас и идут, в основном, где-то на 44-46-й размеры. Я могу вам привезти на примерку.
– Спасибо, Анна Демьяновна, но мне уже модные, как-то не по возрасту. А сапог зимних у вас там не бывает? Тут у нас в промтоварном… ну вы, наверное, и сами заходили, видели, только сапоги типа «чума» это просто ужас, или войлочные «прощай молодость». Я уже пятый год новых сапог купить не могу, а старые уже чинила, перечинила, – при этом Ольга Ивановна непроизвольно опустила взор на шикарные, с позолоченными пряжками сапоги Ратниковой, красиво и эффектно охватывающие ее полные икры.
– С сапогами и у нас плохо, это самый, что ни на есть дефицит. А эти, что на мне, – Ратникова перехватила взгляд учительницы, – нет, таких нам не привозят. Это же швейцарские. В последний отпуск в Москве, в ЦУМе с утра до вечера за ними стояли в очереди попеременно с мужем. Знаете, там есть лестница, прямо с улицы выходит в отдел обуви на третьем этаже. Так вот мы еще на улице очередь заняли и потом по этой лестнице поднимались со скоростью один этаж за три часа. Измучились, пока отстояли, зато две пары сразу взяли, вот эти и еще одну ЦЭБы, чешские. Те не такие красивые, зато удобные очень, у них каблук ниже, не так устаешь. Но эти, конечно, лучше смотрятся, а ради красоты чего не вытерпишь, – Ратникова засмеялась.
Ольга Ивановна тоже понимающе улыбнулась:
– Вы знаете, одна из моих первых учительниц говорила: лучше иметь морщинку на лице, чем морщинку на чулке.
– Понятно. Вы же в школе-то еще в эмиграции учились, а там, наверное, учителя-то были из благородных? – Ратникова не преминула показать, что она в курсе «жизненного пути» собеседницы.
– Да… вы совершенно правы, – несколько смутилась учительница, явно не ожидавшая от подполковничихи такой проницательности.
– Извините за нескромность, Ольга Ивановна, все хотела у вас спросить, вы, наверное, помните, как в то время в Китае было со снабжением, как там русские жили в материальном плане? – вновь задала несколько неожиданный вопрос Ратникова.
– Да, как вам сказать, по-разному жили. А, что касается снабжения, знаете, я не очень хорошо все помню, маленькой была, но до сорок первого года, пока Япония в войну с Америкой не вступила, было буквально все, и что касается промтоваров и продукты любые. Правда, сами понимаете, капитализм это не наш социализм, там главное роль играют деньги, есть деньги, все купить можно, нет денег – ничего не купишь, хоть полки магазинов и ломятся от товаров и продуктов. А у нас, сами видите, главное не деньги, а возможность достать, – Ольга Ивановна с улыбкой кивнула на привезенные Ратниковой продукты.
– Странно, ведь Китай всегда был, насколько я знаю, бедной отсталой страной, так почему же там все было, а мы вроде бы передовые развитые, и у нас сплошной дефицит? – вновь задала вопрос подполковничиха.
– Понимаете, я не совсем в Китае жила, а в Манчжурии, тем более в Харбине, а тогда это был очень богатый и культурный город на половину с русским населением. Там ведь не только товары со всего мира привозили, имелась и своя развитая и разнообразная промышленность, пищевая, обувная и прочие. Русские и иностранные фирмы, что там только не делали и все очень высокого качества. Вот я у вас насчет обуви спрашиваю, а в Харбине работали несколько обувных фабрик, не считая всевозможных сапожных мастерских, и их продукция славилась не только в Китае. Об этой продукции даже Павел Васильев упоминал в своих стихах. Вы знаете поэта Павла Васильева, кстати, местного уроженца? – Ольга Ивановна с небольшим прищуром, словно экзаменатор посмотрела на подполковничиху.
– Вообще-то слышала он, кажется, в Павлодаре родился, но вот стихов его я совсем не знаю, хоть у нас дома и большая библиотека, но его книги мне как-то не попадались, – несколько смущенно призналась Ратникова.
– У вас не совсем точные сведения. В Павлодаре он провел свое детство, а родился здесь рядом, в Зайсане, – уточнила учительница. – А что касается его книг, то не мудрено, что их у вас нет, они вообще мало у кого есть. За все время у этого гениального поэта вышла всего одна книга в Ленинграде в 1968 году и то сравнительно небольшим тиражом. Я ее только в Усть-Каменогорске в читальном зале центральной областной библиотеки взять смогла. И у него есть такие строки:
Пей, табашный, хмель из чарок — Не товар, а есть цена. Принеси ты ей в подарок Башмачки из Харбина. Принеси, когда таков ты, Шелк, что снился ей во сне, Чтоб она носила кофты Синевой под цвет весне.Ратникова задумчиво выслушала стихи и, покачав головой, спросила:
– И в каком году он это написал?
– Точно не помню, где-то в самом начале тридцатых годов, – ответила Ольга Ивановна.
– Надо ж, сейчас мы за швейцарской, чешской, югославской обувью бегаем, в очередях стоим, а в тридцатых значит также бегали за харбинской? – то ли спросила, то ли сделала вывод подполковничиха.
– Представьте себе, да. Только сейчас бегаем за заграничным товаром, а тогда хоть и то же за заграничным, но за русским, ведь те обувные фабрики русским купцам принадлежали… во всяком случае до того как японцы их начали помаленьку гнобить.
– Надо ж… никогда бы не поверила, – вновь вроде бы задумалась Ратникова, но тут же как будто сбросив с себя излишнюю «мыслительность», вернулась в «день сегодняшний»: – Так вы говорите насчет сапог? Что ж, хорошо, буду иметь в виду. Вы какой размер обуви носите?
– Тридцать седьмой.
– Что вы говорите, и у меня тоже… Что не верите? Серьезно, хоть я сама и большая, а нога у меня маленькая, с явным кокетством сообщила Анна.
– У меня мама была, ну что-то вроде вас, тоже сама такая пышная, правда не такая высокая, а вот нога… у меня точь в точь ее нога, а самая я, увы, мелкая…
Разговор становился все более непринужденным, будто и не существовало никакой разницы в возрасте, воспитании, прожитой жизни, нынешнем положении. От Анны Ратниковой все время исходил какое-то особое, тонкое, неземное, как показалось Ольге Ивановне благоухание. Она отметила, что подполковничиха не только хорошо со вкусом одета и накрашена… но и вот этот запах. Он был словно из ее далекого детства, опять напоминал о матери, так примерно пахло от нее, когда они с отцом уходили к кому-нибудь в гости, в театр, на балы. С тех пор подобных запахов Ольга Ивановна в своей советской жизни уже не обоняла.
– Извините… эти духи… такой чудный запах. Это, наверное, французские? – не удержалась от вопроса Ольга Ивановна.
– Нет, это «Белый лён», духи фирмы «Эсти Лаудер», американские, – охотно пояснила Ратникова. – Только не подумайте, что они у нас в Военторге продаются. Нет, нам в лучшем случае «Дзинтарс» привозят, да и то редко. Эти духи мы тоже в Москве достали.
– Извините, Анна Демьяновна, вы говорите у вас духи «Дзинтарс» бывают. Я бы вам за них была так благодарна. Хотя, наверное, и без того уже вас обременила, – Ольга Ивановна смущенно как маленькая девочка потупилась и слегка покраснела.
– Да что вы, нисколько. Зачем «Дзинтарс»? Вам понравился запах «Белого льна»? Ради Бога, я ведь их несколько флаконов привезла, даром, что ли столько в очереди стояла. Не догадалась, надо бы привезти. Но, в следующий раз я обязательно. Хотите, я еще и тушь для ресниц, и тени, и лак для ногтей, там все в одном наборе. Отличное качество, ни с нашими, ни с польскими не сравнить. Сейчас ведь хорошую косметику только в Москве и можно достать, да и то если время и силы есть, в очередях стоять. Не знаю, если бы там рядом сестра мужа не жила, тоже сейчас ходить бы не в чем было. У нас в Ярославле тоже пусто, без личных знакомств с продавцами и товароведами достать ничего невозможно. Хорошо, что у меня есть подруги знакомые, с которыми я вместе в техникуме училась, некоторые из них неплохо устроились, кое что могут. Но все равно, такого как в Москве там не достать. В Москве хоть и очередь отстоишь, но зато качественный, стоящий товар купишь, а не кота в мешке.
– Да вот что еще, Анна Демьяновна, я хотела у вас попросить, – спохватилась, вспомнив просьбу Валеры, Ольга Ивановна.
– Все, что есть у меня в магазине, я все могу вам предоставить, спрашивайте не стесняйтесь, – с готовностью отреагировала подполковничиха.
– Нет, это не касается дефицитных товаров, у меня к вам просьба несколько иного рода. У вас на точке служит Валера Дмитриев. Это мой бывший ученик, вы, наверное, знаете. А его жена Валентина, она тоже училась у меня. Я точно знаю, что ей нелегко там приходится в моральном плане. Вы бы не могли хоть изредка чем-то ей помочь… ну, чтобы её не клевали хотя бы.
– Это вам Дмитриев пожаловался, – догадалась Ратникова.
– В общем да. Но вы не подумайте, он не о чем не просил, – поспешила выгородить бывшего ученика Ольга Ивановна. – Это я сама, хочу помочь своим ребятам. Если, конечно, это возможно.
– Ну что ж, – подполковничиха усмехнулась, вам отказать я ни в чем не могу. Попробую помочь вашей бывшей ученице, если уж наши бабы будут ее слишком прижимать, – заверила Анна, хоть по всему ей этого совсем не хотелось делать.
В школьной машине уже сидели все женщины с «точки», что приехали на собрание, не было только Ратниковой. Пришел Николай Малышев.
– А где Анна Демьяновна? – задал он естественный вопрос, ибо уже было пора выезжать.
– Как где, у учительницы этой, Ольги Ивановны, сидит. Полмагазина ей привезла, небось считают. Что хочет, то и творит… за наш счет, – ворчливо выразила свое недовольство «начальница штаба» Колодина.
– А с чего это вдруг, она ей такие подарки делает, – спросила из будочной темноты жена офицера, переведенного на «точку» недавно и бывшая не в курсе местных дел.
– Потому что училка эта не простая, сейчас тут в поселке она важной птицей стала, вот Демьяновна к ней и «подъезжает». Она знает к кому клинья бить, решила «просветить» новенькую Колодина.
– Володя, Коля! Идите сюда, – на крыльце школы появилась Ратникова.
Малышев вдвоем с водителем вновь загрузили ящики в машину, отвезли их на квартиру к Ольге Ивановне. А потом когда машина ехала уже назад, та же Колодина уничижительно пыталась набиться к Ратниковой в собеседницы:
– А что, Анна Демьяновна, Ольга Ивановна действительно родственница того белогвардейского офицера, что коммунаров расстреливал?…
В тот вечер машина на «точку» вернулась со значительным опозданием.
15
Нельзя сказать, что к середине восьмидесятых годов в Бухтарминском крае стало настолько плохо с продуктами питания, что некогда хлебный, мясной и рыбный край чуть не голодал. Нет, как раз в снабжении хлебо-булочными изделиями и той же картошкой проблем не возникало. Область жила примерно так же, как и большинство прочих располагавшихся к востоку от Москвы: и сыты не были, и с голоду не помирали. Не было перебоев и с молоком, но сливочное масло в магазинах отсутствовало, а если его изредка «выбрасывали», за него разгоралась настоящая «битва», давали не более трехсот грамм в одни руки. А вот что исчезло с прилавков почти «без следа», так это мясо и мясные изделия. Дефицитом стали даже «кости», так именовали мясной эрзац-продукт, остатки мяса и сухожилий остававшиеся на говяжих костях после того как с них срезали практически все мясо. Эти кости использовались для приготовления супов и в провинции они являлись очень популярным продуктом. Колбасой, да и то ливерной, раз в квартал «баловали» только рабочих цемзавода, отпуская ее в заводской столовой. Совхоз даже своих работников не мог обеспечить мясом в полной мере, не говоря уж о прочих поселковых «едоках». Можно, конечно, было обратиться за помощью к Землянскому, директору соседнего совхоза «Коммунарский». Он на землях некогда принадлежавших Кабинету Его Императорского Величества не только собирал приличные урожаи зерна, но и имел большое поголовье коров и свиней. Но, как и почти везде в Советском Союзе, тех кто «вёз» и обдирали сильнее, обкладывали повышенным государственным заданием. За те ордена, что ему давали, Землянского так «раскулачивали», что он только и мог оставлять у себя мяса и масла в количестве, не превышавшем потребностей его рабочих. Куда девались те тонны говядины и свинины, что регулярно отправлял совхоз «Коммунарский» в вагонах-рефрижераторах никто, в том числе и сам директор, не знал. Впрочем, при желании догадаться не трудно: и собственная страна полуголодная, и друзей всевозможных по миру, которые «жрать горазды», тоже хватало. Потому, зная, что военные снабжаются относительно неплохо, окрестные жители не могли не испытывать определенного чувства зависти. А периодические появления в поселке такой заметной личности как Анна Ратникова не могли не вызвать реплик типа:
– Ишь, морду нажрала (или другую менее благозвучную, но более объемную часть тела), того и гляди лопнет…
Ольга Ивановна, став обладательницей такого количества дефицитных продуктов, долго решала, как с ними поступить. Съесть самой? Увы, она уже настолько отвыкла от того, что называется «есть вволю», и еще с детского дома обрела привычку обходиться минимумом еды. Хотя она отлично помнила, что в более раннем своем харбинском детстве любила много и хорошо покушать, была достаточно упитанной девочкой. Но за время скудного детдомовского житья она растеряла все свои харбинские «запасы», стала поджарой и росла тоже плохо. Ко всему, в ее теперешней двухкомнатной квартире было просто негде до самого Нового года держать столько продуктов – в холодильник влезла едва четверть. Единственно от чего она не удержалась, так это сразу же съела три мандарина, любимого лакомства ее детства… Первым делом, с вечера Ольга Ивановна, как и думала, собрала посылку сыну, использовав максимально допустимый почтовый лимит в восемь килограммов. Следующий день был пятница, и она, подойдя к открытию почты, эту посылку отправила. Затем, пользуясь тем, что у нее по расписанию не было первых двух уроков, пошла в Поссовет, к Марии Николаевне. Когда выложила прямо на стол председательницы фрукты, по банке тушенки и сгущенки, та на минуту опешила, потом удивленно спросила:
– Откуда такое богатство?
– Жена Ратникова привезла. Вчера на родительское собрание приехала и нате вам. Когда я у ее сына классной состояла, ничего подобного, а тут, как говорится, не было ни гроша, да вдруг алтын, – прищурилась Ольга Ивановна.
– Как она, как всегда разодетая в пух и прах, на руках с десяток колец, серьги золотые по полкило и задница в дверь не пролазит?
– Да брось ты Маш. Красивая она баба и за таким мужиком живет, как говорится, не клята не мята, да еще на хлебной должности. Пусть форсит, пока не состарилась…
Ольга Ивановна, будучи намного старше Ратниковой, не испытывала тех же бабски-ревнивых чувств как Мария Николаевна, которая была старше подполковничихи на немного и вроде бы тоже замужем за мужем-начальником, более того сама являлась едва ли не крупнейшим начальником в поселке. Тем не менее, все эти факторы не обеспечили ей того же ореола женщины «катающейся как сыр в масле», который имела подполковничиха. К тому же, обладательница самой заурядной женской стати, Анна Николаевна просто по-бабьи завидовала броской внешности Ратниковой.
– А ведь, наверное, не просто так… а, дровишки из лесу? – председательница кивнула на принесенные подругой продукты. – Не иначе что-то ей от тебя надо, услугу какую-нибудь оказать.
– Уже оказала, – усмехнулась Ольга Ивановна. – Я начальнику нашей поселковой автобазы записку написала, по просьбе самого Ратникова, чтобы помог военным машину отремонтировать. Понимаешь, просто так написала, не думая, что это возымеет какое-то действие. А он взял и согласился помочь. Сама не ожидала, а теперь вот в ответ презент, да еще какой.
– Какой презент, она, что разве бесплатно тебе привезла?
– Да нет, я бы и не взяла так. За все заплатила. Но ты же сама понимаешь, где сейчас, кроме как у военных, такое достанешь, тем более она продавец Военторга.
Мария Николаевна взяла мандарин, очистила, отломила дольку, положила в рот, зажмурилась от наслаждения:
– Ух!.. Не могу… божественный вкус. В позапрошлом году я в последний раз мандарины ела, в Семипалатинске. Нас тогда туда на совещание собирали. Тоже вот так, в декабре. И в обкомовском буфете мандарины и апельсины давали.
– А я в Семипалатинске уже забыла, когда и была, лет десять, наверное, прошло, и, признаться, ездить туда не хочу. Всякий раз жуткое впечатление он оставляет, особенно в сравнении с Усть-Каменогорском. Как там за это-то время, что-нибудь построили интересное, чтобы смотрелся получше? – поинтересовалась Ольга Ивановна.
– Какое там, как был дырой, так и остался. Построили несколько двенадцатиэтажек на правом берегу, сразу как с моста съезжать, за гостиницей «Иртыш», и всё, а в остальном та же убогость. Чем в таком городе жить, лучше уж в нормальном поселке. Не в таком, конечно, как наш. А то, что касается Усть-Каманя, да там я бы с удовольствием согласилась жить, это не город, а сказка, – мечтательно закатила глаза Мария Николаевна.
– А знаешь, ведь до революции Усть-Каменогорск был всего лишь уездным центром в Семипалатинской области, захолустный городишко втрое меньше Семипалатинска, – поведала Ольга Ивановна.
– Да ну, быть не может, – удивилась не больно «сильная» в истории своего края председательница.
– Это факт, есть исторические документы о том свидетельствующие. В 1913 году Семипалатинск считался богатым торговым городом. К востоку от Урала только Омск превышал его по количеству населения. Тогда в Семипалатинске жили пятьдесят тысяч человек, а в Верном, то есть в Алма-Ате – сорок, а в Уст-Каменогорске всего пятнадцать. Еще в Семипалатинске, помнишь, там довольно много таких бревенчатых двухэтажных домов? – продолжала просвещать не больно грамотную в гуманитарном плане подругу Ольга Ивановна.
– Конечно… ветхие такие, много покосившихся, но люди в них до сих пор живут, там вроде коммунальные квартиры.
– А до революции это были дома тамошних купцов. Об их богатстве, особенно хлеботорговцев и владельцев пароходов ходили легенды. Помнишь, в «Рудном Алтае» была статья, про то, как семипалатинские купцы преподнесли атаману Анненкову погоны из чистого золота, – продолжала свою «лекцию» Ольга Ивановна.
– Поди ты! – не удержалась от восклицания председательница. – Никогда бы не подумала, что этот грязный паршивый городишко, был когда-то богатейшим, – Мария Николаевна взяла второй мандарин. – Так говоришь, тебе Ратникова много таких вот дефицитов поднесла?
– Да, порядком, полтора десятка кило мандаринов, двенадцать кило яблок, несколько банок сгущенки, тушенки, конфет пару кило. Хочу всех наших обойти и от себя сделать небольшие презенты на Новый год, по нескольку мандаринов, яблок, конфет. Пусть детей побалуют на праздник, они уже давно этого не видели, – вздохнула Ольга Ивановна.
– Кого это наших? – решила уточнить председательница.
– Ну, как кого? Кто местного корня, здесь в Усть-Бухтарме родился, или в относящихся к ней поселках, их потомков. Я таких знаю больше двух десятков семей, кто не побоялись признать казачье происхождение, – пояснила Ольга Ивановна.
– После твоих презентов, не сомневаюсь, что количество таких «смельчаков» резко увеличится, – усмехнулась Мария Николаевна. – Ну, а тогда мне-то за что, я-то получаюсь здесь не при чем, я же не казачка, или решила заодно и советской власти потрафить? – уже с вызовом спросила председательница.
– У тебя свекровь и муж кто? – вопросом ответила Ольга Ивановна.
Мария Николаевна смутилась и промолчала.
– И дети твои получается казачьего рода. Так, что если сама такая гордая, советская, им отдай, скажешь от меня, с праздником, – в голосе Ольги Ивановны тоже зазвучали нотки обиды.
– Ладно, Ивановна, не сердись. Прости ты меня, дурру, нашло что-то, сама не знаю… Мне тут с утра все настроение испортили, уголь на исходе, кочегарку скоро топить нечем будет, а вагоны затерялись где-то, завели вот… Прости, а, – понизив голос до «интимного» шепота, просила Мария Николаевна и увидев, что подруга понимающе улыбнулась, поспешила изменить тему разговора. – Так ты что бесплатно все это будешь раздавать, благотворительностью займешься за свой счет?
– Не знаю, как получиться. Кто сможет деньги отдать, отдаст, а кто нет, так нет.
– Ну, ты даешь, сама-то живешь, не жируешь. Нет, я, конечно, возьму, свекровь порадую, но изволь вот деньги получить. На сколько здесь? – председательница полезла за кошельком в сумку.
– Маша, я ведь не просто так. Думаю, на доброту люди всегда ответят, не сразу, так после. И здесь тоже… Ты с мужем своим поговори. Не хочу я ему записки как зававтобазой передавать мимо тебя. Ты сама его настрой, чтобы он тоже со своей стороны чем-нибудь помог военным, – вкрадчиво говорила Ольга Ивановна.
– А мой-то что может? У него запчастей для автомашин нет, у него оборудование для цемзавода, уголь, глина, – удивилась Мария Николаевна.
– Может… Тут меня Ратников тоже попросил посодействовать. Дорогу они следующим летом ремонтировать собираются от шоссе до части. Там кажется километра три. Пусть твой прикинет, чем сможет помочь. У него ведь, наверняка, и гравий, и щебень, и еще что-то такое есть а? Надо же помогать друг дружке, чтобы не пропасть поодиночке, – рассмеялась Ольга Ивановна, довольная, что так ловко вставила модную «окуджавскую» строчку.
– Смотри, Ивановна, уж не метишь ли ты в неформальные лидеры, – шутливо погрозила пальцем председательница…
Из Поссовета Ольга Ивановна направилась в дом к старику Порфирию Митрохину и там тоже сделала небольшое подношение, потом обошла еще несколько «коренных» и всем передавала свертки с подарками. Ее не ждали и принимали подарки с изумлением, едва успевая поблагодарить, ибо Ольга Ивановна тут же откланивалась. Она, конечно, не могла «охватить» всех, выделяя в первую очередь семьи, где были совсем древние старики, или маленькие дети, таких набралось двенадцать семей.
Уже с вечера того же дня начались ответные визиты, в ходе которых выяснилось, что в большинстве семей коренных усть-бухтарминцев ведется довольно успешное натуральное хозяйство, в основном на шести сотках дачных участков, которые выделялись цемзаводом и поссоветом. Ольге Ивановне понесли всевозможные варенья, соленья, холодцы, работники рыбзавода – копченую рыбу. Вскоре квартира вновь оказалась забита всевозможными продуктами в основном домашнего приготовления, и Ольга Ивановна собрала еще одну посылку сыну.
16
Обычно в те годы, до которых дожила Ольга Ивановна, женщины настолько отягощены повседневными бабьими заботами, о семье, муже, детях, а кое-кто уже и о внуках. Но тут все сложилось по иному, потому у нее было достаточно времени, чтобы предаваться воспоминаниям, что иной раз побуждало её мыслить, так сказать, в сослагательном наклонении. Она, конечно, понимала, что кроме душевной боли это ничего не доставит и, тем не менее, когда оставалась в одиночестве, после работы, в своей квартире, эти мысли исподволь проникали в ее сознание. Впрочем, «расклад», что было бы, не случись Октябрьская революция, почти не «рассматривался». Ведь тогда бы, наверняка ее родители народили бы много детей, и в зависимости от продвижения по службе отца жили бы либо в Усть-Каменогоске, либо Омске, а может быть даже в Москве или Санкт-Петербурге. То, что у них была бы дружная и счастливая семья Ольга Ивановна не сомневалась, ведь родители любили друг друга и ее, и в, общем, даже в изгнании, на чужбине они были счастливы, не смотря ни на что. А вот родилась бы у них в череде детей хотя бы отдаленно похожая на нее девочка? Куда чаще она задумывалась на тему, что стало бы, если бы мать с отцом не остались в Харбине ждать Красную армию и свою погибель, а уехали бы в Шанхай, и далее в Америку, Европу, Австралию… Что бы тогда случилось, кем бы она стала? Отрицательные варианты, типа нищенского, или «панельного» существования, ею тоже не рассматривались. Куда приятнее было мысленно «зрить» себя матерью многочисленного семейства, хозяйкой большого богатого дома, такой какой была ее бабка по матери. Но, тут же сами собой наползали мысли-противницы: говорить пришлось бы на другом языке, замуж выходить, скорее всего, за иноплеменника. Ведь русские эмигранты той первой волны, за исключением Харбина, канувшего в лету, нигде не сумели создать ни успешных обособленных диаспор, ни единых этнокультурных сообществ по примеру итальянских или греческих. Потому, разрозненные не дружные русские эмигранты в большинстве тяжело приживались на чужбине, купцы разорялись, офицеры шли в таксисты, дамы на панель или в модистки… за исключением тех, кто удачно выходил замуж.
Впрочем, «сослагательные» мысли мучили Ольгу Ивановну и в отношении более близкого по времени советского прошлого. Почему ей не удалось создать настоящей, прочной семьи? Конечно, сейчас она отчетливо понимала, что выходила замуж за того, за которого не должна была выходить. Алексей вроде бы неплохой человек, и ей по молодости казалось, что она сможет «переделать его под себя». Он, конечно, тоже обманулся, приняв ее «маску» за истинное «лицо». А когда с годами эта «маска» с нее сошла, то ее истинное лицо ему, мягко говоря, не понравилось. Он не мог жить и мыслить иначе чем верой в то, во что его призывали верить с детства, в незыблемости чего он не сомневался. Когда она впервые призналась, кто она есть на самом деле, где родилась, в какой семье… Он в сердцах сказал то, что подумал в тот момент: «А я ведь верил тебе, верил, что ты настоящая детдомовка… советская!» С тех пор их совместная жизнь напоминала льдину, давшую трещину и эта трещина все увеличивалась в размере. Все чаще между супругами возникали непримиримые споры, как по пустякам, так и на «глобальные» темы. Впрочем, споры, иной раз, возникали у них и раньше. Например, когда в 69-м году американцы высадились на Луну, муж очень переживал, что империалисты обошли Союз, не зная как это объяснить, ведь до того советская космическая наука и промышленность, казалось, ушли далеко вперед. Ольга Ивановна попыталась высказать свою точку зрения, что де умер гениальный конструктор Королёв, и потому дело застопорилось. Алексей отреагировал по-советски:
– Что, у нас кроме Королева ученых нет, заменить, что ли нельзя? Нет, тут наверняка какое-то вредительство, или шпионаж.
– Поэты у нас тоже есть, а второго Пушкина нет, – назидательно проговорила Ольга Ивановна. – Так и тут. К тому же Королев успел в царской гимназии поучиться, а те, кто его заменили, видимо, советские школы кончали, а это далеко не одно и то же. И вообще успех американцев это такое же достижение всего человечества, как и полет Гагарина и не имеет большого значения в капиталистической или социалистической стране он достигнут, – из нее, из-под «маски», вдруг «полезла» непримиримая белогвардейка, и даже в какой-то степени космополитка.
Подобные споры и несовпадения взглядов, возросли в «геометрической прогрессии», после того как Ольга Ивановна сняла «маску», и в конце концов, сделали пребывание супругов в одной квартире просто невыносимым. Расстались спокойно без скандала, как только у Алексея появилась возможность уехать к родителям в Барнаул. Ольга Ивановна тоже устала от сосуществования с человеком, с которым не имела ничего общего, кроме сына. Их уже не сближала даже постель. Сейчас к старости она вдруг поняла, какая это важная составляющая супружеских взаимоотношений – хотеть друг друга. Через толщу времени и пережитого она вспоминала, как ей иногда нечаянно случалось видеть свою мать, прижимающуюся к возвращающемуся вечерами со службы отцу. Тогда девочкой она не все могла понять, но сейчас осознавала, что мать прижималась к отцу бедрами, животом, а крупная ладонь отца в это время трогала мать там где, казалось, трогать было неприлично. Она помнила родителей уже сравнительно немолодыми, и только теперь понимала, как же их влекло друг к другу в молодости. Ничего такого в ее взаимоотношениях с Алексеем не было даже в первые годы замужества, когда он еще верил в «советско-детдомовское» происхождение своей молодой жены. То, что их в общем-то никогда особо не тянуло друг к другу «телесно», это не казалось чем-то ненормальным, ведь вокруг очень многие супружеские пары жили именно так. Редко кто сохранял запал «медового месяца» уже на втором году семейной жизни. Куда чаще, чем любовь или даже просто физическое влечение, людей к замужеству понуждали обстоятельства. Так случилось и у Ольги с Алексеем, ей хотелось поскорее сменить фамилию, к тому же подталкивал обычный женских страх – остаться старой девой, вековухой. Алексей же преследовал свои цели. У Ольги как у молодого педагога имелась своя комната в семейном общежитии, а он намучился жить в одном помещении с несколькими холостяками, где нередко устраивались пьянки. Он очень боялся в такой компании спиться, или «словить» нож по пьяному делу. К тому же тогда ему молодая серьезная учительница, казалась подходящей невестой, которую не стыдно привезти и показать родне.
Ольга Ивановна, несчастливая в семейной жизни, сама при случае наблюдала, как развиваются отношения между современными молодыми людьми. Как и в годы ее молодость, за этим процессом в пролетарской среде смотреть было неинтересно, здесь все было «поставлено» грубо, пресно и однообразно-примитивно. Обычно где-то случайно по-пьяни переспали, если она оказывалась беременной, родители девушки приходили к родителям парня, дескать, девка «залетела», надо жениться. Вот и вся любовь. И так получалось в самом лучшем случае. Бывало, что девушка «залетала» от «проезжего молодца» и либо делала аборт, либо становилась матерью одиночкой. Интеллигентной молодежи в поселке насчитывалось совсем немного, потому Ольга Ивановна так внимательно и с интересом следила за взаимоотношениями Елены и Николая. Старший лейтенант ездил к Лене регулярно с периодичностью раз-два раза в неделю. Его частенько видели у нее в комнате, в общежитии для молодых специалистов. Что молодая «англичанка» знает себе цену, говорило уже то, что она не стала «размениваться» на местных рабочих парней. В то же время ходили слухи, что с Николаем она себя держит более чем раскованно. Кто-то из учителей вроде бы даже мельком видел, что он «зажимал» ее после уроков прямо в кабинете английского языка. Та учительница прилюдно возмущалась: как можно, в школе, ведь ученики увидеть могут. Ольга Ивановна тогда промолчала, ибо не осуждала ни её, ни его. Если бы в годы ее молодости было бы поменьше этого официального ханжества, может быть и она бы насторожилась: а почему это её парень совсем не выказывает никакого желания где-нибудь в укромном месте «прижать» её, или положить руку на ее колено, когда они, например, сидели рядом в полутьме кинозала и смотрели фильм. Может быть, задумалась и поняла, что не она более всего прельщала тогда, мучившегося от сожительства в одном помещении с пьяницами-пролетариями, электротехника Алексея Байкова, а ее отдельная комната. Со временем она уже стала забывать, что и сама преследовала далекие от «прекрасной любви» цели. Сейчас она искренне белой завистью завидовала Елене, ее таким естественным и раскрепощенным отношениям с парнем. Ольга Ивановна только боялась, что та может потерять голову и потом горько пожалеть. Она давно уже хотела ее предостеречь, но не решалась: еще подумает, что старая разведенка хочет помешать ее счастью.
В отношении, так сказать, между полами, Ольга Ивановна как педагог наблюдала большую перемену по сравнению с 50-ми и 60-ми годами. Официальные нормы морали, которые советская власть определила для «простого» населения, все больше уступали свои позиции. Та же девушка ударница, трактористка, крановщица, штукатурщица, маляр, целинница… в платке и спецовке, то что пропагандировали в 50-х, или комсомолка, студентка, спортсменка, вошедшая в моду в 60-х, все это в 80-х уже «не смотрелось», как не смотрелись и обэкраненные сверх целомудренные взаимоотношения тех лет. Все это подготовило почву для проникновения в среду советской молодежи веяний мировой моды. Если короткие юбки и купальники-бикини шестидесятых годов, как правило, не доходили до глубокой провинции, то в восьмидесятые уже повсеместно входили в моду все более открытые и обтягивающие одежды, особенно у женщин. Впрочем, Ольга Ивановна имела возможность видеть в этом не какое-то новшество, а восстановление несколько в иной форме того, что уже имело место в прежней российской жизни. Сейчас девушки, где только могли с любыми переплатами доставали облегающие джинсы, щеголяли в кофточках без бюстгальтеров, начиналась мода на оголенные пупки. Летом на водохранилище, где имелись и дома отдыха, и турбазы приезжало много отдыхающих, как из Усть-Каменогрска, так и из других мест и одевались те отдыхающие не только девушки, но и женщины весьма и весьма откровенно. Впрочем, в Новой Бухтарме по улицам поселка ходить в тех же купальниках было не принято. А вот в Усть-Каменогрске Ольга Ивановна такое видела. Как раз на той самой набережной «Красных горных орлов» в июле месяце этого года, когда она там была. В жаркие солнечные дни молодые девчонки, загоравшие на «омутах», в пересохшем русле Ульбы, в одних купальниках поднимались прямо на набережную и прогуливались по ней, демонстрируя свои фигуры, и не одна-две, а много, десятки. На них смотрят парни, мужчины… а им хоть бы что, и никто, даже старики не делали им замечаний. И она не сделала…
Смешанные чувства тогда испытала Ольга Ивановна. Как педагог, она вроде бы осуждала, но опять же не могла не испытывать и определенного чувства зависти. Хотя, чему завидовать, тому, что эти девчонки родились позже её, в другое время, не голодали в детстве так как она, им нет необходимости приспосабливаться, как приспосабливалась она, и потому в основном они имеют и хорошие фигуры и возможность их показать, а главное на них не давит никакой моральный груз прошлого. Ведь их матери, наверняка, тоже прожили и в голоде, и в определенном страхе, и уж наверняка бы никогда не решились выйти на улицу в таком виде. С таким же основанием она могла завидовать и собственной матери, которая, несмотря на все то, что с ней случилось в Гражданскую войну, и на мучительную гибель в лагере… Она все же успела пожить настоящей, счастливой жизнью, о которой только может мечтать женщина. Она была красавицей, была любима, носила дорогие украшения, ходила в шикарных, самых модных в те годы нарядах, не боялась и не стеснялась оголять грудь и спину, даже когда ей было уже за сорок лет. А недавно Ольга Ивановна узнала от Анны Макаровны, что ее мать и в Усть-Бухтарме, будучи совсем юной, «форсила» от души. Переодевалась в мужскую казачью одежду и во весь опор скакала на коне, каталась на лыжах прямо с крепостного вала, а на нее тихо под нос гундели тогдашние старики и старухи, кто же посмеет вслух ругать атаманскую дочь. Зато вся молодежь смотрела на нее с восхищением, а дети, особенно девочки – боготворили свою отчаянную и прекрасную учительницу… «Господи, ведь не только у меня, у целого поколения, да не у одного, отняли нормальную, естественную жизнь эти уроды, заставили вместо любви, устройства семейного уюта, который объявили мещанским пережитком… Вместо этого фактически насильно погнали миллионы людей перекрывать реки, форсированно строить уродующие природу предприятия, распахивать Целину, сидеть и мучиться по гарнизонам и «точкам» военных. И все это ради того, чтобы в конце концов люди опять пришли к тому же от чего их отвращали, к естественным человеческим ценностям…».
Как это не покажется странным, в СССР нередко демонстрировали западные фильмы. Для проката закупались в первую очередь те, которые, по мнению руководства страны, рассказывали о «тяжелой» жизни трудящихся на Западе. Не ставили препонов и историческим кинолентам. Их демонстрировали, как по телевидению, так и в городских кинотеатрах, поселковых и деревенских клубах. На Ольгу Ивановну особое впечатление произвел показанный в конце семидесятых годов в поселковом клубе английский фильм «Леди Каролина Лем». Потом эту киноленту гневно раскритиковали в советской прессе. Дескать, не может быть великий поэт Байрон тем, кем он показан в фильме: гулякой, нечестным и аморальным типом. Такое же возмущение царило и среди педагогов ново-бухтарминской школы. А Ольга Ивановна со своим «обзорным зрением», напротив, про себя удивлялась тому, что английские кинематографисты не побоялись показать своего национального гения таким, каким он был на самом деле, и не стали писать с него «икону». Это говорило о полной свободе мышления и отсутствии всякой предвзятости, до чего советской интеллигенции, в первую очередь творческой, было еще очень далеко. А вот фильм знаменитого французского режиссера Бюнуэля «Скромное обаяние буржуазии» закупили и запустили в советский кинопрокат явно с целью заклеймить позором ограниченных, глупых, примитивных западных буржуа, все интересы которых ограничиваются только плотскими удовольствиями. Режиссер, конечно и ставил такую цель, но он явно не рассчитывал на советского зрителя, замученного продовольственным и промтоварным дефицитом. И на него в первую очередь впечатление производила не духовная деградация западной буржуазии, а красивые загородные дома, обилие пищи на званых обедах, что в фильме показано с таким «смаком», для женщин в первую очередь изысканные наряды от кутюр. То есть то, чего советские люди были напрочь лишены. Потому они не столько возмущались, сколько неосознанно завидовали и мечтали о такой жизни. Ольга Ивановна все это вполне могла объяснить, ведь она в отличие от окружающих примерно такую жизнь видела в детстве, воочию.
В пятницу, когда подходили к концу занятия второй смены, Мария Николаевна позвонила в школу и попросила Ольгу Ивановну зайти к ней после уроков. Идя в Поссовет, Ольга Ивановна думала, что подруга задержит ее не на долго. Но та, чем-то сильно озабоченная, предложила ей снять пальто и присесть…
– Слушай Ивановна, ты баба умная, хочу с тобой посоветоваться, – сразу без обиняков начала председательница.
– О чем? – недоуменно спросила учительница.
– Да, есть тут одно дело. Хочу тебе тайну открыть. Впрочем, какая там тайна, через несколько дней о ней все узнают… Меня в понедельник вызывают в Устькамань в облсовет, официально вроде бы для ознакомления с материалами сессии Верховного Совета Казахстана. Ты в курсе, что сейчас в Алма-Ате проходит сессия Верховного Совета, а на следующей неделе открывается очередной пленум ЦК компартии Казахстана?
– Вообще-то читала в газете, но я как-то никогда за такие события не переживаю, – с иронией в голосе отвечала Ольга Ивановна.
– Так вот на пленуме, возможно, Кунаева снимать с должности будут, – не обратив внимания на тон подруги, сообщила Анна Николаевна. – И нас, всех городских и поселковых руководителей по этому поводу хотят проинструктировать.
– Неужели, вот те на, я вас не узнала, как говаривали казачки в линейных станицах Сибирского казачьего войска, – вновь несерьезно усмехнулась Ольга Ивановна. – Что-то не верится, обычно их с таких постов только вперед ногами выносят.
– Горбачев, вроде, им сильно недоволен. И будто на его место русского ставить будет, – заговорщецки понизила голос председательница.
– Они что?… Нет, быть не может, это же для казахов такая обида, – сразу стала серьезной Ольга Ивановна.
– Вот и я о том же думаю. Пожалуй, единственно, что у нас в Казахстане более или менее хорошо, так это с межнациональными отношениями. Я когда на всякие там активы и совещания езжу, и в Алма-Ату и другие города… ну ты же знаешь. И вот что я тебе хочу сказать – спокойствие это обманчиво. В нашей области этого внутреннего напряжения не чувствуется потому как здесь семьдесят процентов населения русские. А вот на юге, особенно в Чимкенте, казахи часто уже в открытую выражают недовольство, – по прежнему вполголоса сообщала председательница.
– Что ты имеешь в виду, какое недовольство? – заинтересовалась Ольга Ивановна.
– Обижаются они, что в Союзе их за равноправных не держат. Дескать, мы по экономическому потенциалу третья республика в Союзе, а в Центре нас как считали полудурками, так и считают, во всем обходят и накалывают.
– И где ж это их так сильно обошли?… Хотя, если, конечно, подумать основания для таких мыслей есть, – вслух размышляла Ольга Ивановна.
– Тут и думать особо не о чем. Вон, даже у нас, в такой промышленно развитой области, как сильно за последние несколько лет снизился жизненный уровень. А я ведь сама видела, в других областях еще хуже. И самое непонятное, почему во многих других республиках люди живут заметно лучше, чем у нас. Казахи, которые борзые, считают, – это от того, что их лидеры имеют слишком мало веса в высшей партийной иерархии, в Москве. В Политбюро и ЦК один Кунаев, да и то разве что числится, а грузин, армян, украинцев полно и все они там вес имеют. Алиев, азербайджанец, очень большой вес имеет, и все они как могут своим республикам помогают. Сама подумай, тот же метрополитен везде есть и в Баку, и в Тбилиси, и в Ереване, и в Минске, на Украине аж в нескольких городах, даже в сейсмоопасном Ташкенте построили, а до Алма-Аты все очередь никак не доходит. Интеллигенция казахская очень обижается, что их ученых, артистов зажимают на общесоюзном уровне. Я сама слышала, как они в разговоре меж собой возмущались, почему Днишева в Большой театр не приглашают, на стажировки за границу не посылают, дескать, чем он хуже Соткилавы. Как ты думаешь, я в этом особо не разбираюсь, но вот слушала и того и другого… мне показалось, что Днишев действительно поталантливее будет. Тем не менее, казах в Алма-Ате безвылазно сидит, а грузин в Москве в Большом, в заграничные турне ездит, – в голосе и самой Марии Николаевны слышались нотки возмущения.
– Что ж тут удивительного, – Ольга Ивановна бесстрастно пожала плечами, – действительно в Москве у многих союзных республик есть свое лобби, а у казахов его фактически нет, вот и весь ответ. И дотации, и снабжение и места для своих в той же Москве они же и выбивают.
– Да я это и сама понимаю. Но почему-то там, – Мария Николаевна ткнула пальцем в потолок, эти кремлевские мечтатели до сих пор думают, что казахи такие же чурки, что были пятьдесят или хотя бы двадцать лет назад, что все эти несправедливости будут по-прежнему терпеть молча. Вот попробовали бы в Грузии, или Азербайджане поставить первым секретарем не своего, да и в других республиках. А здесь вон чего хотят учудить. Может так случится, что добром эта затея не кончится, и мы, русские, здесь в Казахстане как заложники окажемся, в результате этой топорной межнациональной политики. Ох, боюсь я, прямо сердце не на месте.
– Ты, что, за Свету переживаешь? – догадалась Ольга Ивановна, что подруга боится за дочь, студентку-второкурсницу КАЗГУ, находящуюся в данный момент в Алма-Ате.
– Ну да… она же там, в общаге университетской, вокруг одни калбиты и калбитки, кто ее там защитит, если что, – в глазах председательницы читалась нешуточная тревога.
– Да Маша… понимаю я тебя. Действительно, обстановка сейчас не для таких экспериментов. Народ от этого продовольственного и промтоварного дефицита устал, озлоблен, даже такие терпимые и спокойные как казахи взорваться могут…
17
Брежневское правление многие воспринимали в 80-х годах с ностальгическими чувствами. Казалось, что при нем имели место определенная стабильность. Где-то до семьдесят пятого года хоть и потихоньку, но рос уровень жизни. А что еще нужно обычному среднему человеку, обывателю? А обывателей в любом более или менее цивилизованном обществе абсолютное большинство. И если бы и дальше приоритетом внешней и в первую очередь внутренней политики для советского руководства стало незначительное потрафление интересам обывателя, позволили ли бы ему и дальше обрастать личными машинами, дачами, благоустроенными квартирами, коврами, хрусталем, и главное, решили бы задачу прокорма тех же обывателей, чтобы у них имелось достаточно разнообразной еды… Но, почему-то эта политика, проводимая с середины 60-х, до середины 70-х, с ослаблением здоровья и работоспособности генсека, была его «ретивым» окружением скорректирована в сторону повышения расходов на внешнеполитическую экспансию и гонку вооружений. Эти «мероприятия» в какие цвета их не крась, и под каким «соусом» не подавай, всегда интересам обывателя чужды, ибо очень дорогостоящи и опасны, своего рода игра с огнем. В конце концов доигрались до афганской войны, которая в основном и сожрала обывательские мечты о машине, даче, квартире… о сытой спокойной жизни.
В рабочих поселках особенно тяжело стоял продовольственный вопрос, ибо туда все доходило в последнюю очередь. Но по союзным республикам рабочие поселки распределялись крайне неравномерно. Особенно много их насчитывалось в России, на Украине, Белоруссии, Казахстане. Но Украина имела благодатный климат и как следствие развитое пригородное сельское хозяйство, сравнительно богатые колхозы и совхозы, которые были обязаны продавать большую часть сельхозпродукции внутри республики. Белоруссия сильного и авторитетного лидера в лице Машерова, который много делал для улучшения снабжения своей республики, а после его гибели в автомобильной катастрофе уже налаженное «дело» продолжили его ученики-последователи. А вот в России и Казахстане… Впрочем, в России очень резко своим снабжением выделялись Москва и Ленинград, которые посредством «продовольственных» электричек подкармливали и прилегающие к ним области. Областные города «кормились» значительно скуднее, причем чем дальше на восток тем хуже, ну а что касается рабочих поселков и малых городов снабжение там в 80-х годах стало совсем плохое. В Казахстане в это время, пожалуй, только Алма-Ата оставалась более или менее сытой. Тем не менее, внешне в республике наблюдалось относительное спокойствие, стабильность. Более того, в отличие от населения ряда других союзных республик, где в основном тайно, а кое-где и явно, многие мечтали об выходе из состава СССР и обретении независимости… Среди казахов таких настроений, как правило, не прослеживалось. Подавляющее большинство не только властьпридержащих номенклатурных деятелей, но и простых людей были полностью лояльны советской власти и о выходе из Союза не помышляли.
Ольга Ивановна по путевкам РОНО два раза ездила отдыхать в санатории. Первый раз в Абхазию, второй в Фирюзу под Ашхабадом. Там она воочию убедилась, что к советской власти и русским тамошние жители испытывают куда большую «аллергию» чем казахи. Абхазы были злы как на русских, так и на грузин, хотя при этом жили намного лучше, чем в среднем по Союзу и считали это само собой разумеющимся. По неофициальным подсчетам в Грузии вообще, и в Абхазии в частности насчитывалось во много раз больше чем в среднем по Союзу личных автомашин, личных домов, как правило больших и в хорошем состоянии, и подпольных миллионеров на душу населения. И с едой там было все в порядке. В нищей и полуголодной России ходила поговорка: русский всю жизнь работает, чтобы купить «Запорожец», еврей год, чтобы купить «Жигули», грузин неделю, чтобы купить «Волгу». И хоть грузины с абхазами жили лучше всех в Союзе, жизнью своей большинство из них были явно не довольны, им хотелось жить еще лучше. И те и те искренне считали, что этого им не позволяют русские и потому ненавидели их почти так же как друг друга. Ненависть друг к другу у них очень часто изливалась в форме изнасилования «враждебных» женщин. Насилуя друг друга, и те, и те не упускали случая изнасиловать русскую. С этой целью местные молодые люди нападали на отдыхающих «дикарями» семейные пары. Пострадавшие если даже обращались в насквозь продажные местные органы правопорядка, то ничего не могли доказать. Безопасно отдыхать там было возможно только в ведомственных санаториях, хотя изредка случались пострадавшие и среди санаторных отдыхающих. Ольга Ивановна побывала в Абхазии во время громкого процесса над местными джигитами, которые решили не ограничиться насилием над рядовыми отдыхающими, а покусились на дочь большого московского прокурорского чина. Она проводила медовый месяц вместе с молодым супругом в ведомственном санатории. Уверенные, что столь высокое покровительство обезопасит их и на Кавказе, молодожены, в общем, вели себя довольно развязно. А кавказские джигиты, как правило, от представителей других наций такого не терпят, развязными и наглыми, имеют право быть только они – их так воспитывают с детства. Они избили мужа, а молодую жену, как водится, изнасиловали втроем на его глазах… Невероятно, но московский чин не смог тягаться с местными подпольным миллионерами, ибо среди тех джигитов оказались их сыновья. Эти «мандариновые» короли сумели с потрохами купить кого надо в Москве, не говоря уж о местных милиции и прокуратуре. По решению суда насильникам дали всего по два года условно.
Именно тот памятный отдых в Абхазии позволил Ольге Ивановне обнаружить определенное лицемерие в творчестве известного советского писателя, абхаза по национальности Фазиля Искандера, ставшего в восьмидесятых годах очень модным. В своих многочисленных автобиографических повествованиях о мальчике Чике, он вполне осознанно допускал такие сцены, когда, например, тот же Чик на морском пляже кидает втихаря камешки в загорающую толстую тетку. О том, что отдыхающая тетка русская, не говорится. Но кем же, еще могла быть загорающая на пляже в Сухуми. И та, по всему уже далеко не юная женщина, по мнению писателя, от этого получала большое удовольствие. Автор «оставлял за скобками» уверенность в том, что тупой, воспитанный в духе «марксизма-интернационализма» русский читатель никогда не догадается, что в свою абхазскую немолодую женщину Чик никогда кидаться камешками не будет. Для абхазов и прочих кавказцев это страшное оскорбление, чреватое кровной местью, а для простых невластьимущих русских нет, их и не так оскорблять можно, причем совершенно безнаказанно.
В Туркмении имела место несколько иная ситуация. Туркмены выказывали крайнее недовольство тем, что поселившиеся в республике русские далеко не всегда уважают их обычаи и, наоборот, живут лучше, чем местные. А многодетные туркменские семьи, которых в республике было очень много, еле сводили концы с концами, а в некоторых вообще голодали. Ольга Ивановна знала, что подобная ситуация имела место и в Таджикистане, и в Узбекистане. В этих республиках политика союзного центра на выделение лучших земель под хлопчатник привела к тому, что собственное производство продуктов питания не покрывало потребностей быстрорастущего населения. Таким образом, Казахстан оставался в Союзе одним из немногих островов относительного межнационального согласия. Казахи в своем подавляющем большинстве терпимо относились, и к русским, и к прочим населяющим республику народам: немцам, корейцам, татарам, уйгурам… Обстановку, правда, напрягали чеченцы и турки-месхетинцы, высланные в Казахстан так же как немцы и корейцы в годы Великой Отечественной войны. Они не все вернулись на Кавказ после хрущовской реабилитации, а продолжали жить там же, куда их выслали при Сталине. В местах их компактного расселения всегда возникали очаги межнациональной напряженности, ибо и они ни с кем не могли ужиться, и с ними никто. Но этих чрезмерно «горячих» горцев насчитывалось сравнительно немного, и потому можно было с полным основание говорить, что в республике царили относительные порядок и спокойствие.
Почему, зачем надо рисковать разрушить этот мир, тем более, что Казахстан действительно один из трех важнейших вместе с Россией и Украиной, если можно так сказать, «краеугольных камней» в фундаменте Советского Союза? Неужели не понимает этого Горбачев и прочие члены Политбюро? К тому же казахи очень терпимая нация, терпимее не только известных своей несдержанностью народов Кавказа, они терпимее прибалтов и среднеазиатов, где русских в лучшем случае недолюбливают, терпимее «западенций» на Украине, где «москалей» многие откровенно ненавидят. Все это казалось настолько нелепо, что Ольга Ивановна до конца не могла поверить Марии Николаевне. И в самом деле, неужто то, что видит председатель какого-то занюханного Поссовета, не видят в Кремле, в Политбюро, все эти люди, сделавшие головокружительную карьеру, возглавившие огромную сверхдержаву, руководящие почти тремястами миллионами людей, к мнению которых прислушивается весь мир?… С другой стороны, если все так, ей бы радоваться, осознавая очередную фатальную ошибку, которую готова была совершить та самая власть, что беспощадно уничтожила ее предков, сломала жизнь ей самой. Но радости не было. Какая-то внутренняя интуитивная тревога за будущее щемила сердце. Она помнила, как переживали за все, что творилось в Советской России, особенно во время войны ее родители, также имевшие все основания ее ненавидеть, помнила большую карту на стене в гостиной, на которой отец регулярно отмечал изменение линии фронта, как он радовался, когда немцев разбили под Сталинградом. Видя радость родителей, радовалась той победе и она, восьмилетняя ученица 2-го класса харбинской гимназии. Да, родители ненавидели советскую власть, но очень переживали за страну. То же самое сейчас ощущала и она. В то же время Ольга Ивановна видела в окружающих ее людях в основном полную апатию. Они все воспринимали с полнейшим равнодушием, лишь тихо ропща на кухнях, все – и недостаток товаров, продовольствия, и гробы из Афганистана. Казалось, так же спокойно они воспримут и гибель страны. Ни относительно сытые грузины с армянами и азербайджанцами, ни полуголодные узбеки с таджиками, а главное, не станут спасать страну и русские с украинцами – основные нации Союза, настолько велика была эта усталость, всенародная апатия.
Придя домой после разговора с Марией Николаевной, Ольга Ивановна обнаружила в почтовом ящике плотно набитый конверт. Писал тот самый краевед из Усть-Каменогорска, что нашел в архивных завалах музея записку Бахметьева начальнику тюрьмы:
«Уважаемая Ольга Ивановна! Считаю своим долгом сообщить Вам, что несколько дней назад к нам в город приезжал в творческую командировку писатель из Москвы. Писатель малоизвестный, если не сказать совсем не известный. Тем не менее, за какие-то заслуги его удостоили членством в Союзе писателей. Так вот, он собирал материал для своей новой книги, а пишет он как раз о коммунарах, присланных сюда Лениным в 1918 году. Доехать до Коммунарского у него духу не хватило, но у нас он поработал весьма плодотворно, излазил все архивы, и конечно посетил краеведческий музей, побывал на заседании нашего Общества краеведов. Одним словом, пытался разжиться информацией на халяву. Но это у него не получилось, пришлось ему потратиться на ресторан, ну, а я под шумок упросил его показать те материалы, что он здесь собрал, особенно в областном КГБ. Представляете, нас туда на порог не пускают, а ему пожалуйста. Вот что значит Москва и корочка Союза писателей. Кое какие из тех материалов, думаю, должны Вас заинтересовать, ведь судьба ваших родственников тесно переплетена с судьбой тех коммунаров…»
Ольга Ивановна обычно придя после работы домой первым делом разогревала ужин, но сейчас увлеченная чтением письма забыла обо всем.
«… Так вот, главными героями в книге этого писателя должен стать председатель коммуны Грибунин, его жена и дети. Повествование, конечно, предполагается выдержать в героических тонах. Но, исходя из тех материалов, что ему удалось собрать, из Грибунина героической личности никак не получается. Тут вскрывается весьма странная история с оружием и боеприпасами, которые в немалом количестве привезли с собой коммунары. Получается, что все это оружие аж до конца 1919 года лежало в земле спрятанное и не стреляло, хотя потребность в нем у местных красных партизан все это время была острейшая. Почему Грибунин, пока был жив, так никому и не открыл место его хранения? Тут можно только гадать. В то же время из КГБешных архивных документов становится ясно, что небезызвестный Бахметьев, руководивший уездным большевистским подпольем, имел связь с Грибуниным, неоднократно приезжал к нему. И опять вопрос, почему оружие так и не попало к партизанам, до самой гибели председателя коммуны. Лишь в ноябре 1919 года, когда Колчака уже фактически разбили, оно было отрыто и передано в отряд «Красных горных орлов». А после восстановления советской власти в Усть-Каменогорске Бахметьев, будучи членом УКОма партии и заведующим отделом народного образования, а также редактором уездной газеты «Советская Власть», совмещая столько должностей, то есть будучи человеком очень занятым, он в тоже время принимал самое живое участие в судьбе Вашего деда, заключенного в крепости, как раз по делу о расстреле коммунаров. Несомненно, здесь есть какая-то связь. Какая? Об этом тоже можно только гадать. Может быть вам там, на месте, в разговорах с усть-бухтарминскими сторожилами удастся что-то выяснить по этому поводу и пролить дополнительный свет. Со своей же стороны не могу удержаться, чтобы сообщить вам еще ряд фактов, которые мне удалось выведать у этого писателя. Прослеживая судьбы героев своей будущей книги, он доподлинно разузнал, как сложилась дальнейшая жизнь жены председателя коммуны Лидии Грибуниной и ее детей. Она сначала работала в уездном отделе образования и всячески пыталась скомпрометировать и видимо «подсидеть» Бахметьева. В КГБшном архиве обнаружено несколько ее докладных записок, где она обвиняла его в том, что тот тормозит начало судебного процесса над убийцами ее мужа и более того пытается выгородить бывшего усть-бухтарминского атамана Фокина, то есть вашего деда. Именно эти докладные записки, в конце концов, я думаю, и стали причиной того, что Бахметьева освободили со всех его постов и перевели в Семипалатинск на профсоюзную работу, а потом и вообще он подался к себе на родину, на Урал. В то же время, судя по всему, именно Грибунина сумела убедить следователя уездного ГПУ, небезызвестного Вам Кротова, организовать громкое дело и подвести под расстрел как можно больше казаков. Что Кротов в своих карьеристских устремлениях и сделал. В результате расстреляли, как непосредственных исполнителей (таких как ваш дядя), так и не принимавшие никакого участия (как ваш дед). Но и сама Лидия Грибунина карьеры в Усть-Каменогорске не сделала. По всему от нее, как и от Бахметьева, поспешили избавиться. Грибунина с детьми уехали вскоре после приведения приговора в исполнение, но в Петроград вернуться они не смогли. Они поехала на родину мужа в Витебскую губернию к его родственникам. Там она тоже попыталась сделать партийную карьеру, была даже избрана секретарем волостного комитета партии, но то ли не справилась, то ли еще что. В общем, ее перевели заведовать отделом материнства при горздраве. Тем не менее, эта дама как влезла на руководящую работу, так с нее уже и не слезала, но, как я упоминал, большой карьеры не сделала, видимо не помог ни статус вдовы замученного белыми коммуниста-героя, ни наличие редкого по тому времени среди руководящих советских работников гимназического образования. Закончила она не то редактором, не то зам редактора какой-то мелкой областной газетенки. Один из ее сыновей сумел сделать относительно неплохую карьеру в войну, стал полковником, но выше не пошел. Второй стал журналистом, но малоуспешным. Где и когда упокоилась Лидия Грибунина, видимо, главная виновница вынесения несправедливого приговора вашему деду, писатель-москвич так и не выяснил, но доподлинно узнал, что замуж она больше не выходила и, судя по всему, по жизни была очень несчастна. Ну, а что касается второго виновника расстрела вашего деда, Семена Кротова, то о его судьбе вы все знаете. Я поинтересовался у этого писателя и судьбой Бахметьева. Тут вообще полный мрак. Среди наших устькаменогорских исследователей бытует устойчивое мнение, что он стал впоследствии известным писателем Б…, но москвич этой версии не поддержал, сказав что следы Бахметьева теряются после его отъезда из Семипалатинска и никакого отношения к Б… он не имеет…».
Ольга Ивановна читала письмо и перед ней проходили картины жизни вроде бы совсем посторонних людей, этой женщины и неведомого ей Бахметьева, ставших такими же песчинками в те далекие времена, когда социальный шторм кого-то бросал вверх, кого-то вниз, кого-то губил и мало кого осчастливил.
18
Перед выборами депутатов в поселковые, районные и областные Советы, поселок разбивался на микроучастки, и назначенные школьные учителя обязаны были обойти всех потенциальных избирателей, чтобы уговаривать их в день выборов прийти в поселковый ДК и «отдать» свой голос. Конечно, результаты тех выборов предопределялись заранее, но явка избирателей должна быть почти стопроцентной, и чтобы процесс голосования проходил как можно быстрее. Такой ерундой занимались по всей стране, играя в «скоростные» выборы, при этом повсеместно именно на учителей возлагали обязанности самодеятельных агитаторов. Ольга Ивановна ввиду своей «неблагонадежности» на эти и многие другие подобные мероприятия, проводимые, как правило, в выходные дни (не с уроков же снимать учителя), в последние годы не задействовалась и, вдруг, неожиданно для себя, осознала, что учитель, это не такая уж «каторжная» неблагодарная работа. Если заниматься только тем, чем собственно учителю положено, то есть давать уроки, и проводить чисто внутришкольную работу, то оставалось достаточно свободного времени и для отдыха, и для своих личных дел. Увы, это благодатное время наступило слишком поздно, у Ольги Ивановны к этому времени, личных дел почти уж и не осталось, и она… Она с субботы обычно сидела дома, смотрела телевизор и прочитывала накопившиеся за неделю газеты.
В субботу 6-го декабря Ольга Ивановна с утра просмотрела программу телепередач в областной газете «Рудный Алтай». По алма-атинскому каналу не оказалось ничего особо интересного. Она бы, в общем, не прочь была посмотреть передачу «28» из серии «казахстанцы в ВОВ». Ей, конечно, была хорошо известна официальная версия истории подвига 28 гвардейцев панфиловцев, но… Но наряду с официальной героико-патриотической версией тех событий, она как-то в кулуарах на совещании в РОНО услышала и иную, передаваемую шепотом, на ухо друг другу. То был слух, что данный подвиг всего лишь плод фантазии корреспондента «Красной Звезды». Хотелось бы услышать, как теперь оценивают те события, по-прежнему, или в связи с Перестройкой и Гласностью, внесли некоторое коррективы. Но, увы, передача шла на казахском языке. Такова была специфика всех республиканских каналов в союзных республиках: часть передач шло на так называемом языке коренной национальности, а часть на русском. Так же по Алма-Ате регулярно шли передачи «Диалектика обновления». Эта и прочие, так называемые «перестроечные» передачи шли строго на русском, но Ольге Ивановне уже успела от них так устать, что не могла смотреть и слушать эту пустопорожнюю галиматью. Все новостные передаче по Алма-Ате тоже смотреть не имело смысла, они в основном дублировали таковые же передачи московского канала. Как всегда московская программа оказалась куда насыщеннее и интереснее. Здесь фильмом «Сестры» начиналась трилогия по роману Алексея Толстого «Хождение по мукам». Этот фильм Ольга Ивановна смотреть не хотела, по причинам неприятия самой личности писателя и его творчества. А вот соревнования по фигурному катанию на приз газеты «Московские новости» она как раз смотреть собиралась, ибо считала фигурное катание не столько спортом, сколько искусством. И особый интерес у нее вызывала начинающаяся вечером в полдевятого передача «Семья Лакшиных говорит с Америкой» из серии «Правда из первых уст». А пока что Ольга Ивановна принялась просматривать газеты за неделю. Так же как и неинтересные телепередачи, она пропускала всевозможные официозные газетные статьи. В них, как правило, говорилось одно и то же. Слегка задержалась на передовице «Казахстанской правды» от 3-го декабря. В ней сообщалось о начале работы сессии Верховного Совета Казахской ССР, и приводился текст доклада председателя президиума Макашева. Выступление изобиловало общими, трафаретными фразами: «Близится к завершению стартовый год год двенадцатой пятилетки, ознаменованный претворением в жизнь выработанной апрельским 1985 года Пленумом ЦК КПСС и одобренный 27 съездом партии курса на ускорение социально-экономического развития нашей родины…». В «Казахстанке» за 4-е декабря, все в тех же восторженных тонах сообщалось о принятом на сессии Верховного Совета законе о государственном плане развития Казахской ССР на 1987 год, где рост национального дохода определялся на 4,3 %, а промышленного производства на 4,5 %. Ольга Ивановна регулярно читая про все это «громадье планов», как общесоюзных, так и республиканских, долго не могла понять, как при таких цифрах развития, которые если верить официальной советской статистики были выше чем в США и прочих странах Запада, Советский Союз все никак не мог догнать и тем более перегнать их по уровню жизни. Со временем, опять же, благодаря тесному знакомству с председательницей Поссовета, она стала это понимать. Понимать, что цифры те «хитрые», и определяются в первую очередь ростом оборонной промышленности, что все эти миллионы тонн стали и прочих металлов идут не на что иное, как на производство танков, гаубиц, ракет, атомных подводных лодок и так далее. Все это не будешь есть, и во все это не оденешься, это производство не дает никакой отдачи, ибо ведет только к росту с последующим складированием вооружений. Так неужто, «там наверху» и сами не задаются очевидным вопросом: если по цифрам все так хорошо, почему же в магазинах одна вермишель и минтай?
Нет, Ольга Ивановна давно уже вполглаза пробегала весь этот официоз и останавливалась только на том, что ее заинтересовывало по-настоящему. В той же газете не могло не вызвать интерес сообщение о том, что в Чимкенте начал действовать один из первых в республике кабинетов по обучению пользованием персональных ЭВМ, оснащенным отечественными машинами «АГАТ» и «ДВН-2М». Ольга Ивановна уже много раз слышала об этой чудо-машине неофициально именуемой по «западному» компьютером. Все в один голос утверждали, что в Европе и Америке эти компьютеры уже получили широкое распространение, и у нас тоже есть соответствующие разработки. Она слушала и не могла понять… как это набрать на экране монитора текст и потом его можно не стуча часами на пишущей машинке, а просто нажав кнопку распечатать на специальном устройстве в любом количестве. В это невозможно было поверить. В то же время она понимала, что если такое устройство создано, то какой толчок это сулит развитию буквально всего: литературы, науки, искусства, делопроизводства… Ведь это получается, что квалификацией машинистки, печатника сможет при желании овладеть каждый. И тогда буквально каждый сможет иметь в своей квартире собственную типографию, и не только это. Ольгу Ивановну особенно впечатляла возможность именно самой, без посторенней помощи набирать и печатать тексты. В стране, где долгие годы даже печатные машинки гражданам разрешалось иметь только с соответствующего разрешения, людям, не обладающим разборчивым почерком, свои мысли или творческие изыски воплотить весьма сложно. У Ольги Ивановны был очень мелкий и неразборчивый почерк, и хоть официального запрета на приобретение печатных машинок частными лицами давно уже не было, в свободной продажи их тоже не имелось. Так, что самой научиться печатать практически не представлялось возможности, разве что начать выполнять обязанности секретаря директора. И вот она читает, что через несколько лет печатать можно будет с помощью ЭВМ и они будут доступны всем. Нет, в это действительно поверить было трудно. Но если все таки поверить и такое случиться… Тогда она сможет в печатном виде представить уже почти написанные от руки в нескольких толстых общих тетрадях свои мемуары. Она, конечно, хотела их издать, но как где-то в редакции или издательстве показать свои каракули. Даже если и возьмут, половину не поймут. А писать она стала четыре года назад, писать о своей жизни с самого начала, как себя помнила. Писала о родителях, постепенно припоминая все новые эпизоды из своего детства. Писала о детском доме, о приезде в Восточный Казахстан…
Именно заметка о грядущей компьютерной эре отвлекла Ольгу Ивановну от просмотра газет и переключила на «правку» своих мемуаров. Она вдруг вспомнила эпизод из детства, когда родители пригласили в дом какого-то важного для них гостя, приехавшего в Харбин из Шанхая по делам, то ли в Бюро по делам эмигрантов, где работала ее мать, то ли еще по каким-то. Даже она, семилетняя девочка, только что поступившая в гимназию поразилась осанке и суровой мужской красоте гостя. То оказался герой гражданской войны, войсковой старшина Бологов. Тогда ему было примерно столько же лет, сколько и ее отцу, что-то около сорока пяти. Но если отец, давно уже став гражданским человеком, и смотрелся соответствующе, в большей степени приказчиком, коммивояжером, служащим фирмы Чурин и Ко, то Бологов даже гражданские костюм и шляпу, носил как воинский мундир. Нет, это бросилось в глаза не ей несведущей малышке, то потом сказала отцу мать. О чем говорили родители с гостем, она не слышала, ибо её отправили срочно гулять на их широкий, огороженный глухим забором двор. О Бологове она узнала уже в гимназии. Как советских школьников воспитывали на героических подвигах отдельных красных героев, таких как Блюхер, Чапаев, Котовский, то харбинскую молодую эмигрантскую поросль, так же на героях из стана белых. Например, тамошняя русская молодежь имела традицию посещать могилу генерала Каппеля и фотографироваться на ее фоне. И одной из самых ярких личностей, конечно, являлся он, енисейский казак Григорий Кириллович Бологов.
С красными Бологов начал воевать в чине сотника у себя на родине в Минусинске в 18-м году. За исключительное умение управлять вверенными ему подразделениями, он за два года вырос в чине до войскового старшины. Особенно отличился Бологов в самом конце Гражданской войны, когда, казалось, основные части белых были полностью деморализованы. В ходе последнего наступления белых на Хабаровск и Волочаевку, он, командуя дивизионом своих енисейцев, всегда брал верх над красными, даже если противник превосходил их числом и качеством вооружения. Вершиной же его полководческой деятельности стала оборона села Ивановки в сеньтябре-октябре 1922 года, то есть в последние дни существования Белого Приморья. Казачья дружина в количестве 300 человек под командованием Бологова отбила два штурма целой дивизии красных партизан. Красное командование, взбешенное этими неудачами, решило наглядно пристыдить партизан, которые не сумели взять важнейший стратегический узел обороны противника, даже имея более чем десятикратное преимущество в силах. Оно прислало всего лишь полк, но отборный, регулярной Красной Армии, составленный из слушателей курсов младших командиров, который и должен был показать, что значит настоящие красные герои. В том полку каждый пятый являлся коммунистом, а почти все остальные комсомольцами, многие были удостоены отличий и благодарностей от командования, в том числе и личных командарма Блюхера. То был полк – краса и гордость всей Дальневосточной Армии. В нем насчитывалось 900 бойцов и командиров, прекрасно вооруженных и экипированых. В РККА всегда имелись части пользующиеся особым расположением и доверием командования и политотделов. В них шел особый отбор, их лучше вооружали, кормили, одевали. Вот один из таких полков и направили в третий раз брать Ивановку, которая костью застряла в горле победоносно наступающей Красной Армии. Весь день 16 октября красноармейцы с пением «Интернационала» беспрерывно атаковали Ивановку, а потом предприняли и последнюю, ночную атаку. Из девятисот красных бойцов на колючей проволоке перед позициями енисейцев остались лежать и висеть более трехсот человек, но Ивановку им взять так и не удалось. Только после этого красное командование опомнилось и перестало бесполезно губить людей. Они предприняли наступление на других участках фронта и енисейцам пришлось оставить хорошо укрепленное село без боя, чтобы избежать окружения… Когда Ольга Ивановна слышала, частенько исполняемую по радио песню приамурских партизан, особенно ее куплет:
И останутся как в сказке
Как манящие огни
Штурмовые ночи Спасска
Волочаевские дни
…………………………….
Ольга Ивановна с детства знала всю правду о тысячах замерзших под Волочаевкой красноармейцев, и сотнях легших в ту штурмовую ночь в Ивановнке, селе, располагавшемся недалеко от легендарного Спасска. Потому ей эти слова говорили совсем иное, чем прочим советским людям.
От писания мемуаров Ольгу Ивановну уже после полудня отвлек звонок в дверь. На лестничной клетке стоял совершенно ей незнакомый среднего роста пожилой человек. Он представился:
– Я Артюхов Василий Емельянович, главный агроном совхоза «Коммунарский».
– Очень приятно, чем могу быть полезной, – с некоторым недоумением отозвалась Ольга Ивановна.
– Дело в том, – человек несколько помялся, – что девичья фамилия моей матери… Злобина…
19
Совхоз «Коммунарский» создавали в свое время с пропагандистской целью, на землях, где в 1918 году посланцы вождя мирового пролетариата начинали строить свою Коммуну. К тридцатым годам, когда начали организовывать на тех залежных землях колхоз, уже ни питерцев, ни их потомков в окрестных селах почти не осталось. Кто погиб, кто просто умер, другие как-то куда-то рассеялись. Колхоз организовали из случайных людей, и он сначала особенно не преуспевал. К тому же на пойменных землях вблизи Усть-Бухтармы урожаи были заметно выше. Возрождение «Коммунарского» произошло в 60-е, когда колхоз преобразовали в совхоз, а пойменные земли Долины оказались затоплены разлившимся водохранилищем. Теперь уже в «Коммунарском» оказались самые плодородные в Бухтарминском крае земли. Но все равно совхоз особо не «гремел» до начала 70-х годов, когда директором назначили Землянского. Новый директор буквально за несколько лет превратил среднее хозяйство в передовое, где производилось столько сельхозпродукции, сколько в трех соседних совхозах вместе взятых. И это при примерно равных посевных площадях и количестве рабочих. Центральная усадьба совхоза поселок сельского типа «Коммунарский» находился почти в том же самом месте, где когда-то стоял палаточный лагерь питерских коммунаров. Естественно, на центральной площади перед правлением совхоза соорудили обелиск, посвященный коммунарам к которому на 1-е мая и 7-ое ноября возлагались цветы…
– Вы… вы родственник Никандра Алексеевича Злобина атамана поселка Александровский?! – не могла сдержать изумления Ольга Ивановна. – И вы же, главный агроном совхоза «Коммунарский»!?… Что же вы стоите, проходите пожалуйста!
– Представьте себе, да, – Артюхов, настороженно оглянулся на дверь соседней квартиры, за которой послышался шорох и переступил порог. По всему сказывалась привычка многолетнего сокрытия своего истинного происхождения. – Не просто родственник, а самый настоящий правнук. А вы значит… Ну, в общем, про вас я все знаю. Как говориться, слухами земля полнится. Вот, значит, терпел терпел я, а сейчас думаю, если внучка станичного атамана, да еще к тому же и племянница сотника Решетникова, не боится себя назвать и предков не стыдится, так почему же мне… И так почти всю жизнь слова лишнего сболтнуть боюсь. Вот что, Ольга Ивановна, так вас кажется зовут… Я сейчас по делам приехал, мне в ваше совхозное правление надо, один вопрос с Танабаевым решить. Его трактористы видно спьяну под озимые с полгектара наших паров запахали и засеяли. А потом нам бы с вами поговорить, а? Я думаю, нам есть, что сказать друг другу…
Часа через три Артюхов уже сидел в квартире Ольги Ивановны за столом и пил чай с клубничным вареньем из последних подношений.
– Главным агрономом я пять лет назад стал, случайно, благодаря Землянскому. Наш директор умеет отличить толкового работника от пустомели. Когда он стал директором, я простым зоотехником состоял. Он меня приметил и говорит, поступай в институт на заочное. Я в отказ, дескать, какая учеба, семья на руках и четвертый десяток идет, да и не поступить мне, техникум то давно уже кончил, все позабыл, экзамены не сдам. Тогда он мне письмо рекомендательное в сельхозинститут написал, в Омск, который сам кончал. У него там приятели остались и в администрации, и среди преподавателей. Так вот в сорок лет я кое как институт-то закончил, а потом главным агрономом и стал, – не без гордости поведал Артюхов.
– И что, Землянский не интересовался вашим происхождением? – не могла не задать этого вопроса Ольга Ивановна.
– Нет. Да я и сам, как и не помнил, чья дочь моя мать. В графе социальное происхождение писал из крестьян. Мать моя в два года сиротой осталась. Ее отец, то есть мой дед в 19-м погиб, а прадеда в 20-м убили. Бабка из Александровки с мамой моей на руках убежала и под своей девичьей фамилией скиталась. Потом уже в одной кержацкой деревне за тамошнего мужика замуж вышла, все их законы и веру приняла. Ну, а кержаки ее не выдали. В тридцатых ту деревню дико раскулачивали и бабка уже со своей новой родней и оттуда бежали в обычную новосельскую деревню, там осели, и ей в третий раз веру менять пришлось, теперь уже на советскую. И мать моя тоже как положено пионеркой и комсомолкой была, и аккурат за три года до войны замуж вышла, а я в 39-м году родился. Поверите, отец мой только после моего рождения узнал, чьей снохой оказалась его теща, и чья внучка его жена. Но и он молчал, ни я, ни брат пока не выросли, ничего не знали. Воспитывались как положено, октябрятами, пионерами, комсомольцами и были уверены, что наши деды в гражданскую воевали в красных партизанах. А на поверку оказалось, что по линии отца мои предки вообще в гражданскую не воевали, сидели в своей деревне и землю пахали. А со стороны матери дед у Анненкова служил, а прадед поселковый атаман, вместе с вашим дядей коммунаров расстреливал, а потом возглавлял отряд белых партизан, или как тогда все говорили белоказачью банду.
– А вы знаете, как ваш дед погиб? – спросила Ольга Ивановна, пристально глядя на прихлебывающего чай Артюхова.
Тот в ответ взглянул на собеседницу и мрачно улыбнулся:
– Судя по вашему тону и глазам, и вы это знаете. Он погиб, спасая своего командира. А его командир был Иван Решетников, то есть батюшка ваш, верно?
– Верно, – вздохнула Ольга Ивановна и почему-то виновато опустила глаза.
– Это мне мать рассказала, когда я уже вырос. Как обухом по голове мне были все эти ее рассказы. Потом лет десять я в таком вот раздвоенном состоянии жил. Казалось весь насквозь советский, красный, а уж и какую-то червоточинку в себе чувствовал, фильмы, книжки, которым раньше безоговорочно верил, уже по иному воспринимал, истину меж строк пытался выяснить, – допив чай, Артюхов рассказывал историю своего «раздвоения» и как бы избавлялся от какого-то давно уже лежавшего на его душе груза.
– Да, представляю ваше состояние. Тем более сейчас, когда вы во главе огромного передового социалистического хозяйства, правая рука директора-орденоносца. Кстати, а вы сами разве не орденоносец?
– Хитрая вы Ольга Ивановна, – рассмеялся агроном. – Я уж настолько хорониться привык, что на людях о своей материнской родне стараюсь не вспоминать. А вот при вас решил, наоборот, о советских наградах умолчать, а вы не дали… Есть, конечно. В восемьдесят третьем план на сто десять процентов сделали. Ну, Землянскому, «Ленина» дали, а мне «Знак почета». А грамот всяких и благодарностей не счесть и областных, и республиканских, и союзных.
– Вы коммунист? – продолжала «допрос» Ольга Ивановна.
– А как же без этого. Разве может быть главный агроном совхоза беспартийным. А вот то, что вы обмолвились про наш совхоз, как передовое социалистическое хозяйство, то я вам вот что скажу – все это чистой воды липа, – с обезоруживающим простодушием признался Артюхов.
– Как это… липа? – не поняла Ольга Ивановна.
– А так. Все это своего рода бег в мешке. И все мы, директора, агрономы, бригадиры, простые рабочие, соревнуемся в этом беге. Землянский лучше других в этом мешке бегает, вот и все.
– Я вас как-то не совсем понимаю, – выразила недоумение Ольга Ивановна.
– Чего тут понимать, вы и сами отлично знаете, никаких таких преимуществ социализма и коллективизма в ведении сельского хозяйства нет и быть не может. Наша нынешняя урожайность на десять-пятнадцать, а то и на тридцать процентов ниже, чем была до революции. Это я вам как агроном говорю.
– Даже в вашем совхозе? – по-прежнему не верилось Ольге Ивановне.
– Я и говорю конкретно о нашем совхозе, а в других еще хуже. У Танабаева урожайность почти в два раза ниже, чем была не тех же землях у крестьян-новоселов, которых сюда привезли по столыпинской реформе. А если брать пойменные прииртышские и бухтарминские земли, где сеяли усть-бухтарминские казаки, так у них в два с половиной – три раза урожайность была выше, – уверенно констатировал Артюхов.
– Простите, вы так утверждаете. Вы, что специально занимались этим вопросом, и откуда у вас данные о дореволюционных урожаях?
– Как откуда? И очевидцы еще некоторые живы, и есть статистические данные в областном архиве. Вся разница, что тогда урожай в пудах считали и сбор с десятины, а сейчас в центнерах и с гектара. А про ту жизнь я от бабки, пока жива была, успел немало узнать. Удивительное дело, она до 71-го года дожила, кругом уже советская власть больше пятидесяти лет стоит, и Усть-Бухтарму затопили, а она все не могла забыть, как александровские казаки усть-бухтарминским завидовали. Дескать, там и центр волости, и церковь и школа, и почта с телеграфом, и сберкасса при ней, и жили намного богаче и земля лучше…
– Погодите, – перебила Ольга Ивановна. – Я все же никак в толк не возьму. Ваш совхоз, судя по газетам, в среднем собирает по двадцать-двадцать пять центнеров с гектара, верно?
– Официально, да, – кивнул Артюхов.
– Как это официально? – вновь была поставлена в тупик Ольга Ивановна.
– Я вам это после объясню. Вы мне сначала скажите, о чем спросить-то хотели?
– Ну, как, если все так, как вы говорите, что до революции собирали на десять-двадцать процентов больше, то значит средняя урожайность тогда была где-то тридцать центнеров. И это как вы говорите у крестьян новоселов, столыпинцев. А что же тогда в Усть-Бухтарме у станичников было, еще больше, все сорок? Но этого просто не могло быть, при той агротехнике и полном отсутствии минеральных удобрений. Или я что-то не понимаю? – Ольга Ивановна вопросительно смотрела на собеседника.
– Хорошо считаете Ольга Ивановна, не знал бы, что вы филолог, принял бы за математичку, – сделал неожиданный комплимент агроном. – Только вы не учитываете то, что я уже вам говорил, что советское хозяйствование, это не честный, так сказать, бег, а бег в мешке. А теперь об официальных наших двадцати пяти центнерах с га. Их мы собираем благодаря неучтенным полям, которые спрятаны далеко в горах, на самой границе с Лениногорским районом, там есть такие плоскогорья с вполне приемлемой почвой. Но дорог туда нет, ни одна машина не проедет, только трактор или лошадь с телегой. Про их существование не то, что проверяющие инспекторы из обкома не знают, большинство наших рабочих, если даже и слышали, никогда там не бывали. Благодаря этим полям мы и повышаем свою среднюю урожайность. Так же имеем неучтенные стада коров, свиней, овец, благодаря чему легко выполняем, а если захотим, то и перевыполняем план по мясу и молоку. Признаюсь, что тайные неучтенные поля выдумка не сегодняшняя, ее впервые здесь еще в НЭП опробовали, как средство сокрытия от продналога истинного количества засеянного и собранного хлеба.
– А какая же тогда у вас реальная урожайность? – не могла задать уже очевидного вопроса Ольга Ивановна.
– Двадцать, в лучшие годы. А так шестнадцать-восемнадцать.
– И что такая практика применяется и в других хозяйствах?
– Повсеместно.
– Это значит, у Танабаева вообще…
– Да, у него на самом деле 10–12 центнеров на круг собирают, – подтвердил Артюхов.
– Ужас!
– То еще не ужас, настоящий ужас в другом. Тут дело даже не в Танабаеве, а в том, кто его, а до него его отца и деда ставили руководителем земледельческого хозяйства, и превратили их в династию потомственных председателей-директоров, а фактически заставили их заниматься не своим делом. Вы случайно не помните из рассказов ваших родителей, чем занимался дед Танабаева, когда батрачил у вашего деда?
– Признаться нет, я ведь тогда еще девочкой была, и если в разговорах родителей что-то такое и говорилось, то я просто не воспринимала, – виновато пожала плечами Ольга Ивановна.
– А я могу предположить с вероятностью не менее девяноста процентов, он или занимался лошадьми, или пас баранов. Казахи ведь потомственные скотоводы, накопили в этом деле большой опыт, они никогда до советской власти не обрабатывали землю, у них не может быть навыка земледельца, который накапливается в ходе смены многих поколений. Знаете, как Землянский определяет время начала пахоты и сева, он это никому не доверяет, даже мне. Сам едет в поле, берет в руку ком земли, нюхает ее, мнет, трет, чуть не жуёт, а потом только говорит – здесь можно начинать, или, нет, еще не время. Он ведь тоже потомственный крестьянин, его предки в Омскую область по той же столыпинской реформе прибыли, а до того на смоленщине землю пахали. А Танабаев… откуда может быть у него такое чутье. Вообще-то с казахами советская власть по свински поступила, еще хуже, чем цари. При царях-то их степь только по краям обкорнали, посадив там сначала целых четыре казачьих войска, а потом еще и новоселов заселили. А при Советах вообще все лучшие пастбища целинными землями объявили и распахали. Эта целина в будущем еще аукнется. А дали бы им возможность как раньше кочевать, да скот без ограничения держать, они бы, может, всю страну мясом завалили. А хлеб растить… ну не их это дело…
Уже собираясь уходить, чтобы ехать в сгустившихся сумерках домой на совхозном «УАЗе», Артюхов развязал свой рюкзак и достал оттуда большой кусок свиного сала, эдак кило на три:
– Я знаю, что у вас тут в поселке с продуктами туго. Вот хочу в знак уважения и в честь нашего с вами знакомства преподнести такой вот подарок. Может, и не угодил, но что бы я мог еще вам привезти?… Сало хлебное, домашнего приготовления, жена отлично умеет его солить. Свинью только перед октябрьскими праздниками закололи, так что свежайшее.
– Василий Емельянович, да лучшего подарка по нынешним временам, не найти. Действительно у нас тут с продуктами… и говорить не хочется, – Ольга Ивановна в сердцах только махнула рукой, с благодарной улыбкой тут же приняв увесистый презент.
– Надеюсь, теперь мы с вами будем поддерживать связь. Ведь мы, в общем-то, в некотором роде кровная родня. Ведь ваш отец и мой дед кровью породнены, не так ли?
– Да, конечно… вы совершенно правы. Только вот не знаю, как вас мне-то отблагодарить. Господи, совсем из головы вон, – Ольга Ивановна поспешила к холодильнику, где у нее еще оставалось немного яблок, мандаринов, конфет. – Вот примите и от меня, пожалуйста, в подарок.
– Надо же… Чего не ожидал, так это того, что здесь учителей так снабжают. Это вам, что по линии РОНО выделили? Почему же тогда в нашу школу ничего такого не завезли? Наши-то педагоги прямо чуть не плакали, пока мы их на полное совхозное обеспечение не взяли, – Артюхов удивленно таращил глаза на кулек, который ему презентовала в ответ учительница.
– Да, что вы. Какое там РОНО. Это… знаете, у нас тут учатся дети с воинской части, ну что на краю ваших земель располагается. Так вот это мне жена командира той части привезла, – призналась Ольга Ивановна.
– Ратникова Анна Демьяновна?
– Да… Вы ее знаете?
– Ну, как вам… скорее ее мужа. У него с нашим директором давно уже хороший контакт налажен, – Артюхов загадочно-хитро улыбнулся.
– Что вы говорите?
– Да, в уборочную он присылает нам своих солдат, в помощь, ну и мы в долгу не остаемся. Деловой мужик этот подполковник. Начальство его уже столько лет на «точке» маринует, а он не горюет, и времени зря не теряет. Я конечно не совсем в курсе, но наверняка знаю, они с Землянским не одно взаимовыгодное дело провернули. Он, Ратников, тоже не плачет, что ему дали плохой «мешок», он приноровился и в нем бегать…
20
Когда, проводив гостя и вымыв посуду, Ольга Ивановна включила телевизор, там уже заканчивался репортаж о произвольной программе в парном катании. Но на начало передачи «Правды из первых уст», которую очень хотела посмотреть, она успела.
Событие действительно было неординарным. Семья американских врачей Лакшиных, переехали на постоянное место жительства из США в СССР. И вот теперь с их участием устраивали чисто пропагандистскую передачу-телемост, которую с американской стороны вел известный телеведущий Донахью, а из Москвы восходящая звезда советской тележурналистики Познер. Лакшины, видимо, за что-то очень сильно обиделись на Америку. И эта обида буквально выплескивалась из уст, как главы семейства, так и его жены. На вопросы с другого конца телемоста они реагировали заранее запрограммированной антиамериканской риторикой. Американцы, похоже, оказались не очень готовы к диалогу и сведения о жизни в СССР черпали из своих средств массовой информации. Так, одна из участниц с американской стороны, задала вопрос, как теперь Лакшины добывают в Москве пропитание, выстаивая огромные очереди. На это последовал ответ, что в Москве прекрасное снабжение и в очередях они еще ни разу не стояли. На вопрос, чем сейчас занимается доктор медицины Лакшин, глава семейства бойко ответил, что тем же, чем и ранее, наукой, ибо является начальником отдела в одном из московских медицинских НИИ, с окладом пятьсот рублей в месяц…
Ольга Ивановна, глядя на экран, понимала, что Лакшины вовсе не врут. Они на самом деле не стоят в очередях, и сам Лакшин действительно сразу получил высокий пост и соответствующую зарплату… потому, что это им здесь все сразу «дали». Из этих людей «сделали» нечто вроде разменных фигур в большой политической игре, и они, приехав в Союз около года назад, так до сих пор и не поняли, что 99 % населения страны живут совсем не так, даже в Москве, не говоря уж о провинции. Те же его нынешние коллеги, такие же начальники отделов, чтобы добиться своей должности и получать пятьсот рублей, прошли через такое «чистилище», что наверняка ненавидят этого взбалмошного американца, которому все это свалилось просто так. Зарплата в пятьсот рублей, то, что так небрежно было произнесено Лакшиным и, видимо, считалось им не такими уж большими деньгами, ведь рубль по официальному курсу где-то приравнивался к доллару. В США наверняка и они, и многие другие средние американцы имели куда более существенные доходы. Так вот, пятьсот рублей в месяц в СССР получали, если не единицы, то крайне небольшое количество людей. Ольга Ивановна с полной уверенностью могла сказать, что во всем серебрянском районе такой зарплаты не имел никто. Директор цемзавода, самый высокооплачиваемый человек в районе получал где-то 450 рублей, Анна Николаевна, председатель Поссовета – 300, главврач поселковой больницы не более 250-ти. Все эти данные Ольга Ивановна, сама со всей своей педвыслугой, получавшая 200 рублей, знала от Анны Николаевны. Конечно, на уровне обкома и руководства крупнейших усть-каменогорских предприятий зарплаты были куда более весомы, к тому же в СССР имело большое значение к какой «кормушке» то или иное должностное лицо прикреплено. И от качества той «кормушки» качество жизни человека и его семьи зависело даже больше, чем от размера зарплаты. По всей видимости, Лакшины и не догадывались о подобной «градации», разделявшие советских людей на различные «пайковые» категории. Их, видимо, сразу как крайне ценных кадров прикрепили даже не к НИИШной кормушке, где работал глава семейства, а к центральной, кремлевской, и конечно свежеиспеченная «советская» семья не испытывала никаких материальных затруднений, тех с которыми буквально с рождения свыкались подавляющее большинство их новых соотечественников. Потому они, в общем-то, были достаточно искренни, отвечая на вопросы Фила Донахью. Они просто не знали, а может и не хотели знать того, что в действительности творилось вокруг них.
Конечно, московские «кормушки» не чета областным, тем более районным. Ольга Ивановна знала самые «обильные» из районных, это прежде всего райкомовский спецраспределитель, ну и отдельным, относительно сытым «островком» являлся серебрянский зенитно-ракетный полк со своими «филиалами-точками», одна из которых и располагалась в двадцати километрах от Новой Бухтармы. Причем, если к полковой «кормушке» были прикреплены более сотни семей офицеров и прапорщиков, то к райкомовской не более двух десятков семей, имевших спецснабжение. А всякие там освобожденные третьи секретари комитетов комсомола и всевозможные инструктора, те «кормились» немногим лучше простых смертных. В этой связи вся эта райкомовская и горкомовская «мелочь» рвалась сделать карьеру, выйти на должности, где положено спецснабжение. Однажды Ольга Ивановна стала невольным свидетелем откровений одного из таких молодых «рвачей». То случилось еще в начале 80-х, когда только отправили на пенсию первого секретаря обкома Протазанова, и в обкоме началась определенная «чистка» старых кадров. Ольгу Ивановну в числе прочих педагогов пригласили в райком партии на инструктаж по проведению агитации к очередным выборам. Кроме учителей в зале серебрянского ДК присутствовали и другие лица, которых также задействовали в агитационной компании. Прямо за спиной Ольги Ивановны расположились несколько райкомовских комсомольских работников. Из их приглушенного разговора стало ясно, что один из них только что получил назначение в обком, видимо на какое-то освободившееся в связи с «ротацией кадров» место. По этому поводу этот счастливец, не обращая внимание на инструктаж, вполголоса, но взахлеб делился со товарищи своей радостью, и звучала та радость так:
– Все ребята, считайте, я уже на настоящие рельсы встал. Теперь все в моих руках. Зарекомендую себя в Устькамане, получу квартиру и дальше. Ни перед чем не остановлюсь, на цырлах ходить буду перед кем надо, землю грызть, но больше в эту дырюгу не вернусь, разве что с проверками наезжать буду. Да, ребята, заживу, в обкоме там же совсем другой расклад, другие горизонты. Водку, только хорошую пить буду, и хорошей колбасой закусывать, все кончился «ливерный» период. А если повезет, так и бутерброды с икрой жевать буду, хватит, поел дерьма…
– Ты уж нас-то там не забудь… – пытался напомнить о себе, его менее удачливый коллега по районной комсомольской работе.
Но счастливец-выдвиженец его не слушал:
– Через год-другой в ВПШа поступлю, а оттуда прямая дорога на хорошие обкомовские, а то и республиканские партийные должности. Так что ребята лет через десять я уже буду либо в Усть-Камане значимым человеком, а то и в саму Алма-Ату переберусь. Всё сделаю, если надо по головам пойду, но прорвусь…
Ну, а что «позволяли себе» те кто «прорвались» и их близкие Ольга Ивановна знала отлично на примере широко известных «бриллиантовых» и прочих делах дочери Брежнева. Были и, так сказать, местные наглядные примеры. Особенно «прогремел» случай, имевший место где-то в конце семидесятых годов…
В послевоенные годы Усть-Каменогорск рос и развивался бурными темпами. За период с 1959 по1980 его население выросло вдвое, со ста пятидесяти до трехсот тысяч. Довольно высокий для Казахстана уровень жизни горожан стимулировал развитие не только общей культуры, но и стремление культурно, полноценно жить и отдыхать. В многочисленных спортивных секциях города занималось немало юных усть-каменогорцев, которые летом выезжали на отдых в специальные спортивные лагеря, или в места под эти лагеря приспособленные. В один из летних месяцев группа гимнастов и гимнасток, в которую входили дети 12–13 лет, во главе с тренером, девушкой – кандидатом в мастера спорта, высадились на пристани одной из турбаз, после чего совершили пятнадцатикилометровый марш по бездорожью вдоль берега. На пути им попалась изумительной красоты бухточка-заливчик, образовавшаяся в расщелине меж двух пологих сопок, поросших соснами и зарослями шиповника. Здесь же нашли и удобное место для палаточного лагеря, небольшую площадку покрытую галькой. Смолистый воздух, чистейшая и успевшая прогреться до 20-22-х градусов вода, относительное мелководье – все это побудило тренера остановится именно здесь. Но насладиться отдыхом, совмещая его со спортивными тренировками дети смогли лишь в течении трех суток…
В то время единолично и твердой рукой областью руководил Александр Константинович Протазанов. Фактически это был удельный князь. Ставленник всесильно союзного министерства среднего машиностроения, он, что называется, «в упор не видел» казахстанское руководство. Более того, казахов он во всеуслышанье именовал оскорбительным прозвищем калбиты, всячески унижал и высмеивал секретарей райкомов-казахов с левого берега Иртыша, когда они приезжали на областные совещания. Руководители – казахи втихаря жаловались в Алма-Ату Кунаеву. Но тот лишь разводил руками, чуть не в открытую признавая, что этот первый секретарь обкома ему не по зубам, ибо самой Москвой поставлен. «Царствуя» таким образом уже более десяти лет, Протазанов вконец обнаглел. Он на манер Сталина любил приглашать на свою загородную дачу-резиденцию руководителей районного звена, там напоить их до поросячьего визга, в том числе и женщин, и потешаясь, наблюдать за их поведением в этом состоянии. Об этом Ольге Ивановне рассказывала Анна Николаевна. По своим каналам она узнала, что однажды на такое «дачное совещание» была приглашена первый секретарь серебрянского райкома, уже немолодая женщина и Протазанов, лично заставлял ее пить, а потом в таком непотребном виде танцевать перед всеми приглашенными…
Так вот, ту же самую пустынную бухточку, где разбили свой лагерь юные спортсмены, облюбовали участники послесвадебного «круиза», осуществляемого на личном теплоходе-яхте первого секретаря обкома. Женился не кто иной, как сын Протазанова. Конечно, такого соседства отпрыски хозяев области терпеть не захотели. Детям и их тренерше предложили немедленно освободить место. Но дело было уже вечером, и идти назад на турбазу 15 километров в ночь… Девушка-тренер отказалась вести детей по горам в темноте, более того посмела пристыдить изрядно поддатых вожаков областного комсомола, занимавшихся обеспечением это «свадебного путешествия». Ее избили, а для острастки и нескольких пытавшихся встать на защиту своего тренера мальчишек. Тут же по рации связались с Усть-Каменогорском, а оттуда поступила команда пригнать машину из ближайшего населенного пункта, чтобы вывезти детей. Ближайшим селением оказался казахский аул, где с большим трудом нашли исправный грузовик. Но дороги к той бухточки не было, и он не доехал километров восемь. Уже в темени по горной тропе детей фактически под конвоем гнали эти восемь километров… чтобы ничто не мешало сановным молодоженам и их приспешникам наслаждаться жизнью.
Этот инцидент «спрятать» не удалось. Вроде бы через Алма-Ату о нем доложили в Москву, хотя раньше и не такое обычно не выходило за границы области. То ли этот доклад, то ли еще что, или все по совокупности «переполнили чашу терпения», а может, сказался возраст Протазанова, но в 1981 году его без лишнего шума проводили на пенсию.
Сейчас вспоминая тот случай и подобные ему, Ольга Ивановна не могла не задуматься: а как вели себя в дореволюционное время царские губернаторы, наместники и прочие высшие чиновники. Она хоть и отрывочно, но помнила многое из слов своего отца, произносимых им в спорах с гостями в их харбинском доме, в разговорах с матерью. Некоторые свои мысли отец озвучивал многократно, потому они и остались в ее памяти. Он говорил, что старую Россию во многом погубил бессовестный карьеризм большинства чиновников всех рангов, их стремление служить не интересам России, а выслуживаться перед начальником, ради собственных выгод. Он упоминал и конкретные имена каких-то генерал-губернаторов, атаманов и прочих высоких чинов, приводил примеры, как делали карьеру в мирное время в царской армии, или назначались чиновники на «хлебные» места в губерниях, уездах и волостях. Рассказывал отец и про то, как на германском фронте в армейских частях большинство офицеров относились к солдатам как к скотине, про ту сословную пропасть, что лежала между офицерами и нижними чинами. Отец утверждал, что если бы в строевых частях Русской Императорской Армии высшее командование смогло бы добиться взаимоотношений хотя бы отдаленно напоминающих отношения между офицерами и рядовыми в казачьих частях, то никакие бы большевики не смогли развалить Армию, а с нею и всю Империю. Но никто, ни царь, ни генералы не делали в этом направлении ни малейших поползновений…
Ольга Ивановна безоговорочно верила отцу. Но даже если он и прав, так чего же добились в конце концов большевики, ради чего делали революцию, спровоцировали Гражданскую войну с миллионами жертв!? Чтобы вместо сановников-дворян над столь же бесправными простыми людьми издевались выбившиеся к власти коммунисты, партийная номенклатура и их родичи!? Или для того, что бы делать ту же карьеру по чиновничьей или армейской линии могли не ограниченное число лиц из дворянского, и в меньшей степени, купеческого, разночинного и казачьего сословия, а карьеристы смогли выходить из самых «широких слоев», всего народа, то есть появилось куда больше возможностей прыгнуть из пешек в ферзи, или говоря проще и нагляднее «из грязи в князи»? В результате… если посмотреть на первых лиц государства, то они едва ли не все начинали на периферии. Но сказать, что эти пробившиеся к вершинам власти партийные чиновники, что-то из себя представляли значимое вряд ли можно. Судя по их речи, выступлениям создавалось впечатление, что они, позаканчивав свои ВПШ и институты, так и не научились просто грамотно изъясняться по-русски. И ради того, чтобы эти люди получили возможность учиться, сделать карьеру, тогда, в революцию и гражданскую войну, перевернули страну, организовали беспримерное в мировой истории «кровопускание», сделали несчастными и изгнали миллионы людей, причем не самых худших, живущих в тогдашней России. В последнем Ольга Ивановна никогда не сомневалась, ведь перед ней постоянно стояли образы ее родителей.
Мысли, навеянные телемостом «Москва-Вашингтон», настолько «отключили» Ольгу Ивановну от реальности, что она «очнулась», когда уже по телевизору вновь показывали фигурное катание. Танцоры исполняли произвольный танец. Но она уже не могла воспринимать происходящее на экране. С трудом поднявшись и выключив телевизор, она легла в постель и погрузилась в сон, который явился продолжением ее недавних размышлений, где в хаотичном калейдоскопе перемешались Лакшины, фигуристы, комсомольцы-рвачи и ее родители…
21
Вся вторая неделя декабря для Ольги Ивановны стала обычными буднями, с утра до вечера уроки, совещания, разговоры в учительской. Большинство учителей вовсе не спешили домой, где их ожидали опостылевшие домашние дела, дети, готовка, ругань с домочадцами. Ольге Ивановне тоже вроде бы незачем спешить домой, но там ее ожидало ее дело, ее мемуары. Когда несколько лет назад она начинала над ними работать, сама перед собой поставила задачу писать в день по три четыре листа в большой общей тетради. Однако, такой график выдержать оказалось просто невозможно. Иногда, она приходила с работы настолько уставшей, что вообще была не в состоянии написать ни строчки. В другой раз просто не писалось. Она могла просидеть несколько часов едва осилив тетрадную страничку, или написав много и перечитав написанное тут же нервно все перечеркнуть. Путем проб и ошибок Ольга Ивановна поняла, что для нее знаменитый метод Олеши «ни дня без строчки» не приемлем. Потому за мемуары она садилась только когда чувствовала что действительно очень сильно хочет их писать… А если такового желания не возникало, лучше было просто заняться чем-то другим, посмотреть тот же телевизор.
Во вторник директор собрал весь педколлектив и объявил, что завтра 10 декабря международный день прав человека, и каждый классный руководитель старших классов должен выступить перед своим классом со спущенным сверху тематическим докладом: «Что такое права человека и как они соблюдаются в СССР и странах капитала?» Учителя, особенно не гуманитарии, сразу стали возмущаться, это де не их профиль, что это должны проводить учителя истории и общствоведения, их дело разъяснять ученикам статьи Конституции. Ольга Ивановна скромно помалкивала, она не классный руководитель и это ее не касалось. Хотя она бы могла объяснить поселковым старшеклассникам, что такое права человека и как советская Конституция их гарантирует. Право на труд, на жилище… медобеспечение… образование…
О, да трудиться в советской стране все имели право и даже обеспечены этим так называемым трудом, то есть работой. Советская пропаганда, как одно из главных преимуществ социализма перед капитализмом выдвигало именно это – отсутствие в СССР и других странах социализма безработицы. Но тот маленький фактик, что все эти обеспеченные работой советские трудящиеся работают по-разному совершенно не учитывался. Кто-то просто ленив от природы, кто-то ненавидит ту работу, которой его «наделили» и мечтает о другой, но соскочить с опротивевшего «дела» почти невозможно. При этом зарплата у большинства рядовых рабочих, служащих, колхозников не сильно отличалась. Такой «расклад» имел место почти во всех сферах жизнедеятельности советского общества. Высшая партноменклатура, устроила себе особую, обеспеченную госснабжением жизнь, своего рода коммунизма для ограниченной группы высших руководителей и членов их семей. А подавляющее большинство остальных граждан обрекло жить под девизом: «От каждого по способностям, каждому по труду». Но на самом деле вторая часть девиза звучала несколько иначе: «каждому поровну». Но это «ровно» в восьмидесятых годах стало слишком малозначимым в реальном материальном исчислении. И потому первая часть: «От каждого по труду», и раньше особо не «звучавшая», сейчас совсем не работала из-за полного отсутствия стимула. Труд, работу, особенно на промышленных предприятиях презрительно именовали «вкалыванием». Само собой по хорошему, в охотку никто уже не «вкалывал», разве что на особо высокооплачиваемых предприятиях и учреждениях работавших на оборонку и космос. В области имелись такие предприятия в Усть-Каменогорске, Лениногорске, Зыряновске. Но таковых было относительно немного, а на других люди в основном не работали, а вкалывали, получая за это от ста пятидесяти до двухсот рублей, на которые с каждым годом становилось все труднее приобрести нужные для жизни товары хотя бы среднего качества. Превратить свои деньги в хороший, качественный товар простому человеку можно было, только поехав в большой город и дождавшись там «выброса» такового, и отстояв многочасовую очередь.
Право на жилище… Ольга Ивановна, чье детство прошло в просторном харбинском доме родителей, где у нее была своя отдельная комната… Для нее это советское право иметь на семью из трех человек не более двух комнат, а если детей двое и дети онополые, то тоже две… И лишь при условии если ты большой начальник, то в качестве кабинета положена еще одна комната. Эти права и блага, положенные всевозможным начальникам, чем выше, тем больше, все это и породило в советском обществе столь нездоровую тягу делать карьеру, выпрыгнуть, приподняться, чтобы отовариваться в спецраспределителе, иметь большую, чем у других жилплощадь. В обществе, где в пику капитализму деньги сбросили с «пьедестала», самым притягательной ценностью стала власть и к ней стремились всеми правдами и неправдами. В результате «наверх» пробилось много людей, многократно преступивших на своем «пути» те или иные моральные нормы, и уж наверняка они рассчитывали за все свои риски и унижения еще больше унижать «нижестоящих», в том же духе вели себя их дети и близкие.
Право на медицинское обслуживание… Ольга Ивановна проживала в поселке, где было много легочных больных, и отлично знала, как это право осуществляется. Лучшие врачи, так же как и лучшие выпускники медвузов, как могли, избегали работать и распределяться в рабочие поселки, ибо там очень трудно и скучно жить, а главное отсутствовала всякая перспектива, как карьерного роста, так и повышения уровня своей квалификации – учиться не у кого. По этой причине в новобухтарминской поселковой больнице врачи за редким исключением были, что называется, третьего сорта, да и тех не хватало. То же самое можно сказать про районную серебрянскую больницу, где только главный хирург Абердиенко являлся по настоящему классным специалистом. Один хороший врач на целый район! Естественно, что смертность, как в поселке, так и в районе год от года росла. Но эти сведения были строго засекречены, а Ольга Ивановна, предварительно побожившись молчать, узнала их все от той же Марии Николаевны. Молчала она и о том, что знала доподлинно от своих родителей, что до революции в Бухтарминском крае не только женщины, но многие мужчины, в первую очередь кержаки, жили по сто и более лет, а сейчас, при самой заботливой и гуманной советской власти немногие переходили рубеж шестидесятилетия.
Право на образование… Казалось бы Ольга Ивановна по роду своей деятельности должна была быть в этом вопросе наиболее компетентна. Но она в основном могла судить только о средней школе. Закончив заочно областной педвуз, она лишь понаслышке знала, что значит для простого без связей человека получить настоящее качественное образование. То есть поступить в престижный, сулящий по окончании перспективу ВУЗ. А вот что касалось среднего, средне-технического и средне-специального образования, то здесь да, здесь весь народ имел такие права. Даже если и не хотел учиться, его заставляли чуть не силком заканчивать минимум восемь классов. К чему это приводило, Ольга Ивановна знала отлично. В результате у учителей совсем не оставалось рычагов, чтобы воздействовать на нарушителей дисциплины, прогульщиков и двоечников, ибо их всех предписывалось выпускать из школы минимум с восьмилеткой, то есть с неполным средним образованием. Сколько сил, нервов-здоровья стоило это учителям? Но ведь мучились не только учителя, те кто хотел учиться тоже страдали от соседства с теми кто не хотел. И те, кто не хотел, тоже мучились, ведь их заставляли делать то, к чему они не имели желания, пристрастия, способностей, наконец. Причем многие из тех «трудных» учеников, окончив таки на липовые тройки восьмилетку, с грехом пополам умевшие читать и писать, потом, сбросив с себя груз морального давления ненавистной им школы, становились вполне нормальными рабочими цемзавода или совхоза, шоферами, рыбаками на сейнерах, обзаводились семьями и становились уважаемыми людьми, при этом почти ничего не помня из школьной программы. Так зачем же нужно им это обязательное восьмилетнее образование, стоившее столько испорченных нервов, своих и чужих? Ольга Ивановна хоть и не одобряла дореволюционную систему образования, когда получить то же среднее образование для людей из простого народа было крайне сложно, но и вот такое насильное обучение, когда в школе держали всех под ряд, тоже считала глупостью. Она не сомневалась, в конце концов именно это и снизило общий уровень советской средней школы, и тот факт, что после смерти Королева, среди его учеников не нашлось равного ему, чтобы занять пост генерального конструктора космических кораблей, она считала закономерностью. Ведь средняя школа фундамент высшей, а от просадки фундамента и высшие этажи проседают.
Формально любой выпускник средней школы, техникума, ПТУ имел возможность поступить в любой советский ВУЗ. Но на самом деле это было далеко не так, имелась возможность подать документы, но поступить… В СССР точно также как в любой капиталистической стране имелись элитные ВУЗы, куда выходцам из низов путь заказан, окончи он школу хоть с золотой медалью. Те чудеса, что еще в сталинское время сотворили Миша Горбачев и его будущая супруга Рая Титаренко, приехавшие с сел и поступившие в МГУ, то в общем-то чудом не было. Ведь по советским меркам и Миша и Рая не являлись обычными сельскими юношей и девушкой, они были детьми председателей колхозов, то есть детьми советских помещиков, которым в своих сельских школах могли обеспечить их окончания с медалями, даже если те и не «тянули» на них. Отец Горбачева даже орден сумел своему сыну «сделать». А простым абитуриентам, как правило, приходилось искать ВУЗы поплоше, окончание которых, увы, не гарантировало ни продвижения, ни хорошего заработка. Но и в них ребятам с глухой провинции поступать становилось все сложнее, ибо на вступительных экзаменах в первую очередь оценивалась подготовка, то есть натасканность, а не наличие способностей. А натаскаться на тех же подготовительных курсах при институтах к конкретным экзаменационным вопросам юношам и девушкам с крупных городов было куда проще, чем ребятам с поселков и тем более с деревень.
И сейчас глядя на десятый класс, которому предстояло выпускаться в наступающем 1987 году, Ольга Ивановна могла поручиться, что наверняка поступит в хороший институт только один выпускник, сын директора цементного завода. Он поступит в московский горный институт, ему там благодаря связям отца уже забронировано место. Примерно также два года назад поступила в КАЗГУ Светлана, дочь Марии Николаевны. Может быть, если до вступительных экзаменов родители успеют нанять платных московских преподавателей и таким образом натаскать сына, в какой-нибудь московский ВУЗ поступит и Игорь Ратников. Но это уже под большим вопросом, хоть парень конечно очень способный, и внешне привлекательный. Экзаменаторы женщины наверняка не устоят, дадут такому поблажку. Остальные… даже лучшим, кто учится на четыре и пять, не стоит ездить дальше Усть-Каменогорска, да и там поступить шансы есть разве что на негуманитарный факультет пединститута, или в непристижный «стыр-дыр», так в народе именовали усть-каменогорский строительно-дорожный институт. А на тот же исторический факультет пединститута при конкурсе пятнадцать человек на место просто так, без «лапы», даже с отличными знаниями поступить почти невозможно. Ну, а учитывая, что в последние семь лет поселковая школа не дала ни одного медалиста… Впрочем, Ольга Ивановна была уверена, что здешние дети ничуть не менее способны чем в Усть-Каменогорске, Алма-Ате, Москве… просто у них другие возможности для саморазвития. И информационные возможности не те, даже в местной библиотеке ограниченный набор литературы, да и, чего греха таить, школьные учителя в большинстве довольно малоквалифицированны. Вот и говори после этого о праве на образование и равные для всех условия его получения.
За годы Советской власти правящий класс, высшая партноменклатура, заменившая в своем лице класс дворян, купцов и высшего духовенства… Он, в общем-то, и классом-то не стал, так небольшая группа управляющих страной людей и их домочадцев. Но разрыв их с массами простонародья был столь же велик, как и у имущих классов Российской Империи. Но так как их было мало, и жили они в основном скрытно за толстыми стенами спецдомов и высокими заборами спецдач, народ их жизни не видел и такой же ненависти и зависти, как к господствующим дореволюционным классам, не испытывал. В дореволюционной России, «сытые» классы составляли до десяти процентов населения, и они жили открыто, и оттого вызывали всеобщую неприязнь остальных девяноста процентов. Но тогда и сам народ был крайне неоднороден, от откровенно нищих, просто бедных малоземельных или безземельных крестьян, до середняков и крестьян зажиточных, мещан, разночинцев… Большевикам удалось уничтожить именно это неравенство в среде простонародья. В СССР почти весь народ стал жить в неофициальной «честной бедности», не стало нищих, но не стало и зажиточных. Это состояние общества обеспечивало относительную социальную стабильность, но в то же время отбивало охоту к труду у трудолюбивых, ибо хорошо трудиться не имело никакого смысла. К относительно хорошей жизни можно было выйти только став начальником, что, опять же, стимулировало карьеризм.
22
Жизнь летом и зимой в Бухтарминском крае очень сильно отличалась, но не до такой степени как до революции. Зимой Бухтарминский край все же стал более доступен, чем в старое время. Сейчас на «большую землю» даже в разгар зимней непогоды можно было почти со стопроцентной вероятностью попасть на поезде Усть-Каменогорск-Зыряновск, курсировавший раз в сутки. Прочие пути через горные перевалы по-прежнему были слишком трудны и непредсказуемы из-за заносов, оползней и снежных лавин. Ну, а путь через лед водохранилища и «Чертову Долину» действовал лишь с конца января по март, пока стоял достаточно крепкий лед. Но этим путем ездить рисковали не многие. Дорога здесь не шоссейная, а грунтовая, фактически такая же какой она была и до революции, и так же надо соблюдать крайнюю осторожность при пересечении «Чертовой долины». Не дай Бог попасть туда в буран, занесет вместе с машиной, потом только весной найдут, когда снег растает.
Летом край преображался, в первую очередь из-за того, что открывался регулярный водный путь. Живописные места на побережье Бухтарминского водохранилища облюбовали для строительства многочисленных ведомственных турбаз. А в нескольких километрах от Новой Бухтармы построили дом отдыха республиканского значения «Голубой залив». Потому летом население бывшей Долины значительно прибывало за счет отдыхающих. Для некоторых жителей Новой Бухтармы «Голубой залив» являлся местом и работы, и добычи некоторых дефицитных продуктов, время от времени завозимых в дом отдыха.
Именно развитие судоходства по Иртышу, наряду с индустриализацией местные советские руководители часто представляли как одно из важнейших достижений советского периода. Красавцы теплоходы на подводных крыльях с мая по ноябрь ходили строго по расписанию едва ли не на всем протяжении реки. При этом в пропагандистских целях всячески подчеркивалось, что именно благодаря подъему уровня воды в Бухтарминском и Усть-Каменогорском водохранилищах стали доступны многие ранее недоступные районы не только в верхнем течении Иртыша, но и ряд мест в бывшей долине Бухтармы, где до плотин вообще не существовало судоходства. Когда этим летом Ольга Ивановна посещала заседания усть-каменогорских краеведов, те однажды разбирали письма потомков старых иртышских лоцманов и капитанов. Ольга Ивановна тоже поневоле окунулась в ту «ауру» любопытнейшего собрания, проходившего в областном краеведческом музее, в ходе которого узнала немало интересного.
Оказалось, что Верхнеиртышское пароходство образовалось еще в 1902 году. И тогда капитаны, водившие пароходы по руслу реки, были очень известные и уважаемые люди, их знали в лицо. Хозяевами самых крупных пароходных компаний являлись купцы-миллионеры с обыкновенными русскими фамилиями: Корниловы, Плотниковы, Плещеевы… Десятки пароходов ходили вверх по реке до самого Тополева мыса, что располагался на берегу озера Зайсан. То есть, пароходы фактически плавали так же далеко, как и сейчас после сооружения на реке гигантского каскада гидроузлов. Необычен оказался и перечень грузов, которые перевозились по реке. Тогда, в начале века Россия вела довольно интенсивную торговлю с Китаем. Оттуда завозили кожи, овчину, хлопок, туда шло: железо шинное, железо листовое, казаны чугунные, деготь, телеги на окованном ходу, спички, сахар, мануфактура, керосин… То есть на экспорт шли в основном промышленные товары, а завозилось сырье. А ведь советская пропаганда упорно забивала в мозги, что царская Россия была отсталой, аграрной страной со слаборазвитой промышленностью. Как же эта страна тогда торговала мануфактурой, железом, керосином… перевозила все это на пароходах, построенных на тобольских верфях? Ольгу Ивановну заинтересовал попавшийся ей на глаза архивный документ, вернее фотокопия раритетной семипалатинской газеты за 1906 год. Там было помещено объявление, в котором говорилось, что 20 июля сего (1906) года из Семипалатинска до Тополева мыса отправляется пассажирский теплоход «Пермяк». Далее указывалась пристань, где производилась посадка и номер телефона… Невероятно, в 1906 году, оказывается, в Семипалатинске уже работал телефон. Также в объявлении сообщалось, что на пароходе имеются буфеты, а для пассажиров первого и второго классов – газеты и журналы. Даже для Ольги Ивановны, с ее «обзорным зрением» это было откровением, она никак не ожидала, что в начале века, в «отсталой» России да еще в глубочайшей её провинции существовал такой уровень «сервиса». Ведь на современных теплоходах, несмотря на их вихревую скорость, пассажиры набивались как селедка в банку, и никаких буфетов, тем более газет, журналов и в помине не было.
На водохранилище в начале декабря лед еще был очень тонок, но рыбаки не могли удержаться от соблазна и в выходные дни десятками устремлялись на застывшую гладь с пешнями и прочими приспособлениями для подлёдного лова. Несмотря на наличие в окрестностях поселка рыбзавода, его продукция в свободную продажу не поступала, фактически вся она, за исключение того, что уворовывали рабочие, загружалась в вагоны-рефрежераторы и куда-то отправлялась. Так что выловленная в водохранилище рыба являлась немалым продовольственным подспорьем для ново-бухтарминцев. Но это удовольствие в декабре было далеко не безопасным, и не только от того, что лед тонок, а еще и от того, что многие рыбаки выходили на лов изрядно поддатыми.
Несмотря на то, что в стране уже второй год велась активная антиалкогольная компания и в свободной продаже резко сократилось количество спиртного, особенно водки… Пить меньше не стали, самогон гнали, как в частных щитосборных домах, так и в благоустроенных квартирах, гнали из зерна и картошки, которые воровали в том же совхозе. Как правило, то был очень низкокачественный продукт, но искусственно созданный дефицит спиртного рождал спрос и на этот суррогат, который, что называется, «бил» по мозгам и ногам, отравлял организм. Уже на шестой день декабря вышеизложенные обстоятельства стали причиной гибели двух рыбаков, рабочих с цемзавода, которые просто замерзли пьяные на льду. Еще через два дня утонул, провалившись под лед, еще один. Теперь вместо подготовки к новогодним праздникам в трех семьях похороны. На заводе и в школе собирали деньги для материальной помощи семьям погибших (у двоих из трех были дети школьного возраста). Старики говорили, что раньше, до заполнения Бухтарминского водохранилища люди в декабре всегда уже без опасения переходили Иртыш по льду и даже переезжали на санях запряженных лошадьми. На этот счет Ольгу Ивановну «просветила» Анна Макаровна:
– Раньше тута места знали, где лед толще был и там всегда переправу мастерили, воду с соломой мешали и дорогу прямо на тот берег делали. Зимой то была самая короткая дорога на Семипалатинск, а ежеле Осиновый перевал заметало, так другой и не было. А сейчас то вона как широко стало, сейчас уж таку дорогу не сделать. Пока весь лед толстым не станет, и ездить нельзя до самого февраля…
Они стояли на окраине поселка, недалеко от берега. Мария Макаровна жестами показывала, где раньше делали переправу через Иртыш, а Ольга Ивановна всматривалась в далекий противоположный правый берег, который отстоял местами от левого более чем на семь километров. Туда, в конце 19 года так же по льду ушли отсюда ее отец и мать. Вернуться сюда им было уже не суждено. Может даже их счастье, что они, влюбленные в ту свою Усть-Бухтарму, не узнали во что превратили их некогда хлебную и обильную Родину. Зато все это познала их дочь, стремившаяся сюда, влюбившись в эти места заочно, наслушавшись их воспоминаний, рассказов об некогда прекрасном крае.
Несмотря на рыбацкие трагедии, хроническое невыполнение плана на цемзаводе, рыбзаводе и совхозе, несмотря на пустые полки магазинов… народ в поселке ждал праздника Нового года. В этом году в магазины вместо обычного советского шампанского завезли «Игристое». Его смели сразу и припрятали до праздника – не чокаться же в новогоднюю ночь под бой курантов самогонкой. Вот только ходили слухи, что ставшую обязательной предновогоднюю комедию «Ирония судьбы или легким паром» по ЦТ из-за этой антиалкогольной компании уже не покажут, а люди за десять лет к ней так привыкли. Несмотря на все эти неудобства и чудачества власти, новому молодому генсеку пока что еще верили, он вроде, что-то пытался делать, правда с водкой, конечно, погорячился, но в остальном создавалось впечатление, что страна вот-вот заживет лучше. Что значит лучше? А что простому человеку надо – чтобы еда и промтовары в магазинах имелись, да чтобы не было боязно сыновей в армию отправлять, сейчас когда есть опасность попасть в Афган, да чтобы девушки и женщины могли не опасаясь шпаны вечерами по улицам ходить… И если бы хоть один из этих «вопросов» Горбачев смог разрешить. Но многие верили, что он пытается.
Мария Николаевна в понедельник 8-го декабря поехала на областное совещание в Усть-Каменогорск. Вернулась она с зыряновским поездом через день и в четверг, сказавшись больной, на работу не вышла. Ее свекровь, Мария Макаровна, примчалась в школу и прямо с урока вызвала Ольгу Ивановну:
– Зайди ты, Христа ради, к нам, к Машке нашей, не знаю, что с ней такое творится. Лежит со вчерашнего дня, говорит больная, а врача не велит вызывать, не в себе она. Когда приехала, водкой от нее пахло. Первый раз такое с ней, вот с утра, наверное, голова то и болит с непривычки. На Сашку чуть не матом понесла… Я уж и подходить к ней боюся, и меня отругает. Что то там случилося у нее. Зайди, поговори с ней, она ведь одну тебя и слушает…
После уроков Ольга Ивановна пошла к Караваевым. Семья председателя поселкового совета занимала четырехкомнатную квартиру. Все кроме дочери-студентки, учившейся в Алма-Ате, и мужа были в сборе. 13-ти летний сын и свекровь ходили на цыпочках, боясь потревожить Марию Николаевну. Ольга Ивановна почувствовала запах сигаретного дыма едва вошла в спальню. Спросила как можно бодрее:
– До меня дошел слух, что наша управительница-благодетельница заболела. Но раз она может курить, значит со здоровьем все в порядке.
Мария Николаевна в домашнем халате и неубранной головой лежала поверх застланной кровати и смотрела на ковер, укрывавший противоположную стену, словно пыталась разгадать тайну, скрытую в хитросплетении вытканного на нем узора.
– Ты, Ивановна? Чего пожаловала?… Хотя понятно, не иначе свекруха к тебе бегала. Ладно, садись поболтаем, – Мария Николаевна подобрала ноги, освобождая место на углу кровати.
– Чего это с тобой, Маша… сама на себя не похожа? – Ольга Ивановна села рядом.
– Станешь тут не похожей, – председательница достала из прикроватной тумбочки пачку сигарет и зажигалку, закурила. – Мой терпеть не может, когда от меня табаком пахнет. А я таким образом от него избавляюсь, когда не хочу чтобы над душой стоял. Вот и сегодня, на обед пришел, поел кое как и деру дал. Теперь до девяти вечера на работе сидеть будет, это точно, – Мария Николаевна натужно засмеялась.
На всем облике председательницы чувствовалась какая-то тревога, что-то вроде растерянности, она словно пряталась в своей спальне, лишь бы не идти в Поссовет, в свой кабинет…
– Маш, что-то случилось? Если не секрет скажи, может легче станет.
– Ты же знаешь, от тебя у меня секретов нет, – затянулась сигаретой и тут же ее затушила о пепельницу стоящую на тумбочке Мария Николаевна. – Вот с мужиками я на эти темы не могу по серьезному говорить. О чем не говори, мужик на меня, прежде всего как на бабу смотрит. Они уже заранее уверены, что баба существо глупое, и в политике тем более не кумекает, и весь ее ум меж ног. И с бабами тоже не могу… кроме тебя. Как посмотришь, и в самом деле, либо круглая дура, либо действительно не головой думает, а тем самым местом. Слушай, Ивановна, я от свекрухи слышала, что дед твой в Гражданскую войну так дело поставил, что сначала всю волость от белых спасал, когда они свои мобилизации и реквизиции проводили, а потом и с красными умудрялся договариваться, и пока его не арестовали тут ни продотряды, ни ЧК не свирепствовали. И что в Уст-Бухтарме во время той войны жили, чуть ли не как у Христа за пазухой, ни убийств, ни грабежей, ни насилий не было, как в том же Большенарыме или Шемонаихе. Представляю каково ему тогда приходилось меж двух огней-то… Поверишь, и мое положение сейчас тоже чем-то его напоминает. Только вот боюсь в отличие от твоего деда сделать я ничего не смогу. Как-то все само собой катится под уклон, все быстрее и быстрее, вот-вот полетим куда-то, боюсь что в пропасть.
– Погоди, в какую пропасть, ты это о чем? – не поняла тревоги подруги Ольга Ивановна.
– О том, милая моя. Вот позавчера собрали нас всех вместе, председателей городских, поселковых и сельских советов со всей области. Сам первый выступал, доложил обстановку, а я по его словам уже чую, волнуется первый, тревожится, хоть и бодрячком держаться старается. Помнишь наш разговор, про то, что Кунаева, возможно, снимут?
– Ну…
– Так вот это правда, сто процентов. Нас собирали, чтобы конкретно проинструктировать на случай возможных демонстраций протеста и тому подобных выступлений, – Мария Николаевна в какой-то фатальной отрешенности откинулась на подушку.
– Подожди, подожди… Каких выступлений? Ты хочешь сказать, что все уже решено, что вместо Кунаева русского ставят?… Кого?
– Не знаю, первый не сказал, и никто не в курсе, но вполне возможны стихийные выступления казахов, – все также отрешенно говорила Мария Николаевна.
– Ну, а тебе-то чего боятся. У нас в поселке казахов не более десяти процентов. И большинству из них глубоко наплевать, кто там во главе республики встанет, – успокоительно произнесла Ольга Ивановна.
– Это я не хуже тебя понимаю. Первый, когда нас инструктировал в первую очередь на Зайсанский и Уланский районы упор делал, там процент казахов не менее трети. Я вообще не о том переживаю. Помнишь, о чем мы с тобой в последний раз говорили? Неужели Горбачев совсем ничего не понимает? Да, Кунаев никудышный руководитель, но он уже столько лет у власти, к нему привыкли, как привыкают к старой мебели. Как ни оценивай его деятельность, но он во многом способствовал межнациональному согласию в республике. Ох, и плохо же все это кончится, недалекий человек этот Горбачев, заварит кашу, потом всем миром не расхлебать, – весь облик Марии Николаевны выражал крайнюю обеспокоенность.
– Постой Маша. Они там большие начальники, а ты тут по сравнении с ними, извини, букашка… Так чего ж ты за них так переживаешь, за их ошибки, это они за свои решения переживать должны. Брось, с тебя спрос маленький, а с них большой, раз взялись целой страной управлять, – все пыталась успокоить подругу Ольга Ивановна, хотя сама была далеко не так спокойна как на словах.
– Сама не знаю, что со мной, Ивановна. Я ж говорила тебе, чувство какое-то пакостное внутри сидит и не отпускает. Вон про Горбачева все, молодой, энергичный, жена у него красивая модная, не то, что у прежних, кошелки. Я ж так на него надеялась, ну думала, наконец, после тех старперов пришел умный, по-настоящему образованный человек, этот страну выведет на дорогу, заживем, наконец, по-человечески. Сколько дураков можно терпеть, один другого сменяют. Только Андропов был более или менее умный человек, а так Хрущ – дурак кукурузный, Брежнев дурак-орденоносец, Черненко – тоже дурень, и этот не лучше их на поверку, только и радости что относительно молодой. А с другой стороны, значит сидеть долго будет, совсем страну угробит. И жена у него… ну такое впечатление с Марса прилетела, не жила в Союзе. Ну, разве можно так одеваться и во все кинокамеры со своими туалетами лезть, когда в стране такой дефицит, бабам вон одеть нечего? Я как на него и на нее посмотрю… Ты же знаешь, я физиономистка, по лицам могу любого человека охарактеризовать… ну может быть не любого, но в восьми случаях из десяти, наверняка угадаю.
– Да, есть у тебя такой талант, – подтвердила Ольга Ивановна.
– Так вот, балаболка он, пустозвон и очень ограниченный, а она жеманница, разыгрывающая из себя царицу Клеопатру. Оба они пустые, ничтожные люди. Вот я когда на Тетчер смотрю, сразу вижу, та – баба кремень. Вот какие нам сейчас руководители нужны, – сделала неожиданный вывод Мария Николаевна.
– Ну, это уж ты хватила, – не согласилась Ольга Ивановна. – Сама же говоришь, все они были не семи пядей и Хрущёв, и Брежнев, и Черненко, и ничего не рухнуло, никакой вселенской катастрофы не случилось.
– Верно, Ивановна, не случилось, а почему? Потому что наше с тобой поколение в атмосфере страха воспитывали. Союз ведь не Ленин, а Сталин создал, на страхе построил и страхом скрепил. И при всех этих Хрущевых и Брежневых народ еще тот страх помнил, и что они не вытворяли все терпели, и кукурузу и дочки брежневской закидоны, и то что в Афган залезли… И все народ безмолвствовал, как у Пушкина. Но время-то идет, поколения меняются, страх тот молодежи уже не ведом и потому что они хотят творить уже нельзя, сейчас высшему руководству уже мозгами шевелить, работать надо. А они туда наверх выбрались не для того чтобы работать, а чтобы просто насладиться властью, то есть ею злоупотреблять. Злоупотребляют на всех уровнях. Помнишь, как здесь у нас Протазанов чудил? Но это на уровне области, а на уровне страны уже так нельзя. Если бы Горбачев это понимал, то хотя бы на жену прикрикнул, чтобы одевалась поскромнее, да вперед не лезла, при нашей нищете это же так раздражает… Нет, не понимает. А теперь еще и с этим Кунаевым. Это же очередная крупнейшая ошибка, которая может дорого стоить всей стране. Афгана мало, Чернобыль ничему не научил…
23
Только благодаря тесной дружбе с председательницей Поссовета Ольге Ивановне удавалось сохранять прописку сына и держать эту двухкомнатную квартиру за собой, хоть Сергей и не собирался возвращаться жить в поселок. Она чувствовала себя в своей квартире как в крепости и оставаясь одна ощущала меньше одиночества, чем среди людей, ибо тут безо всяких помех могла предаться воспоминаниям, размышлениям, а если возникало желание, то и переносить их на бумагу.
И вот, наконец, она одна, со своими мыслями. Телевизор обычно не мешал ей думать, вот и сейчас она включила его. По Москве шел мультфильм, где попугай голосом артиста Хазанова травил байки прочему животному миру некого, по всему, московского двора. Тут и жирнющий кот, в лопающихся от пережора джинсах, в свою очередь стал рассказывать, сколько он съел, будучи с хозяевами на даче, сметаны и рыбы. Издевательский мульт, как и песня в исполнении белорусских эстрадных певцов, группы «Верасы», где имелись такие невозможные для большинства советских семей строчки: «шоколада полный дом, мармелада полный дом…». Видимо в останкинской телестудии не больно задумывались, что трансляции ЦТ идут на всю страну, а в стране-то далеко не во всех местах не то что коты, но и люди имели возможность есть досыта, тем более шоколад с мармеладом. Ольга Ивановна переключила телевизор на Алма-Ату. Там пела молодая казахская эстрадная певица Роза Рымбаева, сильным, пронзительным голосом, в то же время лишенным мелодичной глубины. Она пела какую-то казахскую народную песню. Ольга Ивановна раздраженно выключила телевизор. И тут же, невольно подумала: «И петь-то казахи разучились…». Впрочем, она сама отлично понимала, что это не так. Просто Рымбаева по уровню своего мастерства не заслуживала той известности, того зрительского внимания, которое имела. Как и многие другие не заслуживали того же, хоть и имеют звания народных, на их концерты не достать билетов, но на деле они в основном были «сделаны» той же властью, которой они потрафляли, а та за это давала им звания и гнобила по настоящему талантливых конкурентов. Когда-то еще относительно молодой Ольге Ивановне нравилась Галина Зыкина. Сейчас она вдруг сама для себя открыла, что Зыкина и Рымбаева чем-то очень похожи: у обоих чрезвычайно сильный, но безо всякой изюминки, давящий на слушателя голос. Разве так пела Лидия Русланова, или действительно блестящие казахские певицы Роза Жаманова и Бибигуль Тулегенова? У них у всех тоже были уникальные по силе голоса, но как они пели! А эти… не певицы, а трубы ирриехонские.
Не лучшего мнения Ольга Ивановна была и о некоторых прочих эстрадных певицах, не понимая, чем можно объяснить их быстрый «взлет» и зрительские симпатии. Впрочем, обосновать успех некоторых из них она все же, как ей казалось, могла. Так популярность относительно молодой Лаймы Вайкуле она объясняла только ее национальностью – в русской интеллигентской среде всегда с некоторым пиитетом относились к выходцам с Прибалтики, наделяя их едва ли не аристократическими чертами. Видимо и Вайкуле неофициально считалось этакой едва ли не остзейской баронессой. Ольга Ивановна, коей в Харбине среди гимназических преподавательниц и матерей своих подруг иногда действительно приходилось видеть настоящих аристократок, ничего этакого благородного в манерах и внешности латышской певицы не находила. Ей она казалась скорее прибалтийской крестьянкой с хутора. Сначала примерно того же мнения Ольга Ивановна придерживалась и о Людмиле Гурченко, но со временем, наблюдая за этой актрисой и певицей, поняла, что это не так. Шарм, исходящий от нее имел какое-то несоветское происхождение, в ней присутствовало что-то от Вертинского и одновременно грубая, простонародная хабалистость. Отчего произошел такой вроде бы несовместимый «синтез», Ольга Ивановна поняла, когда случайно узнала о происхождении Людмилы Марковны, дочери потомственной русской столбовой дворянки и пробивного выходца из украинской крестьянской семьи. А вот кто из современных эстрадных певиц действительно демонстрировал этакий «королевский» стиль, и в умении одеваться, и подачи себя зрителю… В этом плане Ольге Ивановне нравилась ленинградская певица Ирина Поноровская. Она не знала происхождение певицы, но смотрелась она явно не «от сохи».
Отвлечься на телевизор не удалось, и мысли навеянные сегодняшними откровениями Марии Николаевны вновь овладели сознанием. Нет, у Ольги Ивановны не было того беспокойства, тревоги, что всецело овладела ее подругой. Она просто удивлялась ее реакции. Она ее знала как женщину целеустремленную, напористую, с явно выраженной карьеристской жилкой. И то, что та в такой растерянности… Неужто все действительно так серьезно? Караваева хоть и мелкий чиновник в областной иерархии, но вхожа в весьма высокие кабинеты, имеет обширные знакомства, постоянно слышит разговоры, ведущиеся в коридорах и курилках облсовета и райсовета, обкома и райкома. Ольга Ивановна пыталась анализировала ситуацию. Ну, снимут Кунаева, поставят русского. Неужели это способно поколебать основы порядка в стране? Действительно, не все ли равно простым людям кто будет разъезжать на секретарской «Чайке» и помахивать рукой с трибуны во время демонстраций на первое мая и седьмое ноября?… Так то оно, так, но действительно в последние годы настолько ухудшилась жизнь, что люди обозлились, а тут еще ко всему и удар по национальному самосознанию. Но согласиться с Марией Николаевной в том, что в Москве не понимают, на что идут, она не могла. Потому и спустили в области директивы проинструктировать руководителей низшего звена советской власти о возможном проявлении недовольства. Значит, все они понимают. Понимают и все-таки делают? Действительно, с огнем шутит Горбачев. Сам ведь на Северном Кавказе вырос, наверняка знает, что кавказцев так вот обижать нельзя. А почему же тогда казахов можно? Вон даже в автономиях такого себе не позволяют, ни в Чечено-Ингушетии, ни в Дагестане, ни в Татарии, ни в Башкирии. Везде первые секретари представители, так называемых, коренных национальностей. А тут целая союзная республика. Нет, похоже, эти последыши большевиков и в самом деле окончательно выродились, элементарную ситуацию просчитать до конца не могут…
Вновь сами собой из дальних уголков памяти, как это часто с ней случалось, стали проясняться фрагменты услышанных ею родительских разговоров. Они нередко спорили, а после того как Оля подросла и ей уже стала не нужна китайская няня и в доме из прислуги осталась только приходящая повариха, спорили довольно громогласно. И главный вопрос спора частенько был: кто виноват? То есть, кто конкретно более всех виновен в гибели Российской Империи. Чаще всего родители приходили к общему выводу – монархия выродилась. Морально слабый царь, находясь под каблуком неумной, психически неуравновешенной жены, сам отдал власть, которую тут же стали рвать друг у друга всевозможные проходимцы и авантюристы. В конце концов, самые организованные и беспринципные из них, большевики, захватили ее полностью… Когда уже после 1942 года Красная Армия стала пересиливать немцев, отец читал газетные сводки с неким двойственным чувством, с одной стороны он радовался успехам хоть и Красной, но в то же время русской армии, с другой… Как-то он в сердцах сказал матери:
– Ну, теперь большевиков уже ни за что не сковырнуть, они за эту войну так укрепились, такой авторитет в стране и мире заимели. Не знаю, чего теперь нам и ждать-то.
На это мать, подумав, ответила:
– Ждать остается одного, когда и они выродятся…
Вот оно, свершилось то, что пророчила Полина Тихоновна Решетникова. Они, наконец, выродились, и не в состоянии выдвинуть из своих рядов по настоящего умного, волевого лидера, способного правильно распорядится имеющейся у него властью, накормить свой народ, сделать жизнь спокойной и устроенной. Нет, что касается последнего, коммунисты этого не планировали, болтать болтали, но в целом ни Политбюро, ни ЦК никогда благосостояние народа выше своих политических амбиций не ставили. Они всегда прежде всего хотели, чтобы их (советское руководство) уважали в мире, то есть боялись, и мнимое уважение народа тоже достигалось через страх. С исчезновением страха исчезло и это принудительное уважение власти. То что не чувствовали там наверху… это отчетливо чувствовала Мария Николаевна Караваева, мелкий советский чиновник, расположившаяся в низу советской иерархии, в непосредственной близости от масс простых смертных.
Все эти умозаключении, насчет вырождения большевиков, не доставляли Ольге Ивановне особой радости. Видимо ей, нынешней, скромной, пожилой, одинокой учительнице, на генном уровне передалось от родителей и дедов, то чего, пожалуй, и в зародыше не было у высших партийных чиновников страны Советов. Ольга Ивановна не могла не переживать за судьбу страны. Какими бы ни были царь Николай и Керенский ничтожествами, но от них большевики унаследовали хоть и разрушенную, но единую и несмотря ни на что мощную державу. За десятилетия своего владычества, они даже преумножили ее мощь, вышли в космос, вооружились ядерным оружием. Но ради этих достижений коммунисты выпили все «соки» прежде всего из русского народа, и кажется, окончательно его «надорвали». Ведь ту же лошадь во время длительной и тяжелой дороги необходимо хорошо кормить. А большевики плохо кормили даже основного «коренника», русский народ, кормили по остаточному принципу, не давая себе труда думать о том, что он несет основную нагрузку. «Пристяжные», те и сачкануть могли, делать вид что «тянут», а то и «виснуть» на постромках, умудряясь при этом получать от «возниц» лучшие порции «овса». Впрочем, разве можно «пристяжных» винить за это, ведь они не считали тот «воз» своим. Неужто не видят, что загнали, вот-вот упадет «коренник»!?…
Ольга Ивановна не заметила, как за размышлениями произошло то, что в последнее время частенько с ней приключалось. Она забылась, задремала в кресле напротив выключенного телевизора, видя очередной, навеянной раздумьями сон… Рыжей масти коренник, измученный непомерной поклажей, висящими на постромках пристяжными, исполосованный кнутом ездового хрипит, бьется, из взнузданного рта выступила кровавая пена. А ездовой все машет и машет кнутом, а пристяжные, те что черной и желтой масти и прочие, все косят на него глаза – сдохнет или нет, но сами не тянут постромки, а ждут когда коренник окончательно обессилит, чтобы вонзить в него зубы… И опять, в этом нет их вины, они же в эту «телегу» не по доброй воле запряжены, а вот коренник тот сам, по доброй…
Ольга Ивановна вздрогнула и проснулась тяжело «переваривая» кратковременный «экскурс» в подсознание. И тут ей неожиданно экспромтом пришла мысль, что государство от разрушения и погибели может спасти… армия. Да-да, огромная мощная армия, она не даст развалиться стране, не даст пристяжным выскочить из упряжки, даже если коренник и окончательно выбьется из сил. А там может и ездовые опомнятся, сообразят, что нельзя на одном кореннике все время выезжать, к тому же и кормить его лучше некоторых пристяжным не мешало бы. Может и «кнут», наконец, окажется в руках у здравомыслящих и деятельных людей. Впрочем, «за кадром», в подсознании Ольги Ивановны уже созрело понимание, что и «пристяжные» «пристяжным» рознь, что есть и такие, которые не прочь помочь кореннику, но вот почему-то «овсом-сеном» и их обносят и бьют сильнее, а сейчас и вообще замахиваются, чтобы так ударить… А вот тех кто виснут, изображая немощь, как ни странно и по «холке гладят», и овса куда больше и лучшего качества дают. Ох, неужто ездовые в очередной раз хотят обидеть такого пристяжного… и тогда уж наверняка «коренник» останется один и его явно хватит ненадолго…
24
Ольга Ивановна пришла к выводу, что осуществить вынашиваемую в последнее время мечту провести урок на тему, не предусмотренную школьной программой лучше всего в пятницу 12 декабря, ибо с понедельника начинается Пленум… и чем там кончится неясно. А пока обстановка вроде спокойная и можно рискнуть.
Этот урок она хотела целиком посвятить какому-нибудь писателю, или поэту уроженцу Верхнеиртышья. «Кандидатов» было несколько, наиболее известные из них: Волков, Иванов, Пермитин, Васильев. Волкова и Иванова она отвергла, первого, после того как узнала истинное происхождение его популярных сказок. Иванов, хоть и приобрел к восьмидесятым годам большую известность благодаря удачным экранизациям романов «Тени исчезают в полдень» и «Вечный зов», но он был противен Ольге Ивановне своим явным враньем и «прогибом» перед советской властью. Пермитин? Его романы, особенно «Первая любовь» очень нравились ей. Он с такой красочностью описал свой родной Усть-Каменогорск в период предшествующий первой мировой войне и революции, именуя его Усть-Утесовском. Тем не менее, и он, возможно, против воли, нарисовал все привилегированные слои общества того времени только черной краской, а простонародье почти сплошь в «светлых» тонах. Зато природа Южного Алтая у него получилась великолепно – многоцветная, благоухающая, живая, так же живописно он описал охоту и рыбалку. Однако, как только доходило до социальных тем, сразу же переходил на черно-белое изображение. А в последней части своей знаменитой трилогии, он вообще как ослеп, описывая быт писательской общины тридцатых годов в Москве так, будто рядом не идет грызня за власть, не арестовываются и уничтожаются люди, ведь под этот «молох» попал его друг и земляк Павел Васильев…
Конечно, по-настоящему большим поэтом являлся именно Павел Васильев, ибо обладал дарованием сопоставимым с талантом самого Есенина. И по «социальному признаку» Васильев более всех импонировал Ольге Ивановне. Будучи сыном учителя станичной школы, он досконально знал казачью жизнь и красочно описывал ее в своих стихотворениях и поэмах. Правда в ряде его произведений также звучали просоветские нотки, но Ольга Ивановна чувствовала, что это всего лишь вынужденные «пассажи», иначе поэта тогда, в 20-х и 30-х годах, просто бы не печатали. Когда Васильев начинал писать о казаках, он не мог скрыть настоящего своего отношения к ним, своей любви и восхищения, боли за трагическую участь их постигшую. Ольга Ивановна посчитала своим долгом выкроить один урок из учебного плана в выпускном классе и посвятить его именно творчеству Павла Васильева.
Перед уроком Ольга Ивановна волновалась. Нет, она не боялась, что кто-то потом ее «заложит» за тему, не предусмотренную программой. Она боялась, что ее не поймут ученики. Как не крути, но они все «продукт» коммунистической системы воспитания, а воспитывать молодежь коммунисты, в общем, всегда умели. Это уже потом, когда человек поживет, помучается в очередях за всевозможным дефицитом, переживет массу всевозможных несправедливостей, то годам к сорока он может уже и с раздражением начнет относиться ко всей этой пропагандистской газетно-радио-телевизионной трескотне. И соответствующие фильмы уже не в такой степени оболванивают его, более или менее искушенное сознание. А шестнадцати-семнадцатилетние подростки, выросшие в провинциальном поселке, поэтапно становившиеся сначала октябрятами, потом пионерами, комсомольцами… Они ведь искренне верят, что красные это сплошь благородные, храбрые и великодушные, а белые – трусливые, вероломные и жестокие, каковыми они изображены в таких фильмах как «Неуловимые мстители», тех же «Тени исчезают в полдень», «Конец атамана», «Транссибирский экспресс» и многих других. Одному более или менее нейтральному фильму «Служили два товарища» явно не под силу противодействовать валу «красной» кинопродукции. Потому Ольга Ивановна испытывала тревогу и волновалась…
– Ребята… сегодня… сегодня у нас будет не совсем обычный урок. Мы закончили предыдущую тему, и прежде чем идти дальше, я бы хотела один час посвятить ознакомлению с творчеством поэта, которого нет в школьной программе, но который вполне достоин быть в нее включенным. Это наш с вами земляк, современник Шолохова и Маяковского, невероятно талантливый поэт Павел Васильев, – Ольга Ивановна замолчала.
В классе воцарилась тишина – ученики были явно сбиты с толку, не понимая, зачем это их учительнице понадобилось «втюхивать» им поэта, которого нет в обязательной школьной программе, и которого никто не знал.
– А если по программе его нет, значит, мы и сочинение по нему писать не будем? – осведомился один из учеников.
– Нет, не будет, ни сочинения, ни опроса, – подтвердила Ольга Ивановна.
В классе повеяло неким всеобщим облегчением, а некоторые девочки, обычно дисциплинированно слушающие учительницу, как бы расслабились – чего напрягаться, если за это не будут выставляться оценки.
– Знать этого поэта нужно не ради оценки, вам это нужно потому, что вы здесь родились, в верхнем течении Иртыша, и другой родины у вас не будет, поймите это ребята. Все писатели и поэты, которых вы изучали, они родились далеко отсюда. А Павел Васильев родился здесь, совсем недалеко от нас, в Зайсане, тогда этот город был казачьим поселком. А как вам должно быть известно здесь на месте водохранилища тоже была казачья станица Усть-Бухтарминская. И здесь, и в Зайсане жили и несли службу казаки 3-го отдела Сибирского казачьего войска…
Ольга Ивановна старалась не касаться гражданской войны, в общих чертах описала историю Бухтарминского края до революции и кто такие были казаки, после чего поспешила непосредственно перейти к творчеству Васильева. Но, конечно, избежать разговора о гражданской войне оказалось невозможно, ибо ею были пронизаны те стихотворные строки, которые она собиралась читать. Постепенно волнение прошло, она видела, что ее слушают внимательно, в глазах десятиклассников, во всяком случае, явного большинства, обозначился неподдельный интерес. Этот урок отличался от прочих, прежде всего тем, что здесь, пожалуй, впервые за всю учебу, им говорили совсем не то, что прописано в учебнике. И только благодаря наступившей Перестройке, ослаблению идеологического пресса, учительница известная как своим белогвардейским происхождением, так и явно нестандартными взглядами, решилась частью своих несоветских мыслей поделиться с учениками. Ольга Ивановна видела, что сумела сразу овладеть вниманием класса и продолжала уже со спокойным вдохновением. Кратко она рассказала биографии поэта, и перешла непосредственно к стихам:
– Я вам сейчас прочитаю стихотворение, оно называется «Лагерь». В нем описан небольшой эпизод гражданской войны и попробуйте его проанализировать:
Под командирами на месте Крутились лошади волчком, И в глушь березовых предместий Автомобиль прошел бочком Война гражданская в разгаре, И в городе нежданный гам, — Бьют пулеметы на базаре По пестрым бабам и горшкам. На сеновале под тулупом Харчевник с пулей в глотке спит, В его харчевне пар над супом Тяжелым облаком висит. И вот солдаты с котелками В харчевню валятся, как снег, И пьют веселыми глотками Похлебку эту у телег. Войне гражданской не обуза — И лошадь мертвая в траве, И рыхлое мясцо арбуза, И кровь на рваном рукаве. И кто-то уж пошел шататься По улицам, и под хмельком Успела девка пошептаться Под бричкой с рослым латышом. И гармонист из сил последних Поет во весь зубастый рот, И двух в пальто в овраг соседний Конвой расстреливать ведет.Ольга Ивановна закончила читать. В классе по-прежнему стояла тишина. Ученики не знали, как реагировать на эти строки, так не похожее на те, что они «проходили» и заучивали по программе типа: «Как родная меня мать провожала…» или «Ваше слово товарищ маузер».
– В этом стихотворении показана без прикрас, и в то же время без лишнего очернения, истинная картина гражданской войны, где люди одной страны воюют друг с другом. Причем более всех от нее страдают даже не солдаты воюющих армий, как это бывает в войнах международных, а простые люди, которые оказываются на линии огня совершенно случайно, которые не воюют ни за одну сторону и, тем не менее, тоже гибнут. В стихотворении, как вы видите, поэт не фиксирует открыто ни красных, ни белых. Здесь показана просто гражданская война, ее ужас и несправедливость, в первую очередь к таким вот случайным людям, как тот харчевник, погибший от шальной пули, или двух в пальто, которых безо всякого суда и разбирательств спешат на всякий случай расстрелять, – поясняла Ольга Ивановна.
– А кто их, и харчевника, и этих в пальто, красные или белые? – наконец созрел вопрос из класса.
– Да не все ли равно, ведь могли и те, и те. Поймите это ребята, – с грустной улыбкой покачала головой Ольга Ивановна.
Класс молчал, переваривая услышанное. Посредством этого «нейтрального» стихотворения Ольга Ивановна осторожно, как бы перекидывала мост уже к более политически акцентированным произведениям поэта:
– Ребята, теперь я хочу представить вашему вниманию фрагменты из главного произведение Павла Васильева, поэмы «Песнь о гибели казачьего войска». Эта поэма как и многое из творчества поэта очень долго находилась под запретом, и не получило широкой известности. Но вы должны знать это произведение нашего выдающегося земляка, проникнутое болью за наш родной край и за судьбы людей здесь живших. Из этих строчек вы поймете, насколько сильно поэт влюблен в свою родину, в Прииртышье. Сибирские казаки воевали за белых, они два столетия служили царю, а советская власть была им чужда, непонятна и они ее не приняли, о том и говорится в следующих строках поэмы:
Что впереди? Победа, конец Значит не зря объявлен поход, Самый горячий крутой жеребец Под атаманом копытом бьет. Войско казачье – в сотни, да вскачь. С ветром полынным вровень – лети, Черное дерево – карагач, Камень да пыль на твоем пути! Сотни да сотни, Песни со свистом, Пролит на землю Тяжелый кумыс Гладит винтовки Гусиная Пристань, Шашками машет Тополев мыс.Ольга Ивановна положила конспект урока на стол, в классе по-прежнему тишина и предельное внимание. Наверное, с таким же удивлением и вниманием где-нибудь потенциальные диссиденты впервые «поймав» на транзисторный радиоприемник слушали «Би-Би-Си» или «Голос Америки».
– Кто из вас знает, что такое Гусиная пристань? – обратилась она к классу.
С места на этот раз ответа не последовало, зато поднялась одна рука. Ее подняла девочка из числа серых мышек, старательная, но учившаяся весьма средне.
– Это… это деревня, которая сейчас на дне водохранилища. Там мои бабушка и дедушка жили, и мама родилась, – покраснев, то ли от смущения, то ли еще от чего, ответила ученица.
– Правильно Настя. Гусиная Пристань это населенный пункт на берегу Иртыша, через который переправлялись все грузы по реке из Усть-Бухтармы и в нее, своего рода порт на Иртыше, ну а Тополев мыс, это поселок на берегу озера Зайсан. В ходе гражданской войны, Красная Армия, как вы знаете, одержала победу, но… но я хочу чтобы вы поняли, что то была не обычная война. Сейчас идет переосмысливание тех событий, и все чаще ее называют не войной угнетенных с господствующими классами, а братоубийственной, ведь в ней русские воевали с русскими, – Ольга Ивановна смело могла так говорить, в этом классе все ученики были только с русскими, или с украинскими фамилиями. Ни одного из тех немногочисленных казахов, что учились в поселковой школе, на этот раз в десятом классе по различным причинам не оказалось. Ольга Ивановна продолжала. – И в самом деле, если мы посмотрим на самых выдающихся деятелей, как красных, так и белых, то и там, и там имелись выходцы из самых различных слоев общества. Тот же Владимир Ильич Ленин – сын действительного статского советника, то есть потомственный дворянин и в среде его ближайших сподвижников немало выходцев и из дворян и из интеллигенции. Ну, а те же белые генералы, которых очень долго считали почему-то аристократами, на самом деле часто происходили из низших сословий. Например, генерал Деникин – внук крепостного крестьянина, а генерал Корнилов сын казака, кстати, Корнилов тоже наш земляк, родился в Усть-Каменогорске…
Ольга Ивановна видела, что ее слова производят ошеломляющее впечатление на многих учеников, большинство которых уже состояли членами ВЛКСМ. Некоторые явно оказались не готовы к тому, чтобы во все это поверить… Ольге Ивановне некогда было разбираться в психологическом воздействии своих слов, ведь у нее имелся только этот урок, за который она, вне всякого сомнения, получит внушение или даже выговор, и потому второго урока уже наверняка не будет.
– Белые в этой братоубийственной войне потерпели поражение, и поэт откликается на их трагическую судьбу следующим образом:
Торопи коней, путь далеч, Видно вам, казаки, полечь. Ой, хорунжий, идет беда, У тебя жена молода. Неизвестен путь и далечь, Видно вам, казаки, полечь! Кто же смерти такой будет рад? Повернуть бы коней назад Через волны чужих пшениц До привольных своих станиц.– Кульминация поэмы это отступление белоказачьей армии атамана Анненкова в Китай. У Анненкова были черные знамена, а его армию поэт сравнивает с отбитым от стаи, то есть от основных сил белых, от Колчака, волчьим косяком. Послушайте и оцените образность, с которой автор доносит эту трагедию:
Белоперый, чалый быстрый буран, Черные знамена бегут на Зайсан. А буран их крутит и так и сяк, Клыкастый отбитый волчий косяк. Атаман, скажи-ка, по чьей вине Полстраны в пожарах, в дыму, в огне? Атаман, откликнись, по чьей вине Коршуном горбатым сидишь на коне? Белогрудый, чалый быстрый буран, Черные знамена бегут на Зайсан. Впереди вороны в тридцать стай, Синие хребтины, желтый Китай. Позади как пики торчат камыши. Полк Степана Разина и латыши. Обступает темень со всех сторон. Что побитых воронов – черных знамен.Класс безмолвствовал, наверное, даже до самых последних учеников дошла мощь и трагическая красота поэтического слова, а Ольга Ивановна продолжала пояснять:
– Без сомнения, хоть поэт и называет казаков волчьим косяком, но он скорбит о гибели павших и безрадостной судьбе на чужбине оставшихся в живых. Он не рассматривает гражданскую войну как войну зла с добром, он рассматривает ее как трагедию. И я вас прошу не рассматривать ее, как это делалось раньше, это очень сложное и многогранное историческое событие. Еще раз повторяю, прежде всего, это великая трагедия нашего народа. К этому еще пятьдесят лет назад призывал в своём творчестве и Павел Васильев. Конечно, тогда в 30-х годах писать такие стихи было крайне небезопасно, что и предопределило гибель нашего гениального земляка в застенках НКВД в 1937 году…
Это был пятый урок. Шестого у Ольги Ивановны в расписании не значилось. Она сидела в кабинете, выпив валерьянки, и успокаивалась. После окончания шестого урока в дверь негромко постучали, на пороге стоял Игорь Ратников.
– Разрешите Ольга Ивановна, – здоровенный парнище, обычно не отличавшийся стеснительностью, сейчас смущенно переминался. – Можно вас спросить?
– Да конечно, Игорь, что ты хотел?
– Это… Так значит здесь тоже жили казаки… и многие ребята, что здесь учатся, ну это, их потомки?
Ольга Ивановна улыбнулась, столь неожиданному образу мыслей десятиклассника.
– Да, есть, как бы это сказать, настоящие природные казаки, но очень немного. Здесь ведь сейчас в основном население со стороны, пришлое. Потом тут и до революции не только казаки жили, но и крестьяне, которых по столыпинской реформе сюда из центральной России переселили. Та же Настя Атемасова, которая сказала, что ее мама в Гусиной пристани родилась, наверняка из тех крестьян-новоселов.
– А я почему-то думал, что казаки только на Дону жили, – откровенно признался Игорь.
– Ну что ты, и здесь тоже была казачья линия, и вообще в России насчитывалось двенадцать казачьих войск. Просто донскому казачеству своеобразную рекламу сделал своим творчеством Шолохов. Другим так не повезло. Но сейчас снят запрет с творчества Павла Васильева, и я думаю страна, наконец, узнает и о сибирских казаках…
Игорь ушел, глубоко задумавшись, а Ольга Ивановна все более уверялась, что этот, почти подпольный, урок ей удался.
25
Учителей обязывали подписываться на «Учительскую газету» и еще какой-нибудь центральный политический орган печати. Многие педагоги всячески пытались этого избежать, дабы не тратить напрасно деньги. И в самом деле, девяносто процентов учителей поселковой школы составляли женщины и они, как правило, газет либо вообще не читали, либо читали очень мало. Ольга Ивановна, опять же, за отсутствием семейных забот, газеты и выписывала, и читала. Кроме «Учительской» она выписывала «Комсомолку», несомненно самую интересную изо всех советских газет, «Правду», «Казахстанскую правду» и «толстый» литературный журнал «Знамя». Самый популярный «толстяк» «Новый мир» ее привлекал меньше из-за слишком прямолинейной продиссидентской позиции, а вроде бы прорусский «Наш Современник» отталкивал слишком уж примитивным патриотизмом и невысоким художественным уровнем публикуемых произведений.
В газетах почти всю вторую половину 86 года печатали регулярные репортажи, хронику событий с Чернобыльской АЭС, а также статьи под рубрикой: курсом ускорения и перестройки. И вообще шла санкционированная с верху компания по «расшевелению» страны. Пытались таким образом стимулировать явно угасший энтузиазм советских людей, призывали хорошо и самоотверженно трудиться. Но из-за резкого снижения рождаемости сократилась доля молодежи в общей численности населения в тех союзных республиках, которые в основном поставляли «комсомольцев-добровольцев», России, Украине, Белоруссии. А люди среднего и, тем более, старшего возраста на такие призывы уже не «клевали».
В том, что их поселок находится еще не в самом плачевном состоянии, Ольга Ивановна убеждалась, когда ей приходилось бывать в райцентре, будучи вызванной на совещания в РОНО. Серебрянск, город возникший между побережьем Иртыша и деревней Пихтовка, располагавшейся в трех километрах ниже самого узкого места, где Иртыш, пробив «дно кофейника», вырывался из Долины. Эта «дырка» представляла собой примерно 150 метровый проход между двумя нависшими над рекой утесами. Немудрено, что именно здесь решили перегородить Иртыш плотиной. Город, возникший во время строительства ГЭС и принявший от затопленной Усть-Бухтармы функции райцентра, с тех самых пор, с начала шестидесятых, все более хирел. Его население сократилось с 25 тысяч до 11-ти. В Серебрянске кроме ГЭС имелся еще средних размеров завод неорганических веществ и ряд мелких предприятий легкой и пищевой промышленности.
Прохаживаясь по хорошо знакомым ей улицам, где прошла ее далеко не радостная молодость, Ольга Ивановна воочию видела, каким неприглядным стал город, про который когда-то писали во всех центральных советских газетах, рожденный энтузиазмом тысяч молодых людей, прибывших на ударную комсомольскую стройку. Сейчас те уже постаревшие энтузиасты регулярно приезжали сюда на юбилейные празднества, день начала перекрытия Иртыша, пуска первого энергоблока… В городе имелась всего одна гостиница, и Ольга Ивановна частенько встречала тех ветеранов, ибо тоже останавливалась там же. Это были люди в основном больные, с трудом передвигающиеся, плохо видящие, со свистом, тяжело дышавшие, говорившие и слушавшие с помощью специальных устройств и слуховых аппаратов. Они были ещё даже не древние старики, ее ровесники или чуть старше, и тем не менее смотрелись они развалинами. На строительстве ГЭС они, тогда еще молодые и здоровые, оставили и молодость, и здоровье, сделав несчастными не только себя, но и своих жен, свои семьи. Ольга Ивановна хорошо помнила тогдашнюю городскую газету, выходившую со статьями о строительстве, они напоминали сводки с места боевых действий: вчера бригада, работавшая на строительстве шлюзовой камеры № 3 дала 110 % дневной нормы, или: квартальный план по вводу в строй енного энергоблока превышен на 20-ть процентов. Работали круглосуточно в четыре смены.
И вот теперь она видела тех строителей-ударников, которых после этой ГЭС послали еще куда-то, на Ангару, Енисей… Их чествовали, награждали, обеспечивали бесплатный проезд, но мало кому, кроме тех, кто сделал на таких стройках карьеру, этот ударный труд принес настоящий достаток и настоящее семейное счастье, многих вообще не завели семей. Холодная иртышская вода, стужа зимой, промозглые сырые весны и осени… и пропаганда активистов, призывавших преодолевать трудности не считаясь с личным. О здоровье тогда вообще говорить было не принято, но получалось так, что призывали не считаться со своим здоровьем, не обращать на него внимание. Ведь молодых так легко сагитировать, то есть обмануть, увлечь. Как увлекали их предков в гражданскую войну лозунгами-химерами, так же и в 50-х-60-х лозунгами о грядущем коммунизме, де надо только вот немного постараться, построить все эти станции и заводы и тогда заживем. В те годы людей еще можно было поднять в так называемые «трудовые атаки». Но в 80-е этот «лимит» уже исчерпали. У нового поколения не мог не родиться вопрос: наши деды-прадеды воевали в гражданскую, чтобы их дети хорошо жили, следующие поколения совершали коллективизацию и индустриализацию, победили в Великой Отечественной Войне, поднимали Целину, выполняли семилетки и пятилетки, запускали спутники, перекрывали Волгу, Иртыш, Ангару, Енисей, чтобы их дети, наконец, зажили сыто и устроено, а сами жили плохо и терпели это ради потомков. Но когда же, когда!? В начале 60-х недалекий Хрущев вроде бы даже назвал конкретную дату этого самого «счастливого завтра», построения коммунизма – 1980 год. Именно тогда наступит эра полного изобилия. Но вот они, наступили восьмидесятые. Где же она, жизнь-то счастливая, где обещанный коммунизм, где оно изобилие???
Тем не менее, руководство страны по-прежнему спускало в области и края предписания, требующие повышать темпы промышленного развития, уровень производительности труда. «Кнутом», который должен был подстегнуть становящихся все более инертными советских людей, стала госприемка. Ожидалось, что несколько крупнейших предприятий области тоже вот-вот должны откликнутся на этот почин.
В Серебрянске, у Ольги Ивановны было немало знакомых, особенно в среде тех с кем она работала в тамошней школе еще в свою бытность молодым педагогом. Один из этих знакомых, учитель-историк, стал директором одной из трех серебрянских школ. Будучи немного старше Ольги Ивановны, он все свои силы положил, чтобы организовать при школе музей… музей декабристов. Казалось, какое отношение имеет верхнеиртышье к декабристам. Оказалось, имеет. Дело в том, что здесь отбывал ссылку один из братьев Муравьевых-Апостолов. И отбывал он ее не где-нибудь, а в Бухтарминской крепости. Никогда не состоявшая с этим директором в дружеских отношениях, Ольга Ивановна, тем не менее, решила посетить его музей. Ее интересовал не Муравьев-Апостол, ее интересовала Бухтарминская крепость, но, конечно, свой визит она объяснила именно интересом к личности декабриста.
Школу, в которой она начинала работать учителем младших классов еще в конце 50-х годов, Ольга Ивановна посетила в конце прошлого учебного года, в мае. Директора-музейщика на месте не оказалось и его пришлось ждать. Школа располагалась рядом с городским стадионом. На рубеже 50-х и 60-х, в период строительства ГЭС на том стадионе устраивались всевозможные пышные празднества, публичные награждения, митинги, соревнования, спартакиады. Сейчас он смотрелся обветшавшим, как и весь город: запущенное футбольное поле почти без травы, кое как посыпанная шлаком беговая дорожка, поломанные скамейки на трибунах. Ольга Ивановна дожидалась директора в вестибюле такого же старого школьного здания и смотрела на стадион, где шел урок физкультуры в одном из старших классов. В этом построенном еще в 50-х годах школьном здании не было предусмотрено спортзала, и когда позволяла погода, учителя физкультуры использовали для проведения уроков стадион. В открытые настежь окна было хорошо и видно, и слышно, что там происходит. Ученики, по всей видимости, 9-го класса сдавали нормативы по бегу на километр. Бежали девочки. Ольгу Ивановну привлек крик одного из зрителей-мальчишек, наблюдавших за бегом с трибуны:
– Быстрее костыли передвигай, жиртресина!.. Бешбармака обожралась сука калбитская, еле жопой шевелит! – вторили ему другие такого же хулиганистого вида пацаны.
Ольга Ивановна посмотрела на беговую дорожку. Она хорошо просматривалась из вестибюля школы, ибо стадион находился, как бы в небольшой впадине заметно ниже школы. Бегущие девочки были в основном такие же, каких привыкла видеть Ольга Ивановна и в своей школе, худые и голенастые, в спортивных тренировочных костюмах, которые сидели на них почти так же как на мальчишках. Но две девочки заметно отстали, к тому же, они отличались от остальных тем, что смотрелись весьма полными, и на них спортивные костюмы не висели как на вешалках. Одна из отставших была русской, вторая казашкой. Но с трибуны хулиганистые пацаны, сплошь русские, адресовали свои оскорбительные выкрики только казашке, будто рядом не бежит едва передвигая свои обтянутые трико толстые ляжки другая толстуха. Впрочем, справедливости ради, надо было признать, что полнота русской девочки, в отличие от казашки все же смотрелась скорее аппетитной, нежели отталкивающей. Тогда Ольга Ивановна не обратила внимания на тот эпизод, тем более, что тут как раз подошел директор. Она вспомнила его уже сейчас, когда, после разговора с пребывающей в состоянии почти транса Караваевой, стала размышлять о межнациональном согласии в стране. Ведь национальная неприязнь как была, так и продолжала существовать на самом естественном, бытовом уровне. Ею в большей или меньшей степени были заражены очень многие. Её предки-казаки испытывали неприязнь к киргиз-кайсацам, как результат векового немирного соседства. Но сейчас с самых высоких трибун громогласно объявили о создании новой общности, единого советского народа. Еще один блеф, вранье, как и с коммунизмом, неприязнь она как была, так и осталась. Вон даже детям не нравится, что в полуголодном городе в какой-то казахской семье едят мясо, когда его нет в свободной продаже и большинство вынуждено «поститься». А вот то, что русская девочка тоже по всему неплохо кушает, такого раздражения уже не вызывает. Хотя не будь там этой казашки, может, и та вторая вызвала бы похожую антипатию, тем более спортивный костюм на ней был явно импортный, дорогой – или дочь какого-нибудь местного начальника, или офицера из штаба воинской части, расположенной в городе, которую снабжали по линии Военторга.
Директор искренне обрадовался интересом проявленный Ольгой Ивановной к его музею. До Перестройки он не вызывал одобрения у чиновников в РАЙОНО за то, что в небольшой школе под него заняли помещение, которое вполне можно было приспособить под учебный кабинет. Но вот декабристы вновь вошли в моду, и едва ли не всех официальных гостей, прибывавших в город, обязательно вели в музей, который, нежданно-негаданно стал достопримечательностью города наряду с плотиной ГЭС и памятником расстрелянным коммунарам. Впрочем, то был музей всего одного декабриста, Матвея Муравьева-Апостола, которого в 1829 году перевели отбывать ссылку по состоянию здоровья из Вилюйска в Бухтарминскую крепость, в местность с сухим, здоровым климатом… Да, тогда здесь был очень здоровый климат.
– Представляете, он, аристократ, подполковник гвардии, герой Отечественной войны 1812 года, прошел путь в несколько тысяч километров вот в этих лаптях! – чуть не захлебывался от восторга директор.
Это был главный экспонат музея – лапти декабриста. Где их добыл директор, оставалось тайной, как и их подлинность. Другие экспонаты оказались не столь оригинальны, то ли рубище, то ли рубаха, какие-то полуистлевшие документы, обиходные предметы и утварь того времени, макет дома, где помещался ссыльный Муравьев-Апостол…
– Здесь он жил три года, в доме статского советника Бранта. Занимался обучением детей коменданта крепости майора Головина. Он даже здесь женился на дочери местного таможенного чиновника…
– Извините Иван Никитич, я вас перебью, вы говорите здесь, но вы же имеете в виду не Серебрянск, а Усть-Бухтарму, тамошнюю крепость, – сочла нужным поправить директора Ольга Ивановна.
– Да какое это имеет значение. Той крепости давно уж нет, она затоплена. Я всем кто приходит так и говорю, что здесь, здесь это было. А кто ж такие тонкости знает, про крепость?
– Я знаю, – изменившимся тоном, сухо произнесла Ольга Ивановна, показывая, что она столь пренебрежительным отношением к «деталям» обижена. – В то время, в 1829 году, здесь располагались всего лишь рудник да пристань названная Серебрянкой и маленькая деревушка Пихтовка, а там (она чуть не сказала, у нас) была крепость с гарнизоном, таможня и большая станица…
Ничего нового от посещения музея Ольга Ивановна не узнала. Директор оказался никудышным краеведом, и его больше интересовала не историческая точность, а внешняя сторона дела – он хотел на старости лет хоть немного прославиться за счет этого Матвея Муравьева-Апостола, второстепенного декабриста, правда брата знаменитого Сергея Муравьева-Апостола.
26
Дисциплина в новобухтарминской школе оставляла желать лучшего. Кроме нотаций, ничем более существенным на учеников педагоги воздействовать не могли. Угрозы снизить оценку, или даже оставить на второй год были недейственными, и означали всего лишь сотрясание воздуха. В системе советского образования существовал такой же «план», как на предприятии по выпуску продукции, или в МВД по раскрытию преступлений. Претворялась в жизнь жесткая установка на достижение всеобщего среднего образования. Вот и попробуй после этого ставь двойки и оставляй на второй год… и сами же учителя окажутся виноватыми, крайними. Тем более, невозможно никого исключить из школы за плохое поведение. В таких условиях единственным более или менее приемлемым способом воздействия на нарушителей дисциплины оставалось вызывать родителей и жаловаться уже им. Но с падением престижа семьи и роли в ней отца, как главы семейства, и это являлось далеко не всегда действенным. Труд педагогов становился невероятно тяжелым, иногда просто невыносимым. И как следствие в пединституты (за исключением исторических факультетов, позволявшим сделать номенклатурную карьеру) поступало немного народу, и отбора как такового фактически не было.
Ольга Ивановна, иной раз, проходя по длинному школьному коридору уже по звукам, раздающимся из-за дверей классных комнат, могла судить, кто проводит урок, учитель который может «держать» класс, или тот который не может. Когда подходила к своему кабинету тоже слышала шум, но едва она входила там воцарялась тишина. Таких учителей, которых либо уважали, либо боялись, в школе было немного. Часто подобная «квалификация» учителя определялась не возрастом и даже не опытом педагога. Случалось, что, имея тридцатилетний стаж, учительница предпенсионного возраста ничего не могла поделать с «архаровцами», и наоборот молоденькая, только что пришедшая с института пигалица вдруг так себя «ставит», что на ее уроках даже десятиклассники «тише воды, ниже травы». В любом деле нужен талант, или хотя бы способности. Но в результате невысокого престижа учительской профессии в СССР учителями часто становились те, кто ими никак не должны были быть. Когда главными чертами педагога становились характер и воля, на второй план отступал такой фактор как интеллект учителя. Потому многие педагоги за рамками своего предмета были, в общем-то, достаточно «дремучими» людьми. Особенно этим грешили учителя негуманитарии, большинство из них не читали никаких книг и даже писали с ошибками. Встречались и такие, кто и свой-то предмет знали весьма поверхностно в объеме школьного учебника. Ольга Ивановна отчетливо, не хуже чем родителей и свой харбинский дом, помнила свою харбинскую гимназию, тамошних преподавателей и учениц, своих подружек из далекого детства. Конечно, там не держали тех, кто не хотел учиться, и дисциплина была совсем иной.
Начав помогать молодой «англичанке» Елене Михайловне, Ольга Ивановна вскоре обнаружила, что та довольно быстро втянулась в работу и уже через месяц вполне сносно управлялась со своим пятым классом, состав которого являлся достаточно разношерстным. Ей дали класс «В», то есть третий по счету и последний. Ведь при переходе из начальной школы в среднюю сначала изо всех учеников набирают наиболее сильный класс «А», затем похуже «Б», на эти классы, как правило, ставили сильных опытных классных руководителей, чтобы впоследствии из них сделать «передовиков-маяков», предназначенных прославлять школу на районных и областных уровнях. Ну, а в «В» попадали те, кто не подошли в «А» и «Б».
– И все же у Елены Михайловны тоже далеко не все получалось. Однажды Ольга Ивановна застала её в слезах.
– Что случилось Леночка? – встревожилась она за нее.
Та вытерла глаза, явно преодолевая рыдания.
– Не могу… не могу… уволюсь, уеду… пусть диплома лишают, это уже не возможно терпеть! Ольга Ивановна, понимаете, меня ученик… послал… понимаете, – Елена Михайловна вновь зарыдала.
– Кто… Хныкин? – предположила наиболее вероятное Ольга Ивановна, ибо этот второгодник, несмотря на еще малый возраст, стал уже абсолютно неуправляем и обещал за годы, оставшиеся ему до получения «гарантированного» неполного среднего образования еще испортить учителям немало нервов.
– Да… Как быть, прямо не знаю. Идти директору жаловаться? Огласка ведь теперь будет на весь поселок, как оплеванная ходить буду!
– Так… подожди. Как это случилось, еще кто-нибудь слышал? – сразу «включилась» в переживания молодой учительницы Ольга Ивановна.
– Нет, я его одного вызвала и стала отчитывать за то, что с уроков постоянно сбегает, учителям грубит. А он меня вот… пошла ты, говорит. Потом повернулся и ушел. И главное домой к нему нет никакого смысла идти, вы же знаете, отца у него нет, а мать для него не указ. Что теперь делать, не знаю? – растерянно шмыгала носом Елена Михайловна.
– Успокойся Леночка, и никому больше про это не говори, даже коллегам не вздумай проболтаться. И директору не надо. Он же тебя первую и обвинит в неумении работать с классом, а помочь не поможет. Ты выжди дня два. Я знаю этого Хныкина, он вспыльчивый, но не злой мальчишка. Он за это время отойдет, а ты делай вид, будто ничего не произошло, а потом опять его вызови, и спокойно, без нервов с ним поговори. Я уверена, он сам прощения попросит и у тебя с ним больше конфликтов не будет. А если ничего не получится, я с ним тогда сама поговорю…
Через неделю Елена Михайловна пришла благодарить Ольгу Ивановну за совет:
– Ой, спасибо вам… Ведь могла бы дров наломать. Поверите, действительно, сам прибежал, извинялся, божился, что больше такого не повторится.
– Ты, Леночка, от него особенных то сдвигов в поведении не жди, ты, главное, добейся, что бы он тебя слушался и с твоих уроков не сбегал. А если другие жаловаться на него приходить будут, особенно не усердствуй. Хоть ты и классный руководитель, но они-то тоже учителя, а не урокодатели, и опыта у них побольше твоего, так что пусть будут добры на своих уроках и посещаемость и порядок обеспечить, а не бегать чуть что к классному руководителю. У нас тут немало таких, готовых покрывать за чужой счет свой непрофессионализм и слабохарактерность…
После этого случая у Ольга Ивановна возник вопрос к самой себе: возможно ли было такое, чтобы ее мать, в бытность молодой учительницей устьбухтарминского высшего начального училища, вот так же «послал» кто-то из ее учеников? И вообще, было такое возможно в тех дореволюционных школах, училищах, гимназиях? Из своего детства она ничего вспомнить не могла, ибо тогда в Харбине обучение девочек и мальчиков было раздельное, и в их женской гимназии такого случиться просто не могло. Но она, опять же, в этой связи вспомнила свой последний визит в Усть-Каменогорск этим летом, когда не один день просидела в краеведческом музее на улице Урицкого, в поисках документов имеющих отношение к ее деду. На глаза ей попалась очередная ветхая бумага, свидетельствовавшая, за что ученикам в те предреволюционные годы снижали оценки по поведению. Причем тогда оценивалось не только поведение в школе, но и вообще поведение в повседневной жизни. В одной станичной школе оценку по поведению снизили трем ученикам, и за что… Первому мальчику за «курение табаку», второму за то же и «мотание по станице в позднее время». И одной девочке была снижена оценка за «смех и разговоры в церкви». И наверняка, за эти «проступки» те казачьи дети подвергались обструкции в школе, а уж дома… Ведь это был позор для всей семьи.
С удивлением ознакомилась Ольга Ивановна и с перечнем предметов, которые преподавались в высших начальных станичных училищах. Кроме «Закона Божьего», «Русского языка и словесности», «Арифметики», в том четырехклассном начальном училище преподавали: «Начала алгебры», «Геометрию», «Географию», «Историю России», «Естествознание», «Физику», «Рисование и черчение», «Физические упражнения» для мальчиков, и «Рукоделие» для девочек. То есть большинство предметов той начальной казачьей школы, соответствовали нынешней средней. А для получения среднего образования надо было кончать либо гимназию, либо кадетский корпус, коммерческое училище, либо после начальной школы поступать в реальное училище. Что такое гимназия, Ольга Ивановна очень хорошо помнила, хоть и успела проучиться в ней всего четыре года, конечно с советской школой она не шла ни в какое сравнение. Но она понимала и другое, что правда, то правда – тот сословный характер образования в Российской Империи позволял получать это очень качественное образование далеко не всем. И гимназии, и даже высшие станичные училища заканчивали лишь немногие из российских подростков того времени. Немало крестьянских детей вообще не имели возможности ходить в школу по самым различным причинам, а те кто ходили, довольствовались министерскими и церковно-приходскими начальными школами, уровень преподавания в которых, как правило, был крайне невысок. Размышляя об образовательном уровне усть-бухтарминцев перед революцией, Ольга Ивановна приходила к выводу, что тогда во всей станице была всего лишь одна женщина с законченным средним образованием – ее мать. Мужчин со средним образованием насчитывалось, конечно, больше, ведь в станице имелись и почтово-телеграфное отделение, и таможня, не говоря уж о том, что некоторые молодые станичники учились и заканчивали кадетские корпуса и реальные училища, а ее отец к тому же закончил и юнкерское. Увы, узнать хоть что-то более конкретно не было никакой возможности, архив станицы Усть-Бухтарминской не сохранился.
Сейчас в Новой Бухтарме на восемь-девять тысяч жителей приходилось наверное несколько десятков людей с высшим и еще больше со средне-техническим образованием, и за исключением глубоких стариков едва ли не все имели как минимум неполное среднее, полученное в школе. И что, это как-то сказалось на уровне культуры и общего развития населения?… Что же лучше, то сословное, далеко не для всех, но несомненно очень качественное среднее образование, канувшее в лету вместе с самой Российской Империей, или нынешнее советское всеобщее среднее образование, превратившееся в профанацию образования как такового и муку для педагогов? Ольга Ивановна имела много свободного времени и ее частенько одолевали эти не находившие ответов вопросы. Впрочем, избыток свободного времени рождал не только вопросы о качестве образования, но и массу других. О том же сословном делении российского дореволюционного общества ее отец всегда говорил с крайним возмущением, подчеркивая, что эта сословность как путами опутывала страну и не давала ей нормально развиваться. Он любил приводить в пример свою собственную учебу. Он, сын казака, чудом попавший в кадетский корпус, но окончивший его по первому разряду, то есть с хорошей успеваемостью, получил право поступать без экзаменов только в Оренбургское казачье юнкерское училище, котирующееся среди всех военных учебных заведений Империи весьма невысоко. А отпрыски сибирской военной аристократии, после того же кадетского корпуса, получали направления в престижные петербургские и московские юнкерские училища, откуда прямиком шли в гвардейские казачьи полки, дислоцирующиеся в столице империи и там, как правило, быстро добивались должностного продвижения, чинов и наград. В то время как периферийные офицеры для достижения оных должны были буквально «прыгать выше головы». Похожая градация имелась и у штатских чиновников. Например, для любого дворянина после окончания гимназии была прямая дорога в университеты, куда доступ основной массе населения был вообще закрыт. В условиях, когда около 70 % населения страны вообще было неграмотно, такая сословная система образования не могла не вносить глубочайшего раскола в общество. На этом и основывал свое обвинение правящих классов Иван Игнатьевич Решетников: царь, аристократия и высшие чиновники, словно ослепнув, не видя проблем внутри своей страны, вбухивали миллионы золотых рублей в строительство того же Харбина, на проведение активной внешней политики, безоглядно ввязывались в войны. Когда маленькой девочкой Ольга Ивановна слышала эти обвинения… она, конечно, ничего не понимала. И как ей удалось все запомнить? Она и сама не могла себе этого объяснить, тем не менее, она все помнила, и сейчас очень хорошо понимала.
И опять возникал все тот же уже многократно формулируемый ею вопрос-вывод: так, что же в конечном счете изменилось, зачем же делали и революцию и все прочие преобразования, если социального равенства как не было до революции, так и нет сейчас, в обществе так называемого «развитого социализма»? Зачем устранили ту верхушку общества, которая, какой порочной она ни была, тем не менее, накопила за века господства в стране немалые духовные и интеллектуальные ценности? Чтобы вместо нее встала нынешняя, у которой нет ни того, ни другого, что видно по интеллекту ее последних вождей? Что же, ждать пока эта верхушка проглавенствовав столетия тоже накопит этот интеллектуальный слой? Но судя по последним событиям не удержаться им у власти и одного столетия, и опять есть опасность, что страна окажется почти на нуле, как в Смутное время, или после Революции и Гражданской войны…
27
Детство у большинства людей плавно перетекает в юность. У Ольги Ивановны оно кончилось, счастливое, беззаботное внезапно в сентябре 1945 года. Хоть при японцах в Харбине уже не было той свободы, что имела место до них, но русские белоэмигранты продолжали жить едва ли не так же, как и до 1932 года. Ходили в церковь, справляли праздники, ели, пили, влюблялись, учились в русских школах и гимназиях. Правда, в большинстве ВУЗов японцы упорно изживали преподавание на русском языке, а русские фирмы национализировали или разоряли… Но вот такого, что бы те же японские солдаты врывались в русские частные дома и грабили их – о таком и помыслить никто не мог. Хотя, в то же время в отношение к китайцам японцы могли допускать полное беззаконие. Так одним из самых ранних осознанных воспоминаний Ольги Ивановны стал произошедший где-то на рубеже тридцатых и сороковых годов инцидент. Она смутно помнила, как в дом прибежала крайне возмущенная мать, нагруженная всевозможными сумками. Она стала жаловаться отцу, что их служанку китаянку, с которой она ходила на базар, бесцеремонно прямо на улице забрал японский патруль и вместе с прочими случившимися там же китайцами погнали на пристань, разгружать какую-то баржу со срочным грузом. Такое случалось нередко, японцы хватали первых попавшихся им под руку китайцев и заставляли делать какую-нибудь тяжелую разовую работу, естественно не платя за нее ни гроша, и часто не делая разницы между мужчинами и женщинами. Русских для таких авралов они никогда не привлекали, ни мужчин, ни тем более женщин. В тот раз японцы заставили прислугу отдать все сумки хозяйке, то есть матери Ольги Ивановны и, подталкивая прикладами винтовок, погнали бедную женщину на пристань. Возмущенная Полина Тихоновна обратилась к японскому офицеру, командовавшему этой «операцией» со словами: а кто же понесет теперь мои сумки? Возможно, она думала, что японец не знает по-русски и не поймет её, лишь констатирует ее возмущение таким произволом. Но японский офицер понял и, улыбнувшись, ответил на ломанном русском:
– Мадам, ваша служанка несколько часов будет работать на японскую императорскую армию. Если хотите, можете ее здесь дождаться, но вы такая большая, что сможете эти сумки донести и сами.
– Хам, наглец… узкоглазый урод! – кричала мать.
Отец же утешал ее и без лишних эмоций разъяснял:
– Ничего не поделаешь Поля, они сейчас тут хозяева…
Такой злой Оля свою мать еще никогда не видела, разве что еще раз уже в 1943 году, когда японцы ввели запрет на балы, любимое развлечение русских белоэмигранток и конкретно Полины Тихоновны, которая и на пятом десятке на них блистала. Ох, знали бы они, кто придет на смену японцам, и как будут вести себя те «сменьщики», так называемые свои, русские, советские, какие балы-маскарады устроят они русских харбинцам.
Красная Армия вошла в Харбин 25 августа 1945 года. А второго сентября на банкет в честь победы над Японией в Большой зал Железнодорожного собрания был приглашен весь цвет города, самые известные представители русской интеллигенции: предприниматели, врачи, железнодорожники, артисты и прочие состоятельные граждане. Прямо с банкета их затолкали в машины и отвезли в тюрьму, а оттуда в теплушки и отправили в Союз, в лагеря. После этого СМЕРШ начал проводить повальные аресты в городе. Отец с матерью все это время безвылазно сидели дома и никуда не пускали Олю, ведь не работали никакие фирмы, магазины, не функционировали и гимназии. Дом… О, до мельчайших подробностей Ольге Ивановне иногда снился их дом и прилегающие к нему улицы Нового города, вдоль которых были высажены деревья одного типа: одна улица сплошь березы, на другой – тополя, другие – вязы, орех. Во дворе их дома росли кусты душистой сирени, от которых весной во время цветения шел такой аромат. Мать каждый год высаживала под окнами астры, георгины, бальзамин, а небольшую летнюю беседку обвивали заросли вьюна. Помнила она и ту прекрасную церковь, на освещение которой в сорок первом году ходила вместе с родителями, и которую, как она недавно узнала, в 66-м году взорвали хунбейбины. Тогда она не понимала значение этого события, но сейчас не могла не удивляться – в сорок первом накануне вступления в мировую войну японцы разрешили русской общине города открыть новый храм. Это в тот период, когда в самой России были уничтожены тысячи церквей. Все эти воспоминания о доме и о том, что с ним связано, лились бальзамом на душу Ольги Ивановны. А вот что случилось потом, она уже не могла вспоминать без боли сердечной.
Дом Решетниковых сначала просто ограбили. Пришли какие-то солдаты. Они под видом обыска перевернули все вверх дном, забрали многие ценные вещи, в том числе, что были подарены Оле родителями и знакомыми на праздники и именины, золотые крестики, перстеньки, ладанки с красивой инкрустацией. Никогда потом у Ольги Ивановны не было таких красивых и дорогих украшений и безделушек. Мать порывалась что-то отстоять спасти, но отец, понимавший, чем это может кончится, сдержал ее. Они все трое со слезами на глазах наблюдали, как разоряется их гнездо, которое они с такой любовью обустраивали и обживали, а Оля, так другого и не знала. Ольга Ивановна на всю жизнь запомнила те свои слезы и рыдания, когда штыками разрезали матрац на ее кровати, ища и там золото и ценности. После того «обыска», стало ясно, что занятия в гимназии, в пятый класс которой Оля перешла, уже не возобновятся. К ним приходили знакомые, делились впечатлениями о массовых арестах и обысках, рассказывали, что молодых девушек просто хватают на улицах, затаскивают в подвалы СМЕРШа, насилуют, а потом вывозят на окраину города и там оставляют, что так пострадали уже многие. Оля тогда еще не знала значения этого слова – изнасилование, но помнила, как испугалась мать, и явно испугалась за нее, как она тихо говорила отцу:
– Но она же еще совсем маленькая, ее не должны…
С детским любопытством она прислушивалась к этим разговорам, и когда ее отсылали в свою комнату, приникала ухом к двери. Так она услышала рассказ знакомой матери о том, как советские солдаты бесчинствовали в одном богатом купеческом особняке. Насилуя женщин, они приговаривали:
– Вы все тут белогвардейское отродье, схоронились и жировали, пока мы там кровь проливали и хлеб пополам с отрубями жрали… имеем право вас сытых, гладких помять…
После этого отец сказал матери:
– Нам еще повезло Поля, что тогда просто ворье зашло. Если бы тебя или Олюшку вот так же… я бы достал револьвер спрятанный и убивать бы их стал. И тогда все бы мы пропали.
Но радовался отец рано, в самом конце сентября, поздно вечером, к ним вновь пожаловали с обыском. На этот раз то оказалась настоящая следственная группа СМЕРШа и они предъявили официально выписанный ордер на обыск. Когда они вошли, возглавлявший группу офицер обратился сначала к отцу:
– Вы, есаул белой армии Иван Игнатьевич Решетников?
– Бывший есаул, – дрогнувшим голосом уточнил отец.
– А вы, значит, супруга есаула, сотрудница белогвардейского Бюро по делам русских эмигрантов Полина Тихоновна Решетникова?…
Обыск проводили очень тщательно. Никакого грабежа не было, но «вывернули все наизнанку». Обнаружили спрятанный револьвер отца, и браунинг, когда-то спасший ее мать, нашли и кортик. Майор-смершевец, руководивший обыском с удивлением спросил, разглядывая кортик:
– Откуда он у вас, ведь вы казачий офицер, а не морской?
– По случаю достался, – уклончиво отвечал отец.
– Зачем вы его хранили?
– Да так, как что-то вроде символа.
– Какого символа?
– Им убивали Россию, – на полном серьезе отвечал отец.
– Интересно… – смершевец внимательно посмотрел на отца и больше уже ничего не спрашивал, хоть явно ничего не понял.
Ничего не поняла тогда и Оля, как и сейчас не могла «расшифровать» слова отца и Ольга Ивановна.
Родителей арестовали, а Оля одна осталась в доме и провела остаток ночи без сна, пугаясь каждого шороха. Прощаясь, мать наказывала, как рассветет, одеться потеплей и бежать к их хорошим знакомым, супружеской паре, жившим в районе Модягоу. Знакомые не были замешены ни в каких «белых» делах, а жена к тому же являлась Олиной преподавательницей в гимназии. Пара была бездетна и мать, видимо, понимая, что их с отцом судьба решена, надеялась, что преподавательница возьмет Олю к себе и потом сумеет выбраться из этого ада, эмигрировать. В крайнем случае, если не будет возможности добраться до преподавательницы, мать наказывала идти в другую сторону, в китайский район Фудзядан в дом многим обязанной Решетниковым их бывшей прислуги, чью семью родители Оли приютили во время страшного наводнения 1932 года. Возможно, так бы оно и вышло, если бы Оля, перепуганная и измученная бессонной ночью, не заснула, и в тревожном сне проспала слишком долго. Ее разбудили военные, которые пришли уже за ней, велели одеть пальто, взять самые необходимы вещи и увели, закрыв и опечатав дом… дом в котором она была счастлива как никогда потом. Счастье кончилось сразу в ту сентябрьскую ночь, и по большому счету больше никогда к ней не возвращалось. В Харбине сентябрь, это едва ли не лучшее время года, тепло, безветренно – благодать. И эту благодать, и ту тревожную ночь, когда она в последний раз, мало что, в общем, понимая, видела родителей, Ольга Ивановна помнила хорошо, отчетливо, будто то случилось совсем недавно.
Ей, особенно в последнее время, часто снились сны о Харбине, о ее детстве. В условиях товарного и продовольственного дефицита и мучительных очередей за всем, чем только можно, когда казалось вот-вот соль и спички исчезнут с прилавков, ей вдруг стали сниться харбинские продовольственные магазины и лавки довоенного периода, когда Маньчжурия еще не надорвалась от военных поставок. При этом довольно скудное существование сороковых годов, когда ввели карточки на хлеб и ряд других продовольственных товаров в ее памяти запечатлелись не так ярко. Возможно потому, что мать, являясь к тому времени уже довольно влиятельной чиновницей в Бюро по делам русских эмигрантов, к распределению тех же продовольственных карточек имела самое непосредственное отношение. Но и тогда голода в городе не было, особенно летом и щедрой маньчжурской осенью, когда базары заполнялись всевозможными овощами и фруктами…
Сейчас, когда Ратникова привезла ей венгерские яблоки и абхазские мандарины, Ольге Ивановне явственно припоминался именно осенний харбинский зеленый базар, и море, изобилие фруктов там продававшихся. Тогда в конце 30-х и 40-е, несмотря ни на что там продавались и бананы и грейпфруты, арахис, молодые очень вкусные побеги бамбука, а также замечательные китайские пельмени из самых различных сортов мяса, с зеленью, всевозможные сыры. И это в условиях идущей не так уж далеко оттуда, в том же Китае, войны. Сейчас чуть ли не во всем огромном СССР сыр самого плохого качества «выбрасывали» нечасто и его брали в драку. В Новой Бухтарме в свободной продаже он был только один раз за весь 1986 год, перед праздником седьмого ноября. Снились ей и знаменитые харбинские гастрономы. Хотя мать частенько «стонала», что раньше, до японцев, выбор там был куда богаче, но Оля тогда еще не родилась, и ей не с чем было сравнивать. Она сравнивала сейчас, все свои десятилетия советской жизни с теми харбинскими гастрономами. Среди учителей Ново-Бухтарминской школы ходили разговоры о казахстанских немцах, уехавших на ПМЖ в Западную Германию. Они писали оттуда, оставшимся в Союзе родичам и друзьям, о бесчисленных сортах колбас и сыра, продающихся в тамошних магазинах. Учителя не могли в это поверить. Ольга Ивановна верила, ведь она помнила то, что видела собственными глазами. Ее мать делала покупки в чуринском гастрономе, потому, что как жена служащего фирмы могла покупать с определенной скидкой. Ольга Ивановна не могла помнить, например, что за консервы там продавались, но помнила, что их было много, и они были с красочными этикетками. А колбасы, в выборе которых она тоже участвовала, вернее мать делала вид, что с ней советуется: колбаса чайная двух видов, с чесноком и без оного, колбаса польская, краковская, московская, ливерная… Причем та ливерная была совсем не такая, на какую в 80-х в основном «посадили» весь советский народ.
До декабря 41-го года в Харбин привозили товары со всего мира, их было так много, что глаза разбегались. Особенно разнообразен был выбор перед различными праздниками. То же мясо, которое в советской действительности всегда было дефицитом, в Харбине на базаре висело на крюках бесчисленными коровьими, свиными и бараньими тушами вперемешку с гусями, утками, фазанами. Яблоки, что в большинстве северных и восточных районов СССР люди вообще не знали, там стояли плотно уложенные в огромные корзины, а зимой укрытые ватными одеялами от морозов. Причем уличная торговля не прекращалась до темноты. Ольга Ивановна отчетливо, будто то случилось вчера, помнила, как в том же чуринском универсальном магазина в Новогодние праздники детей приветствовал Дед Мороз, угощавший их конфетами. Так же Дед Мороз приносил на дом своим подписчикам детский журнал «Ласточка», который для Оли выписывали ее родители. А на пасху продавали сувенирные яйца всех размеров и цветов, даже шоколадные яйца. Олю родители баловали, и она ни в чем не имела отказа, тем более в лакомствах. А рыба… Во всех советских провинциальных магазинах уже несколько лет продавался только минтай, да иногда сельд-иваси, больше никакой рыбы не было, словно все окрестные моря и реки разом обезрыбели. А из снов возвращающих в детство: всевозможные сорта копченой рыбы, семга, сельди, угри, бочки заполненные красной икрой… И чудо, вообще немыслимое в советской действительности – у Чурина даже зимой продавалась свежая клубника. Ну, а что касается мандаринов, при виде и запахе которых у Ольги Ивановны даже защекотало в носу… Она почти въяве помнила, как на том же харбинском зеленом базаре они лежали целыми огромными кучами, как какой-то картофель. Причем если советских людей раз в год на Новый Год, да и то далеко не всех, одаривали однообразными кисло-сладкими абхазскими плодами, то в Харбин их привозили из разных районов Китая и были они самых разных сортов, размеров, расцветки и вкуса. Она не помнила названия тех сортов, но в них хорошо разбиралась их служанка, имя которой выветрилось из памяти Ольги Ивановны. А орехи, каких только она не перепробовала их в детстве, грецкие, миндальные, фисташковые, арахис… Детская память запечатлела в первую очередь лакомства, а они в ее детстве были весьма разнообразны и доступны. А сейчас большинство советских детей были напрочь лишены этих лакомств. Хлеб, единственное, чем советская власть вроде бы обеспечивала свой народ вволю. Но что за хлеб выпекался в провинции вообще и в верхнеиртышье в частности, в краю, который до Революции являлся житницей, родиной знаменитой верхнеиртышской пшеницы? Хлеб в Ново-Бухтарминской пекарне выпекался в основной серый и лишь изредка белый. Качество? Те, кто бывали в Москве, Ленинграде, Алма-Ате и пробовали тамошний хлеб, говорили, что качество хлеба выпекаемого в Восточно-Казахстанской области очень низкое, не сравнить с тем, что пекут в столицах. А в Харбине, в лавках города ее детства, Оля ела хлеб: круглый как пшеничный, так и ржаной, ситный, сайки, французские булки, московские калачи, баранки, бублики, сушки… Многое из этого ее нынешние ученики не видели за всю свою жизнь и естественно не знали таких названий. А чай, Ольга Ивановна с того же детства запомнила эти неповторимые ароматы, коими благоухали бесчисленные сорта китайского чая, который любила самолично заваривать ее мать. И какой пресный безвкусный по сравнению с теми сортами был даже лучший в СССР чай, так называемый тридцать шестой, состоящий из смеси индийского чая и грузинского.
У харбинских гимназисток иногда случались свободные часы, когда не было уроков, и они бегали в близлежащее молочное кафе, чтобы полакомится свежими сливками, варенцом, кефиром, творогом и сметаной. Но наибольшей популярностью у девочек пользовались всевозможные кафе-кондитерские, где от обилия сортов конфет, кренделей, пирожных просто разбегались глаза. В своих снах Ольга Ивановна, давно уже крайне неприхотливая в пище, казалось, вновь ощущала неповторимый вкус этих лакомств, оставшийся там в ее счастливом, беззаботном детстве.
28
Обычно московские газеты приходили в Новую Бухтарму с двух-трехдневным опозданием. Потому и передовица в «Правде» за восьмое декабря «Скидок не будет» в поселке прочитали только одиннадцатого. Вообще-то модные перестроечные статьи в газетах или ежедневные телепередачи типа: «О гласности» или «Госприемка: проблемы качества», почти никто не читал и не смотрел. Вся эта суета, казалось, была где-то там далеко, в Москве, на верху, а сюда на глухую периферию доносились лишь отголоски посредством всех этих СМИ. И вот, в передовице главной газеты страны, сообщалось, что с Нового Года на госприемку продукции переходят целый ряд предприятий Восточно-Казахстанской области. Это были в основном крупные комбинаты, расположенные в Усть-Каменогорске: свинцово-цинковый, титано-магниевый, мебельный и располагавшийся в поселке Глубоком медеплавильный. Областная пресса, естественно тут же «откликнулась» на это событие восторженными отзывами, причем почти каждая статья заканчивалась призывами и прочим предприятиям области поддержать почин передовиков. Под прочими конечно подразумевался и Ново-Бухтарминский цемзавод. О госприемке на таких «мальках» как рыбзавод того же поселка, конечно, и не думали. Однако и руководство цемзавода совсем не рвалось в передовики-маяки, да и не с чем было. Оборудование за двадцать с лишком лет эксплуатации настолько износилось, что ни о каком суперкачестве выпускаемого цемента не могло быть и речи, да и количество выпускаемой продукции каждый год понемногу неуклонно снижалось. К тому же выходить с инициативой и «прозвучать» на всю страну, как это сделали усть-каменогорцы, весьма рискованно. На завод тогда зачастят всевозможные проверяющие и газетчики из Москвы. А что они увидят? Да не на заводе, там в условиях производственного процесса тем же корреспондентам-дилетантам можно любой лапши на уши навешать. Что они увидят вокруг и вблизи завода? Выбросы заводских труб, осевшие на поселок? Увидят серую траву летом и такой же серый снег зимой, увидят болезненных рабочих и таких же членов их семей, живущих в поселке, увидят сам поселок, плохо благоустроенный, утопающими либо в грязи, либо в пыли, такой же убогий и ущербный как его обитатели.
Именно так Мария Николаевна объяснила Ольге Ивановне, почему областное руководство цемзавод «отмазало» от госприемки. Действительно там, в Усть-Каменогорске, куда легче со всеми этими зваными и незваными гостями справиться. Там город как сверкающая новая игрушка, гостям можно устроить прогулку по Иртышу, полюбоваться красивейшей набережной, сводить в ресторан, на хоккей, да и устроить их в отличных гостиничных люксах. Тем не менее, весь поселок был уверен, что все дело как раз в плане, который завод уже который год не может «вытянуть». Но Мария Николаевна шепотом, словно боясь, что в ее кабинете есть подслушивающее устройство, сообщила, что так же план давно уже не выполняет и глубоковский завод, да и усть-каменогорцев с оным не все в порядке. Так что дело всего лишь в наличии удобств для «гостей» и культурно-развлекательной базы. А в Новую-Бухтарму зимой и добраться непросто… Этот разговор между подругами произошел двенадцатого декабря в пятницу. Ольга Ивановна, довольная, что провела-таки свой «неформальный урок», заскочила как обычно после работы в Поссовет и Мария Николаевна, в свою очередь, отошедшая от приступа меланхолии, не отказалась поболтать. Она распорядилась, чтобы секретарша приготовила чай и уже за чаепитием, после обсуждения госприемки, вдруг принялась расспрашивать Ольгу Ивановну о внутришкольных сплетнях. Особенно ее интересовал произошедший этой весной необычный случай, когда учительница биологии Анжела Аршаковна, по национальности армянка, двадцати семи лет, совершенно неожиданно вышла замуж за своего бывшего ученика, на девять лет ее моложе. Уже сам этот факт необычен, но еще более необычным стало то, что взрослая армянка вышла не просто за мальчика, а за казаха.
Ольга Ивановна мало общалась с этой, пришедшей три года назад в поселковую школу, учительницей. Биологиня являлась племянницей, давно уже работавшего в поселковой больнице, врача-гинеколога. Как известно, армяне очень роднятся, и помогать родственникам у них святое дело. Так и в этом случае, севший на хлебное место гинеколог взял на себя заботу о племяннице, которой пришла пора выходить замуж. Почему на родине ей не нашли жениха-армянина? Этого никто не знал, хотя она обладала весьма сносной внешностью. Здесь же ей все три года дядя и его жена пытались найти подходящую партию. Конечно, поселок для этого оказался не вполне соответствующим местом. Выходить за простого русского работягу? Этого конечно не хотели ни далекие родители Анжеллы, ни приютивший ее дядя. Армяне в своем большинстве, в общем, всегда были не прочь породниться с русскими… но только не с рядовыми. Простых русских они просто презирали. Ведь среди армян живущих вне Армении этих простых людей, плебса почти не наблюдалось. Встретить армянина в любой советской республике было делом обычным, они жили везде. Но встретить там армянина в ранге простого рабочего, или колхозника было невозможно. Армяне могли быть служащими, инженерами, врачами, портными, учителями, могли работать в семейной строительной бригаде… но только не «вкалывать» на госпредприятии или в колхозе – эти профессии для них считались позорными.
Так вот, Анжелла искала жениха, вернее дядя искал, среди инженерно-технического персонала цемзавода, «забрасывал удочки» и в воинские части, как на «точку» Ратникова, так и в управление полка в Серебрянске, пытался «протоптать тропку» и в Поссовет, и в ОРС, и всюду, где только могли обитать относительно молодые люди непролетарских профессий. Врач-гинеколог специальность дефицитная и очень нужная, и потому знакомства у дяди имелись обширные. Но, увы, для него, видимо, стало неприятным откровением, что армянки совершенно не котируются в русской среде как невесты. В Казахстане случались браки русских с немцами, татарами, крайне редко с казахами, армяно-русских семей практически не было. Почему? Причин много, но основных две. Русским парням, как правило, армянки не нравились внешне, а русских девушек отпугивали слишком строгие нравы, царящие в армянских семьях, где молодая сноха обязана всячески угождать, на грани унижения, родителям и родне жениха. В армянской же среде во главу угла всегда ставили материальное благосостояние. Они любили похвастать тем, что среди советских, они одна из самых состоятельных наций. И это действительно обстояло так. Народ, который по своему историческому «возрасту» на планете уступал разве что евреям, тем и выжил, сохранил себя, что постоянно приспосабливался к различным историческим коллизиям, что творились рядом и вокруг. Приспособились армяне и к Российской Империи, приспособились и к Советской Власти и приспособились весьма неплохо, материально живя лучше большинства народов СССР. И, несомненно, в недрах армянского общества жила выпестованная за тысячелетия существования непоколебимая вера – все сгинут, а армяне останутся. Впрочем, они конечно в этой вере не уникальны, схожий с ними путь в мировой истории прошли и евреи. Но армяне в отличие от самого старого народа на планете более бесхитростно и напористо врастали в общество тех стран, приспосабливались к тем народам, к которым «прислонялись. И все ради единой, инстинктивно продиктованной, завещанной предками цели, выжить, уцелеть как народ, даже путем частичного слияния с другими народами…
Но в случае с Анжеллой желаемого «слияния» никак не получалось. На неё не клюнули ни молодые инженеры, ни перспективные комсомольские работники, ни ухватистые ОРСовцы, презрительно кривили губы и холостяки-офицеры. В конце концов Анжелла совершила неожиданный для армянской девушки поступок, поругалась с дядей и его женой, съехала с их квартиры в общагу, и приступила к поискам суженого сама. И нашла…
Армянская родня Анжеллы вся встала на дыбы. Жених, вчерашний десятиклассник из семьи рядовых рабочих совхоза и … казах! Казахи в армянской иерархии народов стояли очень низко, и выходить армянке за казаха, считалось своеобразным мезольянсом, унижением всей нации. Ольга Ивановна хорошо помнила все перипетии этой истории, начавшейся весной и закончившейся летом этого года. В него оказались втянуты не только семьи жениха и невесты, но и администрация поселка, руководство совхоза и школы. Таким образом пыталась всех «поднять на ноги» и не допустить свадьбы родня Анжеллы. Ольга Ивановна не дождалась, чем все это кончится, вышла в отпуск и уехала в Усть-Каменогорск, искать следы сгинувших там в начале 20-х годов деда и бабки. О состоявшейся свадьбе она узнала уже вернувшись. Вообще вся эта громкая возня и суета, несколько месяцев к ряду потешавшая весь поселок, её совершенно не трогала, те люди ей были совершенно чужды и неинтересны. И сейчас, когда Мария Николаевна спросила:
– А как там эта Барсегян, говорят, цветет за молодым мужем?
– Это ты про Анжеллу Аршаковну? Цветет? Не сказала бы. То, что поправилась, это верно, но лучше бы она на диету села. У ее новых родственников, похоже, к совхозному мясу доступ есть, вот она и злоупотребляет, – возразила Ольга Ивановна.
– Во-во, и я слышала, полгода всего замужем, а разнесло ее с их бешбармака, как двух беременных.
– Ой, Маш, не хочу я про нее говорить, и вообще… Ну, не понимаю я этого, отправиться сюда за тысячи километров от дома, чтобы сыскать жениха, и не найдя такового, соблазнять мальчика, своего бывшего ученика. Ну, это не то что аморально, это вообще какое-то ненормальное влечение, расшибусь но замуж выйду, все равно за кого, – презрительная мина запечатлелась на лице Ольги Ивановны.
– Да, верно говоришь мать. Я ведь чего тебя спросила-то. Они ведь заявление подали на отдельную квартиру, как молодая семья. Это они наверняка от его родителей съехать хотят. Не дай Бог ребенка рожать соберется, тогда ведь придется их тоже на очередь ставить. Она не беременная случайно? – на этот раз нешуточно забеспокоилась Мария Николаевна.
– Успокойся, нет пока. Я ж как никак пока еще достаточно зрячая, чтобы беременную бабу от просто жирной отличить, тем более от безобразно жирной. Знаешь, есть бабы толстые, но на них приятно смотреть, а тут…
– Знаю про кого ты, про твою новую подружку Ратникову, – с нотками ревности перебила Анна Николаевна.
– Ну, хоть бы и ее взять, а эта Анжелла… вроде и молодая еще, а разожралась до непотребства. Она и раньше не больно красива была, а сейчас так вообще ужас. Но, не беременная, за это я ручаюсь…
13-го в субботу Ольга Ивановна с утра чувствовала себя неважно, по всему поднялось давление как реакция на смену погоды. Потому до обеда она буквально ничем заниматься не могла. Зато после обеда ей стало легче и она наконец смогла сесть за правку своих мемуаров, на этот раз дело пошло и она так заработалась, что едва не забыла про ужин… Ну, а в десять вечера Ольга Ивановна не смогла отказать себе в удовольствии посмотреть фильм снятый по произведениям Зощенко «Не может быть». Такого типа экранизации, этакие бытовые кинокомедии приносили, и успокоение, и отдых душе. Хотя официально «поднятая на щит» соцзаказная кинокомедия «Веселые ребята» ей была просто противна. Почему этот пустой, глупый фильм считался классикой советского кинематографа? Потому что тогда, в тридцатые годы, лучше никто не снимал? Многие именно так и думали. Но как же тогда оценить немой «Броненосец Потемкин», снятый еще раньше? Ольга Ивановна, конечно, не поверила тому, что там изображалось, это тоже был социальный заказ. Но гений режиссера сделал из этого «заказа» мировой шедевр. А «Веселые ребята», эти противные ужимки, кривляние Орловой, Утесова и прочих… А вообще, больше всех из отечественных фильмов ей нравились современные сатирико-бытовые ленты Рязанова: «Берегись автомобиля», «Вокзал для двоих», «Служебный роман», «Гараж», ну и конечно «Ирония судьбы…», а также блестящий говорухинский детектив «Место встречи изменить нельзя». Эти фильмы она могла смотреть по многу раз, и не могла понять почему тот же Рязанов, по всему, не имеет такого же признания в мире, как, например, поляк Вайда. Впрочем, смутно она догадывалась, видимо потому, что в его фильмах показана неестественная для того же западного зрителя жизнь, а потому и совершенно ему непонятная – там где советский человек смеется и аплодирует, западный, хоть зритель, хоть кинокритик, лишь недоуменно пожмет плечами. Они просто не могли понять всю глубину этой советской, экспериментальной жизни, как ее буквально всем организмом чувствует человек советский, тем более наделенный таким «талантливым зрением» как Эльдар Рязанов.
В то же время иной раз Ольга Ивановна просто диву давалась, когда один и тот же режиссер ставил фильмы настолько один от другого отличающиеся, что, казалось, их никак не мог создать один человек. Самым ярким примером такого несоответствия ей виделась Татьяна Лиознова. Как могла она сначала поставить пустейший, насквозь соцзаказный, фальшивый и неправдоподобный сериал «Семнадцать мгновений весны» и вот совсем недавно на экраны вышел «Карнавал», фильм глубокий, на все времена, с прекрасно сыгравшей главную роль Ириной Муравьевой. То что «Мгновения» властью приняты благосклонно и получили кучу советский премий и наград, а «Карнавал» остался незамеченным… Это Ольгу Ивановну не удивило – соцзаказ всегда и во все времена оплачивается куда щедрее всевременных шедевров.
29
В воскресенье 14 декабря у многих жителей поселка выходного как такового фактически не случилось по причине того, что в продуктовом магазине «выбросили» свиные ножки. То, что кто-то из руководства ОРСа сподобился побаловать людей этими ножками, чтобы жители поселка могли к Новому Году сделать холодец, стало проявление невероятной для столь голодного времени заботы. Очередь вытянулась из помещения магазина и еще метров на сто на улице. Узнав про ножки, поспешила к магазину и Ольга Ивановна. Одна из ее «родительниц» пустила учительницу впереди себя где-то в середине очереди. Но стоять ей долго не пришлось. Проходившая мимо одна из внучек «анненковца» Митрохина подошла к ней и зашептала на ухо:
– Вам ножки на холодец нужны?… Что же вы нам-то не сказали? Мы свинью на следующей недели забивать будем. Хорошая свинья, большая, мы вам и на холодец и так мяса продадим, не дороже этих…
Ольга Ивановна с благодарностью эту помощь приняла. Она сказала пустившей ее родительнице, что стоять не будет, де замерзла и ноги болят. А сама побежала домой, срочно отогреваться горячим чаем. Но по пути встретила Анну Николаевну, возле подъезда своего дома в простой душегрейке и платке выбивавшую подвешенный на веревке палас. Узнав, что Ольга Ивановна стояла в очереди за ножками, она не на шутку рассердилась и стала выговаривать:
– Ты что, мать? Я тебе подруга или кто? Зачем ты по этим очередям толкаешься, мерзнешь и ноги натружаешь, почему ко мне не обращаешься!?
– Понимаешь Маш, ну не собиралась я вообще холодец-то делать. А тут соседка снизу стучит в дверь, говорит в магазине ножки «дают». А я возьми и поддайся этому стадному чувству, тоже подхватилась и побежала. Да и не ожидала, что там такая очередь. Хотела уж вернуться. А тут меня в очередь пустили, отказываться неудобно, думала вроде недалеко, достою, – оправдывалась Ольга Ивановна.
– Ну и что достояла, вон синяя вся, – Анна Николаевна укоризненно показывала на подругу палкой, которой выколачивала ковер.
– Да нет, не стала, ушла, там еще часа два стоять, не меньше, – не стала уточнять, что ей пообещали ножки в другом месте, Ольга Ивановна.
– Ну, ты даешь, Ивановна. Ведь вроде умная баба и лет уже сколько, а туда же, полезла. Тебе что эти ножки так нужны? Хочешь тебе без очереди, с черного хода их продадут? Но не советую, там такого привезли, что и брать не стоит. Поверь мне.
– Да ладно, я и так уже раздумала… Слушай, если время есть приходи ко мне, поболтаем, а то я стоять уже не могу, ног почти не чувствую.
– Да, ладно беги… Я сейчас вот только с ковром разделаюсь и зайду к тебе, – заверила Мария Николаевна…
Председательница пришла, когда Ольга Ивановна уже напилась чаю и, лежа на диване, смотрела первую серию фильма «Д, Артаньян и три мушкетера» по Алма-Ате.
– Что там идет-то? – сразу поинтересовалась Мария Николаевна, едва вошла в квартиру. – Ой, и ты эту дрянь смотришь!? Я как увижу Боярского в роли Д,Артаньяна, так мне прямо дурно становится. Сколько лет ему было по книге? – спросила она, снимая сапоги и одевая пододвинутые хозяйкой тапочки.
– Девятнадцать ему было.
– А Боярскому когда снимался, наверное все сорок, – гостья подсела к столу, куда Ольга Ивановна поставила для нее чашку с блюдцем.
– Ну, сорок не сорок, а далеко за тридцать это точно, – с улыбкой отвечала Ольга Ивановна. – Да я это так, почти и не смотрю. Я песни в основном слушаю. Вот что в этом фильме удалось так это песни, особенно музыка.
– А кто ее автор? – Анна Николаевна отхлебнула чай.
– Дмитрий Дунаевский, сын Исаака Дунаевского, – просветила подругу Ольга Ивановна.
– А, ну тогда все понятно, еврей.
– По отцу, конечно, еврей, а вот кто у него мать, не скажу. Но знаешь, я как-то интервью с ним видела, не помню уж в какой передаче, но у него такие широченные, мощные плечи. Помнишь, как выглядел внешне его отец? Обыкновенный тщедушный еврейчик. А этот смотрится просто богатырем, только лицо интеллигентное. Думаю мать у него не еврейка, и фигура ему по ее линии досталась, – пояснила Ольга Ивановна, подкладывая уже варенья.
– Ох, Ивановна, и откуда ты это все знаешь? Я вот смотрю телевизор, не то что, кто там музыку или слова написал, артистов не всех запомнить могу. Ну, кроме, конечно, самых кто раздражает, таких как этот Боярский.
– У тебя, Маша работа слишком ответственная, тебе от нее отвлекаться никак нельзя. А я, сама знаешь, сейчас на облегченном варианте учительского труда. Мне же нет доверия, а значит и нервотрепки меньше, – засмеялась Ольга Ивановна.
– Да нет Ивановна, ты всегда лучше всех во всем этаком разбиралась, – не согласилась Мария Николаевна, отпивая чай и заедая вареньем.
– Ну, не знаю откуда это у меня. Я ведь даже не столько сам фильм смотрю, а то как актеры играют. Наверное, если бы суждено мне было жить в большом городе, я бы стала завзятой театралкой. У меня ведь родители едва ли не каждую неделю в Харбине в театры ходили и меня иногда брали. А здесь вот только и остается телевизор смотреть.
– Ну, и как ты вот этот-то фильм… как, по-твоему, хорошо здесь артисты играют? – Анна Николаевна, приложив ложечку с вареньем ко рту, вопросительно смотрела.
– Смотря кто, хотя, в общем, здесь актерский ансамбль не очень. Вся четверка мушкетеров… так среднего уровня. Кстати Боярский, я думаю, не самый худший из них. А вот от Табакова я большего ожидала. Его король как тот же кот Матроскин получился. Впрочем, почти все его роли очень однообразны. Ну, а Фрейндлих, это конечно большая актриса. Так, что кроме нее здесь и выделить некого, – дала свою оценку Ольга Ивановна.
– А я вот не могу так определить, хорошо или плохо играет артист. Мне, или нравится, или нет. Вот Боярский, сразу говорю – не нравится. А вот Высоцкий – очень нравился. Причем именно его кинороли, а вот песни уже не так. Не пойму, почему от его песен так все буквально балдеют, а я вот нет. Зато его в «Место встречи изменить нельзя» сколько раз смотрела и без конца смотреть готова. А тебе, насколько помню, он раньше не нравился, а сейчас как?
– Знаешь, Маша, как актер он действительно очень хороший, характерный. Есть актеры характерные, которые отлично играют роли, соответствующие их собственных характерным особенностям. К таковым и относится Высоцкий. Из той же когорты Гурченко, Миронов, Михалков. А есть такие актеры, которые могут любую роль отлично сыграть. Помнишь «Любовь и голуби», ты еще говорила, что не могла узнать актера, который старика играл?
– Да-да, только в конце сообразила, что это Юрский, – подтвердила Мария Николаевна.
– Ну, вот… мне лично такие актеры больше нравятся, для которых нет границ в творчестве, все равно кого, но они сыграют правдиво и достоверно. Такие как Юрский, Смоктуновский, Евстигнеев, Петренко, из женщин та же Алиса Френдлих, Гундарева. А что касается Высоцкого, я как думала о нем, так и думаю – артист отличный, а поэт так себе, уж больно нарочито люмпенского у него много, в расчете на интерес непритязательного слушателя, отсюда и успех в первую очередь у молодежи. Помнишь, я тебе говорила, как Сережку своего за отсутствие художественного вкуса ругала, когда он часами мог его магнитофонные записи слушать…
Они увлеклись разговорам об артистах и не заметили, как фильм кончился, и уже шла передача на казахском языке. Ольга Ивановна переключила телевизор на Москву, там шел «Сельский час»… Анна Николаевна словно очнулась, и до того раскрепощенно-расслабленная, вновь вернулась в «оболочку» председателя Поссовета и заговорила озабоченно:
– Завтра в Алма-Ате начинается Сессия. Помнишь, я тебе говорила, что нас предупредили о возможных эксцессах?
– А может все обойдется и по-тихому пройдет, как обычно и никого не тронут? – попыталась успокоить подругу Ольга Ивановна.
– Если бы так, я бы и не нервничала. Но у меня точные данные, Кунаева снимут, – допила, наконец, чай Анна Николаевна.
– Еще будешь?
– Нет спасибо.
– Даже если и снимут… Да, не переживай ты так. Перемелется как-нибудь, – успокаивала Ольга Ивановна.
– Боюсь, если и перемелется, то такая мука получиться, такие пироги с нее, что они всем нам поперек горла встанут. Я вчера со Светой своей по телефону разговаривала. Христом Богом умоляла ее все эти дни в общежитии сидеть и носа не высовывать. Она не понимает ничего, а я ведь не могу ей всего по телефону-то сказать, не дай Бог, подслушают да настучат, обвинят в разглашении государственной тайны, и нагнетании паники. Ох, прямо не знаю, сама не своя хожу… Вот, к тебе зашла думаю отвлекусь. Вроде об артистах заговорили, я и забылась, а тут опять, хоть что делай, а все об том же думаю…
После ухода Караваевой Ольга Ивановна попыталась смотреть телевизор. Но мысли о предстоящем пленуме буквально лезли в голову, «отравляя» настроение, мешая воспринимать происходящее на телеэкране. Ольга Ивановна выключила телевизор – он совсем не способствовал борьбе с этими «мозгомучениями». Она попыталась сесть за мемуары, но и это не получилось. Пленум, Кунаев, казахи, безмозглое Политбюро… она совсем не хотела об этом думать, но ничего не могла с собой поделать. Наконец, усилием воли она заставила себя найти те думы, которые доставили-таки удовлетворение, так сказать, уму и сердцу.
Она стала думать об артистах и припомнила, что в том же фильме «Служили два товарища» режиссер не сразу мог выбрать, кому играть две главные роли, какую Высоцкому, а какую Янковскому. Ольга Ивановна стала размышлять, как бы сыграл Янковский, являвшийся сыном белого офицера, роль Брусенцова. Конечно, не так как сыграл ее Высоцкий, сын советского офицера. Наверняка его Брусенцов не был бы столь плебейски грубым, скорее всего он получился бы этаким «по-янковски» аристократически-меланхоличным. Но нельзя было не признать, что именно в этой роли Высоцкий на сто процентов сумел использовать свои превосходные актерские качества, когда ему вместо положительного, но совершенно безликого, инертного Некрасова достался отрицательный, но яркий и сильный Брусенцов. Сейчас она мысленно сравнила этого белого офицера… со своим отцом. Получалось, что Иван Ратников был чем-то средним между тем, что воплотил на экране Высоцкий и тем, что мог бы воспроизвести Янковский. Отец был не столь груб и ограничен как герой Высоцкого, но наверняка сильнее и ярче, того образа, что мог бы воплотить Янковский в силу своего характера…
Потом Ольга Ивановна вспомнила о последнем письме того самого краеведа из Усть-Каменогорска, где он сообщал ей интересные факты, узнанные им при общении с московским писателем, вознамерившимся писать книгу о коммунарах. На то письмо надо было отвечать. Этим и решила она заняться. Отвечать лишь словами благодарности, или какой-либо другой формой вежливой отписки ей не хотелось. Ведь краевед, звали которого Виктор Киреевич Грязнов, очень ей помог, и без него вряд ли бы она «продвинулась» так далеко в деле поиска следов своих пропавших предков. Кое что о Грязнове Ольга Ивановна знала. Он был где-то чуть старше ее, в семейной жизни несчастлив. Женщины-сотрудницы музея втихаря ей поведали – оттого и пропадает целыми днями на работе потому, что дома его постоянно «достают» за маленькую зарплату жена и незамужняя почти тридцатилетняя дочь, грозят разменять квартиру и уйти от него. Ольга Ивановна также знала, что Виктор Киреевич окончил исторический факультет Усть-Каменогорского педа в пятидесятые годы, благо тогда еще не было такого сумасшедшего конкурса именно на этот факультет и можно было поступить без блата. В школе он преподавать по каким-то причинам не смог и более двадцати лет работал в музее. И еще, однажды в разговоре он поделился с Ольгой Ивановной кое чем сокровенным, о чем не мог сказать ни коллегам, ни домашним, никому более:
– Вот вы Ольга Ивановна следы своих дедов ищете… завидую я вам. Знаете почему? Потому что не боитесь. А я ведь тоже про своих родственников далеко не все знаю. Ну, конечно не про всех… в общем, про одного, вообще ничего, про деда по отцу. Представьте себе, и раньше боялся и сейчас побаиваюсь, и на работе не поймут, а дома еще пуще, заживо съедят. Будут пенять, что вместо того, чтобы где-нибудь подработать, он какого-то мифического деда искать взялся. А ведь я доподлинно знаю, что мой дед по отцу вовсе не отчим моего отца, кто таковым официально считается. Своего настоящего деда я даже не имени, ни фамилии не знаю. Бабка своих двух сыновей полностью на отчима переписала. Отец и дядя мой, конечно, помнили своего настоящего отца, но как и бабка они до самой смерти про то молчали. А вот причину, по которой молчали, я знаю, двоюродная сестра от отца своего, то есть дяди моего как-то узнала. Он, мой настоящий дед, участвовал в подавлении знаменитого восстания в Усть-Каменогорской тюрьме в июле 1919 года и даже получил за то какое-то отличие от отдельского атамана. Потом его мобилизовали, он ушел на фронт и уже не вернулся. Скорее всего погиб. Вот так, смотрю на вас, а самому стыдно, вроде на таком месте сижу, а до сих пор ничего не сделал, чтобы хоть что-то разузнать, хотя бы фамилию…
Когда Ольга Ивановна услышала от Грязнова его исповедь, ей показалось, что она когда-то, отдельные фрагменты этого повествования уже слышала. Но тогда, она конкретно так ничего и не вспомнила. Откуда в ее памяти возникла эта неясная ассоциация: что-то связанное с восстанием в Усть-Каменогорской тюрьме. Сейчас, думая об этом Ольга Ивановна сумела полностью «освободиться» от мучающих ее мыслей, навеянных разговором с Марией Николаевной, и опять же с усилием, до головной боли, заставляла себя вспоминать, воспроизводит фрагменты своего далекого детства, что она уже делала много раз и это «занятие» стало для нее привычным. И она действительно вспомнила, немного, но как ей показалось, то немногое, будет очень важно и желанно узнать и Грязнову, так много для нее сделавшему. Словно боясь, что эти хрупкие воспоминания ускользнут из ее памяти, Ольга Ивановна стала спешно писать письмо:
«Уважаемый Виктор Киреевич! Большое спасибо за Ваше письмо и за то, что Вы по-прежнему проявляете ко мне, постороннему для Вас человеку, такое участие. Прежде чем о моих делах, хочу Вам сообщить некоторые сведения, которые я почерпнула всего лишь из своей памяти, потому не могу поручиться за полную их достоверность. Тем не менее, мне кажется, они будут Вам очень интересны. Помните, что Вы говорили мне о своем настоящем деде, который пропал в Гражданскую войну. Так вот я сейчас достаточно отчетливо восстановила в памяти тот факт, что мои отец и мать принимали большое участие в судьбе жены и детей одного из сослуживцев моего отца по девятому Сибирскому казачьему полку. Тот однополчанин отца, насколько я помню, был родом из Усть-Каменогорска и в гражданскую оказался в Забайкалье и вместе с забайкальскими казаками переехал жить в приграничный район Китая, в Трехречье, и там жил со вдовой забайкальского казака. У той вдовы и свои дети были, и от него у нее тоже родился сын. Однополчанин отца погиб в 1929 году во время конфликта на КВЖД, когда Красная Армия фактически уничтожила все казачьи поселки в Трехречье. Вдова с детьми сумела бежать и добраться до Харбина. У нее был адрес моих родителей, и она пришла к ним. Мои родители ей помогли. Тут дело не только в том, что отец с ним служил в Первую мировую войну в одном полку, но и в том, что он, как и ваш настоящий дед принимал участие в подавлении восстания в Усть-Каменогорской тюрьме. Причем здесь он уже воевал рядом с братом моей матери, тогда кадетом Омского кадетского корпуса. Потом он даже вроде присутствовал при его гибели, но это я не помню в деталях. В общем, и отец и мать, в память о нем много помогали этой женщине и ее детям. Они жили в Харбине где-то до 40-го или даже 41 года. Хорошо помню, как к нам приходил ее младший сын, мальчик несколькими годами меня старше. Мы даже играли вместе возле нашего дома, он катал меня на санках. Потом они куда-то уехали и оттуда писали и родители, вроде, опять посылали им деньги.
Не знаю, имеет ли отношение все это к вашему деду. Но, сами посудите, совпадения и немалые есть. Попробуйте выяснить, служил ли ваш настоящий дед в те годы, в девятом полку. Господи, о самом главном-то забыла. Фамилия того однополчанина отца Дронов и звание вахмистр. Имя, отчество, к сожалению совсем не помню…»
30
В СССР люди в возрасте в основном свое свободное время проводили у телеэкранов. Впрочем, других развлечений у них, в общем, и не было. Если пожилые европейцы, японцы и североамериканцы имели возможность много путешествовать, то в СССР с его жестким ограничением для граждан выезда за границу и отсутствием развитой инфраструктуры организации отдыха внутри страны… телевизор оказался вне конкуренции.
В первую неделю декабря на двух программах, что транслировали на область несомненным «гвоздем» стал демонстрируемый по Москве английский сериал «Джейн Эйр». Неизбалованные зрелищами жители поселка по вечерам с удовольствием приникали к экранам и сопереживали тем естественным человеческим страстям и прочим коллизиям этого чисто «капиталистического» фильма. Ольга Ивановна хорошо помнила, как с тем же интересом в 70-х люди смотрели многосерийную «Сагу о Форсайтах». Как ни крути, а советские люди, так сказать, русского разлива, тянулись к европейской культуре, европейской системе ценностей. Что касается советских других «разливов», например казахов, то им куда ближе оказались те же индийские мелодрамы. Ольга Ивановна читала роман Бронте «Джейн Эйр» и на вопросы коллег в школе, как ей фильм, откровенно призналась, что фильм получился сильнее, чем сама книга, чего коллеги оценить не могли, так как романа не читали. Мнением Ольги Ивановны в таких случаях интересовались всегда, ибо ее считали знатоком не только русской, но и мировой литературы. Не мудрено, ведь основы этого знания она успела получить в начальных классах классической русской гимназии города Харбина. Также в учительской обменивались мнениями о идущей по субботам трехсерийной экранизации романа Алексея Толстого «Хождение по мукам». Ольга Ивановна раньше не один раз смотрела эти фильмы и старалась от комментариев воздерживаться, но сейчас она, наконец, решила высказать то, что думала по этому поводу:
– Вся эта трилогия – яркий пример, когда писатель посвятил свой талант службе властьимущим и немало в ней преуспел, но как художник потерпел полное фиаско, сотворив искусно исполненную фальшивку, в которой до девяноста процентов лжи…
Конечно, истинные советские педагоги, даже под влиянием «ветров Перестройки» не могли с ней согласиться. Они уже архаично привыкли считать Алексея Толстого столпом отечественной литературы, непререкаемым авторитетом. А на слова Ольги Ивановны реагировали уклончиво или молча, дескать, что еще можно ожидать от белогвардейки, а некоторые искренне сожалели, что Перестройка дала слишком много воли таким вот. Лет десять назад КГБ незамедлительно отреагировало бы, не говоря уж о РОНОшном и ОБЛОНошном руководстве, за публичное охаивание признанного классика советской литературы. Даже конкретные примеры, приводимые Ольгой Ивановной, что в романе искажены до неузнаваемости некоторые исторические фигуры, такие как Мамонт Дальский, Махно, генерал Деникин и прочие деятели белого движения… Она не могла никого убедить – педагоги оказались просто не готовы мыслить не по-советски. Правда многие, особенно молодые задумывались над ее словами, и в этом Ольга Ивановна видела добрый знак.
Еще одно телевизионное действо, что широко обсуждалось в поселке, это конечно международные соревнования по фигурному катанию – любимое зрелище в первую очередь всех женщин независимо от возраста. Видя красивые костюмы фигуристов, праздничную обстановку соревнований, жители поселка словно забывали об окружающей их убогости, нищеты, скучном бытие. Они наяву лицезрели мир грез, прекрасных принцев и принцесс, купающихся в золотых лучах прожекторного света, лучах славы. Ольга Ивановна тоже была ценительницей фигурного катания, хоть сама в последний раз одевала коньки в том же далеком харбинском детстве. В ее советском детстве, отрочестве и юности стало уже не до коньков. Но даже здесь сказывалось ее «обзорное» зрение, ибо она не разделяла ура-патриотичных пристрастий многих своих коллег-учителей, которые, как и положено стопроцентным советским людям, считали советскую школу фигурного катания самой передовой и как бы не выступали наши, они всегда лучше всех. Соглашаясь с общепринятым мнением, что, конечно, в парном катании советским парам нет равных, она в то же время считала, что новые чемпионы мира в танцах на льду Бестемьянова и Букин, несмотря на суперсложность их программы, допускают слишком много неэстетичных, иногда просто безобразных поз и движений во время своих выступлений. Ей куда больше нравились предыдущие чемпионы англичане Торвилл и Дин. Так что и здесь мыслила она не по-советски.
Когда Ольга Ивановна, проводив подругу, написав письмо Грязнову, вновь расположилась у телевизора, к ней неожиданно пожаловал еще один гость. То был экс директор рыбзавода Василий Степанович Зеленин. Нельзя сказать, что двоюродный брат сторонился ее, нет, он просто, образно говоря, «держал дистанцию». После того памятного «выступления» Ольги Ивановны в 1983 году на банкете, он где-то месяца через два зашел к Ольге Ивановне и… Петр Степанович представил фотографию своего отца, рассказал историю своего рождения и жизни, словно доказывая, что является сыном Степана Решетникова. Нет, он не настаивал, все оставив на волю Ольги Ивановны, хочешь верь, не хочешь – не верь. Ольга Ивановна поверила и не только потому, что очень хотела иметь хоть одного кровного родственника. Не поверить было трудно еще и потому, что даже разменявший седьмой десяток Василий Степанович, имел много общих черт не только со своим отцом, но и со своим дядей, ее отцом, которого она очень хорошо помнила. Потому она ни сколько не сомневалась – это действительно ее двоюродный брат. Да и с какой стати ему врать, зачем? Но более всего удивил объявившийся родственник в конце той встречи. Он попросил их родство не афишировать, и вообще обо всем этом молчать…
Ольга Ивановна выполнила ту просьбу, нигде, ни полслова. И в том, что все-таки об их родстве как-то узнали, не было ни малейшей ее вины. Все разболтали, в основном, его жена и дети. Таким образом, весь поселок и окрестности узнали, что директор рыбзавода оказывается не сын простой батрачки, вернее сын, но от кого, от кровавого палача Степана Решетникова. Случись это «открытие» пораньше, Петру Степановичу, наверное, и до пенсии не дали в директорах доработать, и в областное КГБ наверняка бы не один раз вызвали. Но сейчас к нему, тем более к пенсионеру, уже никто никаких претензий не предъявлял, да и отца его, как-то уже не «квалифицировали» как белобандита и палача. Тем не менее, афишировать свое родство с Ольгой Ивановной Петр Степанович не торопился. И вот вдруг в воскресенье пожаловал… Ольга Ивановна никак не ожидавшая такого гостя, засуетилась, стала приглашать в комнату, накрыла стол из остатков того, что ей привезла Ратникова и более поздних «даров», чем немало удивила брата:
– Ишь ты… откуда ж это все, где достала?
– Да это с воинской части жена командира вот продала, – Ольга Ивановна была искренне рада визиту брата, который за три года не сделал ни одной попытки с ней сблизится, как, впрочем, и члены его семьи.
– Понятно, знаком я и с Федором Петровичем, и с его супругой, и в гостях у него бывал, и они у меня… Ну, это когда я еще рыбзаводом командовал, а сейчас, на кой я им старый, – со смешком поведал Василий Степанович, усаживаясь за стол. – Я, Ольга Ивановна вот, собственно, с чем к тебе, – решил по-свойски перейти на ты двоюродный брат. – Ты уж извини, что не захожу к тебе… не могу я с тобой как положено родственникам отношения поддерживать. Раньше бы надо прийти да все объяснить, но так уж вышло, то одно, то другое. Пойми меня и не обижайся, не кори. Тебя я понимаю, у тебя вся жизнь советской властью изломана, родители от них погибли. На твоем месте и я бы их ненавидел и старину любил. Но я не ты, пойми, у меня совсем другая жизнь и судьба.
– Постойте, Василий Степанович, как же другая. Ваш отец тоже коммунистами расстрелян, – Ольга Ивановна в отличие от гостя не могла пересилить себя и называть двоюродного брата, который был на 13 лет ее старше, на ты.
– Другая Оля, другая. Отец что, его я не знал и узнал-то кто он уже взрослым. А так я ведь всем советской власти обязан, никогда ею не притеснялся, напротив, и выучился, и не последним человеком был. А в войну… мой-то год весь воевал, сколько народу там побило, а я бронь имел, и жизнь, и здоровье сохранил. А представь, что стало бы, если бы тогда белые верх взяли, даже если бы и родился я? Что, женился бы тогда отец мой на простой батрачке, которую в услужение взяли, чтобы твоей матери тяжелую работу не делать? Мне-то мать про ту жизнь в доме Решетниковых много порассказала, как твоя мать могла и до десяти часов спать, а моя с пяти утра вставала и корову доить бежала. Отца она без памяти любила, потому и терпела, а тот даже не смотрел в ее сторону. Если бы тогда в начале двадцатого года не прибежал как пес побитый, и просто с голодухи не «осчастливил» мать, когда на заимке прятался, я бы и на свет не появился… – Василий Степанович замолчал, увидев, что Ольга Ивановна отвернулась и нервно кусает губы. – Извини меня сестренка, не надо бы об этом, жизнь-то она вон как и с тобой, и с родителями твоими обошлась… извини. Но только возьми тогда белые верх, признал бы отец меня своим сыном? Да ни за что. Он же тогда бы наверняка в белых героях ходил, и уж конечно другую бы себе невесту подыскал, а не мать мою. А то, как же, брат-то на атаманской дочке женат, а он что батрачку возьмет? Вот и прикинь сестренка после этого, какая меня судьба ожидала бы… безотцовщина, нагулянный. Да меня бы даже в ту станичную школу, где твоя мать учительствовала, на порог не пустили. Кем бы я стал!? С детства баран бы пас и в тех же батраках всю жизнь. А при Советской власти я вон в люди, в директора вышел, – Василий Степанович замолчал и прочему-то виновато отвел глаза.
Ольга Ивановна минуты три стояла как в ступоре, потом будто очнулась и стала подавать гостю чай с дареными конфетами, ее лицо приняло непроницаемое выражение и по нему нельзя было определить, какое впечатление произвели на нее слова родственника. Наконец, когда Василий Степанович стал осторожно вприкуску пить чай, она заговорила:
– Я не знала своего дядю Степана Игнатьевича Решетникова, но я знала своего отца Ивана Игнатьевича, и думаю, не на столько они друг от друга отличались, чтобы один из них был просто бессовестной сволочью. Мой отец сволочью не был, значит, и брат его тоже не был. И зная, что у него есть сын, он бы никогда от него не отказался. Даже если бы и не женился на вашей матери, то все бы сделал, чтобы вы не остались пастухом.
Ольга Ивановна встала из-за стола, отошла к окну и отодвинув штору стала смотреть на улицу сквозь тюль. Петр Степанович отставил недопитую чашку еще более нахмурился, на его лице резко обозначились даже те морщины, которые ранее были не очень заметны – он понял что Ольга Ивановна обиделась, и обиделась сильно. Он подошел к ней и осторожно положил руку на ее плечо.
– Ты эт… Оля… прости, лишку я хватил, да и вообще не о том мы говорим совсем. Ведь и ты всю жизнь без сестер-братьев, и я вот тоже. Ведь промеж нас согласие должно быть, а я тут развел, если бы да кабы, да чтобы было… ты уж прости. Это родня моя все, жена да дети. Поверишь, ведь это они мне все растолковали, что я тебе сейчас тут изложил, у меня то и мыслей таких не было, чтобы на отца своего… какой бы он там ни был. Ты и их не суди строго, боязно им. Их-то, жены моей родителей, ох как в коллективизацию здесь били. У Нюры моей на ее глазах, ей тогда пять лет всего было и отца забрали, и из дома все подчистую выгребли в 31-м годе. Сколь лет потом ее подкулачницей дразнили, с тех пор она вот и боится и сейчас боится, что через родство с тобой опять мы все пострадать можем. Она ж и меня сколько ругала за то, что я насчет отца открылся. Вон слышала что говорят, вроде Горбачева все одно скинут и опять кто-нибудь типа Сталина придет и всех на цугундер. Ты уж прости нас сестренка, все мы тут кто постарше с измальства запуганы перезапуганы, и детям тот страх передался. Разве что внуки того страху иметь не будут, а с нас какой спрос, жила бы и ты с рождения в Союзе, и ты такой же была бы…
Часть третья. Дорога в никуда
1
Эмма Харченко вышла замуж со «скрипом» и довольно поздно, на 27-м году жизни. Замкнутый характер и прибалтийская ментальность предопределили ее крайне тяжелый «вход» в женский коллектив «точки». К тому же она никак не предполагала, что замужем за офицером будет столь скудно и скучно существовать. Муж обещал, что они «свое возьмут» когда он выйдет в большие чины. Но Эмма считала, что уже достаточно намучилась и хотела хорошо жить сейчас. Она и замуж шла в надежде изменить свой незавидный социальный статус, а главное материальное положение. Но то, что она увидела здесь… В состоянии глубокого разочарования Эмма почти не выходила из квартиры и ни с кем из женщин за полгода жизни на «точке» так и не сблизилась.
Эмма, как и большинство коренных жителей Прибалтики, искренне считала, что в ее личной судьбе и неустроенности целиком и полностью виноваты русские. Причем понятия советские и русские она никогда не разделяла. Ведь это они поработили Латвию, разорили деда, сначала отобрав у него хутор, а потом и погубив в лагере, а теперь обирают трудолюбивых латышей, и таким образом не позволяют им разбогатеть, а сами от природы почти все лентяи и пьяницы. В этом проклятом Союзе русские живут за счет других народов, обирая их так же как латышей. Если бы не русские с их проклятыми Советами и колхозами, латыши жили бы также как живут на противоположных берегах Балтики, как финны и шведы. Разве за то не говорит тот небольшой исторический период, когда Латвия являлась независимой, и уровень жизни латышей был не ниже чем в той же Финляндии тогда. А что сейчас? Латыши под властью этих проклятых русских стали почти такими же нищими как они сами…
Такое мнение находило понимание и созвучные отклики не только среди большинства простого латышского населения (сорок лет советской власти не шестьдесят, не успели еще забыть о годах сытой буржуазной демократии), людей и в самом деле в основном трудолюбивых, аккуратных, но, чего греха таить, с довольно ограниченным кругозором. К таковым относилась и Эмма, и ее мать, сестра, прочие родственники. Подобные рассуждения были в ходу и в среде, так называемой, просвещенной национальной интеллигенции, более того в той среде формировались и оттуда исходили. И интеллигенты тоже, особе себя не утруждая поисками вариантов, всю вину без остатка валили на тех же русских, не очень вникая или нарочно замалчивая такие «мелочи», как то, что абсолютное большинство большевиков, создавших советское государство, русскими отродясь не были. Даже о тех десятках тысяч латышских стрелков, что верой и правдой служили советской власти в Гражданскую войну и не раз ее спасали, когда та пребывала еще в «колыбели»… О том как-то умудрялись напрочь забывать, искренне веруя, что ни Латвия, ни латыши, ничего общего с Советами не имели и не имеют.
Ненависть, ненавистью, а замуж выходить надо, годы-то, молодость уходят. Выйти замуж на родине у Эммы шансов было немного. И не столько внешняя непривлекательность, сколько захолустность родного провинциального городишки тому виной, к тому же там преобладало женское население. В школе Эмма не блистала успеваемостью, активисткой тоже не была, потому дальше учиться и не пыталась, да и не хотела. После школы она вслед за сестрой стала обыкновенной уборщицей в городской гостинице. Так со шваброй в руках она дожила до своего двадцатилетия, и ничего не предвещало изменения ее столь серого существования, но тут вмешался его величество Случай. Сестра, горничная в той же гостинице, сумела охмурить холостого командировочного украинца и быстренько выскочила за него замуж, после чего уехала с ним на Украину. Оттуда через год она и вызвала к себе Эмму, обнадежив наличием у них с мужем двухкомнатной квартиры. Но главным аргументом, который склонил Эмму покинуть Родину, стали заверения сестры, что в том городе полно холостых парней и блондинки очень ценятся.
До отъезда из родного города Эмма не сомневалась, что все нерусские народы Союза относятся к русским столь же «тепло», как и в Прибалтики, как к оккупантам. Увы, по приезду к сестре ее ожидало разочарование – восточные украинцы оказались совсем не такими, как она ожидала. Если бы Эмма попала в западную часть Украины, но сестру угораздило выйти замуж на левобережье Днепра, в большой промышленный центр. В том городе оказалось полным полно русских, да и украинцы от них совершенно не отличались, так же по-русски говорили, так же пили водку и сквернословили, и, казалось, никто из них и мыслей не имел бороться за «незалежность» Украины. Делать, однако, нечего, пришлось обживаться на новом месте. Не желая быть нахлебницей, Эмма устроилась работать на ткацкую фабрику. Переменив ряд специальностей, она во всей красе познала настоящий социалистический труд на большом предприятии, где оный не различался на женский и мужской. Попутно довольно хорошо освоила и столь ей ненавистный русский язык.
На новом месте тоже потянулись однообразные серые дни, недели, месяцы, годы, с месячными, квартальными и годовыми планами, которые надо было кровь из носу выполнять, чтобы не лишиться премий и прогрессивок. Но главный вопрос, ради чего Эмма приехала, никак не решался – жених не появлялся даже в проекте. Эмма и здесь так и не приобрела близких подруг или знакомых, в среде которых обычно и происходят знакомства с молодыми людьми. Сама же она на танцы и дискотеки ходить стеснялась, понимая, что после двадцати ей там делать уже нечего. Не имели успеха и попытки помочь со стороны сестры и ее мужа. Они либо приглашали на «смотрины» такого кандидата, что Эмма скорее предпочла бы на всю жизнь остаться старой девой, чем идти за подобного, либо наоборот, «претендент» через несколько минут общения терял к ней всякий интерес. Эмма, и без того обладавшая непростым замкнутым характером, от всех этих неудач становилась все более желчной, злой.
У сестры, тем временем, появился ребенок, и в квартире стало тесновато, участились стычки и препирательства. Долго так продолжаться не могло… тем не менее тянулось целых четыре года. И тут вновь вмешался, блеснул предрассветным, живительным лучом он, Его Величество Случай. К соседям с верхнего этажа, а ими оказались отставной подполковник Харченко с супругой, приехал в отпуск сын с молодой женой. Медовый месяц получился для молодых крайне непродолжительным. Не прошло и недели, как мать со скандалом выгнала невестку, заставив сына увезти ее туда, откуда он ее привез и незамедлительно развестись. Со своей стороны мать сразу же приступила к срочным мероприятиям по «спасению» сына. В поле зрения родителей Петра Харченко и попала Эмма. Выбирать ни времени, ни возможности не было. Ведь «не валяются прямо на дороге» те самые милые, прекрасные, добрые, невинные, но в то же время готовые угодить свекрови, коими все матери хотят видеть невест своих сыновей. Ко всему, сестра нижнеэтажной соседки матери Петра сильно импонировала. Далеко не красавица, но девушка серьезная, с характером, и наверняка сумеет удержать в руках не совсем практичного как в житейских, так и в служебных делах сына. И главное, чем она выгодно отличалась от той первой привезенной сыном невесты, в нравственных устоях Эммы мать Петра не сомневалась. За годы проживания в одном подъезде, Эмма не дала ни одного повода думать о себе иначе. Отец тоже был не против. Единственно, что настораживало старого служаку, это национальность Эммы – как бы не повлияло на продвижение сына по службе. Но, поразмыслив, он успокоился – латышка не еврейка, потом он знал это точно, национальность жены для армейских кадровиков далеко не столь важна как, например, родителей. Супруги Харченко, проявив инициативу, теснее познакомились с Эммой, потом полунамеками подготовили почву, и спустя некоторое время сделали что-то вроде заочного предложения…
Эмме шел уже 26-й год, она явно стесняла семью сестры, о чем ей все чаще напоминали, до смерти отосточертела однообразная конвейерная работа на фабрике, где ей лет через пять обещали комнату в семейном общежитии или коммуналке. К тому же фабрика весьма основательно грозила наградить туберкулезом. Что оставалось делать? Возвращаться домой, уходить от сестры в общагу… оставаться старой девой? Нет, все эти варианты ее, несостоявшуюся хозяйку хутора, не устраивали. Правда очередной кандидат в женихи только развелся и являлся офицером той самой ненавистной армии, что оккупировала Латвию… но выбирать-то не из чего. К тому же Эмма сама себя утешала, что Петр все-таки не русский, а украинец, вроде бы не замечая, что разница совсем не велика. И еще ряд обстоятельств сбили ее тогда с толку. Во-первых, отставной подполковник, уверял, что сыну обеспечена хорошая карьера, так как теперь возникли условия, при которых он лично может заняться этим вопросом. В этом Эмма не разбиралась, на нее куда большее впечатление произвело другое – достаток о котором свидетельствовала обстановка в квартире родителей Петра. Выросшая в семье без отца, и сейчас живущая у сестры «за печкой, из милости», то есть на птичьих правах, Эмма больше всего на свете ценила комфорт и домашний уют. Потому, отложив мечту о своем собственно доме, таком, какой был у ее деда, до лучших времен, она хотела иметь хотя бы свою отдельную квартиру. В квартире же отставного подполковника даже по ее прибалтийским запросам (о они были существенно выше среднесоюзных) имелось все, что она подразумевала под понятием комфорт. Ковры на стенах, солидная импортная мебедь («стенка», кухонный и спальные гарнитуры). Эмма решила, что если так живет отставник-пенсионер, то «действующий» офицер должен жить никак не хуже. Тогда до нее почему-то не дошла очевидная истина: то что нажито подполковником и его женой за долгие годы службы, просто быть не может у его сына, холостого старшего лейтенанта.
Восемь месяцев продолжалась «кропотливая работа», в результате которой Эмма, оказавшаяся к тому времени уже на грани скандала и с семьей сестры (особенно унижали попытки превратить ее в бесплатную няньку для племянника), и с начальством на работе… В общем, она окончательно «созрела». С Петром тоже проводилась «работа». В своих частых письмах мать соответствующим образом «готовила» сына, расписывая, насколько хватало фантазии достоинства Эммы, нажимая большей частью на нравственность, порядочность и не избалованность. И вот, как логическое завершение этих усилий, весной 1986 года, по приезду Петра в очередной отпуск состоялась «очная стыковка», прошедшая довольно гладко. Петр после своей первой неудачной женитьбы совсем в себе разуверился и полностью положился на родителей.
Свадьбу сыграли наскоро и скромно, как будто выполняли всего лишь необходимый, но не доставлявший радости обряд. Эмма даже не вызвала на свадьбу мать. Петр оказался не привередой и искренне радовался, что, наконец, обзавелся семьей, к тому же его настроение поднимало твердое обещание отца помочь по службе. И то были не пустые слова, ибо отец выяснил, что начальником службы вооружения корпуса, в котором служил Петр, назначили его бывшего сослуживца, кое чем ему обязанного. И сейчас, убедившись, что после шести лет службы, сын сам явно не в состоянии «подняться», отец собирался обратиться к своему бывшему однополчанину, чтобы тот помог застрявшему на «точке» сыну. При всей своей недалекости Петр, выросший в военных городках и гарнизонах, с детства жаждал сделать военную карьеру. Он не знал другой жизни и, конечно, очень тяжело переживал свое столь долгое сидение на низшей офицерской должности.
Эмма, хоть и вида не подала, но была разочарована внешними данными жениха, которого до того видела только мельком, да на фотографиях. Во всех отношениях средний и ростом и телосложением Петр, рядом с ней явно не смотрелся. На каблуках и с высокой прической она выглядела гораздо крупнее его. Таким образом, уже с первых дней совместной жизни у Эммы появилось оно, это недовольство, которому суждено было расти, впитывать в себя новые составляющие. И, увы, с самого начала отсутствовали в их взаимоотношениях те «лекарства», «чувства-антибиотики», что призваны охранять внутрисемейный мир от больших и малых невзгод – меж ними не было и не могло быть настоящей любви…
Ратников в ожидании визита высшего корпусного командования, буквально целыми днями пропадал на службе, занимаясь наведением внешнего «лоска» на вверенное ему подразделение. Домой в эти дни он приходил не раньше ужина, сильно уставший. Анна, видя как уматывается муж, старалась скорее утолкать детей спать, дабы и он успевал выспаться. При этом она и сама не докучала ему ни лишними просьбами, ни разговорами. Но незадолго до ожидаемого приезда комкора, она не выдержала и сообщила ему новость из «внутриточечной жизни»:
– Знаешь, как сегодня наша мадам Бовари выступила?
Мадам Бовари, так Анна в разговорах с мужем именовала Эмму Харченко, имея в виду одинаковые имена «Харчихи» и главной героини одноименного романа Флобера. Анна, кроме регулярного чтения «Юности», попутно увлекалась и чтением классической художественной литературы с тех самых пор, как повинуясь, возникшей еще в начале 70-х годов моде стала собирать библиотеку.
– Что еще? – недовольно отреагировал Ратников думая, что жена собирается пересказать содержание какой-нибудь очередной бабьей склоки.
– Представляешь, вчера, все женщины собрались у меня в магазине, чтобы помидоры венгерские, консервированные делить, а она что-то припозднилась и оказалась в очереди сзади. Ну пока то да сё, разговоры о том, о сем… А она стоит как кем-то настеганная, нервничает, видно, что ждать не хочет. Ну, и говорит, пропустите меня, мол, я тороплюсь. Бабы конечно ее не пропустили, ну и что-то там такое шуткой ей сказали. Ну, знаешь Волчиху, у нее же язык, что помело, и без мата двух слов не свяжет. Не прислушивалась я, что уж там она ей такого сказала, но гляжу, та покраснела, глазами так на нее стрельнула злобно и что-то сквозь зубы ответила, по-своему, по-латышски. Негромко так сказала, никто и внимания не обратил. Ну, а сама она как будто перепугалась и сразу язык прикусила и по сторонам так смотрит, поняли ее или нет. Видит, что никто вроде ничего не понял, и успокоилась. Потом уже без нервов спокойно очереди своей дождалась.
– И что же она такое сказала? – по лицу жены Ратников понял, что она сумела это выяснить.
– Жена Мацкевича, она поняла. Она ведь с Белоруссии, недалеко от латышской границы жила, немного понимает. Я и сама догадывалась, но решила с ней проконсультироваться. Тихонько так сегодня ее спросила, ты там случайно не знаешь, что вчера в магазине Харчиха сказала? Та сразу смутилась, но призналась, та сказала: русские свиньи.
– Вот те да! А чего ж это она в магазине-то смолчала, раз поняла!? – вознегодовал Ратников.
– Я тоже сначала отчитать ее хотела, но не стала, потому что поняла из-за чего она промолчала. Она же это в свой-то адрес не приняла. Понимаешь? Они же, белорусы, это русское свинство на себя никогда не принимают, дескать, мы не совсем такие как вы, мы почище. Вот тебе и братья-славяне…
2
Когда Петр привез Эмму на «точку», все здесь и пейзаж, и квартира, не просто не понравились, они повергли ее в ужас и смятение. Впрочем, нечто похожее случалось почти с каждой женой, привозимой мужем-офицером из «Европы». Но в данном случае имело место и специфическое, чисто прибалтийское отношение к ситуации – если даже советские офицеры, верные защитники советской власти живут так плохо, то для кого же тогда эта власть поработила и ограбила столько народов, куда девает все эти средства? Кругозора Эммы не хватало, чтобы помыслить о диких расходах на космос, высокотехнологичные вооружения, внешнеполитическую экспансию… Если бы хватило, наверное, ужаснулась бы еще больше.
В квартире оказалось пусто, маленькая комнатушка с плохо выбеленными стенами и потолком, совсем крохотная кухонька с пропускающим воду краном. Туалет на улице… общий. В окно хоть не гляди. Эмма не находила прелести даже в летнем южноалтайском пейзаже. Петр целыми днями пропадал на службе, а она оказалась заключенной в этих четырех стенах. Выручал, да и то чуть-чуть, срочно купленный телевизор. От дум, мыслей, глодавших мозг, деться некуда. Ее удручало ступенчатое понижения качества ее собственной жизни. Проведя детство и юность в маленьком латышском городке, где было скучно, бесперспективно… но, казалось, само собой разумеющимся, что в магазинах всегда достаточно продовольственных товаров по невысоким ценам, особенно мясных и молочных. Не ведая, как живут в других регионах Союза и, находясь под воздействием разговоров негативно относящихся к власти окружавших ее латышей, Эмма не сомневалась, что именно ее народ живет хуже всех, будучи самым униженным и обираемым. Попав на Украину, в довольно крупный город, она с удивлением обнаружила, что в СССР есть места, где и снабжение похуже и очереди куда длиннее. Получалось, что русские Украину обирали еще более чем Латвию. Ведь иначе как объяснить, что на такой плодородной земле и в таком благодатном климате, люди тех же продуктов имеют куда меньше и худшего качества, чем в Латвии. Через Россию ей ехать не пришлось, они до Усть-Каменогорска летели самолетом, и вот здесь, она увидела, по ее твердому мнению, самое дно жизни. Еще в мае, когда приехала сюда, она просто ужаснулась при виде прилавков магазинов в здешних городах и поселках. Как здесь живут, что здесь едят, во что одеваются? Сейчас ей даже жизнь на Украине казалась совсем не плохой, а уж в Латвии тем более. Эти сравнения лишь укрепляли Эмму в своем прежнем убеждении: русские даже если и не все поголовно лентяи, то настолько безалаберны, что и себя накормить и обустроить свои жилища не могут. Даже обдирая другие народы, и не давая им возможности богатеть, они и сами умудряются жить еще хуже. Когда же муж объяснил ей, что здесь вовсе не Россия, а Казахстан, хоть в этой области население на 70 % русское… Она лишь слегка изменила свою «мысленную формулировку»: эта нищета и убогость и здесь из-за русских, пришли, понастроили своих дурацких заводов, захламили, загадили все вокруг…
Дивизионный магазин Эмма посещала довольно часто. Для обустройства квартиры приобретать пришлось много всего, и деньги, которые ссудили родители Петра и ее трудовые сбережения таяли с катастрофической быстротой, тем более что сам Петр ничего не скопил и женился, как говорится, гол как сокол. Уже в первый день пребывания на «точке», Эмма в очередной раз разочаровалась в Петре. Ей стал противен тот подхалеймаж и угодничество, которое проявил ее молодой муж, когда их посетил командир дивизиона. Как Петр лебезил, вытягивался, делал подобострастное лицо перед этим местным властелином. Насколько противно было смотреть на Петра, настолько впечатляюще смотрелся командир, высокого роста, одновременно широкоплечий и аскетичный подполковник. Чувствовалось, что этот человек привык распоряжаться, повелевать, в каждом его слове и жесте чувствовалась хозяйская уверенность. Даже подобострастность Петра он воспринимал, как само собой разумеющееся. На первых порах Ратников немало помог молодой семье в обустройстве, выделил солдат для ремонта квартиры, машину для доставки из полкового Военторга необходимой мебели. Ввиду того, что Петр ехал в отпуск, не имея полной уверенности в том, что свадьба состоится, он ничего не приготовил заранее, потому даже спать молодоженам в первые дни приходилось на двух сдвинутых солдатских койках.
Довольно быстро Эмма нашла множество подтверждений своих первоначальных догадок – командир действительно здесь являлся полноправным хозяином. Чуть позже она уразумела, что на «точке» имеется еще и хозяйка, его жена. Летом, когда Ратниковы отбыли в отпуск, Эмма стала свидетельницей возникновения в дивизионе полуанархии. Все, и солдаты, и офицеры с прапорщиками как бы отдыхали от твердой властной воли командира и его жены. В связи с этим обозначились и некоторые зачатки бардака: то свет на полдня пропадет и холодильники у всех «потекли», то бензин в хранилище кончился – ни одна машина выехать не может, то солдаты в соседнее село в самоволку зачастили, то офицерская пьянка с мордобоем… Но вот хозяева возвратились из отпуска и на «точке» вновь воцаряются тишина и порядок. Эта замкнутая, почти как на острове жизнь, чем-то отдаленно напоминала Эмме известную ей из воспоминаний матери, старолатышскую, хуторскую.
Почему Эмма ни с кем из женщин за полгода так и не сблизилась? Ее ровесницы и более молодые «офицерши» ей оказались неинтересны, к тому же многие из них были злостными лицемершами. Они безо всякого стеснения унижались перед командиршей, в то же время за глаза говорили про нее всякие гадости. Не о чем ей было говорить и с «офицершами» имеющими институтские дипломы. Те, как правило, пытались из себя, что-то «изображать», хоть их дипломы и пылились в чемоданах без всякой пользы. Но и эти «институтки» подобострастно ловили каждый взгляд и слово командирши. Другое дело сама Ратникова, вот женщина, так женщина. Но она значительно старше и, конечно, не собиралась на равных общаться с «новенькой».
Всякие резко отличающиеся от общей людской массы личности вызывают интерес. Для Эммы с самого начала ее пребывания на «точке», таким объектом пристального внимания стала семья командира дивизиона. Ратниковы держались особняком, но не на отшибе, в стороне, а как бы над всеми. Однажды Эмма зашла в магазин, собираясь купить муку, и застала Анну одну. Чуть погодя туда же, источая жизнерадостную энергию, забежал ее сын. Эмма впервые близко увидела этого юношу, олицетворение молодости, красоты, мощи… и искренне позавидовала. Она как всякая нормальная женщина мечтала иметь детей, и обязательно сына, чтобы он вырос красивым рослым, сильным. А тут прямо перед собой она видела женщину, которая именно такого сына имеет. Однако, Анна, во всяком случае внешне, не показала, что является обладательницей «бесценного сокровища». Она привычно и даже несколько грубовато сделала сыну какое-то замечание и тут же нашла применение его бьющей через край энергии, заставила принести из подсобки нужный ей сейчас мешок муки. Сын с прилежной покорностью исполнил приказ, и в «благодарность» был тут же отчитан, за то, что попутно в той муке выпачкался…
Став свидетельницей той мимолетной сцены из чужой семейной жизни, Эмма безошибочно угадала, что строгость матери напускная, о чем свидетельствовало продолжение увиденного. Она не столько увидела, сколько догадалась, что мать и сын, маскируясь от нее, постороннего человека, немножко друг с другом поиграли. Сын, вроде бы, украдкой стащил с витрины плитку шоколада. За это мать незаметно под прилавком пыталась его стукнуть. Сын же перехватил ее руку и, невинно тупя глаза, не давал ей осуществить задуманное. Анне стало неудобно, она собиралась насыпать муку в принесенный Эммой пакет, что одной рукой сделать было нельзя. Эмма видела как Анна, не сумев высвободить руку, стала делать угрожающие знаки сыну глазами. Парень немного «помучив» мать отпустил ее руку и тут же демонстративно положил шоколад на место. Анна уже двумя руками быстро справилась с мукой, и обратилась к сыну:
– Возьми, только отметку в расходной тетради сделай, знаешь где, и дату со стоимостью не забудь проставить.
Лицо сына озарилось счастливой улыбкой (ребенок еще, хоть и богатырь с виду), он вновь схватил шоколад и, скорее всего, удержался, от того, чтобы тут же по своему выразить матери свою благодарность, чтобы он не преминул сделать, не будь здесь посторонней женщины. Поняв, что от глаз Эммы не укрылась ее «война» с Игорем под прилавком, Анна немного смутилась, и после того как сын с шоколадом унесся на улицу, как бы оправдываясь, сказала:
– Совсем от рук отбился. Год с нами не жил, вот и разболтался…
Потом Эмма не раз преследовало видение: красавец юноша по-сыновьи с любовью шутит и «играет» с красивой матерью, которая строгостью маскирует свою собственную любовь и нежность. Их взаимоотношения были настолько естественны и раскованны, лишены всякой показухи и условностей.
То, что Анна Ратникова красива, Эмма признавала безоговорочно, хотя вроде бы она и была ее полной противоположностью. Редкая женщина признает красоту другой, да еще и старше себя по возрасту. Но Эмма никогда не считала красавицей себя, и потому была лишена обычной бабской «слепоты». Во внешности Анны она находила те черты, которыми не обладала сама, но очень бы хотела иметь. Они были примерно одного роста, обе блондинки, только у Эммы волосы были «соломеного» оттенка и прямые, а у Анны светло-русые и слегка волнистые, с редкими серебристыми проблесками седых искринок. А вот что касается фигуры, Эмма в свои 27-мь, не задумываясь, поменялась бы с 38-летней Анной. Она всегда, до тихих в подушку слез завидовала обладательницам такого роскошного и в то же время не рыхлого, легко управляемого тела. Они его несут, будто не ощущают солидных килограммов, обтянутых одеждой лишь для того, чтобы лучше подчеркнуть эти аппетитные формы, соблазнительно и вроде бы невзначай колыхать ими, привлекая вспыхивающие взоры мужчин. Именно такой фигурой обладала Анна Ратникова: мощные и в то же время красиво очерченные бедра, в сравнении с которыми плечи казались узкими, высокая, где-то 4-го размера грудь, полные, но фигурные ноги, живот объемистый, но не торчащий вперед, потому что удачно «уложен» в широком тазу. Даже пухлый двойной подбородок, добавлял ей мягкости, а не обрюзглости.
Увы, такого тела Эмма не имела и подсознательно осознавала, что скорее этому факту, а не с детских лет ненавидимым ею русским, она обязана своей столь трудно складывавшейся личной жизни. Хотя и тут она, поразмыслив, умудрялась подвести свое «теоретическое обоснование», выглядевшее для нее вполне логичным. Разве выросла бы она такой, если бы ее мать не стала дочерью ссыльного, и не была вынуждена по этой причине выходить замуж за подвернувшегося босяка, приблудного не то карела, не то финна? Биологический отец Эммы «навострил лыжи» и пропал, едва она родилась. Да если бы не пришли русские и у деда не отобрали хутор, мать бы вышла за достойного жениха, и она бы родилась от нормального отца и с детства жила бы в полной, добропорядочной семье и нормально развивалась. Разве тогда нужно было бы ей ехать черти куда с родных мест, вкалывать на этой ужасной работе и опять же выходить замуж за случайно подвернувшегося. И вновь круг замыкался на русских – если бы не они…
Эти мысли еще провоцировались и неудовлетворенностью мужем. Эмма начала беспокоиться о ребенке: они уже с Петром жили несколько месяцев, а забеременеть никак не получалось. «Чертов пень, и этого сделать не в состоянии», – пока что мысленно ругала она мужа, не утруждая себя догадками, что в этом «деле» вклад супругов одинаков и кто из них виноват в «холостой работе» может определить лишь медэкспертиза. Как-то сама-собой у Эммы возникла зависть к Ратниковой, и соответствующий вывод – при таком муже можно до таких лет сохранять красоту. То, что командир много делает для семьи, Эмма узнала из саркастических рассказов Петра и из разговоров других «офицерш», да она уже и сама многое замечала. У себя в магазине Анна никогда не таскала тяжести, ей либо присылал солдат муж, либо она их «запрягала» сама. В крайнем случае помогал сын, или сам Ратников. То, что Анна много лет проработав продавцом и имея такой внушительный вид, в то же время совсем не имеет навыка таскать тяжести, Эмма убедилась лично, когда в очередной раз пришла за покупками. Чтобы ускорить процесс отпуска товара она на глазах Анны и еще нескольких тут же присутствующих женщин взвалила на весы мешок сахара, потянувший сорок килограммов.
– Ну, ты даешь, девка! – изумилась опешившая Анна, непроизвольно перейдя на «ты» и простонародный язык. Она никак не ожидала такой силы от худой и костистой Эммы.
– Привычка… я ведь на фабрике когда работала, первые три года разнорабочей была, чего только не натаскалась. Да это и не так уж трудно. И вы поднимите, главное от пола оторвать и бояться не надо, – смущенно отвечала Эмма, уверенная, что такая крупная и мощная на вид женщина как Анна, без труда справится с этим мешком. В то же время ей стало неудобно, что она вот так не по-женски отличилась – теперь молва пойдет, что Харченко взял в жены грузчицу.
– Нет, я пожалуй, не стану… тяжело… не для бабьей силы это, спину сорвать недолго, – Анна зафиксировав вес мешка, несколько раз с опаской его дернула, но последовать совету «не бояться» все же не рискнула…
Новость, перевод фразы насчет русских свиней, произнесенную Эммой в магазине, распространилась быстро, но резонанса не имела. Повозмущались женщины, поговорили меж собой офицеры, удивленно покачал головой замполит, и как-то все на этом кончилось. Даже с Харченко никто не поговорил, приструни, мол, жену. И Ратников, обуреваемый заботами о предстоящих «смотринах» дивизиона высоким начальством, не придал этому инциденту особого значения. Другое дело если бы лично оскорбили его или его жену, а то как-то всех, или почти всех, ведь русскими на дивизионе было подавляющее большинство офицеров и их жен. А когда хаят всех, вроде бы и никого отдельно. Да, чего не бывает в разговоре, например среднеазиатов и кавказцев русские всегда именовали «чурками», тех же прибалтов «западными чурками»…
3
Эмма оказалась одной из немногих обитателей «точки», кто положительно оценил усилия командира по облегчению условий быта своей семьи и труда жены. Остальные женщины, снедаемые завистью, но опасающиеся высказывать свое мнение «в голос», зубоскалили втихаря. Особенно зло они шипели, когда магазин вдруг дня четыре подряд не работал – болела продавец. Вроде бы дело понятное – болезнь, но Анна таким образом не стеснялась болеть регулярно, каждый месяц. Где это видано, чтобы в стране Советов из-за месячных женщина не выходила на работу! Эмма, напротив, не увидела в этом ничего предосудительного, а лишь заботу мужа о жене. Ведь это он позволял жене не работать в «критические» дни. Если есть такая возможность, почему бы не воспользоваться своей властью, предоставить бюллетень. Эмма отлично помнила, как сама страдала в свое время на фабрике в такой же ситуации. И в этом она увидела еще одну причину, по которой Анна так хорошо сохранилась, несмотря на прочие тяготы «точечной» жизни.
Если бы Эмма знала все «причины», она бы вообще посчитала Анну невероятной счастливицей. Во-первых, та вышла замуж по любви и с 18-ти лет жила полноценной (в том числе и интимной) семейной жизнью, вовремя рожала и в те же 26 лет уже имела двух детей. Во-вторых, она ни дня не глотала ядовитую пыль фабричных цехов, и еще многое другое, что могла оценить только женщина со стажем семейной жизни. За 20-ть лет супружества Анна умудрилась не сделать ни одного аборта. Если бы еще и это знала Эмма, она бы посчитала Ратникова как мужа, не иначе святым. На примере своей сестры она отлично знала, что такое аборты, какая это болезненная, уносящая много здоровья процедура.
В один из погожих августовских выходных дней Ратников организовал массовый выезд офицеров с семьями на водохранилище. Эмма до того довольно скептически оценивала свое новое местожительства, ибо место расположения самой «точки» действительно было не очень живописно. Но тут она получила возможность увидеть местную природу во всей ее буйной красе. Они выехали на совершенно безлюдный участок побережья, километрах в десяти от «точки», в пойме бывшего русла Бухтармы. Место смотрелось: горы полого сбегали к воде, все в синей дымке марева, получающегося от смешивания исходящего от нагретой солнцем каменистой почвы тепла с прохладой, веющей от водной поверхности. Горы густо поросшие кустами шиповника и жимолости, усыпанные поспевшими ягодами, перемешивались мозаичным многоцветием прочей растительности. Неподвижный воздух наполняла неповторимая музыка, исторгаемая природным оркестром: кузнечики, сверчки, всевозможные птицы, шум сбегающих по камням ручейков. В устье одного из таких ручейков-речушек и расположились на пикник.
И здесь Эмма украдкой следила за семьей Ратниковых, и вновь видела не показную теплоту их взаимоотношений. Как бережно втирал мазь для загара в плечи жены сам Ратников, как оба они заботливо укутывали дочь после купания, с каким старанием сын накачивал надувной матрац, чтобы мать с сестрой могли, плавая на нем загорать прямо на воде. В свою очередь, Анна не скрывала перед посторонними беспокойства за сына, когда тот вызвался плавать на перегонки с этим неприятным, всегда смотрящим на Эмму исподлобья, молодым офицером по фамилии Малышев. Да Эмма завидовала Ратниковой, пожалуй, завидовала так, как никогда и никому. Но в отличие от подавляющего большинства прочих дивизионных дам, ее зависть не была черной. Она понимала Анну, и хотела быть такой как она, иметь такого же сына (слабую и болезненную дочь Ратниковых Эмма как-то не принимала во внимание) и главное, такого же авторитетного и заботливого мужа. Чем больше проходило времени, тем больше Эмма находила сходства между точкой и милым ее сердцу, но воочию никогда не виданным, дедовским хутором. «Точка» ей казалась большим хутором, а Ратниковы его хозяевами. При этом она как-то постепенно перестала воспринимать Ратниковых как представителей столь давно ненавидимого ею народа. Нет, она видела в них уже не русских, а прежде всего твердых и умных хозяев, составляющих в то же время несокрушимый семейный союз, и потому так ей импонирующих.
Отношение мещански мыслящих индивидуумов к толпе в любом ее виде: очередь, митинг, тусовка, сборище всевозможных фанов… как правило отрицательное. Эмма тоже плохо переносила толпу, а особенно наиболее часто встречавшуюся в СССР её разновидность – очереди в магазинах. В тот вечер, когда в магазине «давали» венгерские консервированные помидоры «Глобус», она себя неважно чувствовала. С наступлением холодов начала давать о себе знать начальная форма туберкулеза, приобретенная ею на фабрике. А тут еще оказалась последней в очереди, рядом с выходной дверью, из которой тянуло холодом. Она с трудом сдерживала подступающий кашель, и монотонная бабья болтовня ее раздражала. Совокупность данных причин и побудила ее попроситься пройти без очереди. При этом она сослалась на недомогание. Эмма, конечно, не очень надеялась что ее пропустят, а просьбой иносказательно выразила свое недовольство: вы дескать, сюда потрепаться пришли, а мне с вами язык чесать совсем неинтересно. Само собой ей возразили: дети дома не плачут, муж на службе, так что и постоять можешь. Причем сказали довольно таки обидным ерническим тоном, с добавлением околоматерных слов… Эмма обиделась, разозлилась и не сдержавшись сказала то, что с детства было вбито в мозги, сказала как привычный словооборот-паразит, так же как русские используют тот же мат для связки слов. Потом она и сама не могла понять как это krieve cuka сорвалось с языка. Сначала она понадеялась, что ее не поняли, но потом… потом она не на шутку расстроилась, ибо уже от мужа узнала, что ее достаточно быстро и дословно «перевели».
Утром из дома к школьной машине Ратниковы вышли всей семьей. Игорь, дурачась и издавая дикие крики, побежал вперед к машине, делая вид, что не слышит окриков матери.
– Ну что я тебе говорила? – с плохо скрываемым раздражением обратилась Анна к Ратникову. Она как раз приняла свою обычную «королевскую» позу, чтобы под руку с мужем прошествовать по городку, а тут Игорь своей выходкой испортил ей «торжественный выход». – Полюбуйся, здоровый дылда, а орет как дите малое. Скажи хоть ты ему, – продолжала возмущаться Анна.
– Да пусть побесится. Что ж ему теперь за всякую ерунду выволочку делать? – отмахнулся Ратников.
– Сказала, уши у шапки опусти – как об стенку горох…
Люда шла рядом смирно, взяв отца под другую руку. Школьная машина ГАЗ-66 с будкой, в которую уже набились дети, стояла «под парами». Игорь, едва заскочил, успел «порезвиться», из будки послышались слезливые причитания младшего Колодина:
– Чего лезешь… здоровый даа!?…
– Игорь! – рванулась было к машине Анна, но Ратников удержал, крепко взяв жену выше локтя:
– Сами разберутся, не убьет он его. И вообще, это Колодина сейчас должна за своего сына больше беспокоиться, чем ты, а она спит себе.
Сама Анна поднялась в такую рань потому, что уже завтра 17-го декабря ожидался приезд нового комкора, и ей надо было успеть приготовить свой магазин к вероятному визиту «высокого гостя». С этой целью она попросила мужа прислать к ней с подъема в помощь солдата…
Приняв на крыльце обычный утренний доклад дежурного офицера, Ратников уже вместе с ним вошел в казарму.
– Как прошел подъем? – командир задал свой обычный «утренний» вопрос.
– Все нормально, товарищ подполковник, – поспешил ответить дежурный.
– Люди уже умылись?
– Так точно.
– Тогда строй дивизион.
Но умыться успели не все, и полностью дивизион построился только через пятнадцать минут. Ратников говорил недолго, напомнил места работы каждого из подразделений и обязал подошедших командиров батарей проследить за качеством уборки отведенных территорий. Не забыл он и просьбы жены:
– Мне нужен один человек для работы в магазине!
Желающих нашлось немало. Работать в магазине, под началом хоть и почти годящейся им в матери, но сохранившей свежесть и привлекательность женщины, было куда приятнее, чем убирать снег, или чистить дивизионный свинарник. Правда у командирши в магазине особо не посачкуешь, она сидеть не даст, а если ей что не понравится, и не дай Бог командиру пожалуется, тогда точно недели две из самых тяжелых нарядов не вылезешь. Потому обычно в магазин просились работать по-настоящему добросовестные бойцы. И смысл хорошо там трудиться имелся – если командирша оставалась довольной работой помощника, она непременно одаривала его каким-нибудь лакомством типа печенья, конфет или фруктов. «Молодые» на такую работу не вызывались, согласно неписанным армейским законам их ждали другие «ударные» объекты. Но большинство солдат прослуживших год и больше всячески пытались предложить себя, кто по уставному говоря «я», кто по школьной привычке поднимая руку. Ратников пригляделся к строю внимательнее и с удивлением обнаружил, что на этот раз не все «молодые» обреченно «молчат». Некоторые из них, так же как и старослужащие и годки пытались предложить себя для магазинной работы. Еще год назад Ратников данным обстоятельством очень бы удовлетворился: налицо удар по дедовщине, молодые явно не боятся «стариков». Но год назад этого просто и быть не могло, тогда любой «молодой» безропотно ждал куда его пошлют, то есть сегодняшний «старик» год назад пахал, что называется, как папа Карло. Значит, все-таки есть прогресс? Но памятный разговор в квартире холостяков и собственные беспокойные раздумья не дали восторжествовать такой упрощенной легкомысленной радости. Подполковник отчетливо видел, что эти бесстрашные «молодые» все как один с Кавказа. Явно напрашивалось, что борясь с дедовщиной, просмотрели такое явление как землячество. А всю основную тяжесть работы опять готовы покорно принять на себя остальные «молодые». Их, за вычетом кавказцев стало меньше, а грязной работы, так сказать, на душу – больше.
Выбирая помощника Анне, Ратников исходил из ряда соображений. Требовался парень старательный, и достаточно сильный, чтобы мог один без ее помощи таскать тяжести, в то же время он должен обладать умеренным темпераментом, что бы не сверкал из-под тишка «голодными» глазами. Анна и раньше и сейчас не раз со смехом признавалась ему, что часто ловит на себе совсем не равнодушные солдатские взгляды. Подобные «подгляды», ощущали все, даже самые страхолюдные обитательницы «точки». Женщины поумнее понимали их естественную природную причину, ну а дурочки тешили себя иллюзией собственной неотразимости. По совокупности всех этих причин Ратников отклонил кандидатуры слабосильных, или известных своей леностью бойцов, так же отказался от услуг кавказцев, чьи «горящие очи» выдавали извечную тягу южных темпераментных организмов к крупной северной женщине.
– Рядовой Фольц! – выбор пал на выделяющегося особой чистотой и подогнанностью обмундирования, с фигурой тренированного спортсмена солдата, спокойно стоящего в строю, и не рвущегося на халяву.
– Я! – моментально отозвался Фольц.
– Зайди в канцелярию… Остальные по рабочим местам!
Тут же из строя вышли комбаты и послышались уже их команды. Фольц ждал у входа в канцелярию.
– Заходи… Значит так, пройдешь в магазин, там кое что переставить надо. Продавец тебе покажет, – Ратников всегда, когда отправлял солдата работать в магазин, именовал жену официально, по должности – продавец.
– Есть, – вновь ответил солдат, вытянувшись по стойке «смирно».
Своей спортивностью Фольц напоминал Малышева, только в кости поуже, и в его подбористости чувствовалась особая, врожденная аккуратность, лишенная внешней щеголеватости, рисовки, чем обычно отличались многие этнические немцы.
– Разрешите идти?! – Фольц уже собирался повернуться через левое плечо.
– Подожди. Вот еще что. Там с тобой мой Игорь по вечерам тренируется. Ты бы себе другого партнера подыскал, мальчишка он еще. Боюсь, зашибешь ты его.
Худощавое лицо солдата не выразило удивления, он, казалось, ждал такого разговора.
– Это, наверное, супруга ваша беспокоится? – догадался Фольц.
– Да, верно. Но и я тут на днях посмотрел на эти маты, на которых вы приемы отрабатываете. Тебе не кажется, они мало пригодны для борьбы? – подполковник смотрел вопросительно.
– Так точно, – согласился Фольц. – Маты неважные, но травмироваться можно на любом самом лучшем ковре, если пренебрегать разминкой, не соблюдать меры безопасности и страховки. Товарищ подполковник, вы напрасно беспокоитесь, риск не больше чем попасть под машину в городе при переходе улицы. Я ведь достаточно опытный борец, восемь лет занимался и знаю, как избежать травм на тренировках. С вашим Игорем ничего не случится, если он со мной будет тренироваться…
4
Карагандинец Виктор Фольц, выходец из немецкой шахтерской семьи, появился в дивизионе около года назад, отчисленный за драку из базирующейся в Алма-Ате спорт-роты, куда он, кандидат в мастера спорта по САМБО был призван и выступал за окружной СКА. В спорт-роте послужить ему пришлось недолго, всего полгода. Сначала все шло нормально. Виктор упорно тренировался, несколько раз успешно выступил на республиканских соревнованиях. Состояние его «формы» уже вполне позволяло побороться и за «мастера». Все планы рухнули разом в один вечер. Самое недисциплинированное подразделение спорт-роты, травяные хоккеисты, после отбоя затеяли драку с солдатами из расположенной рядом казармы батальона аэродромного обслуживания. Оказавшись в меньшинстве, хоккеисты обратились в бегство. На их «плечах» противник, размахивая ремнями, ворвался в расположение спорт-роты. В потасовку был вовлечен и уже лежавший в койке Виктор. Пытаясь разнять дерущихся, он получил сильный удар ребром бляхи по голове. Последовала естественная ответная реакция. От боли Виктор напрочь забыл, что деревянный пол казармы не ковер, а его тогдашние противники не обучены группироваться, смягчать удар при падении… Когда прибыл дежурный по части и вызванный им караул, у десятка «летчиков» оказалось сильное сотрясение мозга, у одного сломана рука, у другого челюсть, еще шестеро отделались ушибами и вывихами. В казарме после побоища был полный разгром: стекла выбиты, табуретки и тумбочки поломаны, кровати опрокинуты. Виктора, как ни странно, сделали одним из «крайних» и отчислили из спорт-роты. Так он оказался в «войсках», в огневом дивизионе.
Все это Виктор рассказал сразу по прибытию, но Ратников окончательно ему поверил только по прошествии времени, когда узнал парня получше.
– …Из вашего Игоря может выйти отличный спортсмен. Правда, начинать уже поздновато, но данные у него, дай Бог каждому, – убежденно говорил Фольц. – Он ведь все равно дома сидеть не будет, силы то у него вагон. А где ему здесь ее применить. Тут же ни секций, ни спортклубов.
– Ничего, найдет какое-нибудь занятие, учебе больше внимания уделять будет, – не очень твердо возразил Ратников.
– Он же сильный парень, его к спорту тянет. А в дивизионе кроме меня, разве что старший лейтенант Малышев настоящий спортсмен и может чему-то научить. Но вот с ним я бы точно не посоветовал связываться, – вдруг сделал неожиданный поворот в разговоре Фольц.
– Это почему? – насторожился Ратников.
– Да так, – Фольц явно замялся. – Хоть он и офицер, и вы ему больше доверяете, чем мне, но человек он нехороший.
– Погоди, погоди… Что, Малышев уже кого-то тренировал? – заинтересовался подполковник.
После небольшой паузы Виктор нехотя ответил:
– Да нет. Просто мы как-то с Церегидзе попросили его показать, как правильно боксировать, перчатки принесли.
– Ну?
– Я-то баловался когда-то, немного умею. В общем, отработал с ним раунд. А Зураб ведь без понятия. Разве так можно, имея первый разряд и такой удар с новичком в полную силу боксировать? Не спортсмен он, а какой-то зверь, – с трудом сдерживал негодование Фольц.
– Что же все-таки там у вас случилось? – подталкивал солдата к конкретности Ратников.
– Вы, товарищ подполковник, только к нему сына не подпускайте, – ушел от прямого ответа Фольц, после чего стало ясно, что больше он ничего по этому поводу не скажет.
– Ладно, посмотрим. Уж больно маты там плохие у вас… Но решать будем, при первой оказии попробую у начфиза новые раздобыть…
Ратников поверил Фольцу, хоть и не смог до конца его «разговорить». «Действительно, Игорь здоровый парень, ему нужен выход для энергии. В Люберцах он уже привык к регулярным тренировкам, и здесь хочет продолжить, только с этой тупой качки переключился на более интересную и динамичную борьбу, благо есть с кем заниматься. Все правильно, мужает парень, такой возраст, и чем плох тот же Фольц – хороший, честный парень. А с Малышевым надо срочно разобраться, что-то много у него в последнее время проколов образовалось». – Фольц вышел, а Ратникова не покидали тревожные мысли. – «У кого еще можно узнать, что же там произошло во время этой боксерской тренировки? Где сейчас Церегидзе?…. В карауле кажется…».
На улице работа шла полным ходом. Снег укладывали на вал и тут же плотно утрамбовывали. Ноги сами понесли Ратникова в караульное помещение. Там тоже кипела работа.
– Командир идет! – негромко, во внутрь караульного помещения крикнул боец, орудующий ломом у входа, отдалбливая лед.
Послышались спешные шаги, и в дверях появился начальник караула сержант Церегидзе, невысокий, одинаково широкий в плечах и бедрах и оттого кажущийся квадратным. Сержант доложил. Его грузинский акцент звучал не так резко и гортанно, как и большинства его земляков, но спутать было невозможно – так по-русски мог говорить только грузин.
– Все нормально? – переспросил подполковник.
– Так точно, порядок наводим, – подтвердил сержант.
Зураб Церегидзе обладал невероятно тихим для кавказца нравом. Офицерские жены диву давались, что в их присутствие, в магазине, или во время совместных поездок на школьной машине в Новую Бухтарму, Зураб стыдливо опускал глаза и краснел как девушка. Мало того, что он сам страдал от столь несвойственной кавказскому человеку застенчивости, Гасымов и Ко подвергали его постоянным упрекам. Упрекали за то, что тот будучи «стариком» и сержантом не вступается за земляков, что честно тянет сержантскую «лямку», за то, что дружит не с кавказцами, а с немцем Фольцем и не пляшет под гасымовскую «дудку», под которую на дивизионе уже «водили хоровод» едва ли не все остальные кавказцы. Видимо, желание доказать землякам, что и он мужчина, спровоцировало однажды Зураба на нехарактерный для него поступок. В октябре началась «смена поколений» (старослужащие увольняющиеся в ноябре почти сдали «полномочия», а «майские» начали вступать в «права»). «Новый старик» дизелист Матвейчук заступил в наряд по дивизиону. После отбоя, пользуясь тем, что дежурный офицер ушел проверять караул, он решил организовать помывку полов в столовой, ленкомнате и прочих помещениях руками нескольких «молодых». Вместе с русскими, украинцами, узбеками и татарами, он стал поднимать и их однопризывника азербайджанца. Гасымов, не вставая с койки, посоветовал не трогать земляка, на что Матвейчук пообещал и самого Гасымова на «пола» запахать, если не заткнется. Ситуация сразу обострилась. Гасымов вскочил, готовый кинуться в драку, ему на подмогу поднялись все кавказцы независимо от призыва, кроме Церегидзе и Григорянца. На помощь Матвейчуку поспешили все остальные «старики», за исключением Фольца. Виктор по понятным причинам старался избегать подобных «мероприятий». Численный перевес и немалый имели «старики». И тут совершенно неожиданно вскочил и Зураб. Колеблясь между однопризывниками и земляками он все таки предпочел в конце концов земляков. Сорвавшись с койки, он схватил табуретку и обрушил ее на огромного связиста Линева. До головы к счастью не достал, но, попав в плечо, вывел из строя ударную правую руку гиганта. Непонятно, то ли травма самого здорового «старика», то ли полная неожиданность поступка тихони Церегидзе повлияла на обе стороны, но драка не состоялась. Все закончилось словесной перепалкой, которую и застал, вернувшийся после проверки караула дежурный офицер. Так что пришлось в ту ночь свежеиспеченному «дедушке» Матвейчуку орудовать шваброй самому. А подробности уже стали известны позднее.
Ратников зашел в караулку и узрел хорошо ему знакомую картину: облезлые зеленые стены и промерзшие, в инее углы, электророзетки, пожелтевшие от постоянного присутствия в них вилок электрообогревателей. В комнате отдыхающей смены смрад и вонь, оставшаяся с ночи от сушащихся на батареях портянок. Караульных отдыхающей смены в комнате нет – они все работают. Обычное явление всесоюзного масштаба – разве можно отдыхать даже тому, кому положено, если начальство завтра с проверкой приезжает.
Не став выяснять обстоятельств «боксерского поединка» у Церегидзе – сержант при исполнении, и вроде бы, совсем не пострадал, пусть спокойно несет службу дальше – Ратников решил попытать самого Малышева.
Офицеры-холостяки питались в казарме из солдатского котла.
Малышев, зайди ко мне! – не стал откладывать дело в долгий ящик подполковник, увидев Николая, выходящего из комнаты, где завтракали офицеры. Когда старший лейтенант зашел в канцелярию, подполковник повысил тон. – Потрудитесь заправиться и перестаньте жевать!
Неожиданный переход на «вы» давал понять Николаю, что командир настроен к нему весьма неблагожелательно. Малышев встрепенулся, оправил портупею на шинели, спешно проглотил остатки пищи, принял положение схожее со «смирно». Четыре года курсантских, а потом еще два офицерских выработали в нем механическую реакцию на подобное обращение старших начальников.
– Что там у тебя произошло с Церегидзе? – по-прежнему сурово вопрошал Ратников.
Николай напрягся, переспросил:
– А что у меня с ним могло произойти?
– Это я тебя и спрашиваю!? – подполковник уже заметно злился.
– Не знаю о чем вы, он же не мой подчиненный, – Малышев пытался казаться спокойным.
– Ты боксировал с ним!?
– Ах, вот вы о чем, – Николай сделал вид, что вопрос командира только сейчас стал ему ясен. – Да, я показал ему кое какие приемы.
– И чем этот показ закончился!?
– Да ничем… Я, правда, немного не рассчитал силу удара, – без малейших признаков вины или замешательства признался Николай.
– Слушай, друг ситный, мне что-то в последнее время твои художества стали надоедать. Что-то, пока ты звание ждал, то руки не распускал, да и национализм свой особо не выпячивал. А звезду получил – как с цепи сорвался. Церегидзе-то за что ударил!? Парень смирный, мухи не обидит, служит хорошо!
– Вы говорите, мухи не обидит? – криво усмехнулся Малышев. – А остатки той табуретки, которой он Линева отоварил, видели!?
– Так, то же другое дело. У него же выбора не было, иначе бы массовая драка случилась, ЧП. А он не дал над «молодыми» издеваться, ночью их поднимать, – как мог оправдывал Ратников Зураба, хоть совсем не был уверен, что тот действовал из таковых побуждений.
– Да, ну что вы, товарищ подполковник, каких молодых, он за земляков вступился, – своим тоном Малышев выразил удивление, что командир сам не додумался до этого. – А у меня с этим грузином все было в норме, обычная боксерская тренировка. Тем более он сам меня попросил.
– Какая там тренировка? Ты же боксер, разряд имеешь, а он в первый раз перчатки одел!
– Я вам еще раз говорю, я его не принуждал, он сам напросился.
– Он же поучиться хотел, а не получить нокаут!
– Что он хотел, я не знаю, – Малышев уже отвечал с легким раздражением.
– Куда ты его ударил?
– Точно не помню… кажется в солнечное сплетение, – равнодушно пожал плечами Николай.
– Если бы ты так поступил с какой-нибудь сволочью, нарушителем воинской дисциплины… Но ударить такого… Как к тебе теперь солдаты будут относиться, ты подумал об этом?
– Вы, товарищ подполковник, за меня не беспокойтесь, и о своем авторитете среди бойцов, я как-нибудь сам позабочусь.
– Да не о тебе речь. Ты же вносишь межнациональную напряженность во внутридивизионную жизнь. Сначала Гасымов, теперь Церегидзе.
– Да при чем здесь я? Вы, что не видите, эта напряженность и без того, везде, повсюду! – резко отреагировал Малышев. – Я просто даю отпор наиболее зарвавшимся чуркам, в то время как многие, в том числе и офицеры их растущую наглость молча сносят… или не видят, – последний упрек уже явно относился к Ратникову.
– Ну, конечно, один ты у нас такой зоркий сокол, – усмехнулся подполковник и сняв шапку уселся, наконец, за свой стол – до того диалог шел стоя.
– В нашем дивизионе, скорее всего так и есть, один я, а в стране уже давно брожение идет. Уже многие этого кавказского хамства не выдерживают, причем не только русские. Вы, наверное, не слышали историю, как один русский старик, ветеран войны, кабардинцам танковое сражение устроил?
– Нет, не слышал, – отмахнулся Ратников, собираясь что-то сказать, но Малышев решил озвучить, как ему казалось поучительную историю, и подполковник был вынужден замолчать.
– Это там недалеко от наших мест, на Северном Кавказе случилось, года два или три назад. К бензокалонке где-то в Кабарде подъехал на своем «Запорожце» старик-инвалид, стал в очередь на заправку, и как раз его очередь подходила. Тут несколько молодых местных джигитов на «жигулях» подвалили, вперед него втиснулись. Старик стал их стыдить. Ну, а у тех кровь горячая, взыграла, как это какой-то калека, да еще русский смеет джигитам указывать. Старику по морде и вообще из очереди выкинули, дескать, видишь все молчат и ты, собака, молчи. А ведь своих стариков они очень уважают, и женщин тоже, а других за людей не считают. А ветеран боевой оказался. Он пообещал им показать танковую атаку под Прохоровкой. Задраил у своего «Запорожца» стекла и давай своим передком их «Жигули» со всех сторон таранить. У «Запора»-то мотор сзади. Раздолбал вдрыск. Те милицию, старика арестовали, документы проверили, оказался Герой Советского Союза…
Подполковник недоверчиво покачал головой. Не то чтобы он не поверил, но он так часто слышал нечто подобное, в анекдотическом содержании. Про то, что все кавказцы на «Волгах», евреи на «Жигулях», а русские в лучшем случае на «Запорожцах». Он конечно в подобные анекдоты до конца не верил, но в то же время считал, что дыма без огня не бывает, и анекдоты на пустом месте не рождаются.
– Не знаю, не знаю, но думаю в твоем рассказе есть преувеличения и домыслы. Ведь сам-то ты эту «сцену» не видел, а слышал многократно извращенную версию, – недоверчиво качнул головой Ратников.
– Какие домыслы!? Если вы мне не верите, я напомню тогда и чисто местный случай с чеченцами, что в прошлом году в Зубовке шабашили.
На это раз Ратников вынужден был признать полную правоту Николая. Он и сам хорошо был осведомлен о том инциденте…
5
Летом прошлого, 1985 года, бригада чечен-строителей ходила по местным деревням, подряжаясь ремонтировать или строить хозяйственные объекты. Чечены-шабашники стали этим заниматься по примеру семейных армянских бригад. Днем они работали, а по вечерам… по вечерам бесчинствовали, затевали драки, приставали к женщинам и девчонкам. Так они затероризировали не одну деревню, особенно небольшие, где было немного мужчин и парней. Их побаивались, обращались в милицию. Дело обычно заканчивалось ничем, ибо чечены щедро давали в «лапу» милиционерам и те спускали все на тормозах. Из-за специфического поведения той бригады во внерабочее время объекты часто не достраивались и подряды расторгались. Сгубило чечен то, что они уверовали в свою полную безнаказанность. Уже осенью бригада поднялась в горы и подрядилась чинить коровник в старой кержацкой деревне. Чечен предупредили, что кержаки отличаются от прочих русских. Но те легкомысленно не вняли предупреждениям. Да и как тут внять, когда нигде не получали настоящего отпора, а тут вокруг ядреные кержачки ходят, выросшие на добротном молоке, сметане, мясе и на чистом горном воздухе. Кержаки, конечно, стали не те, что их деды и прадеды. Мало кто из них уже вообще крестился, не говоря уж о двоеперстии. Зажала и их советская власть, загнала в колхозы, запретила староверческие книги, посадила учиться в советские школы. Но что-то этакое, свое, не советское в них осталось.
В тот холодный октябрьский вечер чечены по привычке стали зажимать и насильно мацать девок, угрожать ножами и кинжалами парням и мужикам… Они были уверены, что и здесь все пойдет по обычному сценарию: они как минимум от души пощупают груди и животы этих смачных русских девок, может кого и «завалят», ну а если из райцентра приедет милиция, они по обыкновению откупятся. Но 70-ти лет советской власти оказалось недостаточно не только для того чтобы утихомирить чеченцев, но и для превращения потомков староверов в стопроцентно инертных советских людей. Они не побежали жаловаться в милицию, а ответили «всеми имеющимися средствами». На бой вышла вся деревня, все мужики и молодые и старые, кто с топором, кто с вилами… кто с ружьем. Итог получился невеселым, двум деревенским вломили по «десятке» строгого режима, еще шестерым срока поменьше. Ишь чего удумали, за дочерей, жен и сестер вступиться. Такой вольности советская власть никогда не дозволяла, все должны быть как овцы, а раз не овцы, так получи. Ну, а чечены… одиннадцать их было, семерых отвезли в районную больницу залечивать пулевые и рубленые раны, а четверых прямо в морг…
Видя, что командир несколько смутился, не имея возможности оспорить последний факт, случившийся к тому же не так далеко от «точки», Малышев, было, вновь перевел разговор на случай с Гасымовым… Ратников уже не хотел продолжать затягивающийся спор. Он неожиданно почувствовал, что устал от постоянной нехватки аргументов при попытках поставить старшего лейтенанта на место. Но Малышев все не унимался:
– Неужто вы не видите, что в основном вся эта «грязь», разлагающая страну плывет не с Запада, не из заграницы, как это утверждают наши политработники, а зарождается у нас же, на Юге. Вспомните, как себя вел и что говорил тогда Гасымов в ленкомнате. И во многом здесь виновата Центр, Москва, ее политика…
– Да, здоров ты обвинять, тебе бы не в офицеры, а в прокуроры. Есть, конечно, в твоих словах доля истины, но всего лишь доля и небольшая, – перебил его Ратников.
– Пока Москва не станет снова частью России, а не государством в государстве, с отличной от остальной страны жизнью, мы русские не будем едины, – уверенно резюмировал Николай. А разделили нас, таким образом, специально, чтобы легче управлять. Те, кого кормят посытнее, никогда против руководства не пойдут. Свою дворню ведь помещики тоже лучше остальных крепостных содержали, вот и москвичи это та же дворня. Мишка Рябинин, конечно, парень хороший, но он тоже из дворни, хоть и не виноват…
– Ладно… ты в высокие сферы не лезь, ты лучше за свои поступки отвечай. А те, кто сверху, они за свое перед историей ответят, – решил повернуть разговор от столь «скользкой» колеи Ратников.
– Просто мне, товарищ подполковник, обидно, что народ наш замучен всеми этими дурацкими планами и все увеличивающимся количеством нахлебников, как своих южных, так и зарубежных, – пояснил свою позицию Николай.
– Дались тебе эти южные. Ну, а как ты объяснишь, что в Афгане все одинаково воюют и гибнут и героизм проявляют и южные и северные? Что они от ненависти друг к другу под пули-то лезут? А вот тебя бы с твоими ухватками там в первом же бою, свои же шлепнули бы.
– Не будем говорить о невозможном. Нашим войскам ПВО, слава Богу, там делать нечего, – ничуть не обидевшись, ответил Малышев. Чувствовалось, что и он устал от явно бесполезных попыток обратить в «свою веру» командира.
– Сам то ты туда не хочешь. Так почему же тогда про нацменов плохо говоришь. А ведь там они гибнут на равне со всеми. А ты этакого супер-патриота из себя корежишь, а под пули за Родину не горишь желанием лезть, – Ратникову, наконец, показалось, что он «поймал» Малышева.
– Неужели вы думаете, что я боюсь? – Николай сконцентрировал взгляд в возмущенном прищуре. – Я просто не желаю уподобляться телку, которого гонят на бойню. Ради чего там воевать? Чтобы Боря Кармалев со своими наложницами в шахском дворце развлекался? Если бы там была война за Россию, за увеличение ее мощи или территории. А воевать за этих чучмеков… Я такими и здесь сыт по горло. Итак, сколько русской крови зазаря в этом Афгане полили.
– Ну, ладно, наверное, нам пора прерваться, – Ратников тоже уже не сомневался в бесперспективности дальнейшего разговора. К тому же возобладала уже давно бытовавшая в его сознании осторожность при затрагивании таких «щекотливых» тем. – Иди, а то боюсь, мы тут с тобой до такого договоримся, всему особому отделу не разгрести.
Старший лейтенант с торжествующим видом козырнул и резко повернувшись, вышел.
«Надо же, каков… Не иначе он считает себя победителем в нашей словесной дуэли. Да, не готов ты Федор Петрович к такой дискуссии с нынешней молодежью, совсем не готов», – глядя вслед Малышеву, размышлял Ратников.
После завтрака обычно дивизион строился на развод, где и ставилась задача на день. Но в этот день задача была поставлена с подъема, и Ратников не стал тратить время на строевые церемонии – солдаты сразу приступили к прерванным завтраком работам. На плацу заканчивали убирать снег. Группа «молодых» равняла снежный вал, окаймляющий бетонированный прямоугольник плаца. Среди них выделялся неумелыми движениями невысокий таджик Парпиев. Он до армии никогда не убирал снег, да и видел его редко. Командир стартовой батареи Сивков докладывал о его частых без видимых причин слезных рыданиях. Разбирался замполит. Неразвитому во всех отношениях теплолюбивому таджику, почти не говорящему по-русски и не имевшему в дивизионе земляков, было крайне тяжело адаптироваться. Его с большим трудом понимали только узбеки, но с ним они демонстративно «не водились». В отличие от кавказцев, которые «кучковались» не зависимо от национальности и вероисповедания предков, среднеазиаты такой межнациональной консолидацией никогда не отличались. Парпиев просил замполита перевести его куда-нибудь в другое место, где есть таджики. До решения этого вопроса руки пока не доходили, но долго тянуть было небезопасно.
Ратников пошел в сторону туалета. Там опять работали рядовые последнего призыва Хрулев, Савченко и Хуснутдинов.
– Вас сюда, что только троих направили? – недовольно осведомился Ратников, ибо «туалетня» работа была явно не под силу троим бойцам.
– Никак нет, с нами еще Зайчук был, он недавно в казарму отлучился, – отвечал белесый очкарик Ренат Хуснутдинов, типичный продукт шестисотлетнего сосуществования славян, татар и финно-угорских народов не просто в рамках единого государства, а буквально в теснейшем «контакте». В результате подобного «контакта» стали возможны темноволосые и даже раскосые Ивановы и белокурые Юсуповы.
Хуснутдинов вновь принялся долбить ломом замерзшую кучу, не попавшую по назначению в круглое отверстие, а Ратников повернул к свинарнику. Оттуда слышалось дружное похрюкивание – дивизионному свинству явно пришлось по душе затеянная вокруг них суматоха. В распахнутую настежь дверь вносили свежую, надерганную из полузаметенного снегом стога солому.
– Как у тебя дела? – морщась от неприятного запаха скотного двора, спросил подполковник у свинаря, рядового Цымбалюка.
– Усе як треба, товарищ подполковник! – прокуренно-хрипло гаркнул Цимбалюк, длинный тощий, и в то же время круглолицый украинец.
– Работа, гляжу, кипит?
– У мене плохо не роблят!
Старослужащий Цимбалюк и на гражданке, у себя в Житомирской области работал скотником. Людей для работы на свинарнике он у комбатов просил сам, знал кого выбирать, и работа спорилась. И здесь среди работавших только один, башкир Салават Закиров оказался неславянского происхождения. Год назад, тогда еще «молодого» Салавата определили в скотники на другой «точке». Проработав три месяца без замечаний, он заявил, что больше так служить не хочет. Закиров стыдился быть скотником, служа в ракетных войсках, стыдился написать об этом родителям и умолял перевести на любую, самую тяжелую должность, но чтобы возле ракет. Так он оказался у Ратникова и с удовольствием «пахал» в стартовой батарее. Сейчас же он в охотку носил солому, возможно, вспоминая унизительное, как ему казалось, начало своей службы.
Ратников пошел назад к казарме, размышляя на ходу. «Черт знает что, неужели всегда так, а я за текучкой как-то не обращал внимания? Где же все эти бойцы с горячей кавказской кровью? Надо собрать комбатов и выяснить, как они распределили людей. Надо ж, даже «молодых» кавказцев нет ни на плацу, ни на сортире, ни в свинарнике… И вера тут ни при чем, если свиней иметь ввиду, вон Закиров, то же вроде мусульманин, а работает в свинарнике и не считает зазорным, к тому же и не молодой он, а годок. И кавказцы не должны чураться. Однако нет никого их там, и вообще как-то они ото всех самых неприятных работ увильнули.» Ратников недоумевал, хоть и был предупрежден о возможности такого казуса в получасовой давности разговоре с Малышевым. Но долго недоумевать не пришлось. Проходя мимо продсклада, подполковник услышал доносящееся из-за его дверей негромкое пение. То пел завскладом младший сержант Алекперов, азербайджанец, но призванный из Оренбурга, где он несколько лет перед призывом жил у вышедшей туда замуж старшей сестры. Там же он окончил кооперативный техникум. По совокупности данных факторов Алекперов только обличьем напоминал азербайджанца, а говор и повадки имел оренбургские, немного приблатненные. Но это только внешне, на самом деле он отличался исполнительностью, склад и учетную документацию содержал в порядке и пока, что в халтурах с отпуском продовольствия не был замечен. Ратников никогда не брал на эту прапорщицкую должность прапорщика, по его твердому убеждению, даже самый вороватый солдат не утащит с продсклада столько, сколько унесет, даже не вороватый прапорщик… Подполковник повернул к складу.
Алекперов был не один. Солдаты последнего майского призыва Казарян и Алиев подметали пол, «годок» Магомедов, коренастый аварец занимался менее грязным делом – штамповал масло на порции. Его земляк и однопризывник Алиханов рубил мясо. Здесь тоже имело место разделение по призывам, но выполняли они совсем не ту работу, что весь остальной дивизион. Певший что-то на родном языке Алекперов, при появлении командира вскочил с табуретки.
– Чем вы тут занимаетесь!? – спросил Ратников, стараясь быть как можно спокойнее, хотя сдерживался уже с трудом.
– Вот… они помочь пришли, товарищ подполковник, – смутившись и пряча глаза, ответил завскладом.
– А ты что все это сам не смог сделать бы!? – повысил голос Ратников.
Алекперов, виновато потупившись молчал, начиная заливаться малиновым румянцем.
– А вы все, почему здесь, вас куда работать назначили? – с той же грозной интонацией подполковник обратился к остальным.
– На плац… там и так народ многа, лопат всем не хватил… вот сюда помочь пришли, – за всех ответил Магомедов.
– А ну марш по своим рабочим местам!
Побросав продскладовские орудия труда, добровольные помощники поспешили покинуть склад.
– В чем дело, Алекперов!? – подполковник смотрел со строгим непониманием.
– Я их не звал, сами пришли, – завскладом по-прежнему не поднимал глаз.
Алекперов в силу своего «двойного гражданства» был своим и в среде кавказцев и среди уральцев, но в последнее время все ближе держался Гасымова. Каптер же проявлял массу усилий пытаясь поближе сойтись с завскладом, явно имея далеко идущие цели. Ратников сейчас как никогда отчетливо осознал как данный «союз» нежелателен. Он решил сыграть на слабой струне Алекперова, что уже делал неоднократно – его боязни потерять хорошее место.
– Еще раз такое повторится, сниму с должности, пойдешь в «старты» снег кидать!
Алекперов промолчал, но его испуганные глаза выдали – удар достиг цели. Пригрозил же Ратников в основном для острастки. Снимать с должности справляющегося со своими обязанностями человека, ко всему имеющему соответствующее специальное образование, он не собирался.
6
Вернувшись в казарму, Ратников сразу «застукал» прилегшего поверх одеяла на свою койку Гасымова. Старшина уехал старшим школьной машины, и каптер фактически остался «сам себе господин». Впрочем, и в присутствии Муканова ничего не менялось – Гасымов фактически его не слушал и делал все, что считал нужным. Это, как ни странно, служило общей пользе, так как старшина за исключением умения лихо командовать солдатским строем, прочими талантами был явно обделен. Как каптеру не только удавалось игнорировать своего непосредственного начальника, но и влиять на него, Ратников понять не мог. Грубый с прочими солдатами, Муканов с каптером был и сдержан, и вежлив… Под настроение Ратников решил разобраться и с Гасымовым, вызвав его. В канцелярию каптер зашел с выжидающе-верноподданническим лицом.
– Чем ты там, в спальном помещении занимаешься? – угрожающе спросил Ратникова.
Вопрос не застал каптера врасплох:
– Голова, что-то заболел. У меня так часто бывает, полежу, тогда проходит.
– У меня тоже голова болит, но я не пошел и не лег почему-то. Или ты считаешь, что все остальные должны выполнять команды, распорядок дня, работать, а тебя все это не касается!? Сейчас ты среди рабочего дня отдыхаешь за счет тех, кто честно работает и службу «тащит», а уволившись смеяться над всеми нами будешь, да деньги проживать, что родичи твои наворовали, – Ратников сам не заметил, что обвинения, брошенные им каптеру, не что иное как следствие утреннего разговора с Малышевым.
– Мои родные не воры! – Гасымов струхнул, но пытался держаться с достоинством.
– Знаю, у вас это называется жить умеют. И ты тоже всем нам, сирым, показываешь, что жить умеешь. А если откровенно, какой ты солдат? Год уже служишь, а ничему толком не научился. Кросс бежать – ты не можешь, стреляешь – на двойку, и на боевой работе тебя нигде нельзя использовать. Вон Цимбалюк, он свинарь, но в то же время успел выучиться выполнять обязанности номера стартового расчета. А ты, что можешь, кроме как вещевое имущество считать? Вон Закиров от стыда сгорал, пока боевой специальностью не овладел. А почему? Потому что он в нормальной трудовой семье вырос, оттого и сам с совестью. А ты, в какой семье вырос? Почему ловчишь все время? Почему сейчас, когда весь дивизион работает, не разгибаясь, ты вообще работать не пошел? Тебе же в той же бане работы – не переделать, – Ратников уже откровенно неприязненным взглядом буравил часто моргавшего каптера.
– У меня, высшая образование… грязная работа не положен, – то ли от испуга, то ли нарочно у Гасымова усилился до того почти незаметный акцент.
– А кому положено? У нас тут не один ты солдат с «высшим», но они все работают безо всяких скидок. Да и какое у тебя «высшее», если ты простейших обязанностей в составе боевого расчета освоить не сумел. А может, ты это специально дурачком прикинулся, чтобы по «готовности» на позицию не бегать, а вот так как сейчас, и отслужить без лишних усилий? Нет, я тебе такой прохладной жизнью больше жить не позволю.
Гасымов молчал, приняв виноватую физиономию, но едва командир сделал паузу в своей обличительной речи, перешел в «контратаку»:
– Товарищ подполковник, вы вот меня ругаете, замполит грозит отцу на работу написать, Малышев ударил меня…
– Не Малышев, а старший лейтенант Малышев, – перебил его Ратников.
– Да… старший лейтенант… Никто со мной по-хорошему не говорит, только ругают и бьют. Я на прошлой недели со старшиной в полк за «парадками» для «молодых» ездил, зашел в магазин полковой. Там женские польта из ламы висел. Я хотел купить для своей невесты, так его мне не продали. А начальник политотдела, он там был, он стал меня спрашивать, откуда у меня шестьсот рублей есть. А чем я его хуже? Как после всего этого мне здесь нормально служить, если ко мне так относятся?
Ратников не перебивал, давая по своему обыкновению высказаться «противной стороне».
– А в казарме, я не даю «молодых» по ночам поднимать. Этого никто не видит, все только плохое видят!
– Не ври… Знаю я твое благородство. Ты ведь только за земляков вступаешься, чтобы авторитет среди них иметь. Потому они, на тебя глядя, тоже от тяжелой и грязной работы увиливать начали. У вас-то там на Кавказе, наверное, такие как твоя родня в героях ходят, оттого что умеют жить лучше других не очень напрягаясь на работе, а?
– У нас все хорошо живут. Разве это плохо?
– Да врешь ты, не все. Те же армяне бакинские, я точно знаю, своим трудом, а не воровством живут. А вот такие как брат твой, которым ты тут хвастал… вы не столько последователей своих плодите, сколько тех, кто вас, махинаторов и ловкачей, ненавидит. При этом еще есть и такие, кто национальный вопрос сюда же приплетает. А желающих за колья хвататься у нас не меньше, чем у вас за кинжалы. Ты понял?… Ничего ты не понял… Ладно, иди. И чтобы сейчас же шел в баню, и все там убрал и вымыл – это твой объект. Я сам проверю, – поставил Ратников «боевую» задачу Гасымову.
После ухода каптера, Ратников «проявил» в памяти откровения Гасымова о его попытке покупки в полковом Военторге женского пальто из «ламы». Найдется ли еще не то что в дивизионе, в полку, а то и во всем корпусе солдат срочной службы способный позволить себе такое, у которого в кармане не менее шестисот рублей? Он вспомнил как полтора года назад, когда такие пальто только вошли в моду, с ним советовалась жена насчет его покупки. Деньги у них, конечно, имелись и немалые, не то что на пальто, но и на пару «Жигулей». Потому, он был не против, хочешь – покупай. Но Анна колебалась – даже для них 600 рублей не малые деньги, тем более у нее и так имелось немало зимней одежды. В конце концов, ту «ламу» Анна все-таки купила, хоть и не без сожаления расставшись с шестистами рублями. Но то что простой 23-х летний солдат, получающий ефрейторское денежное довольствие в несколько рублей может вот так запросто выложить такую кучу денег, что на «точке» может позволить, пожалуй, только его, командира дивизиона, жена, этот факт был для Ратникова неприятен.
Домой, на обед Ратников шел с детьми. Они как раз сошли с машины, которая привезла их из школы.
– Почему так долго сегодня? – спросил подполковник дочь, поправляя ее сбившийся шарф.
– Не знаю пап. Уроки у нас кончились, а машины почему-то на месте не было. Больше часа ждали, – поведала Люда.
– Это где ж она была? – недобро нахмурился Ратников.
– Старший как вторую смену сгрузил сразу куда-то уехал, – внес ясность Игорь.
Ратников оглянулся. Старший машины Муканов стоял у казармы, украдкой поглядывая на командира. По всей видимости, он догадывался, что командирские дети в этот момент ставят в известность отца о факте самовольного использования им школьной машины в личных целях.
– Ладно, после обеда разберемся, – сказал Ратников, не желая именно сейчас выслушивать путаные оправдания старшины.
Подполковник специально отправил старшим Муканова, потому что больше послать в столь напряженный момент никого не мог – все прочие офицеры и прапорщики оказались нужны на своих рабочих местах, а от старшины проку при наведении «внешнего лоска» было немного. Но знал Ратников и «страсть» Муканова – с гордым видом покрасоваться перед родней, в форме, да еще имея в подчинении машину с шофером. Для того чтобы выяснить, куда Муканов гонял машину, достаточно было расспросить водителя, и тот все бы выложил без утайки – солдаты старшину не любили. Так и решил поступить Ратников после обеда.
Дома, обеспокоенная долгим отсутствием детей, Анна тоже возмутилась поступком старшины, а заодно и мужа ругнула:
– Нашел, кого старшим послать! Ведь не первый раз такое, дети его ждут. Если ты его за это не накажешь…
Муканов, как и его жена, так и не вписались в «интерьер точки». Неприязнь Ратникова к старшине предопределило отношение к нему и других офицеров. Муканова за глаза именовали «калбитом», так же, но в женском и детском роде звали его жену и четырехлетнего сына. Старшина отвечал грубостью и непочтительностью ко всем от кого не зависел. Более того, вступаясь за жену, худенькую, пугливую казашку, он не раз ввязывался в перепалку с поднаторевшими в этих «делах» женщинами. В то же время природная хитрость подсказывала ему, перед кем можно горло драть, а перед кем лучше и покаянно смолчать. Если Ратникова Муканов откровенно боялся, то с замполитом состоял в довольно неплохих отношениях. Вообще к политработникам гомо-советикус восточного происхождения в основном испытывали особое почтение, сродни тому, как их предки чтили Аллаха и его пророка Муххамеда. С замполитом старшина был предельно откровенен. Жаловался на солдат, что те за глаза смеются над ним, а некоторые просто ненавидят. Жаловался на то, что его с женой офицеры не приглашают на общие вечеринки и празднества, а того же автотехника Дмитриева с его женой приглашают. Жаловался на старшего лейтенанта Гусятникова, за то, что тот его постоянно передразнивал и брезгливо отворачивался, хотя от него самого постоянно пахнет не пойми чем. Почему его не любит командир, хотя он ему всегда пытается угодить? У кого как не у замполита искать ответы на все эти и много других «почему».
Пырков, конечно, утешал, но вот помочь не мог, даже если бы очень захотел. В отличие от своих коллег, замполитов других дивизионов, которые не только на разводах рядом с командиром стояли, но и, как правило, делили с ним власть, Пырков на «точке» значил не так много. Со временем и до Муканова дошло, что замполит не так уж «силен», как он привык о том думать. Потому старшина, не зная к кому «прислониться», совсем растерялся. Разорвать контракт и уйти опять на гражданку, в совхоз к Танабаеву? Но он не являлся его родственником и ни на какую мало-мальски «хлебную» или руководящую должность рассчитывать там не мог. А работать, как рядовой рабочий совхоза он уже отвык, да и никогда не хотел. После того как каптером стал Гасымов, старшина попытался найти союзника в его лице. Кто больше выиграл от этого «союза»? Муканову легче не стало, разве что теперь кавказцы в конфликтных ситуациях меж ним и солдатами держали строгий нейтралитет. За это Гасымов получил полную свободу действий и не встречал никаких запретов со стороны своего вроде бы непосредственного начальника.
Дома, после того как муж пообедал, Анна еще раз напомнила ему, чтобы он сделал внушение старшине и даже пригрозила:
– Если ты ему ничего не скажешь, я сама с ним разберусь!
Ратников поспешил переменить тему разговора:
– Как у тебя Фольц работал?
– О чем разговор, отличный парень, один за троих ворочал. Я ему полкило пряников и две банки сгущенки дала. И ты тоже не забудь, благодарность ему объяви…
После обеда, однако, со старшиной Ратникову разобраться не удалось. Позвонили с полка, сообщили, что «борт» с командиром корпуса вот-вот прибудет. Сегодня вечером «высокий гость» должен осмотреть подразделения при управлении полка, а завтра после завтрака он выезжает со свитой к нему. Ратников уже не вспоминая о старшине поспешил по «объектам»: позиции, станции наведения ракет, пусковым установкам, автопарку, караульному помещению, казарме, свинарнику, сортиру… Давал указания подгонял-торопил…
Домой пришел абсолютно «выжатым», не ощутив вкуса, проглотил поданный женой ужин. Анна, видя его состояние, опять объявила детям, что телевизор будет выключен раньше обычного, после чего также раньше обычного погнала их спать, дабы муж мог полноценно выспаться перед трудным грядущим днем… Все погрузилось в сон, и дети затихли, и Анна рядом тихо посапывала, отвернувшись к стенке, а он, несмотря, на казалось бы околопредельную усталость вновь не мог заснуть, все ворочался. Мысли почему-то приходили далекие от завтрашнего дня, он думал совсем о другом. Вот пришла на ум фраза, брошенная Эммой Харченко о «русских свиньях». Он вдруг устыдился свой реакции и равнодушным отношении прочих офицеров и их жен. «Неужто малышевский дед был прав, и в нас сосем не осталось этой самой национальной гордости, если оскорбление за оскорбление не воспринимаем? А ведь те же нацменьшинства попробуй хоть словом…». Подумал и тут же поймал себя на неточности. – «Нацменьшинства нацменьшинствам рознь, есть ведь и такие, которые не обижаются ни на «татарскую морду», ни на «бестолкового хохла». Может, потому и не хотят кавказцы грязную работу делать, тот же сортир чистить, пол в казарме мыть, знают, что найдутся другие, славяне, татары, немцы, узбеки, казахи и прочие, которые безропотно и сортир вычистят, и свинарник уберут, и все остальное, что неприятно пахнет?…»
Ратников откинул одеяло – ему стало вдруг жарко… «Нет, не может быть, что все чему нас учили с малых лет: дружба народов, одна семья, интернационализм, единый советский народ – все это пустая болтовня. Нет, не могу, не хочу в это верить…». Подполковник посмотрел на светящийся циферблат своих часов. Было около часу ночи, то есть уже наступил следующий день, среда 17 декабря.
Понемногу он остыл, вновь натянул одеяло и сон, наконец, овладел его сознанием.
7
Натренированный многолетним ожиданием сигнала тревоги, организм мгновенно отреагировал на длинный неумолкаемый звонок телефона и перекрывавший его вой, установленной на крыше казармы сирены.
– Папа «готовность»! – закричала из-за шифоньера дочь. В другой комнате заскрипел кроватными пружинами Игорь.
На детей часто в большей или меньшей степени оказывает влияние работа родителей. Здесь, на «точке» служба отца влияла на детей всесторонне, всегда. Одной из особенностей этой жизни, которая с рождения сопровождала Игоря и Люду, стали эти жуткие децибелы «тревоги».
Ратников в галифе и тапочках выскочил на кухню к телефону, схватил трубку:
– Слушаю!
– Товарищ подполковник «Готовновсть номер один», с полка объявили, – послышалось взволнованный голос дежурного телефониста.
– Что там стряслось? – Ратников спрашивал в надежде, что телефонист, по обыкновению знает больше, чем сказал.
– Не знаю, но что-то серьезное, – не оправдал надежд телефонист, в то же время добавив Ратникову беспокойства.
Он опустил трубку, мельком взглянул на часы. Они показывали без двадцати шесть, за окнами темень. Схватил сапоги, быстрыми отработанными движениями натянул их, китель, шинель, шапку, хвать портупею – нет на месте.
– Аня, где моя портупея!?
– Там же где всегда, на вешалке должна быть… – недоуменно отвечала с постели жена. – Игорь, паршивец, ты спрятал!? Отец, теперь из-за тебя на «Готовность» опоздает! – тут же Анна догадалась, что сын, скорее всего, от нее спрятал «орудие наказания».
Двумя скачками преодолев комнату родителей, Игорь, в трусах и майке, обогнул отца, подпрыгнул и с полки из-под самого потолка, куда невозможно дотянуться матери, извлек свернутую кренделем портупею.
– Ну, я тебе! – погрозила Анна сыну, сидя на кровати, второй рукой удерживая одеяло у подбородка.
Сборы задержали Ратникова не более чем на три-четыре минуты, после чего он выбежал на улицу. Сирена смолкла, вместо нее слышалось табунный топот бежавших на позицию солдат. Хотя свет затеплился во всех окнах ДОСов Ратников бежал от дома пока что один – он оделся быстрее всех офицеров. Уже возле казармы его обогнал Малышев, в распахнутой танковой куртке он устремился по протоптанной в снегу широкой тропе в гору: офицер наведения должен был попасть на рабочее место первым, провести контроль функционирования СНР и к прибытию командира доложить о состоянии боеготовности техники. Черная танковая куртка мелькала уже на подъеме, обгоняя змееобразную цепочку солдат. Подъехала дежурная машина, в ее кузов залезали подоспевшие капитан Сивков, командир стартовой батареи, плотный меланхоличного склада человек и Гусятников, явно не торопившийся.
– Двигатель прогрел? – задал вопрос водителю подполковник, садясь в кабину.
– Температура масла еще низкая, товарищ подполковник.
– Пусть на холостых поработает, время еще терпит, спокойно распорядился Ратников.
За минута, что стрелка датчика ползла к 37 градусам, в кузов дежурной машины успели залезть большинство офицеров входящих в боевой расчет. Только самые сонливые и нерасторопные не успели и побежали своим ходом. Машина круто пошла в гору, туда где за пологой вершиной чернели характерные очертания антенн СНР… Когда Ратников прибыл на свое рабочее место, Малышев уже заканчивал контроль функционирования. Операторы ручного сопровождения, щелкая тумблерами, выполняли команды офицера наведения, между делом шапками и носовыми платками вытирая потные, разгоряченные бегом лица.
– Порядок? – спросил Ратников, вглядываясь в экран индикатора кругового обзора.
– Так точно, станция боеготова тремя каналами, – доложил Малышев.
– Ратников одел наушники, связался с командным пунктом полка:
– Докладываю 703-й, на рабочем месте полные боевые расчеты, боеготов тремя каналами. Уточните задачу.
Взглянул на часы – уложился с запасом.
– Ратников, почему так долго!? Все уже давно доложили, а ты чухаешься! – тревожный голос командира полка свидетельствовал о том, что «Готовность» не обычная учебно-тренировачная.
– У меня в запасе еще четыре минуты, я уложился в срок прибытия, – не принял упрека Ратников.
– Какой там срок! Нарушитель госграницы, прямо на тебя прет! Смотри азимут 170–180! – возмущался командир полка, так будто Ратников заранее знал о нарушителе и, тем не менее, нарочно не спешил.
Подполковник, кося глаз на свой ИКО, посмотрел в рядом расположенный планшетный зал. Здесь на большом в полкомнаты планшете из оргстекла планшетист в наушниках, высунув кончик языка, аккуратно проводил линию черной тушью – курс самолета-нарушителя, который ему передавали с приграничных РЛС раннего обнаружения. Линия пересекала отмеченную красным госграницу и углублялась на советскую территорию севернее озера Зайсан километров на двадцать-тридцать.
«Так, если дальше тем же курсом пойдет, минут через шесть-семь может быть в нашей зоне поражения», – тут же рассчитал Ратников. Времени действительно оставалось в обрез.
– Ракеты на подготовку! – четко произнес подполковник.
– Есть на подготовку, – защелкал тумблерами на своем пульте командир стартовой батареи.
– Расчеты от пусковых в укрытие! – продолжал командовать Ратников.
– Неужели стрелять будем? – на этот раз не по «Руководству правил стрельбы зенитными ракетами» переспросил Сивков.
– Я сказал расчеты в укрытие! – с металлом в голосе повторил Ратников. – Всем находиться на рабочих местах, быть готовым к уничтожению самолета нарушителя-госграницы.
Малышев уперся взглядом в переключатели своего пульта – все ли готово для производства пуска. Ратников же вполуха слушал команды с полка. Картина знакомая, у командира полка полковника Нефедова начался обычный мандраж, вызванный необходимостью принятия ответственного решения. За несколько лет совместной службы подполковник хорошо узнал своего непосредственного начальника – тот и в более простой ситуации никогда не брал инициативу на себя, не заручившись распоряжением вышестоящих инстанций. Но сейчас времени было крайне мало. Нарушитель мог оказаться в зоне поражения значительно быстрее, чем информация о нем пройдет тернистый телефонный путь от штаба полка до штаба корпуса, оттуда в округ…
Цель не отвечала на запрос и не меняла курс, еще минуты три-четыре и уже можно атаковать ГЭС и… И при удачном попадании вся масса воды скопившаяся в водохранилище устремиться в пролом, смывая все что там ниже: города, поселки, рудники, заводы… людей. Такой массы и напора воды не выдержит и расположенная ниже плотина Усть-Каменогорской ГЭС и уже вода из двух водохранилищ стеной хлынет на трехсоттысячный Усть-Каменогорск…
Ратников знал, Нефедов ответственности боится больше чем даже перспективы самому погибнуть в потоке (штаб полка располагался ниже ГЭС). Не дай Бог получится как с корейским Боингом, не того сшибем, это же разжалуют и без пенсии сразу уволят – все годы службы коту под хвост. Потому Ратников иной раз вот так, вроде бы невзначай, подначивал своего начальника. Вообще-то в сознании Федора Петровича давно уже сформировалась собственная «оборонная доктрина», совсем не совпадающая с официальной генштабовской. Согласно своей доктрине подполковник на 110 % был уверен, что ни американские, ни прочие натовские империалисты до его дивизиона расположенного в самом центре Евразии не долетят. Более того, с каждым годом он все менее верил тому, что ему закладывали буквально с училищной скамьи – то, что Запад, капиталисты, только и ждут удобного момента, для нападения на СССР. Зачем им война, ведь не для кого не секрет, что они живут намного лучше, чем Союз? Другое дело восточный сосед, Китай. Как говориться, чем беднее, тем воевать веселее – терять нечего, а приобрести можно. Конечно, эти свои, весьма своеобразные, лишенные всякой идеологии и насквозь пронизанные мещанским мышлением мысли… Он про это никому, даже жене не проронил ни слова. Но, исходя из них, он допускал возможность удара со стороны Китая, как по плотине, так и по дивизиону:
– В воздухе самолет-нарушитель госграницы, на запрос не отвечает, быть готовым к открытию огня!
Малышев ни на секунду не выпускал из вида кнопки, которую следует нажимать при команде «Пуск». Николай, несмотря на молодость, уже имел опыт боевых стрельб на полигоне, но нынешняя ситуация не шла ни в какое сравнение с учебными стрельбами по управляемым мишеням. Напряжение достигло кульминации. Операторы каждую секунду ждали команду: «Взять цель на ручное сопровождение». И тогда «она» в их руках и уже от их умения во многом будет зависеть точность наведения ракет. Комполка лихорадочно запрашивал:
– Ратников, что у тебя, где она… видишь ее?!
– Вижу, есть цель, дальность сто пять, азимут сто сорок! – доложил подполковник.
Отметка от цели плохо различалась из-за сплошной полосы «засветки», образованной горными хребтами. Но Ратников знал свой ответственный сектор, потому он без труда находил инородную точку-отметку на хорошо ему знакомом фоне «местных предметов»… Проанализировав несколько «засечек», подполковник уже не сомневался это не нарушитель, а просто случайно заблудившийся и потерявший ориентировку самолет. Небольшие расстояния между засечками и данные высотомера, говорили, что самолет, скорее всего, не военный: скорость небольшая и высота уж больно «простая» – шесть тысяч метров. Военные или разведчики летают над неприятельской территорией не так, либо на запредельно больших, либо на предельно малых высотах, где их тяжело обнаружить и отследить. И «шел» он как-то неровно, словно спотыкающийся, сбившийся с дороги путник. Видимо, летчик, наконец, сообразил, что залетел «не в ту степь» и начал менять курс. Планшетист это отобразил поворотом линии курса более чем на девяносто градусов.
– Он, что поворачивает? – с надеждой прозвучало в наушниках – видимо планшетист в полку тоже отобразил ситуацию.
– Да, пошел на север-северо-восток, – подтвердил Ратников и услышал в ответ облегченный вздох на другом конце провода. По всей видимости Нефедов до сих пор еще не получил «высочайшего» распоряжения.
Через пару минут летчик уже окончательно уяснил куда залетел, и, развернувшись, на максимальной скорости уходил к себе. Никто кроме Ратникова и планшетиста не знали, что нарушитель повернул – весь дивизион продолжал пребывать в напряженном ожидании. Ратников молчал – нельзя расхолаживаться пока «он» еще по эту сторону границы… Вдруг внутристанционная ГГС заговорила голосом Гусятникова. Он доложил, что в одной из систем станции возникла неисправность – один из боевых «каналов» вышел из строя.
– Устранить! – как всегда скомандовал Ратников, хотя отлично знал, что поломку уже устраняют и без его команды, а Гусятников доложил по причине, чтобы, если начнутся боевые пуски, стреляли другими, исправными «каналами».
На рабочих местах сидела первая, основная смена операторов – опытный, проверенный полигоном расчет. Вторая смена, состоявшая из солдат последнего призыва, толпилась в дальнем углу КП, во все глаза смотрела на происходящее. Вдруг, сидящий ближе всех к Ратникову, рядовой Лавриненко ткнулся головой в металлический шкаф и стал медленно оседать с крутящегося стула.
– Малышев, что с ним!?
Выведенный возгласом командира из своего сосредоточенного состояния, старший лейтенант вскочил, подхватил солдата под мышки, резко встряхнул. Оператор очнулся, но рассеянный взгляд, побледневшее, в каплях пота лицо не оставляли сомнений – с ним случился обморок.
– Фельдшера, быстро… Аржанников, садись на его место! – закричал Малышев.
– Я!? – недавно призванный солдат, потерянно оглянулся, в надежде, что произошла ошибка и приказ адресован все-таки не ему.
– Ты-ты! Скорее садись за штурвал, пес тебя дери! – торопил Малышев.
Стриженный под «ноль» Аржанников с оглядкой сел на место Лавриненко и стал форсированно припоминать то, чему его учили за недолгое время службы.
Лавриненко вывели в планшетный зал и тут же фельдшер, мелкорослый одесский еврей Борис Сабодаш, по прозвищу «Борюся» стал приводить его в чувство.
Отметка от цели, тем временем, пересекла границу, о чем и доложил в полк Ратников.
– Ну, слава те… – не скрывающий облегчения голос Нефедова обрел свой обычный тембр.
Вскоре цель окончательно затерялась в горах на той стороне.
– Что там? – осторожно поинтересовался со своего места Малышев, чуть привстав со стула и заглядывая в командирский индикатор.
– Назад ушел, видно просто случайно заблудился, – пояснил Ратников.
– Эх, черт, жаль. Было бы здорово его пришить! – лицо старшего лейтенанта выражало чувство неудовлетворенного охотой охотника.
– Успокойся, ты что. Он же не военный, может даже с пассажирами. Получилось бы как с тем южнокорейским «Боингом».
– Ну и что?… Мы их так к нашей беззубости приучаем. Летают, где хотят. Одного бы шарахнули, другие уже подумали прежде чем… – злая гримаса искажала лицо Малышева.
– Неисправность устранена, – доложил по ГГС Гусятников, – чем перебил диалог командира и офицера наведения.
Тут же в наушниках вновь возник голос командира полка:
– Все Федор Петрович, отбой тебе. Сел у себя супостат… Не забывай, завтра комкора к тебе везу… то есть уже сегодня. Он уже здесь, у нас в гостинице ночует, – голос спокоен и приветлив, комполка явно доволен, что все обошлось.
8
Ратников снял наушники, скомандовал:
– Отбой, «Готовность» номер два. Провести контроль функционирования, станцию выключить, питание с пусковых снять, личный состав вниз!
Часы показывали 6.15, выспаться так и не удалось. К подполковнику подошли Пырков, Колодин и Харченко. Замполит всю «готовность» просидевший тут же рядом, но так ничего и не понявший, кроме того, что имело место нарушение границы, хотел разузнать подробности:
– Ну, и как, серьезно там все было?
– Да ерунда. Какой-то китайский «утюг» заблудился, – снисходительно пояснил подполковник.
– А помните, Федор Петрович, как в 82 году, два километра до зоны не дошел, истребитель? – решил щегольнуть «боевым опытом» Колодин.
– Не два, а десять, – поправил привравшего начальника штаба Ратников.
Лицо Харченко выражало откровенное разочарование:
– Я уж думал…
Петр не договорил, но Ратников и так понял. Харченко тоже жаждал сбить этот незадачливый самолет. После того ночного разговора с холостяками ясна и причина такой «кровожадности» – желание отличиться. Если дивизион сбивал даже беспилотный АДА, офицеры боевого расчета обязательно поощрялись, а здесь самолет-нарушитель – наверняка и ордена бы обломились. «Ишь, гаденыш… наверное и самолет с родной матерью угробишь, если для карьеры понадобиться», – едва не сорвалось с языка подполковника. Но тут же непроизвольно у него возник вопрос и к самому себе: «А почему же ты совсем по-другому воспринимаешь такое же желание, сбить самолет, у Малышева? Потому что он движим не карьерой, а так называемым, патриотизмом, обидой за матушку-Россию? Но ведь и в том, и в другом случае они готовы сделать одно и то же, совершить убийство, скорее всего совсем невинных людей…»
Когда не ценят твою жизнь, соответственно не ценишь и ты чужую. Увы, несмотря на неоспоримые истины, что человек венец мироздания, и его жизнь священна… Можно запросто отнять жизнь у ближнего, за деньги, в запале, из-за классовой или национальной неприязни, или потому, что имеешь власть, возможность послать тысячи людей убивать других и погибать самим. При этом вполне можно избежать наказания, или даже ходить в героях за подобные «подвиги». Ратников не впервые задумывался над такой логикой мышления, едва ли не большей части советских людей, общества, которое вот уже почти 70 лет провозглашали самым гуманным. Задумывался, правда, сравнительно недавно после одного памятного обмена мнениями произошедшего летом этого года. Тогда в канцелярии дивизиона возник разговор о катастрофе, только что произошедшей с американским космическим кораблем «Челленджер». Кроме Ратникова в том обсуждении приняли участия Пырков, Колодин и два майора прибывшие с полка по хозяйственным и кадровым делам. Никто из собеседников (исключая Ратникова, предпочетшего своего мнения не высказывать) не только не сожалели о погибших космонавтах, более того, искренне радовались. Кто-то высказал мысль, что наверное, это наша разведка так здорово поработала, не только же нам над Чернобылем горевать, пусть и они поплачут. Тогда Федор Петрович про себя ужаснулся: ведь вполне нормальные люди, он их всех знал не один год, у всех семьи, дети, но как же вывихнуты у них мозги, впрочем, как и у большинства прочих чрезмерно политизированных людей. Позже, поразмыслив, он более терпимо отнесся к сослуживцам – ведь он сам каких-нибудь 5–6 лет назад мыслил примерно так же. Почему сейчас мыслит не совсем «по-советски»? Может быть, примеры правления Сталина, Мао-Цзе-Дуна, Пол-Пота сделали свое дело, так же как и знакомство с некоторыми классиками русской литературы? Недаром он наряду с чтением «Юности» столь усердно «ликвидировал» свою безграмотность в области классической литературы, читая на досуге тома из домашней библиотеки, которую по подписке собирала Анна.
Сейчас же, услышав, как два молодых и совершенно разных по взглядам офицера сетовали, что им не представилась возможность сбить самолет, то есть убить людей, подполковник убедился, что не только старшее поколение, но и молодое, наследственно страдает тем же «вывихом мозгов». И причина того вывиха не имеет решающего значения, корысть, или любовь к Родине.
Спустившись с позиции, Ратников не стал заходить в казарму, а пошел, было, домой, умыться, побриться, позавтракать. По пути его внимание привлек стремительно двигавшийся с ведрами полными кухонных отходов нарядчик, рабочий по кухне. Он направлялся к свинарнику.
«Надо к Цимбалюку заглянуть, предупредить, чтобы перед проверяющими в своем драном бушлате не красовался», – подумал подполковник… Из свиной обители раздавались хрюканье и визги, вызванные, видимо дележом того, что принес рабочий по кухне. Остановившись, чтобы немного привыкнуть к нелегкому свинарному духу, Ратников стал невольным свидетелем препирательств между долговязым свинарем-старослужащим и призванным полгода назад, невысоким, но ладно скроенным узбеком, рядовым Хайдаровым.
– Шо, рыло воротишь, чурка нерусский (когда выгодно и к слову украинцы обычно не отделяли себя от русских), не нравится!? А щы со свининой исть, небось за уши не оттягаишь? – вопрошал свинарь на обычном для большинства жителей центральных и восточных областей Украины суржике, смешанном русско-украинском языке.
– Я свинья не ем!? – возмутился Хайдаров.
– Бачив я вас, як вы не едите. Только робить на скотнике не хотите, а жрать уперед всих.
– Давай ведро быстрей! – почти кричал Хайдаров.
Ратников понял: Цимбалюк не спеша, понемногу вываливал содержимое ведер свиньям, издеваясь над плохо переносящим вид и дух свиной узбеком.
– Цимбалюк!? – громко позвал, невидимый за полуоткрытой дверью свинарника, Ратников.
Ведро звякнуло – свинарь выпустил его из рук от неожиданного появления командира.
– Что ты там делаешь!? – строго спросил подполковник.
– Свиньям корм задаю, товарищ подполковник.
Ратников, ступив, наконец, в свинарник стал свидетелем немой сцены (если не считать звуком визг яростно толкавшихся возле опрокинутого ведра свиней): Хайдаров в заляпанном жирными пятнами рабочем бушлате стоял в некотором отдалении от загородки для хрюшек, а Цимбалюк вытянулся у самой ограды.
– Доставай ведро и не держи рабочего! – приказал подполковник.
Свинарь перегнулся пополам через барьер, уверенно орудуя кулаком, оттолкнул самую нахальную чушку, извлек ведро. Хайдаров едва схватил ведра, тут же стремглав покинул «благовонное заведение».
– Ты что болтаешь, пенек конопатый?… Нравиться, как я тебя назвал? А если еще хохлом бестолковым величать буду, понравится? – напустился Ратников на свинаря.
– Меня так все и кличут, я не обижаюсь, – смущенно оправдывался Цимбалюк.
– Это твое личное дело, не обижаться, но чтобы я от тебя больше никаких «чурок» не слышал!..
Отчитал свинаря Цимбалюк больше так, для очистки совести. Прозвище «чурка» уже давно прижилось и не только в Армии. В дивизионе так в основном именовали среднеазиатов и втихаря кавказцев, которых в открытую так оскорблять побаивались даже старослужащие.
– Ты вот что, – подполковник вспомнил, зачем пришел на свинарник, – гляжу у тебя здесь более или менее все прибрано, наверное, больше уже не испачкаешься. В общем, сюда могут полковники зайти, что сегодня приедут. Так чтобы все тут было у тебя чин-чином. И еще, не вздумай таким оборванцем перед ними предстать. Понял?
– Так точно, – с готовностью ответил Цимбалюк…
Дома дети уже облаченные в школьную форму завтракали.
– Может, полежишь? – предложила Анна.
– Некогда. Позавтракаю и пойду.
Сняв шинель и сапоги, Ратников подсел к столу.
– Как «Готовность» прошла, – поинтересовалась Анна, ставя перед мужем тарелку с жареной колбасой.
Сын и дочь, оторвавшись от еды, тоже вопросительно смотрели на отца.
– Нормально. Нарушитель был из-за бугра, – устало ответил Ратников.
– Как, опять началось? – в голосе Анны послышалась тревога. Она хорошо помнила времена напряженных отношений с Китаем, когда «готовности» объявляли по нескольку раз в сутки.
– Нет, этот не военный, судя по характеристикам, случайно залетел.
– Ну, дай-то Бог, – облегченно вздохнула Анна.
– Ты сама ложись, как нас проводишь. А то ведь тоже, поди, не выспалась из-за этой «готовности»? – посоветовал Ратников.
– Не хочу. Ты что, сразу в казарму пойдешь?
– Да, конечно.
– Ну, тогда и я в магазин пойду, там кое что сделать надо.
– Да не ходи ты никуда, Ань. Он может к тебе и не зайдет. А если и зайдет, пусть посмотрит в каком помещении ты работаешь, может заставит, наконец, начальника тыла ремонт нормальный сделать, – попытался отговорить жену Ратников.
– Нет… не могу, от беспокойства изведусь. Лучше я уж там при деле, – покачала головой Анна.
– Не хватало, чтобы еще и ты беспокоилась.
– А сам чего тогда в казарму бежишь, поесть вон толком не можешь? – упрекнула в свою очередь Анна.
– А черт его знает… привычка, – беспомощно развел руками Ратников.
– Ну, вот и у меня… А вы что рты разинули!? – вдруг напустилась она на детей, внимательно слушающих родительский диалог. – Одеваться и в школу! Ишь, заслушались…
Если в дни, предшествующие приезду комкора, Ратников мог запросто нарушить весь распорядок дня, отменить физзарядку, развод, даже занятия по боевой и политической подготовке, чтобы «бросить» весь личный состав на наведение внешнего «марафета», то в день визита, он уже этого позволить никак не мог. Потому и на развод дивизион построился строго во время. Как всегда на разводе перед строем стоят командир и замполит.
– Какая у нас сегодня первая пара часов занятий? – спросил Ртников у Пыркова.
– Политзанятия? – ответил замполит.
– Смотри Николаич, не опарафинься. Если не задержится в дороге, на второй час он точно успеет и посетит эти политзанятия, – предупредил Ратников уже и без того пребывающего в мандражном состоянии замполита.
– Не приведи Бог. Лучшая группа политзанятий, радиотехнической батареи, в карауле. Придется «стартов» или связистов представлять, – переживал Пырков, втайне надеясь, что начальство с корпуса все-таки не успеет доехать до конца политзанятий.
– Дивизион!!.. РРРаавняйсь!.. Смиррнооо!!.. Левое плечо вперед, по местам занятий… шагооом марш!!
Ратников командовал привычно, зычно и уверенно, выдерживая паузы. За пять-шесть шагов до командира с замполитом солдаты, повинуясь уже командам идущего впереди строя Колодина, одновременно повернули головы в сторону командира, отдавая честь.
Пока личный состав расходился по учебным классам, Ратников собрал командиров батарей в канцелярии на «летучку». Харченко и Сивков уселись за стол замполита, тот отлучился – срочно выдавать новые из своего загашника, географические карты, указки, наглядные пособия для «показных» политзанятий. Командир отделения управления старший лейтенант Колин, скромно пристроился у самых дверей.
– Так, значит… – потер затылок подполковник. – Командир корпуса выехал к нам сорок минут назад. Учитывая то, что дорога от Серебрянска до Новой Бухтармы и от нее до нас не заметена, то примерно через полчаса он будет здесь. С ним едут, начальник политотдела корпуса, начальник корпусной службы ракетно-артиллерийского вооружения, ну и наши: командир полка с начальником тыла. Громких призывов произносить не стану, вы и сами все понимаете. Надо показать все лучшее, что есть в ваших подразделениях. Это в ваших интересах. Кому звание получать пора, – подполковник выразительно посмотрел на Харченко, которому со дня на день должны были отправить представление на капитана. – Кому переводиться, – теперь командир в упор смотрел на Колодина: все знали, что того постоянно пилит жена, требуя перевода туда где им предоставят квартиру с теплым туалетом и горячей водой. Впрочем, этого требовали от мужей все женщины на «точке», но Колодина это делала нарочито громко, чтобы соседи слышали. – А мне, сами знаете, ничего уже особенно не надо. До пенсии и так как-нибудь дотяну на любой должности. Ну, а вы, ребята, давайте, старайтесь, дерзайте…
Разогнав всех по рабочим местам, Ратников вышел из казармы, обошел плац, посмотрел как убраны снег, мусор… Конечно, если приглядеться недостатков «накопать» можно, всего не уберешь. Особенно раздражали желтые пятна на искрящемся белизной под солнечными лучами снегу: многие солдаты, особенно по ночам не добегали до туалета. Проверяющие с особым удовольствием «тыкали носом» командиров дивизионов именно в эти «подснежники», обвиняли в неспособности требовать, поддерживать порядок, приплетая сюда же, как ни странно, и боеготовность. Дескать, если позиция зассана, значит ракеты уже точно не полетят. Не только Ратников, но и чины повыше, конечно понимали, что способ бороться с этим массовым «бедствием» в частях, где нет элементарных удобств один – построить отапливаемый туалет при казарме. Но разве такое возможно на «точке»?
Подполковник вернулся в казарму, отдал команду дежурному, лично с дневальным пройти и засыпать снегом всю «желтизну», хотя бы вблизи казармы.
9
Кавалькада из двух УАЗ – 451 начала сигналить метров за сто до ворот. Так когда-то лихачи, везущие знатных бар, издалека предупреждали простой люд – поберегись! Влетев, в заранее отворенные ворота, головной УАЗ тормознул возле казармы. Из машины вышел, на первый взгляд совсем молодой человек, стройный, выше среднего роста. Полковничьи погоны и папаха казались на нем неестественными, взятыми, например, у отца или деда, поносить, покрасоваться, похвастать перед ровесниками. Одернув шинель, Ратников четко строевым шагом подошел:
– Дивизион!! Смиррнооо!! Товарищ полковник, дивизион боеготов тремя каналами, личный состав занимается согласно распорядка дня! Командир дивизиона подполковник Ратников!
– Вольно… Здравствуйте Федор Петрович. Много о вас слышал, вот приехал посмотреть ваше хозяйство.
Командир корпуса полковник Агеев был несколько смущен. Он не ожидал, что командир дивизиона окажется столь пожилым. Стало как-то неудобно делать замечания за завалившееся караульное помещение и облупившуюся краску на въездных воротах. Сам, да еще на ходу из машины он бы, конечно, ничего не заметил, но начальник корпусного политотдела полковник Стрепетов, имеющий острый глаз даже на мелкие недостатки, обратил его внимание, когда подъезжали. Стрепетов, высокий, грузный, сорока семи лет, тяжело вылез из машины вслед за Агеевым, едва Ратников окончил доклад. Гримаса на его мясистом лице свидетельствовала о тяжело перенесенной 60-ти километровой в основном горной дороге.
– Здравствуй Ратников, как дела? – поздоровался Стрепетов.
– Здравия желаю, товарищ полковник, все нормально, – козырнул в ответ и пожал протянутую руку Ратников.
– Посмотрим, что означает твое нормально, – начальник политотдела хмуро огляделся – он слыл грозой корпуса.
Командир полка Нефедов, такой же полный, но значительно ниже Стрепетова, имевший сходство с колобком, лет чуть за сорок, казался каким-то пришибленным. Видимо, пока ехали, у него с командованием корпуса произошел малоприятный разговор. Тем временем из второй машины вышел начальник службы вооружения корпуса подполковник Кулагин, сорокалетний среднего роста и комплекции поблескивающий позолоченной оправой очков. Скорее всего, Агеев и Стрепетов взяли его с собой в поездку для проверки состояния техники, в которой оба полковника не смыслили. Агеев вообще был летчик, но даже в своей летной техники не очень-то разбирался. Впрочем, бывают же отличные водители-шофера, не имеющие понятия об устройстве двигателя внутреннего сгорания. То же самое и с Агеевым, тем более далек он был от ЗРВ-шной радиоелектроники, как и просидевший всю свою службу на партполитработе Стрепетов.
Вслед за Кулагиным осторожно, будто боясь упасть, вышел полковой начальник тыла майор Боярчук, 35-ти летний невысокий крепыш.
– Так, чем там у тебя личный состав занимается? – привычно взял инициативу в свои руки Стрепетов.
В этот миг из казармы выскочил замполит, не в силах сдержать дрожи волнения, представился. Стрепетов выпучил на него, заплывшие морщинистыми мешками, глаза:
– В чем дело, товарищ капитан!? Командир корпуса к вам приехал, а вы его даже встретить как полагается не удосужились! Где вы там прячетесь? – почти не повышая голоса, Стрепетов ввел своего непосредственного подчиненного в состояние близкое к шоковому.
– Извините… забегался… не услышал как машины подъехали, – подавленно оправдывался замполит.
– Так чем люди занимаются? – не удостаивая больше вниманием Пыркова, Стрепетов переспросил Ратникова.
– Политзанятия, согласно распорядка дня, – доложил подполковник.
– Хорошо, посмотрим. Какая тема?
– Героическое прошлое нашего народа, – услужливо вылез Пырков, хотя Стрепетов его намеренно игнорировал.
– Отличная тема, обязательно посмотрим, как ваши люди ее изучили, – обрадовался командир корпуса.
Агеев плохо представлял структуру зенитно-ракетного дивизиона и боялся показать себя дилетантом, но проверить политзанятия, да еще по такой теме, он, конечно, мог.
Полковник Агеев являлся потомственным советским военным в третьем поколении. Его ближайшие родственники по мужской линии почти все служили в авиации ПВО. Один из братьев деда в отечественную войну стал даже Героем Советского Союза. Дед тоже славно повоевал и отец успел немного войны прихватить. В общем Агееву дорога была одна и хорошо проторенная – в истребительную авиацию. После окончания летного училища он летал… летал неплохо и хоть асом не стал, но по службе продвигался с самого начала ходко. Женился на дочери друга отца. Отец ушел в отставку полковником, а вот тесть вышел в большие генералы и имел «вес». После женитьбы Агеев вообще не пошел, а поскакал по службе «семимильными шагами»: в 25-ть лет – командир звена, в 27 – эскадрильи, академия, в 32 – командир авиаполка, в 33 – полковник, большинство званий досрочно. На этом своем пути он ощущал постоянную поддержку и помощь: ему подбирали опытных, умелых подчиненных, чтобы руководимые им подразделения без труда выходили в «отличные» и побеждали в соцсоревновании, проявляли заботу и о его условиях жизни. Даже в молодости он не знал тех квартирных и прочих бытовых мытарств, которые обычно обрушиваются на простого молодого офицера без связей. И вот в свои 35 лет он уже командир корпуса ПВО и скоро уже заказывать генеральский мундир. Должность, правда, хоть и высокая, но уж очень хлопотная, особенно много мороки с теми составными частями корпуса, с которыми ему раньше не приходилось сталкиваться. Ведь корпус ПВО это не только авиация, но еще и ЗРВ и РТВ. А там не то, что в авиации, где состав в основном офицерский и значительно меньше «подводных рифов», что подстерегают командиров всякого ранга. Самые опасные среди них: неуставные взаимоотношения среди личного состава, за которые особенно сильно «бьют» в последнее время. Тем не менее, пока особых причин для беспокойства нет, все идет нормально, он молод, здоров. Здоров еще и потому, что летал не так уж долго и его организм не успел пострадать от скоростных и высотных перегрузок, тоже забота тестя – у любимой дочери должен быть не только преуспевающий, но и здоровый муж. В общем, мир прекрасен, чего еже желать. Постоянно находясь в отличном расположении духа, Агеев на все и всех смотрел доброжелательно и совершенно не задумывался над казалось бы очевидными вопросами: отчего все время болезненно морщиться начальник политотдела, почему его так боится командир полка, и в связи с чем так сложилась служба у командира этого дивизиона, что он до таких лет «сидит» на «точке».
Полковник Стрепетов не разделял радости Агеева по поводу политзанятий. Он знал контингент солдат на «точках» и не был уверен, что они сумеют осилить эту тему. Уже в казарме он «начал» с первого, что попало ему на глаза:
– Полы почему не покрашены?
– Весной красили, но от постоянного мытья краска быстро сходит и доски гниют. Полы не красить, а менять надо, – пояснил Ратников.
– Так чего ждешь, меняй, – изобразил недоумение Стрепетов, хотя и отлично знал какое это сложное и трудновыполнимое дело.
– Полк досок не дает, – отпарировал Ратников.
– Заявка в штаб округа послана, но ответа пока нет, – поспешил вмешаться начальник тыла.
Зашли в канцелярию. Стрепетов увидел на командирском столе большой блокнот Ратникова в ярко-красном переплете и вспомнил про флаг на флагштоке перед казармой. По сравнению с блокнотом он показался ему недостаточно красным.
– Пырков, какого цвета у тебя флаг перед казармой? – неожиданно вкрадчиво спросил начальник политотдела.
– Красный, – обреченно, предчувствуя, что сейчас последует разнос, ответил замполит.
– А мне вот показалось, что он скорее белый. Ты что, сдаваться собрался, или дальтоник, не видишь, он же у тебя выцвел! – грозно воззрился на Пыркова полковник.
– Заменим, товарищ полковник, – поспешил ответить замполит.
– Заменим… а ты здесь на что, если к тебе целые полковники должны за восемьсот километров ехать и указывать!?
Тяжелый «натренированный» взгляд Стрепетова буравил побледневшего замполита. Агеев с чувством, состоящим из смеси уважения и восхищения смотрел на показательный урок под названием «наука распекать», – надо же, не успели приехать, еще ничего не посмотрели, не проверили, а он уже недостатки нашел и такого страха на всех нагнал…
Полковник Стрепетов, как это ни парадоксально, не кончал военного училища, он вышел из «студентов». В самом конце пятидесятых годов он окончил исторический факультет пединститута, был призван в армию, остался в ней и до последнего времени ни разу не пожалел о своем выборе. Службу начинал с комсомольских работников, затем замполит роты, дивизиона, закончил военно-политическую академию, стал начальником политотдела полка, побывал за границей (стоял на страже морального и идейного облика советских военных специалистов в одной из развивающихся стран). На начальном этапе своей карьеры его должности на две-три ступени превышали звание. Но со временем это «поступательное» движение все замедлялось, хотя присущая ему энергия не иссякла, а опыта прибавилось. Лишь загранкомандировка позволила ему подняться на полковничью должность, стать начальником политотдела дивизии. Ну, а когда дивизию реорганизовали в корпус, нежданно-негаданно его полковничья должность превратилась в генеральскую. Но быть на должности генерала, это еще не значило обязательного получения вожделенных зигзагов на погоны и лампасов на штаны. Тут Стрепетов словно в стену уперся.
В начале «пути» он не признавал ни блата, ни карьерных знакомств, ближе к концу пришел к выводу – честность и принципиальность плохие союзники в жестокой, изнуряющей гонке за чинами и должностями. Особые надежды возлагал полковник на прежнего комкора генерала Хоренко. Они с ним были на «короткой ноге», к тому же Стрепетов оказал генералу большую услугу, буквально «протащив» его зятя, бестолкового офицера политработника от замполита роты до замполита дивизиона и благополучно поступив его в конце концов в академию. Такой услуги, генерал, конечно, не мог не оценить и божился, что если уйдет на повышение, то обязательно «потащит» за собой и своего начальника политотдела, и уж тогда Стрепетов наверняка получит «генерала». Все вроде бы к тому и шло, но случилось непредвиденное: кто-то с очень большого «заоблачного» верха пихал молодого Агеева, и пришлось генералу Хоренко срочно освобождать перспективное для роста «генеральского молодняка» место. Хоренко перевели начальником кафедры в академию, должность фактически без власти и с которой не «растут», а уходят на пенсию по достижению предельного возраста. Так Стрепетов остался на «бобах».
Впервые увидев нового комкора, пышущего молодостью и здоровьем, Стрепетов, привыкший быть моложе не только своих начальников, но и многих подчиненных, сразу стал испытывать к Агееву определенную неприязнь, хотя тот держался с ним подчеркнуто дружелюбно. Непроходяще-плохое настроение сейчас усугублялось и плохо перенесенной дорогой – тучного полковника растрясло. Данное обстоятельство способствовало возникновению несколько неожиданного, после грозных тирад вопроса:
– У тебя тут туалет где?
Я провожу, товарищ полковник, – вызвался услужить Пырков, хотя Стрепетов по-прежнему, игнорируя его, обращался к Ратникову.
Полковник хмуро перевел взгляд на замполита и милостиво согласился:
– Ну что ж… веди.
Пырков со Стрепетовым вышли. В канцелярии повисло тягостное молчание. Агеев как слепой, оставшийся без поводыря, не знал с чего начать, а все остальные ждали именно его командирских указаний.
– Может, казарму посмотрим? – наконец, неуверенно предложил комкор.
Начальник тыла неслышно вздохнул, ибо ему неминуемо предстояло ответить на многие «щекотливые» вопросы, связанные с тыловым обеспечением и ремонтом… Агеев во главе свиты прошел по спальному помещению. Порядок ему понравился, все чисто, выровнено, кровати аккуратно заправлены, табуретки расставлены строго по номерам, полотенца на спинках безукоризненно чисты… Но, взглянув на потолок, полковник увидел следы подтеков и промерзшие насквозь темные углы. Не укрылось от его глаз и то, что большая часть стекол в оконных рамах составные, а не из одного целого куска, а половицы «ходят» под ногами.
– Казарма-то у вас на ладан дышит, – с интонацией, с которой, наверное, Архимед воскликнул «эврика», произнес Агеев. Он был, несомненно, удовлетворен тем, что и сам оказался в состоянии обнаружить недостатки.
Ратников промолчал.
– А что разве окна нельзя нормально застеклить? – с тем же эвристическим удивлением спросил комкор.
– Стекла нет, – чуть повысил голос Ратников, как бы давая понять, что этот вопрос должен быть адресован не ему.
Но тыл не заставил себя ждать, Боярчук торопливо заверил:
– Летом все переостеклим, стекло уже получено.
– Крыша, что ли течет? – комкор спрашивал не вдаваясь, кто за что ответственен в этом ветхом помещении.
– Да течет, по весне будем перекрывать. Шифер только с месяц как завезли, а в зиму крышу нельзя разбирать, – Ратников спокойно без интонаций объяснял молодому полковнику прописные истины «точечной» жизни.
Агеев остановился возле спорт-уголка. Здесь также царил порядок: гири, гантели аккуратно уложены в ряд возле матов.
– Как у вас со спортом дела обстоят, занимаются? – поинтересовался комкор.
– Летом в основном, а зимой только энтузиасты, места мало, да и спортинвентарь негодный. Брусья уже больше полугода как сломались, у «коня» одна «нога» не выдвигается, гриф у штанги не крутится, и маты, – Ратников пнул ногой в потерявший упругость кожаный мешок, – никуда не годятся. Бойцы с таким спортинвентарем скорее травмируются, чем мышцы накачают. Потом, с гантелями проблема. Почему для войск не поставляют разборные гантели, только гири или гантели фиксированного веса, это очень неудобно. Вы посодействуйте товарищ полковник, чтобы нам с полкового склада хотя бы маты новые начфиз выдал. У него есть, я знаю, – впервые обратился с просьбой к комкору Ратников.
– Однако, как вы во всем этом разбираетесь. Наверное, сами спортом увлекаетесь? – удивился Агеев.
– Я должен быть в курсе всего, что касается жизни дивизиона, – чуть покраснел от пафосности собственных слов Ратников. Не объяснять же комкору, что его «осведомленность» в вопросах спортивных снарядов целиком и полностью заслуга сына. Именно Игорь, приехав из Люберец «просветил» отца, что набор спортивных снарядов имеющихся в дивизионе это даже не вчерашний, а позавчерашний день, он же с восхищением поведал о разборных гантелях, которыми занимался в «качалке», какое это удобное и необходимое средство в деле «накачки» мышечной массы.
– Виктор Афанасьевич, я думаю, вы решите этот вопрос, – все же не захотел слишком уж «опускаться» будущий генерал.
– Так точно, – с готовностью ответил комполка и неприязненно зацепил взглядом Ратникова. Подполковник пожалел, что унизился до бесполезной просьбы.
10
После пребывания в туалете Стрепетов несколько повеселел.
– Ну, как тут у вас? – довольно бесцеремонно обратился он к Агееву.
– Да вот, казарму смотрим… Не очень.
– Знаю… нищета, – как от малозначительного факта отмахнулся Стрепетов, и тут же вновь уверенно встал «к рулю»:
– В каких подразделениях политзанятия идут?
– В стартовой батарее и отделении боевого управления, – доложил Пырков.
Дневальный громогласным голосом провозгласил конец первого часа занятий…
– Может пока у солдат перерыв, клуб посмотрим, – робко предложил Пырков.
– Что ж, пойдем, глянем твой клуб, – согласился Стрепетов.
По дороге начальник политотдела не стал высматривать очередные недостатки – до клуба дошли спокойно. Забежав вперед, Пырков широко распахнул дверь. Клуб являлся гордостью замполита. Он вкладывал в него значительно больше души и времени, чем в другие виды своей деятельности: добывал, где только мог фанеру, доски и прочие отделочные материалы. Самые «рукастые» старослужащие отрабатывали здесь свой «дембельский аккорд». Клуб, невзрачный снаружи, изнутри представал отделанным лакированным деревом и синей драппировкой уютным помещением. Потолок был аккуратно обит разноцветными дерматиновыми квадратами, сцена из хорошо подогнанных досок, окна выложены синеватыми стеклоблоками, которые создавали приятный световой фон. Пырков включил светильники, добытые на судоремонтном заводе поселка Первомайский, за что там неделю работали трое солдат. Нежный матовый свет светильников гармонировал с «подсиненным» стеклоблоками дневным – смотрелось потрясающе.
– Ух ты! – не смог сдержать восхищения комкор. – Даже не верится. Сказка, да и только. Наш корпусной клуб конечно во много раз больше, но он не создает такого впечатления. Как вам удалось, и где такие материалы достаете?
– Стараемся, по окрестным организациям, предприятиям… – воспрял духом Пырков.
– А говорите, на ремонт казармы материалов нет. Вот, можно же достать, – продолжал удивленно осматриваться комкор.
Этот «камень» метил уже в командира дивизиона.
– На клуб материалов достать можно, выпросить, на коленях постоять перед некоторыми штатскими, но на целую казарму, ни одно предприятие, даже самое крупное здесь, цемзавод, такого количества не выделит. А УРАЛМАШей и ВАЗов у нас тут под боком нет. Да и ездить просить некогда, на мне ведь дивизион, – по-прежнему спокойно отбивал нападки Ратников, не глядя на Пыркова, чье лицо светилось плохо скрываемой радостью, от того что ему удалось-таки «пойти» со своего самого крупного «козыря».
Стрепетов не впервые видел пырковский клуб и не разделял восторгов комкора. Опытным взглядом он видел, что все здесь сделано именно для эффектной показухи. По всему было видно, что солдат сюда пускают не часто, иначе не смотрелся бы клуб как новенькая импортная игрушка.
Объектом проверки политзанятий Стрепетов избрал стартовую батарею. Когда вошли в класс, комбат Сивков доложил дрожащим от волнения голосом.
– Что у вас за занятие сегодня? – осведомился Агеев.
– Семинар.
– Какой вопрос разбираете?
– Подвиг русского народа в Отечественной войне 1812 года.
– Продолжайте пожалуйста, мы послушаем.
Агеев сел за свободный стол, рядом втиснулся Стрепетов, остальным места не нашлось. Забегал Пырков, принесли стулья, расселись.
– Итак, кто хочет ответить на этот вопрос? – дрожь в голосе Сивкова не проходила.
Сразу же, как по заказу поднялись три руки заранее подготовленных слушателей.
– Рядовой Зорин, отвечайте.
Некрасивый, похожий скорее на пожившего нескладного мужика, чем на двадцатилетнего юношу, Зорин начал уверенно отвечать, благополучно дошел до начала Бородинского сражения, вскользь, не подробно обрисовал и его. Сивков остановил отвечавшего, задал пару приготовленных вопросов и услышал так же заранее отрепетированные ответы. Капитан собрался уже сажать Зорина, но комкор, имевший слабость подискутировать на исторические темы, тоже пожелал задать вопрос:
– Вы рассказали о первом периоде войны 1812 года. Все хорошо, только вот на ключевом событии, Бородинском сражении надо бы остановиться поподробнее, а то возникает слишком много вопросов к вашему изложению событий. Например, чьи части, каких военачальников отличились в этом судьбоносном сражении, какой маневр русских войск сорвал атаку наполеоновской гвардии?
С военачальниками у Зорина сразу возник напряг. Назвав главнокомандующего Кутузова, и после некоторого раздумья Багратиона, Зорин замолчал.
– Ну, как же, а части генерала Дохтурова, Раевского, Платова и даже Барклая де Толли, все они под Бородино проявили себя с лучшей стороны. А в каком известном литературном произведении описаны события той войны? – задал, как ему казалось, наводящий вопрос комкор.
Зорин сделал мыслительную мину, но опять не произнес ни слова.
– Ты же в школе его проходил, – попробовал подсказать замполит…
На следующие вопросы семинара также отвечали заранее подготовленные слушатели. Агеев уже не рисковал задавать дополнительные вопросы.
– Наверное, он не самых сильных вызывает, – шепнул он Стрепетову.
– Да что вы, эти самые сильные и есть. Если вон тех копнуть, они вообще рта не раскроют, начальник политотдела кивнул на раскосых и смуглых брюнетов, специально посаженных подальше, за задние столы. – Сейчас убедитесь… Капитан подожди! – полковник властно вмешался в ход занятий, как только закончил отвечать очередной «подсадной». – Ты тут, я вижу, несколько человек подготовил, но давай-ка чуть глубже твою батарею копнем. Вот ты, солдат, – полковник ткнул пальцем в киргиза Абдылдаева.
Тот потерянно встал, вопрошая испуганным взглядом к комбату.
– Вопрос самый стандартный, – ко всем обратился Стрепетов. – В чем всемирно-историческое значение войны 1812 года?… – Не дождавшись в ответ и звука, полковник вновь спросил. – Ты хоть понимаешь, о чем я тебя спрашиваю?
Солдат по-прежнему непонимающе таращил глаза, ожидая, когда кончится эта пытка.
– А в каком году эта война случилась?
В ответ опять ни звука.
– Ты сколько прослужил? – попытался хоть что-то услышать Стрепетов.
– Одын год, – наконец ответил Абдылдаев.
– А родом откуда?
– Кыргыз.
– На карте можешь показать.
Абдылдаев с полминуты вглядывался в вывешенную на специальной стойке большую карту СССР. Наконец он ткнул указкой в город Фрунзе.
– Ладно, садись. Кто все-таки может ответить на мой вопрос? Вы же изучали его по этой теме, – вопрошал Стрепетов.
– Так точно, у них в конспектах все это написано, – судорожно пытался «прикрыть» себя Сивков.
Поднял руку и выразил желание отвечать лишь младший сержант Гнатов. Но Стрепетов, увидел на его гимнастерке институтский «ромбик». Гнатов был единственный со всего личного состава стартовой батареи с высшим образованием.
– Что кончал, – спросил Стрепетов.
– Сельхозинститут, товарищ полковник, – вскочив, доложил Гнатов.
– Агроном?
– Никак нет, инженер-механик.
– Ладно, садись. Еще кто может ответить?
Больше добровольцев не нашлось. Сивков дрожал все сильнее, так что неприятно было смотреть. Не удался тщательно им продуманный и отработанный заранее план. Все пошло наперекосяк из-за затянувшегося осмотра клуба. Комбат подготовил на первый после перерыва вопрос о монголо-татарском нашествии именно Гнатова. И если бы проверяющие подошли к началу часа (так бы оно и вышло, если бы не огромное желание замполита похвастать своим «детищем»), то он бы прекрасно все рассказал и так же ответил бы на все дополнительные вопросы. Сразу бы создалось общее благоприятное впечатление и все бы остались довольны, и до Абдылдаева и ему подобных очередь никак бы не дошла. Сивков не без причины рассчитывал на такое развитие событий – так случалось не раз.
– Чему вы их учите, товарищ капитан!? – не стесняясь солдат, начал отчитывать комбата начальник политотдела. Стрепетов крайне редко переходил на «вы» с нижестоящими. Это означало высшую степень недовольства полковника и не предвещало ничего хорошего. – То, что сержант знает ответ – это не ваша заслуга, а института, в котором он учился. А остальных, получается, вы ничему не научили на своих политзанятиях. Они не знают нашего прошлого, так что же они будут защищать!? Пойдемте Николай Васильевич, здесь все ясно, – заодно показав всем, что он и с новым комкором «запросто», Стрепетов двинулся к выходу из учебного класса.
Вся «свита» вышла, оставив Сивкова в жалкой позе, съежившегося, будто его сверху придавили чем-то тяжелым. Его мучила мысль-вопрос: как скажется это «фиаско» на его дальнейшей службе, не придется ли отложить на неопределенный срок лелеемую мечту о повышении, о должности НШ…
– Как же так Пырков? – за замполита Стрепетов «взялся» уже в канцелярии. – У вас политзанятия проводятся, наверное, только когда начальство с проверкой приезжает!?
– Никак нет, политзанятия проводятся регулярно, – мямлил Пырков. Он пребывал в шоке, после, как ему казалось, удачного «показа» клуба, вот такой «ушат холодной воды».
– Не видно. Сам слышал, слушатели не могут ответить на простейший вопрос, – продолжал обличать Стрепетов.
– Не знать своей истории – это позор, – поддержал Агеев. – Вы то сами, что думаете по этому поводу?
– Да ничего он не думает. Только знает, клуб свой лелеет, ездит, материалы дефицитные достает, а в дивизионе хоть трава не расти, – Стрепетов обнаружил точное знание деятельности своего подчиненного, хоть и «сидел» от него за несколько сотен километров. – Мало того, что знания личного состава на непозволительно низком уровне, тут и во взаимоотношениях солдат и офицеров конфликты случаются. Смотри Пырков, дождешься, придется ставить вопрос о соответствии тебя с занимаемой должностью, – уже конкретно пригрозил Стрепетов.
Удовлетворившись страхом, напущенным на Пыркова, начальник политотдела решил перенести «огонь» на командира дивизиона:
– А ты, Ратников, куда смотрел. Сам что ли не видишь, что с политзанятиями в дивизионе завал?
Ратникова еще во время проверки политзанятий охватило недоброе предчувствие: на этом может все и закончится, не проверяя больше ничего полковники оценят дивизион низко и потом долго придется «отмываться». Необходимо было срочно спасать положение. Решение пришло мгновенно, как в боевой обстановке. Саму идею он вынашивал давно, но считал что методика политзанятий не его, строевого командира, дело, однако сейчас решил рискнуть.
– Я не вижу в том, что произошло ничего удивительного, – словно в омут головой кинулся подполковник.
– То есть как!? – Стрепетов грозно посмотрел на Ратникова, Агеев непонимающе, свита удивленно переглянулась.
На печальном лице Пыркова затеплилась надежда: «Сейчас командир зарюхается, и уже на него собак спустят, может еще и не я крайним, стрелочником окажусь».
– Дело в том, что я давно уже анализирую лекции по политподготовке для личного состава, что нам спускают в журнале «Коммунист вооруженных сил». Так вот, лекция по теме, что вы сейчас проверяли, написана так, что большинству солдат дивизиона она совершенно чужда и потому они ее, ни понять, ни усвоить не могут. И это касается не только этой темы, – без тени колебаний высказывал свои идеи подполковник.
– И с чего же ты пришел к такому выводу? – еще более нахмурился Стрепетов.
– С того, что люди, написавшие эту лекцию, в упор не видят реалий сегодняшнего дня.
– Вот так номер. Ты, Ратников лучше уж помолчи, а то я гляжу тебе своего партбилета не жалко, – пытался слегка прикрытой угрозой урезонить подполковника Стрепетов.
Но остановиться Федор Петрович уже не мог:
– Разве может вызвать у большинства солдат лекция с таким названием, если она не охватывает прошлого большинства народов нашей страны. Ведь она написана только для русских, там указаны только русские деятели и полководцы. А ведь в той же стартовой батарее русских и трети не наберется. Хоть бы для блезиру в нее Богдана Хмельницкого вставили, у нас ведь много украинцев. А как там подано монголо-татарское иго, как его объяснить нашим татарам? Ведь их предки там изображены, мягко говоря, не лучшим образом. А ведь могли бы что-то положительное и у них отметить. Например, передовую по тому времени военную организацию, железную дисциплину, полководческий талант многих монголо-татарских военачальников. Ведь не могли же, в самом деле, дикие орды, ведомые тупыми и кровожадными ханами, обложить данью Русь, дойти от Монголии до Адриатического моря, одержать столько побед? А какой интерес может вызвать эта лекция у узбеков, которых в последние два призыва к нам немало пришло. То же самое можно сказать про киргизов, казахов. Там нет ни слова про их историю. А кавказцы? Ну, грузины прочитают про Багратиона, а остальные тоже ни слова о своей истории…
– Погоди, притормози, – Стрепетов оставил свой запугивающе-начальственный тон и, похоже, не прочь был вступить в дебаты.
Но Ратников не дал себя остановить, видя, что все ему внимают, едва ли не «с открытыми ртами»:
– Те кто эти лекции пишут не хотят даже чуть пошевелить мозгами. Зачем? Взяли, содрали со старых учебников и порядок. Не надо голову ломать, а в званиях, поди, не ниже полковников, оклады соответствующие, живут в Москве. Чем не жизнь, квартиры, обеспечение, ни подчиненных, ни боеготовности, ни за что фактически не отвечают. А каков сейчас национальный состав в войсках, это им до фени…
11
Ратникова уже никто не перебивал, он замолчал сам, остановился, словно с разбега налетел на препятствие. В него вдруг исподволь стал заползать страх: что теперь будет, разве можно так говорить про людей изловчившихся достичь «степеней известных», в том числе и научных, с высоты которых он смотрится не более чем букашкой?
Оглушенный потоком нестандартных и неожиданных высказываний, Агеев вконец растерялся. Он никогда не вникал в подобные проблемы и сейчас остро чувствовал, что бесконечно далек от этих, «тащащих» здесь у «черта на куличиках» свою нелегкую службу, людей. Имея почти всю свою службу дело с подчиненными офицерами, он, что называется, солдата живьем представлял плохо и не знал того, что познают обычные офицеры, будучи командирами взводов, рот, батарей, дивизионов…
Разрядил обстановку Стрепетов.
– Успокойся, никто тебя не уполномочивал обвинять тех писак в безмозглости и безделье. Даже если ты и прав, лучше эти мысли при себе держи, и будем считать, что мы от тебя этого не слышали. Как вы считаете, Николай Васильевич? – начальник политотдела счел нужным все-таки посоветоваться с комкором.
– Да, конечно. Это очень сложный вопрос. И действительно, скорее всего, это не наше дело, там хватает функционеров, целые институты, которые работают над всем этим. Но мыслите вы Федор Петрович интересно, чувствуется что искренне переживаете за сложившееся положение вещей, – нашел нужным и подбодрить подполковника комкор.
– Десять лет дивизионом командую, было время, и прочувствовать, и подумать, – невесело пошутил Ратников.
Стрепетов, в отличие от Агеева, конечно, не растерялся от слов Ратникова. Будь он помоложе и имей впереди ясную служебную перспективу, он бы среагировал совсем по-другому. Конечно, ни должности, ни партбилета за свои высказывания Ратников не лишился бы, времена уже не те, а выговорешник и массу упреков за попытку дискредитации печатного органа ГЛАВПУРа, он бы точно схлопотал. Но Стрепетов, увы, и сам не имел перспективы – на генеральскую должность он вышел слишком поздно, на излете. Он уже не был тем пламенным проводником линии партии в войсках, как еще лет пять-шесть назад. Начальник политотдела отчетливо понимал, что «генерала» ему, скорее всего, уже не дождаться, уволят полковником. А это рождало массу проблем по увольнению, которых бы не имел отставной генерал. Стрепетов происходил из маленького подмосковного городка, где почти не велось строительство и если возвращаться туда, ему «светили» обычные для всех отставных офицеров квартирные мытарства, а здоровье-то уже не то. В общем, впереди ничего хорошего. В этой связи Стрепетов временами испытывал просто жгучую ненависть ко всем, кому удалось таки выбиться в генералы, или кому посчастливилось пристроиться служить на «теплых» местах, в том числе в редакциях военных газет и журналов, особенно центральных, московских. Полковнику пришлись по душе выводы Ратникова о пишущей военной братии, и он решил не подвергать его обструкции, а вот так, тихо все спустить на тормозах…
Дневальный объявил конец второго часа занятий. Казарма наполнилась топотом выходивших из учебных классов солдат. Тем временем в настроении командования корпуса наступил очевидный перелом. После «выступа» Ратникова, полковники чувствовали себя уже не как в начале своего визита, и даже Стрепетов утратил значительную часть своей «воинственности».
– Ну, что, пойдем столовую посмотрим? – прервал неловкую паузу начальник политотдела, как только начался третий час учебных занятий.
В столовой Ратников посетовал, что хорошо бы заменить длинные на двадцать человек столы на маленькие, как в кафе, на четверых. Начальник тыла, начал было доказывать нецелесообразность такой замены, сулящий ему лишние хлопоты, но Стрепетов его грубо оборвал:
– Закупи по своей статье, чего жмешься. Небось, прапорам своим позволяешь со складов тянуть, что плохо лежит, а для солдат столов паршивых жалеешь.
После столовой заглянули в каптерку.
– Писарь-каптенармус, рядовой Гасымов, – представился каптер. И у него царил образцовый порядок: парадное обмундирование, фуражки, ботинки аккуратно вывешены, разложены по шкафам, полки тщательно протерты от пыли, полы вымыты – Гасымов умел встретить начальство.
– Как с вещевым довольствием, всего хватает? – изобразил отческую заботу комкор.
– Так точно! – подобострастно выпучив глаза, отчеканил Гасымов.
– По результатам последней ревизии недостатков не обнаружено, – поддержал и начальник тыла, не упомянув, конечно, что до этой последней ревизии со старшины дивизиона неоднократно вычитали из жалованья за всевозможные недостачи.
Вышли на плац. Здесь стартовая батарея, согласно расписания, занималась строевой подготовкой.
– А подсобное хозяйство у вас имеется? – Агеев, как ни странно вспомнил, глядя на марширующих солдат инструкцию совсем не имеющую отношение к строевой подготовке. То был циркуляр предписывающий: «В отдельных подразделениях организовывать подсобные животноводческие хозяйства, чтобы перевести эти подразделения на частичное самообеспечение продовольствием».
– Так точно, держим пять свиней. Желаете посмотреть? – осведомился Ратников, и получив утвердительный ответ, повел полковников и свиту на свинарник.
Цимбалюк, щеголяя непривычно чистым бушлатом, встретил у входа, доложил, что во вверенном ему хозяйстве «усе у порядке».
– Сколько у вас свиней, – обратился к нему Агеев, хотя только что выяснил это у командира дивизиона. Он совсем не знал, как держать себя с солдатами и о чем с ними говорить.
– Пять штук, товарищ полковник, – ответил вытянувшийся во весь свой долговязый рост свинарь.
Снаружи свинарник выглядел развалюхой. «Может внутри лучше», – подумал Агеев, проводя аналогию с клубом и совершенно не ведая, что представляет из себя жизнь таких животных, как свиньи. Внутри, само собой, оказалось просто ужасно. Свиньи поглощали солдатскую овсянку, оставшуюся от завтрака. Хрюканье, визг и страшное зловоние. От увиденного… в общем, комкор поспешил ретироваться, вышел на воздух и сочувственно спросил у Цимбалюка:
– Как вы здесь выдерживаете?
– Да ничого важкого тут нема, товарищ полковник. Я с малых рокив при скотине, и мать моя у колхози скотница, – отвечал свинарь, широко улыбаясь щербатым ртом. Он был явно обрадован, что удостоился не просто внимания, а и личной беседы со столь высоким начальством.
– Так, говоришь, потомственный скотник, а чего ж свиньи-то у тебя такие тощие, длинные какие-то, одни морды торчат? – перевел разговор в критическое русло Стрепетов.
– Кормить нечем, вот они у нас такие «гончие», – пришел на помощь свинарю Ратников.
– Как нечем, вон же сколько отходов, – возразил начальник политотдела.
– Это сегодня так, овсянка на завтрак была. Ее солдаты не едят, вот она почти вся сюда и попала. А обычно на пятерых свиней очень немного получается.
– Надо же, не едят. Зажрались, однако. А говорят, у нас народ голодает, – Стрепетов презрительно усмехнулся. – Я помню в молодости студентом все, что давали жрал.
Свита понимающе заулыбалась, а Ратников с сарказмом подумал: «И где ж это там тебя овсянкой кормили, ведь ни в солдатах, ни в курсантах не был. И чтобы твой сын овсянку не жрал, тоже все что мог сделал». Ратников доподлинно знал, что Стрепетов немало постарался, пристраивая сына в московский ВУЗ с военной кафедрой, лишь бы в солдатах не оказался.
– Так если пять кормить не можешь, зачем завел столько? – снова нахохлился Стрепетов.
Процессия тем временем двинулась к автопарку.
– Это, товарищ полковник не мне решать, план спущен начальником тыла – пять и не меньше, – перенаправил вопрос Ратников.
Вельможные взоры обратились на Боярчука. Тот лишь беспомощно развел руками и пояснил, что ему, в свою очередь, такой план спустили с окружного «тыла»… Прошли автопарк с недействующим отоплением в боксах (батареи полопались в прошлую крайне морозную зиму, а новые так и не завезли) и вернулись к казарме.
Да тут буквально все надо ремонтировать, или сносить и строить заново, – Агеев в недоумении поднимал и опускал плечи, увеньчанные трехзвездными погонами. – На других дивизионах так же? – вопрос адресовался командиру полка.
Нефедов мученически поморщился, и чуть дрогнувшим голосом ответил:
– В общем, да. На некоторых еще хуже. Средств, товарищ полковник, на ремонт почти нет. А если и есть, то стройматериалы за безналичный расчет у нас тут достать почти невозможно. Но и в этих условиях мы боеготовность поддерживаем. Вот сегодня утром по нарушителю государственной границы оперативно сработали…
Съездили «на верх», посмотрели станцию наведения ракет, пусковые с ракетами. Комкор не выразил желания присутствовать на проверке функционирования зенитно-ракетного комплекса, перепоручив это дело, как и ожидалось, главному инженеру корпуса подполковнику Кулагину… Подполковник Кулагин Борис Михайлович, за время всей проверки дивизиона оставался не у дел. Наконец, получив команду проверить боеготовность комплекса, он с радостью устремился в кабину управления СНР, подальше от корпусных главковерхов. Впрочем, больше всего он сейчас не хотел встречаться со старшим лейтенантом Харченко.
С отцом Харченко Кулагин был знаком с 60-х годов. Тогда он, еще будучи лейтенантом, служил под началом старшего Харченко. Борис Михайлович, еврей по отцу, в те времена носил другую фамилию. Получилось так, что старший Харченко и его супруга, которая и в те годы не чуралась сводничества, посодействовали женитьбе Бориса Михайловича на русской девушке, они же посоветовали взять ее фамилию. Сильно помогло это или нет, не ведал и сам Кулагин, но при поступлении в инженерную радиотехническую академию препятствий ему не чинили, впрочем, специалист-технарь он был отличный. Успешно окончив академический курс, он вновь оказался в войсках на инженерных должностях. Однако, то ли отсутствие большого блата, то ли все-таки национальность отца не позволяла ему подняться выше ныне занимаемой должности. Отлично осознавал что достиг «потолка» и сам Борис Михайлович.
Пришедший в управление корпуса два года назад Кулагин, тогда даже не знал, что в одном из полков этого корпуса на отдаленной «точке» служит сын его давнего сослуживца. Но старший Харченко, вовремя определил, что подполковник Кулагин, возглавивший службу вооружения корпуса в который угораздило попасть его сыну, не кто иной, как его бывший подчиненный, которому он когда-то помог. Связи восстановили сначала по женской линии. Мать Петра Харченко написала письмо жене Кулагина, той самой некогда сосватанной ею. Ну, уж а потом, когда «почва» оказалась подготовлена и сам старший Харченко написал письмо своему бывшему однополчанину, в котором ненавязчиво но достаточно ясно просил помочь застрявшему в «старлеях» сыну. Борис Михайлович болезненно воспринял напоминание о плате за «услугу», оказанную ему в молодости. И неизвестно поспешил бы он «расплатиться», если бы не жена. Она в отличие от него, считала себя обязанной чете Харченко, и соответственно «регулярно воздействовала» на Бориса Михайловича и тому ради сохранения внутрисемейного мира пришлось откликнуться на просьбу. Имея определенное влияние в управлении корпуса, он сумел «надавить» на подчиненного ему главного инженера полка, имеющего решающий голос в определении кандидатуры на замещении такой должности как командир радиотехнической батареи. Это и позволило в обход Ратникова протолкнуть-таки Петра Харченко сразу на две служебные ступеньки вверх. «Операция» сошла с рук из-за нежелания строевого и политического руководства корпуса вникать в подробности «внутренних дел инженерной епархии» (не до того было, как раз собирался сдавать должность прежний комкор и все штабные тряслись за свои собственные «портфели»). Кулагин не испытывал угрызений совести по поводу того, что он инициировал столь резкое выдвижение обыкновенной серой посредственности. С ним самим столько раз поступали не по совести. Напротив, он был удовлетворен, считая, что и жене угодил и, наконец, полностью расплатился с семейством Харченко. Однако Петр почему-то решил, что «золотой дождь» над ним только начался. В личной беседе, состоявшейся как раз перед назначением на должность, Кулагин намекнул «свежевыпекаемому» комбату, что его дальнейшая карьера целиком зависит от него самого, намекнул на возраст Ратникова, о желательности сразу заявить о себе в новой должности, например, тем чтобы сделать батарею отличной. В общем, ничего конкретного, только общие слова, но Петр все понял по-своему…
12
На СНР Кулагин демонстративно делал все, чтобы не афишировать их особые с новым комбатом отношения, которые он твердо решил «свернуть». Он приказал провести контроль функционирования. Офицер наведения включил станцию и продемонстрировал ее работу. Конечно, если бы главный инженер корпуса имел целью до чего-нибудь «докопаться», то с его знаниями и опытом это было бы сделать нетрудно, но он в присутствии нового комкора и начальника политотдела, которого откровенно побаивался (знал, что тот за глаза зовет его Борух Мойшевич) решил не выделяться, остаться в тени. Потому, не узрев серьезных недостатков, Кулагин признал технику боеготовой. Намеренно не замечая попыток Харченко отвести его в сторону и о чем-то поговорить, он сначала ввязался в технический спор с местным «теоретиком» Гусятниковым, потом стал проверять знания недавно заступивших на должности офицеров Рябинина и Сушко, затем поругал за подтеки топлива из дизелей электромеханика-дизелиста, потом… потом спустился вниз. Здесь Ратников сделал то, что безуспешно пытался «наверху» Харченко, он «перехватил» главного инженера и отвел в сторону для разговора с глазу на глаз. Он это сделал, воспользовавшись тем, что полковники заинтересовались занятиями по ЗОМП, которые в казарме проводил начальник отделения боевого управления старший лейтенант Колин, под контролем начальника штаба Колодина. Ратников попросил разрешения ненадолго отлучиться, чтобы выяснить у главного инженера подробности проверки им техники. Похоже, и комкора и Стрепетова техника совершенно не интересовала, и они не стали препятствовать, что бы по этому поводу два подполковника «посекретничали».
– Ну, как Борис Михайлович у нас там наверху? – прогнозируемо начал разговор Федор Петрович.
– Все нормально, не беспокойтесь, сегодня я вас «мучить» не буду, отложу до следующего раза, – эти слова Кулагин произнес как можно тише, чтобы полковники не услышали.
– Ну что ж, спасибо. Извините, Борис Михайлович, можно с вами поговорить, так сказать не по теме, а то, боюсь, у нас больше возможности такой не будет, – в свою очередь заговорщецки понизил голос Ратников.
Кулагин, уже собиравшийся докладывать комкору о результатах проверки боеготовности техники, удивленно посмотрел на командира дивизиона и вынужден был задержаться.
– Я прослышал, что вы мне уже преемника подыскали? – без «разведки» начал Ратников.
– Не понимаю вас Федор Петрович. Кадровые вопросы не в моей компетенции, – главный корпусной инженер явно растерялся, он как человек интеллигентный не обладал командирской грубостью, это хорошо знал Ратников, потому и позволил себе достаточно бесцеремонное обращение к начальнику, превосходящему его по должности.
– Тем не менее, до меня дошли сведения, что именно вы «крестный отец» этого преемника.
– Не понимаю о чем вы? – отвел глаза и продолжал отрицать свою причастность к назначению Харченко Кулагин.
– Не надо, Борис Михайлович, я ведь все знаю. Вы же обещали мое место Харченко. Только вот меня об этом известить, почему то не удосужились. Я ведь за свое место не держусь, – насмешливо покачал головой Ратников, кося взгляд в сторону полковников, которые что-то выговаривали начальнику штаба Колодину.
– Я не знаю, кто вас дезинформирует, но я лично никому ничего не обещал, – Кулагин тоже опасливо оглянулся – не слышит ли кто их диалога. – Сами посудите, он же только комбатом стал, ему еще опыта набраться надо, капитана получить. А слухам советую не доверять. Пойдемте лучше поближе к командованию, а то неудобно, подумают, что мы тут втихаря шушукаемся.
«Вот гаденышь, отблагодарил, всем раззвонил, чего и не было. Помогай таким после этого», – негодовал про себя Кулагин, а Ратникову говорил следующее:
– Пожалуйста, Федор Петрович, об этих слухах никому ни слова, могут неправильно понять. Поверьте, сейчас я вам чистую правду сказал.
– Без двойного дна? – выразил недоверие Ратников.
– Клянусь вам…
С предложением Стрепетова посмотреть условия жизни офицеров Агеев согласился охотно. Он, как и большинство людей имел естественную человеческую слабость – его тоже интересовали чужие тайны. А при посещении чужого жилища можно хоть отчасти удовлетворить сей интерес. Впрочем, комкор имел и законное основание – высшие начальники обязаны беспокоиться о бытовых условиях жизни своих подчиненных.
Ратников повел. В первую зашли в квартиру Сивкова. Жена капитана, тридцатилетняя женщина, обладавшая набором достоинств необходимым для жизни на «точке»: общественница, сплетница, кокетка, в меру подлиза… Анна давно уже раскусила эту шуструю бабенку, жившую под девизом: «как нам хорошо, когда вам плохо». Зная тягу Сивковой к общественной работе, она именно ее предложила на должность председателя женсовета и благодарная Сивкова стала ее основной осведомительницей. К встрече «высоких» гостей Сивкова вырядила себя и ребенка, пятилетнюю девочку, как на праздник. Она стала приглашать всю компанию за стол. В квартире аппетитно пахло, да и сама хозяйка, довольно миловидная, внешне производила приятное впечатление. Агеев, поблагодарив, от угощения тактично отказался. Наивный прием – угостить начальство, на что очень рассчитывали супруги Сивковы, не прошел (Сивкова уже была в курсе, что ее муж «сел в лужу» на политзанятиях). На вопрос о том, как живете, Сивкова заверила, что всем довольна…
К холостякам не пошли, дверь оказалась запертой.
– Хозяева на службе, здесь холостяки живут, – пояснил Ратников, про себя радуясь, что «умники» догадались запереть дверь и избавили его от неминуемого «втыка», за грязь, бардак и, возможно, за «Купальщицу».
Обошли и квартиру Харченко. Ратников не надеялся на непредсказуемый характер Эммы. Однажды она, будучи в плохом настроении с криком и руганью выгнала из квартиры замполита, зашедшего справиться, как поживают молодые супруги. Подполковник сказал, что хозяйка этой квартиры больна и посещение нежелательно. Так же нежелательно было и посещение квартиры Муканова, но здесь Ратников обошелся без объяснений.
В большинстве квартир чувствовалась жизнь на одну зарплату мужа, обстановка в основном средняя, а то и просто бедная. Хоть офицерская зарплата являлась по советским меркам и не маленькой, но в большинстве семей копили деньги, надеясь что когда-то, в неясном будущем, будет у них и служба нормальная, и квартира в городе, вот тогда и обставятся и заживут. Когда это будет? – никто толком не знал, но все надеялись. Без надежды жить нельзя. Только в двух, как ни странно лейтенантских семьях имелись «стенки» и цветные телевизоры. Но здесь не обошлось без материальной помощи состоятельных родственников.
Процессия переходила из квартиры в квартиру. Ратников сумел запутать начальство сложными переходами от одного четырехквартирного ДОСа в другой, третий и вновь возвращаться в пропущенную квартиру из первого, так что те уже не могли понять в каких квартирах побывали, а в каких нет, разве что если бы кто-то взялся считать, мог сообразить, что из двадцати, посетили не более двенадцати. Подполковник не показал и свою квартиру, миновал ее. Он не хотел отвечать на щекотливые вопросы типа: «Почему, все остальные члены офицерских семей ходят в общественный туалет, а для своей семьи вы соорудили отдельный рядом с квартирой, да еще обили его войлоком и оборудовали теплоэлектронагревателями внутри? Или: почему палисадник возле вашей квартиры огорожен новыми штакетинами, а у остальных истлевший и кое где повалившийся забор? Того же типа могли возникнуть вопросы и насчет рам в окнах и стекол в них. Еще больше вопросов возникло, если бы комкор со свитой прошел внутрь ратниковской квартиры, про качественно подогнанные новые полы и их окраску явно импортной краской. Все это хорошо, но почему такое только в командирской квартире, так же как и явно «нарощенные» батареи, раза в полтора длиннее обычных стандартных. Что на это ответить? Что поговорка «сапожник без сапог», не та, которой надо руководствоваться в жизни? Или, хватит и того, что почти весь Союз живет, так как тот сапожник, едва ли не хуже всех не только капиталистических, но и тех же стран социализма, имея природных богатств намного больше? Нет, он не собирается следовать такому примеру и жить хуже или так же как его подчиненные. Не для того он двадцать лет мучается на «точках», пусть и они столько помучаются. Такого бы ответа, конечно, ни комкор, ни начальник политотдела не поняли. Потому Ратников и запутал начальство всеми этими хождениями туда-сюда, сопровождаемые жалобами женщин в основном на бытовую неустроенность и отсутствие работы…
Агеев не ожидал, что семьи офицеров могут так жить. После приветливой хозяйки в квартире Сивковых, таковых более не оказалось. Нигде больше не приглашали к столу и кокетливо не улыбались. Только жаловались, просили, а кое где «пускали в ход» с виду вполне искренние женские слезы. Агеев такого не «хлебал» никогда. Служа в авиополках, он жил в относительно благоустроенных гарнизонах, ему не приходилось служить по «авиодырам» даже в молодости, по понятным причинам. Потому он искренне считал, что вся остальная армия живет примерно так же как в Кубинке или Жуковском. А ЗРВшную «точку» он вообще лицезрел впервые. Теснота, неудачная планировка, рассохшиеся полы, текущие краны, плохо греющие батареи… Как и все, ДОСы нуждались в незамедлительном ремонте. Кроме всего прочего женщины жаловались на отсутствие условий для нормального развития детей. Они наивно считали, что улучшение условий их быта и вообще жизни во власти командира корпуса – обычное заблуждение, имеющее вековые традиции, основанное на веру во всесилие любой генеральской должности.
– Вот жалуются ваши женщины на жизнь, а по внешнему виду ни их, ни их детей не скажешь, что тут им так уж тяжело… Жалуются, что работать негде, неужто, нельзя где-нибудь здесь устроиться? Может просто не хотят? – созрел вопрос у комкора к концу посещения квартир.
Ратников привык к таким вопросам людей будто бы прилетевшим с другой планеты:
– Да нет. Куда тут устроишься. В ближайшей деревне только доярки и свинарки нужны, а до поселка двадцать километров.
– Ну, и чем же они тут целыми днями занимаются? – любопытствовал комкор.
– Чем занимаются?… Телевизор смотрят, за детьми следят. Ну и по дому работа здесь много времени отнимает – удобств-то нет. Работает только моя жена, да вот еще, когда кто-то из женщин имеет педагогическое образование, они в поселковой школе работают. Но сейчас у нас тут ни одной учительницы нет. Хотя многие женщины имеют образование и высшее и средне-специальное, – как можно более спокойно отвечал Ратников.
– И все-таки, позвольте не согласиться, насчет слишком уж тяжелой жизни здесь для ваших женщин. Мы вот по пути к вам в поселке… как его… да в Новой Бухтарме останавливались. Жуткое впечатление, экология ужасная и в магазинах пустые полки. А люди, те же женщины и одеты плохо и смотрятся ужасно. После них ваши женщины, ну как вам сказать, в основном такие румяные, упитанные и слезам их как-то не верится. Думаю у вас тут и с экологией и наверное со снабжением продуктами все в порядке? – с улыбкой спрашивал комкор. Он как человек еще молодой, не мог не обратить внимания и не оценить попавших в его поле зрения «точечных» женщин.
– Да, на это грех жаловаться. Но опять же, все это в сравнении с местным гражданским населением, а оно в той же Новой Бухтарме уже не один десяток лет цемзаводом травлено. Вы, наверное, заметили, когда мы посещали квартиру прапорщика Дмитриева, что его жена, да и дочка, заметно отличаются от остальных. Это потому, что они местные, в поселке росли, – пояснил Ратников.
– Да-да, помню это такая высокая и очень худая женщина. А вот еще жена начальника штаба тоже отличается. Она тоже местная?
– Нет, жена начальника штаба из Горьковской области. Эта от природы, хотя не исключено, что тоже в каком-нибудь травленном месте росла, все может быть, – предположил Ратников.
– И все-таки, неужто никто из женщин не пробовали устроиться на какое-нибудь ближайшее предприятии, или учреждение. Я понимаю, в поселок сложно добираться, но у вас же туда каждый день школьников возят, и они с ними могли бы ездить.
Легко всего достигшему Агееву казалось, что все зависит от самих людей, от их желания, если очень захотеть – всего добьешься.
– Ну, во-первых, у школьной машины будка небольшая и утром, когда везет первую смену, она под завязку забита школьниками. Потом, у нас жесткий лимит на бензин, никакой лишний рейс без веских причин невозможен. А кто станет терпеть работницу на том же заводе или в учреждении, если она будет жестко привязана к школьной машине, – терпеливо разъяснял ситуацию Ратников.
– Хорошо, понимаю… Но здесь же у вас шоссе недалеко проходит, в трех километрах, мне говорили. До поселка и назад можно и на попутных добраться. А три километра для молодой женщины, пешком… думаю просто прогулка, – опять попытался дать совет Агеев.
У Ратникова внутри негодующе заклокотало: «А ты свою бабу на попутки, со случайными шоферюгами, а потом три километра, зимой, по полю, в метель одну погонишь!?» Но вслух он спокойно, даже снисходительно парировал:
– Товарищ полковник, это все-таки женщины, они же пустыми не ходят, всегда с сумками… Потом, у нас тут зимой метели бывают страшные, и волки случаются. Вон недавно ребенка из поселка прямо на шоссе, когда он попутку ловил, видимо загрызли, ничего от него кроме шапки и валенка не нашли.
Попав впросак, комкор более не затрагивал тему трудоустройства женщин, но стал удовлетворять любопытство другого рода:
– Федор Петрович, а разводы у вас тут часто случаются, не бегут отсюда жены?
– На моей памяти такого не случалось.
– О, да здесь одни декабристки собрались. Умеете жен выбирать.
Все засмеялись, а Агееву вдруг пришла мысль-вопрос о собственной жене: «Интересно, а моя, если бы в такую дыру привезти, да сказать, что несколько лет здесь прожить придется… Осталась бы, не бросила?» Ему даже стало жутковато от этой невозможной в действительности перспективы: генеральская дочь, и здесь, на «точке», среди метелей и волков. Вон, она даже в Алма-Ате на первом месяце пребывания стоном стонет, и уже не раз грозила все бросить и уехать к родителям в Москву. Бежать из большой благоустроенной квартиры в центре города. Ей, видите ли, не нравится город, не по душе новые подруги дочери, потому что среди них много казашек. А куда денешься, школа-то, куда ходит дочь, специальная, там учатся дети высокопоставленных республиканских деятелей, а они там, в основном, так называемой коренной национальности.
Агеев отбросил невеселые мысли о жене и вновь привычно утвердился в вере в свой жизненный девиз: человек сам кузнец своего счастья. Такого, чтобы он оказался в подобной ситуации и мучил такой жизнью свою семью, быть просто не могло. Разве он такой, как эти? Через мгновение он, однако, застеснялся своих выводов: люди, служившие здесь, на дебилов, пьяниц и тому подобных маргинальных личностей никак не походили. Скорее в штабе корпуса он за сравнительно недолгий срок уже успел «вычислить» немало по настоящему недалеких или начисто лишенных интеллекта особей, которые каким-то непостижимо-хитрым путем, тем не менее, сумели позаканчивать академии, носили полковничьи погоны, ездили проверять, поучать, имели немалую власть и пользовались всеми благами городской цивилизации. От раздумий и вопросов, на которые не было ответов, настроение комкора окончательно испортилось. Пытаясь сбить волну пессимизма, и в то же время как бы продолжая прерванный разговор, он спросил Ратникова:
– Вы говорили, что ваша жена работает, а где?
– Здесь же на дивизионе в магазине, продавцом. Как раз сейчас магазин открывает, – Ратников мельком бросил взгляд на свои часы.
– Ну что ж, пожалуй, надо зайти, посмотреть как здесь со снабжением торговых точек.
– Можно, – поддержал Стрепетов.
Во время «инспекторского» обхода квартир, начальник политотдела умышленно отдал инициативу комкору, не желая отвечать на однообразные вопросы и жалобы женщин, которых за свою долгую политработу наслушался под завязку.
– Посмотрим магазин и ехать пора, нам еще сегодня надо успеть подразделения при управлении полка посмотреть, а то вчера не все успели, – Агеев уже тяготился визитом и стремился его поскорее завершить.
13
В магазине тем временем находился лейтенант Рябинин. Он заскочил за сигаретами и попутно рассказал Анне Демьяновне, где ходят и что смотрят полковники.
Анна переживала, что у мужа не получится не показать свою квартиру, и полковники ее посмотрят без нее. Больше всего она беспокоилась за кран в батарее. Он имелся только в их квартире и использовался ею для набора горячей воды во время стирки. Вообще-то, согласно приказу начальника тыла, использовать для хозяйственных нужд воду из отопительной системы было запрещено. Но Ратников строго следя за исполнением этого приказа в квартирах прочих офицеров, для жены, естественно, сделал исключение и приказал солдату-сантехнику вместо заглушки в кухонной батарее ввернуть кран. Риска никакого не было – одна Анна даже при самой интенсивной стирке не взяла бы столько воды из системы, чтобы там упало давление. Но каков «материал» для сплетен. Весь дивизион, конечно, про кран знал. И если, вдруг, ни с того ни с сего посреди недели кочегары начинали топить не жалея угля, это означало, что у командирши сегодня стирка и она наказала мужу чтобы в батареях был «кипяток». И вот сейчас Анна переживала, что, уходя из дома, забыла накрыть этот злосчастный кран какой-нибудь тряпкой. Ведь не исключено, что кто-то из недоброжелателей или недоброжелательниц во время обхода квартир «стукнет», нет не комкору, он наверняка далек от этих «нюансов», «стукнут» начтыла и тогда вполне мужу придется выслушать много неприятного.
Когда в дверном проеме появился комкор, Рябинин прижался к стене.
– Добрый день, – поздоровался Агеев, еще толком не разглядев, показавшееся темным после яркого дня, помещение.
Лейтенант, пропустив начальников, выскочил от греха на улицу.
– Здравствуйте, – спокойно, без всяких следов мучивших ее переживаний на лице, ответила Анна.
Агеев огляделся, его глаза постепенно адаптировались. За прилавком он увидел высокую женщину, с очень полной, но в то же время по-женски рельефной фигурой, которую удачно подчеркивал туго ее облегавший белый халат. Батареи с помощью электрообогревателя уже подняли в помещении температуру, и Анна могла снять пальто, чтобы одеться «по форме». Ратников сделал едва заметный знак жене: все в порядке, к нам не заходили. Внутреннее напряжение немного отпустило Анну.
По сведениям, полученным от командира полка во время шестидесятикилометрового пути от Серебрянска до дивизиона, Агеев знал, что жена Ратникова вместе с мужем двадцать лет промоталась по «точкам». В этой связи он никак не ожидал увидеть жену командира дивизиона такой. По всему, эта должна быть уставшая, измученная некачественной жизнью, кажущаяся старше своих лет женщина, примерно такая, каких он видел в той же Новой Бухтарме, во время короткой остановки. Правда, он уже был удивлен тем, что большинство виденных им здесь на точке женщин измученными никак не смотрелись. Но они все моложе, некоторые намного и прожили в таких условиях меньше времени. Потому то, что комкор увидел в магазине… Ратникова смотрелась, пожалуй, даже лучше двадцатилетних лейтенантшь, во всяком случае на «вкус» полковника Агеева, человека худощавого и потому инстинктивно, на подсознательном уровне ценящего прежде всего здоровую женскую полноту.
Когда вошли в магазин, Ратников и сам несколько опешил. Он бы, пожалуй, не сразу узнал жену, если бы не знал точно, что за прилавком может стоять только она. Анна, пока полковники проверяли политзанятия, сбегала домой и привела себя в «порядок», призвав на помощь весь немалый арсенал имеющейся у нее импортной косметики. Подпудрилась слегка, почти незаметно, также чуть-чуть подрумянилась и тщательно разгладила, убрала, насколько было возможно морщины, «мешки» под глазами и прочие следы прожитых лет. Отсутствие прически скрыла большим оренбургским платком. Результат сего важнейшего для всякой уважающей себя женщины действа – умения подать себя, был налицо. За прилавком стояла ладная, самое большее 30–32 летняя, отлично выглядевшая блондинка.
Ощутив искренний интерес комкора и удивленный взгляд мужа, Анна поняла, что старалась не зря. Хотя полностью «прибарахлиться» как хотелось ей и не удалось. Особенное неудобство доставляло сковывающее чувство от невозможности отойти от прилавка, ибо тогда всем этим высокопоставленным мужчинам станут видны ее ноги… Нет, сапоги на ней отличные, те самые парадные, швейцарские. Но Анна в силу нестандартного соотношения своей маленьких ступни и полных икр всегда испытывала трудности с застегиванием молнии на сапогах. С годами это соотношение все более «усугублялось»: ступня оставалась прежней, а икры полнели, как и вся она, оттого застегивать сапоги становилось все труднее. Вот и сейчас, оставшись одна дома, она наведя «красоту» на лицо, не сразу сообразила, что застегнуть сама сапоги вряд ли сможет, а заставить некого: мужа из казармы никак не вызовешь, а сын в школе. Но делать было нечего, никакие другие сапоги она одевать не хотела, ни чешские «цебы», ни советские с растянутыми голенищами, но с ужасным каблуком на «манной каше», не говоря уж о валенках. Она все же попыталась застегнуть молнию на «швейцарках», но у нее ничего не получилось. Перед прочими парадными выходами и выездами это делал муж. У него получалось очень мягко и безболезненно, Анне лишь оставалось подавать, сидящему перед ней на корточках Ратникову, сначала одну, потом другую ногу. Недавно Анна пыталась привлечь к этому «мероприятию» и сына – мужа дома не случилось, а ей предстояло ехать в школу на родительское собрание. Не имеющий нужного опыта Игорь с такой силой потянул замок, что вместе с колготками защемил и немного ноги родной матери. Анна вскрикнув, едва не наградила сына пинком. Но сейчас не было и Игоря и она, промучившись минут пятнадцать, так и не смогла до конца застегнуть молнию.
На комкора Анна смотрела просто, без заискивающей улыбки, которую Агеев привык наблюдать у жен своих подчиненных, которые наблюдал и здесь, во время обхода квартир. Анна же явно видела не всесильного начальника мужа, а интересного мужчину, сделавшего головокружительную карьеру. Ей тоже бросилась в глаза молодость и не провинциальная холеность нового командира корпуса.
– Как торговля идет? – с особой интонацией, с которой обычно галантный, воспитанный мужчина обращается к импонирующей ему женщине, спросил Агеев.
– Спасибо, неплохо. У меня ведь здесь нет конкурентов, – улыбнулась Анна.
«О да она, кажется, и не дура, и это при таком лице и потрясающих формах – большая редкость», – отметил про себя комкор. Своим видом и приятным голосом женщина отвлекла его от невеселых раздумий, и настроение пошло на поправку.
– А вообще, как вы тут живете… Анна Демьяновна, кажется вас зовут, если не ошибаюсь? Какие заботы, просьбы?
– Не ошибаетесь. Спасибо, жаловаться грех, все нормально. Единственно, если вам не трудно, обяжите нашего начальника тыла, или политотдел полка более тщательно контролировать выделяемые в полковом Военторге дефицитные товары для «точек», особенно промышленные.
Анна просила, но просила в своей обычной манере, так будто делала одолжение, и, странное дело, комкор как маленький клерк засуетился, достал блокнот и с готовностью спросил:
– А в чем конкретно дело, я чем могу обязательно помогу, – хотя мог всего лишь кивнуть как в случае с матами для спорт уголка.
– Нас, продавцов с «точек», постоянно пытаются обмануть, несправедливо распределяют дефицитные товары, иногда их просто припрятывают. Ругаться и требовать фактуру бесполезно…
Анна не стала говорить, что тот «дефицит» через «черный ход» перепродается с переплатой гражданским «денежным» особям. Но и того, что сказала, оказалось вполне достаточно.
– Не может быть, не правда! – чуть не взвился начальник тыла, покраснев как вареный рак.
Боярчук ожидал неприятностей, упрёков за состояние казармы, столовой, свинарника, овощехранилища… но только не со стороны «магазина». Заметно смутился после слов Анны и Нефедов – он был в доле с Боярчуком и имел свой «навар» от торговли с «черного хода». На слова Боярчука Анна лишь снисходительно скосила в сторону начальника тыла свои подведенные глаза.
– А вы помолчите, товарищ майор! – впервые за все время посещения дивизиона повысил голос Агеев. – Потрудитесь проверить поступивший к вам сигнал и доложите мне лично.
Анна не стала окончательно портить отношения с «тылом» и не поведала, что этот «сигнал» она подавала уже не один раз, зато высказала просьбу касательно ремонта помещения магазина, и замены отопительных батарей. Все было аккуратно записано в «высочайшую» записную книжку, к полному ужасу Боярчука.
– Если еще какая нужда возникнет, Анна Демьяновна, выходите по телефону прямо на меня, мое имя отчество Николай Васильевич, чем могу помогу, – снова заверил комкор.
Совсем не об этом собиралась говорить Анна с комкором. Она хотела просить перевода мужа, рассказать как тяжело жить даже в частичном отрыве от цивилизации, большой жизни, без общепринятых городских удобств, в маленькой двухкомнатной квартире с двумя уже немаленькими детьми… Но увидев, насколько молод и неловко-растерянно оглядывается вокруг полковник, она устыдилась просить этого мажора, баловня судьбы о помощи. В том, что муж ни о чем просить не станет, а то его ночное обещание, не что иное как минутная слабость, она не сомневалась. Анна сомневалась в другом, действительно ли она так желает поскорее отсюда уехать, вновь стать обычной рядовой советской гражданкой. Регулярно встречаясь, будучи в отпусках со своими бывшими подругами по техникуму, она за исключением ванны, и горячей воды в кране находила немного прелести и в их существовании. Но, когда вспоминала о детях, о том, что дочь нуждается в постоянном врачебном внимании, а сыну для поступления в хороший ВУЗ необходима более качественная подготовка, занятия с платными преподавателями… она вновь склонялась к мысли, что надо переводиться. Тем не менее, окончательного решения так и не могла принять.
Уже собираясь покидать магазин, Агеев увидел выставленную на продажу книгу. Это была недавно вошедшая в моду документальная повесть писателя Карпова «Полководец». В книге описывалась жизнь и боевой путь генерала армии Петрова, одного из самых талантливых полководцев Великой Отечественной Войны. В первую очередь из-за личной скромности и интеллигентности он не удостоился славы Жукова, и в какой-то степени эта повесть восстанавливала историческую справедливость.
– У вас её еще не разобрали? – удивился комкор.
– Просто завезли больше чем нужно, по ошибке. Наши уже все купили, и несколько штук осталось. Вообще-то книги, особенно дефицитные, у нас редкость, – пояснила Анна.
– Дайте, пожалуйста, посмотреть, – Агееву неосознанно хотелось продлить общение.
Анне же ничего не оставалось, как отойти от прилавка к полке и на всеобщее мужское обозрение открылись ее шикарные, на высоком каблуке сапоги, застегнутые на три четверти длины золотистой молнии. А в не застегнутое туго выбивалась затянутая в ажурные опять же импортные колготки плоть, не пожелавшая быть заключенной в узких пределах щвейцарской кожи… На сами сапоги Анны Агеев не обратил внимания. Таких сапог, и даже более дорогих у его жены было несколько пар. В Москве у ее родственников имелось множество спецканалов по добыче дефицитного «импорта». Как и опасалась Анна, комкора привлекли не сами сапоги, а их некоторая незастегнутость. Это «вид» волновал: выпирающая и в то же время не безобразная, а привлекательно-нежная мощь женской плоти… Плоти, которой он не знал, о которой он мог лишь мечтать, грезить, но не видел вблизи, не ощущал. У его жены обычно с сапогами наблюдались обратные проблемы, почти каждые приходилось отдавать в мастерскую, ушивать голенища, и через платье у нее почти не проступали никакие формы. Николай Васильевич был обязательным, честным человеком и осознавал, сколь многим он обязан жене, тестю и их окружению. Он был хорошим супругом, отцом, зятем, но эстетического удовлетворения от вида данной ему судьбой на всю жизнь женщины, увы, никогда не испытывал. И вот сейчас он, полковник Агеев, командир корпуса, интеллигентный, воспитанный… чувствовал то, чего в себе вовсе не предполагал, что определялось лишь инстинктом. Он как ясновидящий, проникающий своим «зрением» через материальные преграды видел то… Если бы он знал, что на свете наберется весьма не значительный процент мужчин не мечтающих хотя бы глазами раздеть понравившуюся внешне чужую жену, он бы в своем «видении» не узрел бы ничего противоестественного, тем более для него, лишенного счастья видеть обнаженным тело женщины, которое по настоящему нравиться. Эта «болезнь» очень распространена. Сколько их таких, и мужчин, и женщин, даже тех, кто «по жизни» имели немало сексуальных партнеров и партнерш, но так и не познали этого истинного блаженства – лицезреть и владеть телом, которое тебе по-настоящему желанно.
«Видение» оказалось непродолжительным, ибо прервалось довольно неожиданно. Анна подала книгу и образ Венеры, не юной, из морской пены, а зрелой, заматеревшей моментально испарился, был вытеснен из сознания полковника… Рука, подававшая книгу, казалось, принадлежала совсем другой женщине, не этой роскошной красавице, будто сошедшей с полотен Рубенса, Ренуара или Кустодиева. Только тут Агеев увидел, что двадцать лет жизни на «точках» не прошли даром для этой внешне цветущей женщины. Это была рука скорее крестьянки, а не жены офицера, подполковника. Небольшие от природы ладони совершенно лишились женственной припухлости, вздутые вены и шелушащяяся несмотря ни на какие кремы кожа – результат многолетней ручной стирки. А застарелые, не сходящие мозоли, свидетельствовали, что эти руки привычны и к тяпке, и к лопате, и к колющей ботве сорняков. Ими возделывались закрепленные за каждой семьей небольшие земельные участки, и еще делалась Бог весть какая работа. Ведь жизнь-то «точечная» как ни крути в большей степени сельская. Несмотря на все ухищрения и заботу, Ратников не смог уберечь от старения так им любимые некогда пухлые ладошки Анны. Кран в батарее и прочие поблажки, он смог ей обеспечить только став зрелым командиром дивизиона, а до того, за более чем десять лет «рядовой» жизни на «точках», она успела-таки изрядно «ухайдокать» свои руки.
14
Устами одного из набоковских героев высказывалась мысль о прекрасной русской женственности, которая сильнее всяких революций и переживет все невзгоды, террор, войны… Это многоточие должно включать и семидесятилетний исторический опыт, попытку уничтожения в ряду прочих духовных основ России и той самой женственности. Как это делалось? Посредством разрушения начала всех начал, патриархальной старорусской семьи как основы воспитательного и трудового процесса, и замена её общественно-воспитательными институтами: детсад, пионерлагеря, комсомол и прочая, прочая… В результате, началось широкомасштабное омужичивание «прекрасной половины». Женщин чуть не поголовно призывали туда, где ей искони не место, на всевозможные мужские работы: на трактор, к станку, на башенный кран, на железную дорогу укладывать шпалы, в боевой самолет, в окопы… Разве не кощунство гнать девочек на передовую, под огонь, когда в тылу столько мужиков околачивалось? Даже у немцев-фашистов такого измывательства над своими женщинами не наблюдалось, у них на передовой санитарок не было, только санитары. Всему этому сопротивлялась и сопротивляется природное естество русской женщины, и дай Бог быть пророком тому герою Владимира Набокова.
Несмотря ни на что в цене русские женщины. Западные гении, интеллектуалы, бизнесмены, многие из них мечтали иметь и имели русских жен, любовниц. А сколько их стало жемчужинами гаремов, пресыщенных ласками красавиц со всего света, восточных владык. С 20-х по 60-е с риском для жизни охотились на южных границах Союза за женами офицеров-пограничников, воровали женщин из посольств торговцы живым товаром – риск в случае удачи многократно окупался, за русских женщин всегда щедро платили на подпольных невольничьих «тотализатарах». А скольких их поувозили в свои экзотические страны «лумумбовские» и прочие иностранные студенты. В не меньшей цене русская женщина и среди неславянских народов Союза, особенно южных. Какой носатый джигит или раскосый батыр не хотел привести в свой дом русскую невесту, пусть даже против воли родственников. И это при всем при том, что большинство тех же нацменов, особенно на Кавказе и в Средней Азии, русских как народ ненавидели, видели в них источник всех своих бед. Почему, неужто все дело опять же в той неистребимой русской женственности? Но ведь как советская власть старалась, какой непосильной и грязной работы на них навалила и мужской и женской, и в очередях заставила безвылазно стоять, и мозоли у многих из них не только на руках, но и на ногах, от скверной отечественной обуви, и одеваться она их заставила кое-как, и ели они черти что… Нет, не должно выжить в таких скотских условиях такое хрупкое и утонченное качество как женственность. Разве что, ее как огонь в очаге должны были хранить жены и дочери тех, кто рулил всем процессом построения «счастливого коммунистического завтра». Может так бы и случилось, но…
Еще на заре становления, так называемого, пролетарского государства не поделили власть пришедшие к ней хамы. Хамы интеллигенты и хамы-плебеи имели одну цель – уничтожить ненавистный им уклад жизни старой России и установить свой. Но на жизнь они смотрели по-разному. И те и те считали себя вправе лакомиться от «госпирога», но интеллигенты мечтали произвести себя в новую аристократию и заменить собой прежнюю, дворянскую. То есть, вселиться во дворцы прежней знати, жить легко весело и красиво, одеть своих жен и любовниц в дорогие вечерние платья, усыпать их отнятыми у дворян драгоценностями, увешать стены своих домов шедеврами мировой живописи… А их менее или вовсе необразованные и не столь искушенные «союзники» изысканными гурманами в области получения удовольствий от жизни не были и не могли быть. Набить брюхо хорошей пищей, напиться в усмерть хорошим вином, напоить «соратников» до блевотины и потешаться над ними, поплясать под гармонь, вот некоторые из любимых удовольствий властьимущих хамов-плебеев. А драгоценности и шедевры они предпочитали за валюту продавать за границу. Тем не менее, хамы-плебеи оказались расторопнее хамов-интеллигентов, ибо они в большей степени соответствовали поэтической «характеристике» настоящего большевика: «гвозди бы делать из этих людей…». Плебеи не брезговали и «кровя пустить» своим бывшим соратникам. Не вдаваясь особо в словесные перепалки, плебеи просто перестреляли интеллигентов, кого прямо в Союзе, кого за границей достали. А их подруг, не состоявшихся королев балов и цариц новых аристократических салонов, вместо декольтированных платьев обрядили в лагерные телогрейки и не мешкая отправили на лесоповал. И пришлось им несчастным запоминать предсмертные послания и веления своих мужей и любовников. Дабы потом поведать всему миру, какими они были чистыми и хорошими в своих помыслах, и не просто власти жаждали, а хотели осчастливить все человечество. И тут же прокол, клянутся, что партии не изменяли… Нет выше авторитета! Что для них народ, родина, да и человечество? Все для них партия, давшая власть. Те женщины, очень надеялись, что запоминать эти душещипательные послания придется не на долго – не смогут плебеи, эти малограмотные недоучки долго властвовать, и тогда… И тогда они, еще относительно молодые, в расцвете красоты, и в ореоле вдов мучеников заблистают-таки на олимпе жизни.
Просчитались сердешные. Плебеи «держали взятое, да так, что кровь с под ногтей выступала»… не их, конечно, кровь. И властолюбцев-интеллигентов они так «вычистили», что остались одни плебеи и на место почивших опять же приходили более молодые плебеи, такие же малокультурные, не давшие себе труда даже научиться правильно говорить по-русски, но опять «державшие взятое, да так…». А к тому времени когда к власти пришел очередной «гыкающий» генсек, с куда более слабыми «ногтями» чем у предшественников, и обстановка в стране стала более демократичной, и были, наконец, опубликованы те «послания будущим руководителям партии», их хранительницам оставалось думать разве что о душе, а не о балах-маскарадах.
Плебеи «во дворянстве» оказались намного сметливее, чем о них думали, к тому же осознавая свою интеллектуальную ущербность, они в руководящей деятельности не гнушались пользоваться теориями, разработанными истребленными ими интеллигентами, выдавая их, конечно, за свои. А вот сибаритства, эстетизма своих бывших соратников они так и не переняли, не смогли и в последующих поколениях создать высокоинтеллектуального аристократического слоя. Соответственно их жены и дочери, даже навешав на себя бриллианты, оставались в основном хамками-плебейками и среди них хранительниц женственности вряд ли стоит искать.
Может быть для страны было бы лучше, если бы в той кровавой схватке «под ковром» победили хамы-интеллигенты? Кто знает. Только хам, он всегда хам в любом обличье, и в пенсне и в лаптях, а враги и у тех и у других одни и те же, и не только дворяне, духовенство, купцы и казачество. После уничтожения оных их первейшим врагом стал хозяйственный мужик-трудяга, умелец-ремесленник, совестливый интеллигент, одним словом все не хамы. Они им также были не нужны, как в общем и сам народ русский, как и другие народы со своими вековыми национальными традициями. Им нужны были рядовые солдаты трудовой армии, чтобы беспрекословно претворяли в жизнь «громадье планов». Они ведь вознамерились не только строить государство нового типа, но и создать новый народ, отбросив все старое как ненужный хлам. Таким же ненужным хламом в «творениях» хамов-интеллигентов представала и женственность… пушкинская, лермонтовская, тургеневская, толстовская, чеховская, бунинская… Крамского, Нестерова, Кустодиева… Для «преобразователей рода человеческого» и «инженеров человеческих душ», все это было без надобности, ибо в труд-армиях прежде всего нужны женщины-работницы, женщины-колхозницы… крановщицы, путеукладчицы, трактористки…
Многого достигли хамы-плебеи, выполняя программу начертанную хамами-интеллигентами, но вот с женственностью прокол вышел. Сохранилась проклятущая и передается как-то из поколение в поколение, ею веет от картин в галереях, со страниц книжных, иногда с театральных подмостков и киноэкранов. Кто бы мог подумать, что для ее искоренения мало замучить, запугать, закабалить на государственной барщине советских, в первую очередь русских женщин. Надо было и в театрах, и в кино только производственную тему разрешать, всех старых писателей запретить, оставить одних идеологически верных, все картины из галерей на корню за границу продать, оставить только о революционерах, сталеварах и колхозниках. А то ведь получается сплошная пропаганда мещанства, обывательщины, одним словом контры. Да, не доглядели здесь хамы-плбеи, а особо их последыши. Слишком увлеклись производственной стороной своей деятельности: ядерным оружием, космосом, перекрытием рек, экспортом коммунизма за рубеж, а свой-то народ и проморгали. Так и не смогли полноценных трудармий создать. Были бы рядом хамы-интеллигенты, они бы наверняка увидели, подсказали. Но, увы, их под корень вычистили еще в 30-х, а что в результате? Вот, к примеру, смотрит какой-нибудь неустойчивый советский человек в «Третьяковке» на ту же «Незнакомку» Крамского и восхищается. И восхищается не столько талантом и мастерством художника, сколько самой моделью, ее красотой… женственностью. Но разве та «незнакомка» похожа на советскую девушку, комсомолку, спортсменку… от станка или с трактора, или на тех славных революционных дев в кожанках и с маузерами на тощих бедрах, что не задумываясь «пускали в расход контру»? Ну, никакого классового сознания, ведь она явная буржуйка, с детства сладко евшая и мягко спавшая (внешность сама за себя говорит). А одета как, какая на ней шубка, шапочка? Разве может быть такой рядовая трудармии, советская женщина? Ну, а если посмотреть на ту же картину без «идеологических очков». Наверное, глядя на эту красотку уверенно восседающую в пролетке… Именно уверенно, без страха быть как-то униженной, или остаться без колбасы или теплых сапог в зиму, уже второе столетие взирающая на зрителей, сама-собой возникает ассоциация – счастливая. Счастливая? Да, но наверное об этом позаботился ее отец, что ее кормил, одевал, учил и надо думать, делал все, чтобы она не занималась нелегким трудом. Или муж, который её всем обеспечил, то есть настоящий глава семьи, по всей видимости представитель тогдашнего среднего класса (чиновник, интеллигент, мелкий помещик, купец средней руки…). То есть она из того класса, который в СССР фактически почти не существовал, который всегда и везде являлся основным двигателем прогресса, создававший большую часть духовных ценностей, шедевров.
Без исключений ничего не бывает. Почти нет, не означает, что совсем нет. Имелись и в Союзе, где официально существовали три социальные общности: рабочий класс, колхозное крестьянство и трудовая интеллигенция, а на самом деле всего лишь две – властьимущая партийная номенклатура и малоимущая остальная масса, получающая гарантированную пайку… Тем не менее, имелась в Союзе и незначительная прослойка или отдельные индивидуумы, которые пытались жить по-мещански, и во главу угла ставили благополучие своих семей. Не всегда это у них получалось, не всегда они ладили с законом. Среди окружающей массы истинных гомо-советикус они смотрелись как некий анахронизм. Массовому сознанию было уже трудно переварить тот факт, что советский человек, может, например, не только о безопасности государства беспокоиться, но и о благополучии собственной семьи, здоровье и внешности своей жены и детей. Как это можно свои собственные интересы совмещать с государственными, да еще при этом использовать свое служебное положение. А почему бы и нет? Ведь государство недодаёт, недоплачивает, то есть обманывает своих граждан. А если государство не обеспечивает благополучия большинства своих граждан и при этом ориентируется на идеи-химеры, проводит дорогостоящую внешнеполитическую экспансию, заигрывает с социально-близкими ему люмпен-пролетариатом и люмпен-интеллигенцией, а спокойные хозяйственные, работящие домовитые презрительно именуются мещанами и обывателями?…
15
Командир корпуса уезжал, не дождавшись обеда. Он испытывал определенный душевный дискомфорт. Нет, ему не было стыдно перед местными офицерами за легко доставшиеся «тяжелые» погоны и еще более «тяжелую» должность, за свою безоблачную, защищенную со всех сторон жизнь. Но что-то отдаленно похожее он все-таки испытывал. Пожимая на прощание руку Ратникову, он сказал:
– Дела в дивизионе, в общем, у вас Федор Петрович идут неплохо. По отзывам полкового командования, у вас и с состоянием техники, и с воинской дисциплиной по сравнению с другими подразделениями заметно лучше. Да я и сам это вижу. Учебный процесс у вас организован, ну а что касается инцидента на политзанятиях, то будем считать, что его не было. Ваши аргументы в этой связи довольно убедительны, хоть и не бесспорны. Правильно я говорю? – Агеев обратился к стоящему рядом командиру полка.
– Так точно, товарищ полковник, – поспешил отозваться Нефедов. Он уже «просек», что комкору Ратников «глянулся» и теперь тоже подстраивался под эту «волну».
– Но не все, не все у вас мне понравилось. И дело даже не в том, что большинство служебных и хозяйственных построек тут в аварийном состоянии. Это действительно не ваша вина, но извините, вы, как и другие офицеры дивизиона со всем этим смирились, у вас у всех тут какая-то апатия. Надо с большим оптимизмом смотреть на жизнь, тем более, что у вас такая замечательная жена, – не удержался-таки Агеев.
Комкор был доволен собой, он нашел мудрые воспитательные слова на прощание.
– Всего хорошего, до свидания Федор Петрович. Позовите, пожалуйста, начальника политотдела. Скажите, что я его жду, – Агеев взялся за ручку дверцы УАЗика.
Стрепетов уединился в канцелярии с Пырковым. Ратников приоткрыл дверь. Замполит кротко и смиренно выслушивал наставления большого шефа. Весь его вид свидетельствовал о готовности разбиться в лепешку, если последует соответствующий приказ.
– Товарищ полковник, вас командир корпуса ждет в машине, – передал Ратников просьбу Агеева.
– Сейчас иду… Так ты все понял, Пырков?
– Так точно!
– Ну, давай, работай!
Стрепетов встал со стула, поправил сбившуюся папаху, собираясь следовать к машине, а замполит суетливо выбежал в коридор, всем своим видом показывая, что немедленно начинает претворять в жизнь только что полученные инструкции. Оставшись наедине с начальником политотдела, Ратников вновь, как и ранее после проведения политзанятий вдруг решился – когда еще получиться вот так с глазу на глаз, поговорить с таким человеком как Стрепетов. Ему казалось, что мучавшими его в последнее время вопросами о росте межнациональной напряженности в стране в целом, и в армии в частности можно поделиться только с ним, умудренным, опытным политработником. Молодой комкор в таких делах, наверняка, некомпетентен.
– Товарищ полковник, вы можете уделить мне несколько минут?
Конечно, если бы Агеев не произвел такого мягко-либерального впечатления, как раз в новом «перестроечном» духе, Ратников вряд ли бы решился задерживать Стрепетова, зная, что того ждет комкор. Но Ратников решился, а Стрепетов не отверг его просьбу:
– Давай, что там у тебя?
Начальник политотдела думал, что вопрос Ратникова действительно дело нескольких минут, потому не стал вновь садиться и в упор, прямо (они были одного роста) смотрел в глаза подполковнику.
– Понимаете, дело в том, – Ратников отвел глаза, взгляд полковника ему мешал сосредоточиться.-… Я тут, сделал для себя несколько выводов и считаю необходимым поделиться с вами. По-моему это крайне важно…
– Ты опять про политзанятия? – Стрепетов «красноречиво» взглянул на часы.
– Никак нет, хотя то, что я говорил про политзанятия, имеет прямое отношение к тому, что я хочу сказать сейчас.
– Ну, так не тяни, ближе к делу, – нетерпеливо «подтолкнул» Стрепетов.
Однако Ратников медлил, подбирая слова, чтобы начать поскладнее.
«Что еще там у него за выводы, и чего это он так волнуется? – соображал тем временем Стрепетов, глядя на подполковника. – Может жену свою к Агееву приревновал? Ишь как у того глаза-то загорелись. Тоже мне, интеллигентишка, тихоня, а туда же, увидел сдобную бабенку и поплыл. Конечно, его-то бабу с этой не сравнить, зато чья дочь. Нет родной, так не бывает, чтобы и конфетку съесть и на … сесть».
О Ратникове главный политработник корпуса знал много всего. Благодаря регулярным и подробным докладам Пыркова, Стрепетов был в курсе почти всей деятельности командира дивизиона. Из тех докладов получалось, что Ратнитков превратил дивизион в нечто, напоминавшее его родовое поместье. Знал и что Ратников имеет общие «дела» с директором соседнего совхоза Землянским. За незаконное выделение солдат для совхозных работ в «горячую» пору, директор «подбрасывал» на дивизион и продукты и делал подарки, типа телевизора для солдат. Он даже выделил целое паханное поле, половину которого Ратников разделил между своими офицерами, а на второй сажал опять же солдатскими руками свою личную картошку. Стрепетов вполне мог санкционировать официальное расследование, но не делал этого. Более того, он велел Пыркову весь компромат на Ратникова докладывать только ему лично, и ни ставить в известность более никого, включая полковое командование. Пырков образцово выполнял этот приказ, «стучал» на своего командира через голову полковых политработников, надеясь, что Стрепетов не забудет его преданной службы. Благодаря тем скрупулезным докладам Стрепетов оказался в курсе даже мелочей, типа наличия в квартире Ратниковых запрещенного крана в батарее и про «право сильного» которым пользуется Анна при дележе дефицитных товаров. Потому сегодня полковник с усмешкой следил за «маневрами» подполковника во время посещения офицерских квартир. Стрепетов не сомневался, что видит Ратникова насквозь, хотя…
Более всего Стрепетов удивился, что никто из офицеров и их жен по-настоящему не пожаловались на командира дивизиона. Одним страхом перед ним этого объяснить было нельзя. Что-то имело место еще, невидимое, скрытое. На лицо же был вполне жизнеспособный дивизион. Стрепетов на протяжении уже многих лет имел возможность сравнивать и видел, что этот «помещик» значительно лучше справляется со своими обязанностями, чем большинство прочих командиров отдельных «точек», и главное, он каким-то чудом, или нюхом умел избегать ЧП. Другие дивизионы, коих в корпусе насчитывалось несколько десятков, с регулярной периодичностью выдавали «на гора» эти самые ЧП: всевозможные «неуставняки», то есть избиение «молодых» «старослужащими», самоволки, дезертирство, самострелы… Таких «чистых» подразделений как у Ратникова в корпусе насчитывались единицы. Потому Стрепетов, принимая к сведению агентурные данные Пыркова, ходу им не давал. Федор Петрович, конечно, догадывался, что замполит на него «стучит», по должности положено, и не мог не удивляться, что данный «стук» не имеет никаких последствий, хоть грехов у него хватало. И сейчас зайдя в канцелярию, он прервал очередной донос замполита, а то, что он успел увидеть, было всего лишь спектаклем, наскоро разыгранным для него политработниками.
Нужные слова, однако, подбирались трудно и Ратников начал излагать довольно коряво и неубедительно:
– ЭЭЭ… товарищ полковник… мне кажется, что межнациональные отношения приобретают… эээ, все большее значение.
– Это не новость, – снисходительно усмехнулся полковник.
– Нет, я не то хотел вам… У нас сейчас все считают, что главная опасность в вооруженных силах это неуставные взаимоотношения между солдатами разных призывов, и за этим многого не замечают. А я вот вижу, что по мере увеличения в казарме процента лиц неславянских национальностей на первое место выходят именно национальные противоречия. И те же неуставные взаимоотношения все более начинают приобретать национальную основу, – Ратников несколько успокоился, и мысли стали легче воплощаться в слова.
– И что же ты от меня хочешь? Борись с этими проявлениями, – Стрепетов не мог определить куда «клонит» Ратников.
– Дело в том, что «болезнь» эта настолько запущена, что с ней надо бороться не в масштабе дивизиона, и даже не в масштабах корпуса, а в масштабах всех Вооруженных Сил. Может быть, даже в масштабах всей страны. Если вовремя не принять мер ситуация вполне может выйти из под контроля и привести к тяжелым последствием.
– Ну, ты как лектор заговорил. Давай по военному, конкретно. У тебя что-то случилось? – в лоб спросил полковник.
– Да у меня наметились некоторые нехорошие тенденции, и я уверен, они есть едва ли не во всех частях и подразделениях.
– Что именно? – продолжал требовать ясности Стрепетов.
– Как я уже говорил, сложившееся деление солдат по призывам уходит в прошлое, сейчас все заметнее становится деление по региональному и национальному признаку. Особенно в этом плане выделяются солдаты кавказских национальностей. Они создают, что-то вроде обособленных группировок и независимо от призыва стоят друг за друга, держаться вместе. Остальные пока еще разрозненны и делятся по старому по призывам, но думаю испытывая все большее давление со стороны сплоченных кавказцев и другие будут вынуждены, прежде всего, объединяться по национальному признаку. И вот тогда вполне может случиться страшное ЧП, перед которым померкнут нынешние неуставные взаимоотношения, – акцентировал последние слова Ратников.
– Интересное кино… – Стрепетов снял папаху и тяжело вздохнув, опустился на заскрипевший под ним стул. Он, наконец, уловил рациональное зерно в рассуждениях Ратникова. Аббревиатура ЧП всегда его напрягала, и сейчас услышав это буквосочетание, полковник понял, что скоротечного разговора не получится.
– Тут проявилась еще одна крайне нежелательная тенденция. Пользуясь своей спаянностью и взаимопомощью, кавказцы, за редким исключением, даже молодые, начинают вести себя как некое привилегированное сословие, всячески избегают грязной работы, ищут «теплых» мест службы. Это не может не вызвать раздражения остальных, и наверняка спровоцирует организацию других национальных группировок, славянских, среднеазиатских и так далее. Если казармой разделенной по призывам еще можно управлять, то разделенной по этническому признаку – будет невозможно. Но мы идем именно к этому, – убежденно резюмировал Ратников.
Стрепетов поморщился, словно от вкуса кислого яблока:
– Что же все-таки конкретно у тебя случилось?
– Дело в том, что росту межнациональной напряженности в казарме способствуют взгляды и поступки отдельных офицеров. Помните, мой замполит докладывал о старшем лейтенанте Малышеве, и уже потом политотдел полка переправил эту информацию к вам в корпус… Ну, вы еще сегодня сами упоминали, что у нас не все в порядке во взаимоотношениях солдат и офицеров, – Ратников решил, что уже достаточно «подготовил почву» и теперь можно выложить всю правду.
– Это тот инцидент между твоим офицером наведения и этим… как его… каптером?
– Так точно. Но там было кое что и кроме того, что вам доложили.
– Я так и думал. Когда мне доложили, что офицер обматерил солдата, я даже засмеялся. Я сам шофера своего каждые полчаса матерю. А тут как происшествие доложили, – полковник на этот раз уже невесело улыбнулся и тяжело оперся локтями о стол.
В дверь постучали. Опять позвали начальника политотдела в машину.
– Скажи минут через десять-пятнадцать, – отмахнулся Стрепетов.
Ратников удивленно посмотрел на полковника: как-никак сам комкор торопит.
– Чего ты на меня уставился. Он еще «сынок», обождет. А мне, как и тебе терять уже нечего, до пенсии как-нибудь дослужить и все, – в несколько необычной форме пояснил свое поведение полковник. В то же время про себя Стрепетов домыслил: «Хотя тебе, пожалуй, есть что, ты в этой дырюге лучше, чем иные в больших штабах устроился». Вслух же вновь подогнал. – Не отвлекайся, говори напрямую все, что там стряслось.
– Малышев вмешался, когда этот каптер, Гасымов, хвастал молодым лейтенантам, как они в Азербайджане деньги «делают» и над офицерами смеялся, что нищие и жизнь на «точках» гробят, – начал пояснять случившееся Ратников.
– Так, ну а он?
– Ну, он его и… дело в том, что Малышев имеет разряд по боксу.
– По морде врезал? – догадался Стрепетов.
– Так точно, – подтвердил Ратников.
– И правильно сделал, – совсем не характерно для политработника да еще такого высокого ранга высказался Стрепетов. – А он этот Малышев… что он за человек?
– Да, знаете, если бы не его шовинистические настроения, хоть к награде представляй. Отличный офицер наведения и комсомолец активный… ну и спортсмен хороший, – принялся расхваливать Николая Ратников, беззастенчиво преувеличивая его достоинства, кроме последнего. Что касается комсомола, то Николай разве что взносы платил исправно, и офицеры наведения в полку имелись поискусней и поопытней. Но Ратников решил представить его как молодого-перспективного, которого можно и простить.
– А я его помню. Он такой коренастый, приезжал от вашего полка на соревнования по офицерскому троеборью. Я ему диплом и кубок вручал… Помню-помню, крепкий парень, – на лице Стрепетова отобразился процесс припоминания.
– Так точно это он. Из него хороший командир может получиться, если более терпим будет. Но кавказцев он совсем не переносит.
– А он сам-то родом откуда?
– Ростовский.
– А может он просто завидует, что бакинские и тбилисские аферисты больше ростовских воруют? Ха-ха… Там ведь у них тоже вор на воре, Ростов-то я знаю, – вдруг развеселился полковник. – Ладно, это шутка. А что тот каптер, не сильно пострадал?
– Да нет, неделю с синяком под глазом походил.
– Ну, вы ребята молодцы, а наверх, значит, липу подали, да еще такую неправдоподобную. Как маленькие, ей Богу. В таких случаях вообще молчат, а не сказки сочиняют… А насчет твоих выводов… Что же ты все-таки предлагаешь? – вернулся к основной линии разговора Стрепетов.
16
Агеев терпеливо ждал своего начальника политотдела, прохаживаясь возле машины, время от времени обращался с каким-нибудь вопросом к почтительно стоящим рядом Нефедову, Кулагину, Боярчуку, поглядывал на часы. Но посылать вновь, напоминать Стрепетову, торопить его, он больше не стал…
– Не сочтите меня за хвастуна, но у себя в дивизионе я справлюсь, и Малышева в рамки поставлю и джигитов наравне со всеми полы мыть и сортир чистить заставлю. А вот чтобы предотвратить взрыв в масштабе страны, который если пустить все на самотек, вполне возможен, вот тут я не уверен, что его смогут предотвратить те, кто за страну отвечает. Для этого нужно пересмотреть всю воспитательную работу по межнациональной терпимости. Причем именно внутри страны, а не вообще, как у нас любят говорить, в мировом масштабе, – уточнил Ратников.
– А ты, что телевизор не смотришь, газет не читаешь? Работа эта и без твоих подсказок ведется. Руководство страны и партии перестраивается, вся страна перестраивается, – укоризненно заметил Стрепетов.
– Это совсем не то, – досадливо нахмурился Ратников. – Вся эта работа как раньше, так и сейчас направлена в основном в сферу международных, межгосударственных отношений, или касается чисто экономических программ. По-прежнему талдычат только и мире и дружбе с зарубежными народами, а у нас такового нет меж своими, внутри Союза. Твердят о помощи обездоленным и всяким революционерам где-нибудь в Африке и Латинской Америке, а ведь нам, прежде всего, о своих людях думать надо, у нас и своих обездоленных предостаточно, а в магазинах сами видели ни мяса, ни масла. В Сибири, говорят, в отдельных местах вообще голод, и в Средней Азии тоже…
– Эт верно… С войной этой, с Афганом наши главковерхи пролетели сильно, вот потому и пояса затянуть приходиться. Да вот только причины этой нашей нищеты не столь однозначны. Если бы в Средней Азии по-стольку не рожали, они бы в такую нищету не впали. Где ж это виданно, чтобы по десять человек детей в семье кормить. А вот на той же Украине относительно неплохо живут, и в Белоруссии, и в Прибалтике. Да ведь и каптер твой не врал, когда про жизнь свою кавказскую хвастал. Они там тоже не бедствуют. Слыхал, небось, статистику, в Тбилиси на одну тысячу жителей личных машин приходиться больше даже чем в Москве. А ты говоришь. А вот Россию-матушку, это верно, до ручки довели, – Стрепетов раздраженно отодвинул красный блокнот, лежавший на столе.
– Так оно так, товарищ полковник. Это мы русские так рассуждаем, зажрались нацмены, разбаловались, дескать, все у России на шее сидят и еще недовольны. А если поставить себя на их место, то и у них найдется, я думаю, немало поводов так же во всех бедах русских, Россию обвинить, – осторожно внес реплику Ратников.
– Хм… А ведь пожалуй ты прав, с разных чердаков одно и то же по разному видится, – неожиданно легко согласился Стрепетов.
– Вот и я о том, – с готовностью подхватил Ратников. – Живем-то мы большинство средних людей примерно одинаково, тем не менее, в нашей стране каждый народ, опять же в массе своей уверен, что другие нации за его счет живут. Прибалты уверены, что их Россия объедает, русские уверены, что у всех евреев под кроватями мешки с деньгами спрятаны, а на Кавказе вообще у всех по две машины и зубы сплошь золотые. А те же азербайджанцы наверняка уверены, что если бы имели возможность сами своей нефтью распоряжаться, жили бы как в арабских нефтедобывающих странах…
– Ну, это вряд ли, – перебил Стрепетов. К тому времени, когда нефть в цену вошла и доллары к арабам миллиардами потекли, в Азербайджане большую часть нефти уже выкачали.
– Да не важно, нефть, газ, или хлопок, не Азербайджан, так Узбекистан или Туркмения, но когда все происходит без соответствующих разъяснений со стороны государство сами собой рождаются слухи, домыслы и взаимная неприязнь, – продолжал доводить свои соображения Ратников.
– Ты что, меня просветить хочешь? Так я все это и без тебя знаю, – начал уже проявлять нетерпение и полковник. – Ты что собираешься в Политбюро петицию послать? Не советую, сам же и пострадаешь.
– Нет, товарищ полковник, вы меня сначала выслушайте, а предложения будут потом. Руководство страны вроде бы что-то делает, но все это на уровне деклараций, газетных статей. Но толку мало. Мы давно уже не живем как добрые соседи. Сейчас трудно сказать какой народ выиграл от нашего государственного устройства. Кто-то считает, что кавказцы, другие, что евреи, третьи, что русские, а на поверку, я в этом не сомневаюсь, все в проигрыше, все бедные, не получилось у нас коммунизма. Вся разница лишь в том, что некоторые еще беднее бедных…
Стрепетов внимательно слушал и даже не повел бровью, когда Ратников констатировал крах курса на построение коммунизма в стране.
– … И тут уже ни о каком едином советском народе не может идти речи, когда за едой и одеждой приходиться с пяти утра очереди занимать и полдня стоять. Даже между русскими и украинцами наблюдаются трения, а вроде что делить – одной матери дети, кровные братья. А наше руководство, будто ничего этого не видит, наоборот, только масла в огонь подливают своими непродуманными действиями. Вон кого только в космос не возили и француза, и индийца, не говоря уж о представителях соцстран, даже монгол слетал. А про своих, грузин, армян, прибалтов, узбеков и других забыли. Неужто, так трудно понять, что это их очень обижает. Потому может быть кавказцы и ведут себя так вызывающе, дескать, мы в другом свое возьмем, так будем воровать, что богаче всех в вашем Союзе жить станем. И прочие по-своему реагируют на каждое такое или подобное притеснение или пренебрежение к их нациям. У вас в Алма-Ате в республиканский университет славянину или какому-нибудь местному не казаху легко поступить? – задал вопрос Ратников.
– Да, есть такое. Не то чтобы совсем невозможно, но препоны ставят. У нас в управлении дети некоторых офицеров поступали, многих валили самым бессовестным образом. Экзаменаторы, особенно на гуманитарных факультетах почти сплошь казахи, – без видимого возмущения признал Стрепетов. И тут же поведал причину своей бесстрастности. – А мы вот с женой рисковать не стали, в позапрошлом году я сына к себе на родину в Серпухов отправил, а родственники уже в самой Москве репетиторов наняли… натаскали, поступил.
– А в России, наверное, тому же нацмену никак не поступить, – предположил Ратников.
– Ну, уж нет, – сделал несогласный жест полковник. – Они в те же центральные ВУЗы по национальным разнарядкам поступают на забронированные места. Не все конечно, но кого отсюда по блату отрядят… Ну, я тебя понял, ты хочешь сказать, что все, что в республиках сейчас твориться, это отголоски непродуманной национальной политики Центра?
– В общем да. Главная ошибка, я думаю, что там не учитывают специфику каждого отдельного народа, гребут под общую гребенку и чрезмерно публично расхваливают достоинства того или иного народа. И такие они свободолюбивые, гордые и так далее и тому подобное. А ведь каждый народ имеет не только достоинства, но и свои специфические недостатки. А эти недостатки почему-то не то, что не изучали, их вообще не замечают, не учитывают. Ведь не все так же легко притираются друг к другу. Некоторые так похожи, что и не отличить, и не только русские с украинцами и белорусами. Вон русского от мордвина или чуваша не различишь, фактически все у них одинаково, даже имена и фамилии. А вот с некоторыми… ну я бы сказал ничего общего. Мне вот недавно в руки попала книжка «Детские сказки чеченцев и ингушей». Прочитал, так у меня чуть волосы дыбом не встали от этих детских сказок. Там почти в каждый главный герой совершает убийство и отрезает голову своего врага. А они ведь на этих сказках детей своих воспитывают. Почему на это никто ни какого внимания обратить не удосужился, даже такую книгу огромным тиражом выпустить разрешили. Почему все это не изживается, а просто замалчивается. Так же как у нас у русских не осуждаются пьяницы и Емели-дураки, которые сидят на печи и ничего не делают, а в конце концов оказываются удачливее и счастливее всех. Я уверен с этого надо начинать и заниматься на самом верху… – пытался достучаться до Стрепетова подполковник.
– Ну, это все… – начал, было, полковник, но тут же замолк. – Ладно, а от меня-то чего ты хочешь? – Стрепетов равнодушно улыбнулся и вновь «красноречиво» посмотрел на свои японские часы «Сейку», привезенные им из заграничной командировки. Когда-то они производили фурор, но успели уже выйти из моды, и сейчас смотрелись чрезмерно громоздкими.
– Я лучше скажу, чего я не хочу, – Ратников стоял напротив сидящего полковника и, встретившись с ним взглядом, уже не отводил глаз. – Я не хочу, чтобы на мою старость пришлось время какой-нибудь большой заварухи, нестабильности сопровождающейся межнациональными столкновениями, не хочу, чтобы мой сын получил нож в спину от какого-нибудь спятившего фанатика-нацмена, а жена или дочь были изнасилованы, оказавшись где-нибудь на юге. Конечно, и зарезать и изнасиловать везде могут, но ведь не секрет, что чаще всего это на юге случается. А теперь чего я хочу. Хочу всего лишь, чтобы наша страна оставалась по-прежнему единой и могучей, но не такой бедной, хочу, чтобы между народами Союза стало меньше противоречий. Ведь за те столетия совместного проживания что-то и общее у нас у всех появилось и я надеюсь того, что нас объединяет, больше того, что разъединяет. А для этого, я думаю, надо обязательно скорректировать нашу внутреннюю национальную политику. Поэтому если бы вы, хотя бы передали наш разговор в общих чертах по своей линии в высшие политические инстанции, это возможно возымело бы определенное действие. Если надо, я могу изложить свое мнение письменно, более аргументировано.
Стрепетов по-прежнему был спокойно-равнодушен. Он даже слегка развалился на стуле… «Иш ты деловой, и меня хочет в свою авантюру втянуть. Эх ты, простота пошехонская», – думал полковник с чувством превосходства. Он не удивлялся наивности Ратникова, его вере в то, что к его «голосу» прислушаются там в Кремле, так же и к его искренней тревоге за будущее. У Стрепетова имелась своя доминанта, картина мира им самим выстроенная в сознании. Согласно ей все люди делятся вовсе не по национальностям, а на три группы, образно говоря, едут по жизни в вагонах трех классов. В третьем классе подавляющее большинство, рабочие, крестьяне, учителя, врачи, мелкие и средние руководители. Разница меж ними лишь в одном, кто-то ближе, а кто-то дальше сидит от «окна». В третьем классе едут тяжело, скучно, грязно, питаются плохо, едут в общем жестком вагоне, одним словом мучаются, кто меньше, кто больше. И те кто «протолкался» к окну на сидячие места, и те кто ютятся под лавками, толпятся в проходах, мало чем друг от друга отличаются и могут в процессе «поездки» меняться местами, или подсаживать на лучшие места своих детей. В офицерской иерархии в третьем классе едут все, вплоть до полковников. Таким образом, Стрепетов отводил самому себе весьма скромное место, у «окна» третьего класса. Вагон второго класса – это уже на порядок выше, своего рода мягкий, классный вагон. В нем размещаются: номенклатура областного звена, высокопоставленная интеллигенция, высшая артистическая богема, генералы, вплоть до генерал-полковников. Во втором классе уже «едет» не быдло, здесь просторно, вольготно, сытно кормят, здесь получаешь определенное удовольствие от жизни. Ну, и первый класс – это «пульман», в котором едут небожители, высшее руководство страны, руководство армии, экономики, культуры. Их воля священна, их слово – закон. Из вагона в вагон перейти крайне трудно, как вверх, так и вниз. Массовое смешение пассажиров из различных классов может произойти только при «крушении». Такое крушение имело место, когда пошел под откос поезд под названием «Российская империя».
Стрепетов всю свою жизнь посвятил прорыву во второй класс, и вот теперь он со всей беспощадной очевидностью осознал крах надежд, выпестованных в думах, мечтах и снах. Это, в первую очередь и предопределило его недоброжелательность в отношении Агеева, счастливчика, не приложившего почти никаких усилий, даже не осознающего, что только благодаря своей женитьбе он «автоматом» попал в этот вожделенный второй класс. Обида снедала Стрепетова, но он осознавал, что ничего не изменить – ему и его детям сидеть там, где они и есть, у окна 3-го класса.
Примерно та же ситуация, по мнению Стрепетова, существовала во всем мире, с той лишь разницей, что условия «езды» в вагонах одинаковых классов могли отличаться, в более богатых странах условия в третьем классе заметно лучше, чем в бедных. Ну и в странах капитала места пассажиров определяются не столько должностями и званиями, сколько размером капитала, которым они владеют. Общее же то, что первый класс везде самый маленький – небожителей много быть не может. Иного устройства жизни Константин Сергеевич Стрепетов не мыслил, считая, что ни идеология, ни национальность, ни вероисповедание не имеют никакого решающего значения. Стрепетова совершенно не трогали доводы и выводы Ратникова, он не сомневался, что до его увольнения в запас обстановка в стране останется незыблемо-спокойной, а потом у себя в Серпухове он будет отдален от всех этих буйных нацменов тысячами километров. А если и случиться в какой-то форме то, на что намекает этот подполковник, то пусть за все счастливчики из второго класса отвечают. Не все же задарма безгербецидные пайки жрать, да на должностных дачах в соляриях нежиться. Может, кто из них и в клоаку третьего класса кувыркнется. Ему это только в радость. Что касается первого класса, то здесь Стрепетов не сомневался – этих ничто не пошатнет, разве что крушение. Но такового он в ближайшие тридцать лет не прогнозировал. Если уж цари и их приближенные несколько столетий продержались в первом классе, то уж эти как минимум столетие продержаться тоже должны.
Стрепетов не спорил, но про себя смеялся над теми, кто в досужих разговорах называл руководителей страны тупыми, недалекими, маразматиками. Нет, все из первого класса для него были гениями, ибо владели высшей ценностью, когда либо существовавшей на Земле – властью над прочими людьми. А чтобы стать ее обладателем, не получить по наследству, а добиться, пробившись из вагона второго, а то и третьего класса, разве для этого не нужен ум, воля, изобретательность, твердость, терпение, изворотливость… мужество, наконец. Они сумели проявить все эти качества, пробиться в первый класс, к «рулю» и потому они имели право уже у «руля»… Нет, не расслабиться, иначе вырвут, оттолкнут, а просто потешить себя за труды, побаловаться, поозоровать. Ох, и терпеливы пассажиры советского поезда, такие терпели «виражи», что власть закладывала, и коллективизацию, и всякие дурацкие налоги и запреты, теперь вон и «афган» терпят. А вот «вираж» с кукурузой у Хрущева не получился – моментом руль рядом стоящие вырвали. Впрочем, это же свои, и вовсе не от народного возмущения. Быдло, как задыхалось в своем третьем классе, так и задыхается. Нет, не маразматики едут первом классе, там люди необыкновенные…
17
Немного помолчав, после того как Ратников кончил говорить, и вроде бы размышляя над услышанным, а на самом деле обдумывая, как бы ответить одновременно и убедительно и не отступая, от так называемой, генеральной линии партии и правительства, Стрепетов начал излагать:
– Ты все сильно преувеличиваешь и вообще не о том думаешь. Межнациональные трения они были, есть и будут. Но это не значит, что они могут поколебать основы государства.
– Да поймите же вы, это еще лет десять-пятнадцать назад так можно было рассуждать. Тогда еще русских и прочих славян было так много в сравнении с остальными, что эти противоречия действительно мало что значили. А сейчас, посмотрите, тот же состав призывной молодежи, он совсем не тот, что раньше и дальше крен в сторону увеличения числа призывников с юга будет еще более возрастать. Это же очевидно, на севере страны рождаемость резко падает, на юге остается по-прежнему высокой, то что раньше казалось ручейком неприязни, завтра превратиться в поток ненависти, – с явным волнением втолковывал свое Ратников.
– Не ломай себе голову над вопросами, за которые ты не отвечаешь. Нам с тобой сейчас прежде всего надо думать, как до увольнения в запас дотянуть, и там на гражданке устроиться. А о глобальном пусть там думают, – полковник ткнул пальцем в потолок. – У них возможностей что-то изменить побольше нашего. Ты лучше своими делами занимайся, а мысли о спасении державы брось, в них там никто не нуждается. Они туда, в ЦК и Политбюро не для того пробивались, чтобы кто-то снизу им что-то подсказывал. Они этого очень не любят, поверь мне. Более того эффект получится обратный – себе и семье своей жизнь испортишь, и более ничего. – Стрепетов посмотрел на подполковника и удовлетворенно отметил, что, кажется, заставил того задуматься и поостеречься от опрометчивых поступков. – Ну ладно бывай, пойду, а то и в самом деле юный комкор разобидится, вон сколько ждать заставили…
Стрепетов объяснил Агееву столь длительную задержку важностью инструкций ГЛАВПУРа по предупреждению неуставных взаимоотношений, которые он доводил до командира дивизиона.
Проводив начальство, Ратников вернулся в канцелярию, сел на свой стул, еще хранивший тепло после Стрепетова, бессильно опустил руки и понурил голову. Сейчас он завидовал фаталистам: легко жить в уверенности, что все образуется само собой, а ты лишь «переставляй ноги», идучи в толпе куда-то, к чему-то… К чему? Не все ли равно, там наверху знают, раз взялись управлять. Вот и Стрепетов, похоже, такой фаталист. А что если и выше, на самом верху… тоже фаталисты, тоже думают, что все само собой, как-нибудь…
– Ну, как Федор Петрович, вроде на этот раз отстрелялись? – источая оптимизм, в канцелярии появился замполит.
– Может быть, – устало-равнодушно ответил Ратников.
– Да, не те стали сейчас начальнички, побаиваются после «Указа», даже на обед не остались. Года бы два назад… Помните?
Ратников, конечно, помнил. Тогда каждый приезд всевозможных комиссий и проверяющих любого ранга завершался обязательным испытанием «зеленым змием» на прочность как проверяемых, так и проверяющих. Ратников тоже был вынужден пить. В брежневские времена много значили такие «достоинства» как: уметь много пить и не пьянеть, поддержать компанию непринужденным застольным разговором с анекдотами. За 60-е – 70-е годы в большие начальники (и не только в армейские) выбилось много особей обладающие именно этими специфическими «талантами», и подчиненных они часто оценивали по тем же «критериям». Ратников тоже не отказывался от подобных «приемов», но к сивухе страсти не питал и горбачевский «Указ о борьбе с пьянством и алкоголизмом» перенес безболезненно. Анна, конечно, была не в восторге от приходящего домой навеселе мужа, хотя он никогда и не напивался до скотского состояния, знал меру и вообще хорошо «держал удар Бахуса». Тем не менее, дома на этой почве нередко возникали размолвки, и самым тяжелым обвинением, которое в запале бросала Анна мужу, был укор в слабой от рождения дочери. Дескать, когда ты не пил родился здоровый Игорь, а как стал прикладываться – болезненная Люда. Ратников оправдывался как мог, объяснял, что если бы не пил с начальством как все, то это вызвало бы подозрения. Анна, когда остывала, осознавала справедливость доводов мужа, как и того, что в слабом здоровье дочери есть, наверное, доля и ее вины – дерганой и нервной стала она после нескольких лет «точечной» жизни.
– А вы здорово корпусных с политзанятиями приструнили. Они потом и проверять-то нас как-то с опаской стали, почти никуда и не лезли, ни с бойцами, ни с офицерами даже не побеседовали… Я, вообще-то и сам над этим подумывал, насчет политзанятий. Действительно, устарели эти лекции, – без умолку тараторил явно довольный замполит.
«Думать-то думал, а рта не раскрыл, хамелеон ползучий», – неприязненно подумал подполковник.
Дневальный прокричал построение на обед, в дверь канцелярии постучали, вошел дежурный.
Товарищ подполковник, повар спрашивает, куда девать те порции, которые для проверяющих приготовили?
– Пусть офицерам-холостякам отдаст…
Домой на обед Ратников пришел уже несколько «отойдя» и от треволнений, и от размышлений, но взглянув на жену, сразу нахмурился и нарочито грубо сказал:
– Есть давай.
– Ты это чего такой грозный пришел? – Анна подозрительно сощурилась.
– Да так, имеется причина, – не захотел при детях начинать разговор о произошедшем в магазине Ратников.
Сели за стол. Игорь тут же был прогнан матерью мыть руки. Люда как всегда ела вяло и оставила в тарелке почти всю капусту от борща. Игорь быстро уплел все, что перед ним стояло, и первым выскочил из-за стола, запустил в своей комнате кассетный магнитофон. Квартиру наполнил высокий пронзительный голос Андерса и низкий глухой Болена.
– Что получил-то сегодня? – вдогон через комнату спросил Ратников.
– По физике как всегда, – донеслось сквозь музыкальное сопровождение, что означало «отлично».
– А ты доча? – не забыл на этот раз Ратников и про Люду.
– Мы сегодня контрольную по алгебре писали, – с печалью в голосе поведала дочь.
– Ну и как?
– Не знаю, еще не проверили, – Люда отвела глаза, в которых читалась явная неуверенность в возможности получения хорошей оценки.
– Как у тебя все закончилось? – спросила Анна, как только они остались на кухне одни.
– Вроде нормально. Оргвыводов, похоже, не будет.
– Значит «новому» понравился дивизион?
– Дивизион? Не уверен, а вот ты понравилась, это точно, – как будто с осуждением сказал Ратников. – Я тебя сам едва узнал. Ну, прямо королева за прилавком.
– Скажешь тоже, – слегка зарделась польщенная Анна.
– Одеться и не так вызывающе могла бы, – вновь выразил недовольство Ратников.
– Бог с тобой, что я такого надела-то, только халат новый да платок.
– Халат уж больно тебя облегал, и сапоги… Нарочно, что ли не до конца застегнула, или не смогла?… Во, как для молодого полковника старалась. Я, значит, кормлю, одеваю, а смотрят другие, – пытался как можно строже говорить Ратников, но не мог унять, скрыть веселые смешинки в глазах. – Смотри, разозлишь, и сама той портупеи отведаешь, которой Игоря лупишь.
– Ах, как страшно. Наконец-то и ты увидел, что жена у тебя не уродина и еще не совсем старуха. Но для этого потребовалось, чтобы кто-то посторонний это заметил, – в унисон мужу заговорила Анна.
– Да уж. Только не мне, а тебе полковник скорее глаза-то открыл. Я же всегда говорил, что ты смотришься на все сто, а ты все старею, да толстею, на диету надо садиться. Вон как глазел, не иначе влюбился. А ты-то как, случайно не того? – подначил Ратников.
– Перестань ерунду нести, – не поддержала на этот раз «направление» разговора Анна. – Разве ему с тобой сравниться, хоть он и без пяти минут генерал. Его бы сюда, на твое место, наверное, за месяц все бы развалил, – без тени угодничества, на полном серьезе говорила Анна.
– Не знаю, надо попробовать поменяться с ним должностями, – усмехнулся Ратников.
– Никакого особого впечатления он не произвел. Так мальчик какой-то. Удивительно, как он, на вид такой слабохарактерный, так быстро до генерал-лейтенантской должности дошел. «Лапа», наверное, и в самом деле очень сильная у него. Стрпетов вон какой хват, и то, наверное, в тридцать пять, ни на должности генеральской, ни полковником не был.
– У мальчика этого такие толкачи, а Стрепетов безродный, вроде нас, просто повезло чуть больше. Слава Богу, Агеев этот пока еще своей интеллигентности не утратил, слушать не разучился, не горлопан. Но, думаю, со временем это у него пройдет, когда во вкус войдет. Тогда уж таких вот проверок как сегодня, бескровных, не будет, – грустно предположил подполковник.
Супруги вместе мыли посуду, стоя у раковины и как бы невзначай, но нарочно задевая друг друга.
– Тише ты, разыгрался, – взывала к благоразумию мужа Анна, но сама при этом не прекращала попыток затолкать его в угол, за рукомойник.
– Сама первая начала, – уперся на месте Ратников, изредка, осторожно «контратакуя».
– Я же не сильно, а ты вон как, – продолжала наваливаться Анна.
– Ничего себе не сильно, – не уступал Ратнков, в то же время с улыбкой одной рукой страховал жену, чтобы она случайно не оступилась, – ведь твоим бедрышком ГАЗ-66-й толкать можно.
Анна прекратила безуспешную борьбу и переведя дух укоризненно посмотрела на мужа:
– Господи, ну ляпнешь, так ляпнешь, хоть стой, хоть падай. Сколько я тебя учила, книжки читать заставляла, до подполковника вон дослужился, а комплименты как не умел говорить, так и не научился – лапоть деревенский.
– Лапоть говоришь… а я может быть этому комплименту у Лермонтова научился. Помнишь его стихотворение:
Люблю Дидро, ума ведро, Но еще более Дидра, Люблю изгиб ее бедра.– Это не стихотворение, а скорее какая-то импровизация, – возразила Анна.
– Ну, вот и я тоже по-своему сымпровизировал, – засмеялся Ратников.
– Да уж, ты еще тот импровизатор, мужланская грубость и что-то напоминающее нежность в одном флаконе. Только при чем здесь Лермонтов, не вижу связи.
– Ну, куда уж нам, мы же не полковники и не комкоры, – опять с напускной обидой отвечал Ратников.
Анна отложила тряпку, вытерла руки, обняла мужа.
– Да что ты все про него? Ты же знаешь, мне кроме тебя никто не нужен, – она потянулась к нему губами…
– А что говорила… – Ратников стер со своих губ остатки помады, что Анна нанесла себе еще утром, когда готовилась к «встрече» комкора, и в свою очередь с силой притянул к себе жену.
– Мало ли что я говорю… А может мне нравится, что в том флаконе… Ты мне лучше расскажи о чем вы там еще говорили, – Анна красноречиво покосившись в направлении комнат где притихли дети, мягко высвободилась из объятий мужа.
Ратников хоть был и не прочь еще некоторое время ощущать «изгиб ее бедра», тем не менее подчинился и стал удовлетворять любопытство жены:
– Он еще спрашивал, часто ли у нас тут разводятся?
– А ты что?
– Я как есть сказал. А он тут же всех здешних женщин в декабристки произвел. Странный какой-то полковник.
– Не вижу ничего странного. Он из совсем иного мира, и наша жизнь ему просто дикой показалась, – высказала свое мнение Анна.
– Ну, так уж и дикой. Он что в другой Армии служил, или в другой стране жил? – возразил Ратников.
– Не в этом дело. Просто такие люди в другой атмосфере с детства воспитываются, в других квартирах живут, их родители не по дырам, а по столицам и заграницам служат. Детьми они в Артэке отдыхали, регулярно Большой, Ленком, Мариинку и прочие лучшие театры посещают, имеют такой же круг общения. И в санатории в бархатный сезон ездят. Помнишь, что тебе в «Жемчужине» старик-ветеран говорил?…. Потому он наверняка ужаснулся всему, что увидел у нас на «точке». Он, возможно, даже не знает, что большая часть страны живет еще хуже, а в нашей жизни тоже могут быть свои прелести, – вдруг сделала совершенно неожиданный вывод Анна.
18
Анну уже давно на досуге занимала некая мыслительная «игра». Она взвешивала все плюсы и минусы своей жизни. Многие женщины делают это, достигнув определенной зрелости и подводя некий промежуточный итог уже прожитых лет. Для сравнения она анализировала «житие» своих техникумовских подруг. То были в основном жены рабочих, мастеров-прорабов, инженеров, врачей… Чем дольше она об этом размышляла, тем чаще зависть к их городской жизни у нее уже не носила такого безоговорочного характера, как несколько лет назад. Да, у нее в квартире нет ванны, санузла, жилплощадь для такой семьи явно недостаточна, живут они в некотором отрыве от цивилизации, здесь может при непогоде пропасть электричество, зимой заметает дороги, детям до школы добираться на машине за двадцать километров… Все это весомые, большие «минусы». Но так ли уж хорошо и безбедно существование гражданских, городских жителей того же социального уровня, конкретно женщин, даже при условии относительно счастливого замужества? Да, некоторые ее сокурсницы жили в квартирах со всеми, принятыми считать таковыми в Союзе, удобствами. Имеют и дачи за городом, кое у кого есть даже личные машины. Но так ли уютны и удобны те квартиры? Нет, все без исключения живут в той же тесноте, а то и с родителями или коммунальными соседями. Дачи… маленькие на шести сотках, добираться да них в переполненных автобусах и электричках замучаешься. Ко всему этому прилагаются «естественные» прелести советской жизни: очереди, толкотня. А эта нищенски оплачиваемая работа, которая неминуемо провоцирует на воровство. Замучившись на работе, натолкавшись в очередях и транспорте, такая женщина приходит домой «чуть живая», а там ее вновь ожидает опять же «естественная» домашняя женская работа. Тут уж не до детей, не до мужа, не до ласки, не до любви. Нередко семьи от всего этого просто распадались. В Ярославле с семидесятых годов в автозаводском парке в первую очередь для «неустроенных» женщин стали организовывать танцы-вечера «кому за тридцать», прозванные в народе «последней надеждой». И некоторые незамужние и разведенные бывшие подруги Ани являлись завсегдатаями тех танцев.
Будучи в отпусках, Анна наблюдала жизнь тех подруг. Она очень сомневалась, удалось бы ей без ущерба для здоровья выдержать такую же жизнь. А ведь придется выдерживать, из Армии-то мужу уже через пять лет увольняться. Сейчас же она одиннадцать месяцев в году была лишена всеобщего «счастья» советских женщин. Да, на «точке» имелись свои специфические трудности, но толкотни в транспорте, очередей она была лишена, даже тяжелые сумки почти не приходилось таскать. И работа Анны никак не напоминала работу продавщиц городских магазинов: никто на тебя не кричит, никто не хамит, более того даже на покупателей будь то офицерши или даже сами офицеры можно и прикрикнуть, тем более на солдат. Да и за прилавком Анна не столько стояла, сколько сидела – кто здесь посмеет ей что-то сказать. И для переноски тяжестей всегда найдутся помощники, и режим работы она устанавливает для себя сама. Перед приездом детей из школы она магазин закрывала, чтобы приготовить обед им и приходящему на перерыв мужу. Таким образом, ее семья всегда имела качественное и своевременное питание. После работы Анна обычно не очень уставала (за исключением тех дней, когда ездила в полковой Военторг за товаром). Потому сил и нервов ей хватало и на детей, и на мужа. И еще одно немаловажное обстоятельство, оказывающее влияние на женское здоровье и особенно внешность – Анна имела возможность высыпаться по утрам. Отправив детей в школу, а мужа на работу, она вновь ложилась в постель и могла спать «впрок» аж до десяти часов, так как магазин открывала только в одиннадцать. Мелочь? Отнюдь. Недаром так долго сохраняли привлекательность многие дореволюционные барыни-дворянки, или сохраняют современные валютные проститутки. Первые развлекались, а вторые «работали» в основном вечерами и ночью, но потом они хорошо высыпались днем, чего простолюдинки до революции, а простые советские женщины после себе позволить не могли, разве что изредка в выходные.
Анна рассказывала своим старым подругам о своей «точечной» жизни, опуская подробности, которые по общесоветским нормам морали было принято считать наглостью – использование служебного положения мужа (хотя те, кто ту мораль утверждали и декларировали в своей повседневной жизнедеятельности нарушали ее в стократ больше). Потому в тех рассказах ее жизнь получалась окрашенной в основном в серые и темные тона. Подруги охали, ужасались и не могли взять в толк, как при такой жизни Анна так сохранилась. То, что она хорошо одевалась еще можно было объяснить достаточно высоким окладом ее мужа и местом ее собственной работы. Но как объяснить здоровый цвет лица, легкую походку, роскошную фигуру…? Анна же со своей стороны тоже долго не могла уяснить, отчего ее подруги-ровесницы после тридцати лет почти все постепенно становились либо худыми загнанными клячами, а если полнели, то несвежей, нездоровой полнотой. С годами она узнавала подробности их повседневных мытарств и собственная жизнь ей уже не казалась слишком тяжелой и безрадостной.
Имелись и еще более «замаскированные» от предубежденного советского самосознания факторы, свидетельствующие в пользу жизни в закрытых, обособленных воинских городках. Для женщин они выражались в значительно меньшей степени страха за себя и семью. Этот страх ниспослан женщине свыше, страх, в основе которого всего лишь меньшая по сравнению с мужчиной физическая сила. В этой связи женщины боялись везде и всегда. Разве, что всесильные властительницы типа Екатерины II были лишены того страха, или окруженные заборами и охраной жены и родственницы властьимущих. Страх простой советской женщины перед уличной преступностью значительно превосходил тот, что переживали ее «предшественницы», за исключением периода гражданской войны и более отдаленных исторических катаклизмов, «бессмысленных и беспощадных бунтов» и иноземных нашествий. Подруги Ани, такие же матери семейств, тоже боялись, за сыновей, что изобьют, порежут, или они сами свяжутся со шпаной и сядут в тюрьму, боялись за мужей, поздно возвращающихся с работы, боялись за дочерей, за себя. Боялась и Анна… один месяц в году, который они были в отпуске и проводили вне «точки». На этот месяц она вынужденно подстраивалась под обычную советскую бабу, от чего на «точке» успевала отвыкнуть. Это означало уступать дорогу подвыпившим компаниям хулиганистых подростков, не обращать внимания на матерную ругань рядом, сносить толчки и брань в очередях, в автобусах, все что в обычной советской жизни считалось нормальным обыденным явлением. У себя на «точке» она никому не уступала дороги и никого не боялась. Обычно все с ней были крайне вежливы и предупредительны. Правда, случалось, что солдаты украдкой слишком уж вожделенно смотрели ей вслед. Но ведь это, если отбросит ханжество, обычная деталь человеческих взаимоотношений, и для женщины даже приятная. Но в отпусках все эти дивизионные замашки приходилось срочно забывать и превращаться в обычную бабу. То есть бояться, как и все, с той лишь разницей, что другие настолько свыклись со своим постоянным страхом, что как бы и не ощущали его, он стал органичной, неотъемлемой частью их жизни. О, она не могла свыкнуться, и в конце отпуска уже чувствовала некую усталость от городской «цивильной» жизни.
Увы, всем вышеизложенным страх советских женщин не ограничивался. В восьмидесятые годы добавился еще один, перед ним трепетали все без исключения простые женщины имеющих сыновей, у которых приближался призывной возраст. Его организовали не хулиганы, его «подарило» всему советскому народу и в первую очередь женщинам-матерям советское руководство. Имя этого подарка: Афганистан, война. От этого страха некуда было спрятаться, его невозможно обойти. Живя много лет рядом с казармой, Анна видела, кому там приходится несладко. Она не сомневалась – Игорь не из таких, тем более сам вырос на «точке» и с малолетства знал все «законы» солдатского бытия. Но Афганистана она боялась панически, ведь сын со своим физическим развитием вполне мог попасть служить в десантные войска или спецназ и прямиком на войну, под огонь. Когда эта война только начиналась, Анна относилась к ней довольно равнодушно, ведь ее лично это никак не касалось – сын еще маленький, муж служит в таких войсках, которые в Афганистане не воюют. Но война все не кончается, и вот уже менее чем через два года могут забрать туда и ее сына. Она уже совсем по иному воспринимала эту войну и едва не молилась на новое руководство страны, на его новые инициативы во внешней политике надеясь, что оно вытянет страну из этой кровавой трясины. В то же время только «ждать у моря погоды» она не собиралась. При необходимости она даже готова была дать взятку, слава Богу средств для этого у них с мужем более чем хватало. Дать все равно кому, экзаменаторам в институте, куда будет поступать Игорь, в военкомате, когда будут распределять призывников по командам. Она даже продумывала вариант поступления сына в любой ярославский ВУЗ с военной кафедрой, дабы не рисковать, замахнувшись на престижный московский. Слава Богу, еще бабушка жива и квартира в Ярославле имеется, есть где жить парню, да и вторая там же неподалеку. О своих переживаниях и замыслах Анна пока не говорила мужу…
– Первый раз от тебя слышу, что у нас тут могут быть какие-то жизненные радости, – удивился словам жены Ратников. – Ты же всегда совсем обратное говорила.
Анна и на этот раз не открыла мужу все, что было заключено в ее словах. Его недоумение она рассеяла по-другому, основываясь на чисто женской логике:
– Если начистоту, то большинство женщин, знаешь, о чем мечтает?
– Да кто ж это знать-то может, у каждой своё. Я вот не всегда понимаю, чего тебе надо.
– Эх ты, двадцать лет, называется, семьей прожили, а так ничего и не понял. Да чтобы быть хозяйкой в своем доме, в своей семье, – вот чего почти каждая баба больше всего хочет, – Анна смотрела на мужа как на непонятливого ребенка. – А я здесь хозяйка, и никто, ни твои родственники, ни мои нам не помеха. – Не знаю, как бы ты с моей мамой, а я бы с твоей ни за что не ужилась, и вообще в доме должна быть одна хозяйка, – продолжала объяснять Анна.
– Хм, интересно, – Ратников с веселой подозрительностью воспринял услышанное, не решаясь уточнить, что жена имеет в виду под словами «я здесь хозяйка», только свою квартиру или весь дивизион.
– Да разве только это. Вспомни, как мы в горы ездили гулять на природу. Поверишь, до того я даже и не замечала, какая тут красота вокруг. А в 79-м помнишь, когда снегу зимой так много намело, что он до мая тут лежал. Помнишь, как мне тогда шлея под хвост попала, в середине апреля захотела на лыжах прокатиться. Тогда солнце так жарило градусов около двадцати наверное, и я купальник одела и на лыжах… ну у нас еще фотография есть, ты меня своим «Зенитом» снимал.
– Да-да… потрясающая фотография получилась…
В 1978году Ратников выписал вместо журнала «Физкультура и Спорт», другой спортивный журнал, «Спортивная жизнь России». Он был в то время куда более красочен и интересен, особенно, как казалось Ратникову, для Игоря, уже вовсю «болевшему» за спорт. Правда, иной раз на страницах этого журнала публиковались весьма необычные фотоснимки. Так однажды там напечатали двух олимпийских чемпионок по спортивной гимнастики Кучинскую и Петрик, каждая из которых восседала на богатырском плече тоже олимпийского чемпиона, борца-тяжеловеса Александра Медведя, одна на одном, вторая на другом. Конечно, тогдашнего еще маленького Игоря привлекали не такие пикантные фотографии, а красочные фотоснимки атлетов с прекрасно развитой и напряженной мускулатурой. Журнал также пропагандировал здоровый отдых на природе. И вот однажды пришел очередной номер, в котором на обложке поместили фото женщины в купальнике и … на горных лыжах. Она была изображена, то ли загорающей где-то на заснеженном горном склоне, то ли собирающейся скатиться по этому склону на лыжах. Этот снимок естественно не заинтересовал восьмилетнего Игоря. Ратников лишь мельком взглянул на него. Женщина ему не понравилась. По всему это была какая-то бывшая горноложница, ибо по лицу ей было уже прилично за тридцать, да и внешне она смотрелась слишком «спортивно», то есть суха и поджара, лишенная многолетними тренировками естественной женской округлости и мягкости линий. Он лишь заметил:
– Живут же люди, и на снегу загорать умудряются!
Более всех обложкой журнала заинтересовалась Анна, обычно к спортивной прессе интереса не проявляющая. Вначале она тоже позавидовала той горнолыжнице, потом обратила внимание, что она по всей видимости старше её и далеко не красавица, и тем не менее вот так может позволить себе загорать на снегу да еще позировать фотокорреспонденту… Вновь вспомнила об этом снимке она когда в следующем году случилась весьма поздняя весна и снег на северном склоне лощины лежал на целых две недели дольше обычного, а в апреле в ясные дни температура поднималась до 18 градусов в тени, а на солнце еще больше. Анне тогда еще не исполнилось и тридцати лет, в ней нет-нет, да и просыпалось девичье озорство. В солнечный выходной день она буквально «уломала» мужа выйти всей семьей на этот поздний снег. Четырехлетнюю Люду, укутанную в платки и одеяла, повезли на санках. Игорь сразу «урвал» вперед по уже сильно подтаявшей лыжне, глубоко «пробитой» еще зимой во время лыжных дивизионных соревнований, оставив далеко позади мать, и отца везущего на санках сестренку. Так они шли по лыжне пока не скрылись из вида дивизиона за ближайшим холмом, на который летом женщины ходили за родниковой водой. Здесь Анна, не опасаясь посторонних глаз, сняла с себя лыжный костюм и оставшись в купальнике, стала загорать, на манер той горнолыжницы. Ну, а Ратников щелкнул своим «Зенитом»… Испытала ли она удовольствие от того недолгого загорания? Не очень большое. Было все же довольно-таки прохладно, и если сверху припекало почти по-летнему, то снизу от потемневшего уже снега веяло почти зимним холодом. Но тогда им еще так хотелось хоть в чем-то быть наравне с теми… показываемыми по телевизору, снимавшимися в красочных журналах… Со временем это прошло.
Супруги помолчали, воспоминания были приятные для них обоих. Но вдруг лицо Анны омрачилось – она вспомнила последний, произошедший этим летом выезд на берег водохранилища офицерских семей…
– Все-таки намного лучше отдельно, своей семьей отдыхать, чем всем шалманом. Не как в последний раз? До сих пор плююсь, – в тоне Анны слышался укор мужу за организацию того самого «шалмана».
– Ну, пойми же, не мог я хотя бы раз за лето всех не вывезти на этот пикник. Тебя-то с детьми я по нескольку раз каждое лето вывожу. Неудобно все-таки, – пояснил свои действия Ратников.
– Плевать я хотела удобно тебе или нет. Там разве отдых был? Обыкновенная пьянка, да еще с глазением на чужих полуголых баб! – Анна явно «заводилась».
– Да что ты, выпили-то всего по чуть-чуть, три бутылки на десять мужиков. «Указ» ведь соблюдать надо. А совсем без этого тоже нельзя. Но мы ведь в меру, вроде все в норме были, – оправдывался Ратников уже не впервые, ибо жена время от времени припоминала ему этот «отдых».
– В «норме»! Как выпили, так все сразу на молодую Харченкову жену пялиться начали. И ты туда же. Я еле сдержалась тогда, – не успокаивалась Анна.
– Да что ты Ань, в самом деле. Все никак забыть не можешь…
Он действительно тогда в погожий августовский день во время пикника на берегу водохранилища слегка выпив, слишком много обращал внимания на Эмму Харченко, ибо как и прочие офицеры оказался несколько шокирован ее невиданным для провинции новомодным рижским купальником.
– Ну, ты сама подумай, не на нее ведь смотрели… там смотреть-то не на что. Просто такие купальники на женщинах еще ни разу не видели. Не веришь? Сама же знаешь как я к таким «плоскодонкам» отношусь, – Ратников попытался ласково положить руку ниже спины жены, но та резко пресекла попытку…
19
При воспоминании о том пикнике у Анны всякий раз портилось настроение. Тот день она считала украденным у себя. Ей, любящей отдыхать на природе с мужем и детьми, приходилось терпеть общество поддатых офицеров, и будто впервые вырвавшихся из своих одежд и оттого никак не надышащихся этой «свободой» их жен. Какая женщина, особенно молодая, не желает покрасоваться не только перед мужем? Анна не являлась типичным примером. Она смолоду настолько привыкла осознавать себя красивой, что не нуждалась в дополнительном самоутверждении. Потому ей претили эти вихляющие кривляния хорошо ей знакомых и не очень уважаемых баб, в расчете на привлечение взоров не совсем трезвых мужиков… не своих конечно. Она не сомневалась, что если сама вот так же небрежно пойдет вдоль берега в своем югославском купальнике, все мужские взоры будут обращены только на нее, хоть и самую старшую среди всех «офицерш» по возрасту. Но особенно тогда разозлила Анну Эмма Харченко. Она, конечно, выделялась не телом, худым и костистым, телом обыкновенной вчерашней фабричной девушки, скорее похожим на тело мальчишки-подростка, нежели женщины. Она привлекала, прежде всего, своим необычным купальником. Мода на женские плавки с максимально открытыми ягодицами еще не дошла в советскую глубинку. Но даже не это раздражало Анну. Эта наглая девка почему-то очень много внимания уделяла ее семье. Анна несколько раз перехватывала ее взгляд, обращенный на нее саму. Почему она так смотрит? Считает ее чересчур жирной? Или этой «западной чурке» (Анна иногда мысленно заимствовала выражения из солдатского лексикона) кажется слишком старомодным ее купальник? Но он импортный и дорогой, хоть и без высокого выреза на плавках. Непонятно. Но, вот причину внимания Эммы к ее мужу и сыну, она поняла по своему: эта сухоребрая, бесстыдно оголившая свою тощую задницу, стерва неравнодушна к крупным здоровым мужикам и парням. У Анны тогда возникло желание подойти и сказать: «Чего пялишься на чужое, на своего коротышку смотри, раз лучше не нашла, самое время о нем побеспокоиться, после второй стопки уже ни тяти ни мамы не разумеет!».
Вымыв посуду и убрав стол, они остались на кухне, единственном месте в квартире, где можно было поговорить наедине: сын и дочь, оккупировав обе комнаты, делали уроки.
– Я вчера, когда ты ко мне Фольца прислал, поговорила с ним. Знаешь Федь, может я и неправа была, и ничего плохого в том нет, что Игорь с ним занимается борьбой. Хороший парень этот Виктор, и в жизни кое что понимает, – поделилась своими соображениями и признала ошибочность своего прежнего мнения Анна.
– Я ж тебе то же самое говорил, – согласно кивнул Ратников.
– Он рассказал мне, – понизив голос, продолжала Анна, – как после школы поступал в институт, в иняз, немецкий хотел изучать. Он ведь местный, из Казахстана. Так вот его на первом же экзамене срезали, за сочинение двойку поставили, до сдачи немецкого он даже не дошел. А сочинение это он с фотошпаргалки списал, сейчас же многие так делают. И там ошибок быть просто не могло. С их потока на русское отделение только на половину мест русские поступили, вторую половину казахи заняли. Представляешь, это они свое казахское отделение полностью заняли и половину русского. Но самое, конечно, бессовестное, что почти всех немцев срезали, а среди поступивших калбитов многие, ни по-немецки, ни по-русски толком говорить не умели. Так, говорит, они проводят в жизнь свой тайный план, хотят резко увеличить численность своей национальной интеллигенции. Но особенно они лезут на юридические факультеты. Среди них ходит такая поговорка, что каждый чабан мечтает видеть своего сына прокурором. Их, немцев, вместе с Виктором в иняз человек десять в группе поступало, девочки в основном, одна только поступила и то потому, что золотомедалстка, ее в наглую срезать как остальных побоялись, да она и всего один экзамен сдавала. А Виктору даже разряд спортивный не помог. Он говорит, что у них в нашей стране одна дорога в люди выбиться, как у негров в Америке, через спорт. Он еще какие-то фамилии спортсменов называл из советских немцев.
– Наверное Ригерта с Плюкфельдером? – высказал догадку Ратников.
– Да кажется… Неужто все это правда? Хорошо хоть у нас в России родственники, а то представь, если бы Игорю здесь поступать пришлось.
– Видимо, правда. Стрепетов тоже говорил про это. Да я думаю и в каждой союзной республике и во многих автономиях примерно та же ситуация, в некоторых даже худшая. В Казахстане еще русских не так уж бессовестно валят, да и среди преподавателей и экзаменаторов русских немало. Кстати, немцев вполне могли и русские экзаменаторы завалить. Ведь среди нас этих «антифашистов» пруд-пруди…
Уходя из дома после окончания обеденного перерыва, Ратников прислушался к магнитофонным звукам, доносящимся из комнаты сына. Игорь, видимо, сделал перерыв в приготовлении уроков и приглушив звук слушал песню. Но если на кассете был, например, тот же «Модерн-Токинг», он запускал «маг» почти на полную громкость, чем частенько вызывал гнев матери, а теперь почему-то приглушил. Ратников не без труда разобрал слова песни:
Я земле низко кланяюсь Поклонюсь я церквам Здесь все будет поругано Той России уж нет…Ратников догадался, что сын взял у холостяков кассету с белогвардейскими песнями какого-то певца-эмигранта, и сейчас тихонько ее слушает. Как тут поступить? Запретить слушать антисоветчину, забрать кассету и сделать внушение Малышеву и Гусятникову, чтобы не сбивали мальчишку с толку, натравить на них замполита? Что тут делать, когда сам уже не знаешь, где этот толк, в какой стороне. Игорь как будто понимал колебания отца и облегчил ему задачу, давая возможность делать вид, что не слышит. Ратников так и сделал, молча одел шинель, оглянулся и вышел ничего не сказав. Но Анна поняла, муж без слов передал взглядом: не мешай ему.
Анна тоже не разделяла увлечений сына ни белогвардейскими, ни «западными» песнями. Но её возмущал не «политический» аспект, а то, что Игорь равнодушен к тому, что нравилось ей.
– Представляешь, он даже Высоцкого почти не слушает и «Юность» не читает, – как-то она выразила мужу недовольство «вкусам» сына.
В отличие от жены, Ратникова данное обстоятельство совсем не расстроило, ибо он никогда не забывал того, что услышал от Киржнера и Ольги Ивановны касательно Высоцкого, да и к «Юности» с годами как-то поостыл.
Ратников сидел в канцелярии дивизиона один. Те, кто там обычно находились вместе с командиром, замполит и начальник штаба, отсутствовали. Они устраняли «по горячим следам» замечания, высказанные вышестоящими начальниками. А подполковника будоражили свежие воспоминания о беседе со Стрепетовым:
«Может прав полковник, зачем все усложнять, жили же до сих пор и вроде ничего. Хотя то «ничего», как сейчас выясняется, совсем не есть «хорошо». Конечно Стрепетов дока в своем деле, а все равно не чует, какая складывается обстановка. И лейтенанты молодые совсем по-иному мыслят, и солдаты. Да чего там, родной сын и тот совсем не такой как я растет. Их уже не задуришь миллионами километров, что наши космонавты на орбите налетали, или миллионами тонн стали в сводках ЦСУ. Они хотят знать, почему в магазинах шаром покати, и каков наш истинный уровень жизни, и не в сравнении с тринадцатым годом, а в сравнении с народами, что живут под так называемым гнетом капиталистов-империалистов. Почему мы при самым передовом общественном строе живем хуже?…».
Ратников тряхнул тяжелой головой и разом заставил себя переключиться на повседневные заботы. Он вызвал фельдшера и приказал доложить о состоянии здоровья упавшего в обморок во время боевой работы солдата. Фельдшер сообщил, смотря на командира преданными перламутрово-селедочными глазами, что Лавриненко чувствует себя нормально, но желательно бы его отвезти в полковую санчасть и снять электрокардиограмму. Сделав соответствующую пометку на календаре, Ратников отпустил «Борюсю». Затем он решил «поставить точку» в отношениях с Харченко, вызвав и его через дневального.
Петр зашел в канцелярию напряженный. Все время пока проверяющие находились в дивизионе, он ждал от Кулагина нечто вроде знаков внимания. Но так и не дождался. И вот теперь непонятный вызов к командиру дивизиона.
– Чем сегодня будет заниматься личный состав батареи после караула? – в «лоб» спросил Ратников.
– Я планировал провести дополнительные тренировки по отработке норматива по одеванию химзащиты, – охотно поведал Харченко, пока еще не подозревая о причине такого вопроса.
– В какое время?
– Сразу после ужина.
– Ты хочешь сказать в личное время? – вкрадчиво уточнил подполковник.
– Так точно, – уже не совсем уверенно подтвердил Петр, начав подозревать неладное.
– Кто проводить эту тренировку будет?
– Я сам, – Петр, все более начинал чувствовать себя «не в своей тарелке».
– И что же ты теперь собираешься каждый день подобные занятия проводить в личное время солдат?
Это было сказано таким тоном, что у Петра сразу что-то опустилось внутри, от груди куда-то вниз. Наверное, такие же ощущения испытывает кролик, перед тем как быть проглоченным удавом. Сомнений быть не могло – Ратников что-то разнюхал о его «плане по захвату дивизиона».
– Вот что Петя, не будем в прятки играть. Ты я, гляжу, через день в казарме до отбоя пропадаешь, все солдат натаскивать пытаешься? Смотри не надорвись. Лучше с женой побудь во внеслужебное время, ее научи посдержаннее быть, чтобы думала, прежде чем что-то вслух говорить. У нас тут и с латышского перевести сумеют, – нанес еще один болезненный «удар» подполковник.
Выражение лица Харченко свидетельствовало, что он совсем сдрейфил. Петр знал об истории, случившейся в магазине, о том, что там ляпнула Эмма. Сначала он испугался, но прошло немало времени, вроде бы никаких отголосков не было, и он успокоился. И вот на тебе… Не дай Бог до Политотдела дойдет – Петр уже не раз успел разочароваться в родительском выборе.
– А солдат в личное время больше не смей гонять! – потвердевшим голосом предупредил подполковник. – И так света Божьего не видят, а тут еще ты со своей инициативой. Вопросы есть!?
Ратников не хотел вступать с Харченко ни в какие дискуссии, слушать его оправдания. Он высказал ему все что хотел и дал понять, что говорить им больше не о чем.
– Никак нет, – только и оставалось ответить морально пришибленному Петру.
Из канцелярии Харченко вышел мрачнее тучи. С той, месячной давности неудачной попытки «завербовать» в союзники холостяков, его преследовали сплошные неприятности, а сегодня вообще получился черный день. Сначала до трех часов ночи ругался с женой. Эмма в очередной раз на чем свет стоит костерила его родителей, обещавших ей райскую жизнь «офицерши». Петр тоже в долгу не остался, намекал даже на то, как он рисковал, женившись на ней, обладательнице такой «ненадежной» национальности. Потом, не успел заснуть – «Готовность». Потом когда пришел домой поесть, завтрак оказался не приготовлен – Эмма бастовала. Потом этот Кулагин, который явно специально его избегал. И вот в довершении всего выясняется, что Ратников в курсе его далеко идущих планов…
Звонили из полка, уточнили количество людей стоящих в дивизионе на довольствии. Потом еще что-то. Ратников равнодушно брал трубку и так же, почти не вникая, механически отвечал. Деревянная усталость от затылка растекалась по всему телу. Много здоровья, прежде всего нервов забрали годы службы. А ведь, кажется, совсем недавно он мог без устали, с подъема до отбоя быть на ногах, по многу раз в день обходить городок и позицию, вникать во все без исключения вопросы жизнедеятельности. И домой после этого он приходил не вымотанный, в шутку боролся с Игорем, (еще года два назад это для него было действительно нетрудно), сажал на плечи дочь и катал ее на себе. Да что там дочь, жену мог шутя вскинуть на руки. Увы, время будто ждало этого рубежа – сорок лет. Сейчас если и возникало желание активно повозиться после службы, так это разве что с легонькой Людой…
20
Почему так резко именно к сорока годам стало, как ему казалось, сдавать здоровье? Ратников в последнее время нередко задавался такой мыслью. Иногда ему в голову приходило, что это не только от нелегкой службы, но и в не меньшей степени, от того, что он фактически каждый год игнорировал возможность брать путевки в санатории и подлечиться, предпочитая проводить отпуска у родственников. За все время своей службы он всего раз воспользовался такой возможностью, но какой… Это случилось весной 1983 года. Ратникову шел тридцать шестой год, это означало, что по службе он «пролетел» на все и вся, ибо даже на заочное отделение Академии уже не имел права поступать – туда брали до тридцати пяти лет. К тому же и «подполковника» задерживали. И кто знает, может в качестве «отступного», или еще чего ему предложили ту «горящую» путевку. В апреле месяце, когда он по служебной надобности приехал в штаб полка, его вызвал Нефедов, тогда еще подполковник, первый год командовавший полком.
– Вот что Федор Петрович, ты в этом году в отпуск куда собираешься? – задал неожиданный вопрос комполка.
– Если летом получится, то как обычно, с семьей сперва к сестре под Москву, потом на родину, к теще в Ярославль, и к матери в деревню, – ответил удивленный непонятным интересом Ратников.
– Я знаю, справки наводил, ты всегда так отпуска проводишь. А не надоело каждый год одно и то же? – как-то с «двойным дном» спросил Нефедов.
– А что делать, больше некуда.
– А в санаторий с супругой по семейной путевке не хочешь?
– Слышал я про эти санатории, там голодом морят, и не лечат ни от чего по-настоящему. Пустое времяпровождение. Уж лучше я к родственникам, – махнул рукой Ратников, много раз слышавший от сослуживцев о «сервисе» в большинстве санаториев Министерства обороны.
– Да нет, Федор Петрович, я тебе не рядовой санаторий предлагаю, а один из лучших, «Жемчужину» на южном берегу Крыма. Слышал о таком? – с улыбкой спросил комполка.
– Нет ни разу. Вроде, никто из наших полковых никогда там не отдыхал, – нахмурился в раздумье Ратников.
– Правильно, туда вообще без блата редко кто попадает. Я ж тебе говорю, лучший военный санаторий, первоклассный медперсонал, оборудование, грязелечение. Если у тебя что-то типа радикулита или остеохандроза есть, за то время, что тебя там будут лечить, все это как рукой снимет. И сердечно-сосудистые тоже хорошо лечат. Медики там не просто хорошие, они еще и за места держатся, потому и лечат отлично. Для меня из штаба корпуса специально ту путевку прислали, а я сейчас никак в отпуск не могу выйти. Мы тут с начмедом посоветовались… Ну, не отказываться же от такой путевки раз на полк пришла. Вот и решили тебе первому предложить. Ты только не торопись отказываться. Сегодня у нас восьмое. Путевка с 16-го апреля по 8-е мая. Подумай Петрович, второй такой возможности у тебя не будет, это я тебе точно говорю. И Крым посмотришь, и здоровье свое и супруги поправишь. Думай, два дня и ночь у тебя есть. Я жду…
Ратников пошел к начальнику медслужбы полка. Тот подтвердил слова Нефедова – попасть в «Жемчужину» для рядового офицера редкая удача. И все же Федор Петрович колебался и в тот день не сказал, ни да, ни нет, взяв те самые два дня на размышление.
– Но не больше. Мне надо докладывать начмеду корпуса, что мы реализуем путевку, или отказываемся от нее, – предупредил полковой врач.
Приехав на «точку», Ратников передал предложение комполка Анне и та в первый момент ответила решительным отказом:
– Куда мы поедем, а с детьми как, они же учатся?
По дороге Ратников думал об этом, вроде бы, непреодолимом препятствии, но ему в то же время так захотелось хоть раз в жизни отдохнуть там, где отдыхают все эти сливки, генералы и армейская блатота. Потому, когда Анна сразу сказала нет… он промолчал, давая и ей время на раздумье, не сомневаясь, что если она решится, то наверняка найдет способ как пристроить детей. И в самом деле, жена весь вечер того дня раздумывала и прикидывала. Ведь она тоже очень хотела съездить в Крым. Ей было тогда не полных тридцать пять лет, что называется женщина в самом расцвете, или говоря по-русски в самом соку, и у нее еще не пропало желание, как говорится и мир посмотреть, и себя показать. А однообразные отпускные поездки по маршруту Люберцы – Ярославль – Медвежье, ей тоже уже приелись.
На следующий день Анна «села на телефон» и стала названивать в полк своим военторговским коллегам. И среди них оказались люди, знавшие, что такое санаторий «Жемчужина», и они в один голос советовали «расшибиться в лепешку», но туда съездить, ибо действительно такой шанс может больше и не представиться. И как рассчитывал Ратников, Анна решилась. В последние из тех двух суток, что отвели им на раздумья, она съездила в школу. Обегав, едва ли не всех учителей, преподававших у Игоря и Люды, она выпросила у них задание на следующий месяц, чтобы дети могли заниматься в автономном режиме, самостоятельно, ибо вернуться и продолжить учебу они смогут только во второй половине мая, то есть к самому концу учебного года. Игорь тогда учился в шестом классе, а Люда в первом. Конечно, педагоги не очень обрадовались этой «блажи» Ратниковых, но Анна смогла за день всех уговорить, уломать, пообещать подарки. На исходе вторых суток Ратников позвонил начмеду и подтвердил, что берет путевку.
В спешном порядке оформили отпуска и ему и ей, и уже 12-го апреля Ратниковы вылетили из аэропорта Усть-Каменогорска. Сначала у Анны возникла идея лететь в санаторий с детьми, но ее отговорили женщины из Военторга, заверив, что такой отдых обернется мучением. Ведь путевка на двоих, а значит и питание там будет на двоих и спальных мест в комнате два, и еще не известно, как на эту самодеятельность посмотрит санаторное руководство. Потому решили, вернее Анна решила, детей оставить в Ярославле у бабушки. Как обычно, прилетев в Москву, на такси добрались до Люберец, переночевали у Веры, потом на поезде до Ярославля и заявились к совсем не ждавшей их бабушке Насте. Все произошло так быстро, что Ратниковы не успели предупредить родственников. Итак, тринадцатого апреля в Ярославле, четырнадцатого Федор Петрович съездил в Медвежье, и к вечеру привез и свою мать. Это означало, что за внуками теперь обеспечен присмотр со стороны сразу двух бабушек. Ефросинья Васильевна всплескивала руками и выговаривала за то, что не предупредили и детей сорвали со школы… Но была довольна и сразу закомандовала в чужой квартире. Для начала она раскритиковала городские продукты:
– Это рази ж еда? Завтра к себе смотаюсь, хорошева масла, сметаны, творога привезу…
Конечно, в однокомнатной квартире бабкам и детям будет тесновато, но Ратников предвидел, что если он не предложит матери разделить тяготы по уходу за внуками на эти три недели, то обидит ее. Потому, как только сын приехал и все объяснил, Ефросинья Васильевна без раздумий срочно перепоручила все свое хозяйство, в первую очередь корову, соседке и приехала к свахе.
Наказав сыну и дочери слушаться бабушек и усердно заниматься по тем учебным планам, что написали в школе, супруги Ратниковы вновь сели на московский поезд и уже пятнадцатого апреля вечером вылетели из аэропорта Внукова в Симферополь на только вошедшем тогда в эксплуатацию новейшем лайнере ИЛ-86. До санатория, располагавшемся на южном побережье полуострова добирались обычным путем хорошо известным всем курортникам со стажем. Но таковых в стране Советов было не так уж много, не более десяти-пятнадцати процентов от общей численности населения. Большинство советских людей за жизнь имели возможность отдохнуть в Крыму или на Кавказе, раз или два, от силы три раза. Впервые в своей жизни ехали на курорт и Ратниковы. Потому все для них было в диковинку, и маршрут «Крымтроллейбус» от Симферополя до Ялты, и благоухающая почти средиземноморская природа. Середина апреля, в центральной России и Восточном Казахстане до цветения оставалось еще недели две-три, а здесь оно уже буйствовало во всей красе. Удивила и плотность населения. От Симферополя до самых предгорий фактически раскинулось одно не прерывающееся селение, утопающее в сплошных на много километров садах. Казалось, что здесь едва ли не каждый квадратный метр земли застроен, распахан, засажен. По сравнению с той же Ярославской областью, где между небольшими деревеньками было по нескольку километров пашни и леса, и тем же Восточным Казахстаном, где между селениями насчитывалось никак не менее двадцати километров… В общем, здешняя заселенность впечатляла.
Санаторий располагался чуть дальше Ялты, в так называемой Гаспре. Когда добрались до места… Там администрация санатория проводила субботник, как и ежегодно по всей стране за неделю до дня рождения Ленина. Все «облагораживали» территорию. Лечащий врач в звании подполковника медслужбы внимательно изучил медкнижку Ратникова и после нескольких вопросов прописал ему направление на грязевые процедуры для лечения остехондроза поясницы и области шейных позвонков, а также на ингаляцию носовых проходов. С Анной он беседовал значительно дольше, и от Ратникова не укрылось, что врач не один раз пристально по-мужски окидывал взглядом, сидящую перед ним вновь прибывшую отдыхающую. Ей он назначил электрофорез и тоже грязелечение. Смущаясь, Ратников все же поинтересовался у медика-подполковника:
– Извините, я слышал, что здесь одни генералы да полковники отдыхают. Мне, майору как-то…
Врач рассмеялся:
– Не беспокойтесь на этот счет, сейчас еще не сезон. Генерал попрет косяком в июле, августе и сентябре. Вот тогда действительно вашего брата тут не сыщешь. А сейчас здесь в основном ветераны Великой Отечественной Войны. Они наш основной контингент на весну. И знаете, хлопот с ними не меньше, чем с теми же генералами, хотя то конечно совсем другие хлопоты, – врач резко замолчал, явно не желаю объяснять, что именно он имел в виду и перевел разговор на другую тему. – Потому мы очень рады, что к нам хоть изредка попадают люди типа вас, еще относительно молодых и здоровых. Вас и лечить-то приятно, ведь наверняка будет положительный результат. Вот завтра на предварительном осмотре мы зафиксируем ваше состояние, все параметры, а в конце, после всех процедур, снова обследуем, и узнаете каков результат. Уверен, мы за это время и ваш остехондроз с геймаритом подлечим и вам сердце поправим, – при этом военврач так посмотрел на Анну, что та слегка покраснела. Видимо, ему было не только приятно осознавать, что такие отдыхающие наверняка хорошо воспримут санаторные процедуры, но и просто смотреть на статную жену майора.
Как и предупреждали, номера в жилом санаторном корпусе оказались двухместные, просторные с высокими потолками. Прямо в номере имелся туалет и душ с горячей водой. То, что здесь предусмотрена не ванна, а душ так понравилось Анне, что она тут же встала под теплую струю и проплескалась под ней почти полчаса. Ратников тем временем сдвинул кровати вместе.
– А это еще зачем? – с притворным удивлением спросила Анна, выходя из душа в халате и забинтованной полотенцем головой.
Ратников не ответил, дескать, нечего задавать глупые вопросы…
И потянулись однообразные курортные будни. С утра завтрак. Супругам не была предписана диета, и они заказывали все, что хотели из довольно широкого ассортимента блюд, имевшихся в санаторной столовой. После завтрака лечебные процедуры: грязелечение, ингаляция, электрофорез… Сначала довольно тяжело переносились именно грязевые ванны. Ратников чувствовал, что выдерживает положенное время в этой ванне не без труда. Во время процедуры внутри организма начинало что-то происходить, и возникала дополнительная нагрузка на сердце. Зато уже после трех-четырех сеансов стало заметно уменьшение ощущение постоянного дискомфорта в районе тазобедренного сустава и шейных позвонков. Анна тоже констатировала, что электрофорез благотворно влияет на работу ее сердца. Хотя врач-женщина, ведающая этой процедурой, настоятельно советовала ей худеть:
– Вам необходимо сбросить не менее десяти килограммов, а лучше все двадцать. Ведь вы носите столько лишнего веса…
Анна восприняла слова врачихи всерьез, но Ратников тут же высказал свое мнение:
– Да ты посмотри на нее, какая она худющая, вот и позавидовала. Ты же там раздевалась?
– Ничего я не раздевалась… Ну, по пояс, – чуть раздраженно отреагировала Анна.
– Ну вот, она грудь твою увидела и советует всякую чушь. Ты лучше у нашего лечащего подполковника спроси, стоит ли тебе худеть или нет. Уверен, он скажет, что не стоит, – со смехом констатировал Ратников.
Анна изобразила возмущение:
– Да ну тебя, тут серьезное дело, а ты опять про свое…
Все вроде бы хорошо, но имелся один негатив – море оказалось слишком холодным. Если дни выдавались солнечными и воздух прогревался до 22–24 градусов, то температура воды в море никак не превышала 13–14 градусов. Впрочем, и в такой воде находились любители купаться. Особенно выделялась одна ветеранша, бабка лет шестидесяти с гаком. Она заплывала метров на семьдесят и находилась в воде до получаса и больше. Другие смельчаки в лучшем случае лишь окунались или выдерживали не более пяти-десяти минут.
То, что на Анну обратил внимание не только, как выражался Ратников, лечащий подполковник, стало очевидным в их первый же выход на пляж. Если купающихся были единицы, то загорающих на относительно небольшом покрытым галькой санаторном пляже набиралось немало. И Анна в своем тогда новом только приобретенном югославском купальнике смотрелась конечно ярче всех: рослая, крутобедрая, круглоплечая. Впрочем, отдыхающих их возраста и более молодых было немного. В основном в номерах жили ветераны, потому пожилыми, или просто стариками и старухами был «усеян» пляж. Но и многие немолодые ветераны довольно пристально иногда через очки разглядывали Анну, загоравшую стоя или лежа.
– Черти что… сто лет в обед, а туда же, на молодых баб засматриваются, – чертыхался потом в номере Ратников.
Анна лишь улыбалась. На взгляды ветеранов она, в отличие от мужа не реагировала. Она с неосознанным удовлетворением замечала, что на нее смотрят и более молодые мужчины, даже те, кто приехал отдыхать с женами. Для большинства женщин способность притягивать восхищенные мужские взгляды… это одно из неотъемлемых составляющих их естества. Нравиться мужчинам, для нормальной женщины, это такая же самоутверждающая ипостась, как и деторождение. Тем не менее, Ратникова прежде всего возмущали скользящие по ногам, бедрам и груди его жены взгляды именно стариков и он стал относится к ним с явным предубеждением. Вскоре он выяснил, что почти все эти ветераны из Москвы.
– Вот так номер, у нас в стране ветеранов пруд пруди, а в такой вот санаторий с качественным сервисом и лечением почему-то имеют возможность только московские приехать. Мой отец если бы жив был, мог бы путевку сюда получить? Да ни в жизнь. Он даже не знал, что имеет на это право. Потому, наверное, и в земле уже лежит. А эти, ездят тут каждый год, здоровье поправляют, баб разглядывают – чем не жизнь, живи да радуйся. Будто только они одни воевали, а кто в Москве не живет, получается, не воевали… – продолжал возмущаться Ратников.
То, что ветераны имеют московское происхождение, Ратников выяснил «из первых уст». Однажды он сидел в очереди на одну из процедур, а перед ним очередь занял какой-то ветеран.
– В каком звании? – спросил оказавшийся очень словоохотливым старик.
– Майор, – откровенно ответил Ратников.
– Понятно. Сейчас таких как ты еще можно здесь увидеть и майоров и подполковников, даже капитанов. А вот через месяц-полтора все, ни таких как ты, ни таких как я здесь уже не будет. Ниже полковника с середины июня здесь уже никого не увидишь. Такие бизоны приезжают, администрация, врачи перед ними на цырлах ходят. Командиры дивизий, корпусов, из генерального штаба. Командир части среди них так, мелкая сошка. Один раз, года три назад я случайно смог путевку с конца июня до середины июля получил. Да нет вру, не случайно, просто у меня в госпитале Бурденко родственница работает, помогла. Так тут я такого насмотрелся. Помню, один не то генерал-майор, не то генерал-лейтенант, уж как он в столовой обслугу гонял. Я, говорит, вас сволочей всех за можай загоню, раз обслуживать не умеете. Что вы мне тут подаете, я что голодовать сюда приехал!? А ну, начальника столовой ко мне и быстро! Такого шороху нагнал. Те же врачи перед такими навытяжку стоят. Что им стоит позвонить куда надо и этого врача в 24 часа отсюда куда-нибудь на Север или в Сибирь законопатят…
Три недели в санатории пролетели совершенно незаметно: в будние дни процедуры и пляж, вечерами кино в санаторном клубе, в выходные экскурсии. Ратниковы съездили на экскурсии в Севастополь, Ливадию, посетили Воронцовский дворец. Вокруг располагалось множество всевозможных кафе, под крышей и на открытом воздухе, везде можно было перекусить. Хоть санаторное питание было качественным, да и порции немаленькие… Море, воздух, пронизанный запахом цветущих деревьев, все это провоцировало просто волчий апепетит и супруги кроме обязательного трехразового питания, нет-нет да и заходили поесть в какое-нибудь кафе. Музыкальное оформление было в основном «антоновское». «Море, море», «Под крышей дома моего»… эти и другие шлягеры вошедшего в моду, набравшего «силу» певца и композитора звучали буквально отовсюду, из громкоговорителей санаторного радиоузла, в кафе, магазинах, с прогулочных теплоходов… В вестибюле жилого корпуса имелся междугородный телефон-автомат и Анна каждый день звонила матери в Ярославль, вызывала к трубке Игоря и Люду, делала им соответствующие внушения. Особым шиком для отдыхающих было сфотографироваться на фоне знаменитого «Ласточкиного гнезда». Это чудо архитектуры, здание словно парящее над морем на крохотном утесе, где помещался ресторан… Так вот «Ласточкино гнездо» находилось как раз над «Жемчужиной», возвышаясь над его корпусами и было видно из окон номера Ратниковых.
Лечащий подполковник не обманул, действительно процедуры благостно повлияли на супругов. Ратников ко времени окончания срока путевки уже не ощущал остеохондроза и значительно легче дышал носом. Анна вообще с восторгом сообщала, что чувствует себя как в двадцать лет. На последней беседе с лечащим врачом она все же не удержалась и спросила:
– Извините, мне врач, что делала электрофорез, посоветовала незамедлительно похудеть килограммов на двадцать. Это, что действительно необходимо?
Лечащий подполковник аж оторвался от писанины в медкнижке Ратникова и удивленно воззрился на Анну через очки.
– На двадцать!?… Не вздумайте! – чуть не с испугом говорил медицинский подполковник. – Такое резкое похудание отрицательно скажется на всем вашем организме. Ну, разве что чуть-чуть, килограмма два-три не более. Вы же себя, в общем, хорошо чувствуете?
– Да, сейчас очень даже хорошо.
– Ну, так и не надо организм насиловать, особенно вам. Живите, красуйтесь… тем более есть чем, – не сдержался-таки и лечащий, и тут же, заметив на себе взгляд Ратникова, вновь спешно углубился в писание…
Уже в день отъезда сбылось и еще одно высказывание лечащего подполковника, о том, что лечение ветеранов это крайне хлопотное для санаторного медперсонала дело. Отъезжающие сидели в автобусе, который должен был доставить их прямо в Симферополь, в аэропорт. Все отдыхающие, у кого закончились путевки, заняли свои места, но одного не оказалось на месте. Автобус ждал. Пошли слухи, что ветеран, который должен был ехать этим рейсом, почувствовал себя плохо. Вокруг бегали врачи и медсестры. Потом из жилого корпуса пронесли носилки в сторону лечебного. Задержавшись на полчаса, автобус выехал. Ветеран на нем не поехал. Что с ним стало, откачали или нет. Ратниковы это так и не узнали…
21
Стук в дверь, Ратников с трудом выходит из полудремотного состояния. Малышев просит разрешения зайти.
– Чего тебе? – подполковник не скрывает недовольства.
– Хотелось бы узнать свою дальнейшую судьбу. Не могу более пребывать в неведении. Все ждал, что вызовут на беседу. Так что же там большие начальники про меня решили: на губу заарестуют, или комсомольским взысканием ограничатся. А может быть в ножки черно-волосатые кланяться прикажут?
Николай бравировал для видимости, а в его глазах читалось тревожное ожидание. Вообще-то он надеялся, что в «высших сферах» разговора о нем вообще не было и инцидент сам-собой порастет быльем. Сейчас он решил в этом удостовериться.
– А тебе бы чего хотелось? – хмуро поинтересовался Ратников.
Извиняться перед этим скотом не буду, а в остальном, что хотите.
– А если суд чести? – взгляд Ратникова сделался испытующим.
Малышев почти незаметно вздрогнул. Этого он действительно боялся, хоть и понимал, что вряд ли его будут наказывать столь сурово.
– Чего это у тебя шинель в снегу? – неожиданно «сменил пластинку» Ратников.
Николай ответил не сразу, находясь «под спудом» предыдущего вопроса:
– Со станции шел, упал, да и снег начался.
Ратников оглянулся, посмотрел в оттаявшую часть окна. Оказывается, сидя погруженный в свои думы, он не заметил, как перистая хмарь закрыла солнце, и пошел, пока еще редкий снег.
– Начальник политотдела корпуса похвалил тебя, – буднично сказал Ратников, вновь отворачиваясь от окна.
– За что? – изумился Малышев.
– Сказал, что в ленкомнате ты, в общем, поступил правильно.
– Это вы серьезно? – до конца не верил в то, что услышал Николай.
– Серьезно, только ты не пойми это как одобрение и установку к действию. Лично я к твоим методам работы с личным составом отношусь крайне отрицательно, как и к твоим взглядам на межнациональные отношения. И если не одумаешься, боюсь, наломаешь дров и плохо кончишь. И чтобы мне не стало плохо заодно с тобой, нам, скорее всего, в ближайшем будущем придется расстаться. Извини, но ЧП на дивизионе, да еще на межнациональной почве я не допущу. Пойми, СССР потому и сверхдержава, что каждый народ вносит свою долю в общее дело. И если эта доля неравнозначна, то дело не во врожденных национальных чертах, как ты считаешь, а в особенностях эээ… исторического характера, – вывод родился у Ратникова на ходу, экспромтом.
– Вы не искренни, товарищ подполковник, – усомнился Малышев.
– Что… что ты сказал!? – угрожающе свел брови подполковник.
– Вы не искренни, – ничуть не испугавшись, повторил Николай. – Меня воспитываете, а сами ведь чурок тоже за полноценных бойцов не считаете.
– Не понял, – все более злился Ратников.
– Вы ведь тоже к ним неприязнь испытываете, только сами себе в этом не признаетесь, – пояснил Николай.
– Так, а ну-ка объясни, с чего ты это взял, – Ратникову действительно было непонятно, что имел в виду Малышев, ведь сам он вроде бы полностью соответствовал облику истинного советского офицера, коммуниста-интернационалиста, каким ему и положено было быть.
– Ну, вот, например, у нас в дивизионе всего два прапорщика, русский и казах. А теперь припомните, как вы к Дмитриеву относитесь, и как к Муканову. Этот Муканов, как только вас увидит, не знает в какой угол забиться. А тот же Гасымов. Вы же его на каждом разводе парафините, – по-прежнему спокойно и уверенно говорил Малышев.
Против воли Федор Петрович опять был вынужден вовлечься в спор:
– Ты, парень, забываешь, что я так же как и их, выражаясь твоими словами, парафиню русского Фомичева, украинца Матвейчука, татарина Физюкова и любого другого, если они того заслуживают.
Ратникову казалось, что его аргументы достаточно сильны, но Малышев тут же сделал контрвыпад:
– Нет, товарищ подполковник, вы просто этого сами за собой не замечаете. Этих вы с позиции строгого дяди журите, ну вроде как сорванцов, но своих. А вот к южным нацменам совсем по-иному. Они для вас чужие, как и для меня. Они по-другому воспитаны, у них другие запросы.
– Ну, знаешь… что то ты тут нафантазировал, не замечал за собой ничего подобного, – искренне недоумевал Ратников.
– Правильно, не замечали, просто это в вас сидит само собой. Ведь они от нас самым кардинальным образом отличаются, а то, что отдельные единицы из них вроде бы и похожи на нас, так это не показатель, а лишь исключение из правил.
– Замотал ты, Коля, меня своими философствованиями. Да пойми же ты, на свете не существуют двух одинаковых людей, даже близнецы чем-то отличаются, а ты о целых народах как об одном человеке, – подполковник безнадежно махнул рукой. – Потом ты многое выдумываешь, сам веришь небылицам, пересказываешь их.
– Побоище в Зубовке, это небылица или моя выдумка? – бросил реплику Малышев.
– Это было, а многое другое, кем-то сочинено, как это твое танковое сражение на бензоколонке.
– Ну, а события лета 66-го года в Ташкенте, когда узбеки русским женщинам юбки на головах завязывали, или в Кургане в 79-м, когда целый эшелон северокавказских призывников почти на целую ночь город захватили и всех там насиловали, или в Орджоникидзе в 81-м, я сам в этом участие принимал, будучи второкурсником. Или про события в Новочеркасске, что еще в 62-м году были, когда осетин Плиев подавил выступление русских рабочих. Ведь туда хохол Хрущ специально его послал, потому что русские генералы отказались отдавать команды стрелять в свой народ. Там ведь не только стреляли, но и людей гусеницами танков давили. А чтобы давили без пощады, Плиев приказал за рычаги танков одних чурок посадить. Те с удовольствием русских давили, и женщин и детей. На что уж мой папаша верный ленинец, но и он возмущался. Мы же там рядом жили, все доподлинно знали. Во все это вы, конечно, тоже не верите!? – на этот раз уже грозно, словно судья вопрошал Малышев.
– Не знаю, официальных сообщений об этих инцидентах не было, а на слухи я внимания не обращаю, – устало отреагировал Ратников.
– Про Зубовку тоже официально нигде не сообщалось, – усмехнулся Николай.
– Ладно, не будем больше об этом. Может, что и было по мелочи, а потом так раздули, что из мухи слон получился. Давай лучше о наших делах… Я и свои недоработки признать не побоюсь. Действительно не переношу запах этот, что у казахов в домах и юртах стоит. Но к Муканову я вовсе не из-за этого так отношусь, а потому что он свои обязанности плохо исполняет. Вот на днях с новым директором рыбзавода, казахом, неправильно себя повел, не сдержался, вахтера, хрена старого послушался. Но я ведь признаю это и при первой оказии съезжу, извинюсь. Понимаешь, надо уметь встать выше этого заразного чувства превосходства собственной нации, а ты наоборот, занял непримиримую позицию. Ведь ты же вроде патриота из себя изображаешь, о державе печешься, а на деле раскалываешь единство страны.
– Вы уж меня не пойму за кого принимаете. Что я такого сделал-то, двух черных ударил, одного за дело, второго случайно, а меня сразу во враги народа, – теперь уже некоторое возмущение слышалось и в голосе Малышева.
– Пока двоих, но боюсь ты на этом не остановишься. Если не изменишь образ мыслей, еще раз тебе говорю – плохо кончишь, – погрозил пальцем подполковник.
– Я не могу думать иначе, а что касается единства страны, то вы ошибаетесь. Основная опасность не в таких как я. Нас, к сожалению, слишком мало, не проснулась еще Россия. А главная опасность, которая грозит нашей стране – это скорость с которой плодятся эти чурки, их растущая наглость, и то, что они очень дружные. Если не дать им вовремя отпор русскому народу придет конец, они его сначала на колени поставят, а потом весь ассимилируют, – убежденно говорил Николай.
– Ну, опять понес… пророк, мать твою, – подполковник с досадой потер донимавший его затылок. – Ладно Коля, устал я тебя слушать, иди-ка ты и еще подумай.
– Нечего мне думать, – твердо ответил Николай. Я удивляюсь, что вы не хотите признавать очевидную правоту моих доводов. Жаль, я надеялся, что мы все-таки поймем друг друга… Разрешите идти!?….
Выйдя из канцелярии, Малышев был в столь подавленном расположении духа, что оказался не в состоянии заниматься каким-нибудь делом, хотя та же техническая документация нуждалась в незамедлительном заполнении и еще много всего – на душу словно лег тяжелый камень. Не принесло облегчения и осознание того, что ему удалось избежать наказания за стычку с Гасымовым. Николай не хотел наживать такого врага как Ратников и, «открываясь» перед ним, рассчитывал на совсем иную реакцию подполковника. Но сейчас он видел, что крупно просчитался, командир оказался значительно сильнее «заквашен» на советском интернационализме, чем он предполагал. А ведь для Николая Ратников уже давно был едва ли не олицетворением настоящего русского мужика, на которых всегда держалась Россия. Он видел в нем то, что у русского человека советского «разлива» встречалось нечасто: мудрость и в то же время хитрость и изворотливость – своего не упустит. Он отчески заботился о своем «хозяйстве»-дивизионе и в то же время был главой крепкой дружной семьи. Не просто руководитель, командир, но и рачительный хозяин. Потому Николай был крайне раздосадован, ибо человек, которому он так симпатизировал, его совершенно не понимал, более того занимал едва ли не противоположную позицию.
Было отчего впасть в отчаяние. Николай ни в дивизионе, ни в полку так и не мог найти настоящих единомышленников. Даже с холостяками, с кем он жил в одной квартире и общался постоянно, далеко не всегда удавалось достигать взаимопонимания. И Гусятников и Рябинин все-таки в первую очередь технари. К тому же им, выросшим в центральной России, было сложно так же как ему, южному русскому, проникнуться истинной ненавистью к «чуркам» – они с ними в своей прежней жизни нечасто сталкивались. Непонятен он был и семейным офицерам. Те, кто постарше, оказались чрезвычайно идеологизированы и свято верили, что самый страшный враг Америка и НАТО, и не сомневались – они только и ждут момента, чтобы напасть на СССР. А те кто помоложе думали в основном о карьере и различных удовольствиях. Насчет удовольствий, впрочем, Николай тоже был не проч. Но то что «культивировалось» в среде молодых офицеров, водка и гулянка на стороне… Нет, в водке он удовольствия не находил, да и что касается совхозных и поселковых девок – они были не в его вкусе. С ними и поговорить было не о чем, да как ни странно и подержаться тоже не за что. Но вот в этом году на отработку диплома в поселковую школу прислали из Усть-Каменогорска молодую учительницу английского языка. У этой вроде все было подходящее и образование и внешность. Они познакомились – Николай в качестве «наживки» использовал текст из зарубежного военного журнала, который попросил перевести. Уже в октябре он был вхож к Лене, в ее комнату в поселковой общаге для молодых специалистов. С ней было интересно и хорошо. Хотя до интима дело никак не доходило – Лена позволяла все вплоть до частичного раздевания себя, но на большее пока не решалась. Это конечно дело времени, куда она денется… Но вот взгляды, образ мыслей. Она тоже не понимала Николая. Возможно, здесь сказывалось происхождение – её родители, работники свинцово-цинкового комбината считали себя многим обязанными советской власти, жили в хорошем городе, имели отдельную квартиру, сами хоть и не выучились, но зато выучили дочь. И в Ростове у него, в общем, ничего такого не было: та ростовчанка, про которую он всем здесь говорил, как о своей невесте, на самом деле была всего лишь знакомая и не более того. В общем, существовал Николай Малышев в неком идеологическом одиночестве. Его редкие беседы с Ольгой Ивановной Решетниковой не решали проблемы – меж ними была слишком большая разница в возрасте, к тому же старая учительница явно была нацелена на долгий разъяснительно-воспитательный процесс, перерождение сознания народа, а Николай жаждал быстрого революционного преобразования СССР в Россию.
После ухода Малышева подполковник тоже далеко не сразу избавился от мыслей навеянных произошедшим разговором. Он как всегда не до конца верил всем этим вроде бы имевшим место случаям межнациональных столкновений, за исключением тех, что были неоспоримы, ибо исходили из многих источников и имели официальное подтверждение. Единственным таким фактом из того, что приводил Малышев, было столкновение между кержаками и чеченцами в Зубовке. Все остальное…
Упомянутый инцидент в Ташкенте, случившийся в 1966 году… Ратников о нем слышал из многих неофициальных источников, и путем сопоставления у него сложилось о нем собственное мнение: конфликт случился в первую очередь из-за непродуманной внутригосударственной политики высшего советского руководства. После произошедшего в 1965 году землетрясения в Ташкенте, в город со всех концов страны приехало слишком много рабочих-строителей по призыву в кратчайший срок не просто восстановить разрушенное, а построить миллионы квадратных метров благоустроенного, сейсмостойкого жилья. Строителями в основном двигало не столько желание оказать помощь попавшему в беду братскому узбекскому народу, сколько возможность самим получить жилье в возводимых домах. То были в своем подавляющем большинстве малокультурные рабочие и работницы, приехавшие из плохо снабжаемых, периферийных районов России, Украины, Белоруссии. И они зачастую въезжали в «чужой монастырь», в чужую устоявшуюся жизнь со своим «уставом», наплевательски относились к сложившимся в Узбекистане нормам морали и общежития. В конце концов это и привело к межнациональному конфликту. Поводом послужила драка между болельщиками во время футбольного матча. Ну, а то, что одними из объектов нападений для узбеков стали русские девушки… Ратников, несмотря на весь свой вроде бы главенствующий в его сознании интернационализм, не был, что называется, интернационалистом-идиотом, глухим и слепым. Он отлично осознавал, что в каждом народе имеются свои специфические как достоинства, так и недостатки. Осознавал он и то, что те же народы, населяющие советские республики Средней Азии и Кавказа имеют одну общую ментальную черту, если они, что называются, взрываются, и желают унизить чем-то раздразнивших их людей другой нации, то самым действенным инструментом того унижения является массовое изнасилование женщин того народа. Этот средневековый «обычай» очень многие народы донесли до двадцатого века, в том числе и некоторые советские. Узбеки массово чувствовали себя униженными, ущемленными наплывом пьющих, матерящихся, не уважающих их обычаи строителей, как и появлением большого количества молодых славянских женщин и девушек ходящих в жаркие дни в открытых легких одеждах, коротких юбках. Те же строители занимали слишком много квартир во вновь строящихся домах. Узбеки, особенно молодежь, жаждали отомстить, и отомстили, но не столько бухим строителям, которые естественно дали отпор, но и беззащитным девушкам и женщинам подвернувшимся им «под руку».
Тот случай Ратников все же считал скорее исключением, чем правилом, к тому же произошедший уже давно, двадцать лет назад и не имевший ни продолжения, ни громкого резонанса, а главное произошедший без смертельных исходов.
Про то, что произошло сравнительно недавно в 1979 году, когда целый эшелон призывников с Северного Кавказа, чуть ли не захватил целый город и целую ночь там бесчинствовал… Этому Ратников не очень верил. По оперативной линии об том инциденте не сообщалось. Да и трудно было поверить в то, что призывники, юноши 18–19 лет, вчерашние школьники, даже обкурившись «дури», смогут сгруппироваться и выступить единым фронтом. Ведь захватить город это не просто. Он видел, какие приходят призывники в дивизион, многие и по внешнему виду и по мировоззрению больше напоминали мальчиков, нежели мужчин. Да среди них изредка попадались почти готовые уголовники, но таковых было не более трех-четырех на сотню. И то, что в том эшелоне собрались десятки, а то и сотни таких склонных к криминалу юных особей, Ратников не верил, и прямо сказал об том Малышеву.
– Вам просто никогда не приходилось видеть много кавказцев собравшихся вместе. Когда их много, толпа, они любой банде наших уркаганов сто очков вперед дадут, – отозвался на это Николай, но подполковник все равно не поверил.
Самым «туманным» из упомянутых Малышевым был наиболее старый по времени инцидент произошедший в Новочеркасске в 1962 году. Ратников о нем, конечно, слышал, но никогда не относил его к категории межнациональных. По официальной версии там произошло выступление антисоветских элементов, подстрекаемых недобитыми белогвардейцами и агентами иностранных разведок. Конечно и в эту чушь Ратников давно уже не верил. Он придерживался общенародной версии тех событий. А они были таковы, в Новочеркасске просто произошел голодный бунт, спровоцированный глупыми и неосторожными словами первого секретаря новочеркасского горкома. На вопрос разозленных отсутствием в магазинах продовольственных товаров горожан, чем нам питаться, он цинично заявил: «Ешьте траву». Но то что, командовать подавлением того бунта специально назначили Плиева, и тем более, что за рычаги танков намеренно были посажены южные нацмены… Нет, в это Ратников никак не мог поверить.
А вот что касается событий, произошедших в октябре 1981 года в городе Орджоникидзе, столице Северо-Осетинской АССР… О том, принимавший в них участие Малышев, рассказывал со всеми подробностями, как и другие офицеры, учившиеся тогда в Орджоникидзевском Высшем Зенитно-Ракетном Командном училище войск ПВО страны.
22
Волнения среди осетин вспыхивали в Орджоникидзе регулярно, с тех самых пор как Хрущев вернул из казахстанской ссылки ингушей, и восстановил упраздненную Сталиным Чечено-Ингушскую АССР. Дело в том, что ингуши всенародно считали левобережную часть города Орджоникидзе (Владикавказа) и примыкавший к ней Пригородный район частью Ингушетии, которую советская власть передала в состав Северо Осетинской АССР после насильственного выселения чеченцев и ингушей в 1944 году. Когда чеченцев и ингушей реабилитировали и восстановили ЧИ АССР, эти земли, отнятые у ингушей в пользу осетин им не вернули. В качестве компенсации Хрущев Чечено-Ингушетии отдал, отрезав от Ставропольского края, бывшие земли Терского казачьего войска, Шелковской и Надтеречный районы, по северному берегу Терека. То есть решил межкавказский спор за счет русских земель. Но так казалось ему. Нет, русские не возмутились, к тому времени и русский дух уже был не тот, тем более были морально окончательно сломлены остатки в основном изгнанных и уничтоженных еще в гражданскую войну терских казаков. Возмутились этим обменом ингуши. Они были крайне недовольны тем, что Надтеречный и Шелковской районы территориально прилегали не к ингушским, а к чеченским землям и получалось, что их отдают не им, а чеченам. Потому хрущевский «маневр» не решил проблемы – ингуши по-прежнему претендовали на Пригородный район и половину города. Ингуши случалось и мирными средствами пытались обращать внимание власти на эту проблему, а чаще действовали по кавказски – устраивали уголовный беспредел в тех районах Осетии, которые считали своими.
В тот день субботу 24 октября искрой взорвавшей «пороховую бочку» стало очередное убийство ингушами таксиста-осетина. А незадолго до того в Пригородном районе была полностью вырезана, включая детей, осетинская семья. Похоронная процессия с телом зарезанного таксиста проследовала чуть ли не через весь город, увеличиваясь по пути и дошла до центральной площади, где располагалось здание Северо-Осетинского обкома партии. К ним вышел первый секретарь обкома, члены республиканского правительства, но успокоить разгоряченную и уже вооруженную кольями, кирпичами и ножами толпу им не удалось. Осетины требовали выселить всех ингушей с территории республики и установить на границе усиленные милицейские посты, чтобы ни один ингуш хоть на машине, хоть пеший, хоть на осле не мог проникнуть в Северную Осетию. Руководство республики, видя что обстановка накаляется, ретировалось в здание обкома. Но толпа демонстрантов ворвалась в обком и стала его громить, заодно принялись крушить и прилегающие кинотеатр, магазины, парк, попытались штурмовать и располагавшееся рядом училище МВД… Курсанты штурм отбили, но в здании училища не осталось ни одного целого стекла.
Второй и третий курсы Орджоникидзевского зенитно-ракетного училища (ОВЗРКУ) подняли в помощь курсантам МВД с утра следующего дня, воскресенья 25-го октября. К этому времени, после тревожной ночи и толпа увеличилась, и на площадь были стянуты подразделения внутренних войск. А вот, что касается третьего, дислоцирующегося в городе училища, общевойскового, его командование отказалось выводить своих курсантов против осетин. Так что курсанты-ракетчики тогда оказались на той площади единственными в деле разгона толпы непрофессионалами. Потому им, технарям, и ответственный участок выделили наименее опасный, да и вооружены они были всего лишь резиновыми милицейскими дубинками, в то время как у МВДшников кроме дубин имелись и специальные щиты и особой ковки ботинки на ногах, и шлемы на головах, не говоря уж о спецсредствах типа слезоточивого газа «Черемуха».
Хоть и неробкого десятка был Николай Малышев, тем не менее, он сам признавался, что изрядно оробел, увидев разгромленную площадь, выбитые огромные стекла вестибюля кинотеатра «Октябрь», куда курсанты частенько в увольнении ходили смотреть фильмы. В их задачу входило блокировать подход площади со стороны городского парка, чтобы оттуда к митингующим не подошло подкрепление. Ближе к полудню 25-го началась основная фаза операции по разгону демонстрантов собравшихся на площади. Основная роль в том действе отводилась курсантам училища МВД и бойцам «особого» отряда войск МВД переброшенного по Военно-Грузинской дороге из Тбилиси. Слава о том отряде гремела по всему Кавказу, при его упоминании джигиты любой кавказской нации в ненависти скрежетали зубами и клялись отомстить… В тот день и курсанты-ракетчики воочию убедились как работают профессионалы подавления этнических бунтов.
Началось все с того, что где-то с полчаса толпу, достигавшую пяти тысяч человек в основном молодых людей, среди которых особой агрессивностью отличались вовсе не уголовные элементы, как потом говорилось в средствах массовой информации, а учащаяся молодежь, студенты орджоникидзевских ВУЗов и техникумов, учащиеся ПТУ и старших классов средних школ…
Так вот, эту толпу безуспешно пытались уговорить разойтись и не нарушать общественный порядок срочно прибывшие из Москвы ПредСовмина РФ Соломенцев и зам министра внутренних дел, зять Брежнева Чурбанов. В ответ они услышали, что Москве плевать на осетинский народ и все Политбюро куплено ингушами, раз им позволяют безнаказанно творить одно преступление за другим. Никто не верил уверениям, что преступники понесут заслуженное наказание, ибо на Кавказе вообще найти преступника, когда дело касалось «межнациональных преступлений» было всегда очень сложно – родственники и соплеменники делали все, чтобы выгородить, спрятать, откупить преступника. Когда пострадавшими были русские (мужчин обычно резали, а женщин насиловали) до суда доходило не более половины возбужденных дел. Но что русские, они за своих убитых и обесчещенных уже давно были отучены мстить советской властью, а вот осетины решили отомстить всенародно и власть такого допустить де могла.
Был отдан приказ приступить к «рассеиванию» толпы. Против пяти тысяч разгоряченных, взведенных молодых людей с кавказской ментальностью стояло чуть более двух тысяч солдат и курсантов… и если бы не тот особый тбилисский отряд и не высокая выучка и боевой дух курсантов МВД, вряд ли бы так быстро и эффективно разогнали ту демонстрацию. Любая кавказская толпа это особая толпа, ей нет равных в специфической жестокости. Если русские и прочие славяне особо чувствительны к социальному, классовому различию: бедные ненавидят богатых, подчиненные начальников, неимущие имущих, вертопрахи накопителей и наоборот… То на Кавказе высшая степень ненависти проявляется в межнациональных противостояниях, никакие социальные катаклизмы здесь не взводят так людей и не заставляют иной раз совершать невероятные подвиги и жестокости. И в борьбе с таким противником имело решающее значение воздействовать на него морально, подорвать его дух, оскорбить на национальной почве, унизить наглядно, жестоко. И профессионалы из особого отряда знали как это сделать.
Из рядов «тбилисцев» вышел среднего роста, крепкий, но далеко не мощный прапорщик лет тридцати и стал откровенно задирать осетин:
– Ну что, суки черножопые, кто против меня один на один выйдет, без всякого оружия!?… Чего ссыте, я обыкновенный русский мужик, а вы ведь кто… орлы горные, или бараны трусливые? Давай выходи, не позорьтесь перед своими бабами.
Несмотря на явно провокационный характер громогласно произнесенных слов прапорщиком и изрядно подогретую водкой и анашой толпу, довольно долго не находилось смельчака готового принять этот вызов. Видимо даже до горячих джигитов доходило, что прапорщик, несмотря на не богатырскую стать не просто так их провоцирует. А прапор продолжал подначивать:
– Ну, чего боитесь?… Против меня не то, что беззащитных русских баб на силу брать, я ведь могу и мошонку оторвать.
Вообще-то осетины позиционировали себя как союзники русских и потому были крайне возмущены еще и тем, что Москва, Центр не встает в таких вот внутрикавказских разборках однозначно на их сторону. Более того, здесь получалось, что русские встали на сторону ингушей, ненавидящих их куда больше чем осетины. Впрочем, на Кавказе все друг друга ненавидели, кто больше кто меньше, так всегда было. И в Москве на этот раз не стали разбираться кто Советскую власть, олицетворяемую в первую очередь русскими, больше ненавидит, ингуши или осетины. Раз осетины забузили, так и получите… Осетины же, хоть и не так как ингуши и чеченцы, но тоже ненавидят русских, и при случае утоляли свою ненависть каким-нибудь азиатским методом. Ну, а любимым методом унижения здесь еще в большей степени, чем в Средней Азии было изнасилование русских женщин. Разница опять же была лишь в том, что в Осетии это случалось реже, чем в той же Чечено-Ингушетии. Именно о том говорил прапорщик, «заводя» осетин. Минут пятнадцать не меньше прапор стыдил, оскорблял толпу, среди который были мастера спорта по борьбе, тяжелой атлетике, боксу… Наконец, он пошел с козырной карты, начал оскорблять осетинских девушек, стоящих в основном в задних рядах демонстрантов:
– Эй вы, девки-мокрощелки, ваши джигиты любят говорить, что все русские женщины бляди, так вот я во всеуслышание заявляю, что вы все бляди, и ваших бабок-пробабок кто только не имел, и татары, и турки, и ингуши с чеченами, а наши казаки их и за товар не считали, потому наверное они таких трусливых мужиков нарожали, что все ссут на меня выйти…
Прапорщик знал, как зажечь даже не зажигающуюся толпу кавказцев, он ведь служил в Тбилиси. Но на этот раз провокация удалась лишь частично, толпа не зажглась, хотя еще вчера с упоением громила все, что попадалось им под руку. Сегодня же увидев собранные для силовых действий войска, она несколько поутихла, но не расходилась. Так вот, не зажегшись всенародно, манифестанты-погромщики все-таки выдвинули из своих рядов джигита, который должен был наказать наглеца-прапора, наказать принародно, при всех. То был молодой лет двадцати-двадцати пяти джигит ростом где-то с метр девяносто и весом порядка ста десяти кило. Николай, сам боксер, быстро, на глаз прикинул примерные росто-весовые параметры, когда поединьщик скинул куртку и остался в синей, «олимпийке», которых не было в свободной продаже, и они обычно распределялись среди спортсменов сумевших выполнить норматив мастера спорта. Судя по стойке, в которую встал джигит мастером спорта он был по борьбе.
Ну, наконец-то, – удовлетворенно и нарочито громко провозгласил прапорщик, в свою очередь быстро и сноровисто скинув бушлат и бросив его своим товарищам в строю.
Поединок длился недолго, от силы минуты две-три. Джигит все время стоял в борцовской стойке, намереваясь захватить своими длинными руками противника, который был на полголовы ниже и килограммов на тридцать легче. Но прапорщик, не подходя близко, быстрыми пружинящими скачками «нарезал» вокруг него круги. Джигит в стойке поворачивался на месте, а прапор кружил все быстрее и, наконец, выбрал момент для атаки. Он, резко выбросив вперед одновременно руку и ногу, буквально как камень из пращи полетел на противника. Рука была в перчатке, а нога в высоком ботинке со шнуровкой, блеснувший снизу какой-то широкой металлической пластинкой. Рука пришлась точно в подбородок, а нога в пах. По тому, как громко, то ли вскрикнул, то ли как-то по животному прохрипел джигит, Николай точно определил, что не просто рукой и не просто ногой ударил прапорщик, не только ботинки, но и перчатки были с «секретом», скорее всего тоже имели металлические вставки, что позволяло использовать их как свинчатку, или кастет. Джигит согнулся сначала пополам, а потом повалился, хватая воздух широко открытым ртом. Николай сначала подумал, что прапорщик рукой целит в челюсть, как это обычно делали боксеры, но увидев результат молниеносной атаки понял, что удар «свинцовой» перчатки пришелся в шею, в район дыхательных путей. То был не боксерский, а отработанный до автоматизма двойной прием из арсенала боевого «САМБО», которым обучали бойцов элитных подразделений МВД, да и то не всех. Третий удар, опят же кованым ботинком по лежащему противнику в солнечное сплетение был лишним – джигит не сопротивлялся, лежал ничком и не то стонал, не то что-то кричал. Прапорщик эффектно поставил ногу на поверженного противника, вроде гладиатора-победителя на римском ристалище, но произнес не приветствие Цезарю (то бишь в данный момент исполнявшего его обязанности Соломенцеву), а обратился к притихшей при виде такого зрелища толпе:
– Ну, кто следующий!?
Больше охотников сразиться с прапорщиком не нашлось. Осетины этим зрелищем были потрясены пожалуй больше, чем до того видом ощетинившихся щитами и дубинками войск. Подавляющее большинство демонстрантов оказались морально сломлены. Этим не преминули воспользоваться разгоняющие. Не давая возможности джигитам вновь обрести боевой дух, они сомкнутыми рядами пошли в атаку. Площадь огласилась выкриками, матерной руганью, женским визгом, характерными звуками ударов… Кирпичи, палки… даже ножи оказались бессильны перед той атакой. Здесь основную роль уже играли курсанты училища МВД. Ведомые начальником училища (генерал явно хотел «засветиться» в глазах высоких московских начальников) они буквально врубались в толпу и теснили ее в сторону Проспекта, беспощадно обрабатывая дубинами. Атака-работа продолжалась минут десять-пятнадцать. Затем по команде курсанты дружно отходили, переводили дух, перестраивались и атаковали вновь.
Курсантов ОВККУ МВД в городе не любили. Не любили и русские, но особенно осетины. Впрочем, осетины не любили и курсантов ЗРВшников и общевойсковиков, но именно МВДшников, выходящих в город в увольнение наиболее часто била местная молодежь, нападая, имея, как правило, многократное численное превосходство. Забивали и до полусмерти, иной раз и до смерти. В этом училище было намного меньше, чем в других двух курсантов из местных и почти не было осетин. И потому курсанты МВДешники без жалости били осетин, используя момент, когда это можно делать вот так, не опасаясь никакого уголовного преследования. Не жалели ни парней ни девушек… Во время очередной атаки командовавший одной из курсантских рот капитан увлекся, орудуя дубинкой он не услышал команду об отходе. Курсанты отхлынули… а он остался. Толпа такой оплошности не простила. Офицер тут же был затянут в ее «недра» и буквально за две-три минуты живой здоровый человек был едва ли не разорван на куски. Увидев выброшенное из толпы обезображенное тело своего капитана… Тут уж пришла пора озвереть курсантам, до того в общем-то без лишних эмоций выполнявшим работу которой их учили.
В орджоникидзевское высшее командное училище войск МВД отбор курсантов имел специфический характер. Здесь не нужны были грамотные с определенным уровнем интеллектуального развития молодые люди. Особое упор делался на физическое развитие и опять же специфическую крепость духа, чтобы не наложил в штаны, не только при столкновении с уголовниками, но и, что обуславливалось местоположением училища, при столкновении с «идущими в разнос» джигитами. Причем второе превалировало над первым, ибо из второго вытекало первое, но далеко не всегда из первого второе. Очень часто те же вроде бы бесстрашные милиционеры, имевшие по многу задержаний и обезвреживаний урок, когда их из России командировали на Кавказ, на подавление этнических волнений, просто терялись при виде толп озверевших джигитов.
Мстя за своего погибшего офицера, МВДшники уже не теснили толпу, они ее уничтожали. Не выдержав беспрерывного беспощадного напора, толпа в панике побежала в разные стороны. Часть метнулась к парку. Здесь пришлось вступить в действие и курсантам зрв-шникам, которые уже своими дубинами направляли бегущих в сторону моста через Терек на левобережную часть города. Остальных МВДшники «канализовали» на проспект, по пути выхватывая отдельных бегущих и передавая милиции. На площади осталось лежать несколько десятков человек. Там были и павшие от ударов и задавленные бегущей толпой. Среди них оказалось немало девушек…
После тех событий из ракетного училища отчислили всех курсантов-осетин – они отказались идти разгонять демонстрантов. Потом стало известно, что за допущенные беспорядки был снят с должности первый секретарь компартии Северной Осетии Кабалоев. И все… Всем участвовавшим в тех событиях курсантам приказали молчать и ни где о них не распространятся. Николай не вдавался во все эти политические хитросплетения, как и любой другой молодой человек, которому в то время было всего 18 лет. Но он не выполнил «инструкцию» и где мог с восхищением рассказывал о действии тбилисского «особого отряда» и курсантов училища МВД. Он непоколебимо верил, что с обнаглевшими нацменами нужно поступать только так и никак иначе…
23
После Малышева почти полчаса Ратникова никто не беспокоил. Временное затишье несколько расслабило, боль в затылке притупилась, что позволило войти в «рабочую» колею и заняться делами. Вызвал Цимбалюка. Свинарь пришел, предварительно умывшись и сняв бушлат, но все равно принес неистребимый запах скотного двора. Цимбалюк в силу своей не слишком уважаемой, но оттого не ставшей менее востребованной специальности имел в дивизионе немало всевозможных льгот. Его не ставили в наряды, не направляли в командировки, при объявлении «готовности» он тоже никуда не бегал дальше своего свинарника. Ратников частенько прощал ему мелкие дисциплинарные прегрешения, такие как опоздания в строй и неряшливый внешний вид. Ведь свиньи выживали, особенно зимой, в основном благодаря его заботам и умению. Весной следующего года Цимбалюк увольнялся и Ратников искал ему замену.
– Ну что, присмотрел кого-нибудь на свое место, – подполковник пытался не морщиться, выдерживать, исходящий от свинаря запах.
– Ни… Товарищ подполковник, молодые усе больше с городив, к скотине без понятия, – отозвался без энтузиазма Цимбалюк.
– Попробуй Хорошуна. Он ведь тоже с села, земляк твой, – посоветовал Ратников.
Цимбалюк состроил недовольную гримасу:
– Можно трохи попытать, но разумею нема у ёго охоты. Бачил як он от духа поросячьего нос воротит. Як дивка городска.
– А ты все же попробуй, – настаивал подполковник. – Завтра я его к тебе направлю. Поучи его, может, будет толк. А нет, так кого другого посмотрим. Но ты и сам поторопись. Не приготовишь себе замену, в июле уволю, – подстегнул напоследок подполковник.
После ухода свинаря, сосредоточится на делах никак не получалось. За что бы ни брался мысли, навязанные разговором с Малышевым, все время пронзали сознание. «Как это он сказал: ассимилируют весь русский народ… А что, будь я помоложе, да погорячее, пожалуй, клюнул бы на это дело, ату их черных… Хотя, конечно, в его словах есть и своя логика, наглость надменного хамья очень сильно задевает. Хотя и русского хамья вполне хватает, разница может быть лишь в том, что русское намного трусливее того же кавказского…».
И все же Ратников считал, что Советская власть особо разгуляться хамью никогда не давала, иначе бы и общественный порядок нельзя обеспечить и развивать культуру… Почему то подумав о культуре, Ратников тут же вспомнил сравнительно недавно восстановленный в памяти тот шестнадцатилетний давности разговор с Ольгой Ивановной по пути из книжного магазина в школу. Вроде бы и не оказал он на него какого-то основополагающего воздействия, но как-то именно после него он стал без прежнего пиетета относится и к творчеству «потов больше чем поэтов», коими молва неофициально именовала Евтушенко, Рождественского и Вознесенского и даже заметно охладел к обожаемому им до того Высоцкому. Конечно, в последнем случае свою лепту внесло и то, что услышал он о нем из уст своего старшего сослуживца майора Киржнера. Уже в восьмидесятом году, когда передали сообщение о безвременной кончине барда и Анна, так и не поставленная в известность мужем о его частичном еврейском происхождении… Так вот, Анна искренне переживала и сетовала, что не уберегли такого человека, а Ратников внешне вроде также реагировавший, про себя отметил, что нечто подобного даже ожидал. Во всяком случае, его вера, что Высоцкий не проживет долго в какой-то степени основывались на словах самого барда, сказанные в той ночной беседе с глазу на глаз: надо жить в кайф и все попробовать. На уровне подсознания Ратников осознавал, что такая жизненная установка никак не сочетается с долгим пребыванием на этом свете.
В том же 1980 году Ратниковы поехали в отпуск с задержкой, вызванной летней Олимпиадой. Они поехали уже после неё и естественно после смерти Высоцкого, случившейся как раз во время ее проведения. Когда остановились у Веры, Анна в обязательном порядке намеревалась посетить свежую могилу барда на Ваганьковском кладбище. Дочь была еще мала, Игорь не горел желанием ехать на кладбище. В общем, оставив детей с Верой, поехали вдвоем. Могила Высоцкого была буквально завалена цветами. Туда же положила свой букет и Анна, она даже немножко прослезилась. Тут же выяснилось, что неподалеку располагается и могила Есенина. Решили сходить и туда, чтобы возложить цветы. У Есенина тоже было немало цветов, но в разы меньше чем у Высоцкого. И тогда Федор Петрович тоже смутно припомнил разговор с Ольгой Ивановной из 1970 года. В связи с чем, ему в голову вдруг пришла мысль, которую он и озвучил жене:
– Как ты думаешь, Ань, лет эдак через тридцать-сорок соотношение цветов на могилах Высоцкого и Есенина будет такое же?
Жена не поняла, с чего это у мужа родилась такая «сравнительная» мысль и ничего не ответила. А Ратников непроизвольно вспоминая размышления Ольги Ивановны уже сам домыслил: лет через тридцать еще может быть, что у Высоцкого цветов буде несколько больше, а вот через пятьдесят… То, что у Есенина будет не меньше чем сейчас – это наверняка. А вот, сколько их останется у Высоцкого?…
«Культурные» мысли как-то вдруг иссякли, а их место почему-то заняли размышления опять же вызванные высказываниями Малышева о возможно ассимиляции русского народа южными нацменами. «А так ли вообще страшна эта всеобщая ассимиляция, смешение всей наций и рас? Ведь когда-нибудь, хоть и очень нескоро все население Земли должно слиться в единый народ – землян, человечество. Как говаривал шолоховский Макар Нагульнов, все люди будут одинаково приятной смуглости».
Подполковник встал из-за стола и в раздумье стал ходить по канцелярии, четыре шага до стены и четыре назад: «Ведь тогда не будет этого вечного разлада, разделения по цвету кожи, разрезу глаз, языкам. Все будут просто люди и все будут говорить на одном языке… Вот только на каком? Наверное, на эсперанто или английском. А почему искусственный эсперанто или английский, а не русский, немецкий, или испанский, и смогут ли целые народы добровольно перейти со своего языка на этот, который объявят общечеловеческим? И потом, как же можно перевести того же Пушкина на другой язык, если он именно по-русски звучит, так как должен звучать. Да, наверняка, у любого поэта только на своем языке его произведения звучат как шедевры, а на чужом многое теряется…». Даже мысленно Ратников зашел в тупик.
Неделовые мысли улетучились как дымка под воздействием первого же реального телефонного звонка, уступив место рутинной повседневности. С полка, со строевой части, напомнили о подаче дисциплинарной практики за последние две недели. Это была обязанность начальника штаба, и Ратников сделал соответствующую пометку на листе бумаги, положив его на стол Колодина. После этого звонка уже не хотелось думать ни о чем, ни об ассимиляции, мировом языке, тем более Ратникова вновь стал донимать затылок. Тем не менее, ни о чем не думать он не мог, но от «глобальных» мыслей перешел к более локальным, конкретным: надо было как-то бороться со все сильнее прослеживающемся межнациональном размежеванием в солдатской среде… «Видимо придется объявить строевое собрание и обязательно провести его до Нового Года, иначе потом в текучке забудется. И ни в коем случае не именовать его как собрание для укрепления дружбы между народами СССР, интернационализма. Уж больно затерто это звучит – не получится открытого разговора. Опять активисты-комсомольцы, замполитом назначенные, выступят за дружбу и братство, и на этом все кончится. Лучше конкретно ребром вопрос поставить, кто как работает и какой вклад вносят в поддержание боеготовности и жизнедеятельности дивизиона. И что получиться? Все основные боевые специалисты – славяне, потому что они свободно по-русски говорят, снег кидают опять те же славяне и прочие там мордва и татары, правда младших призывов. А вот кавказцев кроме Церегидзе и Григорянца ни на боевой, ни на грязной работе не увидишь, они каким-то чудесным образом почти все оказались на продскладе, в столовой, в каптерке… Как же это получилось. Сейчас Ратников сам этого понять не мог. Да, и Ахмедов, и Гасымов на своих местах, хорошо выполняют свои обязанности. Но почему они все активнее начинают концентрировать вокруг себя земляков и служат для них примером? Потому что лучше других солдат питаются, не мерзнут, не бегают по готовности. И не поэтому ли «молодые» кавказцы мечтают не боевой специальностью овладеть, как тот же Закиров в свое время, а дождаться когда уволятся Ахмедов и Гасымов и уже «по наследству» занять их места на продскладе и в каптерке? Малышев утверждает, что все это не случайно… «Да, ничего хорошего, пожалуй, с того собрания не получиться…».
В декабре темнеет быстро. В шесть часов уже смеркалось, включили уличное освещение в городке и на позиции. На плацу, успевшим подернутся тонким слоем свежевыпавшего снега, шел развод суточного наряда. Школьная машина привозит вторую смену школьников и почту, которую старший машины заносит в канцелярию. Ратников уже сидит не в одиночестве, замполит подошел, чтобы разобрать письма пришедшие солдатам, на предмет отсева местных от девиц из Новой Бухтармы. Очень часто такие письма провоцировали самоволки. Правда, такого уже года три как не случалось. Нынешние поселковые представительницы «самой древней профессии» были уже не столь легки на подъем, что их предшественницы лет десять назад. Приехать из Новой Бухтармы на попутке, а потом пройти еще три километра пешком от шоссе, чтобы «встретиться» с солдатом или сразу с несколькими в каком-нибудь совхозном стогу возле дивизиона… Таковых охотниц в последнее время не находилось. А раньше были. Такого рода самоволки случались в основном летом. Солдаты «бегали» после случайных знакомств во время работ в совхозе или на предприятиях в Новой Бухтарме. Не посылать солдат на отхожий промысел Ратников не мог. За это он имел немало: некоторые стройматериалы, бульдозер зимой для расчистки дорог и позиции, рыбу, картофель и некоторые другие продукты. В полку уже давно и устойчиво обосновался слух: на «точке» у Ратникова солдат кормят значительно лучше, чем в любом другом дивизионе и даже лучше чем в управлении полка…
Замполит просмотрел письма.
– Местных, кажется, нет, – констатировал он.
В канцелярию зашел ездивший старшим после обеда за школьниками Дмитриев, и выжидательно-молча глядел на командира.
– Что ты хотел, Валера? – Ратников поднял глаза на прапорщика.
– Тут телеграмма пришла… у Лукина отец умер, – Дмитриев протягивал телеграфный бланк.
Замполит осторожно, словно раскаленный уголь взял ее:
– Да, действительно… все так… только военкомом не заверена.
Ратников тоже прочел телеграмму:
– Такими вещами не шутят, видимо не до заверения было. Ты ее никому не показывал? – спросил Ратников Дмитриева.
– Не, ни кому, что же я не понимаю…
Сержант Лукин служил в отделении связи и в общем характеризовался положительно. Лишь Пырков имел на него «зуб». Не будучи активистом, Лукин любил, тем не менее, выступать на комсомольских собраниях с критикой в адрес замполита. Та критика обычно касалась организации солдатского досуга. Однажды ему даже удалось подбить солдат проголосовать против резолюции предложенной Пырковым, добивавшемуся объявления строгого выговора с занесением в учетную карточку, так же с ним конфликтовавшему солдату.
Ратников сам позвонил радистам и вызвал Лукина. Тем временем за дверью канцелярии уже собрались и переговаривались офицеры: кончился рабочий день, и они хотели забрать свою почту. Ратников, обычно сразу после проверки писем позволявший им заходить и брать корреспонденцию, на этот раз никого в канцелярию не пускал. Он ждал Лукина, ибо не хотел сообщать ему роковую весть при столпотворении и под шелест газет… Сержант пришел через десять минут, среднего роста, худощавый уроженец города Ачинска. Ратникову неоднократно за всю службу приходилось сообщать подобные известия, но всякий раз он не знал с чего начать. Получалось как-то само собой, без заранее продуманного плана. Сейчас он тоже было замялся, но лишь на несколько секунд. Начал осторожно:
– Из дома письма давно получал?
– Недели две, как мать написала…
Лукин ничего не подозревал и если и волновался, то от незнания причин вызова к командиру: вдруг на вздрючку.
– Вот что, Павел. Присядь-ка, – Ратников указал на стул напротив себя.
Лукин осторожно присел, удивленно глядя на командира и начиная подозревать неладное.
– Что мать-то писала, как дома?
– Да, ничего особенного, все нормально. Отец только приболел. С легкими у него неважно. Он экскаваторщиком на угольном разрезе работает, все время угольной пылью дышит.
– Сколько лет отцу?
– Сорок восемь… Что случилось, товарищ подполковник, – подбородок сержанта мелко задрожал.
– Мужайся Павел, – Ратников подал телеграмму.
Вчитываясь в строки, Лукин начал бледнеть.
– Николаич, живо Гасымову команду, чтобы немедленно «парадку» Лукину выдал, а я в полк звоню, чтобы проездные и отпускное там приготовили, – энергично стал отдавать распоряжения подполковник.
Замполит кинулся к каптерке, расталкивая сгрудившихся за дверью офицеров.
– Может завтра с утра пусть едет, сегодня поздно уже, – засомневался Колодин.
– Нет, твердо возразил Ратников, – пусть прямо сейчас едет. Он еще на похороны успеть должен. Иди Павел, собирайся, сейчас поедешь, только телеграмму не потеряй. По ней билет на самолет без очереди возьмешь.
После того как потрясенный известием сержант покинул канцелярию, Ратников озадачил уже Дмитриева.
– Валера, тормозни школьную машину, чтобы водитель воду не сливал, заправь ее и через пятнадцать минут, чтобы была готова к выезду в полк. Старший замполит.
Послать старшим Пыркова в муторный путь до Серебрянска и назад, Ратников решил потому, что считал, так будет справедливо – кому как не замполиту положено работать в таких ситуациях. Потом он позвонил и быстро утряс с полком и сержант Лукин поехал в отпуск по семейным обстоятельствам.
24
«Отфильтрованные» солдатские письма переданы дневальному, а в канцелярию, наконец, допущены офицеры для разбора своей почты.
– Ну, наконец-то «Радио» мое, одиннадцатый номер пришел, – вожделенно листал долгожданный журнал Гусятников.
Малышев ухватил два номера «Советского Спорта» и внимательно изучал сообщения о каком-то внутрисоюзном боксерском турнире, в надежде обнаружить фамилии тех с кем когда-то тренировался или встречался на ринге. Это было его любимое занятие: найти знакомую фамилию, пофантазировать на тему, чего бы он смог в свои двадцать три года добиться, если бы не пошел в училище, а продолжил бы интенсивно заниматься боксом. Большинство же разбирало газеты, журналы и письма, не читая, откладывая это удовольствие до дома.
Канцелярия опустела, Ратников вновь сидит один, и привычным ухом через закрытую дверь слушал звуки казарменного организма. И не видя, он знал все, что там происходит. К тумбочке дневального то по одному, то группами подходили солдаты, с надеждой спрашивали: «Мне есть?» И услышав ответ, либо с сожалением отходили, либо получив конверт искали укромный угол, чтобы остаться наедине с кусочком бумаги, связывавших их с далеким родным домом, прежней жизнью, которой только здесь познали истинную цену. Гремя прикладами и ружейными ремнями, сдавал в оружейную комнату автоматы сменившийся караул, и с тем же вопросом к тумбочке дневального.
«А этот новоявленный рвач хотел сейчас занятия проводить. Какие занятия, когда они письма из дома получили? И время сейчас письма читать, а не противогаз одевать. Страшная болезнь карьеризм, никого и ничего заболевший не чувствует, живых людей не видит, только свою цель». Приобретенная с годами привычка к самоанализу позволяла подполковнику осознавать, – столь глубокая его проницательность объясняется в первую очередь тем, что он сам довольно долго был болен этой болезнью. Ведь и у него была когда-то цель. Но он не дошел до нее, не смог, съехал с большака на проселок и безнадежно отстал. А кто-то доходит, становится генералом, маршалом… членом Политбюро. Зачем?… Кто чтобы просто насладиться благами, а кто-то, чтобы внушать, вдалбливать если надо силой, тем кто ниже его, тысячам, миллионам, свое видение жизни, заставить их жить так, как тебе хочется. Некоторым, таким как Наполеон, Гитлер или Сталин это очень даже удавалось.
Ратников время от времени тряс головой. Ну, кто он такой, чтобы думать об этом, что это изменит, ведь плетью обуха… «О черт даже думать боюсь, ну и напугал же наших отцов и дедов Виссарионыч, аж нам передалось. Ну, ладно, черт с ним, со всем этим общечеловеческим. А вот тебе-то чего не хватило для успеха в жизни… везения, связей, способностей? Есть же люди, такие же как и ты, из низов, но пробились, стали знаменитыми, даже народными любимцами. Если не зацикливаться на Армии, а посмотреть в той же культурной жизни, сколько их, и без связей пробились. Ну, кого вспомнить?». Но как не пытался Федор Петрович вспомнить всех этих современных Ломоносовых, Шаляпиных, Есениных, которые сумели от «сохи» подняться к вершинам… О поэтах и бардах он уже столько думал, что о них вспоминать уже не хотелось, тем более что настоящему самородку Есенину они все не ровня. Но он думал, вспоминал… и, наконец, нашел. Одно бесспорно яркое имя среди его современников, конечно, было. Он даже удивился, почему не подумал о ней сразу. Ведь эта женщина действительно в первую очередь благодаря своему недюжинному таланту без особых связей и толкачей пробилась, поднялась. Более яркого примера в Союзе во второй половине двадцатого века не было, чем такое уникальное явление как Алла Пугачева…
Всего несколько лет назад Ратников еще считал эстрадную певицу Аллу Пугачеву молодой, во всяком случае, гораздо моложе себя. И когда Анна вдруг сообщила, что она почти ее ровесница, он был крайне удивлен, что эта нестандартная в поведении, и довольно развязная девица тоже принадлежала к послевоенному поколению. Это «открытие» заставило его внимательней к ней присмотреться, благо на телеэкране она появлялась часто. Он попытался разгадать секрет ее кажущейся «молодости». Внешне, даже в гриме она, в общем, не смотрелась моложе своих лет. А вот в своих песнях она представала совершенно свободной от тех «пут и цепей условности», что незримо с детства, со школы, с пионерского лагеря опутывали едва ли не любого советского человека, родившегося в конце сороковых и в пятидесятых годах. Родившиеся в шестидесятых уже ощущали те путы не столь сильно. Он видел это и по солдатам и тем более по молодым офицерам. Наблюдая певицу по телевизору и анализируя ее поведение, Ратников сначала сделал сам собой напрашивающийся вывод: чтобы простому человеку чего-нибудь достичь, кроме способностей необходима еще и изрядная наглость. Ведь именно такой и казалась Пугачева, талантливая и наглая, даже хамоватая. А как же еще пробиться через частокол всевозможного блата, кумовства и разных «ты мне – я тебе», если у тебя нет ни какой поддержки? Может, и ему не хватило этой самой беспардонности в своем деле, все ждал, что заметят, оценят. А надо было ходить, требовать, попадаться на глаза вышестоящим, унижаться – наступать на горло своей гордости, может быть даже взятки давать… Ратников знал таких людей, которые ради карьеры не брезговали буквально ничем, некоторые даже «подкладывали» под начальников и всевозможных проверяющих своих жен, или женились на перезрелых, гораздо старше себя дочках генералов, преподавателей академий… При упоминании всех этих «средств» Ратникова тянуло на рвоту – он не мог представить в подобной ситуации ни себя, ни Анну. Тем не менее, время от времени устраиваемые женой ссоры на бытовой почве сформировали у него своеобразный комплекс. Он искренне считал, что не смог обеспечить жене и детям достойной их жизни, ощущал не проходящее чувство вины.
Что касается Пугачевой, то Ратников, конечно, понимал, что это исключение из правил, этот пример нетипичен, и возможен только в творческой среде. Просто уж очень она талантлива в своем деле. Остановить такую даже закаленным в «боях» советским чиновникам от культуры было не под силу, тем более вставлять ей «палки в колеса» бездарям и середнякам из артистической богемы – все равно что море плотиной перекрыть. Впрочем, ей конечно и со временем относительно повезло, чуть раньше «перекрывали» только так, и в лагерях гноили, и убивали. Сколько талантов было загублено в золотое для «органов» сталинское время. Сейчас, слава Богу, времена уж не те, хотя и пытаются, стоит таланту оступиться, дать слабину – и нет таланта. Вон и Захарова со сцены выкинули, и Ободзиньского, и над Леонтьевым издеваются, гоняют как бездомного соленого зайца, квартиры даже в Горьком, не говоря уж о Москве, не дают. Но на Пугачеву, настоящую народную любимицу, все же покуситься опасаются, разве что в газетных статейках из-под тишка куснуть могут. А то что Пугачева, несмотря на весь свой эпотаж и нескромность, любима народом, Ратников убедился воочию три года назад в мае того памятного 1983 года, когда побывал на ее концерте. Так вот, тот концерт повлиял на него сильнее, чем тысячи сплетен и десятки телетрансляций.
Билеты на концерт случайно приобрела Анна, когда Ратниковы, возвращаясь из санатория, забрав детей в Ярославле решили оставшиеся дни отпуска провести у Веры, чтобы успеть «побегать» по московским магазинам. То был сборный концерт «звезд» эстрады во дворце спорта «Олимпиский». Огромный зал зрители забили до отказа, ибо выступающих «звезд» набралось немало: «Земляне», Борткевич, Ножкин, Брегвадзе и еще ряд менее известных. Завершала программу «Она». Там Ратников воочию убедился, в чем отличие «звезд» от «Звезды». Чтобы это понять, при этом надо было присутствовать, видеть и слышать вживую. Ни какая телетрансляция этого передать не может. Артисты на сцене пели, говорили, шутили… Борткевич из кожи лез доказать, что он и без «Песняров» кое что стоит. Правда, получалось у него это не очень убедительно. Ножкин продемонстрировал этакие советско-ястребиные взгляды, заявив, что у нас весь мир враги, а потом спел не первой свежести песенку про то, как его «образованные просто одолели». Брегвадзе явно не хватало ее «камерного» голоса даже усиленного радиоаппаратурой на весь огромный Дворец спорта. Однако все этот мало кого волновало. Большинство зрителей их воспринимало вполуха, в качестве «разогрева». В зале переговаривались, посмеивались, обсуждали что-то свое – весь двадцатитысячный «Олимпийский» ждал появления «Её» и только «Её». Особенно не повезло в том концерте Брегвадзе. Она пела последней перед Пугачевой и весь гигантский зал как будто подгонял ее своей единой волей: скорее, скорее, кончай, что ты там шепчешь, мы пришли ради «Нее», хотим видеть и слышать только «Её», а вас всех так, в «нагрузку» нам подсунули. Брегвадзе кончила петь, удостоилась жидких аплодисментов, и еще не успела покинуть сцену, как адресованные ей хлопки, захлестнула мощная волна рукоплесканий: на краю затененной сцены, в скользящем луче прожектора, на мгновение мелькнуло концертное платье, знаменитая пугачевская «летучая мышь». Зал бушевал несколько минут. Ратников, уже имел опыт ощущения гипнотической силы довлеющей над залом, примерно то же он ощущал в Зыряновске на концерте Высоцкого. Ему даже стало не по себе от столь явного пренебрежения публики к предыдущей исполнительнице. Анна и Игорь (дочь по малолетству на концерт не взяли) тоже поддались общему психозу и хлопали что было сил.
Певица спела семь своих песен-хитов: «Миллион алых роз», «Старинные часы», «Сонет», «То ли еще будет», «Любовь одна виновата»… То было время наивысшего расцвета ее дарования, апогей ее творчества, она пела вдохновенно, в охотку, властвовала над залом и щедро одаривала зрителей: голосом, движениями, страстью, своим хорошим настроением. Люди… не маленький камерный залишко, где собирается элита, или знатоки искусства, а тысячи совершенно разных людей со всей страны, ее слушали и смотрели, они ее обожали, боготворили… Потом, наверняка, многие из них по-прежнему сплетничали и судачили о «Ней», пересказывали анекдоты про «Неё», возмущались ее поведением, высокими гонорарами… Но все они, несомненно, вспоминали и будут вспоминать, что побывали на «Её» концерте, гордится ею, гордится даже ругая и понося.
Размышления подполковника прервал очередной стук в дверь. Вошли старый и новый дежурные по дивизиону. Они доложили о приеме-сдачи дежурства, подали журнал с соответствующим рапортом. Ратников расписался в журнале, коротко проинструктировал нового дежурного и… вновь остался один… «Ну вот и этот длинный день подходит к концу, на сегодня кажется все, можно домой идти», – подумал было подполковник, но тут в дверь вновь постучали.
– Разрешите?
Это был вновь Дмитриев. Он дождался, пока офицеры передадут дежурство и, судя по всему, зашел с какой-то просьбой.
– Что еще Валера? – устало, но доброжелательно спросил Ратников.
– Товарищ подполковник, разрешите мне на завтра на школьную машину опять себя старшим запланировать, – немного смущаясь, попросил прапорщик.
– А в чем дело, у тебя какая-то нужда?
– В общем да… У матери печка почти не топиться, дымоход забился. Я летом как-то не собрался почистить думал, до следующего года потерпит. А тут, сегодня поехал, а мать меня уже ждет, плачет, говорит дым прямо в дом идет, спасу нет. Я домой-то заехал, действительно плохо дело, совсем где-то забилось, срочно надо пробивать.
– Пробивать говоришь?… Да нет, за те три-четыре часа, что школьников ждать будешь, ты никак не управишься… Давай так сделаем. Старшим ты назавтра меня планируй. У меня там тоже дела есть, а сам в будке поедешь. Если успеешь печь исправить, назад вернешься со второй сменой, а не успеешь, тогда на ночь оставайся. Мать это мать, ей помочь обязательно надо, как же ей без печки зимой, – наставительно произнес Ратников.
– Спасибо товарищ подполковник…
25
Разговор с Дмитриевым напомнил Ратникову о собственной матери. Он перебрал свою почту лежавшую перед ним, газеты «Правду», «Красную Звезду», обязательные для каждого офицера, «Спорт» для Игоря, «Пионерскую правду» для дочери… никакого конверта не было. Писем от матери не было уже больше месяца, хотя от тещи пришло неделю назад. Ратников записал в свою записную книжку, завтра в поселке заказать переговоры с Верой и выяснить у нее все ли нормально с матерью. До Медвежья, не имевшего телефонной связи, дозвониться было невозможно…
Не поехала Ефросинья Васильевна к детям после смерти мужа, осталась одна в опустевшей избе. Тяжело и муторно остаться под старость одной. А куда поедешь? Старшая дочь, что в соседней области еле концы с концами сводит. Не прибудет там ладу, если еще и она на прокорм заявится. Не захотела она ехать и в Люберцы ко второй дочери – семья без детей это не семья, и опять же в доме зятя теща вряд ли ко двору придется. Отклонила мать и предложение сына, мол и ехать далеко, и квартира у вас маленькая, а дети подросли. И она и сын отлично понимали, что истинная причина совсем иная – неприязнь между снохой и свекровью. И хоть Ефросинья Васильевна не имела возможности наблюдать Анну в ее повседневной жизни, но ее поведение, когда они приезжали в отпуска говорило достаточно красноречиво – эта не потерпит в своем доме второй хозяйки. А стать приживалкой, нахлебницей, или нянькой при детях она не могла в силу своего характера. Она была еще крепка, хотя после шестидесяти чуть согнулась и еще более высохла. Но тяга к работе у нее не пропала. Ефросинья Васильевна хоть и вышла на пенсию, но продолжала работать в колхозе, благо не гнали – рабочих рук в деревне становилось все меньше. Заработок и пенсию откладывала для внуков – может, помянут бабку добрым словом. Дети и внуки, вот что стало смыслом ее жизни. Она ждала их в гости с осени до лета будущего года. Только летом она жила полноценной жизнью. Из скотины оставила только корову да несколько куриц. Трое детей старшей дочери бывали у нее каждое лето, благо ездить недалеко. А вот Федор со своими приезжал реже. Если отпуск его самого выпадал зимой, детей со школы не сорвешь, а летом получалось не всегда. Но даже когда сын привозил семью в Медвежье, жили они там от силы две недели, делили отпуск между бабой Фросей и городской бабой Настей. Может, оттого что видела их реже, дети сына были для Ефросиньи Васильевны любимыми внуками. Через внуков она уже и к снохе стала относиться терпимее, поостыла былая неприязнь. Не могла не видеть мать, что сумела-таки эта своенравная городская девка создать хорошую крепкую семью, содержать в чистоте и холе детей, и мужу за столько лет не надоела, не опостылела. У ее дочерей, увы, таких семей не получилось. Она уже не ревновала сына к снохе, хоть та с годами не теряла красоты, и сын по-прежнему не мог, как говориться, ей «надышаться».
Этим летом, когда после Люберец и Ярославля Ратниковы приехали в Медвежье, Анна пожалуй впервые явственно ощутила, что свекровь к ней несколько «потеплела». Если раньше она излучала приветливость и ласку только в отношении сына и внуков, то сейчас стала относительно доброжелательна и с ней. Анна, уставшая от многолетней конфронтации, так этому обрадовалась, что уже самостоятельно вызвалась помогать по хозяйству. Летом жизнь в старом ратниковском доме кипела вовсю. Мужики, сын и муж старшей дочери, латали полуистлевшую старую крышу, клали заплаты из свежей дранки. Потом чинили крыльцо, заготавливали дрова, чтобы Ефросинья Васильевна могла, не прося посторонней помощи, пережить и осенние дожди, и зимние холода. Анна же вместе со старшей дочерью брали на себя всю женскую работу, кроме дойки и приготовления пищи. К печке и корове Ефросинья Васильевна никого не подпускала, хотя Анна на радостях от примирения со свекровью была готова отважиться даже подоить корову. Ефросинья Васильевна не дала осуществить благое намерение, пожалела сноху, сказав, что эта корова кроме нее никого к себе не подпускает. Анна оценила великодушие, но тут же и забеспокоилась, не с умыслом ли та изменила свое к ней отношение, уж не собралась ли она приехать к ним, погостить, или, не дай Бог, жить. Но все объяснялось гораздо проще. Ефросинья Васильевна уже три года не видевшая Игоря, Люду и её (Ратников приезжал к матери каждый год, даже если отпуска выходили зимой, приезжал один), просто очень по ним всем соскучилась. Годы перемололи ее нетерпимость, к старости поневоле становишься миролюбивым. К тому же семья сына, несмотря ни на что, радовала Ефросинью Васильевну. Радовал сын, тем, что крепко «стоит на ногах», радовал молодецкой статью Игорь, даже Люда виделась бабке не болезненной худышкой, а милой, стройненькой беляночкой. Насчет внешности внучки она была иного мнения, нежели Анна. Ефросинья Васильевна сама никогда не отличалась полнотелостью и округлостью и потому не считала трагедией то, что у внучки в двенадцать лет отсутствуют зачатки женских форм. Она подметила то, чего не рассмотрела Анна: внучка пошла не в мать, а в нее, худощавую, угловатую, а ее пока еще хрупкие выпирающие ключицы обещали со временем превратиться в такие же как у Ефросиньи Васильевны крупные и крепкие кости. Видеть свое повторение в потомках всегда приятно, но Ефросинью Васильевну уже не раздражало, что во внуках явно прослеживаются и многие наследственные черты столь нелюбимой ею ранее снохи.
После отъезда гостей жизнь Ефросиньи Васильевны чем-то напоминала летаргический сон, сон воспоминаний о прошлом лете и грез о будущем, когда изба вновь наполнится шумом, голосами, возней, смехом, когда вновь надо будет не просто так, а для кого-то доить корову, готовить еду. В таком же «полусне» проживали остаток жизни многие обитатели деревень, в которых оставались в основном одни старухи. В Медвежье, еще в шестидесятые насчитывавшем более пятидесяти обитаемых дворов, в восьмидесятых осталось едва двадцать. Одна за другой заколачивались избы крест-накрест – деревня медленно, но неотвратимо умирала.
Мысли о матери, вновь спровоцировали позывы к затылочной боли. «Ладно, на сегодня пожалуй все, домой надо идти, полежать. Ох, и тяжкий получился день…»
Звонок телефона. Подполковник, болезненно поморщившись, с досадой берет трубку:
– Кто там еще!?
– Товарищ подполковник, вас начальник штаба полка, – отчетливо звучал в трубке голос дежурного телефониста.
– Федор Петрович, ты!? – тут же послышалась надтреснутая скороговорка полкового НШ. В голосе чувствовалась озабоченность.
– Слушаю Ратников!
– Здравствуй, срочное ЦУ, слушай внимательно, а лучше запиши.
Ратников машинально пододвинул к себе блокнот:
– Я вас слушаю.
– Сейчас из корпуса мой шеф звонил. У них там в Алма-Ате какая-то сильная заваруха. Комкор срочно свернул свой визит и уже к себе назад вылетел. Ты меня хорошо слышишь?
– Да, конечно. А что именно случилось-то?
– Точно сказать не могу, но вроде какие-то студенты-казахи в количестве нескольких тысяч бузу на площади Брежнева затеяли, демонстрацию с лозунгами.
– Какими лозунгами? – не смог сразу «врубиться» Ратников.
– Ну, ты что, Петрович, с луны свалился, не знаешь, что мы с тобой в чуркестане живем, и что они там кричать могут? У тебя, кстати, кто на коммутаторе сидит? – вдруг забеспокоился начальник штаба.
– Рядовой Линев.
– Это который ростом с колокольню?… Ну тогда не страшно… Линев ты слышишь? – тут же осведомился начальник штаба.
– Так точно. Мне по обязанностям положено прослушивать разговор, контролировать качество связи, – с обидой в голосе, видимо на «колокольню», отозвался с коммутатора Линев.
– Слушай, но о том, что сейчас услышишь пока не трепись. Понял!? – грозно предупредил начальник штаба.
– Так точно, – с готовностью отвечал связист, явно польщенный тем, что ему доверяют какую-то важную тайну.
– Так вот, Петрович, лозунг у них у все один: «Русские убирайтесь в Россию». Были столкновения с войсками и милицией, имеются жертвы.
– Но почему, с чего это… вроде бы никаких предпосылок…
Ратников был просто ошарашен известием, он отказывался верить начальнику штаба. Этот подполковник пришел в полк откуда-то из Узбекистана и, похоже, еще не осознал, что казахи и среднеазиатские нации далеко не одно и то же. Если среди узбеков, туркмен и таджиков действительно в ходу был лозунг «Русские убирайтесь в свою Россию», то в Казахстане за исключением крайнего юга русские и казахи сосуществовали относительно мирно, и таких слов из уст казахов услышать было невозможно.
– Как почему ты, что телевизор не смотришь, газет не читаешь?
– Да нет, в последнее время как-то не до того было, – несколько смутившись, признался Ратников.
– Так ведь пленум ЦК Казахстана прошел. Кунаева от должности освободили. Такие вот пироги.
– И что, они из-за него что ли? – удивился Ратников.
– Да нет, кому он нужен, чтобы из-за него на демонстрации выходить. Дело в том, что на его место не казаха назначили, а русского, Колбина, бывшего первого секретаря Ульяновского обкома. Вот этого-то они и не смогли перенести, вышли с протестом. В связи с этим спущено устное распоряжение в войска округа, никого из этих «хозяев страна» сегодня и в ближайшие дни, до особого распоряжения, в караул не ставить, и вообще от оружия подальше держать. Понятно?
– Понятно… Но вы можете поточнее сказать, что же там все-таки случилось?
– Пока сам толком ничего не знаю, так в общих чертах, что была демонстрация, которую разогнали, есть жертвы, а более ничего. Ну ладно, мне еще другие подразделения обзвонить надо. Давай, действуй.
Ратников буквально застыл, позабыв про трубку, которую сжимал в руке, будто сведенной судорогой. Привычка, однако, взяла свое, заставив рефлекторно начать выполнять поступившее распоряжение.
– Дневальный, книгу нарядов ко мне! – приказал, открыв дверь канцелярии, Ратников.
Принесли книгу.
«Двух человек с караула снимать надо, Омарова и Касенова. А как им это объяснить? Что это за советская власть такая, которая вдруг им, своим гражданам, оружие не доверяет, потому что в Алма-Ате беспорядки были на национальной почве? Нет, кто угодно, только не они… наверняка это какие то диссиденты, у которых мозги набекрень. Не может быть, чтобы семьдесят лет советской власти не оставили для них никакого следа. Ведь воевали вместе, целину поднимали вместе, и вот на тебе дожили, вот те и единый советский народ. Не хотят казахи, чтобы в Казахстане русский рулил, лучше плохой, но свой… И там в Кремле, что совсем одурели от Перестройки этой, думают, что эти все стерпят, дескать казахи не кавказцы, за ножи не схватятся. А у них вон тоже предел терпению есть… Теперь Стрепетов не должен не вспомнить, что я ему здесь втолковывал, ведь как раз когда мы тут с ним говорили, та самая демонстрация и случилась. Теперь может и до него дойдет, что я не просто воздух сотрясал, а имел основания…»
26
И в этот вечер 17-го декабря Ратников пошел домой только к десяти часам вечера, едва держась на ногах. Анна уже не раз подогревала для него ужин, и заранее загнала спать не только Люду, но и упорно противившегося Игоря. Она хотела, было, по обыкновению, отругать за опоздание мужа, но увидев, в каком он состояние сразу остыла.
– Садись ешь, и сразу ложись, на тебя смотреть страшно.
Ратников так и сделал… Лишь в постели он смог в общих чертах поведать жене о случившемся в Алма-Ате. Анна сказала, что по телевизору, в новостной программе «Время» не сказали об этом ни слова. По ее тону чувствовалось, что в отличие от Ратникова, она не видит в случившемся ничего особенного и совершенно не обеспокоена. Более того, она сразу перевела разговор на куда, по ее мнению, более важную тему:
– Слушай Федь, пока не уснул, я тут хотела с тобой посоветоваться. Тебе не кажется, что нам надо Ольгу Ивановну как-то отблагодарить?
– Ты же отвезла ей продукты, – ответил, словно отмахнулся Ратников, находящийся целиком и полностью под впечатлением оглушившей его новости.
– Да нет, это не то. Она ведь не просто нам оказала услугу, она ведь и еще помочь может не раз. У нее ведь и авторитет в поселке, и связи. Сам видел, какой она вес сейчас имеет. И в школе от нее многое зависит. Игорю же аттестат скоро получать, – лицо Анны выражало озабоченность.
– Что же ты предлагаешь? – всем своим видом Ратников показывал, что не желает сейчас обсуждать эту проблему, к тому же его уже основательно клонило ко сну.
– К ней надо еще съездить, а лучше привезти сюда, к нам. Я её в магазин отведу, и пусть там она сама себе выберет, что захочет. Ну, и как водится, к нам пригласим, стол накроем, угостим. Неужели ты не понимаешь, что она сейчас очень нужный нам человек, – Анна была далека от «глобальных» мыслей беспокоящих мужа, ее волновали куда более приземленные вещи, касающиеся непосредственно её семьи.
– Ладно, после Нового Года подумаем, – решил «отложить на полку» это дело Ратников.
– Не после Нового Года, а завтра, или, в крайнем случае, послезавтра, её надо привезти сюда, пока у меня в магазине последний привоз не разобрали, – решительно возразила Анна.
Ратников, не сказав ни слова в ответ, отвернулся, но Анна бесцеремонно повернула его лицом к себе и негромко, но упорно стала втолковывать необходимость вынашиваемого ею «мероприятия»… пока, наконец, и он был вынужден согласиться, что на данном этапе судьба семьи и детей важнее судьбы страны.
– Надо ж… если бы кто несколько лет назад вот так бы мне сказал, что я буду наряду с директором совхоза и прочими местными тузами искать расположения обыкновенной учительницы, да еще с таким махровым белогвардейским происхождением и соответствующим поведением… Я советский офицер, коммунист, из крестьян, – Ратников чуть слышно рассмеялся. – И кто меня к этому подталкивает, собственная жена, так сказать, боевая подруга, тоже стопроцентный советский человек. Ну и докатились мы с тобой Аня, – совершенно безо всякого сожаления говорил Ратников, поправляя подушку под головой, и тут же намереваясь под тот же веселый тон потрогать то ли полные матовые плечи жены, то ли ее пухлый подбородок, как он делал довольно часто лежа в постель.
Но Анна, обычно относящаяся к этому благосклонно, сейчас вдруг воспротивилась, не дала его руке, ни коснуться ее плеч, ни пощупать нежный валик под подбородком.
– Не лезь, ничего тут смешного нет, все это очень даже серьезно. А насчет стопроцентной советскости. Ты что такой уж советский, или я? – в свою очередь совсем не игриво говорила Анна.
– Ну, не знаю, сам себя всегда советским считал. Да и вся родня моя кто они, простые крестьяне, в свое время крепостными были. Нет, для нас все-таки я думаю советская власть это благо, хоть какие-то шансы в люди выбиться дала, хотя бы тем кому повезет. А если бы при царе… так бы и сидели в деревне, света божьего не видели, – высказал свое мнение Ратников, правда, не очень уверенно. Да и твоя родня не из графьев. А ты вон и в техникуме выучилась, и в институт могла поступить, если бы я тебя не захомутал, – Ратников вновь попытался перевести разговор в шутливую форму, приобнять жену, но та отстранилась. – Разве твои предки могли такое себе позволить до революции, хоть и в городе жили? Так бы и жили, как вон у Горького описано «В моих университетах» про старую городскую жизнь.
– Горький, похоже, вообще нормальной жизни в детстве не видел, потому и описал всю эту грязь, – с некоторым раздражением отвечала Анна. – А городская жизнь она от деревенской, как сейчас отличается, как небо от земли, так и тогда отличалась. Мама моя со слов своей матери и бабки про нее знала. Так вот не так уж и плохо они, предки мои жили, во всяком случае, у моих деда и прадеда свой дом был. Богачами не были, но и так как Горький писал, не жили.
– И все одно не пошли же они предки твои за белых воевать, предпочли отсидеться, как и мои. Значит, не стоила та жизнь того, чтобы за нее биться. Потому и так мало за белых пошло народа, а за красных во много раз больше, тех, что старую жизнь ненавидели и сломать ее хотели. Разве не так? И чтобы сейчас эти брехуны перестроечные не болтали, не хотел тогда народ по-старому жить, вот и сковырнул и царя и всех этих буржуев. Верно, или нет?…
Ратникову казалось, он говорит настолько прописные истины, что жена не может не согласиться. Но она молчала, и он откинувшись на подушку собирался уже прикрыть глаза, уверенный, что спор закончился, когда Аня чуть не шепотом, словно боясь чего-то заговорила:
– Не так уж мало за ту жизнь людей встало. И у нас тоже встали. Ты что не знаешь, что было в Ярославле в восемнадцатом году?
– Ты это о чем… ааа, про эсеровский мятеж что ли? – удивленно спросил, вновь вскинувшись Ратников. – Ну, так это ерунда, что там, заварушка какая-то на день или на два, а потом быстро придавили.
– Федь… ты откуда родом? – в свою очередь приподнялась на локте Анна.
– Здрасьте барышня, с Пошехонского района я, – с вызовом ответил Ратников.
– А я уж думала с Луны. Какой день, какой два, это в Москве тот мятеж быстро придавили, а у нас большевиков скинули и две недели эти эсеры верховодили, всех большевиков местных перестреляли. И только когда с Москвы войска подошли, тогда все кончилось. Деревня ты и есть деревня, до сих пор истории своего областного центра не знаешь. Ты хоть помнишь, что Ярославль старше Москвы? – в своем возмущении Анна уже не могла сдержаться и повысила голос.
– Что ты говоришь… неужто две недели?… Да откуда же мне знать, нигде ж про то не говорилось, не писалось. Даа… во как Савенков шухарил-то, на две недели город захватил, – искренне удивлялся Ратников. У него сна, что называется, не осталось «ни в одном глазу».
– Да какой там Савенков… Это все ерунда, не Савенков тем восстанием руководил, а наш, местный ярославский, полковник Перхуров. Потом, когда красные город осадили, он с отрядом прорвался и к Колчаку ушел, – продолжала опять уже шепотом говорить Анна.
– Во дела, первый раз про то слышу… Стой, а ты-то откуда про все это знаешь, ведь мать твоя говорила, что ее родичи простыми рабочими были? – изумленно спрашивал Ратников, глядя на жену так будто видел ее впервые, уставившись на бретельки от комбинации, которые бесчисленное количество раз спускал с ее покатых плеч.
– Откуда, откуда… я ж не деревенская, историю своего города знаю не из учебников, а от мамы. Да нет, не бойся, не из бывших я, так что за карьеру свою и без того неудавшуюся не опасайся. И мать моя не врала тебе, просто небольшую неточность допустила. Ее дед не работал на фабрике или заводе, он ремесленником был, бондарем, и работал на дому, бочки делал и тех рабочих, что с заводов за путных не считал. Он, мой прадед, своего первенца, старшего сына, брата моей бабки, очень выучить хотел и в реальное училище отдал… ну это как сейчас техникум. Мама говорила со слов бабушки, сами впроголодь жили, а его учили. Ну, вот он этот бабушкин брат тоже с теми эсерами якшался и в восстании участие принимал. Мама сама про то всегда вполголоса говорила, отец его в погребе запирал, чтобы не ходил туда, а он все одно сбежал. Вроде даже участвовал в расстреле самого Нахимсона.
– Какого Нахимсона? – недоуменно спросил Ратников.
– Ой, ну ты лапоть деревенский, ничего не знаешь. Нахимсон это первый председатель ярославского Совета, еврей. Потом ему уж в городе никак нельзя было оставаться, и он с Перхуровым ушел на прорыв.
– И что?
– Откуда я знаю что… пропал, сгинул, погиб скорее всего. Бабка потом горевала, столько денег в него вбухали пока учили, ее саму как чувырлу деревенскую одевали, куска лишнего съесть не могла, все экономили, а он вот так поступил. В семье про него потом никогда не говорили, как и не было его. И сейчас бы не вспомнила, если бы не эта Ольга Ивановна, не ее поступки. Так что все не так просто Федя, и завтра ты ее обязательно пригласи…
На следующее утро Ратников позвонил в полк и, узнав от оперативного дежурного, что повышенную готовность вроде бы объявлять не собираются и из Алма-Аты пока тревожных сведений больше нет… Он, как и планировал, поехал старшим на школьной машине. Высадил сначала детей у школы, отвез Дмитриева к дому его матери, потом заехал на почту, где находился переговорный пункт. Заказал переговоры с Люберцами. Дома у сестры телефона не было, и он обычно звонил ей на работу. С Верой связался только где-то часа через два. К счастью она сразу развеяла его беспокойство насчет матери. Ей Ефросинья Васильевна тоже необычно долго не писала, но два дня назад, наконец, пришло письмо. Медвежье, оказывается, целых две недели было отрезано от внешнего мира. Прошли сильные снегопады с метелями, замело дороги, оборвало линии электропередач… Потом Вера долго расспрашивала брата о его семье и, конечно, о племяннике, пока ее не позвали там, на работе. Ратников после разговора с сестрой сначала облегченно вздохнул, поняв, что письмо от матери должно и ему вот-вот прийти, в то же время в душе забушевало возмущение. Отрезало несколько деревень и две недели не могли расчистить дороги и восстановить подачу электричества… Где!? В центральной России, в трехстах километрах от Москвы!! «Суки, гады… кому только не помогают, куда только не суются, в космос летают, а в исконно русских областях до сих пор человеческую жизнь наладить не могут. Не руководители, а какие-то сплошные враги своего народа… Недаром вчера казахи возбухнули… Неграм, индейцам в Никарагуа помогают, в Афгане средстава миллиардами зарывают, вместо того чтобы свою страну хоть мало-мальски в порядок привести, обустроить… у нас самих все вкривь и вкось. Неужто трудно это понять!?… И что за гады раз за разом у нас в правительство вылезают!?…»
В таком «взведенном» состоянии Ратников вновь поехал к школе и стал ждать перемены, чтобы переговорить с Ольгой Ивановной. Но перемена была короткой, и толком поговорить не удалось – учительница «убежала» на урок. Пришлось ждать следующей большой перемены, говорили в том же кабинете русского языка и литературы.
– Ольга Ивановна, большое вам спасибо. Благодаря вашему посредничеству нам удалось быстро и без лишней нервотрепки починить нашу транспортную машину. Теперь мы можем на ней ездить без прежнего риска для жизни.
– Да, не за что, Федор Петрович, моя заслуга не столь уж велика, – скромно возразила учительница. – В свою очередь хочу передать благодарность вашей супруге за те продукты, что она мне привезла.
– Да что вы, разве это сравниться с тем, что вы для нас сделали. Кстати, моя жена ведь обещала вам кое что из промтоваров. Знаете, буквально два дня назад к нам в магазин был предновогодний привоз. Обычно он где-то за несколько дней до тридцать первого бывает, но тут у нас так получилось, что вчера большое начальство из Алма-Аты приезжало. Ну, так военторговское руководство решило пораньше завоз сделать, чтобы одновременно и на них впечатление этаким изобилием произвести. Так что сейчас у нас в магазине есть выбор, и жена не знает, что именно может вам понравиться. В общем, она просила передать, что если вы найдете свободное время, то лучше вам приехать к нам, в часть, и выбрать самой.
Предложение Ратникова было настолько неожиданно, что Ольга Ивановна не сразу на него отреагировала.
– Прямо не знаю, что вам и сказать… я ведь доставлю вам столько беспокойства. Потом, там же у вас, наверное, пропускной режим, – растерянно говорила Ольга Ивановна.
– Да, ерунда, – улыбнулся Ратников. – У нас же там служат местные жители, ваш же ученик Валера Дмитриев, или вон Муканов, казах из Сажаевки. Неужто вас, русскую женщину, я побоюсь привезти к себе в дивизион. Тем более вы же там посетите всего лишь магазин… ну и нашу квартиру. Моя жена очень вас ждет.
– Не знаю… А куда и как все это… и после, потом, как я вернусь? – продолжала боязливо но явно против собственной воли сопротивляться Ольга Ивановна.
– Вернетесь очень просто, на той же нашей машине. Если вы можете, то можно прямо сейчас не откладывая съездить. Вы ведь, насколько я знаю, по четвергам только в первую смену работаете? – выказал неожиданную осведомленность Ратников.
– Да, – машинально подтвердила учительница.
– Ну вот. Я сейчас поеду за второй сменой, а потом заберу первую и вас. А когда машина пойдет за второй сменой, она и вас отвезет. Все проще-простого. Таким образом, там у вас будет почти четыре часа времени. Вы и в магазине отовариться успеете и к нам зайти. Отобедаете у нас, и домой поедете…
27
Предложения подполковника звучало настолько убедительно, надежно. У Ольги Ивановны сразу возникло ощущение, что это действительно реально, даже нетрудно, и здесь нет ничего необычного. Возможно, если бы Ратников не был так напорист и убедителен, Ольга Ивановна на это путешествие никогда не решилась бы. Но, на том и порешили. Ратников уехал за второй сменой, а Ольга Ивановна пошла проводить очередной урок. Потом у нее было «окно», в которое она сбегала в Поссовет к Марии Николаевне, ибо подруга с утра позвонила ей в школу и просила при первой оказии обязательно к ней зайти. Председательница и поведала о вчерашних событиях в Алма-Ате, о которых пока еще никто в поселке не знал.
– Так я и думала. Помнишь, Ивановна, что я тебе говорила? Так оно и вышло, – взволнованно мерила шагами кабинет Мария Николаевна. – Во вторник Кунаева освободили, а вчера с утра перед зданием Верховного Совета манифестации начались, несколько тысяч человек вышло, молодежь в основном, скандировали лозунг: каждому народу своего вождя. Просили миром разойтись – не помогло. К вечеру площадь оцепили войска, милиция и начали разгонять, саперными лопатками, дубинами, бронсбойтами. Ох господи, спаси сохрани. Много раненых и убитые есть.
– Перестань нервничать, Маша, – попыталась утешить подругу Ольга Ивановна. У нас-то в области все тихо, не знаешь?
– Да, в общем тихо. Тут казахи в основном забитые, их еще Протазанов так прижал, что они не скоро голову подымут. А такие как Танабаев возбухать не станут, для него его должность важнее всего. Вроде была попытка в Усть-Каменогорске, студенты-казахи из «педа» и «стыр-дыра» с лозунгам вышли, но немного, человек тридцать, не больше.
– Ну и что?
– Да ничего, на мосту через Ульбу их милиция блокировала и никуда не пустила. В некоторых других городах республики тоже что-то было, но без особого шума и последствий. Зато в Алма-Ате целое побоище. По последним данным, что мне по телефону по секрету сообщили, вроде одного дружинника убили русского и несколько митингующих. Арестовано несколько сотен…
Ольга Ивановна чуть не опоздала на свой урок, её мысли после того, что ей поведала Мария Николаевна, как бы раздвоились, и она не без труда заставляла себя сосредотачиваться на проведении учебных часов. Ну, а после шестого урока она уже в будке военной машины ехала на «точку». Дети, обычно, когда в будке не было взрослых, чуть не стояли на головах, но сейчас вели себя спокойно. Даже Игорь сидел смирно. Он вполуха подслушал вчерашний разговор родителей и знал, что они собрались пригласить Ольгу Ивановну, но не ожидал, что это случиться так скоро. Сейчас он, едва машина свернула с шоссе на «дивизионку» и резко увеличилась тряска, обратился к Ольге Ивановне:
– Вы не беспокойтесь, это только вначале немного потрясет, ближе к дивизиону дорога будет лучше.
– Спасибо, я не беспокоюсь, – улыбнулась в ответ учительница.
Игорь понимал, что не с проста его родители вдруг начали обхаживать Ольгу Ивановну, даже на «точку» пригласили. Догадывался, что таким образом, кроме всего прочего они хотят не допустить появления в его аттестате тройки по русскому языку и литературе. Впрочем, сам он обо всем этом почти не думал и не особо беспокоился. Его, например, куда больше волновало то, что у него не получается прием который он отрабатывал в казарме с Фольцем, или то, что Малышев обещал, да так и не переписал до сих пор ему на кассету все «белогвардейские» песни певца-эмигранта Бориса Гулько. Напрягало и то, что мать узнала о его переписках с Ирой и Светой. Немного беспокоило и послешкольное будущее. Что же все-таки делать, куда поступать? В институт, как хочет мать, или в военное училище имени Верховного Совета РСФСР. Но что он решил уже твердо, что учиться будет только в Москве, а «базироваться» в Люберцах, где его ждут… и не только тетя Вера. А в остальном, он особо ни на чем не зацикливался, и жизнь казалась ему прекрасной, как и у всякого здорового, красивого и уверенного в себе юноши на семнадцатом году жизни.
Анна, предупрежденная мужем, что Решетникова согласилась приехать, ради этого случая решила объявить «санитарный день» и магазин вообще не открывать. К приезду школьников она вышла к машине в монгольской дубленке и чешских сапогах «Цебо» – женщина перед жнщиной даже вроде бы не думая о том всегда, полуинстинктивно хочет «выпендриться».
Ольга Ивановна впервые видела воинскую часть изнутри. Она много слышала о «точке» от тех немногих очевидцев из поселка здесь иногда бывавших, но действительность всегда оказывается несколько не такой чем ожидаемое. Сразу бросалось в глаза сочетание вроде бы не сочетаемого: образцового порядка – ровные пробитые в снежных сугробах дорожки, расчищенная бетонная площадка, окруженная ровными подбитыми деревянными лопатами снежными валами, голые, но ровно подстриженные деревья… И тут же убогий забор из полуистлевшего штакетника, за которым виделись такие же, как в Новой Бухтарме небольшие на четыре квартиры щито-сборные «финские» домики, в которых жили офицеры и их семьи. Домики по самые окна утопали в сугробах. По сравнению с поселком, где почти весь снег «съедали» выбросы с цемзавода, здесь, казалось, везде и повсюду царил снег, снег, снег. Превалировали белые и серые краски, прежде всего, конечно, белый, искристый слепящий снег, серый это цвет ДОСов, казармы, забора, серые шинели солдат и офицеров, цвет патологической бедности. На этом фоне явным анахронизмом смотрелась встречавшая машину Ратникова, роскошная дама в дубленке с пышным воротником и красиво облегающих ее ноги сапогах на тонкой шпильке, которую, казалось, всю буквально распирало от сытости и довольства. Ей было явно нелегко на таком каблуке стоять на снегу, тем не менее, она как-то приспособилась. Увидев Ольгу Ивановну, подполковничиха приветливо заулыбалась. Подошедшие к машине солдаты, с удивлением смотрели, как командирша, буквально раскланивается и расточает улыбки и благодарности этой скромно одетой сухонькой пожилой женщине…
Очередное несоответствие Ольга Ивановна увидела, когда Анна повела её в магазин. Внешне неказистое строение, тем не менее, когда зашли внутрь, перед глазами предстало хоть и небольшое, но достаточно уютное натопленное помещение. Ратникова закрыла входную дверь на засов, предварительно «отбрив» нескольких солдат, которые, видимо, собирались что-то купить. Ольга Ивановна, имея более чем тридцатилетний педстаж с удивлением отметила, насколько быстро и безропотно солдаты удалились. Такого ей еще не приходилось видеть, что молодые и по всему далеко не робкие молодые парни так беспрекословно слушаются женщину. Этого не наблюдалось ни у них в школе, ни тем более в поселке. Здесь же Ратникова довольно высокомерно, если не сказать грубо заявила солдатам:
– Нечего вам здесь стоять, не видите объявление на двери, «санитарный день»! И в казарме всем скажите, чтобы сюда зря не ходили сегодня и в дверь не стучали, кого поймаю, снег заставлю вокруг магазина убирать…
То было сказано так, что не возникало сомнений – сказано не для показухи перед посторонним человеком, а по привычке. Удивила и реакция ребят, услышав угрозу из уст продавщицы, они поспешили исчезнуть. Ольга Ивановна вновь испытала некое раздвоенное чувство, некоторую неловкость и в то же время нечто вроде зависти, ведь где это видано в стране Советов, чтобы женщина вот так по хозяйски… Наверное, так же ее мать и бабка-атаманша разговаривали с батраками, работавшими у них в доме. Но это когда было-то, а сейчас любая советская женщина воспитывается в страхе и осторожности.
Ольга Ивановна не собиралась покупать особенно много, но обновлять гардероб ей было необходимо. В поселковых магазинах, снабжавшихся по линии ОРСа в открытой продаже более или менее нормальной ни зимней, ни летней одежды не было вовсе. Ничего подходящего не нашла она и в Усть-Каменогорске, хоть этим летом и скрупулезно исследовала оба этажа «стекляшки», областного ЦУМа. Если не иметь знакомых продавцов и товароведов из ОРСа, одеться практически было невозможно, ибо купить более или менее нормальный товар можно было только «из-под прилавка». Хоть новых знакомых за последние три года у Ольги Ивановны появилось немало, среди них как-то не было ни одного торгового работника. И вот, надо же, такая удача.
Когда Анна обвела рукой полки своего магазина и предложила выбирать, Ольга Ивановна поняла, что купить немного, здесь никак не получиться. Почти все, что предлагалось ей было необходимо и отсутствовало в свободной продаже не только в поселке, но и во всей области. Начали со стирального гедееровского порошка «Лоск», хозяйственного мыла и шампуня, потом перешли на продукты. Ольга Ивановна, немного стушевалась, стараясь унять обычную женскую страсть делания покупок, давно уже не удовлетворенную, но Ратникова заметила стеснительность старой учительницы:
– Берите все, что вам надо, и ни о чем не беспокойтесь…
Когда пришел черед выбирать одежду, Ольга Ивановна лишь беспомощно развела руками и сказала, что не рассчитывала на такое изобилие и не взяла с собой достаточно денег, на что Ратникова, махнув рукой, заявила:
– Потом рассчитаетесь…
Перемерив несколько зимних пальто, Ольга Ивановна остановилась на неброском и немарком черного цвета с искусственным воротником. Уже собираясь на этом ограничиться, она увидела упаковки тонких венгерских фломастеров. Ольга Ивановна пользовалась толстыми советскими марки «Союз». Они были очень неудобны и быстро засыхали, потому их частенько приходилось «разводить» какой-нибудь спиртосодержащей смесью, в том числе и водкой. Фломастеры она приобрела с запасом три пачки, чтобы одну отправить сыну. Когда, наконец, весь товар был отобран, должен был возникнуть естественный вопрос: как это вынести? Даже им двоим, это было не под силу, нужны были как минимум еще двое помощников. Впрочем, Ольга Ивановна уже имела возможность убедиться во всесилии здесь Анны. Так оно и вышло. Выглянув из магазина подполковничиха тут же «припахала» даже не двух, а трех шедших мимо солдат. Все отобранное Ольгой Ивановной было уложено и упаковано в коробки, которых много имелось в подсобке магазина: четыре пачки стирального порошка, десяток брусков хозяйственного мыла, десяток банок сгущенного молока, столько же говяжей тушенки, пять кило сахара-песка, килограмм сливочного масла, пять кило гречневой крупы, столько же риса, банка атлантической сельди, большая банка консервированных венгерских помидоров, печенье, конфеты, полукопченая колбаса, сыр, а также хороший домашний халат московского пошива, строгое рабочее платье белорусского производства, хорошие рабочие югославские туфли на толстом каблуке – на тонком ходить и давать уроки было уже тяжело. За час, что провела в магазине, Ольга Ивановна накупила столько, сколько не могла себе позволить за несколько последних лет вкупе.
Когда они вышли из магазина в морозный солнечный искристый день… Ольга Ивановна довольная и смущенная одновременно, Анна вальяжно-деловая, уверенно покрикивающая на несущих коробки солдат… И впервые за время пребывания на «точке» Ольга Ивановна со всей очевидностью ощутила самое главное отличие этого места от их поселка – воздух. Воздух, каким она уже давно не дышала. Здесь на среднегорье, на небольшом плато, ограниченном с двух сторон горными хребтами, где такой ослепительной чистоты снег, воздух был столь же первозданно чист, прозрачен, целебен. Сюда никак не мог подняться дым с цемзаводовских труб, тем более ядовитые выбросы многочисленных предприятий Усть-Каменогорска и его окрестностей. Все это располагалось много ниже и та отрава оседала там, вдоль русла Иртыша, а здесь… Как легко и свободно здесь дышалось, как прекрасен этот пейзаж. А там дальше за колючей проволокой, ограждавшей территорию воинской части, где начинались укутанные снежным покрывалом поля совхоза Коммунарский… Там когда-то ее дед был вынужден разогнать Коммуну, за что в конце концов поплатился жизнью. Впрочем, Ольга Ивановна, конечно, понимала, что разгон был всего лишь поводом, истинной причина гибели ее родственников заключалась в том, что они собой олицетворяли старую жизнь, старый порядок, которые сметала новая жизнь, новый порядок… которым, сейчас, через семьдесят лет, кажется тоже приходит конец.
28
Примерно то же, что и в магазине, почувствовала Ольга Ивановна, когда Анна привела ее к себе домой. Внешне неказистый домик… а внутри небольшая, но очень уютная, обжитая квартира: две комнаты и кухня. Хорошо подобранная под единый цвет мебель, ковры на стенах, красивая импортная газовая плита на кухне, сразу указывали на состоятельность хозяев, конечно по советско-провинциальной «шкале ценностей». Детей предварительно отправили гулять, а в большой комнате накрыли стол, за который и была усажена гостья. Пока хозяева хлопотали на кухне и носили кушанья, Ольга Ивановна огляделась: пол устлан красивым зеленым паласом, гармонирующим с изумрудной составляющей большого три на четыре ковра. Полированная «стенка» и необычно широкая, судя по всему, импортная деревянная кровать заметно уменьшали свободное пространство комнаты. Русоведа не могли не привлечь подписные книжные издания в соответствующем отделении «стенки». Она постеснялась встать и подойти ближе, рассмотреть из чего состоит библиотека Ратниковых. Но по расцветке узнала шестнадцатитомное собрание сочинений Тургенева, двухтомники Пушкина, Чехова еще ряд книг в солидных переплетах издательства «Художественная литература»…
Ратникова разливала первое из супницы в красивые тарелки с голубым ободком… Столовый сервиз… Ольга Ивановна отчетливо помнила, какой прекрасный столовый сервиз, вернее два сервиза было у ее родителей, один повседневный, второй для гостей. Но сама она никогда столового сервиза не имела, как, впрочем, не имели их в Новой Бухтарме подавляющее большинство людей. Даже не от того, что не хватало денег, таких сервизов никогда не было в свободной продаже, да и вообще многие и не знали что это такое. У Ратниковых имелся и чайный сервиз, который был извлечен из стенки и в нем по видимому собирались подавать чай… И вновь Ольга Ивановна вспомнила Харбин, свой дом и прекрасный на двенадцать персон тончайшего китайского фарфора чайный сервиз из своего детства… Ратниковы же разложили свой чайный сервиз на двух креслах. Кресла видимо были из того же мебельного гарнитура, что и кровать. Во всей комнате инородным предметом смотрелся только цветной ленинградского производства телевизор «Радуга».
Ольге Ивановне приходилось бывать во многих квартирах в поселке и в благоустроенных, в пятиэтажках, и в щито-сборных домах. Самой зажиточной квартирой, куда она была вхожа, являлась квартира Марии Николаевны. Но даже там она не наблюдала столько дорогих и главное со вкусом подобранных обиходных вещей и мебели. Чувствовалось, что это «гнездо» обустраивалось с любовью, как и должно быть в крепкой счастливой семье, такое она когда-то видела в доме своих родителей. Ольга Ивановна не могла в очередной раз не позавидовать по белому, чисто по-женски хозяйке этого дома. Увидев, как хлопочет подполковничиха, накрывая на стол, ей на память опять пришли стихи Васильева. Казалось, по любому поводу у него можно было найти соответствующие строки:
Гостей улыбкой встретив как надо, Всех оделила глаз прохладой И заварив фамильный чай Чинно она рассадила блюда И приказала им смирно сидетьКогда сели за стол, сам Ратников вежливо осведомился, не желает ли гостья, так сказать, для аппетита выпить немного сухого грузинского вина «Цинандали». Ольга Ивановна очень любила именно это вино. Еще в шестидесятые годы его нередко продавали в Усть-Каменогорске. Оно не пользовалось особой популярностью, народ в основном предпочитал пить более высокоградусные винные изделия. Но она, опять же, всегда помнила, что отец с матерью всегда перед едой пили понемногу какое-то сухое вино. Какое, она помнить не могла, ведь ей девочке его не наливали, да и было это так давно, совсем в другой жизни. Ольга Ивановна, конечно, от вина отказалась, хоть и очень хотела хотя бы пригубить. Но первое, наваристую куриную лапшу съела с удовольствием, проголодалась, да и здешний воздух сам собой способствовал возникновению аппетита.
Разговор за столом некоторое время не клеился. Правда, перед самым обедом Анна предложила гостье те самые духи «Белый лен», которые обещала еще во время своего последнего приезда в школу. Ольга Ивановна отказывалась брать их бесплатно, но Анна в свою очередь отказалась назвать цену. В связи с этим в начале обеда возникла неловкая пауза, и лишь когда доели второе, жареную картошку с гарниром из зеленого горошка, и Анна собиралась подавать чай, Ратников заговорил о том, о чем собирался с самого начала:
– Ольга Ивановна, помните наш разговор тогда в учительской, когда я сказал, что наслышан, что у вас в поселке много знакомых, связанных с вами? А вы сказали, что связаны не то что родственными узами, а как бы по сословному, если так можно выразиться… Берите пожалуйста конфеты. Вам чай как, с молоком? У нас хорошее молоко два раза в неделю к Землянскому на ферму машину посылаем, совсем не такое как у вас от Танабаева. Землянский не разрешает своим разбавлять, да и коровы у него на хороших травах пасутся летом, у него стада выше гоняют под самые белки на альпийские луга, там трава даже в середине и в конце лета сочная, и зимой они на хорошем клевере кормятся.
– Спасибо, не откажусь… А насчет моих знакомых… какие здесь после стольких лет советской власти могут быть сословные узы. Просто живы еще отдельные местные жители, что помнят моих деда, бабку, учились у моей матери, служили вместе с отцом. Ведь мои предки были здесь весьма заметными людьми. Вот потому я нежданно-негаданно и оказалась как бы центром притяжения всех местных старожилов. А через стариков уже и их родственники со мной как-то связаны оказались, тем более что я большинство поселковой молодежи учила в школе. И не только в поселке появились у меня знакомые в последнее время. Например, главный агроном у того же Землянского тоже через своих предков со мной связан, думаю и еще найдутся, – Ольга Ивановна кивком поблагодарила Анну, пододвинувшая ей розетку с клубничным вареньем.
– Так-так, очень интересно. Главного агронома я тоже знаю. А вот помните я тогда начал вас просить свести меня с начальником отдела снабжения цемзавода? Ведь он тоже каким-то боком… – Ратников не знал, как кончить начатое предложение, и как подвести гостью к просьбе познакомить его с этим начальником снабжения, через которого он собирался получить позарез нужный ему гравий для ремонта предстоящим летом дивизионной дороги.
– Не знаю, хватит ли моих возможностей, чтобы помочь вам в этом. Но действительно я знакома и с женой, и с матерью интересующего вас человека. Его мать как раз и является бывшей ученицей моей матери, ну а жена, если вы не в курсе, является председателем нашего Поссовета и она моя подруга. Не знаю, что у нас с вами выйдет, но я попробую посодействовать вашей встрече, а большего, извините, обещать не могу, – Ольга Ивановна взялась за чашку.
– А больше и не нужно, там уж я сам, мне главное знакомство с ним завести, – явно воспрял духом Ратников.
Беседа, что называется, набрала обороты, становилась все более доверительной. Как-то случайно затронули современную эстраду, и тут выяснилось, что Ольга Ивановна и Ратниковы совершенно одинаково относятся к Людмиле Зыкиной, что супруги так же намного выше ее ставят Лидию Русланову. В этой связи Ольга Ивановна заметила:
– Их можно равнять только по силе голоса, во всем остальном Русланова неизмеримо выше. Схожий пример имеется во французской эстраде: голос у Матье сильнее, чем был у Пиаф, но Пиаф великая певица, а Матье в лучшем случае удостоится считаться выдающейся…
Конечно, не могла не коснуться самой громкой казахстанской новости, вчерашних событий в Алма-Ате. Ратников не придал значения словам гостьи, что она подруга председательницы поссовета, и в этой связи может знать кое-какие подробности. Он рассказал, что знал, стараясь не драматизировать события, и был крайне удивлен осведомленности Ольги Ивановны.
– … Нет, Федор Петрович, это совсем не пустяки. Не кажется вам, что там власти допустили серьезную ошибку? Хоть я и сама казахов не больно жалую, это у меня, наверное, наследственное, ведь сибирские казаки всегда к киргиз-кайсацам враждебны были. Тем не менее, как я вам уже говорила, они далеко не худший народ в современном Советском Сюзе, и такого к себе отношения не заслужили. Ведь там же этих студентов дубинками и холодной водой разгоняли. Вы представляете, что значит сейчас, зимой быть облитым холодной водой. Хоть там и не такие морозы как здесь, но все равно минусовая температура, – в свою очередь откровенно делилась тем, что знала и своими выводами Ольга Ивановна.
– Что вы говорите… неужто водой? – удивился Ратников.
– Кого водой? – спросила пришедшая из кухни Анна.
– Да вот у Ольги Ивановны есть достоверные сведения, что ту вчерашнюю демонстрацию в Алма-Ате бронсбойтами разгоняли. А вот по нашей линии таких подробностей не сообщали, – покачал головой Ратников.
– Да, причем среди студентов было много девушек, – сообщила Ольга Ивановна, принимая от хозяйки блюдечко с куском торта домашней выпечки.
– Не знаю, а мне кажется, поделом. Чего им еще надо, в университет, в институты поступили, так учитесь, нечего по улицам с плакатами шляться. Совсем эти калбиты обнаглели. Ну, разве когда-нибудь они так хорошо существовали как при советской власти? Раньше ведь в юртах жили, а теперь в квартирах с удобствами, и все равно недовольны. Вот у нас в Ярославле, ничуть не лучше их живут. Мне вообще кажется, власть давно уже только этим и занимается, чтобы у нас отнять, а им добавить и таким образом уравнивает, – Анна, в основном занятая на кухне, теперь как бы наверстывала упущенное, стремительно и энергично вступив в разговор.
Ольга Ивановна не спеша пила мелкими глотками чай и понемногу, стараясь не просыпать крошки на блюдце, откусывала торт… Так ее научили есть в гостях мать и на уроках этикета еще в гимназии и она через десятилетия советского совсем не этикетного существования смогла пронести эту науку и даже с удовлетворением отмечала, что как-то сам по себе от нее ее перенял и сын… Она кротко улыбнулась и несогласно покачала головой:
– Знаете, Анна Демьяновна, я с возрастом изменила свою оценку межнациональных отношений. Дело в том, что наиболее агрессивно в этом плане не молодежь и не старики, а люди среднего поколения, – она красноречиво посмотрела на облаченную в нарядный домашний халат хозяйку, монументально возвышающуюся над столом, уставленным всевозможными кондитерскими яствами. – Я сама еще несколько лет назад тоже иначе, чем калбитами казахов не именовала. А вот в последнее время как будто прозрела. И поверьте, еще раз повторюсь, они не заслуживают того презрения, которое исходит от многих русских, и к нам большинство из них относится очень неплохо. И слава Богу, что нам с вами выпало именно с ними рядом жить, а не с теми, кто действительно нас русских ненавидит всенародно или почти всенародно. А то, что вчера случилось, может иметь далеко идущие последствия и для русских, живущих в Казахстане. Ведь те студенты уже никогда не забудут, как с ними поступила власть, и винить будут теперь за это всех русских, – наставительно говорила Ольга Ивановна.
– Я согласна с вами, что с казахами, конечно, можно жить, и они не самые худшие из советских нацменов. Но я не думаю, что с ними надо миндальничать. Советская власть бесплатное образование этим чабанским детям предоставила, от России средства оторвала и за наш счет их и кормит и учит. А они чего делают? За это надо отчислять из институтов. Вон у нас сколько людей выучиться не могут, даже если и хотят. То негров, то чурок этих обучают, а для своих мест нет, – упорно стояла на своем Анна.
Ратников с женой не согласился:
– Подожди, Ань. Не все так просто. По моему тоже вчера власть и в самом деле маху дала. Не надо было так вот… Да и Колбина этого не надо было ставить первым секретарем, тогда бы вообще никакой бузы не было. Вот я слышал офицеры, что в Орджоникидзе учились, рассказывали, в 81 году так же в Орджоникидзе осетин разогнали, тоже дубинками били. Но разве тех с казахами можно равнять, казахи ягнята по сравнению с ними. Там может и нельзя иначе было, на Кавказе народ звероватый, им если силу не показать на шею сядут. А казахи ведь не такие, с ними по-хорошему всегда можно. Все же знают, что они не злой народ, зачем же нарочно-то злить?
– Надо хоть кому-то острастку дать, а то вон все уже наглеть начинают. У нас тут тоже примеры имеются. Жена одного офицера, латышка, принародно нас тут русскими свиньями обозвала? – разгорячившись, Анна поведала и этот дивизионный случай, на что муж недовольно хмыкнул, ибо не желал, чтобы этот «сор» выносился из избы.
Ольга Ивановна допив чай, с улыбкой покачала головой:
Она, скорее, всего не ведает, что латыши много сделали для победы Красной Армии в Гражданской войне. Во всяком случае, здесь, на семипалатинском направлении, полк латышских стрелков являлся основной ударной силой красных. А вот что касается кавказцев, то я с вами Федор Петрович, пожалуй, соглашусь, в мире трудно найти более жестокий этнос. Знаете, я с детства помню, как родители говорили о банде некого Корнилова, промышлявшего в Харбине грабежом где-то в конце 20-х – начале 30-х годов. Так вот особая жестокость той банды объяснялась тем, что в ее составе было много осетин…
29
Ольга Ивановна уезжала с «точки» затаренная, что называется, под завязку. Перед отъездом Ратников, улучив момент, когда жена отошла, задал ей возникший у него экспромтом вопрос:
– Ольга Ивановна, я вижу, у вас есть свои каналы информации, и вы наверняка знаете то, что нам сверху официально не доводят. Из ваших слов я окончательно удостоверился в том, что и сам подозревал, что произошедшее вчера в Алма-Ате более чем серьезно. Но я все-таки надеюсь, что основ государства это не должно поколебать. Как ваше мнение?
Учительница в ответ пристально посмотрела на подполковника и как будто удовлетворенно улыбнулась одними губами:
– Вы знаете, я сама над этим только и думаю. Вроде бы не мне переживать над судьбой этой как говорили мои родители совдепии, но все одно тревожно как-то. Конечно, сама по себе такая одиночная демонстрация опасности не несет, но… Но они же делают одну роковую ошибку за другой, начиная с Афганистана. Уже семь лет там завязли как в трясине, посадили страну на голодный паек. Горбачев вроде что-то пытается сделать, но, похоже, в межнациональных отношениях он вообще не разбирается. Боюсь, если эта ошибка наложится на афганскую, Чернобыль и прочие, то этого слишком много для одного десятилетия. Вспомните ошибки, что допускал Николай второй, начиная с японской войны, к чему это привело?
– Ну нет, не может быть, чтобы все повторилось… Тогда ведь все совсем прогнило, сейчас, думаю, что до такого еще далеко, – как то неуверенно не то возразил, не то попытался выдать желаемое за действительное Ратников.
– Раз так, то чем вызвано ваше беспокойство, Федор Петрович?…
Они стояли возле школьной машины и ждали пока Анна, командуя солдатами, уложит все отобранное Ольгой Ивановной в будку.
– Видите ли, мне еще пять лет до увольнения в запас и хотелось бы, чтобы они без лишней свистопляски здесь прошли. Потом-то мы в Ярославль к себе на родину поедем, а здесь как ни крути Казахстан, – смущенно признался Ратников, в то же время понимая, что, видимо, обижает собеседницу, которая, что называется, приговорена жить здесь.
Но Ольга Ивановна не обиделась, хоть и догадалась о причине смущения подполковника:
– Я поняла вас. Надо же, и здесь мы мыслим в унисон. Я тоже размышляла по этому поводу. Не дай Бог начнутся всеобщие волнения. Русские, такие как я, заложниками окажутся. У меня ведь, и бывший муж, и сын, оба в России, первый в Барнауле, но туда мне дорога заказана, хоть здесь и недалеко. А сын подальше, в Красноярске, после Армии, где он двухгодичником служил, остался. В прошлом году я была у него, город мне очень понравился, чем-то на Усть-Каменогорск похож, только намного больше. И ему нравится, на закрытом предприятии работает, твердо решил там насовсем остаться. Писал, что с девушкой познакомился, встречаются. Дай-то Бог, если там сможет зацепиться, квартиру получить. И сам спокойно заживет и мне, случай чего, будет куда убежать, – Ольга Ивановна вздрогнула и повела рукой, будто отгоняя нехорошее видение, и вновь взяла себя в руки, ее тон стал более оптимистичным. – Но будем надеяться на лучшее, что все обойдется, и вы дослужить успеете, и мне бегать на старости лет никуда не придется. Ведь не одни же дураки у нас в правительстве, должны найти выход из этой непростой ситуации?
– Да Ольга Ивановна, опять вы мне пищу для размышлений подбрасываете, – с улыбкой покачал головой Ратников. – А помните нашу первую с вами встречу также в декабре, но шестнадцать лет назад, ох как же тот разговор на меня подействовал.
– Помню, но не очень хорошо, – заулыбалась в ответ и Ольга Ивановна. – Там мы с вами, кажется, о поэзии говорили?
– В основном о творчестве Высоцкого и признаюсь я после того разговора серьезно переосмыслил свое к нему отношение, – откровенно признался подполковник.
– Неужто, перестали быть его поклонником? – удивилась Ольга Ивановна.
– Не то чтобы совсем, но относится к нему начал более спокойно, без прежнего этакого юношеского фанатизма… Ну ладно, кажется уже все погрузили, ехать пора, – неожиданно разом прервал диалог подполковник, ибо к ним шла Анна, а он не хотел чтобы жена узнала о той давней встрече его, с Ольгой Ивановной, а еще более о содержании их «поэтического» разговора…
В поселке машина подъехала сначала к подъезду Ольги Ивановны и Ратников с шофером перетаскали все товары в квартиру. Ольга Ивановна тут же достала из заначки деньги и буквально заставила подполковника взять недостающую часть оплаты. Деньги у советских людей водились, а вот купить на них… Таких мест, где деньги можно было превратить в товар в СССР, особенно в провинции, было немного.
Ольга Ивановна распаковала и разложила привезенное: в шифоньер, в холодильник, на балкон (что не вошло в холодильник). Потом она включила телевизор. Но, ни по Москве, ни по Алма-Ате о вчерашних событиях в столице Казахстана не было сказано ни слова. Власть явно демонстрировала, что ничего не произошло. Шли обязательные пропагандистские передачи типа «Ускорение и качество», транслировались репортажи с хокейного приза «Известий»… Ольга Ивановна, еще час назад в разговоре с Ратниковым и его женой, представшая такой мудрой и логичной… Сейчас, когда она осталась одна, ее вдруг охватил страх перед будущем, тот же страх, что интуитивно ощущала ее «сановная» подруга Мария Николаевна и, похоже, тот же Ратников. Они все «ехали» в третьем классе и по «стуку колес» ощущали, что там, в везущем их локомотиве, что-то работает не так, надо срочно что-то предпринимать, иначе весь состав «сойдет с рельсов». Но, похоже, там, «у руля» этого совершенно не чувствовали, что рулить надо как-то по другому, вроде бы объявили «перестройку», а все делают по старинке, как делали их предшественники. А на настоящую новаторскую перестройку они просто не способны. И еще одно роковое совпадение, судя по всему все эти восхваления необычных отношений между новым генсеком и его женой, ее бросающееся в глаза влияние на мужа, говорит не о чем ином, как о том, что он находится под ее каблуком. Если бы она была умницей… Но Ольга Ивановна не замечала особого интеллекта не только на его, но и на ее лице. Так кто же руководит страной, недалекий человек, на которого не лучшим образом влияет его столь же недалекая жена? Господи, как будто история повторяется, один царь подкаблучник уже погубил Российскую империю. А что сейчас, неужели генсек подкаблучник ведет к гибели Советский Союз? А раз так, то что же получается… «поезд» обречен, крушение неизбежно!?
«Господи нет… хоть и ненавижу я всей душой эту власть, но не хочу, видит Бог… Ведь с нас, с рядовых русских людей за все их ошибки спросят, и за Афганистан, и за пустые прилавки, и за этот разгон демонстрации, за все… Молодость моих родителей пришлась на эпоху перемен… а дедам еще хуже пришлось, встретить ее в старости и умереть страшной не спокойной смертью. Неужто, и мне такая судьба уготована? Не дай Бог… не дай Бог…. Верую в тебя, Господи, верую, только спаси, только защити…»
Ратников тоже не мог думать ни о чем другом, после того как отвез Ольгу Ивановну и привез школьников. Немного посидев в казарме, до смены дежурных офицеров, он уже собирался идти домой, но думы его не оставляли. Он теперь буквально в каждом «судьбоносном» проекте руководства страны видел роковые ошибки, сродни афганской и вчерашней. На ум почему-то пришла грандиозная стройка БАМа: «Ну кому он сейчас нужен этот БАМ, миллиарды в тайгу зарыли, ведь сколько предприятий выпускающих товары народного потребления могли на эти деньги построить. А сколько шоссейных дорог, у нас же чуть от Москвы на восток отъехал и нормальных дорог почти нет. В Афгане миллиарды зарыли и тысячи молодых жизней погубили, в БАМ зарыли, Чернобыль рванул, тоже миллиарды прахом и тысячи погибших и облученных, столько территории заразили. И вот теперь ко всему один из самых мирных и верных советской власти народов так оскорбили… Сволочи, их не государством руководить, а к стенке сортирной ставить и расстреливать», – негодовал про себя Ратников. И тут в его воспаленном мозгу вдруг ярко всплыло воспоминание лекции, что он слушал, еще будучи курсантом Ярославского военно-технического училища. Читал ту лекцию преподаватель по «Истории КПСС». Он сравнивал социалистический путь развития с объездной короткой дорогой: «Россия до семнадцатого года тащилась в хвосте развитых стран. Большевики, взяв власть, свернули с общей дороги, чтобы по объездной, на высокой скорости обойти всех, возглавить человечество и, увлекая его собственным примером, повести к коммунизму». Объездной путь?… Но это не дорога, это же целина, бездорожье. Кого по такому пути можно обогнать, разве что шишек набить? Похоже, так оно и вышло…
Надо было идти домой, но он не мог заставить себя встать. Ожил телефон. «Дождался, не иначе Аня звонит, сейчас ругаться будет», – переключился с невеселых раздумий подполковник, беря трубку.
– Товарищ подполковник! Готовность номер один!
– Что!? – с Ратниковым произошло то, что еще никогда не происходило в тот момент, когда он слышал эти слова – он не сразу сообразил, о чем ему говорят.
Но тут же вой все набирающей обороты сирены вернул подполковника из мыслительной полудремы в бодрствующую реальность, словно человек находящийся под наркозом получил приводящую в чувство пощечину…
Когда выбежал из канцелярии в дверях толкались уже последние солдаты. На крыльце казармы Ратников озабоченно посмотрел через тускло подсвеченную фонарями декабрьскую хмарь в сторону автопарка. Там, то заводилась, то опять глохла дежурная машина. Мимо проскочила коренастая фигура Малышева в распахнутой танковой куртке и сбитой на затылок шапке, большими пружинистыми скачками догонявшая солдат. Наконец, дежурная машина «чихая» и «моргая» фарами на малых оборотах подползла к казарме. Со стороны ДОСов с крайне недовольной физиономией появился Гусятников, за ним другие офицеры.
Садясь в машину, Ратников, напрягая зрение вновь взглянул на смутно белевший склон горы с передвигающемуся по нему темными фигурками. Танковая куртка и там выделялась, она уже почти достигла гребня горы, возглавив змеевидную цепочку шинелей и бушлатов.
Бесконечное количество раз вот также по «Готовности» Ратников обгонял на дежурной машине бегущих вверх солдат. Обгонял, не приглядываясь, в лучшем случае машинально отмечал, кто добросовестно бежит, торопиться занять свое место в боевом расчете, а кто сачкует, лишь изображая страдания и муки на лице, на самом деле едва перебирая ногами. Сейчас он вглядывался в лица, когда они попадали в свет фар, и отчетливо видел какие они разные, ни одного одинакового. А ведь испокон принято считать солдатскую массу однородной, говорить о ней, как о неком неодушевленном предмете. Так же примерно думают все индивидуумы, прорвавшиеся к большой власти о тех, кто стоит ниже их по социальной лестнице. Для них это «народ», однородная безликая масса. Ратников сейчас видел их как никогда отчетливо, их глаза застилал пот… глаза, голубые и карие, серые и зеленые, большие и маленькие, раскосые… дышали открытыми ртами, хватая воздух вместе с падающими снежинками. Они сейчас испытывали мучения, все, не зависимо от того бежали в полную силу или «сачковали»… Так же как мучился весь народ огромной страны, и кто «вкалывали» и кто втихаря сачковали, все равно верившие или не верившие в «счастливое будущее» – все мучились, кто больше, кто меньше.
Когда машина достигла КП, Ратников открыл дверцу кабины и замер на мгновение, стоя на подножке ЗИЛа. Он оказался в той точке огневой позиции дивизиона, откуда хоть и с трудом, но просматривалась сквозь ущелья дырявое дно «кофейника» заткнутое освещенной прожекторами пробкой-плотиной. По прямой до плотины было много ближе чем по дороге, огибавшей горные хребты, и потому в ясные вечера, или ночи отсюда «с верху» иногда ее «свет», как будто просматривался. На этот раз сознание не отреагировало как обычно на сказочный мираж далекого видения. Ратников обратил внимание на другое, на то, что дальше, за этой плотиной, символа воплощения советской мечты, за ней, страшной вселенской бездной простирается непроглядная темень. Свет далеких прожекторов был словно манящая, зовущая к себе путеводная звезда-обманка… за которой, дальше пути нет, ничего… пропасть. А к ней все еще идут по инерции, идут в мучениях, в надежде, веря в сказки, задолбленные в мозги с детства, веря, что там ждет благодать, счастье всем и вся. Путеводный свет все ближе, совсем немного уже осталось идти по этой мучительной дороге… дороге в никуда.
На этот раз, «Готовность», оказалась учебной.




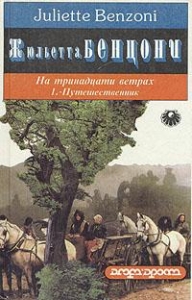



Комментарии к книге «В конце пути», Виктор Елисеевич Дьяков
Всего 0 комментариев