Часть первая ГОРИЗОНТ АТОНА
«Ты встаешь в своей красе над горизонтом, О, великий Атон, Создатель, начало жизни. Когда ты приходишь на рассвете с востока, Вся земля исполнена твоей красоты». Великий гимн Атону1
Царица была прекраснейшей женщиной мира. Царь же выглядел странно, и странны были его речи. Они сидели бок о бок на золотых тронах, под золотым навесом, в пустыне за пределами города, и солнце изливало на них расплавленное золото. Весь мир пришел к ним сюда, чтобы пасть к их ногам и преподнести свои дары.
Еще не вся дань была принесена. Начальница над слугами, внушительная, исполненная достоинства женщина, давала рабыням последние указания насчет их обязанностей, поведения и языка, на котором отныне и всегда они будут обязаны говорить:
— Кемет — Черная Земля, плодородная земля, которая является как дар после разлива реки Дешрет.
— Красная Земля, бесплодная земля, пустыня, которая окружает и дополняет Черную Землю. Вот Два Царства, которым вы будете принадлежать.
— Но я думала, — вмешалась одна из малых частиц дани, — что Два Царства — это Верхний Египет, на юге, и Нижний Египет, на севере. Посмотрите, на царе две короны, одна внутри другой. Он так замечательно выглядит…
Молоденькая девушка, почти ребенок, отступила назад, настоящее воплощение непослушания, но величественная служанка по имени Сени бросила на нее свирепый взгляд. Это заставило ее умолкнуть, но покорности не прибавило.
Остальные девушки и молодые женщины, присланные из страны Митанни, были исполнены священного ужаса, а может быть, просто одурели от жары. Они упорно сохраняли азиатскую скромность, закутавшись в одежды из яркой шерсти и вышитого полотна, вплетя в волосы множество украшений. Лица у них были багровые, они обливались потом. Двое уже упали в обморок, а предстоял еще долгий путь к ногам царя, к коим надлежало припасть и умолять принять их.
Девушка, осмелившаяся говорить, была совсем другой. Она видела, как одеты в этой стране слуги — скорее, раздеты: лишь полоска ткани на бедрах и ожерелье из амулетов на шее. Остальные возмущались, называли ее нескромной и испорченной. А она очень радовалась, что, придя к месту вручения даров, увидела царских дочерей — всех шестерых, от расцветающей женщины до почти младенца — голыми, в чем мать родила.
Она сидела, обняв колени, в тени, падавшей от стражника, и смотрела на огромную процессию угольно-черных нубийцев, подносящих царю дары — золото, слоновую кость, меха, перья, большую пятнистую кошку, которая сорвалась с поводка и погналась за ручной газелью одной из маленьких царевен. Кошку поймали прежде, чем она настигла свою добычу, газель вернули плачущей хозяйке. Все это было очень интересно.
— Твое имя, — загремел у нее над ухом голос Сени.
— Твое имя, девчонка!
От неожиданности она чуть не выскочила из своей продубленной солнцем кожи и открыла рот.
— Нет! — закричала Сени. — Меня не интересует невразумительное кошачье шипение, которое служит именем в вашей стране. Твое здешнее имя!
Девушка нахмурилась. И откуда этой женщине знать, как звучит ее родное имя? Она никогда не говорила, и Сени его ни разу не слышала. Это было частью обета, который она дала себе, когда ее увезли из родной страны, чтобы сделать рабыней врагов ее народа. С нарочитой покорностью она произнесла сквозь зубы:
— Мое имя в неволе — Нофрет.
— Твое имя в Двух Царствах — Нофрет, — сказала Сени, улыбаясь широкой улыбкой крокодила. — Забудь, что у тебя когда-либо было другое имя. Здесь оно ничего не значит.
— В один прекрасный день, — ответила частица дани по имени Нофрет, — я стану главной над слугами царицы. И тогда буду называть себя так, как пожелаю.
— Ты будешь зваться так, как захотят их царские величества, — заметила Сени с пугающей мягкостью. — Ну, а теперь скажи нам ты, Кавит, что должна делать служанка пред лицом царицы?
Нофрет оставила туповатую бледнолицую Кавит нежным заботам Сени и снова отправилась смотреть на процессию. Нубийцы уже ушли, предоставив царским слугам самим управляться с леопардом. Теперь царь принимал послов из родной страны Нофрет. Нельзя было ошибиться, увидев высоких, крепко сложенных людей с великолепными орлиными носами, густыми длинными волосами, высоко подбритыми лбами и чисто выбритыми лицами. Они были светлее египтян, выше и гораздо массивней в сложении.
Нофрет заморгала. Ей хотелось склонить голову к коленям, спрятать лицо, но она, напротив, гордо задрала подбородок. Только тип лица и фасон одежды этих людей были ей знакомы. Ни одного из них она не знала.
Даже хорошо, что они были незнакомцами. Нофрет очень давно покинула Великую Страну Хатти, и ее честь давно погибла. В тот самый день, когда она отправилась на охоту одна, потому что братья не захотели связываться с девчонкой, и встретилась с разбойниками из Митанни.
Они высматривали добычу подоступней и нашли, что несдержанная на язык девчонка, с плохо натянутым луком выслеживавшая в зарослях оленя, стоит тех нескольких царапин, которые от нее можно получить, хотя тот, кого она ударила его собственным кинжалом, вряд ли был доволен. Разбойники действовали наобум, хотя по ее одежде и украшениям можно было определить, что она дочь человека не простого — командующего легионом, если бы кто-нибудь спросил, но никто не спрашивал. Но раненный ею жаждал мести. Рана была не смертельной, но глубокой и болезненной, и мужчина потерял много крови. Он настаивал на том, чтобы продать ее за самую хорошую цену, какую удастся получить. Остальные, подумав, согласились, связали ее и увезли в Митанни.
На невольничьем рынке девушку купил за умеренную цену один вельможа, жене которого нужна была служанка. Нофрет была не красавицей, но высокой и сильной не по возрасту благодаря снисходительному отцу, компании братьев и возможности носиться на свободе по лесам больше, чем подобает знатной хеттской девушке.
Она решила — еще до того, как ее, разъяренную и голую, выставили на продажу, — что постарается извлечь все возможное из любой судьбы, какую бы ни дали боги. Она сердилась на себя и на богов, потому что охотилась слишком далеко от дома и знала это, как знала и то, что на границе с Митанни попадаются разбойники. Девушку одолевали и стыд, и упрямство. Ей не хотелось, чтобы отец и братья узнали, какую глупость она совершила. Пусть думают, что она погибла. Лучше смерть, чем рабство. Лучше даже рабство, чем насмешки братьев и гнев отца.
В первую же ночь после похищения она попыталась убить себя. Ей снова удалось добыть кинжал, но на этот раз разбойники были настороже. Они посмеялись, связали ее покрепче и приставили к ней стражника. Их насмешки произвели странное действие: гнев ушел куда-то вглубь души и сделал ее холодной.
Тогда она поклялась, что будет жить — жить, преуспевать и станет совершенно другой. Ее имя в Великой Стране Хатти забыто. Она больше никогда не произнесет его. Пусть ее называют как хотят — по большей части, «эй, ты!», или «хеттская потаскуха», или еще как-нибудь нелестно на гортанном языке Митанни. Все уже неважно. Это ее не трогает и ничего не меняет.
Прислуживать новой хозяйке оказалась просто, как только она освоила свои обязанности. Но быть служанкой у знатной госпожи в Митанни было до невозможности скучно. Единственным развлечением был хозяйский сынок, материнское сокровище, миловидный пухлый юнец, убежденный в своей неотразимости для женского пола. Нофрет же нашла, что устоять против него совсем нетрудно.
Однако она была слишком наивна, полагая, что достаточно будет часто и недвусмысленно повторять «нет». Но, как объяснил ей юный господин, рабыне не позволено говорить «нет».
В конце концов он оставил ее в живых, в основном потому, что боялся слез и упреков матери. Его мать была очень мягкосердечна и не выносила зрелища смерти, даже смерти раба. Что еще удивительнее, он даже не приказал изувечить ее после всего, что ему пришлось выслушать и вытерпеть. Юнец оказался достаточно умен — и достаточно коварен он прекрасно понимал, что гораздо проще и быстрее избавиться от непокорной девицы, если ее нос, уши и грудь останутся целы и невредимы.
Нофрет посмеивалась в душе, вспоминая, как он приволок ее к управляющему отца и приказал отправить с остальными дарами к царю Египта. Голос у него срывался, как у мальчишки.
Оказалось, что девушке очень полезно вырасти в компании мальчишек — точно знаешь, что сказать, где и когда, а потом сплюнуть сквозь зубы.
Ее злорадная улыбка напугала нежный цветок Митанни, притулившийся рядом с ней, девушка захныкала. Нофрет вздохнула. Женщины Великой Страны Хатти не имели ничего общего с этими хрупкими созданиями. Они высоко держали голову и ступали гордо, даже если были рабынями.
Хетты прошли, не заметив одинокую соотечественницу среди толпы рабов из Митанни. Один из чиновников, руководивших движением процессии, шагал вслед за ними. Его пышный парик съехал набок, обнажив бритый череп; казалось, он в рассеянности сдвинул его с места. Выглядел он довольно забавно. Нофрет заметила, что египтяне, на взгляд чужеземца, недурны с виду. Вполне можно привыкнуть к мужчинам, стройным, как мальчики, с гладкими коричневыми телами.
Царский распорядитель был слишком озабочен своими делами, чтобы присматриваться к девушке, хотя и заметил ее.
— Иди на свое место, — сказал он коротко. — Сени, госпожа Кийа хочет видеть тебя после того, как ты представишь эту партию.
Сени, несмотря на свое египетское имя, была родом из Митанни. Как и все остальные, кроме Нофрет, она слегка поклонилась. Распорядитель уже повернулся, ожидая, когда все пойдут за ним. Сени быстро выстроила девушек по росту, возрасту и миловидности — так что Нофрет оказалась позади, поскольку была высокой и длинноногой, как молодая дикая лошадка, — и повела их вперед, словно войско на приступ.
Нофрет кое-что слышала о войнах. Там было много долгого ожидания под палящим солнцем и мало настоящей драки. Распоряжения Сени заставили Нофрет выйти из тени, и это было неприятно. Нофрет завидовала вельможам под навесами и зонтиками и царю в его большом золотом павильоне. Рабам таких удобств не полагалось. Они должны были стоять под палящим солнцем, пока им не разрешат двинуться вперед.
— Солнце — его Бог — сказала одна из девушек, стоящих рядом с Нофрет. Она была мечтательницей; ей бы лучше стать жрицей, но ее семья сочла более выгодным для себя отправить ее к египетскому царю. Он и сам был мечтателем, как говорили люди, если не называли его впрямую сумасшедшим.
— Он поклоняется солнцу, — пробормотала мечтательница. — И не ставит никого из богов рядом с ним. Ох, как они злы, бесчисленные боги Египта!
— Тише, — сказала девушка с другой стороны от Нофрет. — А то она услышит.
Все, даже Нофрет, опасливо покосились на Сени. Она очень заботилась о поддержании порядка в своем отряде. Самые молоденькие пытались сопротивляться, если у них хватало смелости, и хныкали, если не хватало.
Нофрет не собиралась делать ни того, ни другого. Вокруг было стишком много интересного. Весь свет собрался здесь, принося почести царю Египта, Аменхотепу, сменившему имя на Эхнатон во славу своего Бога. Он царствовал уже больше десяти лет, но в Двух Царствах Египта часто были два царя — старый и молодой, — два двора и два дворца и даже — в те времена — две столицы. Теперь старый царь умер, и Эхнатон правил один, вместе со своей царицей, красоту которой воспевали даже в Великой Стране Хатти.
Это был праздник начала его единоличного правления — одновременно коронация и праздник обновления, провозглашение нового царства и подтверждение того, что он был царем с дней своей юности и остается им. Бесчисленные толпы народа, вельможи Двух Царств, принцы и послы со всего света собрались сюда, чтобы почтить его имя. От Ливии до Нубии и Азии, с запада на юг, восток и север каждый знал, кто царь над царями, правитель и Бог.
Нофрет никогда не видела столько народу и так много золота в одном месте. Куда бы она ни взглянула, золото слепило ее, вызывая головокружение. И впереди, там, где находился царь, было сплошное золото. На мгновение у нее мелькнула мысль, что у себя во дворце он, наверное, купается в нем, просто для удовольствия.
Но, может быть, царь и не занимается такими глупостями. Подходя ближе, она могла яснее видеть его лицо — странное, почти прекрасное в своем уродстве, с длинным подбородком, длинным носом, длинным разрезом глаз под тяжелыми веками, под грузом двух высоких корон. Перед узкой грудью он держал крест-накрест посох и плеть, как привык делать с детства, не умея больше ничего. Полоска накладной бороды, прикрепленная к подбородку, выглядела одновременно и забавно, и величественно: нелепость, какую может себе позволить только царь.
Нофрет не привыкла испытывать священный страх даже перед богами. Как она заметила, боги никогда не приносили ей особой пользы. Они существуют для царей или для слабаков, вроде тех девочек, которые упали без чувств, едва увидев лицо царя.
Однако, хотя Нофрет совсем не чувствовала растерянности, по ее спине внезапно пробежал холодок, и не потому, что она оказалась в тени царского павильона. Перед ней сидел не такой человек, как другие — даже не такой, как другие цари.
Вокруг не было никого, похожего на него. Царя окружали люди: царица, его дочери, придворные, множество вельмож, принцы, принцессы, слуги, распорядители и просто зеваки толпились на помосте возле павильона и вокруг под ярким солнцем. Внимание всех было сосредоточено на нем. Он являлся центром всего. И при этом был бесконечно одинок.
Сени подвела своих подопечных к подножию возвышения. Распорядитель громовым голосом назвал их и их назначение: дань уважения от царя Тушратты из Митанни царю Египта. Царь Египта смотрел на них так, как, должно быть, смотрел на все, что не было его Богом: с рассеянной благожелательностью. Он ничего не сказал, по-видимому, считая это ниже своего достоинства.
Когда подошла ее очередь. Нофрет почтительно поклонилась, как учила Сени. Не полагалось пристально глядеть на царя и царицу, которая была так же холодно-прекрасна, как ее господин странен с виду. Но Сени не говорила, что нельзя смотреть на остальных членов царского семейства.
У царя было шесть дочерей. Сени называла их имена, но Нофрет не запомнила. Трое старших стояли в ряд позади матери, держась за руки. Три младшие сидели у ног отца. У двоих были ручные газели, которых, по-видимому, приучили лежать тихо, когда царь занят своими делами. Нофрет подумала, что старшие, наверное, очень устали, стоя так целый день. Стоявшей в середине явно хотелось присесть.
Стоявшая с краю встретила пристальный взгляд Нофрет таким же смелым и даже более самоуверенным взглядом. У нее были длинные глаза, как и у отца, но не такие узкие и не с такими тяжелыми веками. Она, как и ее сестры — к счастью для них, — походила на мать. У нее была очень удлиненная голова, что было хорошо видно, поскольку голова была чисто выбрита, кроме одной пряди сбоку, означавшей, что она ребенок и царевна, но это ее совсем не портило, а, напротив, прибавляло изящества. Нофрет подумала, что когда она отрастит волосы, то будет выглядеть совсем неплохо. Царевна была прехорошенькая.
Похоже, ей было все равно, красива ли она, как мать, или уродлива, как отец. Возможно, красота для нее — обычное дело: в ее семье красоты было много. Нофрет почувствовала себя слишком большой, грубой и нескладной.
Она даже рассердилась. Но царевна не отвела взгляда и слегка улыбнулась — насмешливо, как показалось Нофрет. Конечно, забавно смотреть на чужестранку, разинувшую рот от удивления.
Накрашенные веки опустились на длинные глаза. Царевна что-то зашептала сестрам. Средняя нахмурилась. Стоявшая ближе к царице, старшая и больше всех уже похожая на женщину, что-то прошептала в ответ. Третья царевна настаивала. Наконец старшая вздохнула — к явному неудовольствию стоявшей в середине — и наклонилась к царице.
Нофрет обнаружила, что затаила дыхание. Сени уже почти закончила представлять самые прекрасные дары Митанни, как она назвала их. Насколько могла видеть Нофрет, никто уже не слушал. Царь был погружен в размышления о своем Боге. Придворные скучали. Царица наклонилась к старшей дочери, шептавшей ей в ухо.
Нофрет пришлось перевести дыхание, чтобы не задохнуться. Сени собрала своих подопечных и повела их прочь от возвышения. Нофрет замешкалась. Она знала, что царица и царевны говорят о ней. Не хотелось думать, что они пожелают убить ее, или сварить на обед, или сделать еще что-нибудь столь же ужасное.
Но просить Сени подождать было бесполезно. Им разрешено уйти. Сени пора к делам. Свежеиспеченные царские служанки были вверены торопливому распорядителю, а тот передал их стражникам, которые быстро повели их в город.
Девушек повели не во дворец. Нофрет знала, где он, — раньше спрашивала, да и по очертаниям города на горизонте это ясно: только храм Атона и башни ворот были выше. Подопечных Сени разместили в постоялом дворе для чужеземцев. Стражник, которого Нофрет втянула в разговор, сказал, что дворец переполнен и все дома вельмож тоже — слишком много гостей с дарами и данью. Если бы было место, их отправили бы во дворец сразу. Или в какой-нибудь другой из дворцов.
— Хорошо бы в Фивы, — сказал он. — Фивы лучше всего. Не то, что здесь. — Он сплюнул. — Все такое новое, что сырое дерево скрипит, и от каменной пыли невозможно дышать.
— Ну, здесь не так уж плохо, — вмешался другой, бросив многозначительный взгляд в сторону начальника, который улаживал расчеты с хозяином постоялого двора — в основном с помощью свирепой ухмылки и хватаясь за меч. — Платят хорошо, и в казармах чисто. Лучше, чем во многих других местах.
Нофрет с трудом понимала их речь — ее учили говорить по-египетски как знатную даму, а не как солдата — но достаточно, чтобы продолжать разговор.
— Разве вам здесь не нравится? В Ахетатоне? — Она старательно, как ее учили, произнесла название.
— Нам нравится повсюду, где наш царь, да живет он долго в здравии и процветании, — отвечал осторожный стражник — и как раз вовремя. Подошел начальник стражи, приказав всем возвращаться обратно на место праздника.
Они были обязаны играть свою роль на торжествах. Они получили приказ и останутся там, пока повелитель не позовет их, как бы долго ни пришлось ждать.
На постоялом дворе царила беспросветная скука. Все, кто мог, ушли распевать пьяные песни за угощением, выставленным для народа на рыночных площадях. Царским слугам идти не было позволено. Они ели ячменные лепешки, запивая их жидким ячменным пивом под желчным взглядом хозяина двора. Потом, поскольку делать было больше нечего, они поудобнее расположились в спальне — кто дремал, кто болтал, кто оплакивал прошедший день.
Нофрет ничего этого не делала. У нее были грандиозные планы. Боги назначили ей быть рабыней: пусть. Она извлечет из их воли пользу. Превратит свой позор в торжество.
Она еще не знала, как этого добиться, но уж способы-то найдутся. Девушка сидела в уголке, прислонившись к прохладной оштукатуренной стене, уперев подбородок в колени, и раздумывала, что станет делать, когда будет начальницей над слугами царицы.
2
Наутро праздник продолжался, а царские слуги все еще коротали время на постоялом дворе. К середине дня постояльцев прибавилось: появилась щебечущая стайка юных девочек из Ливии и Нубии. Некоторые из них были дики, как соколы пустыни, и лица их покрывали синие татуировки и шрамы. Только одна или две говорили по-египетски. Они не годились в прислужницы для царицы, и Сени ничему их не учила.
Нофрет завидовала им и размышляла о том, как хорошо было бы убежать туда, где проходил праздник, где на столах выставлено богатое угощение, пополнявшееся каждый вечер и утро, где в пышных церемониях вельможи восславляли своего царя и Бога. Она слышала, как люди говорили, будто сам царь, пройдя обряд возрождения во дворе храма, явится одетый как бегун, наделяя людей своей силой. Ей хотелось бы посмотреть, как побежит этот высокий худой человек с отвисшим животом. Наверное, он будет бежать по-женски, словно его ноги связаны в коленках. Но женщины тоже могут бегать очень быстро.
Нофрет закончила обдумывать способы своего бегства, и тут на постоялом дворе появилась некая новая личность. Девушка рассматривала ее с рассеянным любопытством. Вновь прибывшая была в платье знатной женщины но, конечно, это была служанка: ни одна знатная женщина не снизошла бы до того, чтобы явиться сюда без прислужников или носильщиков с паланкином.
Она брезгливо пробиралась сквозь толпу. Ее ножки в изящных сандалиях едва ли годились для того, чтобы касаться земли, не говоря уже о том, чтобы ходить по городским улицам. Нофрет вспомнила обнаженных царевен, их гибкие тела и порядком ороговевшие ступни. В Египте все наоборот: царевны ходят голышом, как рабыни, рабыни носят платья и украшения, достойные царевен.
Женщина остановилась перед Нофрет и с неодобрением оглядела ее. Нофрет приветливо улыбнулась. Женщина нахмурилась.
— Тебя зовут. Ты пойдешь со мной.
— Кто меня зовет?
Тонкие ноздри раздулись от возмущения.
— Раб спрашивает, кому он служит? Иди со мной.
Нофрет подчинилась, поскольку была любопытна и до сих пор верила в чудеса. В царственные чудеса. В чудеса, которые отделят ее от остальной массы рабов и поставят у ног царицы.
Исполненная презрения служанка вела Нофрет во дворец, в высокий царский дом возле храма Атона. Такая же новехонькая, как и весь город, эта часть его была ближе всего к завершению и отделана более тщательно. Здешние обитатели были избавлены от необходимости жить среди лесов, разбросанных кирпичей и невысохшей штукатурки. Стены были высокие, ровные и чистые, а краски на них свежи и прекрасны, как утро.
Нофрет не знала, что подумать об изображениях людей на всех стенах и столбах ворот. Все они были похожи на царя, но вытянуты до полной нелепости — даже силуэт женщины, должно быть, царицы, поскольку на ней была корона, и обнаженных детей, по-видимому, царевен. Они были вообще не похожи на людей — глаза у всех узкие и удлиненные, подбородки длинные, груди свисали низко, и у царя, и у царицы, и у детей огромные животы и округлые бедра. От этих необычных изображений становилось не по себе.
Но, как и в настоящем царе, в них было некое очарование уродства — в них, идущих процессиями по залам дворца, приносящих дары богам, обнимающихся среди цветов и пальмовых деревьев или восседающих на золотых тронах среди танцующих фигур. На этих изображениях царь не вел войн, не уничтожал врагов, и связанные пленники не лежали у его ног. В стране Хатти его сочли бы недостаточно царственным.
Провожатая оставила Нофрет в комнате, где не было ничего, кроме стола, тростниковой циновки и сундука, в котором среди цветочных лепестков лежала штука сурового полотна. Свет проходил через портик, поскольку комната, словно альков, была открыта во внутренний дворик, полный цветов и деревьев.
Нофрет не представляла себе, для чего могла бы использоваться эта комната. На стенах были изображены сцены на реке, люди в лодках, рыбаки с сетями, охотники, стреляющие дичь в тростниках. Все они походили на царя с его удлиненным лицом мечтателя.
Девушка развлекалась, подсчитывая его изображения. На берегу реки стояла женщина в короне царицы, но лицо у нее было такое же. Нофрет только вчера видела настоящее лицо царицы и пожалела ее. Ужасно быть такой красивой и видеть, как тебя все время изображают с таким лицом.
Но, может быть, царице это безразлично. Она казалась такой безмятежно спокойной, будто ее вообще ничто не волновало. Может быть, одно то, что ты царица, позволяет перенести все, что угодно, даже удары по самолюбию.
Нофрет провела пальцем по линиям волос царицы — на самом деле это парик — на манер, который Сени называла нубийским: короткий, весь в завитках. Великолепно нарисовано.
— Хотела бы я знать, — сказала она вслух, — что думают художники, когда им велят изображать людей подобным образом.
Никто ей не ответил. Она была одна, только снаружи на ветках щебетали птицы. Весь город был на празднестве.
А тут стояла тишина. Это нравилось Нофрет, во всяком случае, так она себе сказала. Совсем не похоже на то, что она видела в стране Хатти и в Митанни. В саду ее прежней хозяйки было полно болтливых служанок и росло множество цветов, от запаха которых она чихала. Здесь же все было спокойно и удивительно строго, несмотря на роскошь.
Нофрет задумчиво вышла в сад, благо останавливать ее было некому. Фиговые деревья были густо увешаны зелеными плодами. Еще там стоял улей с пчелами. Нофрет опасалась их.
Когда девушка собралась обследовать ворота в дальнем конце сада, они приоткрылись. Внутрь проскользнула маленькая фигурка, гибкая, совершенно свободная от стесняющих одежд.
Нофрет узнала третью царевну, которая шепталась с другими во время приношения даров, и была слегка разочарована. Она рассчитывала, что на нее обратит внимание сама царица или хотя бы старшая из царевен.
Ну, за неимением лучшего, сойдет и третья. Нофрет разглядывала ее с вызывающей откровенностью. Царевна отвечала тем же. Выглядела она неподражаемо, как будто рождена настолько выше всех по положению, что не нуждается в чьем-либо одобрении. Решив, что нагляделась достаточно, царевна сказала:
— Идем со мной.
— То же говорила и служанка, — заметила Нофрет. — И ты служанка?
— Нет, — ответила царевна, круто повернулась и вышла в ворота.
Нофрет подумала, не остаться ли на месте, но любопытство было сильнее ее. По другую сторону ворот был сад с бассейном, полным лилий. Две газели пили из бассейна. При виде Нофрет они подняли головы, но не убежали.
Царевна присела у бассейна. Там плавали рыбы: она кормила их кусочками ячменного хлеба прямо из рук. Пока хлеб не кончился, она даже не взглянула на Нофрет.
Нофрет устроилась неподалеку, подумав, что должна, наверное, пасть ниц, но не видела в этом смысла. Кто-то стоял на страже: она заметила тень среди цветов, внимательные глаза. Но теням все равно, кланяются ли царевне Двух Царств должным образом.
Царевне, похоже, тоже было все равно. Пока она кормила рыбок, Нофрет пыталась подманить и погладить одну из газелей. В ее присутствии газели чувствовали себя вполне непринужденно, но не настолько. Они бродили у края воды, пощипывая лилии и не обращая внимания на Нофрет. Девушка потянулась, чтобы сорвать лилию для приманки, и тут царевна вымолвила:
— Скажи мне свое имя.
«Скажи мне твое», — чуть не выпалила Нофрет, но внезапно исполнилась осторожности и сказала.
— Мне велено называться Нофрет.
— Это не твое имя, — заметила царевна.
— Предыдущее ушло, — ответила Нофрет. — Я отпустила его. Думаю, это небольшая потеря. Сени говорит, что все имена моего народа похожи на вопли котов перед дракой.
— Ты не из Митанни? — поинтересовалась царевна. — По-моему, имена Митанни похожи на бульканье.
Нофрет поднялась на коленях.
— Разве похоже, что я из Митанни?
— Похоже, что ты чужеземка, — равнодушно сказала принцесса.
— Я происхожу из Великой Страны Хатти, — произнесла Нофрет тоном уязвленной гордости, — где Великий Царь не кланяется никому — никому, даже царю Египта. Он называет твоего отца братом, а не отцом, не повелителем и не хозяином.
— Нахал, — сказала царевна и склонила голову набок. Длинная прядь волос закачалась, щекоча плечо.
— Ты ему предана?
— Я предана самой себе, — ответила Нофрет.
— Ты будешь предана мне, — возразила царевна. — Ты теперь моя. Мама сказала, что, если ты задумаешь что-нибудь против меня, тебя высекут, окунут в соленый раствор и повесят на крючок. Но я не стану поступать так жестоко. Я просто скормлю тебя крокодилам.
Нофрет засмеялась. Смех был скорее болезненным, чем по-настоящему веселым.
— Какая ты кровожадная.
— Я царская дочь. Меня зовут Анхесенпаатон. Ты будешь называть меня госпожой. И царевной.
— А как тебя называют твои сестры?
Царевна сощурила длинные глаза. Она напоминала кошку, нежащуюся на солнце, настороженную и безмятежную одновременно.
— Ты не моя сестра. Ты моя служанка.
— Готова спорить, они зовут тебя Малышкой, — сказала Нофрет. — Или Котеночком.
— Котенок — это моя старшая сестра, — ответила царевна. — Меритатон. Мекетатон — Олененок.
— А ты?
— Я вижу, что ты из хеттов, — заметила царевна, но не сердито. Скорее, ей этот разговор казался забавным. — Ты пытаешься быть такой же нахальной, как твой царь.
— Стало быть, Малышка, — настаивала Нофрет.
— Вот и нет. Меня называют Лотос, Цветок Лотоса, но ты не должна звать меня так.
— Да, госпожа, — сказала Нофрет так мягко, как только могла, и склонила голову, искоса взглянув на свою повелительницу. Ей так и не удалось вывести царевну из себя. Она ожидала покорности, но даже не поблагодарила Нофрет за то, что та согласилась ее проявить.
Царевна сорвала лилию, заткнула за ухо и наклонилась над водой. Не то, чтобы она была тщеславна: девочка просто развлекалась, глядя, как ее четкое отражение покрывается рябью, когда рыбы пытались поймать его.
Нофрет склонилась рядом с ней, но не слишком близко. Ее отражение было больше, шире и более дикого вида — с роскошной копной вьющихся волос, с глазами, горящими, словно у льва, потревоженного в логове.
Но царевна вовсе не опасалась полудикой рабыни и произнесла:
— Ты будешь служить только мне. Если мои сестры захотят, чтобы ты им прислуживала, скажи, что ты принадлежишь мне. Но скажи это вежливо. Мои сестры не такие покладистые, как я.
— Я думала, у вас все общее, — заметила Нофрет.
— Ох, нет, ответила царевна. — Это только напоказ, потому что мы царские дети, и царь хочет, чтобы люди думали, будто мы живем в полном согласии. Так оно и есть на самом деле, потому что нам нечего делить. У моих старших сестер свои служанки. У каждой из моих младших сестер своя нянька. Моя нянька умерла, а теперь ты принадлежишь мне и будешь моей служанкой.
— Почему я? — спросила Нофрет, наконец поняв суть дела.
— Потому, — ответила царевна.
Она не собиралась ничего добавлять к сказанному, это было ясно. Нофрет чуть не забыла, что перед ней еще совсем маленькая девочка — восьми, от силы девяти лет. Но по большей части она говорила и поступала, как гораздо более взрослая, как сама Нофрет, а Нофрет стала взрослой уже с прошлогоднего урожая.
Однако царевна все же была ребенком, и, как все дети, могла быть несносной.
Нофрет улыбнулась ей.
— Наверное, ты считаешь меня необыкновенной. Я совсем не похожа на людей из страны Митанни и на хеттских девушек тоже не похожа. Хеттские вельможи не привозят своих женщин в дар египетскому царю.
— Нет, они продают сестер и дочерей за любую плату, какую он даст. — Улыбка царевны была такой же любезной, как та, что Нофрет изо всех сил старалась удержать на лице. — В Великой Стране Хатти есть царь. В Двух Царствах есть Бог.
— И ты принадлежишь к богам?
— Я из царской семьи, — ответила царевна, — а цари происходят от богов.
— Я преклоняюсь.
— Ты невозможна! Тебя поэтому отправили сюда? Потому что ты не желаешь держать язык за зубами?
— Отчасти поэтому, — согласилась Нофрет и добавила с внезапной яростью: — И еще потому, что я не захотела пустить в свою постель жирного паршивца с блохами в бороде.
Глаза царевны чуть расширились: только это выдало ее потрясение.
— У тебя был выбор?
— Я укусила его за одно место, — сказала Нофрет, яростно выплевывая слова. — Он еще порадуется, что пара сыновей у него уже есть.
— Меня ты кусать не будешь, — заявила царевна после солидной паузы.
— Но ты же не будешь пытаться изнасиловать меня, — ответила Нофрет.
— С тобой все будет в порядке, если ты будешь вести себя как подобает, — пообещала царевна. — И распускать язычок только тогда, когда мы вдвоем. Ты очень… — она задумалась, — освежаешь. Но все остальные смотрят на вещи иначе.
У Нофрет не было причин сомневаться в этом. Сени обучила ее обязанностям служанки настолько хорошо, насколько ей позволило время. Много было сказано о царских требованиях и о том, чего ожидают от прислуги. Сени всячески подчеркивала, что важнейшими достоинствами являются молчаливость, исполнительность и полная незаметность.
Нофрет так и не научилась помалкивать, исполнительность проявляла, только специально вспоминая об этом, и уж никак не могла стать незаметной. Но она будет служить царевне, и вовсе не потому, что ходила, склонив голову и глядя только себе под ноги, как подобает прислуге.
— Давай поиграем, — предложила царевна. — Когда кто-нибудь рядом, изображай из себя безупречную служанку. Когда мы наедине, можешь говорить, что вздумается.
— Это сделка? — поинтересовалась Нофрет.
Царевна заметно насторожилась.
— Я царская дочь. Я никогда не заключаю сделок.
— Заключаешь, — возразила Нофрет. — Просто не называешь их так. Ладно, назовем это игрой. И ты не прикажешь меня высечь, чтобы я ни сказала, когда никого нет рядом.
— Смотря что ты скажешь, — ответила царевна.
3
Жизнь прислуги во дворце в Ахетатоне не слишком отличалась от жизни прислуги в богатом доме в Митанни. Так же нужно было выполнять множество разных поручений и тратить массу времени, угадывая в самых тонких, почти невразумительных намеках очередные желания хозяйки. И все же это была совсем другая жизнь.
Условия здесь были гораздо лучше, чем там, в переполненных, пропахших духами комнатах, в каких жила Нофрет. Тут она была обязана спать в ногах своей госпожи и поэтому расстилала циновку в комнате царевен, просторной и веселой, с высокими, ярко раскрашенными столбами, расписными стенами и роскошными мягкими коврами на мозаичных полах.
И еда тоже была лучше. Первой обязанностью Нофрет у новой хозяйки было пробовать всю пищу перед подачей царевне, а потом можно было доесть остатки. Боязнь проглотить отраву никогда полностью не оставляла Нофрет, но она была дочерью воина — ее учили быть смелой и презирать трусов.
Итак, она жила и ела почти как царевна, но все же была новенькой среди прислуги, которой во дворце было великое множество. Вскоре после разговора с царевной ее передали придворной даме в льняных одеждах, которая смотрела на нее с таким же презрением, как служанка, приходившая на постоялый двор, и приказала ее вымыть, осмотреть и, как она выразилась, почистить.
При этой чистке ей пришлось лишиться своих волос — роскошной, черной, отливающей на солнце красной медью вьющейся гривы, длиной почти до колен. Все остальные волосы на теле выщипали или сбрили, а потом натерли ее какой-то вонючей гадостью, чтобы убить остатки заразы, которая, как полагали эти самовлюбленные египтяне, гнездилась на ней. Нофрет стояла голая и дрожащая, пытаясь прикрыться неловкими руками, пока грубые пальцы шарили там, где им вовсе нечего было делать.
— Она девственница, — провозгласил ее мучитель.
Банная прислуга захихикала.
— Это ненадолго, — сказал один из них.
Нофрет с удовольствием выцарапала бы ему глаза, но ее ногти тоже были коротко подстрижены и подпилены.
После этих процедур у нее все болело и горело внутри и снаружи. Нофрет напоминала ободранный от коры прутик с белым концом — они смеялись и над этим, видя ее безволосую голову, бледную по сравнению с телом, коричневым от загара. Она дала себе клятву, что посчитается с ними. Как-нибудь. Когда сможет.
Нофрет проводила много времени с царевной, прислуживая ей и исполняя ее приказания, но она должна была подчиняться еще и начальнице над слугами, и управляющему дворца. Она могла стать объектом придирок любого из прислуги, кто был старше и сильнее — начиная от служанки, которая провожала ее в баню, а потом учила, как следует прислуживать царевне. Уроки Сени пошли впрок, но нужно было запомнить еще многое и все сразу. Слуг, не умевших учиться быстро, ожидала порка.
Это было совсем несправедливо и вовсе не интересно. Слабачка в глубине души Нофрет упрашивала ее пожаловаться царевне, но дочь воина распрямляла спину, поднимала голову и решала выдержать все. Даже если бы царевна и хотела, что она могла сделать? Ее вмешательство только ухудшило бы положение Нофрет, когда она снова окажется со слугами.
Девушка не помышляла о побеге, даже в снах, да и не собиралась бежать. Следовало доказать богам или Высшей Силе, кто бы ни заставил ее оказаться здесь, что она упрямей их.
Первое, что должна была выучить Нофрет после того, как ей показали весь дворец и объяснили, что она должна всякий раз пробовать еду своей хозяйки, было чудовищное количество имен и лиц высокопоставленных особ. Не только царя, царицы и их шестерых дочерей, от красавицы Меритатон до малютки Сотепенры. У царя были и наложницы, дочери его союзников, присланные ему в дар или в качестве заложниц. Главенствовала над ними хозяйка Сени, госпожа Кийа — Тадукипа из Митанни, царевна замечательной красоты, пользовавшаяся большими правами. Царь обожал ее, хотя она не родила ему ни одного ребенка. «И не родит», — шептали люди, бросая на царицу осторожные взгляды. Царица Нефертити не рассчитывала, что царь посвятит себя только ей, как можно было бы ожидать от обычного человека — царю это не дозволялось, — но и не желала, чтобы другая женщина дала ему то, чего не дала она, — сына, который будет править после него. Нофрет было любопытно знать, как царица добилась этого, если люди не врут. Такое знать полезно.
На празднества в город приехала мать царя, вдовствующая царица, которая распоряжалась, кем хотела. Даже Нофрет предупредили, что, может быть, придется прислуживать ей. Нофрет не стала говорить, что ее госпожа запретили прислуживать кому бы то ни было — все благоговели перед царицей-матерью Тийей, даже, наверное, ее внучка Анхесенпаатон.
Стоя в тени колоннады и наблюдая двор во всем его величии, Нофрет подумала, что это неудивительно. Царь сидел на троне, рядом с ним — царица, как и раньше. Царица-мать стояла прямо позади сына, в мантии и в короне. Ее небольшая фигурка, очень прямая, была исполнена жизненной силы, поразившей Нофрет даже на расстоянии, через всю ширину огромного зала. Ее лицо, слишком волевое, чтобы быть красивым, горело страстью, которой недоставало холодному совершенству царицы.
Это было не египетское лицо. Не совсем. Тийа была наполовину иноземкой. Глаза ее были шире, горбинка носа заметнее, губы полнее, чем у здешних людей. Она напоминала женщин Митанни или Ханаана. Глаза у нее были зеленые, как у Нофрет, а волосы, прикрытые париком, рыжие, как кедровое дерево, — Нофрет заметила выбившуюся прядь. Бледность ее кожи была иного оттенка, чем у египетских знатных дам, редко осмеливавшихся показать себя солнцу. Египтяне были желтовато-бледны, если не загорали до густого красно-коричневого цвета. Кожа царицы-матери Тийи была голубоватой, молочно-белой, почти как у Нофрет. Ее отцом был чужестранец из Азии, конюший одного из прежних царей. Он давно умер, но люди его еще помнили.
Ее брат Аи считался известным человеком в Двух Царствах, у него была жена из царского рода и дом, почти такой же большой, как дворец. Он выглядел еще более чужестранцем, чем Тийа, — высокий, худощаво-изящный, с острым орлиным носом, со странными светлыми глазами цвета серо-зеленой морской пены. Он приходился отцом царице Нефертити — у египтян были приняты родственные браки — и госпоже Мутноджме. Она не обладала великолепной красотой царицы, но была очень хороша собой и еще более надменна и холодна.
У царицы-матери были еще другие сыновья, кроме царя, и две дочери, не старше царских дочерей. Все они находились здесь. Дочери не представляли собой ничего особенного: милые девочки без следа материнского огня. Двое сыновей так сильно отличались по возрасту, что сначала Нофрет приняла младшего сына за старшего. Принц Сменхкара был высок, гибок и потрясающе красив, даже красивей царицы, по мнению Нофрет, — странно было видеть его рядом с явно неблагообразным царем и сознавать, что они дети одной матери.
Их брат Тутанхатон был совсем еще малышом — пухлый черноглазый ребенок, обещавший в будущем стать таким же стройным и красивым, как Сменхкара. Его недавно отняли от груди, и он никому не давал покоя. Тутанхатон облюбовал себе царевну Анхесенпаатон, и это означало, что Нофрет видела его постоянно. Он настойчиво следовал за ними обеими, подражал всем их действиям, требовал, чтобы его сажали обедать вместе с Анхесенпаатон, и надоел всем до невозможности.
Царевна вздыхала и терпела. Ей было проще, а Нофрет приходилось бегать, разыскивая мальчугана, когда он забредал в самые невообразимые места, заботиться о том, чтобы он был накормлен, и ругать нянек, которые подевались неведомо куда. А няньки сидели на кухне, потягивая пиво и бездельничая.
Нофрет позабыла, что значит слово безделье. Она должна была пробовать еду царевны, возиться с ее малолетними дядьями и предполагалось, что она знает всех и способна выразить каждому соответствующую степень почтительности. Царская семья, царские вельможи, царские наложницы, его гости и союзники сливались в массу неразличимых имен и лиц. Ипи — управляющий, Пенту — царский врач, Туту — распорядитель, Ани — царский секретарь, Маху — поддерживающий порядок именем царя, и правитель города, чье имя Нофрет не могла произнести без запинки и хихиканья: Неферхеперухерсехепер. Очень длинное имя для маленького кругленького человечка из ничем не примечательной семьи — как будто длина имени могла восполнить недостаток всего остального. Нофрет повторяла имена снова и снова, лежа ночью на своей циновке, распевала их наизусть, сопоставляла с лицами. Она не боялась порки, но была слишком горда, чтобы ошибаться.
Проще всего было, конечно, кланяться каждому, кто выглядел достаточно величественно, и называть его «мой господин» или «моя госпожа». Но Нофрет хотела добиться положения во дворце. Ей нужно было знать, кто есть кто, что он делает, кого можно использовать в своих целях, а кого лучше избегать.
От неразберихи у нее кружилась голова, но отчасти это было забавно. Если бы братья видели ее сейчас: их маленькая сестренка во дворце в Египте, разговаривает с целым царским двором! Конечно, по большей части эти разговоры были обычными обращениями к прислуге: приказы подать то или это, требования услуг, которые Нофрет не собиралась предоставлять, и неизбежное тисканье в темных уголках. Но кое-что стоило затраченных усилий. Царь был всегда приветлив, когда ему случалось заметить девушку, а брат царя Сменхкара даже улыбался ей, как будто находил привлекательной ее бритую голову без загара и все остальное.
И, кроме всего, она влюбилась. Нофрет знала, что значит влюбиться. Люди всегда поют об этом. Вот о чем они поют: дрожащие колени, внутри все как будто тает, и твердо веришь, что принц Сменхкара — самое прекрасное создание мужского пола, какое ей когда-либо случалось видеть, включай белого жеребца царя хеттов.
Размышляя вполне трезво, Нофрет понимала, что он не очень умен и не так уж силен духом. Но ей было все равно. Он красив, и этого достаточно. Может быть, в один прекрасный день он даже обратит на нее внимание. Известно, что с царевичами такое случается. Говорят даже, что иногда они женятся на иноземных женщинах, хотя и не делают их Великими Царскими Женами. Это для дочерей тех, кто происходит из царского рода.
Нофрет вспомнила Нефертити и Тадукипу и все же решилась помечтать.
Царевна была требовательна, но бывала и очень добра, отпуская Нофрет смотреть на игры воинов или процессии жрецов среди храмов. Она видела, как царь в великом храме Атона приносит жертвы — богатые дары для процветания Двух Царств. Как и всегда, он делал это с напряженно-мечтательным видом.
Царь был странным человеком, и чем дальше, тем казался еще более странным. Только он ясно видел своего Бога, по крайней мере, так говорил. Все прочие были глухи, и слепы и должны были доверять ему объяснять им, чего хочет Бог.
У Бога даже не было лица. Это был диск Солнца, чистым свет. Художники изображали его круглым и золотым, со множеством лучей-рук, дарующих царю божью милость. Нофрет, вспоминая солидных, человекоподобных богов Великой Страны Хатти и Митанни и других стран — даже Египта — думала, что Атон — нечто странное и неуловимое.
Так считали и остальные. При дворе об этом никогда не говорили, но, поскольку Нофрет привыкла бродить по улицам города, когда царевна отпускала ее, она слышала много такого, чему во дворце не обрадовались бы. Ахетатон был еще совсем новым городом, построили его недавно, и люди жили в нем не потому, что здесь родились и здесь собирались умереть, а потому, что царь нуждался в них. По его требованию горожане приносили в храм дары, но царь не мог заставить их почитать Атона, как собственного бога, и доверять ему охранять их от недобрых предзнаменований и ночных духов. Они продолжали носить амулеты с изображениями всех богов Египта и молились им, хотя в единственном городе Атона других храмов не было.
Люди называли Атона царским богом. У них были свои боги, которых они почитали, как могли. Поговаривали о жрецах из других городов, которым вовсе не нравился царь и его Бог. Особенно ревнив был один бог, Амон из Фив. Его жрецы с удовольствием навредили бы царю. Эхнатон прекратил эти богослужения, разогнал жрецов и назвал врагами Атона.
— Он пытается заставить нас, — сказала торговка пивом на рынке, более словоохотливая, чем многие, наверное, потому, что часто пробовала собственный товар. — Он думает, что может сделать своего Бога единственным и стать его пророком, чтобы говорить от его имени. Получается, что он царь и Бог! Почему никто не скажет ему, что нельзя делать все, что взбредет в голову? Мы-то не изменимся. Я родилась на коленях Таверет, выросла, принося хвалы Хатор, и молюсь Матери Исиде, когда мне что-либо нужно. Разве я откажусь от них ради этой ерунды с руками?
— Но ты же здесь, — заметил один из покупателей. — Оставалась бы там, откуда явилась.
— Я из Мемфиса, — ответила торговка внушительно, — и горжусь этим. Но в Мемфисе очень много пивоваров, а здесь их гораздо меньше. Поэтому я и явилась поглядеть, что творится в новом городе, который построил царь.
Творилось, как сказала женщина, строительство и обустройство нового города в стране, где до сих пор новым считалось все, чему было не больше тысячи лет. Бог привел царя на это место на полпути между Фивами и Мемфисом. Великая река Египта пробегала долгий путь среди величественных каменных стен, и только здесь утесы раскрывали свои объятья для реки и долины. Это было чистое место, свободное место — священное, по словам даря. На другой стороне реки располагались достаточно старые и вполне процветающие города. Здесь же, пока не явился царь, была пустыня.
Прямо за царскими садами начиналась Красная Земля. По ночам Нофрет слышала крики шакалов — близко, как будто под самыми стенами. Соколы из пустыни охотились за птицами в саду, и Нофрет готова была поклясться, что однажды видела львицу, гревшуюся на солнышке на крыше одного из домов на краю города.
Сначала Нофрет побаивалась выходить за городские стены. Но потом в девушке заговорила хеттская гордость и повела ее наружу, к селению, где жили строители гробниц. Оно располагалось довольно далеко от города — скопление домиков на пустыре у развилки дорог, а позади крутые утесы, рассеченные узкими пересыхающими руслами. И там и сям зияли пасти еще не готовых гробниц. Лишь немногие имели владельцев. Мало кто из вельмож и богачей считал достойным для себя умереть в Ахетатоне.
У бедных, конечно, не было таких домов для вечной жизни. Им приходилось довольствоваться могилой, вырытой в песке.
Строители гробниц жили отдельно и держались особняком. Жрецы, присматривавшие за гробницами, когда они были закончены и заняты, тоже чурались людей. Никто из них не приветствовал посторонних, но Нофрет не привлекала к себе внимания и умела вовремя скрыться в тени. Ее прогоняли только если она производила шум или подсматривала за чем-то, что жрец хотел сохранить в тайне.
Дом, где производилось бальзамирование, которое египтяне называли очищением, стоял в стороне на открытом месте; его дверь была заперта, чтобы не забредали хищники, но не запечатана. Нофрет каждый раз проходила мимо него, но смотреть решалась только издалека. Ее пальцы, помимо воли, сами складывались в знак, защищающий от злых духов.
На дальнем конце селения, где почва была совсем каменистой и бесплодной, стояли хижины и каменные домики чужеземцев. Нофрет слышала о них много разных толков, даже в городе: люди называли их «апиру», хотя они совсем не были похожи на грабителей и разбойников, носивших такое название в Митанни. Они пришли в Два Царства вместе с Юйи, отцом царицы, последовав за ним от голода и засухи в страну, где можно найти пропитание и заботу.
Сам он преуспел, женившись на женщине из рода цариц и став отцом царицы. Его соплеменникам повезло меньше. Лишившись стад и отар, покинув свои шалаши, они не нашли для себя другого занятия, кроме как изготовлять кирпич и украшать резьбой камни для гробниц.
Однако они были гордыми людьми. Все они походили лицом на господина Аи, словно стая орлов. Мужчины носили длинные волосы, заплетая их в косы и покрывая шапкой или куском ткани, и отпускали бороды до пояса. Женщины отличались разумной скромностью, ходили в платьях и накидках и прикрывали лицо при встрече с незнакомцами. Их боги были немногочисленны и суровы, а песни навевали мысли о пустыне.
Нофрет немного понимала их язык, напоминающий тот, на котором говорили жители пустыни в Митанни — его обрывки она выучила на рынках и от одного из рабов в доме своего прежнего хозяина.
Она не знала, зачем ходит в селение строителей. Для прогулок были места попрохладней и поприятней. Но это было самым отдаленным от дворца, а находилось в той же долине, что и город. Еще хорошо бы взобраться на утес или исследовать одно из узких русел, прорезавших скалы. Когда-нибудь она попробует. А пока ей нравилось местечко на выступе скалы позади домов апиру. Отсюда город был не виден, только пустыня. На скале росло корявое дерево, упорно цеплявшееся за жизнь в этом бесплодном месте; под ним можно было сидеть, прислонившись к стволу, строить планы, раздумывать и мечтать — когда она прислуживала царевне, предаваться размышлениям было некогда.
Под скалой располагался загон для коз, а рядом стоял дом — солидных размеров по сравнению с другими, кирпичный, с настоящей деревянной дверью, по-видимому, забракованной городскими строителями: она треснула в нижней половине, но еще годилась в дело. Сидя на своей скале, Нофрет наблюдала за теми, кто входил и выходил в эту дверь, — женщина в накидке, мужчина средних лет и мальчик. Скорее, юноша — он казался немногим старше Нофрет. У него едва начинала пробиваться борода, когда он говорил, голос срывался, отчего деревенские девчонки заливались смехом. Парень был нескладный, тощий и угловатый, с носом, похожим на клюв, и с всклокоченной копной черных волос под шапочкой в полоску.
Казалось, никто из них не замечает незнакомку на скале. Они никогда не смотрели в ее сторону, их не занимало ничто, кроме самих себя, их семейного божества и козла, который частенько срывался с привязи и отправлялся бродить по селению.
В козле наверняка обитал демон. Его косые желтые глаза светились хитроумием и безграничным коварством. Дождавшись, когда все погрузятся в дела в доме или возле гробниц, он наклонял голову, напрягал каждый мускул и рвался изо всех сил. Веревка лопалась, и он вылетал на волю — сеять ужас на улицах. Стена загона была достаточно высока, чтобы удержать коз и молодняк, но ему служила лишь ступенькой — он вскакивал на нее, задерживался на мгновение, радуясь свободе, и спрыгивал вниз в селение.
К счастью, козел никогда не пытался составить компанию Нофрет, сидевшей на скале. Девушка видела, как он обходился с людьми, попадавшимися на его пути.
К моменту второго побега козла Нофрет успела уже несколько раз побывать на скале. Она считала ее местом своих грез, своей свободы. Прыжок козла из неволи вырвал ее из сна наяву, в котором она одновременно была царицей и главной над слугами, отдававшей приказания служащим дворца — все они были в хеттском платье и с лицами хеттов. Козел напомнил ей одного из советников царя, большого любителя рассуждать о пустяках и тискать служанок в укромных уголках. Эта мысль развеселила ее, и еще громче она рассмеялась, увидев, как в погоню за козлом из дома устремился мальчик.
Это была потрясающая погоня. Что-то она видела, остальное слышала: крики, проклятия, оглушительный треск и жалобный визг. Козел вломился и мастерскую и поверг в ужас хозяйскую собаку. Судя по грохоту, он еще и проплясал среди верстаков.
Стук копыт возвестил о возвращении козла — он мчался галопом, преследуемый возмущенной толпой. Общими усилиями его загнали в угол у стены — не без трудностей — и, разинув рты, наблюдали, как козел сиганул на стену, ехидно мемекнул прямо им в лица и спрыгнул вниз к своим подружкам.
У Нофрет даже бока заболели от смеха. Она повалилась на землю у подножия дерева и набрала побольше воздуха, чтобы совладать с приступом икоты.
Тень заслонила солнце. Нофрет скосила глаз. Тень стала яснее: долговязая костлявая фигура, копна волос, свирепый взгляд.
— Ты же видела, как он удрал! — сказал мальчик обвиняюще.
Он говорил по-египетски намного лучше ее. Не хуже, пожалуй, чем сам господин Аи, но несколько отрывисто.
Нофрет зевнула, нарочито вызывающе, что помогло ей, наконец, справиться с икотой.
Парнишка подбоченился и нахмурился.
— Ты же видела, как наш козел выбрался на свободу. Почему ты ничего не сказала?
— А я и не знала, что я ваша служанка.
Мальчик недовольно фыркнул.
— Ты, должно быть, принадлежишь фараону. У него все слуги дерзкие. Даже ему самому до них далеко.
Он явно считал себя большим умником. Нофрет с удовольствием ответила ему нежным голоском:
— Я принадлежу дочери фараона. А ты кому? Козлу?
— Никому, кроме моего Бога, — высокомерно сообщил парнишка.
— Падаю ниц в благоговении, — скривила губки Нофрет. — Ты принадлежишь царю, как и все работники. Готова спорить, ты никогда его близко не видел.
— Почему же, видел, — возразил мальчик. — Он мой родственник, муж моей родственницы. А ты кто?
— Дочь воина из Великой Страны Хатти. Это лучше, чем быть царским слугой в Египте — родня он тебе или нет.
Парень был горд, как и все его соплеменники. Нофрет даже испугалась, что он залезет на скалу и побьет ее. Но он только свирепо глянул, словно пригвоздив ее к месту. А потом засмеялся, и смеялся искренне и долго.
Когда он наконец умолк, Нофрет была уверена, что перед ней сумасшедший. Его дальнейшие слова не разубедили ее.
— Ты видела, как все гнались за козлом? Ну разве не замечательно?
— Да, — сказала Нофрет, помедлив, — конечно.
Босые загорелые ноги легко подняли парня на скалу. Нофрет заставила себя не метнуться в сторону. Если понадобится, Она сможет столкнуть его.
Но мальчишка и не думал ей угрожать. Он уселся в оставшемся клочке тени, скрестив, ноги, и с улыбкой уставился на нее. Он вовсе не был похож на безумца, просто развеселившийся мальчик, и смотрел с неподдельным интересом.
— Какая ты грубиянка! Кто ты на самом деле?
— Я сказала тебе правду. Я служанка третьей царевны. Она зовет меня Нофрет.
— Разве это хеттское имя?
— Нет.
Они помолчали.
— Меня зовут Иоханан, — сказал парень.
Нофрет смотрела на него не мигая.
— Ты скрываешь свое настоящее имя, — предположил он. — Боишься колдовства?
— Нет! — возмутилась Нофрет.
— Боишься. Ты не хочешь, чтобы люди узнали, кто ты такая, тогда ни один человек не будет иметь над тобой власти.
— Я не боюсь колдовства, чем бы оно мне ни грозило. Мое имя — это мое имя.
— Знаешь, ведь никакого колдовства не существует, — произнес Иоханан. — Все это предрассудки. Только Бог обладает такой властью, но он не станет расходовать ее на тебя. Над нами только Бог.
— Какой? Царский Атон?
— Бог. Наш Бог. Тот единственный, кто привел нас сюда и снова отведет домой.
— Почему? Разве вы забыли дорогу?
— Мы ее никогда не забудем. Но мы обязаны фараону. Мы служим ему, как делали и наши отцы, чтобы отплатить за спасение от голодной смерти.
— Думаю, за это придется платить долго, — заметила Нофрет.
— Ты не наша, тебе не понять. У нас долгая память. Мы хорошо платим за все — и за добро, и за зло.
— Вы странные.
— Мы народ своего Бога, — сказал Иоханан, как будто этим можно было объяснить все.
4
Царский родственник из селения строителей и царь из дворца были похожи. Каждый из них был убежден, что его Бог — единственно истинный бог. И оба они были весьма странными людьми.
У царя не было сыновей, только дочери — шестеро, все рожденные царицей. Его наложницы никогда не рожали детей. По слухам, царица тщательно следила, чтобы такого не случилось и не появился на свет сын — наследник царя. Сына ему должна родить только она.
Всем уже начинало казаться, что никакого сына никогда не будет, потому что царица рожала одних дочерей.
— Их шестеро, — сказала служанка царевны Меритатон, сидя в углу спальни царевен и натягивая на арфу новые струны. Царевны были с матерью в храме, принося утреннюю жертву Атону. Служанки проветривали постели, убирали белье и подметали полы.
Нофрет собиралась прогуляться в город, но Таме хотелось посплетничать. Тама была нубийкой, высокой и крепкой, как мужчина из страны Хатти, но умела замечательно бережно обращаться со струнами своей позолоченной арфы. Она обожала поболтать и не одобряла отлучек Нофрет, считая такое поведение неподобающим.
Сейчас Тама вполне сознательно мешала ей уйти. Нофрет склонна была простить ее, потому что царевны, кроме хозяйки Нофрет, не знали, как она проводит свое свободное время, да и ни к чему им знать. Меритатон, как и ее служанка, посчитала бы это неподобающим.
И Нофрет задержалась, починяя ожерелье, разорванное царевной. Это была тонкая работа — бусины следовало нанизывать в строгом порядке, не забывая ни единой. Голос Тамы журчал, как поток.
— У него шесть дочерей, — продолжила она, — и он не интересуется другими женщинами — только своей царицей.
— Он очень любит госпожу Кийю, — нескромно заметила Нофрет. Девушка помнила, как госпожа сидела возле царя за обедом, подавая ему лакомые кусочки со своей тарелки, когда царица отсутствовала — слуги знали, что она нездорова, что недавно у нее был выкидыш, и теперь во время месячных ей неможется. Царь казался очень довольным Кийей. Он улыбался медленной улыбкой мечтателя, в которой, однако, горел огонь, и вскоре ушел вслед за ней — всем было ясно, зачем.
Тама тоже это помнила, но сказала:
— Он околдован. Царь может быть мужчиной только с царицей. Даже с Кийей ничего не выйдет, как бы она ни старалась. Она получает от него только поцелуи и нежные слова.
Нофрет выловила лазуритовую бусину из чаши, стоявшей у нее на коленях, и, нанизав ее рядом с другими, сказала:
— Люди говорят, будто царь и с царицей ничего не может, а дочери только ее, а вовсе не его.
— Ну, это вранье, — возразила Тама. — Кто же тогда их отец? Господин Аи?
— Господин Аи ее брат.
— А царям это безразлично. Они постоянно женятся на членах своей семьи.
— Ни за что не поверю. Наверное, какой-нибудь конюх — большой мастер рассказывать разные истории. Или один из принцев, питающий давнюю страсть к царице.
Тама фыркнула.
— Ерунда. Царица многое умеет. Она достаточно хорошо обращается с мужем, чтобы иметь дочерей. А вот сыновья не получаются. Даже она не в силах сделать его семя достаточно мощным для этого. Да и желания такого у нее нет, как говорят мои кости.
Тама не имела в виду кости своей большой мускулистой руки, которая так ловко натягивала струны. Она хранила в узелке горсть отполированных мелких овечьих косточек, доставала их, когда было настроение, разбрасывала и читала получившиеся рисунки, как будто они что-то значили. Иногда ее предсказания даже имели смысл. Нофрет, однако, не замечала, чтобы они сбывались скорее и точнее, чем ее собственные смутные догадки.
Но Тама происходила из рода колдунов, а того, кто считает себя наделенным особой силой, обижать не следует. Нофрет широко раскрыла глаза, как имела обыкновение делать ее царевна, и с любопытством спросила:
— Твои кости с тобой разговаривают? И что же они говорят?
— Что у царя не будет сыновей, — ответила Тама.
— Но разве это так важно? Право наследования престола передастся через царевен — через внучек царицы Нефертити, дочери богов. Он может найти хорошего человека, который согласится жениться на царевне и стать царем. Сотни людей — и плохих, и хороших — прельстятся такой возможностью.
— Но царь так не считает, — сказала Тама, словно знала это наверняка. — Любой другой царь думал бы именно так. Но наш царь привязан к своему Богу, который говорит ему, что он сам — Бог. Царь должен иметь сына от собственной плоти и крови, иначе божественная линия прервется.
— Это трудно, — вздохнула Нофрет.
— Да, нелегко, — согласилась Тама. — Чтобы выполнить желание его Бога, придется что-то придумать.
И царь действительно придумал. Однажды вечером, когда праздник в честь коронации уже закончился, он позвал к себе дочерей. Толпы народа покинули город, царица-мать с младшими детьми вернулась в Фивы, чужестранцы, кроме тех, кто был подарен царю, уехали.
Жизнь в Ахетатоне была не особенно тихой — здесь обитало множество царской прислуги, постоянно воздвигались новые здания, царские гонцы носились взад и вперед то галопом, то бегом. Но к вечеру все успокаивалось. Рабочие заканчивали свои труды и отправлялись по домам. Придворные расходились из дворца, чтобы лечь спать дома или пьянствовать в гостях до самого рассвета. Во дворце тоже все готовились ко сну, кроме молодежи, готовой ночь напролет танцевать в винном дурмане.
Царевны имели привычку собираться в своей просторной спальне, где горели лампы и тени прятались по углам, и рассказывать всякие истории, сплетничать, слушать, как Тама поет и играет на арфе, до тех пор, пока не приходило время ложиться спать. В тот вечер Тама пела любовную нубийскую песню, довольно мрачную и не до конца понятную царевнам, но она им понравилась. Посланец царя вежливо дождался, пока песня закончится, затем низко поклонился и повел всех к царю.
Нофрет сочла, что «всех» — значит и прислугу. Пристроившись в тени своей хозяйки, она молча последовала за царевнами, и никто не остановил ее.
Прежде она не бывала в царском дворце. Хотя придворные дамы, царицы и царевны жили в самом дворце, у царя был отдельный дом, связанный с остальными мостом, выстроенным над великой дорогой процессии, являвшейся главной улицей Ахетатона. Простые смертные ходили внизу, если им позволяли. Царственные персоны шествовали поверху в собственный дом царя.
Царственные персоны и Нофрет с ними. Другие служанки не пошли; даже бесконечно любопытная Тама. Ни у кого из них не хватило дерзости поступить так, как Нофрет.
Царь ожидал в комнате, должно быть, служившей приемной. Лампы горели, смягчая яркие краски расписанных стен. На полу лежали циновки, поверх них — ковры.
Он сидел вместе с царицей на ложе с алыми подушками. Спинка и подлокотники были украшены резьбой и росписью, изображавшей царя и его семью. Ложе опиралось на фигуры львов из чистого золота.
Царь и царица были без корон и одеты не так, как обычно. На царице были льняное платье, нагрудное украшение в виде крыльев сокола Гора из золота, лазурита и халцедона и короткий парик, завитый по-нубийски. На царе была юбка, на груди украшение, почти такое же, как у царицы, и головной убор в полоску — намного, как решила Нофрет, прохладнее и удобнее парика.
Он казался почти обычным человеком, несмотря на его странное длинное лицо, — худым, узкоплечим, со слабыми мышцами живота. Теперь его глаза видели то, что находилось перед ними, воспринимали происходящее и следили за ним. Царь, судя по всему, чувствовал себя непринужденно, положив руку на плечи царицы; они казались такими близкими людьми, как многие давно живущие в браке египтяне.
Даже царица не была такой холодно-безупречной, как на троне или в храме. Под маской ее красоты Нофрет разглядела живого человека: усталую, обессиленную женщину не первой молодости — тонкие, едва заметные морщинки уже пролегли в уголках прекрасных глаз и губ. Она родила шестерых дочерей живыми, ее тело могло выносить плод — но не сыновей.
Царевны по очереди поклонились, обменялись с родителями поцелуями и сели, кто на колени родителей, кто у их ног. Прелестная картинка, образец семейного счастья… Царь улыбнулся, глядя на дочерей, потом подозвал Меритатон и сказал:
— Сядь здесь, между нами.
Старшая дочь царя как будто хотела спросить, зачем, но вместо этого улыбнулась и угнездилась между родителями, не без гордости взглянув на сестер. Они всегда соперничали за родительское внимание. Мекетатон, вторая принцесса, скорчила сестре гримасу, прикрываясь веером.
Царь обнял Меритатон за плечи так же, как только что обнимал свою царицу. Дочь прислонилась к нему, довольная.
— Мы с матерью посоветовались друг с другом, — начал царь. Голос у него был слабый, довольно высокий, и он заикался. Нофрет рассказывали, что он редко говорил прилюдно, а со времени приезда в Ахетатон — ни разу.
Он продолжал все тем же маловнушительным голосом:
— У меня нет сына, дочери мои. Некому принять после меня две короны. Некому будет править, когда Атон заберет меня к себе.
Царевны слушали молча. Царица смотрела прямо перед собой, снова укрывшись за своей маской, прочной, как камень.
— Ваша мать больше не родит мне детей. Так сказал Бог, и сердце ее согласно с этим.
— Значит, — неожиданно вмешалась третья царевна, — госпоже Кийе позволят завести ребенка? Ты же знаешь, как она хочет.
Царица бросила на нее испепеляющий взгляд. Анхесенпаатон слегка покраснела и с интересом принялась разглядывать свои босые ноги.
Царь, казалось, не слышал этого. Его взгляд снова стал отрешенным, как будто вокруг не существовало ничего, кроме Бога, который беседовал с ним в его сердце. Когда он заговорил снова, голос его изменился, стал сильнее и увереннее.
— Бог сказал мне, что я должен иметь сына, чтобы божественная линия не прервалась, когда он призовет меня в свои объятия. Нужен сын. Наследник.
Все молчали. Царевнам, наверное, было неприятно слышать, что их недостаточно, что они, все шестеро, не могут быть равными единственному младенцу мужского пола.
Царь провел ладонью по щеке Меритатон, по изгибу ее шеи, вниз к расцветающей груди. Девушка слегка вздрогнула, но ей было приятно: груди ее поднялись, глаза смотрели мягко и почти так же отрешенно, как у царя. Меритатон была набожна. По ее словам, Бог иногда говорил с ней. Она считала, что таково ее предназначение — как старшей царевны, от которой следующий владыка получит право на царство.
Меритатон смотрела на отца со спокойствием невинности.
— Если я выйду замуж, — сказала она, — я могла бы просить Бога даровать мне сына. Я уже достаточно взрослая. У меня начались месячные. Я могу выносить ребенка.
— Да, — согласился царь. — Но за кого же тебе выйти замуж, чтобы сохранить в чистоте божественную линию? Наследником должен быть мой сын. Мой сын, моя кровь и плоть. Так сказал мне Бог.
По мнению Нофрет, этот Бог был дурак. Иначе бы он знал, что его замечательный и возлюбленный отпрыск вряд ли сможет завести сына, если не сделал этого до сих пор.
Конечно, Нофрет прикусила язык — незаметная тень, всевидящая, всеслышащая, затаившаяся в молчании.
— Так надо, — сказал царь, словно сам себе. — Ты понимаешь? Так надо.
— Понимаю, — ответила царица. Это были первые слова, сказанные ею. Голос у нее был почти такой же низкий, как у царя, но гораздо красивее.
— Для Атона, — продолжал он. — Для мира, который он создаст. Нужен сын.
— Если Атон этого хочет, — согласилась царица, — пусть так и будет.
Ее слова прозвучали холодно, рассеянно и невероятно устало. Царь ничего не заметил, а счастливо заулыбался и радостно склонился к Меритатон.
— Я женюсь на тебе! Ты родишь сына для Бога, и он осыплет тебя своими милостями.
В ушах Нофрет отдавалось лишь биение ее сердца. Она затаила дыхание, потому что, вздохнув, закричала бы, и тогда быть ей битой.
Царевны лишились дара речи. Младшие были слишком малы и не понимали, что происходит. Старшие в изумлении уставились на отца и сестру. Меритатон казалась озаренной божественным светом.
— Должен быть сын, — сказал царь. — Кровь нельзя ослаблять и разбавлять. Только твоя линия годится. Только ты.
Меритатон моргнула, явно приходя в себя, и застыла от ужаса. Отец женится на дочери, чтобы она родила ему дитя… Она улыбнулась.
— Да. Только мы годимся.
Царь ответил ей улыбкой. Царица сидела, словно статуя. Царевны смотрели, как зеваки на празднике, не принимая в нем участия.
Царь склонился, чтобы поцеловать свою дочь. Это не был поцелуй жениха — теплый, но не пылкий, целомудренный, без страсти.
— Безумие! — вскричала Нофрет, но негромко, потому что они с царевной были не одни. — Он с ума сошел. Как же он может идти на такое? Как может даже помыслить об этом?
— Такова воля Бога, — сказала Анхесенпаатон, холодная и невозмутимая. Нофрет могла бы подумать, что она ничего не понимает, но ее госпожа все прекрасно понимала. Девочка знала, что происходит между мужчиной и женщиной и что допускается природой, а что нет.
— Лев берет в жены львицу из своей семьи, — пояснила она. — Жеребец покроет собственную дочь, когда она войдет в пору. Бог знает, что делает. Он требует этого от нас, потому что больше никто не годится. Божественное может сочетаться браком только с божественным.
— Ты такая же сумасшедшая, как твой отец, — сказала Нофрет сквозь зубы, продолжая втирать ароматное масло в кожу своей госпожи, — ежевечерний ритуал, который должен был сохранить ее такой же красивой, как мать, даже в старости. Остальные царевны уже спали, или служанки и няньки укладывали их. Никто не прислушивался к словам Нофрет.
— Ты не Бог, — сказала царевна, — и не дитя Бога. Тебе не понять.
— И не хочу понимать. — Нофрет втирала масло с такой силой, что царевна поежилась. Она смягчила свои прикосновения, но не слова: — Я знаю, что цари всегда жаждут иметь сына. Он им действительно нужен. Но этому царю совсем нет необходимости совершать такую гадость. У него во дворце множество красавиц царской крови, на любой случай. Он может ходить к ним каждую ночь, горячо молиться своему Богу и получить целую армию сыновей.
— Нет, — возразила Анхесенпаатон. — Они обычной крови. А наследник должен быть божественного происхождения.
— Боги женятся на смертных. Часто. Каждый день. И даже имеют от них детей. Сам Амон и царица Нефертари…
— Он был ее отцом, — перебила Анхесенпаатон. — И любовником.
— Я думаю, он не настоящий Бог, — сказала Нофрет не без злорадства, — и все его учение — ложь.
— Это так, — согласилась Анхесенпаатон.
— И все же права на престол происходят от него, через царицу, чьим отцом и любовником он был. Если вообще был.
— А это тайна. Ее знают только боги.
Нофрет не понимала, пронзили ли ее слова броню. Трудно поверить, чтобы такое дитя могло столь искусно скрывать свои чувства и быть так непреклонно убежденным в том, что ее отец — Бог, и посему не подлежит осуждению.
Царевны спали, каждая в своей постели, в ногах у них посапывали служанки. Все, кроме Нофрет, которая лежала при свете ночника без сна, вспоминая, как царица не мигая глядела в темноту. Воздух был теплый, как всегда в Египте, но Нофрет трясло от холода. Холода внутри, пробиравшего до костей.
5
Царь есть царь, он волен поступать, как ему угодно. Даже взять свою дочь в жены, провести с ней свадебную церемонию перед алтарем Атона и сделать с ней то, что должен сделать муж, когда желает иметь сыновей. Меритатон не заменит царицу и не будет править как царица. Она всего лишь слуга Бога, исполнительница его воли.
Теперь Меритатон полностью стала женщиной. Ее кровать вынесли из спальни царевен и поместили в комнате на женской половине, возле покоев царицы Нефертити. Тама отправилась с ней, оставаясь ее приближенной служанкой.
По вечерам часто звучала музыка: царевны умели петь, некоторые даже очень хорошо, все они играли на арфе, бубне и систре. Но Тамы с ее сильным голосом и искусством игры на арфе им недоставало.
Однажды, когда царевны спали в полуденную жару, Нофрет отправилась навестить ее. Покои царевен — спальня, гардеробная, молельня и комната для купания — располагались с одной стороны дворцового сада, а комнаты цариц — с другой. В саду не было ни садовников, ни женщин, греющихся на солнышке. Все, кто был свободен, погрузились в дремоту, даже слуги, которых сейчас не требовали хозяева.
При желании Нофрет тоже могла бы поспать, но предпочла повидать Таму.
Она и прежде бывала в доме цариц, ожидая свою госпожу или выполняя ее поручения, и знала дорогу. Аромат духов здесь был сильнее, чем в комнатах царевен. Тут властвовали царицы или самые высокородные и любимые из царских наложниц.
Покои царицы Нефертити были, конечно, самые просторные и самые роскошные, почти как у царевны Меритатон. Кроме Тамы, у нее теперь было множество других слуг, стражников и придворных дам. Ее кровать стояла в отдельной спальне, у нее были еще собственная туалетная комната и зал для приемов, где на небольшом возвышении стоял трон.
Нофрет предполагала, что комнат будет много, и больших: ей ведь уже приходилось видеть помещения царицы. Но она не подумала о том, что, как и ее мать, царевна будет теперь окружена прямо-таки стеной прислуги. Хорошенькая Меритатон, всегда требовавшая для себя лучший уголок в спальне царевен, стала царицей, и весьма надменной.
Она лежала на кушетке в комнате, где в это время дня было прохладней всего, и слушала, как Тама играет на арфе. Меритатон выглядела так же, как запомнила ее Нофрет, как выглядели все царевны; хрупкие кости, нежный овал лица, удлиненные глаза, еще длиннее подведенные колем. Нофрет не заметила в ней бремени вины, груза печали. Может быть, она казалась слегка взволнованной, как и подобает невесте Бога.
Нофрет хотела было подождать, пока Тама закончит, послушать пение вместе с остальными слугами, а потом тихонько увести ее. Однако она повернулась и пошла, все быстрее и быстрее, а потом побежала.
Люди окликали ее. Нофрет смутно запомнила, как стражник пытался преградить ей дорогу копьем, но она перескочила через него и понеслась куда глаза глядят.
Минули те времена, когда можно было бегать по полдня, а потом еще танцевать до упаду с молодыми воинами. Теперь Нофрет стала ручным созданием, украшением дворца. Когда она отбежала достаточно далеко от дома царицы, в боку у нее закололо, и девушка пошла быстрым шагом, дыша глубоко и медленно, как приучены делать бегуны.
Нужно было возвращаться к своей царевне. Но Нофрет вышла из дворца и побрела по городу, прямо за городские стены, в сторону скал и гробниц.
Пустыня была мрачна, но в ней было чисто. Там нет ни царей, провозглашавших себя богами, ни царевен, подчинявшихся их воле. Тут только песок, камни, редкие растения с шипами и колючками, готовыми поранить неловких и неосторожных. Солнце палило, бросая длинные лучи над стенами и крышами города.
Взглянув один раз назад, Нофрет уже больше не оборачивалась.
Хотелось пить, болели ноги, но она продолжала идти, чтобы не упасть, остановившись.
Никогда прежде селение строителей не казалось ей таким отдаленным и так хорошо спрятанным среди корявой земли. Нофрет уже решила, что заблудилась, но вдруг увидела его прямо перед собой: без зелени и роскоши, суровое и голое, но отмеченное печатью благословения — может быть, потому, что оно находилось за пределами Ахетатона и дела города его не задевали.
Пока девушка стояла, раздумывая, на дороге, послышался стук копыт, слишком маленьких для коня и слишком быстрых для быка. Она была слишком погружена в свои мысли, чтобы сообразить, в чем дело, пока не возник он, несясь с опущенными рогами так же вслепую, как и она, но гораздо с большим воодушевлением.
В последнее мгновение Нофрет успела отскочить с его пути. Что-то опутало ее ногу. Это оказалась веревка, она схватила ее, побежала, споткнулась и упала, не выпуская веревку из рук, это было явной глупостью. Козел вырвался. Нофрет цеплялась за веревку из чистого упрямства — ее малый вес едва ли мог противостоять силе вошедшего в раж животного.
Чьи-то руки сомкнулись на ее талии — добавился еще один вес, побольше. Человек был невелик, но довольно силен и ругался мальчишеским голосом, посылая козла и всех его предков и потомков в самые глубины преисподней.
Вдвоем они, наконец, остановили козла. Он яростно фыркал, целился рогами, но веревка на шее заставила его смириться. Иоханан — Нофрет вспомнила имя мальчика — ухватился за нее покрепче в тот момент, когда он намеревался нанести последний бунтарский удар рогами. Раз уже его схватили и крепко держали, козел присмирел, словно все удовольствие было в погоне, а теперь он был готов отдохнуть.
Нофрет шла следом. Бока и ягодицы, куда наподдал козел, болели, ладони горели от веревки, но от сердца отлегло.
— Надо сделать стену повыше, — сказала она.
— Он все равно залезет, — пробормотал Иоханан.
Он все еще не мог отдышаться после беготни. Его полосатая одежда была в пыли, в растрепанные курчавые полосы набился песок.
— Убей его и съешь на обед! — посоветовала какая-то женщина, стоявшая у дверей.
— Об него только зубы обломаешь! — хмыкнул Иоханан.
Другой совет был менее практичным, но дан с большим воображением. Хихиканье Иоханана переросло в смех. Козел трусил за ним, смирный, как будто никогда не задел ни единого человека, но глаза блестели по-прежнему.
Козла прекрасно знала вся округа. Его побеги были всеобщим развлечением. На пути его встречало больше смеха, чем проклятий, люди быстро убирались с дороги, а собаки выползали из своих укрытий, норовя облаять побежденного врага. Но козел подцепил рогами одного зазевавшегося пса, и тот, скуля, скрылся в конуре.
— Они совсем не злые, — удивилась Нофрет.
— Кто, собаки? — Иоханан блеснул улыбкой, — скоро им не на кого будет злиться. Этого окаянного козла принесут в жертву. Я буду носить его шкуру.
— Почему же вы до сих пор не сделали этого?
Иоханан пожал плечами.
— Да вот не сделали, и все.
Нофрет хотела было уточнить, но ответ был ясен и так. Семью не приносят в жертву, даже на алтарь Бога.
Они уже подходили к его дому, и Нофрет стала отставать. Удерживая козла одной рукой, Иоханан ухватил ее за пояс и потянул за собой. Девушка пыталась упираться, протестовать, но он не обращал на это внимания.
— У тебя кровь, — сказал он.
— Просто царапины, — отмахнулась Нофрет. — Мне надо…
— Нет, — возразил Иоханан.
Только вдвоем они сумели затащить козла в ворота и надежно привязать. Нофрет заметила, что веревка вся в узлах.
— Надо было взять цепь, — заметила она.
— Наверное, — согласился Иоханан.
Козел был снова привязан, перед ним положили охапку сена, и его козы с любопытством смотрели на него кроткими глазами. Иоханан взял Нофрет за руку и, невзирая на протесты, потащил в дом.
По сравнению с дворцом дом был крошечный, но для этого селения большой. Впереди находился загон для коз и кладовые, сзади, за стеной тяжелых занавесей, располагались люди.
Дом был устроен, как шатер в пустыне: толстые подстилки на полу, пушистые ковры на стенах, свернутые ковры, чтобы сидеть на них и прислоняться к ним, низкие столики. В сундуке у стены, наверное, хранились ценности; он был сделан из дерева, редкого и дорогого в пустыне, украшен резьбой в виде газелей и ибисов и окован бронзой. На крышке стояли бронзовый кувшин, чаши и большая миска.
Сначала Нофрет подумала, что комната пуста. Было сумрачно, лампы не горели, и только слабый свет искоса падал через узкое окошко. У окна, где, как показалось Нофрет, лежала большая груда ковров, поднялась голова под покрывалом. Это была старая женщина — Нофрет видела ее прежде — старая, но крепкая, с темными, ясными, как у девушки, глазами.
Иоханан преклонил перед ней колено, будто она была царицей.
— Бабушка, мы привели козла.
Старуха кивнула.
— А еще кого ты привел? — сказала она ласковым мягким голосом, чисто, без всякого акцента. — Она твоя? Ты оставишь ее себе?
Иоханан засмеялся и покачал головой.
— Она называет себя Нофрет, но настоящее имя у нее другое. Она принадлежит одной из царевен.
— Царице?
— Нет, бабушка, царевне. Той, у которой такое бесконечное имя.
— Анхесенпаатон, — вмешалась Нофрет, которой надоело слушать, как о ней говорят, словно ее здесь нет. — Третья царевна — которая все еще…
— Она тоже будет, — сказала старая женщина. — Царь проклял их, разве ты не знаешь? Он сделал то, чего не делает ни один здравомыслящий человек, даже в Египте. Его ждет расплата.
Нофрет пошатнулась и чуть не упала. Иоханан поддержал ее.
— Бабушка, — сказал он с легкой укоризной. — Она получила почетные раны, когда ловила козла. Ее нужно полечить.
— И искупать, — добавила старуха. — Вода горячая, ванна наполнена. Позаботься, чтобы она помылась первой.
— Конечно, бабушка.
Нофрет обнаружила, что в доме есть прислуга — во всяком случае, молчаливая и обходительная женщина держалась, как служанка. Должно быть, это она принесла воду из большой ванны, стоявшей в заднем помещении, нагрела над кухонным очагом и налила. Для этого не требовались услуги предсказателя: всем было ясно — Иоханан вернется в таком виде, что мытье будет необходимо.
По приказу старой хозяйки, Нофрет мылась первая, чего раньше ей никогда не удавалось — для нее не оставалось чистой воды. Это было замечательно, хотя все раны и царапины страшно щипало — их оказалось гораздо больше, чем она думала, и они были гораздо болезненнее. В нескольких местах даже текла кровь.
У служанки были легкие руки и бальзам, успокоивший боль. Она перевязала самые большие ранки мягким полотном, потом принесла платье и настояла, чтобы Нофрет надела его.
Нофрет могла бы и не подчиниться, но что-то в лице старой женщины заставило ее захотеть одеться. Платье из простого белого полотна с вышивкой у ворота было и оружием, и щитом.
Эти люди оказались не так бедны, как она думала. У них была бронзовая посуда, одежда из хорошего полотна и тонкой шерсти. Пиво в кувшине было не хуже, чем во дворце, а хлеб — свежим и хорошо пропеченным.
Нофрет угостили хлебом и пивом, и из вежливости пришлось принять угощение. Это было нетрудно — хотелось и есть, и пить. Принесли еще сыр из козьего молока и соты с медом.
Бабушка не принимала участия в трапезе, но Иоханан съел все, что оставила Нофрет, и не возражал бы поесть еще. Он был одним из тех тощих юнцов, которые едят до тех пор, когда многие бы уже просто лопнули, и все еще остаются голодными.
Когда Иоханан исследовал дно кувшина в надежде, что там еще каким-то чудом осталось несколько капель, в комнату, отодвинув занавес, вошел мужчина. Он был высок, крепкого сложения, с большой бородой, одет, как и Иоханан, в полосатую одежду, но заполнял ее собой гораздо плотнее, чем его сын. В нем были мощь и грация воина, хотя он был всего лишь камнетесом и мастером-кирпичником.
Мужчина разглядывал Нофрет без особой приветливости, но и не враждебно. Она подумала, не следует ли встать и поклониться ему. Но она не поклонилась и бабушке, что полагалось бы ей по возрасту, поэтому решила не кланяться и мужчине — отцу Иоханана или его дяде, кем бы он ни был.
И она продолжала сидеть возле низкого столика, прислонившись к свернутому ковру, устроившись уютно, как кошка, и такая же безмятежная.
— Отец, — сказал Иоханан, подтвердив правильность ее первого предположения, — это Нофрет. Нофрет, это мой отец. Его зовут Агарон.
Нофрет не придумала ничего лучше, чем наклонить голову в знак приветствия, и ее тут же охватил стыд. Она вела себя как царица, не имея на это права.
Но Агарон не смутился. Он улыбнулся, поклонился по обычаю жителей пустыни и произнес:
— Добро пожаловать, моя госпожа.
— Я не госпожа, — резко сказала Нофрет. — Я служанка царевны.
Ну вот. Она нагрубила. И ничего не может с собой поделать.
— Это просто любезность, — сказал Агарон, словно ничего не заметив, — и не более того. Ты простишь ее?
Нофрет вспыхнула еще сильнее. У него был красивый голос, низкий и выразительный, и его манера выражаться сделала бы честь любому придворному.
Удивительное и умиротворяющее место! Нофрет знала, что эти люди сродни царю: их племя пришло в Египет с бабушкой царя по материнской линии. Но неожиданно оказалось, что они говорят по-египетски так же хорошо, как знатные вельможи, что в селении строителей можно встретить манеры не хуже придворных. В этом проявлялась их гордость — и в изгнании быть царственными, даже в положении немногим лучше рабского.
Пока она принимала ванну и пила пиво, солнце село. Молчаливая служанка зажгла лампы и исчезла, оставив островок света среди сумерек. С кухни распространялись аппетитные запахи, вкусные запахи жареного мяса и пекущегося хлеба. То, что Нофрет посчитали богатым угощением, было только началом, развлечением для голодных желудков в ожидании обеда.
— Вы едите по-царски, — заметила она, когда Агарон ушел мыться.
Иоханан растянулся на ковре, вздыхая в предвкушении жареного козленка и медовых сладостей.
— Иногда бывает. У нас же сегодня праздник: возвращение козла в загон.
— И приход гостьи, — добавила его бабушка своим нежным голосом.
— Но вы же не могли этого знать, — удивилась Нофрет.
Старая женщина улыбнулась.
Нофрет вздрогнула. Улыбка была нежная, добрая, но вызывала трепет.
— Бабушка всегда все знает, — пояснил Иоханан.
— У нее есть глаза, которые видят, — добавил Агарон, входя освеженный и влажный после ванны. Его борода курчавилась от сырости; он смыл с нее каменную пыль, и она была черна, как вороново крыло, без малейших признаков седины. На нем теперь была более нарядная одежда из тонкой пурпурной шерсти с вышитым поясом. Он выглядел еще царственней, чем прежде.
— Вы очень странные люди, — заметила Нофрет.
— Мы люди нашего Бога, — ответил Агарон. — Он дал моей матери редчайший дар видеть то, что нужно, и понимать, что это означает.
— Пророчица, — предположила Нофрет, стараясь не смотреть на старую женщину, — оракул.
— Голос Бога, — уточнил Агарон.
— Я не больше, чем ветер, — вмешалась старуха, — меня не нужно бояться. Я никогда не говорю, что вижу, если мне не позволено.
— Ты бы не увидела меня, — сказала Нофрет с неожиданным упрямством. — Я не знаю вашего бога и не верю в него.
— Это неважно, — ответила старая женщина. — Он привел тебя к нам. Разве ты не чувствовала, как он направляет твои шаги?
— Я не чувствовала ничего, кроме того, что должна оставить свои обязанности.
— Свои обязанности, — повторила старая женщина. — Да.
Она видела даже это: Нофрет сказала правду, но не всю. Ей хотелось скрыться. Но она уже один раз убежала, струсила и оказалась здесь. Больше бежать было некуда — разве только в пустыню — но это означало смерть, а Нофрет не так отважна и не так труслива, чтобы решиться на такое.
— Царя не любят, — сказала старая женщина.
«Как же ее зовут, — подумала Нофрет. — Если у нее вообще есть имя».
— Меня зовут Леа, — произнесла та, повергнув Нофрет в изумленное молчание ума и тела, и печально улыбнулась. — Это было написано на твоем лице, дитя. Здесь нет никакой тайны.
— Я не верю тебе, — пробормотала Нофрет.
— Нет, — сказала Леа. — Правда бывает неприятной. Это знает каждый царь.
— Разве важно, что люди его ненавидят? — спросила Нофрет. — Он царь. Бог. Никто не смеет его тронуть.
— Возможно, — сказала Леа, — но у него есть стражники, есть люди, которые пробуют его пищу, и шпионы в каждом кабачке.
— Значит, он знает, — согласилась Нофрет.
— Царь может предпочесть не знать, — продолжила Леа. — Но он сверг их великого бога, повелителя Фив, могущественного Амона. Храмы Амона закрыты, имя под запретом — а ведь сам царь звался в его честь Аменхотепом, прежде чем принял имя Эхнатона. Людям это не по душе, не нравится им и то, как он повернулся спиной к Фивам и ко всем городам своего царства и построил новый город там, где прежде не было ничего.
— Они его не убьют, — сказала Нофрет. — Люди не поступят так со своим царем.
— Напрасно ты так думаешь. Он убил их богов, покинул их города. А теперь не скрывая заявляет, что ни одна их женщина не годится, чтобы родить ему наследника — только его собственного семени. Если не получится у одной, вторая сделает еще одну попытку, и это станет еще более страшной неудачей. Тогда он наверняка будет проклят.
Возразить было нечего. Та же мысль гнала Нофрет из дворца, то же убеждение, что поступок царя в конце концов погубит его. Она не знала, каким словом назвать человека, предавшего богов своего народа, но это ужасное слово, всегда означавшее зло и только зло.
— У тебя тоже есть глаза, чтобы видеть, — сказала Леа.
— Нет, — возразила Нофрет. — Мне не снятся сны, и у меня не бывает видений.
— Ты видишь правду, — настаивала Леа.
— Я не хочу, — Нофрет сдалась, чувствуя холод внутри. — Царь ужасен. Я не хочу быть такой.
— Скорее всего, он безумен, — предположила Леа. — Или близок к тому. Ты же здорова. В этом твоя беда.
— Что же с ним будет?
Леа вздохнула.
— Не знаю. Это слишком страшно. Он умрет или будет свергнут, как все цари, которые не считаются с желаниями своего народа.
— Царей Египта не свергают, — вмешался Агарон, испугав Нофрет. Она уже забыла, что в комнате, кроме них с Леа, есть еще кто-то. — Их не свергают, как и богов. Они умирают и становятся богами мертвых.
— Либо умирают, и их имена забывают, стирая с каждой стены или изображения. — Взгляд Леа снова стал непроницаемым, как каждый раз, когда она видела, по ее словам, правду.
— Может быть, — размышлял Агарон, — царица наставит его на путь истинный. Она внучка Юйи. Она не глупа и не безумна.
— Царица не сказала ни слова против, — заметила Нофрет, — когда ее муж вздумал жениться на собственной дочери.
— Она не сказала ничего, что слышала бы ты, — возразил Агарон. — И не скажет. Она — слишком царица. Ты же не знаешь, что она говорила, когда они были наедине.
— Царь ее не слушал, сказала Нофрет. — А если они и поссорились, то он взял верх.
— Взяла верх необходимость, — произнесла Леа. — Она не хочет, чтобы сын другой женщины занял место ее дочерей. А с сыном ее дочери еще можно смириться.
— Она никогда не одобрит этого, — сказал Агарон.
— Одобрит. — В голосе его матери, таком мягком, появилась нотка нетерпения. — В достаточной мере. Что бы она ни думала, подчиняясь его воле, с последствиями придется столкнуться всем нам.
— Почему? — спросила Нофрет. — Вы-то здесь в безопасности. Вельможи могут драться между собой, но простой народ они не заденут.
— Заденут, если свергнут Эхнатона и сравняют его город с землей. — Большие кулаки Агарона сжимались и разжимались. — Здесь наше обиталище. Другого в Египте у нас нет, а пустыня, дом наших предков, слишком далеко. Большинству из нас туда не добраться. Если он погибнет, у нас не останется ничего.
— Царица защитит вас, — сказала Нофрет. — Вы же ее родственники.
— Хотелось бы надеяться, — вздохнул Агарон.
6
Леа оказалась слишком хорошей предсказательницей. Атон благословил царевну Меритатон, и та зачала.
Но царь увидел в этом обещание двойного благословения: в тот же день, когда стало известно, что Меритатон беременна, у второй царевны, Мекетатон, начались месячные. Когда у нее закончились дни очищения, царь взял ее в жены, утром, в Великом Храме.
Они стояли перед алтарем в шестом дворе, в самом внутреннем доме Атона. Величие Бога сияло им обоим. Царь был полностью захвачен им. Невеста стояла прямо, голову держала высоко, как и подобает царевне, но Нофрет она показалась маленькой и испуганной.
Нофрет была в свите царевен, стоя возле Анхесенпаатон. Третья царевна была еще ребенком. Нофрет не сводила с нее глаз, в который раз стремясь увериться в этом. Не намечаются ли округлости на плоской детской груди? Не проклюнулся ли пушок внизу, между тонкими детскими ножками?
Анхесенпаатон была следующей за Мекетатон, она родилась годом позже, между временем разлива и урожаем. Вскоре она тоже станет женщиной. И, когда это произойдет, отправится вслед за сестрами.
Если ребенок Меритатон не окажется сыном… Она стояла рядом с царицей. Мать и дочь были одеты похоже, увенчаны почти одинаковыми коронами, и красота их была схожей — дочь являла собой уменьшенную копию матери. Беременность Меритатон была еще совсем незаметна; она была стройна, как всегда.
Нофрет не могла разгадать выражения их лиц. Ревновали ли они? Смущались? Боялись?
Никто не скажет. Они ничего не выдадут постороннему.
Удивительно, когда царевны успевают научиться так скрывать свои чувства. Младшие были обычными детьми, конечно, воспитанными лучше многих, но такими же шумными и капризными. От огорчения они плакали, а когда им было страшно, приходили к Нофрет и искали у нее утешения и ласки.
Девочки не понимали, что происходит. Нефернеферуатон, которая была уже достаточно большой, чтобы задавать вопросы, звонким и ясным голосом настойчиво выясняла, когда она сможет, как Мекетатон, надеть платье и стоять на солнце. Нянька утихомиривала ее.
Свадьба — событие радостное; должно быть много веселья, смеха, песен и шуток. Здесь веселья было не больше, чем на любой храмовой церемонии, и никакой живости. Вся царская семья была спокойна, почти равнодушна, кроме самого царя, чрезвычайно возбужденного. Высокородные вельможи, присутствовавшие в храме со своими свитами, надели те же маски, что и царица. Многие вообще не явились. Это были самые дерзкие, или те, кто нашел какой-то предлог: болезнь или неотложные дела, потребовавшие их отсутствия в городе.
Нофрет уже успела запомнить лица и имена всех вельмож, часто бывавших в обществе царя. Тут были не все. Появился какой-то незнакомец, одетый как вельможа, и все относились к нему с почтением, но Нофрет прежде никогда его не видела. Такое лицо нелегко забыть.
Египетские царевичи, даже те, кто преуспевал в охотничьем и военном деле, выглядели так, что любой хеттский солдат пришел бы в полное расстройство. Они были слабыми, вялыми и никогда не забывали подводить глаза колем на любимый египетский манер. Даже отправляясь на войну — а они не делали этого с тех пор, как царем был еще отец Эхнатона, — они ухитрялись каждый день принимать ванну и сбривать и выщипывать все волосы на теле.
Тот человек, с египетской точки зрения, выглядел достаточно опрятным, и одет был тщательно, вероятно, благодаря слугам. На нем был нубийский парик — такие носили и мужчины, и женщины, как самые удобные. Украшений на нем было много, но довольно простых: браслеты из яркого чеканного золота, янтарное ожерелье из крупных, с яйцо, бусин, головной обруч из серебра, редкого в Египте. Лицо у него было сильное, с твердыми чертами, словно высеченными в граните. Его тело было телом солдата. Еще по отцовскому дому Нофрет знала, каким оно должно быть: узлы мускулов, густой загар, шрамы.
Она наклонилась к своей госпоже и прошептала:
— Кто это?
Царевна не шевельнулась, не обернулась, но ответила едва слышно, так, что уловила только Нофрет:
— Полководец Хоремхеб. Он командует войском в Дельте.
— Почему он пришел сюда сейчас?
Царевна нахмурилась. Может быть, ей не хотелось отвечать. Может быть, она не знала ответа. Начали петь гимн Атону, царь запел первым и громко. Он не заикался, когда пел. Голос у него был высокий, но чистый, и слух хороший.
Остальные последовали примеру царя — жрецы привычным хором, другие вразнобой.
Нофрет заметила, что полководец из Дельты не пел и даже не притворялся, что поет, как многие другие. Он стоял как скала, как солдат на параде или военачальник в колеснице. Нофрет представила, как он несется на двух быстрых конях — вожжи в руках и ветер в лицо. Это должно ему нравиться, если ему вообще что-либо нравится.
Ее отец — такой же. Но внешнего сходства между ними не было. Полководец был человеком крупным, но легче и тоньше в кости, чем хетты, с лицом египтянина — полные губы, прямой нос, твердый подбородок. Отец массивнее, и нос у него крючковатый.
Нофрет смотрела слишком долго. Полководец почувствовал взгляд девушки, обернулся и смерил ее взглядом холодных черных глаз, сразу же поняв, кто она такая. Больше он на нее не смотрел. В Нофрет не было ничего, в чем он нуждался бы или мог использовать.
Свадебный пир был роскошным и скучным. Как и на церемонии в храме, в нем не хватало страсти или хотя бы веры. Царь удалился с новобрачной так рано, как только позволяли приличия, когда еще далеко не все вино в кувшинах иссякло.
Четверо младших царевен тоже вскоре покинули зал, получив, наконец, возможность заняться чем хочется им или их нянькам. Анхесенпаатон, наконец, могла лечь спать — предыдущей ночью она спала плохо. Девочка не сказала Нофрет, почему, но та знала, что ей снились кошмары.
В эту ночь она спала крепко, держа большой палец во рту, как иногда делала. Нофрет смотрела на нее и вздыхала. Ей было страшно. И неудивительно, ведь ее госпоже предстояло стать следующей невестой царя. Нофрет представила себе, как он берет в жены одну за другой своих дочерей, как только они станут способны зачать ребенка, снова и снова пытаясь заполучить сына.
Все служанки спали возле своих царевен. Нофрет тоже полагалось спать у ног хозяйки, но беспокойство мешало ей лежать на циновке. Она решила пойти пройтись.
В большом зале еще были гости. Конусы ароматного жира, закрепленные у них на головах, чтобы предотвратить опьянение, таяли, стекая по лицам и плечам, источая запах благовоний, смешивавшийся с запахами вина, пота и цветов. Нофрет слышали отзвуки пения, удары в барабан, не всегда попадающие в такт, — обычный шум придворного празднества. Самые крепкие продержатся до рассвета. Остальных слуги разнесут по спальням.
Нофрет порадовалась, что ее царевна еще дитя, и никто не ожидает, что она будет пировать всю ночь напролет. С царевичами дело обстояло иначе. Сменхкара, будучи в Ахетатоне, должен был участвовать в пирах.
Луна стояла высоко, сияя над садом царицы. Фруктовые деревья были отягощены созревающими плодами. Азиатские розы, любовно взращиваемые садовником, посвятившим себя только им, были в полном цвету. От их аромата у Нофрет закружилась голова. Ей что-то почудилось. Видение. Человек, переходящий из полосы лунного света в тень и обратно.
Наверное, это отблеск лунного света на стволе дерева. Или одна из обезьян, сбежавших из зверинца. Такое уже случалось раньше. Они любили пробираться сюда и воровать фрукты с деревьев.
Нофрет остановилась у фонтана и наклонилась попить воды. Луна сверкала в воде, словно диск из чистого серебра. Она увидела тень своей головы с уже отросшими кудрями, похожими на нубийский парик.
Тень шевельнулась, хотя девушка не двигалась. Она услышала позади свистящее дыхание и замерла, похолодев.
Да, здесь кто-то был. Что-то. И не такое маленькое, как обезьяна.
Она медленно повернулась, готовая защищаться или бежать, смотря что окажется разумнее. И снова похолодела.
Его нельзя было не узнать. Он был ни на кого не похож, даже в лунном свете, даже без плети и посоха, даже не на троне. Голова его была непокрыта. Лунный свет блестел на ней.
Нофрет не могла вспомнить ни единого слова.
Царь улыбнулся, глядя на нее.
— Я знаю тебя? — спросил он своим тихим голосом, слегка заикаясь. Прежде, чем Нофрет сообразила, что ответить, он сказал: — Да, теперь я вспомнил. Ты служанка моего Лотоса. Из Хатти. Ты счастлива здесь?
Нофрет уставилась на него. Она никак не ожидала, что царь ее узнает. А была ли она счастлива?..
— Нет. Да. Ваше величество, я…
— Я понимаю, — сказал он. Нофрет, в отличие от него, ничего не понимала. Царь наклонился к фонтану, зачерпнул узкой ладонью воды, отхлебнул — так по-человечески, так обычно. Трудно было ожидать такого от Бога-царя, который пьет только из золотых чаш и только вино, и никогда пиво, насколько она заметила.
Царь выпрямился — с подбородка его капала вода — и вздохнул.
— Как хорошо. Чистая вода из родника течет из скал, ты же знаешь. В начале.
— Да, — промолвила Нофрет, поскольку он как будто ждал ответа.
— Все приходит от Бога, — продолжал он, — в конце. Начало всего земля. Мы все рождены ею.
Нофрет кивнула.
Его глаза остро блеснули в лунном свете.
— Ты считаешь меня сумасшедшим? Все так думают, даже те, кто верит в моего Бога. Никто не понимает, как он силен, как обжигает… Он ослепляет меня. Я вижу его даже ночью, даже во тьме. Даже сейчас. Луна его дитя, она светит его светом.
— Луна — слепой глаз Гора, — пробормотала Нофрет.
— Кто тебе это сказал?
Она прикусила язык. Не стоило провоцировать помешанного.
— Разве не так верят в твоей стране?
— Не я, — ответил царь. — Я знаю правду.
— Да, — сказала Нофрет.
— Не надо меня успокаивать. — Он, кажется, обиделся. — Если бы я не был царем, меня бы считали за дурака.
— Но ты же царь, — сказала Нофрет. Было все же жутковато стоять здесь под луной и беседовать с царем, но он заинтересовал ее. Этот человек оказался вовсе не таким, как она ожидала, ни как безумец, ни как царь. — Я царь, — согласился он, величественно наклонив голову, как будто ее пригибала тяжесть двух корон, и засмеялся, коротко и невесело. — Я знаю, как мало мой народ любит меня. Даже мои дети. Но мною управляет Бог. Его никто не слышит, кроме меня. И я становлюсь глухим ко всему остальному.
— Может быть, — предположила Нофрет, — это не бог вовсе, а голос твоего собственного сердца.
Царь не набросился на нее и не попытался задушить. Он опустился на землю у фонтана, неловко подогнув длинные ноги, длинные руки вяло легли на камень.
— И я так думал, когда это случилось впервые. Вернее, осмеливался надеяться. Но я не настолько удачлив. Атон сделал меня своим инструментом. У меня нет силы быть чем-либо другим.
Он вызывал жалость и страх, скорчившись здесь, на земле, со своим чудным длинным лицом, странным долгим телом, мягким неуверенным голосом. Одно мановение руки этого человека могло повергнуть народы во прах. И все же он был всего лишь человеком, сумасшедшим ли, или действительно находящимся во власти своего Бога.
— Он поглотит меня, — продолжал царь. — Стоя по утрам в его храме, я чувствую, как мое тело превращается в огненный столп. Мое сердце обожжено и скоро рассыплется пеплом. Тогда я окончательно стану лишь его инструментом.
— И поэтому ты так поступаешь? Потому что Атон заставляет тебя?
— Да. Все так, как хочет он.
— Сегодня твоя невеста, — сказала Нофрет, — изо всех сил старалась подчиниться Богу, но она была в ужасе. Выходит, Бог овладел ею? Или позволил тебе пожалеть бедное перепуганное дитя?
Царь склонил голову к коленям. Его голос прозвучал глухо и бесконечно устало:
— Она такая юная. Такая нежная. И такая отважная.
— Ты вполне мог бы оставить ее такой. Или подождать. Она ребенок и созреет для брака еще очень нескоро.
— Она должна созреть сейчас, — царь все еще не поднимал головы. — Так говорит Бог. Нужен сын, или все рухнет; все погибнет. Ахетатон снова будет погребен в пустыне, под песком и камнями. Слава Атона забудется. И ложные старые боги снова придут к власти в Двух Царствах.
— И для этого ты забираешь жизни своих детей и заставляешь их служить тебе телом и душой?
Царь поднял голову. Его глаза были ясны, яснее, чем когда-либо видела Нофрет: как будто предвиденье божье снова вернуло его в этот мир, вместо того, чтобы забрать с собой.
— У тебя опасный язычок, дитя страны Хатти. Тебя из-за него изгнали?
— Дважды. Прежде чем попасть сюда, я была в Митанни.
— Из Двух Царств тебя не изгонят. Пока я здесь господин. Даю тебе слово.
Нофрет подумала, что слово царя стоит намного больше или намного меньше, чем большинство других.
7
При дневном свете царь оставался таким же, как всегда — мечтателем и Богом. Возможно, он и помнил ночной разговор в саду, но не подавал Нофрет никакого знака. Она тоже не пыталась ему напоминать. Лучше, если он забудет или хотя бы сделает вид.
Египет был странной страной, даже помимо своего царя. Здешние люди любили жизнь, любили смех, жили для солнца, отгоняя ночь лампами и весельем. Но именно поэтому они никогда не забывали, что жизнь неминуемо кончится; даже Бог, по их верованиям, смертен.
Страна вечного покоя была для них страшным местом — насколько знала Нофрет, так обстояло дело повсюду. Египтяне поместили ее на западе, позади заходящего солнца; населили демонами и душами беспокойных мертвецов. Но для тех, кому повезло, для царей или обладателей богатства, равного царскому, а с недавних пор даже и более скромного, но достаточного, чтобы построить гробницу и заплатить жрецам за необходимые ритуалы, в царстве мертвых была особая страна, где им предлагались все радости земной жизни. Путь в нее был труден, дороги отмечены магией. Существовала специальная книга, описывающая эти дороги, книга древняя, как сам Египет, которую богатые люди могли брать с собой в свою гробницу.
Гробница была домом вечности, местом отдыха для тела. В египетском понимании смерти была одна особенность: тело должно сохраняться, и имя должно помниться, иначе душа, блуждающая по царству мертвых, сгинет. Цари, вельможи, каждый человек, обладающий богатством или высоким положением, начинали строить себе гробницу еще в молодости. Ее обставляли богато, как дворец, и наполняли изображениями жизни, на которую надеялись в загробном мире, — жизни точно такой, как в реальном мире.
Место, где строились гробницы, было известно, но каждая построенная гробница хранилась втайне, насколько это возможно среди множества строителей. Но строители держались особняком, как и жрецы в причудливых одеяниях, и, хотя храмы мертвых скрыть было трудно, гробницы и сокровищницы для тел были зарыты глубоко и надежно спрятаны от грабителей.
Знатные люди обычно сами наблюдали за сооружением гробниц для себя и членов своих семей. Храм царской смерти, где его будут почитать, когда он умрет, находился в Ахетатоне, но гробница для его тела строилась и пустыне, глубоко в скальной стене, в отдаленном пересохшем русле, куда нелегко было добраться. Вход был обращен на восток, навстречу восходящему солнцу. Царь хотел, чтобы первые лучи Атона падали прямо на потайную дверь, благословляя его после смерти так же, как и каждое утро при жизни.
Когда царевна — Нофрет не могла заставить себя называть ее царицей — Меритатон была уже почти на сносях, а ее сестра Мекетатон заметно округлилась, поскольку по милости Бога понесла с первой же ночи, царь с семейством совершил паломничество к своей гробнице. Сам он приезжал туда по крайней мере, раз в сезон, осматривал работу, обсуждал дело со строителями и неизбежно находил необходимым что-то улучшить в одном месте или изменить в другом. Рабочие, привыкшие к царским причудам, вздыхали и делали, как им было сказано, даже если приходилось разрушить все построенное за прошедший сезон и начать сначала.
На сей раз паломничество совершалось с двойной целью, поскольку господин Аи тоже решил навестить свою гробницу. Он был еще весьма бодр для человека, далеко перешагнувшего за средний возраст, но все же гробница могла ему скоро понадобиться. Все они отправились из Ахетатона процессией колесниц, каждый со своим служителем, ненадежно примостившимся позади. Царь ехал впереди, под золотым зонтом, в синей короне, наиболее удобной для поездок, когда ветер дул в лицо. Следом ехала царица, затем остальные. Группа стражников замыкала отряд.
Почему-то — Нофрет не знала, как это произошло — военачальник Хоремхеб оказался во главе караула. Он уехал из Ахетатона после свадьбы Мекетатон, но вернулся. Среди прислуги ходили слухи, что он здесь, чтобы защитить царя. В Ахетатоне царил мир, но мир напряженный, настороженное спокойствие. В других местах было не так спокойно. Два Царства не ладили ни с царем, ни с его Богом.
Но сейчас, под солнцем, в подскакивающей и кренящейся колеснице, когда в лицо дул свежий ветер, трудно было предаваться тревогам. Анхесенпаатон сама правила своей колесницей — отец разрешал ей это, и мать не запрещала. Ее кони, красивая пара гнедых со звездочками на лбу, были спокойны и послушны. Они любили разбежаться на широкой ровной дороге, и царевна доставляла им такое удовольствие. Раз или два она даже обогнала отца, и тот улыбнулся ей, придерживая свою каурую пару.
Анхесенпаатон всегда быстро возвращалась на место, не давая воли своему темпераменту, хорошо известному Нофрет. Девочка никогда не забывала, что она царевна. Иногда Нофрет даже хотелось, чтобы ее госпожа позволила себе побыть ребенком, пока можно, пока она еще не вынуждена стать дамой и царицей. А до того времени было уже недалеко.
Для египтян нет ничего мрачного или грустного в том, чтобы навестить строящуюся гробницу. Для них это — часть жизни, обещание жизни после смерти, после чистилища, демонов и испытаний на Тростниковых Полях.
Слуги господина Аи пели. Слов было не разобрать, но мелодию Нофрет знала. Это была очень неприличная кабацкая песня. Слуги тоже ее знали и смеялись гораздо громче, чем могла заставить песня.
Царственные особы делали вид, что не замечают такой непристойности. Царь, наверное, и вправду не замечал. Он был полон своим Богом.
Когда процессия свернула с большой дороги на колею, ведущую в пустыню, бурное веселье поутихло. Кони замедлили ход. На неровной дороге нужно было держаться покрепче, чтобы не выпасть из колесницы. Нофрет предпочла бы править сама вместо своей госпожи. Тогда можно было бы балансировать на середине, крепко стоя на ногах, с равновесием и изяществом, как царевна и как сам царь — подобной грации он не проявлял больше нигде. А так приходилось цепляться за золоченый край и изо всех сил стараться не вывалиться.
Дорога вела прямо к месту расположения гробниц, минуя селение рабочих и дом бальзамировщиков. Какой бы унылой ни была деревня, она казалась райским садом по сравнению с нагромождением диких скал и камней, где собирались обрести вечный покой так много благородных тел.
Гробница царя располагалась высоко среди холмов, узкая дорога круто поднималась среди высоких стен, разделявших долину гробниц с севера на юг. Господин Аи оставил их у подножия холмов, чтобы повернуть на юг, где находилась его гробница, начатая позже других и пока представлявшая собой лишь грубо пробитый тоннель в скале. Нофрет там не была, но ее госпожа видела будущую гробницу деда, и сейчас покачала головой, глядя на медленно удаляющуюся свиту.
— Он не верит. Он строит себе гробницу и в Фивах, чтобы ублажить Амона.
— Это измена? — спросила Нофрет.
Царевна бросила взгляд через плечо. В нем не было ничего детского.
— Смотря кто царь.
Нофрет поджала губы. Ребенку не следовало иметь такие мысли и делиться ими со служанкой. Может быть, открытое пространство, стук копыт и шум колес позволили ей говорить более откровенно, чем когда-либо прежде. Путь к царской гробнице оказался еще труднее, чем ожидала Нофрет. Дорога местами напоминала коридор, прорубленный в скале, — узкая, каменистая и утомительно крутая. Им пришлось сойти с колесниц и остаток пути карабкаться пешком.
Когда они наконец добрались до гробницы, Нофрет чувствовала себя выжатой как тряпка; она натерла ногу, хотелось пить, и все тело зудело от пота. Уже перед последним подъемом, ведущим непосредственно к гробнице, она чуть было не упала в обморок. А ведь строители ходили этой дорогой ежедневно, утром и вечером, и проводили долгий день, высекая из дикой скалы дом вечности.
И сейчас в гробнице шла работа. В зияющем отверстии входа мерцали лампы. Мастер стоял снаружи, под навесом, где обычно хранили самые тонкие инструменты, а сейчас освободили место для царя.
Нофрет захлопала глазами. Этот человек был знаком ей. В первое мгновение она не могла вспомнить, откуда. Казалось, она бродила по селению строителей давным-давно, но с удивлением осознала, что слушала ночные предсказания Леа совсем недавно.
По указаниям царя и царского архитектора царскую гробницу строил чужестранец Агарон. Здесь он выглядел не так величественно, как у себя в доме. Одежда на нем была поношенная, борода серая от пыли. Руки тоже были густо покрыты пылью, как будто он резал камень и не успел вымыть их к прибытию царя. Похоже, они являлись предметом его гордости. Он был создателем и строителем. Стыдиться этого не стоило.
Агарон поклонился царю, царице и царевнам, не до земли, как принято в Египте, а в пояс, с изяществом, свойственным жителям пустыни. Царь нисколько не смутился, но царица чуть заметно поджала губы. «Так, — подумала Нофрет. — Нефертити хочет, чтобы ее родственник соблюдал церемонии. Интересно! Или она стесняется его?»
Нофрет предположила, что в этой стране царица может чувствовать себя неловко, будучи отчасти чужеземкой. Нефертити происходила по царской линии от матери и от матери ее матери, что недостаточно для Египта, где принцы могли проследить свою родословную на три столетия назад. Чужестранка, выскочка, как Юйя или Аи, которые, хотя и женились на женщинах царской крови, всегда были предметом легкого недовольства.
Может быть, поэтому царь и построил Ахетатон — чтобы продемонстрировать свое отношение к такой заносчивости. Вельможи с пренебрежением смотрят на его жену и ее родню? Он покажет им, что такое по-настоящему новое, город, построенный там, где прежде не ступала нога человека.
Нофрет осмотрелась. Ее госпожа была уже на полпути к гробнице, прыгая, как козочка, по крутому каменистому склону. Служанки помогали Меритатон, которой, наверное, не следовало отправляться в такой путь: ей было явно тяжело и неудобно. Мекетатон, чья беременность зашла еще не столь далеко, тащилась позади. Служанка протянула ей руку, но она с возмущением оттолкнула ее.
Это было отважно с ее стороны, но Нофрет не понравилось лицо царевны: напряженное, с зеленоватым оттенком.
Нофрет бросила взгляд на свою госпожу. Анхесенпаатон двигалась легко и быстро, как должно здоровому ребенку. Но настоящая придворная все равно стала бы помогать ей. Однако Нофрет была чем угодно, только не этим. И она бросилась к Мекетатон.
Вместе с Нофрет к ней устремился еще кое-кто. Этого человека Нофрет узнала сразу, даже не по красивой полосатой одежде. Иоханан стал выше ростом, что сначала удивило ее, и, казалось, еще костлявей. У него начала пробиваться бородка: чуть-чуть над верхней губой и на щеках. Мальчишка выглядел забавно. Надо будет сказать ему об этом при первой же возможности.
Мекетатон, не желающая принимать помощь от своей служанки, не в силах была противиться двум решительным чужестранцам, бывшим к тому же гораздо сильнее ее. Руки у нее были холодные и дрожали.
Нофрет остановилась. Иоханан решительно и осторожно остановил Мекетатон, когда та попыталась идти дальше.
— Ты больна. Иди под навес. Иоханан, здесь есть вино? Или хотя бы пиво?
— У нас есть вода из источника в холмах, безупречно чистая, даже для царевны.
— Я желаю, — с трудом произнесла Мекетатон, — поклониться гробнице моего отца — моего мужа.
— Только попробуй, — возразила Нофрет, — и ребенок будет лежать у твоих ног.
Мекетатон прижала ладонь к округлившемуся животу.
— Не может быть. Еще рано.
— Ребенок может этого и не знать, — заметил Иоханан. — Сюда, госпожа. Войди в тень. Я позову служанок. Они будут обмахивать тебя веером, пока я найду чашку, достойную царевны, и кувшин с водой.
— Не хочу… — начала было Мекетатон.
— Тихо, — сказала Нофрет с грубой ласковостью, как обычно обращаются с детьми и животными.
На Мекетатон это тоже подействовало, хотя она и была царицей. Нофрет завела ее под навес, уложила на ковры, приспособила под голову вместо подушки сверток чертежей в кожаном мешке. Служанка с веером рада была освободиться от необходимости посещать гробницу.
— Он нас всех заживо похоронит, — прошептала она Нофрет едва слышно, обвевая царевну веером, чтобы медленные и сильные взмахи приносили благословенную прохладу.
Иоханан убежал и вернулся бегом, с высоким глиняным кувшином на плече. Из складок платья он достал позолоченную чашку, наполнил водой и подал с ослепительной улыбкой.
Мекетатон приходила в себя. К радости Иоханана она слабо улыбнулась, поблагодарив, взяла чашку и отпила. Ее глаза удивленно раскрылись.
— А это вкусно!
— Пей еще, царевна. Если захочешь, у нас есть еще.
Мекетатон выпила полную чашку и еще отхлебнула из второй, а потом настояла, чтобы и Нофрет, и Иоханан, и служанка с веером больше не беспокоились и тоже отдохнули.
— Она добрая девочка, — заметил Иоханан. Напившись воды и отказавшись от предложенной еды — ломтя хлеба с козьим сыром и корзинки фиг, — Мекетатон уснула на куче ковров.
— Она нездорова, — сказала Нофрет, нахмурившись. Даже во сне царевна выглядела больной. Под глазами залегли глубокие тени, и бледность ее губ Нофрет не понравилась.
— Ей рано иметь ребенка. — В голосе Иоханана слышался гнев, хотя он говорил шепотом, чтобы не разбудить Мекетатон. — Она сама еще ребенок.
— Да. — Нофрет повернулась спиной к Мекетатон и сердито взглянула на солнце. Глаза ее заслезились — после тени под навесом свет был слишком ярок.
Иоханан не спешил нарушить молчание. Немного погодя он спросил самым обыденным тоном:
— Ты давно к нам не приходила. Тебя бабушка напугала?
— Нет. Я была занята. Только и всего.
— Мы будем рады тебя видеть. В любое время. Бабушка обещает не говорить ничего слишком потрясающего.
— От нее это не зависит.
— Если сможешь, приходи к обеду. Мы собираемся зарезать ягненка к празднику новолуния.
Нофрет подняла брови.
— Это праздник вашего Бога?
— В основном, — ответил он. — И свадьба.
Ее сердце кольнуло.
— Твоя?
Иоханан удивленно посмотрел на нее.
— Что? — Голос его сорвался. — Конечно, нет! Художник Рахотеп женится на дочке старого Бенави. Будет вино, — сказал он мечтательно — И мед. Ты же любишь мед, я помню.
— Не знаю, смогу ли я…
— Я попрошу твою царевну.
— Нет!
Он засмеялся и не послушался. Когда Эхнатон, а за ним вся его семья вышли из гробницы, Иоханан дождался, когда царственные особы придут пить воду из кувшина и охать над Мекетатон — слишком поздно и мало, по мнению Нофрет, — и решительно подошел к Анхесенпаатон. Нофрет не успела остановить его. Он поклонился на пустынный манер.
— Госпожа, не соизволишь ли ты, своей милостью, отпустить твою служанку к нам в гости в ночь новолуния?
Царевна оглядела его с ног до головы. Нофрет ничего о нем не рассказывала, и все же она догадалась, кто это.
— Ты, должно быть, Иоханан бен Агарон. Мы родственники, я думаю.
— Да, госпожа. У нас будут играть свадьбу, и твоей служанке хочется побывать на празднике и на танцах. Ты позволишь ей пойти?
— Вы друзья? — поинтересовалась царевна.
Иоханан и глазом не моргнул.
— Думаю, да. Моей бабушке она нравится.
— Твоей бабушке… — царевна нахмурилась. — Леа? Так ее зовут?
Он кивнул. Анхесенпаатон чуть улыбнулась.
— Мой дед рассказывал мне о ней. Она ясновидящая? Ее бог говорит с ней так же, как Атон говорит с моим отцом.
— Не так… Настойчиво. Но она видит яснее, чем многие.
— Мне жаль ее… Что ж, можешь забрать мою служанку в ночь новолуния. Но чтобы она вернулась утром и могла прислуживать мне.
Нофрет открыла было рот и снова закрыла. Ни разу во время разговора ее госпожа не взглянула на нее, и, как ни странно, Иоханан тоже. Эти двое замечали ее не больше, чем тень на стене. Они распоряжались ею, и им вовсе не приходило в голову спросить ее саму.
Но возразить она не могла. Нофрет была рабыней, исполнительницей господской воли, лишенной собственного ума, желаний и права спорить. Слишком часто она забывала об этом. Чаще всего ее госпожа была снисходительна к ней. Но не сейчас. Хотя царевна, наверное, думала иначе, отпуская ее танцевать на чуждой свадьбе.
8
По мнению Нофрет, ночь новолуния настала слишком скоро. И, что еще хуже, ее хозяйка, будучи в веселом настроении, считала, что она обязательно должна пойти, к тому же нарядившись получше, как подобает служанке царевны. Анхесенпаатон заставила Нофрет надеть платье из тончайшего, почти прозрачного льняного полотна и дала ей браслеты, серьги и ожерелье из золота с лазуритом, кровавиком и малахитом. Парика Нофрет не потерпела бы, но мастер, причесывавший саму царицу, уложил ее буйные кудри в подобие парика знатной дамы.
Нофрет чувствовала себя идолом, установленным в храме. Она повернулась в облегающем платье, попробовала шагнуть.
— И как же, скажи на милость, я пойду в нем до селения?
— Ты не пойдешь, — заявила царевна, — тебя отнесут в паланкине.
— Ни за что! — Нофрет топнула ногой. — Они сочтут меня заносчивой. Все будут глазеть на меня с отвращением.
— Не думаю, — сказала царевна. Она помолчала, нахмурившись. — Хорошо. Не в паланкине. Ты сможешь управлять колесницей?
— Смогу ли… — у Нофрет перехватило дыхание. — Еще не легче!
— Я думала, тебе понравится, — огорчилась царевна. — Готова спорить, Иоханану понравилось бы. По-моему, он из тех молодых людей, которым было бы интересно попробовать.
— Ночью? В новолуние?
— Ладно, ты права. — Царевна тяжело вздохнула, представив, от какого замечательного зрелища придется отказаться. — Снимай платье. Возьмешь его с собой. Оденешься, когда придешь в деревню.
Это был достаточно толковый совет. Нофрет и сама думала так же, и ей хотелось увидеть лицо Иоханана, когда она появится на празднике, одетая как госпожа из дворца.
Царевна помогла Нофрет снять наряд, стараясь не растрепать прическу, и связала в узелок платье и украшения, добавив к ним, поразмышляв, пару изящных сандалий с золочеными ремешками.
— Неизвестно, на чем придется танцевать, — сказала она с удовлетворением, увязав вещи в накидку из грубого полотна. — Вот. Понесешь это на голове, и все будут принимать тебя за служанку на прогулке.
— Очень уж ты умная, — заметила Нофрет.
Царевна засмеялась.
Нофрет шла через город не спеша, как обычно ходят служанки, и несла на голове свой узелок. Никто не обращал на нее внимания. Солнце уже садилось, бросая косые длинные лучи на стены и крыши. В этом золотом сиянии город не казался таким необжитым, неуютным и недостроенным. Тени заполняли пустые пространства, золотили каркасы домов, воздвигали колонны там, где еще ничего не было.
Даже пустыня выглядела как-то приятнее, когда закат смягчил ее резкие линии. Тень Нофрет двигалась далеко впереди нее: длинные тонкие руки и ноги, крошечная голова. На дороге больше никого не было. Строители, должно быть, спускались от гробниц в другом месте. Горожане не ходили в пустыню в сумерках. Безусловно, разумней было отправиться в колеснице или даже в паланкине.
Нофрет не хотелось привлекать к себе чрезмерное внимание, вызывать недоверие и подозрение в том, что она соглядатай царевны. Рабы всегда думают так, на то они и рабы. И пусть Иоханан яростно утверждает, что он свободный человек — его свобода полностью зависит от царя — так же, как и ее.
Когда девушка добралась до деревни, уже почти совсем стемнело. Сверток на голове уже порядком утомил ее, но она совсем позабыла о нем, удивленная неожиданной красотой этого невзрачного местечка в свете ламп и факелов среди тьмы.
Ахетатон на закате был почти красив, а селение строителей в ночи — просто прелестно. Центральная площадь, где днем шумел базар, была залита светом. На одном ее краю установили навес, похожий на царский, на другом — столы с чашами, блюдами и кувшинами. Когда Нофрет подошла, женщины подносили хлеб, сыр, пироги, мясо, разные фрукты. Угощение было не таким изысканным, как на царском пиру, но гораздо богаче, чем можно было ожидать в таком месте.
У Нофрет потекли слюнки. Свежевыпеченный хлеб благоухал, а где-то жарилось мясо: его запах вился вокруг нее, увлекая через толпу людей, полускрытых тенью.
— Нофрет!
Это был Иоханан, он звал ее. Юноша возник из мельтешения света и тьмы, широко улыбаясь, и, чуть не сбив ее с ног, потащил за собой, и Нофрет пошла, не успев понять, куда.
— Тебе надо что-нибудь надеть, — сказал он. Ей пришлось напрячь слух, чтобы услышать его. Люди пели. Барабаны, бубны, пастушьи дудки производили оглушительный шум.
У самых дверей его дома она остановилась.
— У меня с собой кое-что есть. Если ты меня, наконец, отпустишь, я смогу одеться.
— Как, прямо на улице? — Иоханан засмеялся, когда она взглянула на него с возмущением, точно как ее госпожа, и втолкнул в дом.
Нофрет попыталась воспротивиться, все-таки опасаясь встречи с его бабушкой. Но в доме никого не было. Иоханан провел ее в комнату за занавеской, где можно было без стеснения одеться — глупо, потому что он никогда не видел ее одетой основательнее, чем в набедренную повязку, но спорить не хотелось.
Надеть платье и украшения самой, без помощи царевны, оказалось непросто, но Нофрет справилась. Она надеялась, что ее волосы не слишком растрепались. Разглаживая стеснявшую ее узкую юбку, девушка выскользнула из-за занавески прямо в руки Иоханана.
Юноша весь вспыхнул. Бросив на нее ошеломленный взгляд, он уже не знал, куда девать глаза.
Вот теперь-то можно посмеяться над этим мальчишкой, который видел ее почти голой и не стеснялся, а один взгляд на ее наряд лишил его дара речи.
— А ты, наверное, считал меня совсем дикаркой?
— Нет-нет, — сказал он поспешно. — Я не знаю, я не…
— Что, я настолько ужасна?
— Нет! — Иоханан, сам удивившись своему крику, торопливо закрыл рот, но затем, собравшись с мыслями, решительно сказал: — Ты красавица. Я не ожидал.
— Ты, должно быть, слепой.
— Нет. Ты настоящая красавица. — Иоханан протянул руку. — Пошли, а то опоздаем.
Пальцы у него были тонкие и удивительно сильные, а рука холодной: он был далеко не так спокоен, каким старался казаться. Но и она волновалась.
— Я всего лишь Нофрет, — произнесла она.
— Да, — ответил Иоханан. Что он имел в виду?
Нофрет подумала, что это — настоящая свадьба. Не то что странный обряд в царском доме. Здесь были и танцы, и смех, и цветы, и факелы, и веселая, смеющаяся невеста, румяная от смущения — она то убегала, то снова попадала в объятия жениха. Это был красивый человек, египтянин: стройный, изящный, быстрый в движениях. Невеста — родом из апиру — была повыше ростом и плотнее, но он легко кружил ее в бурном танце, так стремительно, что все вуали и заколки слетели с ее длинных волос. Он надел своей избраннице на голову венок из цветов и благодарил ее поцелуями — такими пылкими, каких ни один царь не мог позволить себе на глазах своего народа.
Когда невеста смотрела на него, глаза ее туманились. Люди смеялись и кричали что-то ободряющее. Она вся вспыхнула, но вовсе не собиралась отказываться от удовольствия, а покрепче обняла жениха и прижалась к нему.
Кто-то бросился вперед, словно желая разделить их. Его остановили. Люди плясали, пели, угощались, но вокруг жениха и невесты царило спокойствие. Да, это была свадьба. По сравнению с нею все царские женитьбы казались бледной тенью.
— Так и должно быть всегда, — сказала предсказательница Леа. До сих пор Нофрет не видела ее. Она стояла позади, вместе со своим внуком, словно окружая девушку.
Но в этом не было ничего пугающего, никакого ощущения, что она в ловушке. Скорее, в безопасности. Защищена, как будто стеной.
Леа с улыбкой глядела и на влюбленных, и на Нофрет.
— И у тебя должно быть это. И будет, если Бог даст. Царь поступает так, как поступает, потому что не видит другого пути. Мы не цари, и никогда не желали ими быть… Но мы-то счастливы.
— Ты хочешь дать мне урок? Я должна выучить его наизусть, как жрица? — Нофрет пыталась говорить насмешливо, но это было не так-то просто. Леа казалась неуязвимой — старая женщина из пустыни, и в то же время могущественная и всезнающая.
— Каждая женщина жрица, — ответила она. — Каждая девушка, каждая невеста, каждая мать. Даже бабушка, которая должна хранить домашний очаг, но не знает, как.
— Она должна уметь видеть, — вмешался Иоханан.
— В этом и состоит тайна женщин, но я ее знаю.
— Слишком много ты знаешь, — пробормотала Нофрет.
Леа засмеялась, неожиданно звонко.
— Вот именно. Мальчишки все такие. Мужчины предпочитают быть в достаточной мере невеждами. — Она взяла Нофрет за руку. — Пошли, дитя мое. Пора танцевать в честь невесты.
И они танцевали: все женщины — от самых маленьких девочек, еще цеплявшихся за материнские подолы, до молодух на сносях и старушек, уже давно забывших, как рожают детей. Все они танцевали вокруг жениха и невесты.
Этот танец связывал их. Может быть, мужчины думали, что людей соединяют слова благословения, произносимые жрецом, жертвоприношение ягненка на алтаре, обращенном к восходящему солнцу. Но женщины знали лучше — даже чужестранка Нофрет, рабыня царевны. Слова — это только слова. А танец связывал душу с душой и жизнь с жизнью.
Женщины, способные рожать, которые носили или кормили младенцев, давали им свою силу. Те, которые еще не рожали или уже не будут рожать, предлагали то, чем они были или чем собирались стать. Слов не было. Слова разрушили бы чары. Танец сопровождался ударами барабанов, стуком сердец и шорохом шагов по земной груди.
Совершалось таинство во имя Бога — первый настоящий ритуал, который Нофрет здесь видела, но не египетский. Это была магия пустыни, земли, крови и живого тела.
Но пора было возвращаться во дворец. Не из страха наказания. Это был долг, то, что Леа называла необходимостью: Бог звал Нофрет туда, куда она должна была идти. По дороге в селение она удалялась от заката, а теперь — от восхода. Свой узелок девушка несла на голове, ноги шагали легко, несмотря на усталость, выводя рисунок танца в дорожной пыли. Магия еще не оставила ее, а, может быть, так только чудилось. Магия внесла ее в город, через дворцовые ворота, прямо к ее госпоже.
Царевна едва взглянула на нее, и сама была как тень.
— У Меритатон начались роды. Рано — не то слово, слишком рано. Молись всем богам, каких знаешь. Молись, чтобы она не умерла.
9
Когда царица Нефертити рожала последнюю из шести царских дочерей, Нофрет еще не было в Ахетатоне. Она не знала, происходило ли все так же, как сейчас — обитатели дворца вроде бы занимались своими делами, но с рассеянным видом, постоянно прислушиваясь к звукам, доносящимся из комнаты: оттуда время от времени слышались женские крики, но не детские.
Предполагалось, что Нофрет ничего не замечает, или по крайней мере делает вид, что не замечает. Она прислуживала своей царевне. Царевна должна была присутствовать на церемониях в храме, исполнять свои придворные обязанности, учиться танцам, пению, чтению и священным письменам, но ее голова была занята совсем другим. Когда, разбирая отрывок из истории о пришпоренном царевиче, Анхесенпаатон сочинила полную ерунду, сказав, что он родил крокодила, вместо того, чтобы сказать, что крокодил ему угрожал, писец, ее наставник, отослал девочку заниматься чем-нибудь менее утомительным для ума.
Царевна приказала приготовить колесницу и велела Нофрет занять там место. Раньше такого не бывало, но, насколько знала Нофрет, ей и не запрещали. Анхесенпаатон вела себя так, словно была уверена, что никто ее не остановит.
И Нофрет устроилась позади своей госпожи, а царевна взяла вожжи, собираясь выехать из конюшни, но вдруг перед лошадьми появилась высокая фигура. Доверчивые кони опустили головы, ожидая найти в руках человека кусочки медовых сладостей. Мужчина рассеянно погладил их морды, не отрывая взгляда от царевны.
— Госпожа, ты собираешься ехать в одиночку? — поинтересовался он. Голос у него был по-солдатски груб, но с оттенком придворной обходительности.
Царевна вздернула подбородок.
— Военачальник Хоремхеб, ты загородил мне дорогу.
— Без сопровождения ехать нельзя.
Царевна не взглянула на Нофрет, не желая проявлять слабость — с таким человеком это было невозможно.
— Но я так хочу.
Хоремхеб взял обоих коней под уздцы, осторожно, чтобы не испугать, но достаточно крепко, чтобы не дать двинуться вперед. — Я буду твоим провожатым. Поехали, мои лошади готовы и стоят на внешнем дворе.
Там действительно стояла пара жеребцов, гораздо более беспокойных и порывистых, чем послушные лошади царевны, и по ним было видно, что с утра они уже совершили долгий путь. Но жеребцы явно были не прочь бежать снова, мотали головами, фыркали и норовили лягнуть конюха, удерживающего их.
Хоремхеб взял хлыст и вожжи и одним быстрым изящным движением вскочил в колесницу. Конюх отпрыгнул с дороги. Хоремхеб удерживал коней. Они били копытами, но с места не трогались. Военачальник поклонился без всякой насмешки.
— После тебя, госпожа.
Царевна, такая же надменная и холодная, как ее мать, направила лошадей вперед. Они охотно пошли рысью, не обращая внимания на рвущихся вперед жеребцов.
Куда ее госпожа собиралась ехать без охраны, Нофрет не знала. Может быть, к царской гробнице или даже еще глубже в пустыню, подальше от людей, от людских страхов.
Но как бы то ни было, царевна не решилась на такой побег. Она чинно ехала по дороге процессии, гораздо медленнее, чем если бы была одна, — и полководец с трудом удерживал своих жеребцов. Анхесенпаатон, казалось, ничего не замечала. Люди останавливались и смотрели на нее. Египтяне почтительно падали ниц. Неегиптяне, поняв, кто она такая, кланялись каждый на манер своей страны. Это немного напоминало порыв ветра в ячменном поле, когда тела и головы склонялись при приближении царевны.
Она проехала от одного конца широкой дороги до другого, от одних ворот до других и обратно. Затем, все так же медленно, ленивым шагом, свернула ко дворцу. Ее лошади даже не разогрелись. Кони Хоремхеба были покрыты потом и белыми клочьями пены. Складка его губ была сурова, но глаза смеялись.
Когда обе колесницы стояли во дворе конюшни — лошади царевны спокойно, жеребцы полководца готовые заржать от разочарования, Хоремхеб перегнулся через край своей колесницы.
— Честная игра, царевна. И честная победа.
Анхесенпаатон подняла бровь.
— Так это была игра? А я и не знала. — Она сошла с колесницы, повернулась спиной к своему неожиданному стражу и удалилась.
Как только они снова оказались в доме, царевна позволила маске упасть. Она бросилась к Нофрет, и смеясь, и сердясь.
— Каков? Как он только осмелился?
— Не понимаю. Что осмелился? Охранять тебя? Думаю, это было только разумно.
— Ох, — сказала госпожа с неудовольствием. — Охрана? От чего? Это же город моего отца. Никто не решится тронуть меня здесь.
— Ты не можешь знать наверняка. И он тоже.
— Я знаю, — выпалили царевна. — Я уверена, что нахожусь в безопасности. Как он осмелился предположить, что это не так?
— Может быть, — сказала Нофрет, — ему известно что-то неведомое тебе.
Царевна была гораздо моложе Нофрет, но умела принять грозный вид не хуже любого воина. Истинно царская самоуверенность — отказ бояться чего-либо столь незначительного по размерам и силе, как оружие. Она надменно выпрямилась и пронзила Нофрет свирепым взглядом черных глаз.
— Что же он знает такое, неизвестное даже личным шпионам царя?
— Возможно, самую малость. Но и твоему отцу всего не рассказывают, а тебе он говорит еще меньше. У него есть враги. И немало. Они не желают мириться с существованием этого города. Тем более, что многие втайне поклоняются другим богам.
Царевна медленно вздохнула.
— Напрасно ты мне рассказала. Такое можно говорить только тем, кому доверяешь.
— Я тебе доверяю. Да и что может сделать царь? Приказать казнить каждого, кто обращается с молитвами к Бесу или Хатор или к Амону, когда нуждается в помощи богов? Он закрыл храмы, стер их имена — но никого не убил.
— Кроме богов, — сказала царевна и снова вздохнула. Казалось, она стала меньше и снова превратилась в дитя с хрупкими косточками, третью, еще незамужнюю дочь царя.
— Пойми, главное не в том, что он сделал. Главное в том, что это сделал именно он.
— Ты не любишь Хоремхеба, — заметила Нофрет.
— Неважно, люблю или не люблю. Но он из простых людей, а засматривается на высокое — и рассчитывает его получить.
— Высокое? Например, царевну в жены?
— Этому не бывать.
Она была уверена и в своих словах, и в себе. Нофрет надеялась, что ее госпожу не постигнет разочарование. Цари — даже, возможно, такие, которые женятся на собственных дочерях, чтобы сохранить все царские права в семье — всегда были рабами выгоды. И может оказаться выгодным выдать дочь за сильного военного человека, командующего армиями, который в трудную минуту станет гарантией того, что эти армии не перекинутся на сторону иных, не царских, богов.
Такое вполне возможно. Нофрет могла только догадываться об этом: она не видела закрытых храмов, не слышала возмущенных воплей жрецов. Однако то, что до нее доходило, было достаточно ясно. Жители Ахетатона не особенно жаловали своего царя. Но если даже те, кто получал прямую выгоду от его жизни и постоянного присутствия, выражали недовольство, то чего ждать от остальных египтян.
— Если военачальник положил на тебя глаз, — сказала Нофрет, — он мог поступить и хуже, чем просто тешить свое воображение. Не стоит обещать выйти за него или даже показывать, что тебе известны его намерения. Но можешь дать ему некоторую надежду на будущее, когда ты станешь достаточно взрослой, чтобы думать о таких вещах. Он сильный человек и никому не позволит беспокоить тебя.
— По-твоему, я должна поощрять его? — Царевна, казалось, была готова залепить Нофрет оплеуху, но удержалась. — Он ужасный. Старый. От него несет лошадьми.
— Лошади неплохо пахнут, — заметила Нофрет.
— Старыми лошадьми. Дряхлыми, пропотевшими лошадьми. Которых не купали ни разу с тех пор, как впервые запрягли.
— Но все же лучше, чем какой-нибудь жрец с руками, перемазанными жертвенной кровью. Или, — добавила Нофрет, — царь.
Это было сказано зря. Царевна, которая все время балансировала на грани между ребенком и царицей, сразу обратилась в царицу.
— Царь — это царь и Бог. И он всегда чистый.
— Но его дела грязны… — Нофрет заставила себя замолчать. Ее хозяйка была египтянкой, и египтянкой царственной, и никогда не понимала и не поймет, какое глубокое отвращение испытывает Нофрет. Это она и ее родня давали понять ясно. Анхесенпаатон боялась лишь того, что ее слишком рано сделают женщиной, но вовсе не проклятия богов.
У Нофрет внутри снова все заныло. Выругавшись про себя, она сказала:
— Ты не выйдешь за него замуж, пока жив царь — можешь не сомневаться. Твой отец никогда такого не допустит, даже если бы ты и захотела. Но Хоремхебу об этом знать необязательно. Он сильный, у него есть солдаты, он может защитить тебя от любого, кто вздумает угрожать тебе. Разве ради этого не стоит потерпеть небольшое неудобство?
— Не от чего меня защищать, — произнесла Анхесенпаатон, спокойно и с истинно царским упрямством.
Больше сказать было нечего — по крайней мере, сейчас. Но Нофрет и не думала прекращать борьбу. Она собиралась ненадолго отступить и подождать.
Это ожидание было спокойней, чем бодрствование возле царевны Меритатон. Ее младенец слишком торопился явиться на свет, но, когда его мать уже почувствовала приближение родов, решил повременить. Все усложнялось так, что царевна была совсем юной и миниатюрной. Когда она станет взрослой женщиной, у нее будут роскошные широкие бедра и пышная грудь, как и у матери. Но сейчас Меритатон была еще совсем ребенком.
Анхесенпаатон, утомленная бегством из города, сразу же отправилась спать. Нофрет позавидовала ей. Сама она, как всегда, уснуть не могла и волновалась. Девушка не любила царевну Меритатон, она совсем ей не нравилась. Но страх и боль, которые та испытывала, стояли в воздухе густо, как дым.
Нофрет подумывала, не сбежать ли снова. Ее госпожа попыталась, но ничего не вышло. Нофрет могло бы повезти больше, но отправляться так далеко не было сил, хотя и отдыхать тоже было невозможно.
Нофрет ничем не могла помочь Меритатон, ей не дозволялось даже приблизиться к ее дверям. У ворот дома цариц стояла стража, и без дела туда не мог войти никто.
Нофрет как служанка третьей царевны принадлежала только ей, и, как объяснили стражники, не имела отношения к царевне, находившейся внутри. Она даже сама не знала, зачем ей надо находиться там. Девушка немного разбиралась в акушерстве, но рядом с Меритатон находились толпы врачей и акушерок. Нофрет там только помешала бы.
Поэтому она болталась неподалеку. Солнце склонялось к западу, в дворцовом саду было жарко и пахло пылью и навозом, как повсюду в Египте. Даже густой аромат цветов не мог перебить этот запах.
Сквозь жужжание пчел ей послышался какой-то звук. Наверное, садовник, несмотря на жару, проделывал какую-то свою тонкую работу. Все остальные спали или отдыхали.
Звук повторился, как будто кто-то набирал воздуха, чтобы вздохнуть. Может быть, это обезьяна. Или кошка. Или, как подумала Нофрет, двигаясь в направлении звука, ребенок, старающийся плакать тихонько.
Она бесшумно спустилась по аллее фруктовых деревьев, мимо бассейна с рыбками, в розовый сад. В его колючем укрытии, под аркой из цветов, прятался плачущий ребенок.
И все же, с точки зрения царя, это вовсе не был ребенок. Между кустами роз притаилась его вторая дочь, вторая царица-дитя, Мекетатон — в платье, в украшениях, в парике. Но лицо ее, когда она обернулась к подходившей Нофрет, было лицом девочки, ребенка одиннадцати лет от роду. Краска на веках, на щеках и на губах смазалась и потекла.
Нофрет никогда не имела склонности утешать плачущих детей. Деловитость была свойственна ей больше. Она огляделась в поисках чего-нибудь подходящего, чтобы вытереть лицо Мекетатон, но ничего не нашла, кроме ее тончайшей накидки. Девочка сидела молча, пока Нофрет оттирала краску, вовсе не беспокоясь о том, что тонкая ткань безнадежно испортится.
Лишившись краски, лицо царевны оказалось мучнисто-белым, а тело казалось странным, бесформенным, как на изображениях ее отца, нарисованных или вырезанных на каждой стене. Нофрет заметила, что она прикрывает живот, сгорбившись, полусидя-полулежа среди роз.
— Давай разберемся, — заговорила Нофрет намеренно грубо, чтобы немного привести Мекетатон в чувство. — Никто не обращает на тебя внимания, все заняты с Меритатон, а тебе больно и страшно. Что, ребенок уже пошел?
Лицо царевны не изменилось, но тело напряглось.
— Как ты неизящно выражаешься.
— Я всегда так выражаюсь. — Нофрет положила руку на выступающий живот Мекетатон. Та разогнулась, как кобра, на удивление быстро и яростно сопротивляясь.
Но Нофрет была дочерью воина, и ее братья тоже собирались стать воинами. Она действовала быстрее и была сильнее. И обладала даром, который ее отец называл даром воина — видеть все ясно и четко даже в горячке битвы, поэтому сейчас увидела то, что Мекетатон всячески стремилась скрыть.
На тонком белом платье проступила кровь. Причиной этого могла быть только большая беда с ребенком, которого носила Мекетатон. Нофрет не промедлила ни секунды, даже не попыталась отдышаться после яростного сопротивления царевны. Когда та осела на землю, задохнувшись от боли и потрясения, Нофрет схватила ее и подняла. Она весила совсем мало, словно птичка, одна кожа да кости.
Когда девушка взяла царевну на руки, она перестала сопротивляться и лежала, дыша тяжело и прерывисто, что совсем не понравилось Нофрет. Затем глаза царевны закрылись, голова запрокинулась, и Нофрет чуть не уронила ее. Мекетатон казалась мертвой.
Но она все еще дышала, была в сознании и пробормотала дрожащим голосом:
— Оставь меня лежать на солнце. Солнце придаст мне сил. Солнце остановит…
— Тебе нужны не солнечные ванны. Тебе необходима акушерка, и быстро.
— Нет… Это сын царя. Он должен родиться, когда наступит его время. Сейчас он не родится.
— Вряд ли он тебя послушается, — вздохнула Нофрет, торопливо шагая из розария в сторону дома цариц.
На сей раз стража пропустила девушку. Одного взгляда на лицо царевны было достаточно, чтобы убедить начальника стражи немедленно послать за акушеркой или хотя бы за жрецом-лекарем. Нофрет, не тратя времени на благодарности, промчалась мимо стражников, которые в последний момент догадались распахнуть дверь прежде, чем она ее снесет, и со всех ног ринулась в комнату, где стояла кровать.
Кровать, по-видимому, принадлежала не царевне, она была гораздо меньше и скромнее, чем та, какая могла бы предназначаться Мекетатон, но достаточно велика для такого случая. Всем, оказавшимся рядом, Нофрет велела открывать ставни, тащить опахала и прочие нужные вещи.
У кого-то из слуг хватило сообразительности принести прохладного вина, разбавленного чистой водой. Нофрет сначала заметила лишь тень и руку, подносящую чашу к губам Мекетатон. Затем внезапно разглядела всю фигуру.
— Тама! — удивленно воскликнула она. — Почему ты не…
— Я там не нужна, — ответила служанка Меритатон. — Они не желают слышать то, что всем известно: царевна убьет себя, чтобы подарить царю еще одну дочку.
— Я не умру, — прошептала Мекетатон, удивив их обеих. Нофрет была уверена, что она ничего не слышит от боли.
— Не ты, царевна, — сказала Тама. — Твоя сестра.
— Не я, — повторила Мекетатон. — Я не умру. У меня будет сын.
Кто-то маленький, стремительный и озабоченный оттолкнул Нофрет. Она заметила амулет богини Таверет, помогавшей деторождению. Похоже, больше никто не занимался подобными вещами, или не признавался в этом.
Толпа оттеснила ее от постели. Там толпились акушерки. Сколько крови! При родах всегда бывает кровь, но почему так много?
Тама, которая была крупнее и стояла на более удачном месте, осталась у изголовья царевны. Нофрет прижали к стене. Темное лицо Тамы казалось при ярком свете светлым и напряженным. Нофрет постепенно поняла, что оно выражало. Горе.
Первый крик подбросил Нофрет. Она никогда прежде не слышала такого детского крика. Тама запрокинула голову, причитая, как плакальщица по покойнику.
— Нет, — сказала Нофрет. — Это не она. Она не издала и звука.
Никто ее не слышал. Акушерки поспешно работали. Одна пела что-то похожее на заклинание, но это уже не имело смысла. У них были ножи. Они будут резать — уже режут…
Причитала не только Тама. Остальные слуги, глупые, вовсе рыдали. От них не было никакой пользы.
Нофрет набросилась на них, раздавая оплеухи, толкаясь, ругаясь, выгоняя их прочь. И слуги пошли, как дураки, какими и были, рыдая и стеная. — Царевна Мекетатон! — вопили они.
— Царевна Мекетатон умерла!
10
Царевна Мекетатон умерла. Ее дочь, которую она никогда не увидит, крошечная и безупречно сформированная, повернула лицо к свету ламп и умерла, слишком маленькая для жизни вне чрева матери.
В другой, гораздо более богатой комнате, при свете многих ламп, царевна Меритатон разрешилась от бремени — тоже дочерью, маленькой, хотя и много больше, чем у Мекетатон, и хрупкой. Но она была жива и дышала, не обманув молитв и магии жрецов.
Отец взял ее на руки и назвал:
— Меритатон. Меритатон, как ее мать, Меритатон-та-Шерит.
Нофрет не понимала, какую радость он может испытывать, обретя еще одну дочь, рожденную в тот же час, когда умерла ее сестра-тетка. Пока ребенок не был рожден и назван, окружавших Меритатон не волновали вопли и стенания, доносившиеся снизу. Наконец кто-то прислушался или кто-то явился к царю, принеся известие, которого он вовсе не жаждал услышать. За Мекетатон никто не опасался. Ее особо и не замечали, пока она не стала жертвой безумного стремления своего отца заиметь сына. Теперь, когда она была мертва, о ней думали гораздо больше, чем при жизни.
Первой в комнату, где лежала Мекетатон, пришла Нефертити, ступая грациозно, как всегда, но так осторожно, словно вот-вот упадет. Люди, которые пришли посмотреть, плакать, бросаться на колени и в горе биться головой об пол, при появлении царицы постарались скрыться. Но она не замечала их, как будто была совсем одна.
Царица склонилась над двумя маленькими съежившимися телами, лежавшими на кровати, и осторожно провела длинным красивым пальцем по их щекам. Ее прекрасные глаза закрылись.
Нофрет шагнула вперед, готовая подхватить царицу, если та станет падать. Но она оказалась стойкой. Ее лицо мертвенно побелело, несмотря на краску. Она пошатнулась, но устояла на ногах и молча вышла.
Вскоре после нее появился царь. Он вбежал бегом, тогда как царице этого не позволяло достоинство, прямо от своих живых дочерей к двум мертвым, упал на колени возле кровати и осторожно взял Мекетатон за руку, как бы живую.
— Дитя мое. О, мое дитя. Почему ты не дождалась, пока Бог придет за тобой?
Нофрет удивилась. Разве это не он сделал? Девушка до крови прикусила язык, чтобы не сказать слова, за которые ее засекли бы до смерти. Вскоре у нее появилось множество хлопот: пришла ее госпожа с целой толпой слуг и с сестрами. В тесной комнате разносились их рыдания. Нофрет почти поддалась желанию зарыдать вместе с ними, но была слишком упряма.
Анхесенпаатон словно лишилась рассудка. Все страхи, обуревавшие царевну, все страдания, которые она испытывала с того времени, когда отец сделал ее сестер своими женами, собрались сейчас в одном месте. Если бы Нофрет не схватила и не удержала ее, она разодрала бы в кровь свои щеки и грудь, а потом бросилась бы к мертвой сестре или к отцу, который так безумно погубил ее — этого Нофрет не знала и не стремилась угадать. Царевна сопротивлялась отчаянно и с неожиданной силой, но Нофрет была сильнее.
Если царица и заметила это, то не подала виду. Казалось, она смотрит только на покойницу. Царь стоял на коленях, качаясь из стороны в сторону в безмолвном, бессмысленном танце горя.
Можно подумать, что ни одно царское дитя раньше не умирало. Или царь полагал, что, построив новый город и дав ему нового Бога, он навсегда избежит прикосновения смерти?
Если не царь, то Анхесенпаатон думала так наверняка. Она вырывалась из рук Нофрет, отчаянно рыдая. Глаза Нофрет были сухи, но слезы обжигали горло и не могли пролиться.
Но вскоре кому-то все же придется вернуться к реальности. Сейчас ночь, а ночи в пустыне холодные, даже летом. Но утром встанет солнце и наступит жара.
Едва Нофрет подумала об этом и о том, что пора посылать за бальзамировщиками, кто-то заговорил. Человек говорил негромко, но его голос был хорошо слышен и приглушил рыдания:
— Ты — отправляйся за бальзамировщиками. Ты — проследи, чтобы тела вымыли и приготовили. Ты займись царицей, а ты — царем. Где няньки детей? Зовите их сюда. — И, если кто-то не повиновался, мгновенно: — Шевелись!
Такой рев должен перекрывать шум битвы. Здесь, во дворце, от него содрогнулись стены, прекратились рыдания, и большинство столпившихся людей мгновенно исчезли.
Нофрет обнаружила, что цепляется за свою госпожу так же крепко, как та за нее. В ушах у нее звенело. Полководец Хоремхеб мрачно оглядел комнату, как поле боя. Нофрет буквально читала его мысли: что делали бы эти люди, если бы он не привел их в чувство. Слабодушные глупцы. Ни один воин не позволит себе такой слабости.
Но все же, что бы он ни думал, а с царем был мягок и вежлив и, когда явились бальзамировщики со своими носилками, увел его. Царь был на удивление покорен. Нофрет думала, что он будет сопротивляться, цепляясь за тело дочери. Но он сдался без борьбы и ушел, не стесняясь своих рыданий.
Нофрет последовала примеру Хоремхеба и увела, а вернее, уволокла прочь свою царевну. Анхесенпаатон явно не была так послушна, как ее отец. Нофрет сжала зубы, вцепилась покрепче и утащила ее.
Они почти добрались до спальни царевен, когда Анхесенпаатон вырвалась и бросилась бежать. Нофрет кинулась следом, но та была легче и шустрее. Нофрет могла только не терять ее из виду.
Царевна не устремилась, как ожидала Нофрет, в комнаты цариц. Ослепленная горем, она все же соображала, что делает, и держалась подальше от стражников и слуг, увертываясь от всех, кто пытался ее поймать.
Казалось, у нее была цель. Девочка бежала прямо и быстро, прочь из дворца, в длинный ряд дворов и святилищ, которые представлял собой Великий Храм Атона. Стояла глубокая ночь, но жрецы уже готовились к рассвету. Многие уже находились в святилищах, оплакивая смерть царской жены-дочери.
Царевна повернула не к главному алтарю, где громоздились многочисленные дары и с заката до рассвета горели лампы, а в сторону одного из меньших святилищ. Оно напоминало дворцовый павильон, какой мог бы выстроить себе принц возле бассейна для купания, но здесь вместо воды можно было купаться в свете.
Сейчас света не было, лишь внутри павильона горела лампа. Царевна бросилась на лежанку, стоившую внутри, и свернулась клубком, тяжело дыша, но постепенно успокаиваясь.
Нофрет стояла, пошатываясь, переполняемая гневом и опасениями, но ее госпожа не двигалась и ничего не говорила. Нофрет медленно опустилась на пол возле лежанки. Если царевна встанет и попытается убежать, ей придется переступить через Нофрет. Но та, казалось, пришла именно туда, куда хотела, и была вполне удовлетворена. Через некоторое время она даже заснула.
Нофрет то погружалась в дремоту, то просыпалась. Каждый раз, пробуждаясь, она видела, что Анхесенпаатон лежит, по-прежнему сжавшись, погруженная в сон или искусно притворяясь.
Никто их не беспокоил. Ночь шла медленно. Звезды побледнели. Небо мало-помалу светлело: бездонное небо Египта, чистый и пустой свод, не запятнанный ни единым облачком. Нофрет уже начала забывать, каким бывает небо в Хатти и Митанни, почти забыла прикосновение дождя, снег, холод и режущий ветер в хеттских горах. Только Египет был настоящим, только река, песок и дождь, так редко выпадавший, что каждый раз считался великим благом.
Они находились в павильоне рассвета — месте, где поклонялись первым солнечным лучам и набирались от них сил. Когда солнце, наконец, взошло, протянув длинные пальцы-лучи через стену храма, царевна зашевелилась и потянулась.
Нофрет насторожилась. Но девочка просто легла на спину, протянув руки, как будто хотела обнять солнце. Она купалась в его свете.
Анхесенпаатон лежала так долго, что Нофрет снова почти задремала. Но какой-то инстинкт мешал заснуть, заставлял быть настороже.
Царевна задрожала, и Нофрет вскочила. Девочка сидела прямо и неподвижно в руках своей служанки, не замечая их. Она долго не шевелилась, и Нофрет медленно отпустила ее.
Царевна неотрывно смотрела прямо на солнце, яркое, хотя еще низко стоящее над горизонтом.
— Отец Атон! Отец Атон, ты лгал. Ты не дал моим сестрам сыновей. Ты забрал Мекетатон. Ты лгал.
— Лгал твой отец, — сказала Нофрет. Или слышал то, что хотел услышать, а бог никогда не имел этого в виду.
— Атон лгал, — повторила царевна, — он убил мою сестру.
— Твой отец… начала было Нофрет, но умолкла. Анхесенпаатон не слышала ее. Не хотела слышать. Глупо. Виноват не бог, а ее безумный отец.
— Может быть, — пробормотала царевна, — Атона нет. Может быть, нет ничего, кроме Амона-Ра, и он разгневан на моего отца. И поэтому посылает ему ложь.
Поскольку Нофрет никогда не поклонялась Атону, едва ли стоило защищать его перед своей госпожой. Она придержала язык.
— Ложь, — бормотала царевна. — Бог лжет. А если он лжет и мне? Как мне разобраться? Вдруг он убьет меня?
— Постараюсь не допустить этого, — мрачно сказала Нофрет.
Царевна обернулась и взглянула пристально. Нофрет поразилась. Она думала, что девочка не замечает ее, но эти глаза, окруженные темными тенями, были пронизывающе ясны и прекрасно все видели.
— Что ты можешь сделать? — спросила царевна.
— Все, что в моих силах, — ответила Нофрет.
— Зачем? Ты же меня не любишь. Если я умру, ты сможешь бежать.
— Куда мне бежать? Назад в Хатти, пешком, одной и без одежды?
— Ты совсем меня не любишь, — повторила царевна.
— Какая разница? Я давно твоя служанка, но разве тебя волновало, что я о тебе думаю?
— Да. Я хочу, чтобы ты перестала меня ненавидеть.
— Я никогда не ненавидела тебя.
— Ты ненавидишь нас всех. Я вижу, как ты на нас смотришь, как убегаешь к своим апиру. Они тебе больше по вкусу, чем мы, потому что у них такая одежда, бороды, и от них пахнет козлом?
«Это от горя», — сказала себе Нофрет. Горе и злость бьют в одну мишень, которая не знает, как правильно отбиться.
— У меня нет к тебе ненависти, но я не могу восхищаться твоим отцом, за то, что он сделал. Да, я убегаю от этого, но возвращаюсь же.
— Потому что тебе некуда больше деваться.
— Царевна, — устало сказала Нофрет. — Ваше высочество. Ты ищешь хорошей ссоры? Думаешь, это поможет вернуть Мекетатон?
На мгновение Нофрет показалось, что госпожа бросится на нее. Но царевна не двинулась с места, даже не взглянула на Нофрет, продолжая неотрывно глядеть на яростный блеск солнца.
— Лучше бы я умерла вместо Мекетатон.
— Нет, — возразила Нофрет. — Лучше бы Мекетатон вовсе не умирала.
— Я хочу… — царевна зажмурилась. Из-под ее век покатились слезы. — Я хочу, чтобы никто не умирал! Почему это случилось с ней? Мы все волновались за Меритатон. Никто не заметил, что Мекетатон плохо. Почему мы не заметили? Почему никто ничего не сказал?
Нофрет пыталась, да ее не слушали. Но она не стала говорить этого сейчас.
А госпожа сидела и плакала, закрыв глаза, медленно раскачиваясь, назад и вперед, назад и вперед, как вчера ее отец, стоявший на коленях у тела Мекетатон. Казалось, девочка так же, как и он, не замечает, что делает.
Нофрет свернулась клубочком на прежнем месте, молча, не в силах помочь ничем, кроме своего присутствия. Может быть, и этого достаточно. Или вовсе не имеет значения?
11
Дочь Меритатон жила и крепла, а сама она постепенно набиралась сил, хотя и медленно. Медленно от горя. Шесть дочерей Эхнатона и Нефертити были шестью опорами, на которых держался мир Ахетатона — так говорилось в песнях. Теперь одна была сломана, и остальные зашатались, готовые упасть.
Царица-мать Тийа прибыла вниз по реке из Фив, чтобы разделить с детьми их горе. Она привезла с собой царевичей — Сменхкару, который стал еще красивее, и Тутанхатона, уже достаточно большого, чтобы служить Богу в храме, и страшно гордого этим. С их появлением дворец ожил, и Нофрет показалось, что в черноте скорби появился просвет.
До приезда Тийи Нофрет не замечала, насколько заброшен дворец. Она не знала прежде, в какой незаметной, но крепкой узде царица должна держать прислугу, управляя хозяйством царского дома. Когда умерла Мекетатон, Нефертити просто перестала замечать кого-либо и что-либо, кроме своих живых дочерей и той, которая умерла. Она не замечала даже мужа. Слуги говорили, что царь каждую ночь проводит с госпожой Кийей. Некоторые рассуждали, что, раз Нефертити так погружена в себя, Кийа сможет забеременеть и родить царю сына.
Прибытие Тийи не удалило Кийю из царской постели — она сама позаботилась о том, чтобы царь получил такое хорошее утешение, — но слугам стало некогда предаваться сплетням. Царица Нефертити управляла с мягкой непреклонностью воды. Царица-мать Тийа была как железо или камень тверда, беспощадна, но справедлива в оценках.
Нофрет изо всех сил старалась держаться скромнее, исполнять свои обязанности и не привлекать внимания царицы-матери. Она полагала, что это ей удастся, пока однажды утром, вернувшись после беготни по городу вместе с Иохананом, не нашла свою госпожу торопливо натягивающей платье с помощью одной из нянек младших царевен.
— Ты, — сказала Анхесенпаатон, как только Нофрет перешагнула порог, — пойдешь со мной.
У Нофрет даже не было времени привести себя в подобающий вид. Потная, в пыли, с обрывком шали, подобранным на базаре, девушка поспешила за царевной. По дороге она свернула шаль и повязала на голову. Несомненно, это выглядело слишком лихо и по-чужеземному, но ее госпожа ничего не сказала.
Тийа устроила прием в доме цариц, в зале, где царица предпочитала решать хозяйственные вопросы. Она сидела, маленькая и прямая, на золоченом кресле Нефертити с ножками в виде стволов папируса и резной спинкой, выложенной слоновой костью. Нефертити не нуждалась в подставке под ноги, хотя у нее она и была, вырезанная в виде букета лилий. На эту подставку сейчас опирались ножки Тийи в изящных сандалиях. Голову венчала корона из золотых перьев, а такого парика, как на ней, Нофрет прежде никогда не видела: свободно вьющиеся локоны, не черного, а прекрасного темно-рыжего цвета.
Девушка сообразила, что царица-мать не носит парика; волосы были ее собственные, густые и красивые. Судя по всему, она чувствовала себя непринужденно, как умеют только царицы — словно наедине с собой, хотя вокруг было множество прислуги, а у дверей толпились придворные. Нофрет же стало не по себе. Глаза, мгновенно и пристально рассмотревшие ее и ее царевну, были серые, как железо, и такие же холодные и острые. Во взгляде, устремленном на внучку, теплота промелькнула лишь на миг, словно отблеск заката на воде.
Анхесенпаатон поднялась с колен и села у ног царицы-матери Тийа опустила руку ей на голову, перебирая шелковистую прядь волос на бритой голове. Царевна вздохнула и прислонилась к коленям царицы.
— Это было так ужасно? — спросила Тийа.
Царевна покачала головой.
— Больше так никогда не будет.
— Это дело времени и богов, — сказала царица-мать. — Все меняется и проходит.
— Но не так быстро! — воскликнула царевна. — И не таким образом!
— Таков выбор богов. Боги жестоки, дитя мое.
— Боги лживы. Все, кроме Атона. Так говорит отец.
— Атон — всего лишь один из богов.
Царевна покачала головой и уткнулась в колени бабушки. Тийа ласкала ее, словно кошку. Девочка задрожала и прижалась покрепче.
Нофрет, сидя на коленях, незаметная, как подобает служанке, изо всех сил старалась не поднимать глаз. Но из всех частей ее тела они всегда меньше всего ее слушались. Им хотелось осмотреться, узнать, кто находится рядом. Там не оказалось царевича Сменхкары; молодой человек должен был находиться в доме царя. Царевич Тутанхатон был здесь, вместе с нянькой, и явно с радостью бросился бы на колени к царице.
Нянька упустила своего питомца, или, как злорадно подумала Нофрет, нашла удобным повод отделаться от своих обязанностей. Тутанхатон вырвался и бросился к Нофрет. Она раскрыла объятия, готовая встретить его порыв. Его младенческая пухлость исчезла; он стал длинноногим и легким в кости, как дочери его брата, но сильным и крепким. И, как всегда, настойчивым.
— Отведи меня посмотреть лошадей, — попросил он.
Подальше от глаз его матери Нофрет шлепнула бы мальчика, чтобы привести в чувство, но здесь могла только сказать:
— Попозже. Разве никто не учил тебя, что надо быть вежливым, когда у твоей матери гости?
— Вы не гости, — возразил он. — Вы семья.
— Я — нет.
— Ты тоже. Так когда ты поведешь меня навестить лошадей?
— Юный Тростник-В-Реке, — сказала Тийа с нежностью, которую не расходовала на внуков, — прекрати свою болтовню. Ты сможешь пойти смотреть лошадей, когда я тебе разрешу уйти.
— Я хочу видеть их сейчас, — настаивал Тутанхатон.
Царевна подняла голову.
— Я возьму тебя прокатиться в моей колеснице. Завтра, как только взойдет солнце. Ты будешь готов так рано?
— Я буду готов всю ночь, — ответил Тутанхатон. — А почему бы не поехать сейчас?
— Потому, что я сейчас не еду.
— Но почему…
— Теперь он обо всем желает знать, — вмешалась его мать. — У него есть воспитатель, единственная обязанность которого — отвечать на вопрос «почему». Ты можешь, — обратилась она к сыну, — пойти и спросить Птахмоса. Прямо сейчас, если угодно.
— Птахмос спит. И я хочу остаться с Нофрет. И с Цветком Лотоса, — добавил Тутанхатон, взглянув на царевну. — Я буду сидеть тихо. Обещаю.
Нофрет прикусила губу. Такое средство избавиться от потока детских «почему» вполне в духе царской семьи: приставить слугу, который будет отвечать на вопросы или сочинять всякие глупости, пока ребенку не надоест спрашивать. Наверное, у царя в детстве тоже был такой прислужник. И кто знает, не создал ли он свое представление о Боге из какого-нибудь ответа, данного только для того, чтобы он не приставал?
Забывшись, Нофрет чуть было не захихикала, но, начав, уже не смогла бы остановиться. Она заставила себя взглянуть на Тийю. Сильное красивое лицо отрезвило ее и заставило сидеть спокойно, как мышь под взглядом совы.
Тийа заговорила, обращаясь к внучке, но Нофрет показалось, что эти слова адресованы и ей.
— Ты должна быть сильной. Эти дни ужасны, твои мать и отец с таким трудом переносят их, но нужен человек, который может идти вперед, способный думать, планировать и управлять даже в горе.
— Я еще недостаточно взрослая, — возразила царевна.
— Это просто нытье, — обрезала ее бабушка. — Ты достаточно взрослая, чтобы скорбеть по сестре, достаточно взрослая, чтобы переживать из-за горя твоей матери.
— Мама не хотела, чтобы отец женился на Мекетатон, — заметила царевна. — Она согласилась, потому что на то была воля Бога. Теперь Бог забрал Мекетатон. Мама не простит ему этого.
— И ты не простишь, — сказала Тийа, — и, возможно, так и должно быть. Но ты не можешь позволить себе все бросить, только потому, что так решила сделать твоя мать.
— Меритатон может быть сильной, — возразила царевна, — и они старше меня.
— У нее никогда не будет такой силы, как у тебя. У твоей сестры достаточно своих страхов и болей, и еще ей нужно заботиться о ребенке. Нет, дитя. Ты не можешь уклониться от своего долга. И я не могу.
— Я никогда не стану такой сильной, как ты, — сказала царевна.
Тийа склонилась к ней и понизила голос:
— Открою тебе секрет, дитя. И я не сильная. Но кто-то же должен думать, а больше, судя по всему, некому.
Царевна нахмурилась. Похоже, к ней возвращался разум. То же, вероятно, видела и Тийа. Она была мудра и ни к чему не принуждала девочку, но заставила задуматься.
Тутанхатон заерзал на руках у Нофрет. Девушка тряхнула его, чтобы он перестал. Удивительно, но царевич повиновался.
Немного погодя Анхесенпаатон медленно произнесла:
— Я не сумею быть сильной для себя, но могу помочь тебе и стать такой, как тебе нужно. Но только если ты не будешь настаивать, чтобы я простила Атона за то, что он забрал Мекетатон.
— Лучше бы ты простила за это своего отца, — заметила Тийа.
— Отец просто выполнял его волю.
— Да, — отрешенно сказала Тийа, — она явно верила в это не больше, чем Нофрет.
Царевна не услышала, а если и услышала, то не поняла. Она выпрямилась, подбородок ее окреп.
— Ваше величество, что я должна делать?
Одобрение Тийи было едва заметно: потеплел взгляд, чуть склонилась голова.
— Сперва проследи, чтобы за твоими младшими сестрами смотрели, как должно. Потом приходи ко мне в зал приемов. Пора тебе узнать, что и как делает царица.
Царевна знала это давно. Она сидела или стояла возле трона матери с тех пор, как научилась держаться на ногах. Но на сей раз она не будет дремать или забавляться с обезьянками и газелями, пока ее мать что-то говорит и делает. Придется слушать и, может быть, даже отвечать, как подобает царице, как хочет научить ее Тийа.
Нофрет задумалась, понимает ли царевна, что это значит. Тийа собирается научить ее быть правящей царицей, чем в действительности никогда не была ее мать. Анхесенпаатон — третья царевна, ей нескоро придется править, если вообще доведется. Теперь она стала второй, а ее сестра может оказаться такой же хрупкой, как Мекетатон. Тогда царевна будет настоящей царицей, и произойдет это быстро, как бы ни велико было ее горе.
В тот год, когда умерла Мекетатон, Нофрет часто задумывалась, не обладает ли Тийа даром предвидения. Насколько Нофрет понимала, она не была предсказательницей, как Леа, но предвидела ясно и верно — и все ее предвидения на этот год обернулись бедами.
Мекетатон и рожденная ею дочь были похоронены после трех дней оплакивания и десяти — бальзамирования. Их положили в царскую гробницу в далекой пустынной долине. Царь заказал для нее надгробную плиту, где были изображены он сам, царица и вся семья, оплакивающая умершую. Она будет видеть их все дни своей смерти и знать, что ее любят.
Нофрет подумала, что лучше бы Мекетатон узнала об этом при жизни или, по крайней мере, в свой смертный час. Но ее мнение никто не спрашивал. Никто, кроме Иоханана и Леа, которая всегда задавала трудные вопросы.
— Ты всегда спрашиваешь, — сказала ей Нофрет однажды вечером после похорон Мекетатон, — но никогда не отвечаешь. Разве что говоришь загадками.
— Я все прекрасно понимаю, — невпопад ответила Леа.
Нофрет засмеялась помимо воли.
— Вот, — заметила Леа, — видишь. В тебе еще жив смех.
— Смеяться больно. Как будто во мне что-то застыло.
— Надо учиться, как солдат учится воевать. Свет больше всего нужен тогда, когда становится слишком темно.
Нофрет не поняла, почему веселость вдруг покинула ее; остались только холод и страх.
— Что-то случится, да? Что-то страшное. Царица-мать Тийа тоже видит это. Она учит мою царевну быть царицей.
— Царица-мать жила в Фивах, когда единственным господином и богом там был Амон. Ей известно, что в Египте думают о причудах ее сына. Она готова ко всему, даже самому ужасному.
— Царицы или цари — и пророки… Должно быть, у них много общего.
— Я тоже так думаю. Хотя не могу представить себя сидящей на троне, в короне, в золоте и драгоценностях. Для этого я слишком проста.
Нофрет взглянула на Леа, на ее голову, увенчанную короной серебряных кос под простой черной накидкой; старая женщина сидела на стуле, на который никто больше не осмеливался садиться. И обнаружила, что, несмотря ни на что, еще не разучилась смеяться.
Именно в ту ночь, хотя Нофрет узнала об этом много позже, в Ахетатон пришла чума. Сначала она поразила кварталы бедноты, приплыв на лодке из Дельты или придя с путником с севера, который захворал на постоялом дворе и умер, прежде чем хозяин успел выставить его на улицу. Болезнь распространялась медленно, незаметно переползая из дома в дом, подхватывая то хилого ребенка, то старика, то женщину, ослабленную родами.
Слабый умирает всегда. Даже во дворце знали это и потому еще больше горевали по Мекетатон. Но новая болезнь не удовлетворялась только слабыми. Она отведала крови и жизненного духа сильных, нашла их недурными на вкус и расположилась попировать всерьез.
Царица-мать собиралась вернуться в Фивы после погребения Мекетатон. Слабость, которую она обнаружила в царском дворце и в воде царицы, задержала ее в Ахетатоне, а чума не позволила уехать вовсе. Фивы, находившиеся к югу от Ахетатона, еще не были поражены. Мемфис на севере пострадал ужасно: гонцы говорили о сотнях умерших, слуги — о тысячах, с каждым часом их становилось все больше. Дома бальзамировщиков, хотя они отказывались принимать тех, кто не мог заплатить, были переполнены. Говорили, что процедура максимально упрощена; тела погружают в растворы солей всего на пару дней и откладывают в сторону, пока не завернут второпях и не захоронят при самой простой церемонии.
Иногда известия приносили люди высокородные, поспешно проезжавшие через Ахетатон по пути на юг, что, как они надеялись, могло спасти их. Некоторые уже были больны: уже в горячке, уже кашляли, обвиняя в этом жару и сухость пустыни. Они уговаривали царя бежать вместе с ними.
Но царь не сомневался, что Атон защитит его. Он говорил об этом с несокрушимым терпением, улыбаясь своей мечтательной улыбкой, которую почти не затуманила смерть дочери. Среди слуг ходили слухи, что госпожа Кийа с недавних пор плохо себя чувствует по утрам. Она взяла со служанок клятву молчать, но слуги в купальне не давали такого обещания. Нофрет надеялась, что она скрывает свое состояние достаточно давно, чтобы даже магия царицы не смогла повредить ребенку, и молилась всем богам, какие только могли бы ее услышать, чтобы это был сын. Он удержит царя от посягательства на ее царевну.
Если боги и слышали, они были слишком заняты, чтобы отвечать. Малышка Сотепенра провела бессонную ночь, капризничая и беспокоясь, чего не бывало с самого малого возраста. Ее нянька спала крепко и ничего не заметила. Наконец Нофрет встала, к сонному недовольству своей хозяйки, и, перешагнув через спящую няньку, взяла ребенка, чтобы укачать.
Едва она коснулась плеч Сотепенры, внутри у нее все похолодело. Не только отблески ночника пылали на лице ребенка. Девочка была горячая как огонь, и ее трясло. «Может быть, у нее просто лихорадка, — уговаривала себя Нофрет. — Не обязательно, чтобы у ребенка была чума».
Глупые мысли, и она знала это. Нянька напилась ячменного пива, что помогало сдержать болезнь. Может быть, для нее вполне достаточно.
Остальные младшие царевны были здоровы. Пока. Ее госпожа проснулась, но со сна соображала хуже некуда.
— Ты не могла бы заткнуть ее?
— Тихо, — сказала Нофрет так резко и коротко, что царевна повиновалась, и не подумав возмутиться. Нофрет понизила голос: — Твоя сестра больна. Если твое царственное высочество изволит, не будешь ли ты так любезна послать за врачом?
Царевна выскочила из постели, готовая пропираться с Нофрет, но один взгляд на Сотепенру полностью привел ее в чувство. Няньки остальных детей проснулись и спросонья моргали, все, кроме женщины, приставленной к Сотепенре. Спокойно, осторожно Анхесенпаатон приказала:
— Заберите детей в дом цариц. Сегодня они могут поспать в одной из комнат для наложниц. Ты, Нофрет, найди кого-нибудь, чтобы ухаживать за моей сестрой. Лучше, чтобы этот кто-то не орал и не убегал при одном упоминании о лихорадке.
Нофрет вовсе не желала, чтобы ее отсылали, но спорить с необходимостью не приходилось. Чума явилась во дворец и не уйдет, пока не насытится.
12
Чума явилась во дворец. Сотепенра была лишь первой ее жертвой. Слуги один за другим сваливались от лихорадки. И царевны. И царица. И царица-мать.
Но не царь. И не Нофрет. Царица-мать отправила своих младших сыновей назад в Фивы, как только узнала, что Сотепенра заболела. Ее старший сын не желал никуда ехать и не уставал повторять: «Бог защитит меня».
— Только тебя, — сказала Тийа с горечью. Она еще была здорова, удерживая все в своих маленьких и обманчиво нежных руках. Царь проводил все время в храме: днем лежал на солнце, пока не загорел, как крестьянин в поле, а ночью спал возле алтаря Атона, часто пробуждаясь для молитвы. У него не оставалось времени царствовать, так что от его имени царствовала Тийа.
Она держала Анхесенпаатон при себе. Остальные царевны и царица Нефертити, уже едва державшаяся на ногах от жара, тоже ушли в храм. Царь настаивал, чтобы они лежали на солнце, как и он, чтобы стать такими же сильными, но жрецы-целители запретили. Они лежали во дворе под навесом, часто увлажняемым водой, и жрецы, обладавшие искусством охлаждать лихорадку, обтирали и поили их целебными настоями.
Сами жрецы тоже чувствовали себя неважно, но не сдавались, ведя борьбу с чумой. Так поступали многие, кто еще мог стоять, — ходили за больными, хоронили умерших и обеспечивали живых пищей и водой.
Труднее всего было с отдыхом. Появилось слишком много больных, умирающих или умерших, и каждая царевна уже не могла иметь собственную прислугу. Нофрет делала все, что от нее требовалось, чаще всего по приказу царицы-матери, но и то, что сама считала нужным.
Ее госпожа тоже подхватила болезнь, но в легкой форме. Может быть, упрямство и сила воли помогли ей удержать недуг в узде. Но, в таком случае, царица-мать вообще не заболела бы.
Возможно, Тийа переоценила свои силы. Она была матерью взрослого сына. У нее были внучки и правнучка. Наверное, ее сердце решило, что она достаточно долго жила, боролась и правила.
Ее воля сопротивлялась. Когда Анхсесенпаатон стала капризничать и у нее поднялся жар, Тийа распорядилась, чтобы девочку уложили в постель, приставили охрану и позвали врача. Нофрет осталась бы с царевной, но блеск в глазах Тийи ей не понравился.
За царевной ухаживали лучше некуда. Но никто не ухаживал за Тийей.
Странно было думать так о столь могущественной царице. Но в этот день, в разгар чумы, она вовсе не казалась могущественной — стареющая, усталая женщина, в руках котором находилась судьба Двух Царств.
Прибывали гонцы, в основном с просьбами о помощи от вельмож с севера и из Дельты. Еще приезжали послы, но только с юга. Нужно было выслушивать жалобы, давать аудиенции, присматривать за городом и дворцом. Было очень много мертвых, множество умирающих и слишком мало тех, кто мог исполнять приказы.
Нофрет не пыталась покинуть дворец. Иногда она поднималась наверх дворцовой стены и смотрела на город. Он выглядел почти так же, как обычно, только улицы были безлюдны. Пахло солнцем, пылью, навозом и смертью.
Сотепенра умерла в предрассветной темноте, на седьмой день болезни. Ее сестренки, которых Нофрет называла красавицами, потому что они носили имена в честь красоты Бога, Нефернеферуатон и Нефернеферура, умерли почти одновременно, вечером того же дня.
Нефертити не знала, что лишилась еще троих дочерей, что они так скоро последуют за Мекетатон в страну мертвых. Царица была в глубоком лихорадочном забытьи, перешедшем в сон, а из сна — в смерть.
На смертном одре царица была прекрасна: прекрасна и холодна, как при жизни. Довольно долго никто не знал, что она умерла. Ее жрецы-лекари сами были больны или ушли ухаживать за Меритатон и ее ребенком, метавшимися в бреду.
Плач ребенка был тонок и пронзителен. Нофрет слышала его даже во внешнем дворе, когда по приказу царицы-матери шла сказать царю, что бальзамировщики должны забрать детей. Она нашла царя, как всегда, лежащим на солнце, тела умерших царевен были прикрыты от жары и света, еще живые царевны горели в бреду, бесчувственные ко всему, а царица лежала совершенно неподвижно.
Во всем была странная, звенящая четкость. Солнечный свет ослеплял, но Нофрет все прекрасно видела. Она различала каждый столб, каждую каменную плиту пола, каждую складку навеса. «Как много золота, — подумала она. — Можно с ног до головы одеть в него всех египтян».
Холодный покой перед лицом смерти. Нофрет поняла, что у нее тоже жар. Пока это неважно. Она могла ходить и выполнять приказы.
Крики ребенка захлебнулись и стихли. Девочка сосала грудь усталой, но вроде бы еще здоровой кормилицы — понемногу и неохотно, но Нофрет не теряла надежды. Может быть, малютка, хотя и такая хрупкая с виду, все же выживет.
Царице уже надеяться было не на что. Нофрет склонилась над ее кроватью. В такой жаркий день, даже под навесом, ее рука была теплой. Но из нее ушла жизнь. Ее изумительно прекрасное лицо было лицом покойницы: кожа тесно обтянула череп, дух жизни покинул его, остались только холод и пустота.
Нофрет медленно выпрямилась. Здесь должно быть больше людей. Она же видела лишь немногих, занимавшихся Меритатон и ее дочкой, и царя, лежавшего на солнце, слепого и глухого ко всему.
Царь не был мертв. Он даже не был болен и, когда Нофрет толкнула его ногой, зашевелился и свернулся в клубок, как ребенок, не желающий просыпаться.
У нее уже не оставалось терпения, и страха перед ним тоже не было — ни перед царем, ни перед Богом. Он был всего лишь человеком и к тому же глупцом.
— Просыпайся, — сказала она резко. — Вставай. Царица умерла.
Царь растерянно заморгал.
— Никто не умер. Бог хранит меня.
— Царица умерла, — повторила Нофрет.
— Нет, — упорствовал царь.
Она подхватила его под мышки и вздернула на ноги. Царь был высок, но слаб, и покорился ее яростному нетерпению.
— Проснись же! Оглянись кругом! Пока ты молил Бога защитить твое жалкое тело, весь твой город умирает или уже умер. Твои дочери мертвы. Твоя царица мертва. Да посмотри же на нее!
Царь посмотрел. Он смотрел долго. Потом зашатался.
— Нет, — закричал он, — нет, этого не может быть!
Глупец, к тому же безумец. Нофрет с отвращением отвернулась.
Царь мог бы простоять так, раскачиваясь и стеная, до прихода бальзамировщиков. Ни на что другое он не годился. Его матери придется одновременно быть и царем, и царицей, если не удастся уговорить госпожу Кийю выйти из комнаты, где та заперлась. Если она еще жива. Нофрет не проверяла.
Царь может оставаться здесь. Нофрет надо идти к царице-матери. Тийа должна знать, что Нефертити умерла.
Что-то промелькнуло мимо Нофрет. Она подумала, что это тень, пока не ощутила порыва ветра. Человек, голый, с непокрытой головой, лишенный всяких признаков своей царственности, бежал куда-то.
Он по-прежнему бегал, как женщина, словно со связанными коленями, плохо держа равновесие. Но женщины при необходимости бегают очень быстро; и царь тоже. Он бежал слишком быстро, чтобы Нофрет могла его удержать.
Ей было все равно, и все-таки она последовала за ним. Стражники были больны или разбежались. Кроме нее, за ним некому присмотреть, разве только положиться на его Бога.
Он все еще царь. Даже голый, даже обезумевший от холодной жестокости истины.
Для человека, который никогда не стоял, если можно было сидеть, и не ходил пешком, если можно было ехать, он развил приличную скорость. Нофрет уже вся взмокла и запыхалась, когда он перешел на неуклюжую рысцу. Царь бежал прочь из города, прочь от живых, которые его не знали, и от мертвых, не знавших ничего.
Насколько у Нофрет хватало сил соображать, она решила, что он бежит к своей гробнице. Лучше бы ему поискать реку, чтобы утопиться. Она только порадовалась бы этому. Холодная вода сомкнулась бы над ее головой, холодная тьма остудила бы глаза.
Вместо этого нещадно палило солнце, а во рту чувствовался вкус дорожной пыли. Царь бежал медленнее, но у нее не было сил двигаться скорее, чтобы нагнать его. Вдруг он споткнулся и упал.
В ней уже не осталось гнева. Она не бросилась поднимать его. Но, когда царь зашевелился, Нофрет уже была рядом и тянула его за руку, помогая встать. Он весь был покрыт потом, слезами, вывалян в пыли. Руки и колени были ободраны, по ноге стекала струнка крови.
От солнечного пекла в голове Нофрет гудело. Едва соображая и почти ничего не видя, она потащила царя с собой в единственное место, о котором вспомнила — селение строителей находилось совсем рядом, там было прохладно и спокойно.
Потом ей пришло в голову, что она могла занести в селение болезнь. Но это было глупо. Мертвецы прибывали в дом бальзамировщиков сплошным потоком. Болезнь сопровождала их.
Как обычно в полдень, в деревне было тихо. Мужчины и мальчики трудились среди гробниц. Женщины укрывались в прохладе своих домов. Вечером они отведут душу, сплетничая у колодца и собираясь на базаре.
Нофрет не слышала плача, скорбных причитаний. Больные не лежали на улицах, мертвых не несли в общие могилы. Лишь пара собак пошла за ними, заинтересовавшись человеком, которого девушка вела с собой, обнюхали его ноги и отстали.
Царь не обратил на них внимания, как и на все остальное, и снова расплакался. Слезы стекали по его длинному лицу и капали с подбородка.
Леа сидела в дверях дома Агарона и пряла шерсть узловатыми ловкими пальцами, наматывая ее на веретено. Иоханан устроился радом, скрестив ноги, с корзинкой шерсти на коленях, и молодая козочка пыталась туда забраться.
К счастью, они приняли Нофрет без особого удивления. Правда, Иоханан изумленно вытаращил глаза при виде ее спутника, но Леа осталась совершенно невозмутимой. Она провела их в дом, подала холодной воды умыться и напиться, одела их в платье жителей пустыни и предложила отдохнуть на коврах в комнате, где Нофрет так часто случалось сидеть за обедом.
Она медленно приходила в себя. Царь полулежал, полусидел напротив нее, моргая как спросонья. Иоханан отчаянно старался не глядеть на него, но глаза его так и сверкали из-под опущенных ресниц.
В конце концов он не выдержал и свистящим шепотом спросил у Нофрет:
— Это — действительно…
— Конечно, — ответила его бабушка, повергнув юношу в еще большее смущение.
— Но что он здесь делает?..
— Я убежал, — пояснил царь. Даже Нофрет удивилась, но Леа, похоже, нет. Он говорил вполне здраво, как обычно, и почти не заикался. — Это правда? Прекрасная умерла?
— Да, — ответила Нофрет.
Его лицо напряглось, но он овладел собой.
— Даже ребенком я никогда не убегал. Интересное ощущение.
— Лучше бы ты убежал тогда, — заметила Нофрет, — чем теперь, когда твой народ нуждается в тебе. Твоя мать правила твоим именем. Не пора ли заняться этим самому?
— Но я не могу, — сказал он вполне рассудительно. — Моя возлюбленная умерла.
Нофрет открыла было рот, но снова закрыла.
Заговорила Леа:
— При жизни она была твоей опорой и большей частью твоего разума.
Царь не обиделся и кивнул. Было странно видеть, что глаза его сухи, лицо спокойно, голос ровен, в то время как его переполняет невыносимое горе.
— Видишь, времени совсем не осталось. Бог забирает все, всех подряд. Она была моей половиной, которая могла действовать, править и мыслить.
— От твоего имени, — заметила Нофрет. — Всегда от твоего имени.
— Нет. Для себя. И ради детей. И всегда, всегда для Бога. — Он обхватил себя руками и закачался. — Ох, я горю, я весь горю.
Иоханан побелел. Его бабушка сказала:
— Нет, это не чума. Бог защищает его от болезни и вместо чумы насылает другую лихорадку. Огонь во тьме, да, господин фараон?
— Огонь повсюду. Моя возлюбленная мертва. Мои дети — мой сын, которого никогда не будет — скажут, что это гнев Амона, для всех нас и для меня.
— А разве нет? — спросила Нофрет.
— Нет. Бог испытывает меня. Если у меня не хватит сил и я испугаюсь, то не…
— Придется, — сказала Леа, так похоже на царицу-мать, что Нофрет вздрогнула. Да, они же родственницы, не только телом, но и по духу. — Прекрасная ушла. Ее царь должен стать царем не только по названию.
Он огляделся. Его губы искривились.
Улыбка Леа была словно меч.
— Что знаю я о царях и царстве? Да ничего, властелин Двух Царств. Но я знаю, как вести домашнее хозяйство и что делает женщина, если ее мужчина слаб. Я знаю, что бывает со слабым мужчиной, когда он лишается своей опоры.
— И я знаю. Он шатается. Падает.
— Не думаю, что ты слаб. Одержим Богом сверх всякой меры, это да. Но не слаб. И твой Бог создал тебя быть царем.
— Мой Бог создал меня, чтобы я служил ему. Такова была его причуда — послать меня в Великий Дом.
— Из которого ты бежал, — сказала Леа, — когда твоя беспечная жизнь стала слишком трудной.
Нофрет впервые уловила вспышку характера в вялом царе.
— Она никогда не была беспечной! Драгоценности, золото, богатые пиры, люди кланяются, заискивают, славят меня у моих ног… Вот как простой человек представляет себе царскую жизнь. Но драгоценности не знают любви, золото блестит, но в нем нет тепла.
— А от пиров болит живот, и вино скисает к утру, — Леа резко подняла голову. — А люди, господин фараон? Те, у твоих ног? Ты когда-нибудь знал их имена?
— Я знаю то, что мне должно знать, — надменно сказал он.
— Ничего ты не знаешь! — воскликнула Леа. — Ты когда-нибудь говорил с простым человеком лицом к лицу, как с человеческим существом, а не с просителем, не с обладателем пары рук, предназначенных служить тебе? Думал ли ты когда-нибудь, что чувствуют, думают и видят люди помимо твоей службы? Твой Бог — бог лишь для тебя, для Эхнатона, который один слышит его слона. Как просто, как удобно, когда никто другой не может знать, не ошибаешься ли ты, не лжешь ли.
— Но это правда, — сказал царь.
— Правда, какую хочешь видеть ты, — перебила его Леа. И добавила, заметив, как царь скривил губы: — Ага, значит, и другие говорили тебе то же самое? А не говорили ли они тебе, что натворила такая правда? Люди хотят иметь своих богов. Своих богов, господин фараон. Богов, с которыми можно разговаривать, которых можно благодарить или даже наказывать, если они не приносят счастья. Они не желают иметь бога, который говорит только с одним человеком, тем более что этот человек совсем не заботится о них.
— Я люблю свой народ, — возразил царь. — Все мои молитвы — о нем.
— Ты молишься за свою власть, за свою семью, за свое тело. И думаешь, что этого достаточно и, когда ты получишь свою долю божьих милостей, твой народ удовольствуется остатками. Если эти остатки — болезни и смерть, тогда как ты жив и здоров, неужели ты полагаешь, что кто-то полюбит тебя за подобную милость!
— Я говорю правду, — настаивал царь. — Я говорю то, что приказывает Бог.
— Тогда твой бог глуп. Амон, которого ты так ненавидишь, знает то, чего твой Атон, кажется, не понимает. Бог может зародиться в сердце одного человека, но, чтобы продолжать жить, он должен питаться и поддерживаться верой многих людей. Многих, господин фараон. А не одного мужчины, его покорной жены и их детей, не знающих ничего другого.
— Это мой приказ. Я сделал Атона главным и единственным богом Двух Царств.
— Ни один царь не в силах приказать человеческому сердцу, — отрезала Леа. — Ни один, даже ты. Над душой не властны ни слова, ни указы, ни даже разрушение храмов. Ты отнял богов, которым люди верили, и дал взамен такого, которому веришь только ты. Они не могут почитать твоего бога. По-настоящему. В сердце своем.
Нофрет сидела, затаив дыхание. Она, случалось, бывала дерзкой, но Леа была бесстрашна и беспощадна. Если бы старая женщина стояла перед царем в зале приемов, а он сидел на троне, в короне, окруженный целой армией стражи, она все равно говорила бы ему то же, что и сейчас и слоем доме. Слова, которые не осмеливалась сказать даже Нефертити, даже Тийа.
Царь был, по-видимому, слишком потрясен, чтобы разгневаться. Нофрет заметила, что царевичей не наказывают, как обычных детей. Царей не наказывают вообще, пока не свергнут; вот тогда они дорого платят за свое высокомерие.
— Твой бог — хороший бог, — продолжала Леа, — полезный бог, даже истинный. Но без людей, которые его почитают, он смертен, как и ты. Он живет и умрет с тобой, потому что никто другой не может узнать его.
— Но если бы его все знали, — запротестовал царь, — то были бы ослеплены его светом. Кто бы тогда делал дело?
— Может быть, — сказала Леа, — если бы больше, людей знали твоего бога, его свет был бы мягче, и люди думали бы лучше, даже когда он обращал бы на них свое внимание.
При этих словах лицо царя просветлело. «Он как ребенок, — подумала Нофрет, — как ребенок, не умеющий отличить бессмысленное упрямство от несгибаемой воли». У него достаточно ума. Пусть царь одержим своим богом или просто безумен, но он не простак.
— Ты полагаешь, — обратился он к Леа, — что люди могли бы… — он помрачнел. — Нет, только не мои. Если позволить им выбирать, они снова вернутся к своим старым богам.
— Не все, — возразила Леа. — Некоторые обратятся к нему по собственной воле. Они приведут еще кого-то. Вера будет расти, как все живое, и продолжаться после жизни простого смертного.
— Нет, — сказал царь. — Твой народ, возможно, так поступил бы. Но у моего народа тысячелетние боги. Тот, кто придет заново и один, будет как ребенок против целого войска.
— А когда ты умрешь, что тогда? Твой бог тоже умрет, потому что кроме тебя в него никто не верит.
— Мой Бог существует, верит ли в него весь мир, или один человек. Или лишь одна женщина. Я хотел бы оставить после себя сына, чтобы он был его голосом среди мужчин. Но я оставляю дочерей… — Его голос прервался.
— Меритатон жива, и Мериатон-та-Шерит, — вмешалась Нофрет, — и Анхесенпаатон.
— А мои красавицы? Малютка Сотепенра?
— Они умерли.
Голова царя склонилась, как будто внезапно стала слишком тяжела для его шеи.
— Атон испытывает меня… Ох, как жестоко он испытывает меня.
— Атон убивает твоих детей, — разозлилась Нофрет. — Не можешь ли ты сказать ему, чтобы он перестал? Люди говорят, что это вовсе не Атон и не какой-нибудь другой фальшивым бог, но истинные боги Египта поднялись против захватчика.
— Мой Бог не подчинится никому, — сказал царь.
— Ты можешь хотя бы его спросить? — С Нофрет было довольно. Нелепость ситуации мучила ее подобно боли — царь в одежде жителя пустынь апиру спорил о божественных тонкостях с провидицей Леа, когда во дворце умирали или уже умерли его дети. — Что ж, беги дальше, если хочешь. А я возвращаюсь к своим обязанностям. Царице-матери необходим каждый, кто еще может ходить или стоять. Желаю тебе получить удовольствие от твоего досуга, господин мой царь.
Похоже, Нофрет потрясла его еще больше, чем Леа. Она не поняла, почему. Леа высказала ему неприкрытую правду. Нофрет просто сообщила, что собирается делать. Может быть, поэтому он и был так ошеломлен. Царь Эхнатон не намеревался действовать, если можно было мечтать.
Он поднялся, распрямляясь, словно длинноногая птица. Одежда на нем, наверное, принадлежала Агарону: была достаточно длинная, но раза в два шире, чем надо. Царь не обращал на это внимания, только поддернул рукава, но они снова упали. Царь снова с раздражением подтянул их, закатал, как человек, собирающийся приняться за работу, и забыл о них.
— Ты не смеешь уходить, — сказал он Нофрет. — Я запрещаю тебе.
Девушка повернулась к нему. Сердце ее сильно билось.
— Я служу твоей дочери и царице-матери. Сейчас я нужна им гораздо больше, чем тебе.
— Но у меня здесь нет больше никакой прислуги, — слова прозвучали устало и странно испуганно. Похоже, царь никогда в жизни не бывал один, никуда не отправлялся без, по меньшей мере, дюжины людей, следующих за ним тенью.
А здесь были только Нофрет, Леа, которая, судя по всему, не стала бы прислуживать никому, и молчаливый Иоханан, хлопающий глазами от изумления. Юноша словно лишился дара речи, как только узнал царя. Нофрет никак не ожидала, что он может до немоты благоговеть перед кем-либо, даже перед Эхнатоном. Похоже, она не так хорошо его знала, как казалось.
— Эти люди, — объяснила она, — мои друзья. Я им доверяю. Они позаботятся о тебе, пока ты не пожелаешь вернуться назад во дворец.
Нофрет вовсе не хотела задеть царя, но сделала именно это. Она бросила вызов, а царь все-таки был мужчиной. Он неохотно поднялся.
— Тогда пошли, — сказала она нелюбезно, — и побыстрее. Ночь наступит прежде, чем мы дойдем до ворот.
— А ворота запирают после захода солнца. — Царь выдержал ее взгляд. — Да, кое-что я все-таки замечаю.
Эхнатон был не тем человеком, который мог понравиться Нофрет, но его это не волновало. Восхищения он не заслуживал, и все же следовало признать, что царь — человек интересный. Он часто говорил и делал очень неожиданные вещи.
Нофрет сказала Леа много вежливых слов, и та понимающе улыбнулась. Царь, конечно, промолчал. Цари никогда не благодарят подданных за заботу, так как имеют на нее законное право.
Медленно шагая лицом к закату, Нофрет вела царя обратно в Ахетатон.
13
Эхнатон вернулся во дворец, но вовсе не стал более сильным царем, несмотря на уроки, полученные у Леа. Теперь он проводил в храме только дни, возвращаясь на ночь в собственную постель и часто разделяя ее с госпожой Кийей. Несомненно, он скорбел по Нефертити. Но, как замечала Нофрет, скорбь никогда не мешала мужчинам получать удовольствие, где удастся.
Царицу Нефертити и ее детей бальзамировали как положено, целых семьдесят дней. Бальзамировщики могли сильно сократить процедуру для любого вельможи Двух Царств, но для царицы и царевен не пропустили ни единой мелочи.
Задолго до того, как это время истекло, царицу — мать Тийю тоже уложили рядом с ними в раствор солей.
Она скрывала свою болезнь с искусством женщины, привычной к придворным хитростям, и правила с самого начала чумы до того момента, когда, поднимаясь с трона после долгого приемного дня, покачнулась и упала на руки Анхесенпаатон.
Царевна с трудом удержала неожиданный груз. «Бабушка, — сказала она. — Госпожа». Девочка дотронулась до щеки царицы-матери и в испуге отдернула руку.
Нофрет не нужно было прикасаться к Тийе: она и так знала, что та вся горит. Большинство умиравших от этой болезни сгорали от лихорадки медленно, постепенно обращаясь в пепел. Некоторые вспыхивали, как факелы, и после дня слабости и поднимающегося жара наступала смерть.
У Тийи все шло еще быстрее. Нофрет закричала, призывая стражу, слуг, всех, кто мог прийти. Прибежали двое бледных, перепуганных стражников и единственная служанка, едва оправившаяся от болезни, подхватили царицу-мать и отнесли в постель.
Царевна не выпускала ее руки. Тийа была в сознании: как только ее уложили и служанка сняла с нее корону, платье и украшения и обтерла тело прохладной водой, она хрипловато сказала своим сильным голосом:
— Слушайте меня. И не перебивайте.
Царевна открыла было рот, чтобы сделать именно это, но Тийа опередила ее:
— Позаботься об отце. Он не сможет править один и не в силах заставить себя делать все, что положено. Это ты должна сделать, маленький Цветок Лотоса, вместе с твоей сестрой, если она способна на что-либо большее, чем ваш отец. Ищи мудрых советников. Господин Аи, если он жив, верен и осмотрителен и будет хорошо служить тебе. Большинство выскочек и подхалимов твоего отца ни на что не годны, если не сказать хуже. Избегай их, как только можешь. Жрецы старых богов опасны. Они не особенно боятся твоего отца, хотя я и учила их уважать божественность его власти. Ты должна продолжать учить их. Не позволим им забывать об этом. Не позволяй им становиться слишком дерзкими. Цари и прежде умирали по неизвестным причинам — и еще ни одного царя они не ненавидели так горячо, как этого.
Царевна не раз порывалась заговорить, но Тийа не слушала ее. Времени было мало, жар усиливался, и голос ее слабел по мере того, как она повторяла уроки, которые давала этому ребенку со времени начала чумы.
Анхесенпаатон принимала их так, как принимала бы удары. Сначала она плакала. Но, по мере того, как Тийа продолжала, слезы высохли. Лицо ее было белым, тело неподвижно. Рука, вцепившаяся в руку царицы-матери, была, казалось, готова сломать ее хрупкие косточки, пока с болезненным вздохом она не заставила пальцы разжаться.
Как и надеялась Нофрет, царевна не стала умолять Тийю не умирать. Смерти, следовавшие одна за другой, убедили их в бесполезности подобных безумных просьб.
Тийа удерживала свою душу в теле лишь усилием воли. За ее словами слышалось дыхание смерти, последние слова уже едва прорвались сквозь него.
— Позаботьтесь о моем малыше, о моем Тутанхатоне. Пусть он не забудет меня.
Царевна склонила голову. Тийа слабо улыбнулась, и жизнь отлетела от нее. Нофрет увидела, как она уходит, словно тень в пустой комнате.
Царевна задохнулась, жадно хватая воздух. Если что-то и пролетело над ней, то было слишком нематериальным, чтобы быть пойманным руками смертного.
— Бабушка, — прошептала она, — Тийа!
Но власть имени недостаточна, чтобы вернуть умершего. Анхесенпаатон тяжело дышала. Нофрет подумала, что теперь она выплачет свое горе.
Однако царевна удивила ее. Она вскочила на ноги. Кроме них двоих в комнате никого не было. Все умерли или убежали. Девочка разгладила покрывало на неподвижном теле, поцеловала лоб, который еще, должно быть, сохранял лихорадочную теплоту, и выпрямилась. Она двигалась так, словно каждая ее мышца и каждая кость болели.
— Позови стражника, — приказала она, — или слугу. Нужно присмотреть за ней. Должен же здесь быть кто-то живой.
Живой нашелся: стражник, накачавшийся пивом до такой степени, что уже не мог стоять прямо, протрезвел на удивление быстро после того, как полкувшина пива выплеснули ему в лицо. Пока он охал и отплевывался, Нофрет говорила, словно награждая его оплеухами:
— Вставай и пошли. Царица Тийа умерла. Нужен человек, чтобы охранять ее тело.
Стражник был слишком ошарашен, чтобы удрать или хотя бы отказаться повиноваться. Прислоненный к стене, подпертый копьем, пропахший пивом, он был, по крайней мере, дышащим телом, способным присмотреть за телом, которое уже никогда дышать не сможет.
— Когда настанет утро, — произнесла царевна спокойным, холодным голосом, — во дворце будет порядок. Никаких пьяных стражников. Никаких слуг, несущихся неизвестно куда.
Нофрет ничего не сказала. В какой-то момент, во время долгих испытаний чумой, ребенок стал женщиной. Женщиной, которая будет царицей.
Она вышла, и Нофрет тенью последовала за ней, через дворец цариц к покоям, где заперлась Меритатон, — по словам посланца, чтобы уберечь дочку от чумы. Как полагала Нофрет, та вполне уже могла умереть, и об этом никто не сообщил, потому что никого в живых не осталось.
Покои Меритатон по сравнению с пустотой дворца выглядели странно. Страж у дверей был трезв, бдителен и полон достоинства. Прислуга вела себя как положено: служанки были готовы ухаживать за малышкой и за самой царицей, а почтенный дворецкий проводил гостей к хозяйке.
Царевна только что проснулась. Ее дочка лежала в постели, уютно устроенная среди подушек. Меритатон сидела в кресле, одетая в длинное прозрачное платье. Тело у нее было уже не таким детским, как у сестры, но лицо похоже — такое же нежное, только с более мягкими, расплывчатыми чертами.
Как и отец, Меритатон умела пропускать мимо своего внимания все неудобное и неприятное. Казалось, царевну не волнует даже чума, бушующая за надежными стенами ее жилища. Она встретила сестру тепло, с точки зрения египетских вельмож, и до безразличия холодно для чужеземного глаза Нофрет.
Анхесенпаатон тоже изощрялась в вежливости, рассыпая любезности так долго, что Нофрет чуть не взвыла от нетерпения. Она сидела на стуле наискосок от сестры, потягивала финиковое вино, покусывала печенье, слушала несвязную болтовню Меритатон и сама бормотала какую-то несуразицу.
Нофрет уже давно лишилась терпения, а Меритатон только вошла во вкус беседы, когда Анхесенпаатон сказала:
— Бабушка умерла.
Меритатон побледнела, но сохранила спокойствие.
— Я скорблю по ней.
Анхесенпаатон склонила голову.
— И все мы. Весь мир болен от горя. Так много мертвых. А сколько еще умрет!
Меритатон побледнела как полотно.
— Я не умру. И моя Меритатон — тоже.
— Дай Бог, — ответила Анхесенпаатон. — Отец жив и здоров. Все остальные… — ее голос прервался, но она овладела собой: — Все остальные умерли.
— А госпожа Кийа?
Вопрос был вполне деловой и более вдумчивый, чем могла ожидать Нофрет. Анхесенпаатон, казалось, не удивилась.
— Она согревает отца по ночам.
Не Меритатон… Но сестры не стали упоминать об этом. Старшая сказала:
— Значит, мы — всё, что осталось. Отец бодр?
— Не больше, чем всегда. Нам надо что-то делать. Больше никто не может и не желает.
Меритатон закрыла глаза.
— Я устала. Мне нужно поспать.
— Мы все устали, — отрезала Анхесенпаатон, но ее вспышка быстро угасла. Она попробовала еще раз, помягче, с легкой дрожью в голосе: — Ты мне поможешь? Я намного младше тебя и так мало знаю. И я не царица. Я никогда не собиралась становиться ею. Всегда были ты и Мекетатон. Ты поможешь мне сообразить, что делать?
— Я не в состоянии соображать, — ответила Меритатон и зевнула. — Цветок Лотоса, я хочу спать. Ты не могла бы прийти завтра? Мертвые не оживут, и болезнь останется такой же ужасной.
Нофрет подумала, что и от Меритатон не будет никакого толку. Казалось, Анхесенпаатон будет настаивать, но она была не глупа и хорошо знала свою сестру. Младшая царевна ушла почти неприлично быстро — наверное, чтобы не поддаться соблазну придушить очаровательную дурочку.
— Меритатон, — сказала она Нофрет, когда дверь и стражник остались позади, — очень повезло, что она унаследовала красоту нашей матери и ум отца.
— А ты — от бабушки Тийи, — заметила Нофрет.
Царевна покосилась на нее. Это имя причиняло ей боль. Но Нофрет не собиралась брать свои слова обратно.
— Я больше похожа на нашу мать, — сказала ее госпожа.
— Но думаешь ты, как Тийа.
— Как она меня учила.
— Она учила тебя, потому что знала: ты можешь научиться. Все остальные были или слишком малы, или почти без мозгов.
Царевна передернула плечами, быстро, почти сердито.
— Я есть то, что есть. Моя сестра — царица, не хуже любой другой. Если она не может или не хочет делать то, что необходимо, я сделаю вместо нее. Для этого я и существую — делать то, что не могут другие.
— Ты еще мала для таких мыслей, — заметила Нофрет.
— Я древняя, как Хеопс, — возразила царевна и остановилась возле угасающего светильника. Девочка потянулась, сняла его с подвески и начала сильно раскачивать, чтобы он разгорелся снова. Это выглядело по-детски, но так сделала бы и взрослая женщина, если бы женщина могла быть воином.
Яркий колеблющийся свет заставил тени качаться и прыгать. У некоторых из них, возможно, были глаза: у духов тьмы или теней умерших, собравшихся поглядеть на этих двоих, блуждающих в ночи. Одной из них, как полагала Нофрет, была Тийа.
По ее спине пробежал холодок. Нет, это не Тийа. Если бы Тийа решила кого-нибудь преследовать, то, скорее всего, своего сына.
Царевна ускорила шаг, она почти бежала. Нофрет тоже пришлось поторопиться. Сначала она подумала, что царевна собирается пойти и вправить мозги царю, но та устремилась в глубину дворца цариц, вместо того, чтобы выйти из него. Они шли по высоким и просторным комнатам, которых Нофрет никогда прежде не видела. В окна лился свет луны. Никто не позаботился заслонить их от духов ночи.
Здесь, как и внизу, были живые люди. У Нофрет закружилась голова. Лица, одежда, мебель, ковры и покрывала вернули ее назад — в жизнь, о которой она стремилась забыть. «Это Египет, — уговаривала она себя. — Не Митанни».
И все же здесь, в этих комнатах, было царство Митанни. Горбоносые служанки, их волнистые косы под накидками, евнухи, бормочущие по углам, слепой арфист, напевающий песню, которую Нофрет не слышала ни разу с тех пор, как попала в Египет. Все здесь были чужестранцами. Их манеры и обхождение тоже были чужеземными.
Госпожа Кийа не спала и не согревала постели царя. Арфист пел, чтобы успокоить ее, но она едва ли его слушала. Женщина лежала на кушетке, среди груды подушек, ее огромные темные глаза были полны внимания, но не к песне.
При появлении царевны она поднялась и низко поклонилась — грациозно, несмотря на уже заметную беременность. Царевна присела на край кушетки и махнула рукой, слишком величественно, по мнению Нофрет.
— Иди ложись обратно. Не стесняйся.
— В такие дни нам не до стеснительности, госпожа, — горько усмехнулась Кийа.
— Не все так думают, — заметила царевна. Она уже израсходовала всю свою любезность и терпение на бесполезный разговор с Меритатон. — Госпожа Тадукипа, которую любит царь, выслушай меня. Теперь в Двух Царствах нет правящей царицы. Прекрасная мертва. Царица-мать Тийа тоже умерла.
— А царица Меритатон еще слишком молода и ничего не умеет, — Кийа прямо смотрела в глаза царевны, без привычной робости, которую Нофрет всегда прежде замечала в ней. — И ты пришла ко мне. Я не хочу быть царицей, ваше высочество. Я никогда не желала так много.
— И хорошо, что не желала, — сказала царевна. Прекрасно, что ты это знаешь. Ни я, ни царица-мать никогда не считали тебя глупой, госпожа. Не твоими ли стараниями царь так погружен в мечты о своем Боге?
— Зачем бы мне это было нужно?
— Если уж ты спросила… — сказала царевна, — это делает его послушным и позволяет каждому, у кого есть разум и желание, управлять им.
— Разве я так поступала? — мягко спросила Кийа.
— Нет, но моя мать умерла совсем недавно. Может быть, ты просто ждешь своего шанса.
— Возможно, — согласилась Кийа. — Я хотела бы дождаться, когда родится мой ребенок. Если будет сын, я стану матерью наследника.
— Если родится дочь, ты не станешь хуже, чем была. — Царевна вздохнула. Насколько могла видеть Нофрет, она ничуть не успокоилась. — Моя мать никогда тебя не любила, но всегда говорила мне, что ты гораздо умнее, чем все полагают. Бабушка считала так же. Правда, ты была им не нужна: они были достаточно сильны сами по себе.
Кийа внимательно слушала.
— А я — нет, — продолжала царевна. — Мне нужен союзник. Ты предана моему отцу. Я не прошу твоей преданности для себя или для Меритатон, но ради него прошу тебя помочь мне решить, что же делать. Он не может править самостоятельно. И Меритатон не помощница — ни ему, ни мне.
— Значит, осталась только я, — заметила Кийа, не выказывая обиды; Нофрет на ее месте так не смогла бы. Несомненно, она была уязвлена египетской надменностью, так долго принимая на себя ее удары. — Спасибо, что ты пришла ко мне. На это нужно было решиться.
— Нет, просто дойти до отчаяния, — сказала царевна. — Ты чужестранка, но ты принадлежишь царю. Твой сын может стать царем после него. Это очень хорошо, но ребенок еще не родился и может оказаться девочкой. Что тогда?
— Попытаюсь еще раз. И еще, пока Бог не дарует мне сына.
— Великолепно! Но сейчас это нам не поможет. Кто-то должен управлять царством, пока отец беседует со своим Богом.
— Неужели нет никого подходящего? Твой отец правил с юности до полной зрелости, а его отец в это время властвовал в Фивах. Двенадцать лет в Двух Царствах было два царя, старый и молодой. Разве нельзя снова так сделать?
— Но у старого царя был сын. И не один. У него… — Анхесенпаатон остановилась. — Ох, глупая я! Сменхкара.
Кийа кивнула.
— Ты пойми, — сказала царевна. — Если Сменхкара будет коронован как властелин Двух Царств, вместе с моим отцом, тогда твой сын, если родится, может никогда не получить трона.
— Мой сын, если родится, еще очень долго будет маленьким. А царевич Сменхкара уже мужчина.
— Ему придется, — размышляла царевна, — Жениться на царевне, которая имеет царские права, чтобы самому стать царем.
— Да, — подтвердила Кийа.
Анхесенпаатон сжала руки на груди.
— В живых осталось только две царевны. Одна из них уже царица.
— Да, — повторила Кийа.
Царевна глубоко вздохнула, и ее охватила дрожь. Она была бледна, казалась маленькой и замерзшей.
— Я… Еще ребенок. Но уже скоро стану женщиной.
— Хорошо бы тебе удалось подождать, пока ты станешь постарше, совсем настоящей женщиной, — сказала Кийа неожиданно тепло. — Но царство беспощадно. Ты нужна ему сейчас.
— Я знаю. Как ты думаешь… Нам удастся убедить отца согласиться на совместное правление?
— Думаю, да.
— Это означает, — продолжала царевна, — что мой сын будет царствовать вместо твоего. Ты уверена, что хочешь этого?
Кийа взглянула ей прямо в лицо.
— Царевна, — сказала она с неожиданной яростью, — ведь ты же никогда не пришла бы сюда, не доверяя мне хоть немного. Или ты собираешься подлить яду в мою чашу после того, как получишь от меня все, что я знаю и могу посоветовать?
Анхесенпаатон замерла, уязвленная, но уроки Тийи не прошли для нее даром. Она заговорила негромко, тщательно подбирая слова:
— Госпожа Тадукипа, я верю, что ты высоко ценишь моего отца. Может быть, даже любишь его. Ради него ты сделаешь все, что необходимо. Это дело твоей чести.
— У женщин нет чести, — ответила Кийа. — У женщин есть их мужчины и их дети. Они пойдут на все, чтобы защитить их.
— Я только на это и надеюсь. Но этого же и боюсь, — вздохнула царевна.
— Даю слово, что не сделаю ничего, чтобы повредить царю — даже если этим царем будет Сменхкара, — пообещала Кийа.
Анхесенпаатон молчала, сощурившись, напряженно думая. Кийа сидела спокойно и ждала. Наконец царевна сказала:
— Я тебе верю. Думаю, что твоя гордость заставит тебя поступать честно. Я была бы рада заключить с тобой союз.
Нофрет подумала, что египетская царевна не способна ближе подойти к тому, что называется дружбой. Кийа, царевна из Митанни, казалось, была вполне удовлетворена такой сдержанностью в выражении чувств. Она наклонила голову.
— Я оправдаю твои надежды.
— И я, — ответила Анхесенпаатон.
14
Союз Анхесенпаатон и Кийи был хорошо продуман, но не принимал во внимание царя. Когда царевна встала, собираясь выйти, скрип двери заставил ее оглянуться.
Царь выглядел вполне проснувшимся, только глаза чуть-чуть туманились. Он приветствовал дочь без всякого удивления, а любовнице прошептал несколько нежных слов. Нофрет очень хотелось потихоньку удалиться и не присутствовать при семейном разговоре, но она не могла этого сделать, пока задерживалась ее хозяйка.
Царь уселся на кушетку — было видно, что он нередко сиживал здесь и чувствовал себя вполне удобно, — и посмотрел сначала на Кийю, а потом на дочь.
— Как я понимаю, вы тут без меня распоряжаетесь царством?
Кийа побледнела. Анхесенпаатон сохранила самообладание, примирительно сказав:
— Ты же прекрасно знаешь, отец, что Бог не оставляет тебе времени заниматься чем-либо другим.
— Да, мне говорили это, — мягко ответил он, — а чем собираетесь заняться вы, мои дорогие?
Анхесенпаатон взглянула на Кийю. Та сжала губы. Царевна заговорила:
— Мы обсуждали твое совместное правление, отец, с царевичем Сменхкарой. Он уже достаточно взрослый и справится, пока ты не обзаведешься собственным сыном.
— Может быть, этого не случится никогда, — заметил царь. — И ты собираешься предложить ему себя в жены, поскольку ни один мужчина сам по себе не имеет царского права?
— Никого другого нет.
— Есть. Меритатон.
— Но…
Он взял ее за руку.
— Меритатон самая старшая. Царское право в первую очередь принадлежит ей.
— Но она ведь уже…
В глазах царя опять мелькнуло безумство — безумство порока и мечтателя.
— Бог говорит мне, что она уже дала мне все, что могла. Сменхкара молод, красив, владеет искусством заставлять женщин улыбаться. Я хотел бы, чтобы моя девочка опять улыбалась. Она такая грустная.
— Ты откажешься от нее? — Голос царевны звенел от напряжения. — Отец, невозможно поверить в такую щедрость.
— Это требование Бога, а вовсе не щедрость. Мать хотела, чтобы царицей была ты и правила, как она, — так же властно, а когда подрастешь, так же мудро. Ты прекрасно сможешь находиться на троне рядом со мной.
Нофрет не желала слышать этих слов. Нет, она не слышала их. Ее госпожа в безопасности. Она выйдет замуж за красивого, но не особенно умного царевича, что позволит ей править так, как она сочтет нужным. Меритатон останется на своем месте, слабая царица при слабом царе. Смешно, просто глупо передавать ее Сменхкаре, словно поношенную сандалию. Вдвоем они способны править не больше, чем два котенка.
Но царь ничего этого не видел. Бог, как всегда, ослепил Эхнатона блеском его собственного эгоизма.
Царевна онемела. Кийа могла бы что-нибудь сказать, но предпочла не делать этого. Так же, как и царевна, она была бессильна вбить здравый смысл в голову царя. Но в таком деле никто никогда не добивался успеха, даже Нефертити и Тийа. Царь есть царь. Его женщины могли править, пока он был занят своим Богом, но когда он говорил, им оставалось только слушать.
Что-то здесь было неправильно. Египтяне этого, по-видимому, не замечали. Но для Нофрет, чужестранки, это было очевидно. Однако она служанка, рабыня. Ей не полагалось говорить в присутствии царя, кроме как по его велению.
Тем не менее, она открыла рот, чтобы высказаться. Но ее госпожа заговорила раньше:
— Если Бог желает, мы все должны подчиниться.
— Ты ведь видишь, что твой отец никчемный бездельник, и все же готова пасть ниц, стоит ему поднять палец?
Нофрет была вне себя. Она сдерживалась, пока они не оказались в комнате царевен, где ее госпожа теперь жила одна. Здесь стояла лишь одна кровать, и шелест эха напоминал об умерших сестренках. Чтобы разогнать мрак, Нофрет зажгла возле постели все лампы, которые удалось заправить маслом.
Царевна стояла неподвижно, как статуя, пока Нофрет помогала ей раздеться на ночь. Похоже, она вообще не замечала свою служанку.
— Так хочет Бог, — бормотала она едва слышно, не громче, чем духи по углам.
— Так хочет твой отец! — произнесла Нофрет с откровенным отвращением. — Мы уже спорили об этом. Разве ты не видишь, что творится? Царь совсем спятил. Он убил Мекетатон, жаждая получить сына. У Меритатон и в лучшие времена характер был слабым, а теперь и вовсе никакого не осталось. Ты же всегда была сильной. Почему ты позволяешь ему сделать тебя своей рабыней?
— Разве у меня есть выбор? — Царевна слегка пошатнулась от утомления, но оттолкнула поддерживающие руки Нофрет. — Должна же я выйти замуж за кого-нибудь. Линия не может прерываться.
— Ты могла бы настоять, чтобы он отдал тебя Сменхкаре.
— Значит, твоя хеттская совесть против отца, но брат отца ее устраивает? А ведь они сыновья одной! матери! Не все ли равно, кто из них назовет меня женой?
— Нет! — закричала Нофрет. — Он и тебя убьет. Он этого добивается! Увидеть вас всех мертвыми, а себя в одиночестве, царем над ничем.
— Прекрати, — сказала царевна, негромко, устало, но с непреклонной твердостью. — Не тебе судить повелителя Двух Царств. У тебя нет ни власти, ни права указывать мне, что делать. Я бы, конечно, предпочла Сменхкару. Но отец — царь, Бог и слуга Бога, и требует, чтобы я сделала это. Мне остается только повиноваться.
— Ты могла бы сбежать, — заметила Нофрет.
— Нет, — сказала царевна, — это выход для трусов.
— Но так же нельзя, — настаивала Нофрет. Она не знала, почему это ее настолько волнует. Внутри все сжималось, в ушах звенело, ужас пробирал до костей. Она была слишком чужестранкой. Больше невозможно жить здесь, среди этих людей.
Нофрет уже убегала однажды и нашла благословенное пристанище среди апиру. Она снова могла бы найти его там.
Но что же тогда будет с ее госпожой? Ведь царевна останется совсем одинокой.
У нее есть Кийа, есть отец, хотя и безумный. Анхесенпаатон найдет себе другую служанку, много других слуг — ей придется это сделать, став царицей, так подобает ее положению. Ей не нужна Нофрет.
Она расправляла покрывала, обрызгивала их розовой водой из кувшина, — поправляла изголовье, служившее египтянам подушкой. Это была простая вещь, вырезанная из кипарисового дерева, на золоченой подставке, прохладная и гладкая на ощупь.
Ее госпожа улеглась со вздохом, вместившим вселенскую усталость. Царевна была слишком маленькой, слишком худенькой, слишком хрупкой, чтобы нести груз, который на нее возлагали. Она всего лишь дитя, даже еще не женщина.
Еще нет, но скоро будет. Ее груди развивались, внизу живота появился легкий темный пушок. Ее отец видел это, и его Бог тоже, и потребовал ее для себя.
Нофрет легла на циновку в ногах кровати и поклялась себе, что уйдет. Но не сейчас. Когда у ее госпожи появятся другие слуги и будет кому позаботиться о ней.
Анхесенпаатон очнулась от тяжелого сна и обнаружила пятно крови, расплывающееся на бедрах. Ее удивление перешло в смех и очень скоро — в слезы.
— Он знал, — сказала она. — Бог знал.
Нофрет помогла ей вымыться и привести себя в порядок. Царевна срезала свой локон, выбрала платье, парик одной из старших сестер, надела все это, словно броню, и вышла, чтобы править так, как учила Тийа.
Она собрала всех слуг, какие еще оставались в живых, и приставила к делу — приводить дворец в прежний порядок. Кое-кого царевна послала в город собрать тех, кто разбежался, и привести назад, пообещав никого не наказывать. «Работы так много, — сказала она, — что уже это будет достаточным наказанием».
Закончив, она приказала позвать к себе начальника стражи. Явился не кто иной, как военачальник Хоремхеб. Царевна, сидя на кресле, прежде принадлежавшем Тийе, окруженная множеством стражи и прислуги, приняла его без видимого трепета.
— Господин военачальник, — сказала она, — мы благодарны вам за то, что вы помогли нам в это ужасное время. Очень благородно с вашей стороны принять на себя обязанности, столь мало достойные вашего положения и ранга.
Хоремхеб серьезно смотрел на царевну, хотя и мог бы улыбнуться, поскольку она была всего лишь ребенком, пусть в одежде царицы и на ее месте. Но его лицо и слова выражали явное уважение.
— Кто-то должен был делать это, госпожа, а я оказался здесь и знал, что нужно. Прежде, чем командовать армией, я командовал стражей.
— Ты правильно поступил, — произнесла она спокойно. — Я позвала тебя, чтобы узнать, не мог бы ты помочь еще. По мере сил мы должны восстановить все, что можно. Пусть болезнь еще не отступила, но царство должно жить.
Хоремхеб поклонился.
— Здравое рассуждение, царевна. Не хуже, осмелюсь сказать, чем у твоей бабушки.
— Моя бабушка первой сказала это, — сухо заметила царевна. — Царство устояло благодаря ее усилиям. Я здесь только для того, чтобы закончить начатое ею.
— Да, она закрепила руль и повернулась кормой к волнам. Я рад видеть, что ты снова правишь, и в надежную гавань.
Царевна вздернула подбородок. Она была достаточно рассержена, чтобы показать это, то есть очень рассержена.
— Я рада, что ты одобряешь мои действия. Может быть, ты знаешь способ вернуть стражу к ее обязанностям и набрать новых стражников вместо погибших от чумы?
Хоремхеб был неуязвим для насмешек и снова поклонился.
— Как угодно, госпожа. Может быть, мне будет позволено привести из Дельты своих людей? Они хорошо обучены и будут служить лучше, чем новобранцы.
— Но разве Дельта тоже не опустошена чумой? — заметила Анхесенпаатон с милой рассудительностью. — Там нужен каждый, кто может держаться на ногах. Лучше пошли в Фивы, там чума свирепствовала не так, как здесь, и много слабее, чем в Дельте.
— Как тебе будет угодно, госпожа, — ответил Хоремхеб, с неудовольствием обнаружив, что царевна-дитя достаточно проницательна, чтобы видеть его насквозь, но никак не показал этого. Он больше не настаивал на том, чтобы привести своих верных людей в город, изнемогавший от отрешенного царя, но весь его вид говорил о том, что для этого еще настанет подходящее время.
— Этот человек опасен, — сказала Нофрет, как только появилась такая возможность.
Ее госпожа, отдыхая в маленькой комнате позади зала приемов и потягивая ячменную воду, закрыла глаза и вздохнула.
— Почему? Ты думаешь, он хотел бы стать царем? Это невозможно. Он простолюдин.
— Он может захватить царственную невесту, отделаться от царя и под угрозой оружия потребовать трона.
— В Великой Стране Хатти мог бы, — возразила царевна, — но здесь — нет.
— Вот именно поэтому и сможет. Никто не поверит в такое, пока дело не будет сделано. Большая часть Египта даже встанет на его сторону.
— Не встанет.
— Встанет, — сказала Нофрет. — Они хотят получить обратно своих богов.
— Сплетни прислуги, — отмахнулась царевна, отставила недопитую чашу с ячменной водой и снова растянулась на кушетке, которая прежде принадлежала Тийе. — Наверное, мне надо перебраться во дворец цариц прямо сегодня, а не ждать, пока я выйду замуж. Так будет проще, как ты думаешь? Мы запрем эти комнаты, и слугам не придется тратить время на их уборку.
— Какие покои ты займешь? — Нофрет резко переменила разговор — госпожа утомила ее. Не было сил спорить.
— Я хотела, — ответила царевна, — перебраться в комнаты матери. — Дыхание ее чуть прервалось, но она продолжала с нарочитым спокойствием: — Другие уже заняты или слишком малы, не соответствуют моему положению. Я не могу просить ни Меритатон, ни госпожу Кийю освободить свои комнаты. А покои матери пустуют. Я прикажу поставить новую мебель. И стены надо бы перекрасить. Мне никогда не нравились храмовые сцены. Что ты скажешь насчет охоты на птиц у реки или коней и колесниц?
— Слишком по-хеттски — вся эта охота и скачки.
Царевна улыбнулась слабо, но искренне.
— Ладно, тогда не стоит. Может быть, просто птицы или танцы?
— Что тебе больше нравится. Сказать царскому живописцу, что ты хочешь его видеть?
— Наверное, — сонно ответила царевна, — завтра. Надо подумать. И приготовить комнаты. — Она зевнула. — Ох, я могла бы спать, пока Осирис вновь не оживет.
— Поспи часок. Вроде бы у тебя нет срочных дел.
— Есть. Мне надо идти — прибыли послы из Лагаша.
— Их милости могут и подождать, — сказала Нофрет решительно. — Я прослежу, чтобы их угостили и ублаготворили вином. К тому времени, как ты проснешься, они будут готовы дать тебе все, что ты пожелаешь.
Царевна не ответила, только вздохнула, даже не улыбнувшись хитроумию Нофрет, и заснула.
Нофрет сделала все, как обещала — приказала, чтобы послов хорошенько угостили в малом пиршественном зале, и велела дворецкому перенести все дальнейшие аудиенции на завтра. Только потом девушка сообразила, что распоряжается солидными и влиятельными людьми, много старше ее самой: даже не заметив, она стала такой, кем мечтала стать в свой первый день в Ахетатоне — главной служанкой царицы.
И пусть царица была еще не царица, а всего лишь очень усталая, совсем юная царевна, чей отец не годился ни на что, кроме как молиться в храме и заводить дочек. Но она делала то, что нужно, на что никто другой не был способен. Это Нофрет тоже понимала.
Многие слуги царицы Нефертити умерли, но некоторые были живы и все еще находились во дворце. Поскольку им не давали иных приказаний, они отсиживались в ее покоях, почти ничем не занятые. Нофрет расшевелила их именем своей госпожи.
Главный из них, евнух средних лет и внушительного телосложения, осмелился смотреть на нее презрительно. Она уперла руки в бока и показала ему все зубы, что напоминало улыбку очень отдаленно.
— Ах, вот и Сетнеф. А я думала, где же ты прячешься? Моей госпоже нужны помощники, а я такая молодая и неопытная. Если бы ты мог посоветовать…
Ветеран-придворный, конечно, не собирался поддаваться на такую грубую лесть, но все же немного смягчился. Этого было достаточно, чтобы заняться комнатами царицы, распорядиться сменить там мебель и послать за царским живописцем. Он ясно дал понять, что обойдется без Нофрет.
Она ушла вполне довольная, обнаружив, что раздавать приказания довольно приятно. Но еще приятней убеждать людей, что они как бы выигрывают сражение, выполняя ее поручения. Вначале это требовало больше времени и усилий, но потом дело пошло проще.
Нофрет подумала, что царям не лишне обучиться такому искусству, правда, оно не особенно им необходимо. Цари приказывают, а люди подчиняются. Раб должен быть более предусмотрительным.
15
Царевич Сменхкара плыл вниз по реке из Фив на позолоченной лодке так торжественно, как будто уже был царем и Богом. Он прибыл под предлогом того, чтобы забрать тело матери и отвезти в ее гробницу. Но к тому времени всем уже было известно, что во время своего пребывания в Ахетатоне он женится на царевне Меритатон и будет коронован царем Двух Царств вместе со старшим царем.
Невеста ожидала его на берегу реки. Когда ее отец и сестра пришли сказать, как они решили ее судьбу, Меритатон склонила голову и негромко сказала:
— Воля Бога будет исполнена.
Но Нофрет заметила, как блеснули ее глаза под накрашенными веками. Царевна вовсе не огорчилась, что ей придется покинуть мужа-отца ради дяди.
Сменхкара был по-прежнему красив и смотрел так же гордо, сидя в одеянии с безупречными складками на корме своего судна, окруженный тщательно подобранными прислужниками, почти такими же красивыми, как и он, но все-таки чуть меньше. Он носил нубийский парик, которому, как и Нефертити, всегда отдавал предпочтение. Его украшения были из золота, лазурита и синайской бирюзы, ожерелье изображало покровительницу Юга, богиню Нехбет — хищную птицу, распростершую крылья от одного его плеча до другого. Можно было только позавидовать ширине этих плеч, узким бедрам и талии, безупречно стройным ногам. Царевич сидел так, чтобы каждый увидел его во всей красе.
Нофрет не заметила, как и когда она так устала от окружающего мира. Возможно, во время чумы, когда столько людей умерло, а она даже не заболела. Незаметно развеялась и влюбленность в прекрасного царевича. Он был уж слишком безукоризнен с виду, слишком не тронут горем, а ведь умерла его мать. Сменхкара видел только корону, ожидавшую его, и, может быть, краем глаза — невесту, дававшую ему право на эту корону.
Меритатон, по-видимому, не отличалась такой проницательностью, как Нофрет. Она смотрела на царевича, приближающегося по воде, и жмурилась, словно у нее кружилась голова. Солнце светило ярко, и позолота корабля ослепительно сияла, но ее взгляд был неотрывно устремлен на Сменхкару.
Нофрет подумала, что он покорил ее, как и добрую половину ее придворных дам. Царевич, несомненно, очень мил, как и сама Меритатон.
Анхесенпаатон стояла позади сестры. После того, как выбор был сделан, она стала очень спокойной — такой спокойной, что Нофрет перестала во что-либо вмешиваться. Если красота ее дяди и волновала царевну, она никак этого не показывала, щурилась от яркого солнечного света, только и всего.
Ее отец выехал вперед на своей колеснице, облицованной сплавом золота и серебра, словно воплощение великолепия, соперничающее с тем, что приближалось по воде. Голову венчали две короны, а украшения были из чистого золота.
У царя не хватало ума на бессчетное множество государственных дел, но зрелища он любил. Эхнатон сошел с колесницы в конце набережной, передал лошадей подбежавшему конюху в роскошном одеянии и ступил на причал — там как раз остановилось судно. Придворная вежливость больше не позволяла царевичу Сменхкаре восседать в своей лодке, позволяя толпам народа восхищаться собой. Ему пришлось встать, выйти и низко поклониться неподвижно стоящему человеку, который после похорон царицы и царицы-матери был его единственным властелином.
— Рад приветствовать тебя в горе и в радости, брат, — сказал царь, слегка запинаясь.
— Мой царственный брат, — проговорил Сменхкара. Голос у него был ниже, чем у царя, чистый, без всяких признаков заикания. — Все ли в порядке к Ахетатоне?
— Теперь все будет в порядке, — ответил царь, обнимая брата.
Меритатон ожидала своей очереди, как подобает женщине, — терпеливо, опустив глаза. Когда дядя взял ее за руки, она подняла взгляд. Царевна была серьезна, но глаза ее сияли.
Сменхкара был намного выше ее. Он улыбался, глядя сверху вниз.
— Котеночек! Какая ты стала хорошенькая!
Меритатон расцвела от этой нехитрой похвалы. Он поднял ее в ожидавшую его колесницу и встал позади так, что ей пришлось прижаться к нему, когда он взял вожжи. Никто не возражал, и царевна меньше всего. Она бросила лишь один взгляд, смысл которого было нетрудно разгадать, и лошади тронулись.
Все двинулись следом, образовав процессию. Сменхкара возглавлял ее, улыбаясь и обнимая царевну. Царь был отчасти смущен, отчасти доволен. Он с изяществом примирился с дерзостью брата, а это была, несомненно, дерзость.
Все, кто уцелел в потрепанном чумой Ахетатоне, высыпали на улицы, чтобы лицезреть великих, проезжающих мимо. Приветствия звучали слабо, дорога процессий была почти пуста; иногда тишину нарушали только стук копыт, скрип колес и фырканье лошадей. Однако Анхесенпаатон, с решительностью, достойной Тийи, приняла меры к тому, чтобы избавить царя от унизительной необходимости ехать во дворец по пустой дороге: во главе и в хвосте процессии шли музыканты, били в барабаны, трубили в рога, звенели систрами и цимбалами. Они производили бодрящий шум, начиная от самой реки, и радовали всех видом своих сверкающих золотом нарядов.
В эту ночь, впервые за долгое время, никто не умер от чумы. Когда царю сообщили об этом, он сказал:
— Бог благословляет нас.
В присутствии Сменхкары он все-таки стал посвящать свои дни царским обязанностям, не перекладывая их на женщин. Возможно, ему стало стыдно перед братом. А может быть, он все-таки огляделся и увидел, что государству нужен царь.
Рядом со своим высоким и красивым братом он казался еще более хилым и невзрачным, чем обычно, но выражение утомленной рассеянности исчезло с его лица. Болезнь духа, вынуждавшая царя к бездействию, казалось, ослабела, по крайней мере, до такой степени, что он приобрел деятельный вид и даже сам провел прием, впервые с тех пор, как умерла Нефертити.
В этот первый день ему, должно быть, трудно было подняться на возвышение и сесть на трон, одиноко стоящий там, где прежде было два, и на втором сидела Нефертити. Из всех его дочерей остались только Меритатон и Анхесенпаатон. Недоставало многих придворных, вельмож, высших чиновников — умерших, бежавших или больных.
Господин Аи был здесь, изможденный и бледный, но исполненный решимости выполнять свой долг, несмотря на то, что смерть чуть было не унесла его. Он прошел почти весь путь до края тьмы, прежде чем сила воли и желание богов вернули его обратно. Он еще отчасти находился среди мертвых, взгляд у него был почти такой же странный, как у Эхнатона, но Нофрет заметила, сколько сил он прилагает, чтобы держаться гордо. В нем не было ни капли божественного безумия, одолевавшего царя.
Сменхкара тоже не был этому подвержен. Он занимал место наследного принца рядом с царем, красивый, как всегда, но откровенно скучающий. Иногда он бросал взгляды на Меритатон, заставляя ее краснеть.
С тех пор, как Сменхкара прибыл в Ахетатон, она изменилась, стала как-то живее. Вся ее жизнь и веселье были сосредоточены на будущем муже. Она каталась с ним по реке в лодке, ездила на колеснице, сидела в садовом павильоне, играя на арфе и напевая тонким нежным голоском.
Сменхкара казался не так сильно очарованным ею, как она им, но внимание царевны было ему явно приятно. Меритатон была милым созданием, умевшим доставить царевичу удовольствие. Никто не осмелился напомнить ему, что он не первый. Ее дочь держали в детской, подальше от глаз. Между царевичем и царевной ничто не стояло и никто не мешал поступать так, как им хотелось.
Анхесенпаатон стала как бы бледной тенью сестры. Если Меритатон была живой, улыбающейся, даже научилась смеяться, ее сестра ходила медленно и неслышно, опустив голову и потупив взор. Иногда в ее глазах вспыхивал прежний огонь, но слишком редко, и Нофрет это совсем не нравилось.
Царь не старался ухаживать за ней, он просто хотел, чтобы она, как и прежде, всегда была рядом с ним, — с утреннего приветствия солнцу до тихого вечера, когда они вместе сидели в комнате, освещенной лампами, и слушали певцов или рассказчиков, младшая царевна должна была присутствовать и на пирах, украшенная цветочными гирляндами и источая аромат духов. В промежутках у нее оставалось немного времени для себя, и она спала или делала вид, что спит, либо сидела в саду, глядя в пространство.
Нофрет всячески пыталась расшевелить свою госпожу, но та ни на что не реагировала. С тех пор как прибыл Сменхкара, она стала крайне неразговорчива.
Церемония погребения Нефертити и ее младших дочерей состоялась в безжалостно жаркий день. Пустыня была раскалена. Солнце било по голове, словно молот по наковальне. Узкая долина, ведущая к царской гробнице, казалась еще круче и каменистей, чем всегда, и удушающе жаркой.
Плакальщикам следовало быть равнодушным ко всему, кроме их безутешного горя. Они толкались среди жрецов с погребальными носилками, мокрые от слез и пота. Их стенания эхом отдавались в плавящемся от жары небе.
Нофрет плакала вместе с ними, потому что это избавляло от необходимости думать, и пристально наблюдала за своей госпожой. Царевна, рыдая, плелась за отцом, бледная, с пустыми глазами.
Похоронная церемония была скомкана из-за жары. Поминальную трапезу совершили поспешно, и большая часть угощения осталась для духов умерших. Царь хотел было задержаться, но Сменхкара, мягко уговаривая и подталкивая брата, увлек его к выходу.
Царевич не пытался бросаться на гробы, как Нофрет приходилось видеть на других похоронах. Он ничего не ел, но и не плакал. Его скорбь была внутри, он будет беречь и питать ее, чтобы не забыть.
Мертвые легли на покой. Это хорошо. Их умерло так много и так безвременно, что некоторые, конечно, должны были преследовать своих родственников. Но Нофрет не видала беспокойных духов и не слышала о них с тех пор, как люди перестали умирать. Все духи ушли прочь.
Она сказала свое «прости» царице Нефертити и трем маленьким царевнам. Детский смех и шалости царевен, надменная холодность и скрытый свет теплоты царицы были уже очень далеки отсюда. Четыре каменных саркофага во тьме содержали лишь пыль и высохшие останки.
Куда бы ни пошли их души, Нофрет желала им добра. Никто из них никогда не делал ей ничего дурного.
А если бы это был царь…
Она споткнулась, спускаясь по долине вслед за царевной. Нога подвернулась, но девушка не упала. Она проклинала камни и собственную неловкость, но даже в раздражении сознавала, что споткнулась не поэтому.
Нофрет ненавидела царя.
Нет, не так сильно. Она презирала его. Ненавидела то, что он совершал во имя своего Бога, что делал с младшей царевной, высасывая всю ее жизнь и душу, превращая в бледную тень прежнего существа.
Анхесенпаатон старалась быть сильной, пыталась быть достойной памяти своей бабушки, быть царицей, а не полувзрослым ребенком. Но она слишком юна, а бремя слишком тяжко. Ей не выдержать его.
Это была вина царя. Он уже убил одну дочь. Теперь убивает другую.
Нофрет сжала кулаки. Царь брел перед нею — неуклюжая, лишенная всякого достоинства фигура в этом безжалостном месте. Следом за ним шел стражник, и кинжал болтался в ножнах у него на боку. Один прыжок — и все, одно стремительное движение, и она сможет выхватить клинок и погрузить в узкую спину царя.
Это даже не будет убийством. Скорее, казнью. Избавлением от безумца. Нофрет, конечно, умрет, но слишком быстро, чтобы почувствовать боль.
Она измерила взглядом расстояние и пошевелила пальцами, уже чувствуя очертания рукоятки и сопротивление лезвия, нашедшего цель.
Позади споткнулась Анхесенпаатон. Ее кожа покрылась мурашками. Лицо стало зеленовато-бледным. Дыхание было слишком частым и прерывистым.
— Воды! — закричала Нофрет. И еще громче: — Воды, сюда, скорее! Ее высочеству дурно от жары.
Глотнув воды, Анхесенпаатон сразу же пришла в себя. Она отогнала встревоженных, попыталась оттолкнуть зонтик, который Нофрет отняла у перепуганного раба, но та не позволила. На обратном пути в Ахетатон Нофрет сама правила колесницей царевны, пока ее госпожа отдыхала, насколько было возможно, под зонтиком.
И царь продолжал жить. Он сказал бы, что вмешался Бог, чтобы удержать Нофрет от убийства. Девушка же предпочла думать, что это случайность — и возможность, какая может больше не представится. Она была дочерью воина, но не могла убить человека, даже такого, хладнокровно.
«И очень жаль», — сказала она себе, уже въезжая в город.
16
Когда закончились дни траура по царице и детям, царь собрался со всем двором в большое путешествие вверх по реке, в Фивы. Сменхкара отправился вперед, чтобы приготовить город к тройному торжеству: погребению царицы-матери Тийи, победе царя и его Бога над чумой и женитьбе и коронованию царевича. Царь тоже собирался сыграть свадьбу с третьей из своих дочерей, но более скромно.
И вовсе не потому, что он стыдился своих действий. Царь говорил, что пришло время Сменхкары, и он должен быть на виду, чтобы все восхищались им. Иногда ему нравилось быть щедрым и великодушным.
Царь, придворные, охрана, прислуга и просто бездельники с песнями двигались в гребных судах вверх по реке. Будущий царь плыл на своем сверкающем корабле вместе с невестой. Сменхкара сидел на золоченом кресле, Меритатон стояла, опершись на поручень, пока он не усадил ее, смеющуюся и протестующую, себе на колени.
Жених и невеста, полные света и веселости, совершенно забыли о резном расписном саркофаге, который везли на барже далеко в конце процессии, в сопровождении жрецов и плакальщиц. Даже сам царь, казалось, позабыл, что везет хоронить мать, глядя на этих двоих, которые так наслаждались настоящим.
Жители Ахетатона слишком редко смеялись. Ни царь, ни его царица не были веселыми людьми. И их дети учились у них. Но у Меритатон теперь появился новый наставник, а он жил весело. Сменхкара в избытке обладал той легкостью и раскованностью, которой не хватало его брату, как будто Бог дал все темное одному, а все светлое другому.
Царь смотрел снисходительно, лежа на кушетке под навесом, и легкий речной ветерок холодил его щеки. Нофрет видела, что это ему приятно. Но Анхесенпаатон ничего не замечала.
Словно статуя из слоновой кости, она сидела у ног отца, не слыша смеха, звеневшего над водой, не видя блеска солнца на золоченых веслах, не улавливая запаха речного ила и рыбы, зеленых тростников и цветов, запаха великой реки Египта. Среди лодок с прислугой внезапно вынырнул крокодил. Его отогнали веслами и копьями, с визгом и криками. Она даже не обернулась на шум. Глаза ее были пусты, словно резные камни. Нофрет казалось, что сердце Анхесенпаатон так же безжизненно, как царица-мать в своем гробу.
Не только грядущее замужество лишало ее госпожу жизненной силы. Мать-царица умерла, сестры тоже, кроме единственной, которая ничего не видела, ничего не слышала и ни о чем не желала думать, кроме своего прекрасного царевича. Царица-мать, обожаемая ею, ушла в могилу, оставив царицей ее, в сущности, ребенка. Для нее это было слишком много.
Царь грыз кусочки фруктов, которые чистила и резала для него госпожа Кийа, потягивал вино из чаши, вырезанной из светлого халцедона. Царевна ничего не ела и не пила. На рассвете, перед выездом из Ахетатона, Нофрет с трудом впихнула в нее кусочек хлеба и глоток воды — этого едва ли хватило бы даже для птички.
Нофрет приходилось видеть людей, впавших в апатию, но они были либо тяжко больны, либо очень стары. Жизнь уже не привлекала их. Но, сидя у ног своей госпожи, глядя на ее лицо, похожее на безжизненную маску, Нофрет начинала пугаться. Если Анхесенпаатон умрет, все придется начинать сначала: обратить на себя внимание царевны, стать ее любимой служанкой, стоять возле нее, когда она станет царицей. Ни одна изнеженная придворная дама не захочет иметь возле себя простую хеттскую девицу со слишком длинным языком. Никто, конечно, не потерпит, чтобы служанка говорила так свободно, как Нофрет со своей госпожой.
Анхесенпаатон была другой. Хотя царевна так старательно заботилась о том, чтобы стать безупречной царицей, она уважала откровенный разговор. Нофрет была ей интересна. Ей нравилась служанка, высказывающая свои мысли.
Надо что-то делать. И быстро, прежде чем госпожа совсем ослабеет и захиреет. Что-то действенное, чтобы царевна не лишилась последнего мужества, что-то решительное. Может быть, даже жестокое. Но что — она не знала и даже не могла вообразить. Ум Нофрет был так же пуст, как взгляд ее госпожи.
Нофрет выросла возле города Хаттушаша в Великой Стране Хатти, служила глупому вельможе в Митанни и повидала города Египта, прежде чем попала в Ахетатон в качестве подарка для царя. Мемфис был величественным, Ахетатон — совсем новым, но в нем ощущались могущество и даже красота.
Фивы были величественней любого другого города и древние, старые, как Египет, даже старше. Когда еще не было Двух Царств, Фивы уже стояли на восточном берегу реки. Теперь они расширились с востока на запад, разделяемые рекой. На востоке располагался старый город — с храмами, домами вельмож, старинными дворцами и бесчисленными домами людей, чьи предки жили здесь с незапамятных времен. На западе находился дворец, построенный отцом нынешнего царя, и новый, меньший город, а за его пределами, у края земли мертвых, — величественные гробницы и храмы древних царей.
Все в Фивах было древним, высоким и обширным, Нофрет не случалось видеть ничего подобного. Город был огромным. Даже небо казалось безграничным — синее, без единого облачка; ему не было ни конца, ни предела над крышами и стенами.
Царь проехал по городу в торжественной процессии, от реки до восточной окраины и обратно, через реку во дворец своего отца. Дорога была устлана ковром цветов и окружена ликующими толпами. Все было ярко, красиво, роскошно.
Но за роскошью скрывалась пустота. Нофрет видела опечатанные ворота храмов, пустые места, оставшиеся на камнях и росписях там, где прежде были имена богов. Толпы народа двигались вслед за царской процессией. Сидя на задке колесницы своей госпожи, в самой давке, она не могла видеть их начало и конец, но подозревала, что народу гораздо меньше, чем кажется, что толпа резко обрывается, а за ней царит мрачное безмолвие.
В самой древней части города, где дорога процессии была уже всего, а толпа гуще всего, с крыш и из толпы дождем сыпались не только цветы. Перезрелые фрукты, куски навоза летели в свиту царя. Когда стражники погнались за нарушителем спокойствия, один из коней, запряженный в царскую колесницу, взбрыкнул и заржал. Что-то ударило его по крупу: кусок кирпича или камень, брошенный сильной рукой.
Торжественный ход процессии ускорился до рыси. Стража сомкнула ряды. Царь не спасался бегством, это было ниже его достоинства, но и не медлил.
Нофрет никогда не узнала, удалось ли охранникам поймать кого-нибудь с доказательствами его вины, прилипшими к рукам. Но, похоже, этот кирпич стал единственным проявлением искренних чувств со стороны Фив. Вокруг были лишь приветственные крики, цветы, явная и хорошо оплаченная преданность, — и тишина, гулко отдающаяся в пустынных улицах позади процессии.
Гробницы, которые Агарон и его товарищи строили возле Ахетатона, были норами в песке по сравнению с великими храмами и домами вечности в пустыне к западу от Фив. Гробница царицы-матери Тийи располагалась далеко от них, далеко от самых легко обнаруживаемых, вверх по долине, где находились гробницы царей. Там ее и положили во всем царственном величии, окруженную всем, что могло понадобиться в загробной жизни: еда, питье, мебель, парики, одежда и украшения, слуги, вырезанные из дерева и одаренные магической жизнью, дворец, чтобы жить в нем, магические слова, вырезанные и написанные на стенах, чтобы вдохнуть жизнь во все это.
Когда царица-мать отправилась в путь в страну благословенных мертвых, ее сыновья переключились на заботы о живущих. Она не стала бы возражать. Тийа всегда здраво смотрела на жизнь.
Царевич Сменхкара обвенчался с царевной Меритатон в великом храме Атона, построенном его отцом и братом в Фивах. Здесь же он был коронован Двумя Коронами, получил посох пастуха и плеть повелителя над рабами и сел на трон, который в последнее время принадлежал только его брату.
Свадьба младшей царевны была гораздо скромнее, поскольку двор еще приходил в себя от грандиозной попойки на свадьбе ее сестры. Простой ритуал в храме, свадебный пир, больше похожий на обычный обед у царя, и Анхесенпаатон стала коронованной царицей.
Казалось, для нее это ничего не значит. Фивы не смогли развеять ее печаль. В первый день пребывания в городе ее привели во дворец царицы, где собралось великое множество слуг царицы, и попросили высказать им свою волю. При желании она могла бы распустить их всех и набрать новую прислугу: чаще всего так и делалось, когда новая царица сменяла прежнюю.
Анхесенпаатон предпочла отказаться от такой привилегии.
— Нет, — сказала она им, — нет. Оставайтесь. Служите мне так же, как служили царице до меня.
Это было самое большее, на что она была сейчас способна. Дворец не может жить сам по себе — Нофрет видела Ахетатон после смерти Нефертити — но когда есть хозяйка, присматривающая за ним, можно полагать, что ей небезразлично, что там творится.
В день свадьбы новоиспеченная царица оставалась на пиру столько, сколько было необходимо, пока царские служанки не увели ее, чтобы приготовить к тому, что они называли ее священной обязанностью.
Анхесенпаатон стояла неподвижно, пока они мыли ее, умащали благовониями и одевали в полотняную рубашку, тонкую, прозрачную. Ее парик был гораздо более вычурным, чем она сама выбрала бы, с массой локонов и косичек, украшенных бусинами, с бисерной лентой и до такой степени пропитанный духами, что он благоухал, словно целый сад ароматных трав.
— Ах, — вздохнул евнух, бывший дворецкий ее бабушки, — какая ты красавица!
Казалось, Анхесенпаатон не слышала его. Ей подкрасили глаза и лицо, гораздо сильнее, чем она позволяла делать это прежде. Юная царица напоминала портрет на крышке гроба, без жизни и души, лишенная силы протестовать.
Нофрет больше не в состоянии была это терпеть. Наглые царские слуги откровенно давали понять, что лишь терпят ее здесь. Но Нофрет была личной служанкой молодой царицы, и многие годы — единственной.
Она сильно, с размаху ударила свою госпожу сначала по одной щеке, потом по другой. Слуги смотрели, разинув рот. Стражников здесь не было — они все оставались в коридоре, где могли сколько угодно болтать и играть в кости.
Анхесенпаатон покачнулась от ударов. Глаза ее чуть заблестели.
Нофрет резко обернулась к сгрудившимся слугам и взревела:
— Вон! Все вон!
Ох, и дураки же! К повиновению они были привычны, а Нофрет научилась у отца командному голосу. Слуги, должно быть, никогда не слышали от девушки-служанки рева, способного перекрыть шум битвы, и побежали, словно гуси, гогочущие и хлопающие крыльями в панике. Нофрет захлопнула дверь за последним из них и повернулась к своей госпоже.
Анхесенпаатон не шевельнулась. Нофрет нависла над ней, пользуясь своим превосходством в росте и сложении, и уперла руки в бока.
— Кто забрал у меня мою госпожу и подсунул на ее место глиняную куклу? Только великий злой маг мог совершить такое. Но я не боюсь магии. Я хочу получить мою госпожу назад.
Анхесенпаатон медленно моргнула. Нофрет взяла ее за руку. Рука была теплой снаружи, но холодной и неподвижной внутри.
— Кто вынул у тебя сердце и спрятал и пыльной гробнице? Что случилось с твоим мужеством? Что за трусиха носит маску моей госпожи? — Нофрет встряхнула ее. — Где она? Верни мне ее!
Госпожа вздохнула, глаза ее закрылись и открылись снова — черные, тусклые, невыразительные, как у змеи.
«По крайней мере, — подумала Нофрет, — они живые». Девушка уже начала жалеть о содеянном. Может быть, этому ребенку лучше оставаться там, куда она бежала, где могла не видеть, не слышать, не чувствовать, быть лишь живой статуей на троне.
Но Анхесенпаатон не смогла бы жить без сердца. Она уже начала исчезать из жизни. Тонкая рубашка не скрывала ее расцветающего тела: плавные изгибы груди и бедер, выступающие ребрышки.
Нофрет резко усадила ее на край кушетки. На столе стояла еда, выбранная, чтобы раздразнить аппетит невесты-ребенка, и кувшин разбавленного вина. Нофрет налила его в чашу, схватила лепешку, положила на нее сыру и ломоть жареной гусятины и сунула своей хозяйке.
— Довольно глупостей. Ешь!
Анхесенпаатон сжала губы и отвернулась.
Нофрет схватила ее, силой разжала челюсти и запихнула лепешку в рот. Анхесенпаатон вырывалась, давилась, задыхалась. Нофрет не отпускала ее.
— Ешь или подавись. Мне все равно.
Анхесенпаатон начала жевать. Может быть, ее сердце сопротивлялось, но у тела были свои соображения, и оно было голодно.
Нофрет с трудом сдерживала смех. Побоями заставив свою хозяйку есть, она теперь не позволяла ей проглотить больше пары кусочков сразу, иначе царице станет дурно, ее стошнит.
— Теперь вина, и немного! — рявкнула она.
Анхесенпаатон свирепо сверкала подведенными глазами. Она, наконец, очнулась, вполне пришла в себя и была по-настоящему разгневана.
Хороший был гнев. Настоящий. Живой. Он поднимался, разгорался, очищал, как пламя.
— Ненавижу тебя, — проговорила Анхесенпаатон, жуя хлеб и запивая вином. Она уже полностью пришла в себя и соображала, что одно надо откусывать, а другое прихлебывать.
— Я… Так рада! — Нофрет засмеялась, задыхаясь.
О боги, у нее срывается голос. Неужели она стала такой слабой?
— Я была вполне счастлива там, где находилась до сих пор, — сказала Анхесенпаатон. — Там так спокойно. Ничто не волновало. Ничто не болело. Теперь болит все. Ненавижу тебя!
— Жизнь часто причиняет боль, — ответила Нофрет. Как просто быть жестокой — хотя не проще, чем растекаться слезами облегчения. — Ты умрешь, когда придет твой час. Я даже помогу тебе. Но сейчас еще не время, какую бы боль ни приходилось тебе терпеть.
— Ты и представить не можешь…
— Могу, — вздохнула Нофрет. Возле кувшина с вином стояла еще одна чаша, несомненно, предназначенная для царя, но Нофрет взяла ее, наполнила до краев и выпила залпом. Вино было хорошее, в меру разбавленное, в меру крепкое. — Ты царица. Я рабыня. Рабы очень много знают о боли.
— Я даже никогда не била тебя, — проговорила Анхесенпаатон сквозь зубы. — Может, пора начать?
— Это твое право, госпожа.
Анхесенпаатон выхватила чашу из рук Нофрет, расплескав вино. Она осушила ее с жадностью, которая дорого ей обойдется, когда желудок ощутит шок от слишком большого количества еды и питья после долгого воздержания.
Вино быстро ударило царице в голову: щеки ее горели под густо наложенной краской, глаза заблестели.
— Я прикажу высечь тебя и искупать в соленой воде.
— Ты никогда себе этого не простишь, — ответила Нофрет.
Анхесенпаатон уставилась на хлеб, который держала в руке, как будто забыв о нем. Она откусила немного, медленно прожевала.
— Тебе не стоило будить меня.
— Если ты не хочешь пройти через это, можешь бежать. Я знаю, куда идти, знаю места, где нас никто не узнает. Если мы направимся на север, в сторону пустыни…
— Зачем мне убегать? — перебила ее Анхесенпаатон.
— Ты сказала… — Нофрет не договорила. — Почему я не должна была будить тебя? Чтобы ты могла пойти на брачное ложе в блаженном неведении?
— Чтобы мне не нужно было ничего чувствовать и запоминать.
— И это тоже?
— Все. — Анхесенпаатон закрыла глаза, подняла руки к лицу, потрогала краску. — Какой ужас. Это надо смыть.
Нофрет с радостью подчинилась. Никто в Египте не забудет подвести глаза, разве что при тяжкой болезни, но все остальное было убрано, как толстый слой штукатурки со стены. Открывшееся под краской лицо, было, по мнению Нофрет, гораздо красивее. Чуть подкрасить губы, и больше ничего не надо. Да, и парик нужен другой, попроще, лишь чуть-чуть надушенный.
Еще более приятно было бы утащить прочь ее саму, но царевна и думать об этом не желала.
— Я знаю свои обязанности, — сказала она. И встала, маленькая, прелестная и отважная в своей прозрачной рубашке. — Теперь я готова.
Нофрет уже набрала побольше воздуха, чтобы вступить в спор, но отказалась от такой мысли. Может быть, здесь есть рука Бога или сила истины. Хочет она или нет, но все будет только так. Ее госпожа могла бы бежать, если захотела бы. Но она не в силах предотвратить или хоть как-то изменить веление судьбы.
Ни один хетт не любит чувствовать себя беспомощным. Даже раб. В один прекрасный день, поклялась себе Нофрет, она увидит, как дорого царь заплатит за то, что намеревается совершить сегодня ночью. Очень дорого — возможно, всем, чем дорожит.
17
Служанка молодой царицы могла приготовить ей постель, уложить ее как можно соблазнительней к удовольствию мужа. Но едва он вошел, с вызывающим видом, неловкий, нелепый как всегда, Нофрет пришлось уйти. Она должна была уйти: здесь распоряжался царь.
Вероятно, ее госпожа хотела, чтобы она осталась, но ничего не сказала. Она не сводила глаз со своего мужа — своего отца, своего царя. Нофрет подумала о маленьких беззащитных созданиях и о кобрах и удалилась — спокойно, как человек, охваченный леденящим гневом.
Она всю ночь просидела возле двери, прислонившись к стене, обхватив руками колени. Дверь была тяжелая и хорошо пригнана к косякам. Изнутри не доносилось ни звука — ни болезненных или сладостных стонов, ни смеха или плача. Ничего.
Нофрет кожей чувствовала, как медленно звезды поворачиваются к рассвету. Солнце начинало пригревать, обещая жару. Она начала клевать носом и вскоре заснула.
Стража стояла за пределами царских покоев, за три двери отсюда. Царские слуги либо спали, либо разошлись по своим делам. Никто не бродил вокруг, не пытался подслушать или подсмотреть. На этой свадьбе не было никаких шуточек, как и на всех предыдущих свадьбах царя.
Друзья и приятели Сменхкары допекли Меритатон так, что она едва не плакала, но смеялась вместе со всеми, очарованная своим мужем и возлюбленным. Их первая брачная ночь превратилась в сплошную головокружительную пирушку, и невеста лишь на рассвете пришла в себя в объятиях довольно ухмыляющегося мужа.
С Анхесенпаатон не происходило ничего подобного. Когда солнце уже поднялось высоко над горизонтом, Нофрет толкнула дверь. Удивительно, но она была не заперта.
В комнате царил полумрак. Большинство ламп догорело. Только одна еще мерцала, пожирая остатки масла. Было душно, пахло духами и еще чем-то, напомнившим Нофрет о козлах. Ее замутило.
Царь отодвинул занавески с окна. Ставни были распахнуты, и лучи солнца проникали внутрь. Он лежал в солнечном квадрате, лицом вниз, и молился, как обычно, совершенно не замечая, что происходит вокруг.
Анхесенпаатон еще спала. Свернувшись клубочком, с пальцем во рту, она казалась еще моложе, чем была. Нофрет не хотелось трогать ее, будить и видеть выражение ее глаз.
«Может быть, — подумала она. — Может быть…»
Напрасная надежда. Простыни были в крови, засохшая кровь темнела на бедрах Анхесенпаатон.
Ярость, дремавшая в Нофрет всю ночь, собралась в холодный твердый комок где-то в середине. Она пристроилась на полу возле постели и ждала, пока ее госпожа не вздохнула, потянулась, открыла затуманенные сном глаза.
В них не появилось ничего нового: ни страдания, ни покорности поражения. Анхесенпаатон всегда пробуждалась немного сердитой, глядела кругом хмуро, зевала и потягивалась, расправляя каждую мышцу, словно кошка.
Она увидела человека на полу. Его было трудно не заметить: царь занимал все освещенное место. Выражение ее лица не изменилось: не смягчилось и не напряглось от злости. Царица всего лишь легонько вздохнула и села.
— Думаю, сегодня утром мне надо принять ванну, — сказала она очень спокойно и безупречно сдержанно.
«Чужая, — подумала Нофрет. — Совершенно чужая».
Анхесенпаатон-царица совершенно не изменилась по сравнению с Анхесенпаатон-царевной. Она исполняла свои обязанности в супружеской спальне без жалоб и ничего не рассказывала Нофрет. Та и не спрашивала, не желая ничего об этом знать.
Возможно, для египтян такие вещи действительно не имели значения. А может быть, Анхесенпаатон была еще слишком ребенком, чтобы это ее волновало.
Нофрет, достаточно взрослая, чтобы знать то, что должны знать женщины, сама не испытала того, что делает из девушки женщину. Отделавшись когда-то от своего хозяина в Митанни, она не позволяла ни одному мужчине приблизиться достаточно близко, чтобы ее невинность оказалась под угрозой. Это было проще, чем казалось многим. Раб — никто и ничто. Но на рабе, принадлежащем царице, лежит отсвет ее неприкосновенности, по крайней мере, в Египте.
А может быть, Нофрет была слишком нехороша собой на египетский вкус. Стражники любили называть ее кошечкой и делать разные предложения, но они все были дураки. Остальные, насколько она знала, даже не глядели на нее.
Это радовало. Плохо было только то, что каждый вечер ей приходилось оставлять свою госпожу в супружеской спальне.
Царь надолго задержался в Фивах после похорон и свадеб. Нофрет считала его лентяем; где-то расположившись, он терпеть не мог двигаться с места. Удивительно, что он вообще когда-то покинул Фивы и, мало того, построил город в необжитом месте между Фивами и Мемфисом. Может быть, и в самом деле, так приказал его Бог.
В Фивах, как и в Ахетатоне, Нофрет нашла время, чтобы осмотреть город. Девушка не ходила в царство мертвых и не заводила знакомств с живыми жрецами и строителями, обитавшими там. Она видела слишком много смертей, а апиру в селении строителей под Ахетатоном слишком смутили ее. Здесь она устремилась лицом и умом к городу живых.
У нее не появилось никаких новых неожиданных друзей. Здешним козлам не случилось убегать, чтобы помочь ей обрести друга. Но чудес было предостаточно, а на базарах торговля шла с тех времен, когда Египет был еще юным.
В Фивах обитали боги. В Ахетатоне — ни одного. Все было выжжено сиянием Атона.
Здесь, хотя по приказу царя и правил Атон, Амон до поры до времени помалкивал. Он не был ни уничтожен, ни изгнан. Нофрет чувствовала его присутствие в камнях мостовой под ногами, улавливала его запах в воздухе, похожий на запах разогретого полотна или приношений, сжигаемых на алтаре.
Но алтари были холодны, храмы опечатаны и покинуты. Однако Амон жил. Люди не забыли своего Бога. Его именем клялись на улицах, поминали всуе в притворной ярости базарных перепалок, этим именем или одним из его других имен называли друг друга: Рахотеп, Мерит-Амон, Неферура. Нофрет, из духа противоречия по отношению к царю, купила у разносчика, торговавшего на ступенях молчаливого храма, амулет — изящную вещицу из синего стекла, называвшегося фаянсом, изображавшую человека с рогами барана. Он сделает ее чадородной, объяснил торговец, настороженно поглядывая в сторону царских стражников, даст ей сильных сыновей и защитит от настырных любовников.
— А от крокодилов он меня защитит? — шутливо спросила Нофрет.
Разносчик порылся среди груды амулетов на лотке, поколебавшись, выбрал из двух один, из гладкого зеленоватого камня, с просверленной дырочкой, чтобы продернуть нитку. Это был еще один из египетских людей-богов, но мало похожий на человека, — крокодил, стоящий на задних лапах и оскалившийся удивительно живой усмешкой.
— Это Собек, — сказал он. — Он правит крокодилами. Если тебе будет угрожать крокодил, обращайся к нему.
Нофрет хотела было отказаться от второго амулета, но передумала. Почему бы и нет? У нее еще оставалось немного ячменя. Она собиралась потратить его на хлеб, пропитанный медом, но пока не проголодалась по-настоящему, а улыбка Собека вызвала желание улыбнуться в ответ.
Но девушка все еще колебалась.
— А не приносит ли он несчастья? — спросила она осторожно.
— Может, — ответил разносчик. Он был честным человеком, как и большинство его собратьев. — Но если ты станешь хорошо служить ему, он отплатит тебе добром: будет охранять от тех, кто бродит по ночам, наложит проклятие на твоих врагов, если ты его как следует попросишь.
— Если это обойдется не слишком дорого, — сказала она и взяла в ладонь оба амулета. По-видимому, они не возражали оказаться рядом. Атон был их общим врагом.
Разносчик дал ей шнурок и помог вплести амулеты в волосы. Нофрет не опасалась, что царь может увидеть их. Пусть накажет ее, если захочет. Она только порадуется.
Вооруженная против крокодилов и настырных поклонников, обеспеченная чадородием, если соберется испытать его, Нофрет отправилась дальше по городу. Когда солнце коснется крыши храма Амона, надо будет торопиться обратно во дворец, но до возвращения еще оставалось время. Она только начала изучать старый город. Новый подождет до другого раза, поскольку царь, по-видимому, не собирался в ближайшее время покидать Фивы.
Боги были повсюду. В этом отношении люди вели себя так же вызывающе, как Нофрет, хотя, может быть, и не имели столь веской причины. Она оценила степень их дерзости не то чтобы с признательностью, но с удовольствием.
Дома богов и принцев в этом городе были велики и роскошны, но большинство остальных жилищ — просты почти до убожества. На улице за храмами, где даже храмы представали в виде простой кирпичной стены, кое-где прорезанной низенькими обшарпанными дверями, Нофрет увидела группу людей, подозрительно напомнивших ей головорезов с задворков Хаттушаша. Они были молоды, для египтян крупноваты и выглядели так, что девушка решила побыстрее скрыться.
Прежде чем она успела отступить, путь позади тоже оказался перекрытым. Немного удивившись, она сообразила, что молодые люди впереди были жрецами. Они были чисто выбриты, одеты в полотняную жреческую одежду с золотыми знаками на груди, сильно напоминавшими амулет Амона, вплетенный в волосы Нофрет. В руках были деревянные дубинки, и они явно умели ими орудовать.
Люди позади нее были старше и крепче сложением, в одежде со знаками городской стражи. У некоторых были мечи и у всех — копья.
Нофрет уже приходилось видеть, как завязывается бой. И сейчас она оказалась здесь, одна, с амулетом Амона и соблазнительно женственная.
Бежать было некуда. Судорожно озираясь, она заметила дверную нишу. Не слишком надежное укрытие, но все-таки позволит убраться с дороги.
Нофрет нырнула в свое убежище как раз в тот момент, когда люди царя бросились на жрецов Амона. Никто ничего не говорил, даже не выкрикивал команд. Видимо, такие сражения случались и раньше: меч и копье против дубинок и неукротимой холодной ярости. Треск дерева и тяжелое дыхание заглушили все звуки города.
Это была настоящая война. Нофрет слышала о таком и раньше, видела глаза людей, говоривших, что их боги против Атона. Теперь она увидела и другую сторону.
Людская свалка металась по улице взад и вперед. В поисках пути к бегству Нофрет ощупала дверь сзади себя. Дверь была деревянная, потрескавшаяся, с веревкой вместо запора. Она потянула за веревку, и, к удивлению девушки, дверь подалась.
Нофрет осторожно скользнула в щель и захлопнула дверь. Там оказался засов. Она задвинула его и, наконец, огляделась, чтобы понять, куда попала. Где-то впереди был свет, мерцала лампа, освещая узкий проход, тесный, как вход в гробницу. Она пробралась по нему. Пахло ламповым маслом, давно увядшими цветами.
Все ясно. Это храм. Наружные двери, должно быть, опечатаны, но здесь кто-то жил и пользовался дверью, через которую проникла она. Городская стража недосмотрела, оставив ее незапертой.
Может быть, именно за это бились жрецы Амона. Иначе зачем было так дерзко ввязываться в стычку с людьми царя? Возможно, они защищали это место и кого-то живущего здесь.
В таком случае она подвергается не меньшей опасности, чем на улице. Любая из многочисленных групп городской стражи в любой момент придет на помощь той, что сражается на улице. Жрецов тоже могла собраться целая армия, но, когда драка закончится, кто-нибудь с той или другой стороны непременно зайдет сюда и обнаружит ее. А она служанка молодой царицы.
Выхода не было. Но Нофрет не видела толку и в панике. Чтобы выбраться из переделки целой и невредимой, надо сохранить ясную голову.
Девушка решила, что не повредит вознести молитву Амону, чей амулет она носит. Это был не ее бог, но она же заплатила за его покровительство. Нофрет заговорила едва слышным шепотом:
— Амон, великий Бог, позаботься обо мне. Я слуга слуги твоего врага, но после того, что царь сделал со своими детьми, я не на его стороне. Защити меня, и я дам тебе… — Она задумалась. Вот в чем трудность. Богов надо подкупать, а у нее не было ничего, даже того мешочка ячменя, который дала госпожа на покупку каких-нибудь пустяков на базаре. И Нофрет глубоко вздохнула.
— Я дам тебе мою благодарность, и если когда-нибудь стану главной над всеми слугами царицы, то принесу тебе в дар хлеб и ячменное пиво.
Ну, вот. Этого вполне достаточно, по крайней мере, с египетской точки зрения. В Великой Стране Хатти понадобилась бы целая овца.
Собрав все свое мужество и обеими руками держась за амулеты — на счастье — крокодильи зубы Собека тоже пригодятся, чтобы защитить ее и от людей царя, и от жрецов, — она бесшумно, по-охотничьи, заскользила по направлению к свету лампы.
18
Лампа освещала комнату. Судя по всему, она попала в комнату писцов. Повсюду были свитки; упакованные в ящики, стоящие вдоль стен; лежащие на полу, словно дрова; наваленные грудой на столе. Нофрет, из осторожности стараясь прятаться в тени за пределами света, падающего из двери, разглядывала письменный прибор на столе, разбросанные тростниковые ручки, баночки с чернилами и краской.
Среди всего этого беспорядка сидели двое мужчин в одежде жрецов. В свете лампы блестели их бритые головы и глаза, подведенные краской. Мужчины были средних лет, не очень молодые, но и не старые. Один был толстый и пухлый, как хеттский торговец, другой — тонкий как хлыст, с выступающими скулами. Они пили что-то из кувшина, по-видимому, вездесущее ячменное пиво, не обращая внимания на корзину с хлебом и блюдо фиников.
Толстяк пил в торжественном молчании внезапно опьяневшего человека. Худой наблюдал за ним, как кошка за мышиной норой, чуть улыбаясь, когда толстяк не смотрел на него.
Наконец толстяк сказал:
— Смотри, до чего мы дошли. Пьем пиво в задней комнате, а молодежь скандалит на улице.
— Цари тоже смертны, — небрежно заметил худой, словно его слова ничего особенного не значили.
Толстяк осушил свою чашу, потянулся за почти пустым кувшином и вздохнул.
— Думаешь, имеет смысл убить его?
— Сомневаюсь, — ответил худой.
— Мы посылали людей ко двору просить за нас у молодого царя, ничего не вышло. Он во всем слушается брата. Амон умер, старина. Умер и не вернется.
Впервые худой обнаружил какие-то чувства. Это не был гнев, скорее, удовольствие.
— Ты так думаешь? Ну, нет. Он ждет своего времени. Царь может быть неуязвим для законов и обычаев Двух Царств, но один из великих богов в конце концов всегда сильнее любого царя.
Толстяк, убедившись, что и чаша, и кувшин опустели, со звоном отбросил их в сторону.
— Что толку? Что толку от всего этого? Если он не умрет, в Двух Царствах не останется никаких богов, кроме божественного бреда.
— Терпение, — произнес худой. — Наберись терпения.
— Я долго терпел! — закричал толстяк. — С тех пор, как он построил свой город, с тех пор, как запечатал наш храм, я все время был безупречно терпелив!
— Тутмос, — напомнил худой, — терпел гораздо дольше, чем мы. Он двадцать лет ждал, когда умрет его мачеха. Все это время он лелеял свою ненависть и терпел. Но он был царем. Лучше ждать и терпеть, чем навлечь на себя проклятие богов убийством царя.
— В проклятия я верю, — пробормотал толстяк. — Одно из них лежит на всех нас. Проклятие царя-безумца, создавшего гарем из собственных дочерей.
— Подожди, — настаивал худой, — увидишь, что в конце концов сделают с ним боги.
— Богов уже нет в живых, — сказал толстяк.
Нофрет скользнула вдоль стены. Двое мужчин в круге света, казалось, были погружены в перечисление своих бедствий, но ей не хотелось доверяться случайности. В коридоре царила непроглядная тьма, лишь один факел слабо мерцал там, где, похоже, был угол. Стена была холодная и немного корявая: штукатурка поверх кирпичей из ила, рисунки на которой казались лишь смутными тенями. Но там, где на них падал свет, они вспыхивали неожиданно яркими красками, представляя собой ряды птиц и зверей, вернее, их головы на человеческих туловищах.
Нофрет приходилось слышать, что в таких изображениях заключена магия. Но она не ощущала ничего, кроме того, что чувствует человек в храме, покинутом Богом.
Это было неприятно. По спине пробежал холодок. Она не знала, куда идет, просто брела от факела к факелу среди теней. Во тьме слышались шорохи, слабые голоса, кошачье мяуканье, писк мышей, шелест жуков, пробегавших по стенам. А может быть, все это были голоса призраков, бескровных и бестелесных.
Надо было ей оставаться во дворце. Ох, надо было!
Храм оказался не единственным строением внутри этих стен. Помимо дома Бога, там находились дома жрецов и помещения, где работали писцы, а также их дома. Этот храм, как и великий Храм Атона в Ахетатоне, был обширен, словно город, только очень заброшенный.
Нофрет чувствовала себя потерянной душой среди домов умерших. Двери были закрыты, но засовами заложены не все. За пределами дома писцов, откуда она начала свои странствия, не было ни ламп, ни факелов, ни жрецов, бродящих без дела. Во дворе дрались два кота, голуби ворковали и хлопали крыльями в заросшем саду, но больше никаких живых существ не попадалось.
Похоже, она бродила кругами. Девушка не знала, где находится и как долго блуждает здесь. Может быть, она уже умерла и не знает об этом? Или Бог наложил на нее заклятие?
Нофрет прошла еще через одну дверь, еще через один двор, где заходящее солнце, исчезая за стенами храма, заливало все вокруг золотистым светом. Если ночь застанет ее тут, она сойдет с ума.
Это был еще один дом жрецов, где они спали, пока несли службу в храме. Жрецы в Египте отличались от жрецов в других местах: многие из них жили как обычные люди, кроме той части года, когда становились слугами своего Бога. Так что теперь все жрецы Амона были отосланы на свои места в мирской жизни, а самые дерзкие и самые упорные, не желающие признавать бога-выскочку, дрались на улицах с людьми царя или напивались до изумления в задних комнатах храма.
Здесь сохранились следы их пребывания: сандалия, позабытая в углу, рассыпанные голубые бусины на пыльном полу. Нофрет чувствовала присутствие людей, и она знала, что они живы, но их души блуждали повсюду.
И их ярость.
Ее было очень много. Нофрет вся пропиталась ею. Она прислонилась к запертой двери. Дверь неожиданно открылась, девушка упала вперед и уткнулась в препятствие, теплое и дышащее.
Она отшатнулась, препятствие сделало то же самое с восклицанием, от которого у нее запылали уши. Солдатская ругань — и солдатский голос человека, очень хорошо знакомого ей…
Вряд ли он ее узнал. Нофрет и не думала, что ее можно запомнить: рабыня, как множество других, с амулетами, вплетенными в копну волос.
О, боги! Если бы она только могла себе представить…
— Что ты здесь делаешь? — услышала она свой вопрос.
Военачальник Хоремхеб удивленно поднял брови.
— Ты, что ли, здешний привратник?
— Похоже, что надо бы им стать, — ответила Нофрет; ее язык, как всегда, опережал мысли, а это было опасно.
— Ладно, — сказал он, — зови хозяина, и быстро.
— Какого, Бога что ли? — пожелала она знать.
Весьма неразумно. Смерть блеснула в черных непроницаемых глазах военачальника, хотя выражение его лица не изменилось.
Это было ей знакомо. Старый друг, старый враг… Нофрет усмехнулась.
Хоремхеб поднял руку, как будто хотел ударить ее, но она не отступила.
— Здесь только два жреца, которые надираются в комнате писцов. Тебе нужен один из них?
Рука опустилась. На мгновение Нофрет показалось, что Хоремхеб узнал ее, но хмурая тень мелькнула на его лице и исчезла. Служанка царевны находилась слишком далеко от своего места. Он не помнил, кто она такая.
— Так ты служанка, — сказал он таким тоном, как будто потерял к ней всякий интерес.
Нофрет шагнула вперед.
— Ты сам можешь найти дорогу. Мне пора возвращаться к своим обязанностям.
Это была, в известной мере, правда. И безграничная дерзость. Хоремхеб был так потрясен, что пропустил ее.
Выход должен быть где-то рядом, раз он вошел сюда. Надо только его найти.
Вместо этого девушка кралась как тень по пути, по которому пришла, преследуя командующего войсками в Дельте, начальника стражи царя в Ахетатоне, верного слугу царя.
Военачальник шел прямо и без колебаний. «Конечно, — подумала Нофрет, — ему должно быть знакомо это место». Хоремхеб служил еще старому царю. Как и все в Фивах, он наверняка почитал Амона и знал все ходы и выходы в его храме.
Следовать за ним, оставаясь незамеченной, было нелегко. Она потеряла его на повороте, где дома жрецов стояли очень близко друг к другу, и запаниковала, но тут же услышала шлепанье его сандалий. Размашистый шаг Хоремхеба был твердым, уверенным в себе. Он не прятался.
И все же военачальник был один. Он пришел в храм Амона поговорить с одним из тех, кто скрывался здесь. Если бы царь знал…
В большинстве случаев неповиновения царь не предпринимал ничего. Но когда задевали его Бога, он мог стать смертельно опасным.
Хоремхеба это, похоже, вовсе не волновало. Нофрет никогда не замечала, чтобы он особенно уважал или хотя бы опасался царя.
Погруженная в свои мысли, девушка чуть не налетела на него. Он остановился на вымощенном камнем дворе у статуи прежнего царя. В дальнем конце двора, под колоннадой, стоял какой-то человек в одежде жреца, явно ожидая его. Нофрет прежде не видела его.
Она спряталась в тени колонны, съежившись, чтобы стать как можно меньше, чувствуя себя мышью, неожиданно столкнувшейся со змеей.
Стоявший в глубине двора был старым. В сумерках смутно белела его полотняная одежда. Обнаженные руки и лицо были цвета Красной Земли, глаза жестко блестели, как у кобры.
Нофрет подумала, что это главный жрец свергнутого Амона или человек, который мог претендовать на его пост благодаря силе воли. Он не выказал царскому военачальнику ни почтения, ни благоговения. Хоремхеб поклонился ему, но не слишком низко и чересчур поспешно.
Эти двое не тратили времени на приветствия. Жрец не приглашал Хоремхеба внутрь, и тот не настаивал. Они продолжали разговор: Хоремхеб во дворе, под меркнущим светом солнца, жрец в густеющей тени под колоннадой. Нофрет уловила за его спиной отблески света и движение теней. Там были прислушивающиеся люди, может быть, с оружием, готовые броситься по приказу хозяина.
Хоремхеба никто не сопровождал и не охранял. Мужество этого человека было потрясающим, и он нес его так же просто, как одежду.
Он говорил тихо, но столбы и стены двора усиливали его голос настолько, что он был ясно слышен повсюду.
— Отзови своих псов. Сейчас они одерживают верх, но у царя очень много людей. А у тебя нет.
— Что ты знаешь о нашей численности? — Жрец говорил спокойно и мягко. Нофрет подумала, что так звучит чистейшая и неугасимая ненависть.
— Я знаю то, что докладывают мне мои соглядатаи. С этим согласятся и твои люди. Пока царь в Фивах, тебе не добиться успеха.
— Но именно пока он в Фивах, мы должны ясно показать, как мало мы его любим или боимся.
— Ему все равно, — заметил Хоремхеб.
— Он должен бы побеспокоиться. Это для него угроза.
— Пока не очень серьезная. — Хоремхеб расставил ноги, скрестил руки: поза солдата на отдыхе, готового, тем не менее, действовать при первой необходимости.
— Вы же пойдете на все, чтобы убить его. Яд — это просто. Нож в спину — еще проще.
— Нет, — возразил жрец так же спокойно. — Мы не убьем сына Гора, пусть он и отступник. Боги проклянут нас и все наше потомство.
— Без сомнения… Но, может быть, стоит? Он будет мертв, а с ним и его Бог. Два Царства станут свободными.
— Но мы не станем убивать. И Бог, которому мы служим, тоже не станет.
— Значит, вы будете ждать, пока он уберется сам? как ваши молодые люди на улицах?
— Мои молодые люди хотят кое-что передать царю. Когда стемнеет, они исчезнут и скроются. Твои шпионы не найдут ничего, кроме следов крови на мостовой.
— Они и искать не станут, — заметил Хоремхеб.
Лицо жреца лишь смутно белело в сумерках, но Нофрет показалось, что он удивленно поднял бровь.
— А что ты хочешь взамен?
— Того, что хотел всегда. Чтобы ты подождал, а когда придет время, поддержал меня. Я отделаюсь от царя в твоих интересах.
— Если ты убьешь его, на тебя падет проклятие. Тогда мы не будем — не сможем — мириться с твоим присутствием.
— Я не буду его убивать. Но открою путь, по которому вы сможете вернуться.
— А сколько времени ждать? — спросил жрец, и Нофрет впервые уловила в его голосе хоть какое-то волнение.
— Столько, сколько понадобится. Отзови своих псов и держи их в конуре. Я сделаю так, чтобы царь покинул Фивы, и прослежу, чтобы он не вернулся обратно. Чем дольше он будет отсутствовать, тем проще вам будет показать людям, насколько еще силен Амон.
Жрец поклонился, достаточно медленно и низко, чтобы Нофрет смогла разглядеть его движение.
— Мы снова наберемся терпения. Будем ждать. Только задержи царя в его городе, и мы удержим нашу молодежь в нашем. И дай нам свободу действий здесь — чтобы мы могли поступать, как велит нам Бог.
— Если вы не станете вступать в схватки с городской стражей, — ответил Хоремхеб, — делайте, что хотите. А когда царь уедет, я приду за своей платой.
— Она будет ждать тебя, — сказал жрец Амона.
19
В теле Нофрет осталось воспоминание о том пути, по которому Хоремхеб пришел сюда. Воспользовавшись этим воспоминанием, она вернулась к воротам, где столкнулась с ним, и обнаружила, что ворота ведут во двор, двор кончается стеной, а в стене есть дверь, похожая на ту, через которую она вошла.
К этому времени девушка уже едва видела у себя перед носом. В последних отблесках света земля казалась еще темнее, чем на самом деле. Ощупью она нашла ручку, потянула, на мгновение испугавшись, что снаружи заперто, но неожиданно дверь открылась, и Нофрет чуть не упала.
Улица была совсем незнакома, пуста и темна. Нофрет повернула наугад, не зная, куда идти, положившись на судьбу, случай, или на то, что какой-нибудь бог присмотрит за ней. Она потрогала пальцем один из своих амулетов — прохладный, гладкий, неживой.
Девушка колебалась недолго. Нет. Она не станет возвращаться, пойдет дальше.
Узкая улица вывела ее на более широкую. Нофрет запретила себе бояться. Ясно, что уже ночь, а она находится на другой стороне реки от своей госпожи. Перевезти ее некому.
Если только…
У Хоремхеба должна быть лодка. Он жил в царском дворце, на западном берегу.
Нофрет не могла назваться ему и потребовать, чтобы он помог ей вернуться к хозяйке. Спрятаться на маленькой лодке среди гребцов и слуг тоже было бы негде. Ни на то, ни на другое у нее не хватит дерзости.
Но она была не так глупа, чтобы рассчитывать в безопасности проспать ночь на улицах Фив или пытаться пересечь реку вплавь. Прибрежные тростники кишели крокодилами, питавшимися городскими отбросами, которые сваливали в реку, заблудившимися кошками или гусями. Или, если очень повезет, каким-нибудь глупым рабом, который слишком долго гулял и не успел вернуться домой вовремя.
Ночь опустилась на город, и выглядел он странно. Редкие факелы горели у дверей или их несли с собой компании молодежи, бредущие от кабака к кабаку или к кому-нибудь в гости. В темноте таились воры, убийцы и другое, похуже — ночные бродяги, вампиры, души умерших, ищущие тепла и жизни.
Нофрет крепко держалась за свои амулеты, прокладывая путь среди теней. Сияли звезды и круглая, почти полная луна. Египтяне называли ее слепым глазом Гора. Этот глаз равнодушно бросал вниз холодный белый свет, делавший тьму еще темнее. Он не видел Нофрет, а если и видел, ему было безразлично.
Пусть воры и грабители ее тоже не тронут. Нофрет постаралась стать невидимой, незаметной, как кошка, пробирающаяся от двери до двери. Руки ее были холодны, тело покрылось гусиной кожей от ночного воздуха.
Чтобы отогнать страх, она снова и снова перебирала в памяти слышанное в храме Амона. Начальник царской стражи хотел стать чем-то большим, чем был, и не гнушался даже предательством. Это ясно. Но действительно ли жрецы Амона не решатся убить царя из священного страха перед ним? Хоремхеб пойдет на все, чтобы получить желаемое. Даже станет организатором — не обязательно орудием — убийства царя.
Тот, кто принесет царю такую новость, будет щедро награжден — а, может быть, ее высекут и искупают в соленой воде за то, что она осквернила уши царя ложью. Царь доверял командующему своими войсками и, насколько вообще был способен любить кого-нибудь, любил военачальника Хоремхеба. Этот неловкий, слабый человек с запинающимся языком, возможно, даже завидовал высокому сильному воину, который никогда не терялся и не путался в словах.
Нофрет была для царя ничем. Может быть, он ее даже не помнит, хотя с тех пор, как она стала служанкой третьей царевны, не раз разговаривал с нею.
Но все это неважно, если она станет жертвой грабителей на темных полуночных улицах Фив. Нофрет ускорила шаг почти до бега, стремясь туда, где, судя по всему, была река, где густой запах речной сырости перебивал человеческие запахи города. А вдруг она ошибается? Тогда придется блуждать во мраке до рассвета, если ее не поймает ночной бродяга-вампир и ее обескровленное тело не останется лежать в сточной канаве.
Нофрет уже почти бежала. Дыхание прерывалось. Она успокоила его усилием воли, но биение сердца усмирить не могла.
Девушка наткнулась на стену, шарахнулась, пробралась в щель между домами. А вот и река — широкое безмолвное пространство, шелестящее и переливающееся в лунном свете. Пустые лодки качались у причалов и вдоль берега. На другой стороне мерцал огонек.
На этом берегу, немного ниже, тоже был виден свет. Факел мигал и коптил, качаясь вместе с лодкой, стремившейся сорваться с привязи. Внизу громоздились тени: гребцы спали у весел. Она слышала громкий храп и ругательство, когда храпуна пинком заставили замолчать.
Нофрет была призраком, тенью, молчанием, почти бестелесным. Она подкралась к лодке. Ее никто не караулил. Нофрет дрогнувшими ноздрями уловила запах ячменного пива.
Это не могли быть люди Хоремхеба. Он не терпел пьяниц и стражей, спящих на посту.
И все же они явно кого-то ждали. Иначе не стали бы зажигать факел, который мог послужить маяком для воров и убийц и привести их к неохраняемой добыче.
В этой открытой лодке, полной спящих гребцов, все же оставалось достаточно места, где можно спрятаться женщине. На хозяйской палубе с навесом — за золоченым креслом — было затененное местечко, куда смогла втиснуться Нофрет, прижав колени к груди. Там можно было даже согреться: на полу лежал ковер, края навеса спускались до самого настила, а со спинки кресла свисало что-то вроде покрывала из тонкой шерсти или теплого плаща — Нофрет взяла его, завернулась и почувствовала себя замечательно уютно.
Сон наваливался на нее. Она боролась с ним, сколько могла. Но лодка плавно покачивалась на привязи, храп гребцов перешел в негромкое посапывание, теплый плащ надежно защищал ее от холодного речного ветра. Девушка свернулась в клубок и провалилась в глубокий сон.
Ее разбудили голоса и грохот. Затуманенный сном мозг все же сообразил, что на лодке выдвигают весла. Палуба качалась и потрескивала. Там кто-то стоял.
Моргая, она выглянула из-за кресла, еще не проснувшись и не успев испугаться. Спиной к ней стоял человек, уперев руки в бока, расставив ноги, чтобы удерживать равновесие при качке. Сквозь его полотняную одежду виднелся свет факела. Нофрет увидела очертания сильных мускулистых ног.
Ее глаза закрылись сами. И все же она оказалась права, или Бог направил ее. Девушка находилась на лодке военачальника Хоремхеба, который стоял прямо перед ней, повернув лицо к ночному ветру с реки. Он вовсе не чувствовал ее присутствия, как, впрочем, и никто другой.
Нофрет старалась дышать осторожно, и, хотя ее тело было чуть ли не скручено в узел, удерживалась от соблазна распрямиться. Лодка кралась к темному берегу, к единственному мерцающему там огоньку. При ярком лунном свете можно было видеть очертания дворца и прибрежные скалы, казавшиеся сейчас серебристо-белыми, а при дневном свете они были рыжими, опаленными солнцем.
Лежать было неудобно, поэтому переезд казался бесконечным, но берег приблизился слишком скоро для ее взволнованного ума. Гребцы поднимали весла с грохотом, напоминавшим отдаленный гром, другие побежали привязать лодку к причальному столбу. И никто не пришел спросить, кто же так поздно пересекает реку.
Нофрет оказалась в ловушке. Хоремхеб не спеша покинул лодку вместе с рулевым и парой стражников. Гребцы же и остальная вооруженная охрана возились бесконечно долго. Нофрет подумала, что даже большой морской корабль, наверное, не требует столько времени, чтобы привести его в порядок после долгого путешествия.
Если ей когда-нибудь удастся выбраться из ловушки, то придется делать это на четвереньках. Казалось, что спина никогда не распрямится. Колени были прижаты к груди, и руки уже болели, удерживая их в таком положении.
Нофрет хотелось закричать или вскочить, чтобы хоть как-нибудь положить конец этому бесконечному часу. Не было сил сдерживаться, пусть даже потом придется об этом пожалеть.
И все же девушка сдерживалась. Команда лодки наконец-то закончила свою бесконечную возню. Один за другим гребцы разошлись вместе со стражниками. Последний, уходя, забрал факел.
Это было неважно. Луна уже клонилась к заходу, но светила еще достаточно ярко. Нофрет расправила мускулы. Боже, как же они ныли! Прекрасно ныли. Как замечательно было лежать на спине, растянувшись неподвижно, как мертвое тело, и просто дышать.
Много позже, но слишком рано для измученных мышц, Нофрет заставила себя встать на ноги. В Фивах — измена. Как поступить, она не знала, но вовсе не хотелось, чтобы ее госпожу отравили или зарезали. Если такое случится, Нофрет останется без пристанища.
Во дворце не водились разбойники, и единственными грабителями на этой стороне реки были те, что грабили мертвых. С живыми они дела не имели. Нофрет пошла помедленнее, и боль во всем теле постепенно утихала. Она прошла через калитку, которую никогда не запирали и не охраняли, и почувствовала себя в безопасности, так никем и не замеченная.
Анхесенпаатон не спала. Нофрет подумала, что она вообще не спала в эту ночь. Незаметно, что царь побывал здесь. Юная царица лежала среди белоснежных простыней на своей роскошной постели с изголовьем из слоновой кости, выложенным золотом. Она была уже не тем загорелым до черноты худеньким ребенком, как тогда, когда Нофрет стала ее служанкой. От утренних солнечных ванн ее кожа по-прежнему была золотистой, но царевна — теперь уже царица — становилась женщиной, обещавшей стать очень красивой, когда полностью созреет.
Анхесенпаатон повернула голову, услышав, как входит Нофрет. Ее темные глаза не были подведены, но все равно казались огромными на узком лице. Она не улыбнулась. Похоже, ее госпожа не улыбается никогда, даже когда правит своей колесницей или играет с Тутанхатоном или маленькой Меритатон.
Нофрет опустилась на колени возле кровати. Анхесенпаатон молча смотрела на нее. Она иногда так развлекалась: ничего не говорила, просто глядела на пришедшего до тех пор, пока он сам не выложит все разом.
Нофрет часто выигрывала эту игру, не произнося ни слова, пока ее госпожа не лишится терпения от любопытства, но сегодня было не до глупостей. Она сказала:
— Хоремхеб вел изменнические разговоры со старшим жрецом Амона.
— Так вот где ты была, — отозвалась царица. Никакого удивления. Никакого потрясения. — Но тебя могли убить.
— Тебе было бы жаль?
Царица закрыла глаза.
— Возможно. Не знаю. — Она помолчала. — Амон мертв.
— Нет, — возразила Нофрет, не думая, но зная, что это правда. — Военачальник твоего отца хочет помочь жрецам избавиться от него.
— Они не сделают этого. Отец — царь. Ни один жрец не может даже коснуться царя. Он слишком хорошо знает, что боги сделают с ним за святотатство.
— Он также знает, на кого можно положиться, чтобы избавиться от царя. Не думаю, что военачальник Хоремхеб суеверный человек.
— Суеверия тут ни при чем. Царь есть царь: Гор на земле. Осирис среди умерших. Царство — это его собственное тело. Пока жив царь, живо и оно. Если он заболеет или умрет, царство тоже рухнет, если не найдется другой, чтобы стать царем вместо него.
— Обязательно найдется! — вскричала Нофрет. — Сменхкара им вполне подойдет: красивый, тщеславный и совершенный дурак.
Царица не стала выговаривать Нофрет за такую дерзость.
— Да, он дурак. Поэтому им и не удастся его использовать. Он поступил так же, как моя мать: во всем следует за царем, избранником Бога. У него не хватит ума, чтобы выступить против отца. Если они убьют отца, им придется убить и его. И тогда Два Царства рухнут.
— Не думаю. Они найдут себе нового царя, который достаточно многим обязан Амону и его жрецам и будет платить этот долг до самой своей смерти.
— Нет такого человека, — решительно сказала царица, села, поджав ноги, и хмуро посмотрела на Нофрет. — Даже если он осмелится, ему придется взять царственную жену, чтобы иметь право на корону. Ни одна из нас на такое не пойдет.
— Неужели? Даже если убедить одну из вас, что так лучше для царства или для вашего собственного сердца? А вдруг они захватят Тутанхатона?
— Тутанхатон никогда не позволит простому смертному указывать ему, что он должен делать. — Царица не хуже Нофрет знала, что говорит. Ее юный дядя был, честно говоря, ужасным ребенком. Но таковы все мальчики. Потом они вырастают и становятся людьми, подобными Хоремхебу, — или царю.
Нофрет задумалась и кое-что надумала.
— Хоремхеб способен притвориться союзником кого угодно, если это поможет ему добиться своего. И тогда он без угрызений совести отделается от любого, кто ему мешает.
— Хоремхеб верен царю, — сказала царица.
— Не похоже. Он говорил жрецу Амона, чтобы тот придержал своих людей, пока Хоремхеб не отправит твоего отца прочь из Фив, — Нофрет постаралась подчеркнуть каждое слово.
Царица вздохнула.
— Ах, так вот в чем дело. А ты не думаешь, что верный человек может вести переговоры с врагом ради безопасности своего царя?
— Безопасности?! — Нофрет всплеснула руками. — Ты действительно такая глупая? Он продаст и купит жизнь твоего царя — но тогда, когда будет нужно ему, а не Амону. По-моему, он хочет чувствовать себя более уверенно, когда двинется к трону. Разве ты забыла, как он хотел наводнить Ахетатон своими людьми?
— Он просто играл силой. Любой мужчина, обладающий самолюбием, покажет, что с ним нужно считаться. Это ничем не грозит царю. Даже у Амона не хватит наглости на такое.
Нофрет хотелось взвыть или сдаться. Она сделала и то, и другое, сердито и жалобно произнеся:
— Я совсем не понимаю тебя. Совсем…
— Конечно, не понимаешь. — Царица выскользнула из постели и подошла к Нофрет. — Мы должны увезти отца из Фив. Здесь Хоремхеб прав. Никто не тронет царя, но остальной двор в опасности, если люди так раздражены. Надо вернуться в Ахетатон. Иди, зови управляющего дворцом и кого-нибудь из служанок. Мне надо одеться, прежде чем он придет.
А кто же тогда Нофрет, если не служанка?
«Тень, — подумала Нофрет, когда бежала исполнять поручение. — На побегушках у желаний своей госпожи. Неутомимая искательница мест, где ей быть не положено».
Но это лучше, чем предавать царей. Даже такого, как Эхнатон.
20
Анхесенпаатон, похоже, видела истину, хотя и на свой лад, но царь был слеп ко всему, напоминающему правду. Он не двинется из Фив. «Госпожа Кийа больна, — сказал он с несокрушимым упрямством, — ей скоро рожать, она не может отправиться в путешествие». Двор пусть поступает, как хочет. Царь же останется в Фивах, пока его любовница не разрешится от бремени.
Не нашлось способа уговорить его, даже Хоремхеб не сумел. Нофрет подумала, что верховный жрец Амона не предусмотрел такой возможности, но не стала разыскивать храм, чтобы убедиться в этом. Ей хватило и одной ночи в том ужасном месте.
Кийа вместе с толпой служанок и врачей не покидала своих покоев, а царь проводил с ней все время, не занятое молитвами. Тем временем в городе становилось все более неспокойно. Нофрет не приходилось слышать о стычках между жрецами и городской стражей, но она знала о постоянных всплесках возмущения из-за пустяков, о том, что придворных оскорбляют, стоит им показаться на улицах, что печати на дверях храмов сорваны и там совершаются обряды вопреки запрету царя — но не в храме Амона.
Жрецы Амона держали слово, данное Хоремхебу. Никто не пришел убивать царя. Западный берег реки был спокоен, по крайней мере, с виду, тогда как восточный рычал даже во сне.
Однажды утром, через несколько дней после побега Нофрет из города и храма, ей случилось быть у ворот, когда человек в одежде жреца попросил провести его к царю. Он не походил на сумасшедшего, однако для жреца Амона было настоящим безумием открыто появляться в таком месте.
Его сопровождали с десяток молодых людей с настороженными глазами, все высокие и крепко сложенные. Нофрет с изумлением узнала худого человека, которого видела тогда в храме. Может быть, и среди стражников были знакомые по драке на улице.
Царская стража пропустила их без задержки и возражений. Нофрет удивилась, хотя удивляться было нечему. Начальником стражи был Хоремхеб.
Жрецов Амона провели прямо к Эхнатону — им не пришлось полдня ждать, прежде чем у него появится желание говорить с ними. Когда они предстали перед царем, Нофрет находилась в зале, и совершенно законно, поскольку ее госпожа тоже сидела на троне. Девушка смотрела прямо перед собой, чтобы не встретиться взглядом с высоким, крепкого сложения человеком, стоявшим среди солдат, — все они были меньше него. Хоремхеб себя не выдаст, тем более что сам столько времени был солдатом.
По-видимому, он не узнал ее. Нофрет была одета как царская служанка, а не как рабыня, бесцельно разгуливающая по городу. Волосы ее были туго заплетены, тело скрыто под платьем из тонкого полотна. Она надеялась, что выглядит совсем иначе, чем та острая на язык девчонка, встреченная им в храме Амона.
Царь и царица, судя по всему, не замечали Хоремхеба и не чувствовали опасности, которую он представлял. Они были в своем самом великолепном и самом нечеловеческом обличье: сплошное сияние золота, словно на изображениях богов и богинь. В похожем на пещеру огромном пространстве зала приемов, где эхо металось, словно летучие мыши под крышей, они казались ослепительными, как солнце, и так же мало интересующимися земными глупостями.
Перед ними были и другие гости и просители — долгую череду царских милостей царь расточал охотно, если его посещала такая фантазия. Потом придут и другие, польщенные тем, что на них пал свет присутствия самого царя, а не только царицы.
Посланцы — вернее, посланец, потому что все остальные были просто телохранителями — отдали царю почести в подобающей форме, как жрецы одного бога живому воплощению другого. Они тонко, но ясно дали понять, что подчиняются власти, а не человеку, которому она сейчас принадлежит; богу, чьим живым воплощением он является, но не царю, отвернувшемуся от всех богов, кроме одного, созданного им самим.
Возможно, царь понял то, что они хотели сказать ему без слов, а может быть, и нет. Казалось, он никого не видит. Взор его был устремлен в бесконечное пространство зала, ум где-то блуждал, как и всегда, когда Эхнатон хотя бы ненадолго снисходил до того, чтобы быть царем.
Тонкий голос жреца пробудил его от мечтаний — голос певца, поставленный так, чтобы заполнять огромное пространство храма. Голос был не громок, не пронзителен, но у Нофрет от него заныли зубы.
— О, царь! — произнес жрец. Только титул, никаких изъявлений почтения. — Властелин Двух Царств, восставший против их богов, слушай слово Амона — он вечен, и будет повелителем и Богом, когда даже твои кости превратятся в земную пыль. Вернись на его пути. Оставь свое заблуждение. Служи ему, как служили твои отцы до тебя, или ты испытаешь силу его гнева.
Царь не шевельнулся на своем троне, но все его души спрятались в тело, и мысли тоже. Прозвучала открытая угроза его Богу.
— Если ты не исполнишь своего долга, — продолжал жрец, — Амон проклянет тебя и все твое потомство. Твоя линия умрет раньше тебя. Твое имя будет вырезано из списка имен царей и позабыто.
Глаза Нофрет уловили какое-то движение. Хоремхеб подавал знаки — страже, сообщникам, кто знает?
Никто другой не мог даже пошевельнуться. Голос жреца словно сковал их. Его слова владели всеми. Он заставил людей вспомнить, что такое страх: страх перед богами и перед теми, кто им служит.
Царь сидел недвижимо. Заговорив, он совсем не заикался. Голос был не так богат оттенками и громок, как у жреца, но он говорил ясно, каждое слово падало отдельно, словно каменное. — Кто допустил этого безумца явиться передо мной?
— Так говорит сам Амон, о царь, — продолжал жрец, словно не слыша.
— Уберите его, — приказал царь.
Стражники, стоявшие ближе всех, побледнели и покосились на Хоремхеба. Тот мотнул головой: «Выполняйте!» Они неохотно сдвинулись с мест.
— Нет, — сказал жрец, — нет. Я уйду по собственной воле и по воле моего Бога. Помни, царь. Вернись к Амону, или будешь навеки проклят.
Ропот прокатился по залу. По спине Нофрет пробежал холодок. Проклятие жреца могущественно. Проклятый царь бросал тень на все свое царство, на все земли и людей, на войны и на мир, на сев и урожай.
Царь не выказывал страха ни перед проклятием, ни перед человеком, угрожающим ему.
— Амон для меня ничто. Атон защитит меня.
Он должен был сказать именно это. Но по лицам придворных, сверканию их глаз, неподвижности взглядов, прежде не заметной или не замечаемой, было ясно: они любили своего царя не больше, чем жители города или жрецы.
Царь же не видел ничего, кроме своего Бога. Он поднялся, сжимая посох и плеть. Плеть — бусины из золота и лазурита на золотых шнурах — рассекла воздух.
— Уберите этого человека!
Стража снова смотрела на Хоремхеба, снова спрашивала его разрешения повиноваться своему повелителю и царю. Хоремхеб хмурился, но Нофрет заметила довольный блеск в его глазах. Он немного помедлил отдать приказ, пока царь стоял, трясясь от ярости, а жрец смотрел на него с выражением, напоминавшим сожаление.
Царские стражники окружили жреца. Он оттолкнул их руки.
— Если бы твой бог, — обратился он к царю, — был истинным богом, он бы сейчас уничтожил меня. Я плюю на него. Я посылаю его в нижние царства, где ждет голодный Пожиратель Душ и ненасытный Сет еще не забыл вкус крови Осириса.
— Твой бог лжив, — произнес царь, уже спокойно и холодно, и снова обратился к страже: — Уберите его.
— Нужно было приказать убить его, — сказал Хоремхеб.
После того как жреца увели, царь продолжил аудиенцию. Казалось, он не замечает, что никто не обращает внимания на его слова. У придворных кружилась голова от удара Амона, наконец нанесенного и — или так только говорили — давно ожидавшегося. В Фивах царь оскорбил Амона прямо в лицо, и теперь заплатил за это.
Он сказал бы, что не заплатил ничего. Жрец уязвил его самолюбие, но жреца увели, а царь по-прежнему в Фивах, по-прежнему вершит справедливость в дворцовом зале.
Когда аудиенция закончилась, царь собирался отдохнуть. Но Хоремхеб направился вслед за ним в комнату для отдыха, где его дочь-царица с помощью Нофрет и целой толпы служанок и слуг успокаивала его и растирала благовониями.
— Нужно было приказать убить его, — повторил военачальник в ответ на возражение. — А теперь он будет рассказывать повсюду в Двух Царствах, как проклял царя и остался невредим.
— Его проклятие — ничто, — ответил царь, — лишь сотрясение воздуха. — Он зевнул и похлопал свою дочь-жену по щеке. — Немного побольше цветочного аромата, я думаю; а мускуса достаточно.
— Мой господин царь, — сказал Хоремхеб, скрипнув зубами, — проклятие жреца — не просто ветер. Оно возбудит против тебя все царство.
— Атон хранит меня, — примирительно сказал царь.
— Как сохранил твою царицу, детей и царство во время чумы? — рявкнул Хоремхеб. — Так же, господин царь?
Царь слегка вздрогнул. Анхесенпаатон втирала душистое масло в его плечи, возвращая ему спокойствие. Она ничего не сказала и не пыталась сказать. Заговорил царь:
— Ложный бог бессилен.
— Но для народа-то он истинный! — Хоремхеб постарался умерить мощь своего голоса, но стены маленькой комнаты дрогнули, и служанки заохали. Он не обратил на это внимания и продолжил более спокойно, но так, словно отдавал команды: — Людям нельзя приказать прекратить почитать богов их отцов только потому, что их царь полагает, что нашел лучшего бога, которому стоит поклоняться. Если бог проклянет царя, люди запомнят это — и припишут ему все бедствия, которые случатся с ними. Тебя уже ненавидят, господин царь. Продолжай в том же духе, и ты получишь нечто худшее, чем ненависть. Тебя вычеркнут из памяти людей.
— Ты тоже проклинаешь меня? — мягко спросил царь.
— Я говорю тебе правду!
— Я не стану поклоняться лживому богу и не покину этот город, пока мне самому не захочется.
Хоремхеб вытаращил на него глаза.
— Разве я просил тебя уехать?
— Собирался, — ответил царь. — Как и все. Но я остаюсь здесь. Мой сын родится в Фивах, как рождались все царские сыновья еще тогда, когда мир был юным.
Хоремхеб поклонился и вышел. Ни он, ни царь не вспомнили о том, что он не спрашивал разрешения уйти. Царь с облегчением вздохнул и, по всей видимости, забыл о нем.
Остальным не было дано такого счастья. Тогда как царь был убежден, что ему ничто не угрожает, народ в Фивах совсем осмелел. Придворные старались не выходить из дворца или бежали в свои поместья. Слуги никуда не ходили без стражи.
Молодой царь и его царица, жившие в собственном дворце в Фивах, отказывались покидать город, который Сменхкара считал своим. Но в жаркий полдень того дня, когда у госпожи Кийи начались роды, золоченая лодка торопливо пересекла реку, а за ней еще несколько лодок поменьше, до отказа набитых пассажирами и в спешке собранными вещами.
— Подожгли ворота, — Сменхкара задыхался, больше от возмущения, чем от спешки. — Люди воют, как собаки. Бросают камни. Невероятная наглость, брат, и все из-за пустяка.
Глупость являлась великим достоинством Сменхкары. Он не имел ни малейшего понятия о причинах ненависти, загнавшей его сюда, и испытывал лишь возмущение от того, что какие-то люди в Египте решились поступить так со своим царем. Бесстрашие молодого царя удержало его царицу от истерики, что, с точки зрения Нофрет, было очень хорошо.
На долю Анхесенпаатон выпали все хлопоты по устройству нежданных гостей. Это оказалось не очень сложно, потому что многие придворные уехали, но не обошлось без множества мелких проблем. Одного вельможу нужно поселить как можно дальше от другого, иначе они друг друга прикончат, эта дама не желает и видеть лица соперницы в борьбе за внимание какого-то юного красавчика, а прислуга плетет бесконечные интриги, добиваясь преимуществ для себя и своих господ.
От Меритатон не было никакого толку. Она хотела только сидеть на коленях у мужа, когда он бездельничал в саду. Одна мысль о том, что надо что-нибудь делать, вызывала у нее испарину.
«На самом деле она не так уж глупа», — подумала Нофрет, глядя, как ее бедная хозяйка пытается управиться с двумя дворами и с двумя царствами. Из всей шумной толпы, прибывшей с той стороны реки вместе со Сменхкарой, Нофрет была рада видеть только главную служанку Меритатон. Тама, в отличие от своей хозяйки, оказалась очень полезной. Она, конечно, никогда бы этого не сказала, но по ее взгляду на Анхесенпаатон было ясно, что Тама рада найти в Египте хоть кого-нибудь, кто знает, как править царством.
В этот вечер и покоях молодой царицы раздавалась музыка; арфа и красивый голос Тамы звучали так, как не звучали уже давно, с тех дней, когда еще все царевны были живы и жили вместе в Ахетатоне. Меритатон отправилась спать вместе с возлюбленным. Царь в дворцовом храме молился за свою любовницу, которая все еще не родила ему наследника. Музыку слушали только Анхесенпаатон, служанки и немногочисленные придворные дамы.
Нофрет, сидя у ног своей госпожи, положила руку на колени Анхесенпаатон и оперлась на нее подбородком. Явная фамильярность, но царевна не сделала ей замечания. Она смотрела на Таму. И Нофрет смотрела, и слеза выкатилась из уголка ее глаза и скользнула по щеке.
Тама тоже плакала. И пела. Нофрет удивлялась сама себе. Она часто вспоминала те времена, когда царские дочки были маленькими, но ведь не плакала же. А сейчас ей хотелось сделать царю что-то очень нехорошее: привязать позади колесницы, отхлестать палками, доказать ему, что его Бог лжив.
В предрассветной тьме госпожа Кийа родила царю дочь — уже девятую, большую и сильную. Матери не так повезло. Рождение крупного ребенка вызвало повреждения, у нее началось кровотечение, и она находилась чуть ли не при смерти.
И речи не шло о том, чтобы покинуть Фивы, пока роженица была так плоха. Однако, очнувшись от глубокого сна, во время которого блуждала у самого края сухой земли вместе с душами недавно умерших, Кийа велела позвать к себе царя и его младшую дочь.
Она была похожа на труп — красивый, белый, словно кости под ее нежной кожей. Ее тело, еще бесформенное после рождения ребенка, искусно закутали тонким льняным покрывалом, волосы заплели в косу и уложили на плече. Она казалась не старше Анхесенпаатон.
Сил оставалось мало, но те, что еще не покинули ее, Кийа вложила в свои слова, когда те, кого она призвала, встали по сторонам постели. Царь взял ее за руку. Дочь царя стояла чуть в стороне.
— Мы должны покинуть этот город. Завтра прикажите готовить лодки. Поедем обратно в Ахетатон.
— Дорогая, — начал царь, — ты не можешь…
— Я хочу вернуться домой, — сказала она, и губы ее задрожали.
«Искусно», — подумала Нофрет.
Анхесенпаатон явно так не думала.
— Кто говорит с тобой? — спросила она резче, чем намеревалась.
Кийа закрыла глаза.
— У меня есть уши. Я все слышу. Я знаю, что здесь молодой царь и его царица. Они бы никогда не покинули свой дворец, будучи там в безопасности.
— Здесь вполне безопасно, — сказал царь.
Кийа не открывала глаз, зная, должно быть, какой хрупкой кажется и какой очаровательной.
— Я хочу домой, — повторила она слабеющим голосом.
Нет, она не притворялась обессиленной. Царь открыл было рот и снова закрыл.
Какой-то звук заставил Нофрет бистро взглянуть в сторону двери. Он был сродни грому, шуму моря, приглушенному стенами.
Все жители Фив собрались на восточном берегу реки, обращаясь к царю во дворце. Они пели гимн Амону, и в нем звучали и приказ, и обещание.
— «Покинь. Покинь мой город, или я приду и уничтожу тебя».
Об этом Нофрет узнала позже, а сейчас только слушала и содрогалась. Она знала, как воет стая волков, готовых убить.
Анхесенпаатон заговорила, очень спокойно, очень хладнокровно:
— Прикажи готовить лодки. Мы отплываем на рассвете.
21
Царям, царицам и двору показалось, что рассвет наступил слишком поздно. Всю ночь напролет жители Фив распевали гимны и проклятия, вспоминали всех богов по очереди, называя каждого живым воплощением истины. Царь попытался противостоять им, выстроив своих людей на дворцовых стенах и заставив их петь гимны Атону, но их было слишком мало и они были слишком напуганы. То, что он хотел представить как мощный хор в честь его Бога, прозвучало тонко и жалобно и очень скоро затихло. Когда последний из его людей замолк и убежал, царь продолжал петь один. Голос у него был верный, но слишком слабый и едва ли слышный на расстоянии полета копья. Он стоял при бледнеющем свете луны, вцепившись в парапет дворцовой стены, и в шумную тьму пел хвалу Атону.
Наутро цари отплыли из Фив на золоченом корабле. Их утомленные и перепуганные люди пытались выглядеть браво и торжественно. Сами владыки были выше такой смертной вещи, как страх. Они сидели на двойном троне, стоявшем на палубе корабля, в величественной неподвижности; каждый был увенчан двумя коронами, каждый сжимал в руках посох и плеть. Их лица, скрытые под маской краски, были невозмутимы.
На втором корабле плыли их царицы, надежно охраняемые целой флотилией лодок с вооруженной стражей. Меритатон была сама не своя от страха, но Тама напялила на нее платье, парик и корону и сунула в руки скипетр, в который та судорожно вцепилась, как будто он был ее единственной защитой перед войском демонов.
Анхесенпаатон сидела рядом с ней так же спокойно, как цари, но в ней была видна жизнь разума. Нофрет заметила, как ее взгляд скользил по восточному берегу, по людям, которые стояли плечом к плечу и продолжали петь и насмехаться над своим царем, над его приверженностью к своему Богу.
Из их рядов не вылетела ни одна стрела, ни одно копье, брошенное, чтобы избавиться от царя. Они не собирались убивать его — просто отвергли и изгнали из своего города.
Эхнатон покидал Фивы не как изгнанник, а как человек, с радостью возвращающийся домой. Госпожа Кийа находилась в царском корабле: Нофрет видела алый навес, под которым она лежала, и слуг, которые сновали туда-сюда, ухаживая за своей госпожой. Крик младенца разносился над водой. У последней царской неудачи были сильные легкие, и она не стеснялась пользоваться ими.
Много времени спустя Нофрет вспомнит это бегство из Фив: блещущие золотом суда, перепуганных гребцов, людей, теснящихся на берегу, словно тростники на болоте, голоса, вздымающиеся и затихающие в гимне вечно живущему Осирису. Яркое солнце Египта, бросающее ослепительные блики на воду, в сознании царя превратится в мощную силу живого света, выступившую против Бога, которого никто не мог видеть.
Пение долго преследовало их, пока они плыли вниз по реке, с попутным ветром в парусах, по течению, быстро и молча. Тишину нарушали только ветер и детский крик.
…После величественных Фив Ахетатон показался удивительно маленьким. Все его красоты были совсем новыми, лишенными жизни и души, какую могут вдохнуть только столетия. Стены гор окружали его, закрывая от царства и богов.
Цари оставались царями, и Два Царства нуждались в них. Но они не выезжали из Ахетатона, заявляя, что таков их выбор — жить и славить Атона в его священном городе. Но этот выбор был вынужденным. В остальной части Египта их не желали видеть.
Для тюрьмы здесь было просторно и роскошно. Двор предавался глупостям, каждый час выдумывая причуды. Цари вели себя в соответствии со своими характерами: Эхнатон молился и предавался фантазиям, Сменхкара развлекался с царицей и наложницами, охотился, пировал в компании молодежи.
Казалось, они не замечают, что кроме этого города, пустыни вокруг и реки неподалеку у них больше ничего нет. Как обычно, прибывали гонцы, послы, письма от царей и вельмож. Внешне ничто не изменилось.
Но Египет отверг своего царя. Его терпели среди живых, поскольку царская власть священна, но его Бога принимать не желали и терпеть не собирались. Его брат, молодой и красивый, находился не в лучшем положении.
Но и Эхнатон, и Сменхкара все еще были царями. И для них имело значение только это.
Нофрет обнаружила, что, словно в подражание царям, тоже живет как бы в заточении. Приобретенной в Фивах привычки не покидать дворца она придерживалась и в Ахетатоне, хотя здесь была в безопасности, здесь ей был знаком каждый закоулок. Она цеплялась за круг своих повседневных обязанностей, прислуживая госпоже, болтая с Тамой в долгие дремотные полудни, пока их хозяйки спали или проводили досуг с мужьями, и этот круг становился все уже и теснее, пока в одно прекрасное утро она не выглянула из окна спальни своей госпожи. Двор показался ей невыносимо огромным.
Это напугало Нофрет. Как-то днем, хотя Тама настроилась долго и со вкусом посплетничать, она позаботилась о том, чтобы ее госпожу устроили в прохладной комнате и приставили к ней двух служанок — одну с опахалом, а другую для исполнения приказаний, а сама умчалась.
Теперь Нофрет занимала довольно высокое положение. Она стала доверенной прислужницей царицы и носила полотняное платье и парик. Парик она терпеть не могла, но платье пришлось ей по вкусу. Свои буйные волосы она обычно заплетала в косы с бусинами на концах или связывала шнурком, и они свободно свисали по спине. Сегодня она уложила косы повыше, чтобы было не так жарко. Амулеты, купленные в Фивах, висели на шнурке на груди, под платьем.
Нофрет решительно направилась к воротам дворца. Как обычно, днем они были открыты, по обеим сторонам стояли стражники с копьями, сияя латами из позолоченной бронзы. Оба были ей знакомы, но решились лишь ухмыльнуться, когда девушка проходила мимо. У одного из них до сих пор оставался шрам на носу, после того, как однажды — только однажды — он попробовал распустить руки.
Миновав их, она вышла в город — и застыла.
Мир был слишком огромен, стены — недостижимо далеки, небо — безгранично высоким, и она летела в него.
Нофрет охнула и с трудом уняла дрожь в коленях. Стражники смотрели прямо перед собой, намеренно не замечая ее. В душе она поблагодарила их, хотя никогда не сказала бы этого вслух. Вдруг им захочется более весомой благодарности?
Очень решительно, но с колотящимся сердцем девушка устремилась в город. Он казался странным, незнакомым, как в страшном сне. Или она заколдована? Неужели отзвук проклятия, павшего на царя, мучает и ее, заключая в стены собственного страха?
«Нет, — сказала она себе. — Слишком долго пришлось просидеть взаперти, вот и все». Мир казался чересчур большим, небо неправдоподобно высоким. Такое уже бывало в Митанни, когда она проводила целые месяцы в одних и тех же комнатах, с одними и теми же вещами, среди одних и тех же лиц. Надо просто снова выйти в открытый мир, и все пройдет. Стены опять станут обычными стенами, и небо просто небом.
Нофрет пробиралась через толпы на базаре, слишком ошеломленная и одурманенная, чтобы что-либо покупать, хотя торговцы зазывали ее, уговаривая зайти и посмотреть их товары. Девушку влекло в определенном направлении. Это не имело ничего общего с горячими пирожками с луком и дешевыми безделушками.
Снова стены, а за ними пустыня, дорога, ведущая на восток, к скалам и гробницам. Здесь небо уже не казалось таким ужасным, и в воздухе не летал страх. В горле у нее пересохло: она пожалела, что не потратила немного ячменя на кувшин пива.
Ладно. Жажда не убивает так быстро. Какая-то ее часть пыталась возражать Нофрет, но предпочла не слушать. Она шла в чистое место, не имевшее ничего общего с царями и их богами.
Селение строителей было таким же, как и прежде. Те же собаки лаяли на нее, те же голые детишки играли на улице. Женщины апиру болтали у колодца, пряли шерсть, сидя у дверей, нянчили детей и смотрели на Нофрет как на незнакомку: без враждебности, но и без особого дружелюбия.
Некоторых девушка знала по именам, но не обращалась к ним. Их глаза не узнавали ее. Это было больно. Кажется, не так уж давно она приходила сюда в последний раз. Или давно? Год назад, больше… Не вспомнить. Неужели она так изменилась просто потому, что одета в платье?
Подходя к дому на краю деревни, возле скалы с кривым деревом, Нофрет уже начала злиться. Она остановилась перед дверью, готовая постучать и спросить разрешения войти. Но медлила. Если это действительно было так давно, может быть, Леа, Агарон и Иоханан вовсе уже не живут тут. Они могли умереть, или…
Глупости. Леа здесь. Она не понимала, откуда может знать это, но Леа была в доме и ждала ее.
Нофрет вошла, как будто имела на это полное право, вошла в тепло, пахнущее козами, а потом за занавеску, словно под полог шатра. С тех пор, как она была здесь в последний раз, все немного обветшало и запылилось, но комната оставалась такой же.
Не изменилась и женщина, сидевшая за ткацким станком в полосе света. Ткань была красивая, в красную, черную и темно-золотую полоску, сотканная плотно и гладко. Узловатые пальцы ловко перебирали нити, не останавливаясь даже тогда, когда Леа подняла голову и улыбнулась Нофрет.
Нофрет свернулась у ног Леа и положила голову на колени, укрытые шерстяной юбкой, словно была здесь только вчера или вообще не уходила. Старая женщина пропустила челнок туда и обратно, выпрямилась и положила руку ей на голову.
Она ничего не сказала. Нофрет была рада этому. Если бы Леа заговорила, девушка не удержалась бы и разрыдалась, как ребенок.
Нофрет просидела так довольно долго, потом выпрямилась, чувствуя пустоту и чистоту, как будто выплакавшись. Леа наблюдала за ней со спокойным интересом, ничего не предлагая, ничего не требуя.
— Не знаю, что на меня нашло, — сказала Нофрет, хрипло из-за непролившихся слез. — Войти так…
— Ты пришла туда, куда тебе было нужно. Что-то случилось с твоей царевной?
— Нет! — воскликнула Нофрет и со свистом втянула воздух. — Нет. Царевна здорова. Все в порядке, насколько возможно… При том, что…
— При том, что ей едва тринадцать лет, а она ждет ребенка.
Нофрет охнула и вскочила на ноги.
— Откуда ты… Она не…
— Ждет, — Леа взяла Нофрет за руки и наклонила, оказавшись с ней лицом к лицу. — Милосердный бог был добр к ней и не позволил забеременеть так скоро, как ее сестрам.
— Что же в этом хорошего? — грустно пробормотала Нофрет. — Родится еще одна дочка.
— Да, всего лишь дочка. Но ведь и ты была дочкой.
— Но никто же не ожидал, что мы будем царскими сыновьями! — Нофрет запнулась. Молчание тянулось долго. — По крайней мере, от тебя.
— Да, я должна была стать всего лишь жрецом и предсказателем. Мой бедный отец был жестоко огорчен, когда обнаружил, что дар у меня есть, но я не получила благословения родиться мужчиной. Ни один из сыновей, появившихся после меня, не имел призвания к божественным делам. Они все стали воинами в армии фараона или пастухами его стад. Наш отец умер разочарованным.
— То же произойдет и с этим царем, — сказала Нофрет, — и может быть, уже давно пришла пора.
— Возможно, — согласилась Леа. — Вставай, дай мне подняться. Есть свежевыпеченный хлеб, сыр и…
— Нет, я сама принесу. Я помню, где что лежит. — Нофрет помолчала. — А где ваша служанка?
— Зилла покинула нас. Вышла замуж за Шема-пастуха, его матери нужна была помощница. Теперь по утрам приходит девочка, учится прясть, шить и готовить, но, когда солнце поднимается в зенит, она оставляет меня с моим одиночеством. Это очень приятно.
Нофрет с трудом могла вообразить себе такую роскошь. Целый день быть одной, делать что хочется и когда хочется — потрясающе.
Леа улыбнулась.
— Давай вместе накроем на стол. Мириам принесла мне корзинку пирожков, которые испекла сама. Она попробовала какой-то новый рецепт с финиками и медом, пахнет соблазнительно.
— А как же Агарон и… — начала Нофрет.
— Придут, — успокоила ее Леа. — Они не ясновидящие, как мы, но свой обед чуют превосходно.
Нофрет засмеялась и замолкла, почувствовав себя странно. Сколько она уже не смеялась? Месяцы? Годы?
С тех пор, как последний раз была у этих людей… А сейчас она болтала с Леа, вроде бы ни о чем, но рассказывала ей много всего: о Фивах и их великолепии, о молодом царе, о царевне-царице, о своей приятельнице Таме, о дворе в золотой тюрьме.
У Леа тоже были местные новости для Нофрет: одна женщина вышла замуж, другая овдовела, еще с полдюжины ждут ребенка или недавно родили. Козел все еще правит в своем царстве, и его гарем народил козлят, к его великой гордости.
— И все же, хотя он уже немолод и не так прыгуч, но по-прежнему залезает на стену и носится по деревне в базарные дни, совсем как прежде, — сообщила она.
Нофрет все еще смеялась, расставляя на столе последние чаши и тарелки, когда раздвинулась дверная занавеска, и вошел, наклонившись, Агарон. Он показался еще больше, чем прежде, сильнее, с запыленными черными волосами и…
Рот ее раскрылся сам собой. Это был вовсе не Агарон, если разве только ему удалось сбросить два десятка лет и лишиться роскошной бороды. Но Нофрет тотчас же поняла, что ничего подобного не случилось — Агарон вошел вслед за незнакомцем, сверкая белозубой улыбкой среди роскошной бороды, в которой уже появилось несколько нитей серебра.
— Нофрет! Маленькая рыбка. Ты превратилась в настоящую женщину.
Она залилась краской, как девчонка, и чуть не выронила кувшин с козьим молоком. Агарон засмеялся, отобрал кувшин и заключил ее в объятия.
Прежде он никогда так ее не приветствовал, с такой семейной теплотой. Девушка была слишком изумлена, чтобы возражать или ответить взаимностью.
Агарон удерживал ее на вытянутых руках, рассматривая.
— Ах, я смутил тебя, — сказал он без особого сожаления и покачал головой. — Надо бы мне научиться придворному обхождению.
— Не надо!
Ее возмущение позабавило его. Он отпустил девушку и направился обниматься с матерью.
Оставался еще второй, молодой. Он густо покраснел. По этому и по благородной горбинке носа Нофрет узнала его.
— Иоханан?
Он покраснел еще гуще, но засмеялся. Голос у него был почти такой же низкий, как у отца.
— Я бы тоже не узнал тебя, если бы бабушка не сказала, что ты сегодня придешь.
Нофрет уставилась на, него. Иоханан смотрел на нее так же дерзко и так же смущенно.
— А на тебя приятно посмотреть, — сказала она наконец.
— И на тебя, — отозвался он. — Ты теперь важная дама? Я что-то не видел возле дома твоих носилок. Ты отослала их?
— Нет, — ответила она язвительно. — Я пришла пешком. Представь, всю дорогу шла пешком, как и всегда. Если ты, наконец, увидел во мне женщину, это еще не значит, что я слабое существо.
— Я всегда знал, что ты женщина. А я-то ведь тоже удивил тебя. Ты никогда не думала, что я повзрослею.
— Ты еще не повзрослел.
Одежда на нем была помята. Нофрет оправила ее, стряхнув каменную пыль, машинально, не задумываясь, и смутилась. Может быть, потому, что он не возражал. Или оттого, что он был рядом, такой изменившийся и все же неизменный. Она ожидала, что Иоханан останется таким же, как и раньше, или изменится до неузнаваемости, а произошло то и другое одновременно.
Так обычно бывает с мальчиками. Вот они еще дети, или почти дети, с ломающимся голосом и чуть пробивающейся бородкой, а уже через год становятся мужчинами — высокими, сильными, с низким голосом и очень гордыми собой, как будто в этом их собственная заслуга.
Иоханан не сводил с нее глаз. Ей хотелось прикрикнуть на него, но что-то удерживало — может быть, присутствие его отца и бабушки, ожидавших, когда они, наконец, сядут и примутся за еду. Оба казались очень довольными.
Нофрет бросила на них возмущенный взгляд и уселась на свое обычное место, по правую руку от Агарона, как гостья. Но сразу же вскочила. Некому было исполнять обязанности прислуги, принести горшок с кухни.
— Сиди, — сказал Иоханан со всей солидностью новоприобретенной взрослости. — За прислугу буду я. — И добавил в ответ на ее слабый протест: — Я и раньше это делал. Улыбка на его новом, таком смущающе красивом лице осталась прежней.
«Кто бы мог подумать, — размышляла Нофрет, пока он прислуживал им всем, как хорошо обученный слуга, — что этот костлявый длинноносый Иоханан вырастет так похожим на своего отца?»
Девушка глубоко вздохнула. Здесь ей было хорошо, лучше, чем в любом другом месте. Даже лучше, чем в Хатти, в отцовском доме. Неважно, что она пришла сюда как чужеземка и встретила чужеземцев, которые оказались ей родными.
Незадолго до захода солнца Нофрет неохотно поднялась и собралась уходить. Агарон и Леа простились с ней у дверей дома, но Иоханан тащился следом с видом потерянного пса. Так она ему и сказала, не замедляя шага и не оборачиваясь, решительно двигаясь к дороге, ведущей в город.
Одним широким шагом юноша поравнялся с ней.
— К тому времени, как ты доберешься до дворца, уже стемнеет.
— Ну и что? Я столько раз возвращалась по ночам, а ты и слова не говорил.
— Это было раньше.
— Раньше чего?
Такой тон был ему знаком: его брови поползли вверх, но он не ухмылялся, как прежде.
— Раньше, чем я по-настоящему увидел тебя.
— Ну и как, на мне есть пятна?
— Да, пара есть.
Нофрет чуть не споткнулась от неожиданности, но устояла на ногах. Нельзя позволить ему лишить ее равновесия, как бы он ни пытался.
Едва ли не скрежеща зубами, но со спокойным видом, она проговорила:
— Я не такая уж хрупкая. Можешь перестать беспокоиться. Возвращайся домой и корми своих коз.
— Я покормил их перед обедом. Разве я не могу прогуляться вечерком? Сегодня прохладней, чем вчера, ты не находишь?
Нофрет зашипела:
— Сколько тебе лет? Ты уж видел пятнадцать разливов реки? Может быть, тебе лучше приударить за какой-нибудь милой розоволицей девочкой в полосатой накидке?
— Мне шестнадцать, — ответил Иоханан с достоинством, — и мне не нравятся милые розоволицые девочки в полосатых накидках. С ними скучно. И к тому же, — добавил он, оставив самое худшее напоследок, — они хихикают.
Хихикать Нофрет не умела. А хотелось бы.
— Живя в Хатти, я уже была бы замужем или собиралась бы выходить замуж.
О боги! Не следовало упоминать об этом, да она и не собиралась говорить ничего такого.
В походке Иоханана еще сохранялась прежняя неловкость, как будто тело не до конца слушалось его. Юноша споткнулся о камень, с его губ сорвалось неподобающее словечко, и он покраснел до ушей.
Переведя дыхание, он снова обратился к Нофрет, так же мало соображая, что говорит, как и она:
— А ты когда-нибудь… я имею в виду, у тебя когда-нибудь был кто-нибудь, кто хотел…
Нофрет поняла и побледнела от злости.
— Зачем тебе это знать? Потому что я рабыня, а все рабыни развратницы? И ты хотел бы затащить меня куда-нибудь под куст?
— Нет!
На этом слове его голос сорвался. Он был потрясен, а потом разозлился.
— Как тебе не стыдно думать, что я могу оскорбить тебя подобным образом?
— Но ты же только что сделал это.
— Я не оскорблял тебя!
— Оскорблял!
Нофрет замолчала. И Иоханан тоже. В прежние времена оба рассмеялись бы, и ссора закончилась бы тем, что они рука об руку побежали бы, куда вздумается. Но теперь все было иначе. Они оба повзрослели.
— Мне противно, — выпалила Нофрет, — То, с каким видом ты на меня смотришь. Словно не узнаешь меня. Как будто… Как будто во мне появилось что-то ужасное. Вместо того, чтобы…
О боги и богини! Нофрет протекла слезами, как дырявая посудина. Конечно, ему следовало бы заключить ее в объятия, как всегда делают мужчины, успокоить и защитить ее, но тогда она еще больше его возненавидит.
Но Иоханан ничего подобного не сделал. Да, он дотронулся до нее: положил руку на плечо — легко, по-дружески, дав понять, что он рядом.
Это ей тоже пришлось не по вкусу, потому что Иоханан повел себя не так, как мужчины должны вести себя с женщинами.
Нофрет попыталась стряхнуть его ладонь, но он обнял ее за плечи. Так они и продолжали идти. Солнце светило прямо и лицо, ослепляя ее сквозь слезы. Какая-то часть ее сознания рассуждала о том, что египетские мужчины часто ходят так со своими женами, так их изображают и в гробницах, когда двое сидят рядом и он обнимает ее за плечи, показывая вечности, что они не только любовники, но и друзья.
У нее вот-вот начнутся месячные, вот в чем дело. В эти дни она всегда бывает слезливой и раздражительной, а с недавних пор еще и слишком много думает о том, что мужчины делают с женщинами. Но не с ней. Она сама выберет подходящего мужчину и подходящий момент, пусть даже он не наступит никогда.
Этот мальчик ей друг, только и всего. Близкий друг. Родной. Он знает, когда нужно помолчать вместе, как сейчас.
Нофрет резко остановилась. Иоханан пристально смотрел на нее. Глаза у него были большие и темные, не такие узкие, как у египтян, с длинными загнутыми ресницами, словно у девушки. И что он в ней увидел? Опухшие глаза, лицо в пятнах от слез. Ничего такого, о чем мог бы мечтать мужчина.
— Возвращайся домой. Я сама могу о себе позаботиться.
— Я знаю, но хочу пройтись с тобой.
— Не ври. Ты же работал в гробницах с самого рассвета, я это прекрасно знаю, и теперь от усталости у тебя глаза закрываются. Иди домой и ложись спать.
— Нет.
Иоханан редко произносил это слово прямо, но если произносил, его невозможно было переубедить. Он пошел вперед, и Нофрет неохотно двинулась следом.
Пройдя несколько шагов, юноша заговорил:
— А что, если я соскучился? Тебе это не пришло в голову? Может быть, я хочу подольше посмотреть на тебя, прежде чем ты снова уедешь на год.
— Весь этот год в Фивах я просидела взаперти во дворце и забыла, как гуляют под открытым небом. И, может быть, я просто не хочу слушать, как ты укоряешь меня за то, что я не появлялась у вас. Ведь ты-то вообще никогда ко мне не приходил. Я тебе не принадлежу, и не указывай мне, когда приходить и уходить.
Иоханан не моргнув глазом выслушал столь серьезный укор.
— Я приходил во дворец, когда ты вернулась, и спрашивал о тебе. Мне посоветовали бросить это дело. Хеттская красавица, служащая самой царице, никогда не снизойдет до столь ничтожного юнца, как я. Я понял, что ты стала безгранично гордой и надменной, слишком гордой, чтобы обращать на меня внимание.
— Стало быть, ты повернулся и ушел. — Нофрет хотелось поиздеваться над ним, но дух противоречия, сидевший в ней последнее время, заставил ее смягчиться. — Глупый. Тебе надо было сказать, что ты принц из дома принцев, попросить немедленно проводить тебя ко мне, иначе им всем придется плохо. Вот как поступают во дворце, когда одинокие странники интересуются слугами царицы.
— Я не знал, — обиженно сказал он, — я никогда не ходил во дворцы.
— И хорошо, что не ходил. — Злость прошла, потерялась где-то, как и слезы. Ее локоть упирался ему в бок, Нофрет обняла его за талию, зацепившись большим пальцем за пояс, чтобы было удобнее. Раньше она никогда так не делала, но это показалось ей таким привычным и удобным, как будто уже много раз они ходили так по каменистой дороге в город Атона.
— Когда ты придешь в следующий раз, скажи стражникам, что личная служанка царицы ожидает тебя. Будь для них принцем. Заставь их слушаться и делать то, что ты велишь.
Иоханан некоторое время обдумывал ее слова. Обиженное выражение исчезло с его лица; на нем промелькнула улыбка.
— Это-то я сумею. Вроде как быть десятником на строительстве. Я был им в прошлом году и хорошо умею объяснять людям, что делать. Но обрабатываю камень, — добавил он немного грустно, — я не так хорошо. А вот отдавать приказы могу.
— Ага, предводитель, — с легкой насмешкой сказала Нофрет, снова остановилась и освободилась от его руки. — А теперь иди домой. Приходи повидать меня, когда сможешь, в свободный день. Мне всегда разрешат уйти. Моя госпожа понимает такие вещи.
— Я знаю. Я приду. И войду как принц, даже если надо мной будут смеяться.
Нофрет присмотрелась к нему в закатном свете. Он совсем непохож на египтянина: вьющиеся черные волосы, бородка, внушительный нос. Он станет еще выше ростом, и силы, накопленной за годы работы на строительстве гробниц, тоже будет немало.
— Тебя назовут чужеземцем, но никто не станет смеяться над тобой. У них хватит для этого здравого смысла. Ведь ты же выше любого из них и силен как бык.
Иоханан покраснел.
— И такой же неуклюжий, а это смешно, я знаю.
— Ну и дурак, — Нофрет подтолкнула его в сторону деревни. — Всего хорошего. Приходи ко мне. Обещай.
— Обещаю, — сказал он, хотя, кажется, все же боялся, что над ним будут смеяться.
22
Среди роскошной и пустой придворной жизни Ахетатона царь существовал словно душа, оторвавшаяся от тела. Он выглядел не более безумным, чем прежде, и так же мало интересовался царскими обязанностями, но, по мнению Нофрет, совсем отрешился от всего, что окружало его.
Когда пришла новая болезнь, говорили, что это проклятие Амона. Она разразилась только во дворце и поразила лишь самых царственных: убила Кийю, которая так и не оправилась после рождения дочери, схватила и пожрала Меритатон-младшую, хрупкое бледное дитя, сгоревшее, словно ночной факел при свете дня. Болезнь забрала и дочь Кийи, которая казалась самым крепким ребенком из всех детей царя, забрала и оставила безжизненное тело — царь смотрел на него так, будто никогда прежде не видел мертвых.
Она чуть не унесла и Анхесенпаатон. Сначала царица переносила беременность плохо, но скоро это прошло, и она настроилась долго и спокойно ожидать рождения ребенка. Ожидание кончилось слишком скоро, и в горячке болезни она произвела дитя на свет. Ребенок был недоношенным и очень маленьким, но, казалось, настроен жить несмотря ни на что.
Еще одна дочь… Нофрет не стала заниматься девочкой, предоставив кому-нибудь другому взять ее, обмыть и сделать все необходимое. Ребенок принадлежал только Анхесенпаатон. Она выдержала холодный взгляд акушерки и еще более холодный — личного царского врача, который пришел только тогда, когда женщины уже обошлись без его помощи, и обняла свою госпожу. Царица вырывалась, хотя кожа ее напоминала папирус, растянутый над горящей жаровней.
Пришли жрецы, пели гимны и совершали магические обряды. Суетился царский врач с целой свитой помощников. Сам царь пришел, поглядел и удалился.
Нофрет была рада, что он не остался. Анхесенпаатон не узнавала никого, незачем было узнавать и его. Ее душа блуждала где-то далеко, в стране детства или среди мертвых. Она говорила с сестрами и с матерью, смеялась и лепетала, как маленький ребенок, но все время цеплялась за Нофрет, начиная беспокоиться, как только та пыталась отойти.
Нофрет предпочитала думать, что, хотя Анхесенпаатон называла ее всеми именами от матери до Сотепенры, где-то в глубине сознания, несмотря на жар, она знала, что говорит с Нофрет. Так было проще, чем смириться с мыслью о том, что о тебе помнят лишь как о теле, за которое можно уцепиться.
Ночь была длинна, а следующий день еще длиннее. Нофрет слышала рыдания и по соседству, и где-то в отдалении. Кто-то еще умер. Она не стала спрашивать, кто. Анхесенпаатон была еще жива. Царица лежала на своей постели, маленькая, как ребенок, и даже то небольшое количество плоти, какое у нее было, казалось, растаяло, чуть ли не обнажив кости. Она хрипела, вдыхая воздух, и кашляла, выдыхая.
Жрецы и врачи перестали пытаться отделить Нофрет от ее хозяйки. Для нее освободили место, круг тишины, где голова Анхесенпаатон лежала на коленях Нофрет. Вокруг лежали амулеты, скверно пахнущие магическими и лечебными снадобьями. Самым простым из них был навоз.
Нофрет закашлялась от вони. Один из жрецов бросил на нее недовольный взгляд.
В ней что-то словно сорвалось.
— Вон, — сказала она, стараясь говорить спокойно, — все вон.
Конечно, на нее не обратили внимания. Врач, звеня стеклом и металлом, зажег в чаше что-то мерзкое: еще навоз, а вместе с ним — волосы какого-то существа, при жизни не отличавшегося чистоплотностью.
Нофрет очень бережно сняла с колен голову хозяйки. Царица была в глубоком забытьи. Нофрет осторожно разжала тонкие пальцы, впившиеся в ее запястье. От них остались красные полосы, но она не стала думать об этом.
Возле постели стояло опахало из перьев, оказавшееся очень удобной метлой. Нофрет вымела их всех прочь, жрецов и врачей, служанок и дам, просто зевак — всех прочь. Она захлопнула дверь за последним из них, заложила на засов и стояла, тяжело дыша, чувствуя, как опахало валится из рук.
— Ох, о боги! — воскликнула она немного погодя, выронила опахало и, оставив его валяться на полу, бросилась к своей госпоже.
Анхесенпаатон еще жила и дышала. Кровотечение у нее не было сильнее, чем обычно у женщин сразу после родов. Она была без сознания, но, когда Нофрет обняла ее, потянулась к ней, словно ребенок к матери.
«Горячая, — подумала Нофрет. — Такая горячая». Она подняла свою госпожу, обнаружив, что та совсем легонькая, только кожа да хрупкие кости. Ступая так плавно, как только могла, она отнесла Анхесенпаатон в зал с колоннами, где находилась ванна для царицы.
Там никого не было, но лампы горели постоянно, и в бассейне всегда была чистая вода. Нофрет сошла в воду вместе со своей царевной и села на краю в свете ламп.
Было похоже, как будто сидишь в лесном пруду где-то далеко, где жара и песок Египта кажутся лихорадочным сном. Где-то в горах за Хаттушашем, среди красоты и спокойствия, где никто никогда не слышал об Атоне и не знал царя, поклонявшегося ему. Там, в богатой стране, совсем не похожей на Египет, реки текут молоком и медом. Нофрет сложила песню и запела. Голос у нее был непривычный к пению, но слух верный, и в своем полусне она вспомнила язык, на котором не говорила с тех пор, как была ребенком, — язык хеттов.
Она пела царице Египта песенку хеттских детей, простую песенку, довольно глупую, про медведя в горах. Его приключения были разнообразны и нелепы и совершенно непонятны тем, кто не говорил по-хеттски.
Анхесенпаатон неподвижно лежала на руках Нофрет. Нофрет замерла. Но царица дышала. Похоже, она уже не такая горячая? Нофрет не могла определить. У нее самой был небольшой жар. Но это неважно. Она не собиралась умирать, пока не станет старой и сварливой, о чем уже давно предупредила богов.
Вода лизала край бассейна. Лампа мерцала. Под крышей здесь всегда раздавались шепоты, особенно по ночам. Там собирались мертвые, бились об заклад, когда и как эта женщина окажется среди них. А она все цеплялась за свое тело, как в этом всегда упорствуют живые.
— Вы ее не получите, — сказала Нофрет мертвым. Это были египетские мертвые: с птичьим телом, с человеческой головой. Одни были как ястребы, другие как стервятники, немногие ворковали, словно голуби под стрехой. Она не стала всматриваться, не знакомы ли ей их лица.
— Вы ее не получите, — повторила она. — Ваши Два Царства нуждаются в ней. И она нужна мне.
Анхесенпаатон зашевелилась. Ее тело было влажным и скользким. Она выскользнула из рук Нофрет. Девушка спохватилась, когда голова ее госпожи скрылась под водой.
Ох, она умерла. Нофрет знала это. Царица не пыталась дышать. Безжизненная, как камень, она камнем шла ко дну.
Нофрет нырнула за ней. Она едва умела плавать, но могла барахтаться и воды не боялась. Подхватив безжизненное тело, девушка бросилась прочь из бассейна.
Прикосновение воздуха, холодного после пребывания в воде, вернуло Анхесенпаатон к жизни. Она задергалась, закашлялась. Потрясенная, Нофрет чуть не уронила ее. Царица вырвалась, упала, покатилась по полу.
Но пришла в себя. Задыхаясь и кашляя, она перевернулась на спину. Нофрет беспомощно смотрела, даже не пытаясь удерживать ее.
Наконец Анхесенпаатон перестала давиться и затихла. Дыхание постепенно выравнивалось. Глаза были открыты, взгляд блуждал от колонн к потолку, к лампе, к лицу Нофрет. Здесь он остановился.
— Нофрет?
Имя — это сила. Старое имя Нофрет, хеттское имя, исчезло, забылось. Никто не сможет использовать его ей во вред.
Каким-то образом египетское имя, с которым люди обращались к ней, тоже стало ее настоящим именем. Может быть, потому, что египтяне первыми поняли силу имен. Нофрет чувствовала ее в себе: струны, тонкие, но неразрывные, тянулись от сердца в руки ее госпожи.
Такая хрупкая госпожа, такая худая, изнуренная лихорадкой. Но она была царской дочерью и носила корону царицы. Схватившись за руки Нофрет, она поднялась.
— Что со мной? Скажи, что…
— Ты была больна, — объяснила Нофрет. — Теперь, по-моему, тебе будет лучше.
Мертвые сердито щебетали под крышей. Анхесенпаатон не замечала их. Она высвободила одну руку и положила на живот.
— Мне снилось… — лицо ее застыло. — Он умер?
— У тебя дочь, — сказала Нофрет. Мертвые кричали пронзительно — но на этот раз не с яростью — со смехом. — Я видела ее живой. Не знаю, что с ней теперь. Она такая маленькая…
— Она мертва, — вымолвила Анхесенпаатон. Казалось, ей это безразлично. Она не помнила ни родов, ни ребенка, рожденного ею. Все казалось ей нереальным, и Нофрет не старалась изменить положение. Так царица боролась со страхом, знакомым каждой женщине, вынашивающей дитя. Рождение может обернуться смертью: или ребенка, или его матери.
Сейчас такое равнодушие только упрощало дело. Нофрет даже порадовалась. Даже если это означало, что сердце Анхесенпаатон бесчувственно и останется таким навсегда — по крайней мере, она жива. Она жива.
Анхесенпаатон-вторая, однако, еще жила, когда ее мать пришла в себя. Но вскоре покинула этот мир. Девочка была слишком мала и слаба. Она мяукала, как новорожденный котенок, отыскивая грудь кормилицы, но, когда нашла ее, не знала, как сосать.
Анхесенпаатон видела ее живой лишь однажды. Девочку принесли завернутой в льняные пеленки, такую крошенную, что ее едва можно было в них разглядеть. Нянька подала ей ребенка, но Анхесенпаатон оттолкнула сверток. Нянька отшатнулась, возмущенная. Царица долго смотрела на крошечную дочь. Нянька была глупой женщиной. Она еще раз попыталась сунуть свою ношу госпоже. Нофрет поспешно вытолкала ее.
Когда Нофрет вернулась к постели, Анхесенпаатон лежала на спине, глядя в потолок. До сих пор она выглядела лучше, а теперь была похожа на мертвую. Но голосом вполне владела.
— Я больше не хочу видеть ее. Она пришла слишком рано. Ее завернули, как мертвую, ты видела? Она принадлежит Осирису, а не этой жизни.
— Видела, — едва слышно сказала Нофрет, подоткнула покрывало своей госпоже и с радостью заметила, что руки у нее не дрожат. Ужас перед этими людьми, перед этим местом снова поднимался в ней. Такого уже давно не случалось. Это так ее потрясло, что девушка готова была повернуться и убежать прочь.
Почти готова. Теперь она была слишком сильна для такой трусости, а, может быть, слишком возмущена. Она уговорила Анхесенпаатон выпить микстуру, приготовленную врачом, — на сей раз ничего особенно гадкого, хотя пахло горьким, и царевна поморщилась, пока пила. Нофрет сидела рядом, пока ее госпожа не заснула. Это произошло скоро. Она была еще очень слаба, хотя и достаточно сильна, чтобы прийти в отчаяние от происходящего.
Дыхание ее госпожи стало ровным, и Нофрет тихонько поднялась. Рядом всегда были наготове служанки. Одна из них заняла ее место. Нофрет оставила их.
Когда царица была так тяжело больна и вокруг болталось столько людей, Нофрет, чтобы поспать, нужно было где-нибудь укрыться. Чтобы избежать шумной толпы служанок, она расположилась в маленькой комнате недалеко от спальни Анхесенпаатон. Здесь она хранила свое имущество в сундучке, подаренном госпожой: два льняных платья, ожерелье из фаянса и стеклянных бус, пару сандалий, несколько безделушек, разными путями попавших в ее руки. Нофрет подумала, что становится состоятельной женщиной, а голова у нее от усталости шла кругом. Она ощупью добралась до циновки, не зажигая лампы, даже не пытаясь отыскать ее. Свое место она знала наизусть даже в темноте.
Когда она повалилась на циновку, что-то заворочалось и зашевелилось под ней. Нечто гораздо более мягкое и теплое, чем тростниковая циновка.
Инстинктивная ярость охватила ее. Она искала лицо лежащего, чтобы вцепиться в него ногтями.
— Нофрет!
Девушка узнала голос слишком поздно, чтобы удержаться и не броситься на человека, но достаточно рано, чтобы не выцарапать ему глаза. Свет из коридора, когда она распахнула дверь, был достаточно ярок, и она увидела Иоханана, его ошеломленные глаза и свои растопыренные пальцы с острыми ногтями у самого его лица.
Она осторожно опустилась на колени. Иоханан так же осторожно сел. Трясущимися руками он ощупывал свое лицо, пытаясь убедиться, что все там на месте.
— Не волнуйся, — успокоила его Нофрет. — Ты такое же страшилище, как и прежде.
Иоханан пробормотал что-то на апиру. И потом по-египетски:
— Ты тут ни при чем.
— Не надо было спать в моей постели.
— Я не… — Он зевнул. Потом признался: — Ладно. Спал. Я ждал тебя. Ты пропала как будто навсегда.
— Я удерживала свою госпожу среди живых.
— Она справилась бы без тебя.
Нофрет хотела было бросить на него свирепый взгляд, закричать, но поняла, что, если сделает это, разрыдается. Она просто и коротко сказала:
— Я думала, что вряд ли.
— Возможно, — согласился Иоханан и поджал длинные ноги.
Казалось, ему здесь очень уютно и удобно. Это было тем более удивительно, что он никогда прежде не бывал в ее комнате и не сидел на ее постели. Приходя во дворец и минуя ухмыляющихся стражников, юноша обычно встречался с ней в саду или в одной из комнат ее госпожи, или сопровождал ее во время выходов в город.
— Кто велел тебе идти сюда? — спросила она.
Иоханан наморщил лоб.
— Не знаю. Какая-то служанка. Она сказала, что я могу подождать и в другом месте, если хочу, вместе с ней.
— Ясное дело, — пробормотала Нофрет. Служанки были в восторге от Иоханана, и он знал это. А сейчас улыбался, глядя на нее и, несомненно, вспоминая девицу, проявившую такую смелость.
Ей очень захотелось согнать с его лица эту улыбку.
— Отлично. И почему же ты не пошел с ней?
— Я же не идиот, — радостно ответил он. — Я же знал, что ты со мной сделаешь, если я пойду.
— Ты же не моя собственность.
— Нет, конечно.
Внезапно Нофрет почувствовала, что силы совсем оставили ее. Она с трудом выговорила:
— Ты пришел по делу или просто мешать мне спать?
— Спи, — ответил он, — я не буду тебе мешать.
Ей отчаянно хотелось сделать именно это. Но любопытство все-таки пересилило усталость.
— Так зачем же ты пришел? Я ведь собиралась прийти сама, разве ты забыл?
— Нет, не забыл. Я пришел, чтобы кое-что показать тебе, но это подождет. Тебе надо выспаться.
— Ох, как надо. Все тело ныло, ее тянуло в сон. И все же…
— Спи, — сказал Иоханан. — Я подожду, пока ты проснешься.
— Разве тебе не нужно строить гробницу? Украшать резьбой стену?
— Отец отпустил меня. Спи.
Его голос звучал как заклинание, как сонный заговор. Он поднял ее, уложил на циновку. Последнее, что запомнила Нофрет, было его лицо, склонившееся над ней, черные брови, встревоженно сошедшиеся вместе. «Нет, — пыталась сказать она, — нет, я не больна». Но слова не пришли, и сон затопил ее.
23
Нофрет заснула, видя лицо Иоханана, и проснувшись, снова увидела его, склонившимся над ней. Сны ее были темны, полны огней и плача. Она подняла руку, показавшуюся невозможно тяжелой, коснулась его щеки, погладив курчавую бородку.
— Я не заболела, нет?
— Ты была больна, — ответил он. — Всю ночь.
Нофрет глубоко и осторожно вздохнула. Кашель ее не беспокоил. Она ощупала свое лицо. Горячее, но не слишком.
— Спасибо, что ты не позвал врачей.
Иоханан скорчил рожу.
— Я бы с тобой так не поступил. Вот, — сказал он, приподняв ее за плечи и поднося чашку к губам, — выпей. Это просто вода.
Нофрет жадно пила, держа чашку уже сама. Девушка была слаба, но смогла сесть. Отдав ему пустую чашку, она решила попробовать встать. Сердце колотилось, но она собрала все силы и заставила себя подняться. Голова закружилась. Нофрет оперлась на Иоханана. Он был как стена, сильный и надежный. Юноша поддерживал ее, пока она не смогла стоять самостоятельно, не пытаясь отговорить, не укоряя за безрассудство.
Чем дольше Нофрет стояла, тем это было проще. Значит, болезнь не так уж серьезна — всего лишь небольшая лихорадка, которую сможет излечить долгий ночной сон.
Сердце ее чуть не остановилось.
— Моя госпожа! Я забыла…
Она пронеслась мимо Иоханана, уверенная, что он бежит следом, но не стала его останавливать.
Анхесенпаатон лежала в своей постели, неподвижная, но явно живая: грудь ее вздымалась и опускалась в ровном дыхании сна. Лицо было бледно, но слабая тень румянца появилась на щеках. Она казалась не более горячей, чем любая женщина, спящая среди жаркого египетского лета.
Глядя на нее, Нофрет глубоко и облегченно вздохнула. С царицей все в порядке. Она будет жить.
Следовало заняться делами, которые личная служанка царицы должна сделать, пока ее госпожа спит. С лишней парой рук, помогавших ей, Нофрет управилась быстро. Иоханан ничего не говорил, просто делал, что нужно. Младшие служанки смотрели на него с любопытством, хихикая в сторонке, но он не обращал на них внимания. Некоторые из старших смотрели недовольно. Посторонний мужчина в таком месте, пусть и столь юный, — верх неприличия.
Нофрет подумала, что ее госпожу это вряд ли смутило бы. Иоханан может быть опасен для женщины, только если она сама того пожелает.
Когда все дела были закончены, Нофрет помедлила, вглядываясь в лицо Анхесенпаатон. Та крепко спала. Наверное, она проспит еще день и всю ночь и тогда исцелится от своей болезни. Если боги будут милостивы, царица проснется с волчьим аппетитом и томимая жаждой, слабая, но станет набираться сил вместе с едой и питьем, вспоминая, что значит быть живой.
Нофрет вывела Иоханана за руку, и при взгляде на него было ясно, что ему давно уже пора покинуть эти стены. Когда они, наконец, оказались за пределами дворца, под открытым небом, он встряхнулся и потянулся, разминая суставы.
— О, Господи! Как вы только там живете! Там же тесно, как в гробнице!
— Ну, не совсем, — возразила Нофрет. — Гробницы не бывают такими большими.
— Ты не видала гробницы царей в Мемфисе. — Иоханан снова потянулся, вдыхая полную грудь городских запахов. — Они гораздо больше. Намного.
— Я видела пирамиды, — сказала Нофрет значительно, — по дороге из Митанни. И слышала, что в них. Масса камней, а в середине — царь.
— Совершенно верно. — Иоханан схватил ее за руку и потянул за собой. — Пошли. Пора посмотреть на то, что я хочу тебе показать.
Дорога в селение строителей никогда прежде не казалась Нофрет такой длинной, а солнце таким горячим, бьющим прямо по голове. У нее все еще был небольшой жар, и от этого она чувствовала слабость. Иоханан настоял на том, чтобы трижды остановиться выпить воды или кувшин пива, а один раз — съесть лепешку с мясом. Нофрет позволила ему думать, что он смог обмануть ее. Несомненно, он может испытывать жажду или быть голодным — его большое тело требовало много еды — но все-таки ему не нужно было есть и пить так часто. Это необходимо ей: сразу много она съесть не могла — желудок не принимал, — но вскоре снова начинало сосать под ложечкой.
У последнего продавца воды Иоханан купил полный бурдюк, а у другого торговца — сплетенную из пальмовых листьев корзинку с пирожками, все это он взял с собой. Нофрет тащилась сзади, уже почти лишившись сил, а ведь они еще не вышли из города.
Он продолжал настаивать, что ему нужно еще и отдохнуть, и остановился прямо за городскими стенами, изображая глубокую усталость. Нофрет не выдержала и рявкнула:
— Перестань притворяться! Ты прекрасно видишь, что это я слаба, как выжатая тряпка!
— А я лентяй, — отвечал он, не смущаясь. — Сегодня будет жаркий денек, тебе не кажется?
— Как огонь в очаге, — вздохнула Нофрет, позволяя улечься раздражению. Не стоило сердиться за его внимательность — Иоханан понимал, что она еще нездорова. Нофрет сердилась на себя. Хетты не приучены обращать внимания на слабость. Слабый воин — мертвый воин. Даже женщина должна быть отважной и сильной.
Она встала раньше, чем ее тело согласилось на это, отпила из бурдюка и двинулась вперед. Путь до деревни был долог. Последнюю его часть пришлось пройти, опираясь на своего спутника. Нофрет презирала себя за это, но в то же время ей было приятно. Он вспотел от жары, и запах свежего пота был запахом его — Иоханана.
Юноша повел ее не к отцовскому дому, как она ожидала, а в другую часть деревни, где крепкотелые женщины мололи на каменных жерновах ячмень, чтобы испечь для рабочих хлеб, где пекари пекли его в очагах, а пивовары готовили пиво из хлеба, оставшегося несъеденным. Некоторые пекари и пивовары были апиру, выделяясь среди чисто выбритых египтян полосатой одеждой и длинными курчавыми бородами.
Женщины апиру не мололи муку и не замешивали тесто; этим занимались египтянки, обнаженные или в одних юбках, — их груди покачивались, когда они растирали зерно между камнями. Одна из них улыбнулась Иоханану, когда он проходил мимо с Нофрет, крупнозубая, курносая, но с ясными глазами и пышной грудью — некрасивая, но очень привлекательная.
Иоханан улыбнулся в ответ, хотя Нофрет заметила, что он старательно не сводит глаз только с подбородка женщины. Скромность апиру — вещь непростая.
Мололи зерно не только женщины. Было и несколько мужчин — рабы, слишком неловкие или неумелые, чтобы работать у очагов и пивоваренных чанов, и деревенские мальчишки, еще только обучавшиеся делу. Среди них был человек с лицом египтянина и выбритой головой, но в одежде апиру, настолько поглощенный своим делом, что даже не замечал, как двое стоят и смотрят на него.
Нофрет уже видела где-то этот удлиненный череп, эти тонкие пальцы. Она перегрелась на солнце и еще не совсем оправилась от лихорадки, иначе соображала бы быстрее. А может быть, и нет. Слишком уж нелепая картина.
Она, пошатываясь, опустилась на колено, не отрывая глаз от лица человека, захваченного работой. Длинные глаза, длинный нос, длинный подбородок, величественность манер, заметная даже в этом невероятном месте…
Великий Дом Египта, Властелин Двух Царств, голос и служитель Атона в городе, построенном им, молол ячмень для хлеба и пива в селении своих рабов.
— Но как это может…
По-видимому, царь не слышал голоса Нофрет. Иоханан заговорил негромко, но не таясь:
— Он приходит почти каждое утро, вскоре после восхода, и остается до полудня. И никогда не разговаривает. Говорят, будто он мелет так много муки, что ее хватает на целый день. Потом идет обратно… Куда-то возвращается.
Нофрет смотрела на Иоханана круглыми глазами.
— Люди знают, кто он?
Он утащил ее за собой прочь от мукомолов, на улицу. Там почти никого не было: слепой старик похрапывал на солнышке, у дверей дома растянулся пес, и малыш подбирался поближе, чтобы дернуть его за хвост. Нофрет уцепилась за одежду Иоханана и изо всех сил тряхнула, но его тело под одеждой едва ли шевельнулось.
— Как долго это продолжается? Неужели никто до сих пор не узнал, кто он такой?
— Это знают все. Просто никто не спрашивает. Понимаешь? Сильные мира сего делают что хотят. Не наше дело спрашивать, почему.
— Глупости! В таком случае, зачем же ты притащил меня сюда и не дал умереть спокойно?
— Ты вовсе не умираешь. И должна была увидеть. Он приходит сюда довольно давно — с тех пор, как заболела госпожа Тадукипа. Он никому не причиняет вреда. Никто не беспокоит его. Наверное, ему хорошо здесь.
— Похоже, он совсем лишился ума. — Нофрет повернула назад, к хлебопекам. Царя было легко заметить, если знать, что искать: бритая голова и коричневая одежда. — Не могу поверить, что его ни разу не хватились.
— Зачем? Если царь нужен по каким-то государственным делам, все думают, что он где-то в другом месте. Когда же начинают беспокоиться и искать его в храме, на троне или где-то еще, он уже успевает вернуться.
— Обычно он молится в храме. Лежит на солнце во дворе восхода или перед алтарем, отмаливая проклятие Амона.
— Может быть, именно этим он занимается здесь, — предположил Иоханан. — Молится.
Нофрет ударила бы его, уловив в этих словах хоть тень насмешки, но он был серьезен. Апиру Иоханан не видел ничего странного в том, что царь предпочитает молиться, размалывая зерно для хлеба своим слугам.
Странности апиру были выше ее понимания.
Девушка медленно шла обратно вдоль ряда мужчин и женщин, размалывающих зерно. Перед царем она остановилась и присела. Он склонился над жерновом, молол упорно, молча, всецело поглощенный работой. Пот бежал по его лицу, и он стряхивал его, чтобы не капало в муку. Нофрет удивилась, почему царь не снимает жаркое шерстяное платье и не работает нагишом, как все остальные.
Может быть, из-за своего безумия? Но, как ни странно, царь казался здесь более в здравом уме, чем когда сидел на троне. Его лицо было спокойным и сосредоточенным. Он неотрывно смотрел на свои руки и на камень, ни на что больше не обращая внимания. Ее он, конечно, не замечал.
Нофрет взглянула на солнце. До полудня еще оставалось время.
Она собралась ждать. Иоханан немного поболтался снаружи, а потом вошел, присел на корточки и протянул ей бурдюк, ставший ненамного легче с тех пор, как он купил его. Нофрет с благодарностью отпила. Теплая вода пахла кожей, но это была влага. Она плеснула немного на руку и обтерла лицо.
Среди работающих ходил мальчик с ведром воды и черпаком. Когда он приближался, люди прерывали работу, чтобы распрямиться, передохнуть, перекинуться словом. Присутствие посторонних их, по-видимому, не смущало. Да и с чего бы? Нофрет, как и они, была рабыней. Да и Иоханан, несмотря на всю его гордость. А царя здесь быть не могло, и, следовательно, не было.
Он тоже пил предложенную воду, но не поднимая глаз и прерывая работу лишь настолько, чтобы отхлебнуть глоток. Потом снова черпал горстями ячмень из корзины, стоявшей рядом, сыпал на каменный жернов и молол так же сосредоточенно, как и прежде.
Когда солнце коснулось зенита, царь закончил молоть последний ячмень и пересыпал муку в приготовленную чашу. Он выполнил свою дневную норму за полдня — подвиг, достойный царя, — медленно поднялся, расправляя руки и ноги, и повернулся лицом к солнцу, улыбаясь, как человек, который хорошо поработал и знает об этом. Затем не спеша, все еще улыбаясь, отправился прочь от пекарен.
Нофрет пошла за ним, Иоханан двинулся следом. Царь шел быстро, но не торопясь, легким уверенным шагом, как никогда не ходил во дворце. Там он семенил в узкой одежде, тяжелых царских украшениях, с трудом удерживая равновесие под величественными двумя коронами. Сейчас, с непокрытой головой, в простом платье, он двигался как человек, который знает свой путь и рад этому.
Нофрет пришлось ускорить шаг, чтобы не отстать. К ее удивлению, даже смущению, царь взглянул на нее и произнес:
— Благословение Атона на тебя, служанка моей дочери.
Помимо воли она ответила:
— И на тебя, мой господин Египта.
— Ну, — возразил царь, и девушка с изумлением обнаружила, что он ни разу не запнулся, — здесь я не господин. Здесь я всего лишь слуга среди слуг, с той только разницей, что они служат царю, а я — Богу, который превыше царя.
— Ты совсем сошел с ума, — заметила Нофрет.
— Несомненно, — согласился царь. — И знаешь, по-моему, я проклят, как все и говорят. Ложный Амон проклял меня и всю мою кровь и убил всех, до кого смог дотянуться. Но как же он сумел это сделать, будучи ложным? Атон, настоящий, ничего не говорит. Он только велит мне приходить сюда и служить ему так, как ты видела, как поступает слуга, когда приказывает хозяин.
— Значит, твой Бог безумен, — сказала Нофрет, — если заставляет царя работать, словно раба.
— Бог имеет на это право, если он недоволен царем. Ты же видишь, я потерпел неудачу. Оставил Фивы Амону. Покорился воле продажных людей, которые называют себя жрецами. Но они ложные, и бог их ненастоящий.
— Стало быть, ты наказываешь себя тем, что стал рабом у рабов. — Нофрет неодобрительно покачала головой. — Неудивительно, что никто не чтит твоего Бога, кроме тебя. Кто же станет служить Богу, превращающему царя в раба?
— Мой Бог не такой, как все остальные боги. Мне нужно многому научиться, многое сделать, чтобы служить ему так, как он хочет. И много… Много страдать. — Все тело царя как-то обмякло, на лице появилась гримаса горя. Удовлетворенность труженика, которая, казалось, составляла сейчас всю его сущность, оказалась просто маской, такой же, как маска царя. Он простер руки, невидящим взором глядя на солнце.
— О мой Бог! Как много печали. Как много умерших, молодых, таких любимых…
Если бы царь разрыдался посреди дороги, Нофрет не стала бы утешать его. Но он оказался сильнее, а, может быть, безумнее. Он сжал кулаки и погрозил небу.
— Я не сдамся! Я не упаду! Ты слышишь меня, мой Бог? Даже если ты заберешь мою жизнь, я останусь твоим слугой.
— Не заберет, — горько сказала Нофрет. — Он заберет все, что принадлежит тебе, но тебя оставит в живых, потому что любит.
Царь бросил на нее такой острый и пронзительный взгляд, что она заслонилась рукой, словно от удара.
— Думаешь, он любит меня? Ты называешь это любовью? Мои женщины, мои дети — он всех забирает. А тех, кого оставляет в живых, учит презирать меня, как научил мое царство и весь мой народ. — Царь засмеялся, и смех прозвучал ужасно в этом пустынном месте. — Думаешь, я ничего не понимаю или мне все равно? Ты считаешь меня настолько глупым? Они ненавидят меня. Я ощущаю вкус их ненависти, когда сижу перед ними: горечь на языке, словно желчь. Я чувствую ее запах, когда они кланяются мне. Я вижу ее, слышу ее, чую кожей. О, как они меня ненавидят! Они молят своих богов, чтобы я умер и своей смертью освободил их.
— Когда-нибудь это случится, — заметила Нофрет. — Но никто не станет помогать тебе отправиться в последний путь быстрее. Не опасайся.
— Я и не опасаюсь. Царь есть царь. Ни один человек в Двух Царствах не тронет его, как бы он ни был ужасен.
— Ты не ужасен. — Следовало быть честной: она должна сказать это. — Ты просто не такой… Они хотят не такого царя.
— Они хотят иметь покорного слугу своих богов. — В голосе царя было меньше гнева, чем, казалось, требовали слова. — Они хотят вернуть то, что имели, когда Два Царства еще не обрели форму в уме Атона. Они боятся всего иного, того, что изменило или может изменить их. Боятся правды о том, что все их боги ложные, лишь тени их желаний, мечтаний, лишь тени того Единственного, кто создал их.
— Адонай Элохену, — произнес Иоханан, стоявший позади них. — Единственный господин. Тебя мать научила этому? Он правит как властелин в пустыне, откуда родом мой народ.
— Никто меня не учил, — ответил царь. — Я знал его прежде, чем выучился говорить. Он во мне с самого рождения.
— Да, — сказал Иоханан. — Так и есть.
— Для тебя, — отозвался царь. — Для твоего народа. Это такое счастье — знать его, слышать в тишине пустыни. Нам не дано такого дара. Шум тысяч богов заглушает его голос, мутит наши чувства, заслоняет от нас Единственную истину.
— Но не от тебя, ты же его слышишь.
— Он заглушил других, но я даже теперь иногда слышу их. Амон воет, как шакал под луной, насылая болезни на моих любимых.
— Но если он ложный, — вмешалась Нофрет, — как же тогда…
Они ее не слушали. Девушка никогда прежде не видела Иоханана таким: напряженным, застывшим; в темных глазах горит тот же огонь безумия, что и во взоре царя. По спине побежали мурашки. В нем была пустыня и бог пустыни, как солнце на песке, как огонь во тьме.
— Ты знаешь, — вопрошал этот незнакомец-Иоханан царя, — что он приказывает тебе делать?
— Нет, — отвечал царь. Это не было незнанием. Это был отказ. — Нет.
— Тогда ты слаб и труслив.
— Я царь! — воскликнул царь с неожиданной яростью. — Я рожден, чтобы быть царем.
— Ты рожден, как и все мы, чтобы быть рабом Бога. Твой отец был царем, а мать — царицей. И они тоже были рождены для удовольствия Бога.
— Богу доставляет удовольствие видеть меня царем Двух Царств. Я не могу быть ничем другим.
— Это ты так считаешь, — ответил Иоханан, круто поворачиваясь.
Они смотрели ему вслед: царь озадаченно, рассерженно, а Нофрет отрешенно, в полном смятении чувств. Она не знала, какое из переполнявших ее выбрать. Гнев? Едва ли. Ощущение потери было достаточно сильным, но не сильнее других. У некоторых чувств даже не было названия.
Царь первым пришел в себя и взял ее за руку, словно был просто мужчиной, а она просто женщиной, и сказал устало и рассудительно:
— Пошли. А то опоздаем.
«Куда?» — хотела было спросить она. Но голос отказался повиноваться, и Нофрет позволила царю отвести себя обратно в город.
24
Царские отлучки не могли оставаться незамеченными вечно. Неизбежно в один прекрасный день слуга спросит слугу, придворный придворного, и правда выйдет на свет: властелина Двух Царств нет во дворце и в храме его Бога тоже нет.
Куда он ходит — это, по мнению Нофрет, должно было остаться его тайной. Она разделила ее лишь с одним человеком, который, несомненно, имел на то право.
Анхесенпаатон не ощутила особого горя, когда ее дочь, продержавшись на этом свете почти месяц, тихо угасла на руках кормилицы. Нофрет полагала, что для царевны остались почти нереальными и беременность, и роды, и кошмар болезни. Может быть, она даже была больна дольше, чем думали все, — больна в душе.
Теперь, спустя месяц после смерти дочери, она была еще слаба, но с каждым утренним пробуждением глядела на мир все более ясными глазами. В них больше не было той тени, что появилась с началом первой, такой ужасной чумы, — тени, которая, казалось, не исчезнет никогда. Анхесенпаатон могла уже встать, принять ванну, одеться, надеть украшения царицы и исполнять обязанности, доставшиеся ей со смертью Кийи и упорным отказом Меритатон быть чем-либо, кроме игрушки своего молодого царя.
— У нее свои способы бегства, — говорила о ней Анхесенпаатон, — а у меня свои.
— Но твои гораздо полезнее для всех, — кисло заметила Нофрет.
Анхесенпаатон только пожала плечами.
Наступил еще один день из многих, когда предстояло провести аудиенцию, совершить обряды в храме — и не один, потому что шел храмовый праздник — и собрать придворных. Меритатон и Сменхкары в городе не было: они отправились по реке с большой флотилией лодок, чтобы поохотиться на уток в тростниках. Всем было известно, что означает охота на уток. Многие ухмылялись и отпускали шуточки, когда лодки, полные полуголых молодых мужчин и соблазнительно одетых юных женщин, ранним утром отплывали от набережной.
Анхесенпаатон не знала бы, как себя вести, приняв участие в такой поездке, исключительно невинная во всяких женских штучках, хотя была женой и родила дочь. Юная царица еще только начинала смотреть на некоторых молодых красавцев из свиты Сменхкары как на нечто, вызывающее не только раздражение.
Нофрет уже года два смотрела на мужчин глазами женщины и иногда думала, что ее госпоже можно позавидовать. Взгляд ребенка гораздо спокойней и бесстрастнее. Дитя никогда не зальется румянцем лишь потому, что хорошенький мальчик улыбнулся тебе.
Большинство придворных были бы несказанно удивлены, узнав, что Нофрет думает такое о царице старшего царя Анхесенпаатон, в платье и парике, в короне, с украшениями и скипетром, признавалась всеми за образ своей покойной матери. Она даже почти достигла ее роста, высокого для египтянки, и была стройна, как молодое деревце. Царица знала, что хороша собой, да другой она и не могла быть, но это по-прежнему ничего для нее не значило.
За царственным обликом все еще скрывался ребенок, а не женщина. Она была подобна весне в горах Хатти, где с утра тепло, словно летом, а к ночи все снова покрывает снег.
Взрослея, Нофрет неожиданно стала сентиментальной. Она стряхнула тень сожаления о стране, которую едва узнала, прежде чем ее утащили в Митанни, и погрузилась в закладывание складочек на платье своей хозяйки. Это нужно делать обязательно, иначе платье будет выглядеть неаккуратно, а царице такое не подобает.
Другие служанки болтали и хихикали, приводя в порядок украшения. Нофрет не обращала на них внимания. Она знала их только по именам. Этих дурех понавезли со всего мира, чтобы прислуживать царице Египта, а они думают только о еде и о постельных утехах.
Царица терпеливо отдавалась заботам Нофрет, позволяя одевать себя, словно изображение богини в храме. Неожиданно, даже для самой себя, девушка присела, взглянула в неподвижное лицо и сказала:
— Ты, наверное, понятия не имеешь, где бывает твой отец каждый день с восхода солнца и до полудня.
Может быть, она хотела пробудить интерес в глазах хозяйки. Или ей просто не хватило сдержанности. В любом случае, Нофрет получила, что хотела: госпожа посмотрела на нее, действительно посмотрела и, казалось, проснулась и насторожилась.
— Он всегда в храме.
— А вот и нет.
— Конечно, в храме. Он находится там, пока солнце не поднимется высоко, потом приходит, моется, надевает корону и делает то, что положено царю.
Этого он тоже не делал — за него все делала его царица. Но Нофрет запретила себе заводить подобные споры и закончила:
— Его люди думают, что он молится в храме. А он совсем в другом месте — ходит в селение около гробниц и исполняет там самую простую работу.
— Не может быть. Властелин Двух Царств никогда бы… — Царица впервые обнаружила свои истинные чувства: смесь потрясения, скорби и недоверия, но Нофрет решила удовольствоваться и этим.
— Властелин Двух Царств ходит туда. Каждый день. Мой друг Иоханан — ты помнишь его? — привел меня в селение, и я сама видела. Я говорила с человеком, который мелет муку для пекарей, и это был твой отец. Ошибиться было невозможно.
— И все же ты ошиблась. Он царь и Бог. И не стал бы заниматься этим.
— Стал бы, лишившись последних мозгов.
Движение царицы было таким стремительным, что даже Нофрет, обладавшая отменной реакцией, не успела уклониться. Удар сбил ее с ног.
Она поднялась со звоном в ушах и колотящимся сердцем, слишком потрясенная, чтобы злиться.
— Мой отец, — произнесла царица, снова ставшая холодной, как лед, — не относится к людям, чье поведение позволено обсуждать таким, как ты.
Для Нофрет было бы разумно уползти прочь, придержав язык и изображая глубочайшее раскаяние. Но она не была ни разумной, ни раболепной и выпрямилась.
— Не веришь, пойди и посмотри сама!
Она ожидала, что госпожа ударит ее еще раз. Но царица оказалась более сдержанной и повернулась спиной к Нофрет. Служанки выстроились, чтобы сопровождать свою госпожу в зал приемов.
Нофрет осталась на месте, слишком рассерженная, чтобы бояться.
— Значит, не пойдешь? — крикнула она вслед. — Трусиха! Ты боишься убедиться, что это правда.
Царица промолчала. Нофрет и не ждала ответа. Однако вовсе не была обескуражена. Нет — не совсем…
Анхесенпаатон много дней не разговаривала с Нофрет, даже не давала никаких поручений. Девушку словно выставили за дверь. Молчание окружало ее стеной. Другие служанки, от которых всегда было мало толку, приходили в восторг от возможности приблизиться к госпоже.
Так жить было очень спокойно. Нофрет могла отправиться в гости в селение или побродить по городу, но желания не возникало. Она выполняла свои обязанности молча, прислуживая своей хозяйке как самая последняя из служанок, и заставляла себя быть спокойной и терпеливой.
На шестидесятый день во время аудиенции возник вопрос, требующий присутствия самого царя. Было позднее утро, и он, предположительно, погружался в беседу со своим Богом, но этот особый случай ждать не мог. Нофрет даже не знала, в чем дело: она находилась на крыше дворца цариц, выполняя тонкую работу: закладывала мелкие складочки на свежевыстиранных платьях хозяйки, и, придавив камнями, раскладывала сушиться на солнце. Судя по всему, на это уйдет весь день. Она терпеть не могла такую бесконечно скучную работу: все складочки одна к одной, а на каждом платье их сотни.
Служанка, пришедшая за ней, — одна из тех, кто особенно радовался разжалованию Нофрет, — была недовольна, что пришлось снова обращаться к ней, и выказала еще недовольство, небрежно толкнув ногой платье, которое Нофрет только что закончила и положила сушиться. Девушка сжала зубы и старательно оправила его.
Служанка удовлетворенно улыбнулась, но второй раз толкнуть платье не решилась. Пренебрежительно фыркнув, она надменно сказала:
— Ее величество требует тебя к себе.
Нофрет поднялась, расправляя спину.
— Требует? Меня? — Она осмотрелась. — Но я же не могу пойти сейчас. Осталось еще целых три придворных платья и самое лучшее, для торжественных выходов… — Девушка помолчала, как будто размышляя. — Ага! Какая же я глупая. Вот ты меня и заменишь.
Прежде чем служанка успела сказать хоть слово, Нофрет сунула ей в руки гору мокрого полотна и столкнула ее на колени.
— Проверь, чтобы все складочки точно совпали, и ни одной не пропусти. Полотно должно остаться белоснежным, без единого пятнышка, иначе тебе придется все делать заново.
Она помолчала, глядя на платье, которое пнула служанка, покачала головой и с огромным удовольствием сказала, очень печально:
— Какая жалость, это уже испорчено. Придется оттирать пемзой, но будь осторожна: оно самое тонкое из всех, просто дымка. Если повредишь, вряд ли хозяйка будет довольна.
«Месть сладка», — думала она, спеша по зову своей госпожи. У служанки даже не хватило соображения заметить, что Нофрет не имела права приказывать ей. Она подчинилась слепо, как все рабы, с обиженным видом, но и не подумав отказаться.
Вот в чем разница между рабами по необходимости и рабами по духу!
Царица вышла из зала приемов в заднюю комнату, где могла отдохнуть, отложить тяжелые скипетр и корону, чего-нибудь попить или поесть. Но скипетр был no-прежнему у нее в руках, корона на голове. Она ходила взад и вперед с беспокойством, не свойственным ей прежде.
Как только Нофрет вошла, ее госпожа резко повернулась, испугав служанок.
— Вон! — закричала она. — Убирайтесь вон!
Потрясенные, они мгновенно повиновались. Царица никогда не повышала на них голоса — никогда, насколько могла припомнить Нофрет, вообще не говорила громко. Мать отлично выучила ее говорить мягко, ласково и с царственной сдержанностью.
Она обратилась к Нофрет более мягко, но резкая нотка еще звучала в ее голосе:
— Моего отца нигде не могут найти.
— Ты знаешь, где он.
— Нет. Я знаю, где он по твоему мнению.
— Так пошли за ним кого-нибудь, — сказала Нофрет. И в лучшие времена у нее было не много терпения, а сейчас момент был явно не из лучших.
Анхесенпаатон выронила скипетр на столик. Скипетр звякнул, покатился, но не упал. Она ничего не заметила, схватила Нофрет за плечи и тряхнула. Нофрет почти упала на нее. Лицо царицы было очень взволнованным.
— Как я могу послать кого-нибудь туда? Люди же узнают!
— Что узнают? Что он сумасшедший? Это всему миру известно, и уже много лет.
— Нет! — закричала царица. — Что он ходит — туда. И делает — это.
— Ладно, — нетерпеливо произнесла Нофрет. — Я знаю, что царь годится только греть свой зад на троне, но он действительно отлично мелет муку для хлеба. Справляется с дневной работой за полдня, с утра и до полудня.
— Ох, — сказала царица, как будто ее ударили прямо в сердце. — Но это еще хуже! Я же не могу сказать вельможам Двух Царств, что их господин не может почтить их своим присутствием, потому что он пошел… Пошел…
— Тогда лучше соврать. Скажи, что он в глубоком трансе, полностью во власти своего Бога. В сущности, это правда. Несколько странный способ молиться, но это и есть молитва.
Царица снова заметалась, как львица, у которой отняли детеныша. Нофрет с изумлением поняла, что для ее госпожи отец был больше ребенком, нежели мужчиной. Она любила, прощала, даже боготворила его. Но никто, даже собственные дочери, никогда не видел в нем мужчину — такого, как другие мужчины.
Анхесенпаатон металась и что-то бормотала, очень быстро, так, что Нофрет не могла разобрать.
— Да. Да, я должна притвориться. Если кто-нибудь узнает — ох, если это правда, какой позор для нас! Это недостойно царя.
— Все достойно царя, — возразила Нофрет. — Может быть, он заведет новую моду. Ты только представь себе придворных дам в узких платьях, отправляющихся играть в хлебопеков!
— На голове у них парики, и духи капают прямо с лица… — Царица даже не улыбнулась. Нофрет подозревала; что, если бы не подведенные глаза, она бы уже заливалась слезами.
— Послушай, — сказала она резко, — послушай меня. К полудню он вернется, примет ванну и станет вполне царственным владыкой. Отложи решение дела до тех пор. Разве ты не можешь почувствовать себя плохо? В конце концов, сегодня так жарко, а ты недавно болела. Ты можешь возжелать отдыха и прохлады, возможно, даже купания в пруду с лотосами.
— Ладно, я сделаю так, как велит мне долг царицы, хотя я ненавижу ложь. — Она перестала метаться и рассеянно огляделась. Нофрет вложила ей в руку скипетр. Царица уставилась на него, потом на Нофрет. — Как бы мне хотелось тоже сбежать! Я бы работала на полях у реки, меня окружала бы прохладная зелень, а сверху светило солнце…
— Но ты не можешь, — закончила Нофрет ее мысль, — потому что царица не вправе делать такого. И царь тоже не должен.
— Царь делает то, что положено царю. — Она повторила это, как заученный урок, потом выпрямилась, как ее учили, и отправилась лгать прямо в глаза придворным Двух Царств.
Что именно сказала Анхесенпаатон царю по поводу его выходки, Нофрет не знала. Когда он вернулся, как бывало каждый день, его дочь-жена приняла самое холодное и царственное обличье, сидя на троне рядом с ним и не произнеся ничего, не предписанного придворным ритуалом. В эту ночь она отправилась к нему в спальню, чего не делала уже очень давно, и вышла не позже, чем взошла убывающая луна. Вернувшись, она долго молчала, и на ее лице Нофрет не прочла ничего.
Она уже почти решилась выспросить ее, не думая о последствиях, когда царица заговорила:
— Ты сказала правду. Отец молится Атону по его велению. Он сказал… — Ей было трудно заставить себя произнести эти слова, но в конце концов удалось. — Он сказал, что должен заниматься этим. Потому что Бог больше не хочет говорить не только с ним, но и ни с кем из вельмож. Отец надеется, что Бог захочет говорить с самым ничтожным из людей.
— Очень… Необычно, — заметила Нофрет, — для богов этой страны. Разве они не дают царям все, а цари уже дают остальным то, что пожелают?
— Боги поступают именно так, — согласилась Анхесенпаатон. — Но отец говорит, что Атон, наверное, не такой. — Она бросилась в постель, не заботясь о том, чтобы выглядеть изящной или царственной. Теперь царская дочь была самой собой: уже не ребенком, но еще и не женщиной, длинноногим и глазастым подростком. Под глазами залегли темные тени, в глазах мерцала темнота.
— Нофрет, — сказала она со спокойствием человека, до мозга костей охваченного страхом, — мне кажется, отец больше не думает так, как другие люди. Ни мгновения.
Анхесенпаатон еще никогда не подходила так близко к признанию того, что ее отец безумец. Нофрет, давным-давно жаждавшая услышать нечто, подобное, проговорила:
— Может быть, он начинает выздоравливать. Каждому новому богу нужны последователи, а ему не удалось заполучить на сторону Атона никого. Вельможи следуют за ним лишь потому, что он царь. Если он сумеет завоевать простых людей и отвратить от их богов, тогда за ним пойдет народ, и у его Бога появится сила, чтобы выступать против Амона и остальных.
Анхесенпаатон смотрела на Нофрет со смешанным выражением сожаления и отчаяния.
— Не лги — я так же лгала себе. Ни один царь никогда не поступал так, как мой отец, — ни один, начиная с самого первого. А сейчас он совершил такое, что даже Два Царства могут возмутиться: царь, превративший себя в раба. Сторонники Амона, узнав об этом, получат необходимое им доказательство того, что от него нужно избавиться.
— Он все еще царь, что бы ни делал.
— Нет. Поступая как раб, он стал не лучше раба. А от раба можно избавиться. Его можно убить.
Вот опять: странная страна Египет. Особенно Египет царственный. Нофрет медленно проговорила:
— Верно. Если его врагам нужен предлог — любой предлог сгодится…
Ее госпожа кивнула.
— Я боюсь. Он говорит, что не может скрываться, не может держать это и тайне. Если Атон хочет, чтобы ему поклонялся царь в обличье раба, значит, нужно вести себя только так, и люди устремятся к его имени. Отец не желает слушать, когда я говорю, что он может погибнуть из-за этого. «Атон заберет меня, когда на то будет его воля», — твердит он. Отец в любом случае не передумает.
— А раньше ты никогда не пыталась переубедить его? — Нофрет сразу же пожалела о своих словах: взгляд ее госпожи был полон такой боли, что сердце сжалось от сочувствия. — Я думаю, нам надо попросить о помощи. Тут не такое дело, с которым может справиться один человек, даже если этот человек — царица.
— Нет никого, кому я могла бы довериться, — уныло сказала царица.
— Даже господин Аи, твой дядя? Его отец был апиру, а твой отец ходит к ним. Он может понять.
— Я не могу ему доверять. Даже ему. Он верен царю, но такое…
Ни одна из них даже не упомянула молодого царя или его царицу. Нофрет это даже в голову не приходило. Ни Сменхкара, ни Меритатон не поймут и не поверят — как не верила и ее госпожа, пока не получила доказательства.
— Я должна справиться сама, — сказала царица. — У меня нет выбора.
Нофрет решительно покачала головой.
— Не должна. Возможно, тебе не стоит полагаться даже на своих родственников во дворце, но есть человек — люди, — которые наверняка могут помочь. Или, по крайней мере, прикрыть его, когда он уходит из дворца.
— Никого нет, — повторила царица с мягким упорством, унаследованным от матери — и от отца.
— Есть, целых трое, — возразила Нофрет. — Предсказательница Леа, ее сын и внук. Они тоже тебе родня, хотя ты птица очень высокого полета, а они слишком скромны, чтобы воспользоваться этим родством. Разреши мне уйти, и я поговорю с ними. Агарон может быть в своем роде предводителем. Он, наверное, знает, что здесь можно сделать.
— Ты же все равно пойдешь, хочу я или нет. Зачем же спрашивать моего позволения?
— Потому, что я предпочитаю вести себя честно, когда возможно.
Царица засмеялась — это был смех сквозь слезы, единственный смех, возможный для нее. Но ее слова были рассудительны.
— Если они нас предадут, у нас ничего не получится. И отец может погибнуть.
— Не предадут. А если бы и захотели, кто станет их слушать? Они просто рабы, строители гробниц, да к тому же чужестранцы. Ни один вельможа не поверит ни единому их слову.
— Молись, чтобы это было так, — сказала Анхесенпаатон. — Молись всем сердцем.
25
Какой бы ужасной ни считала Анхесенпаатон выходку царя, это было только началом настоящего и прогрессирующего помешательства. Или, как сказал бы он сам, возрастающих требований его Бога.
Сначала он трудился как раб среди самых ничтожных из своего народа. Затем не пожелал надевать две короны во время церемоний при дворе и выезжать на колеснице, как делал прежде, чтобы показаться народу. Днем и ночью он молился в храме, как в чумной год, не ел и пил только тогда, когда жрецам удавалось заставить его. Царь превратился в ходячие кости, обтянутые почерневшей от солнца кожей.
От младшего царя не было никакой пользы.
— Мой бедный брат, — вздыхал Сменхкара. — Он так болен. Так несчастен. Боюсь, он долго не протянет.
«Он надеется на это», — недобро подумала Нофрет. Когда-то она считала его привлекательным, но это оставалось смутным и к тому же смущающим воспоминанием детства. Даже красота второго царя казалась чрезмерной, слишком сладкой, пустой и глупой, как весь его двор и жеманные поклонницы.
Его царица была беременна и плохо себя чувствовала. Сменхара уже не был внимателен к ней так, как прежде. Она же бегала за ним, как уличная шавка за косточкой. Иногда он вспоминал, что надо бы приласкать жену, и называл ее своей милой киской, но гораздо чаще говорил с плохо скрытым нетерпением.
— Ты должна заботиться о своем здоровье! Пойди отдохни, пусть служанки развлекут тебя. Все время быть со мной утомительно.
Так оно и было, но у Меритатон не хватало ума объяснить ему, что в этом виноват он. Она ныла, хныкала и дошла до того, что пришла в слезах жаловаться своей сестре.
Анхесенпаатон, вне себя от беспокойства за отца, перегруженная царскими обязанностями, которые исполняла за всех остальных, была гораздо терпеливей с Меритатон, чем смогла бы Нофрет на ее месте. Она приласкала, успокоила и удобно устроила сестру, приказав поместить ее в прохладной затемненной комнате, где служанки обмахивали ее опахалом, а евнухи обмывали лицо ароматной водой, и позвать царского врача на тот случай, если она вздумает скинуть ребенка, еще совсем крошечного в ее чреве.
Для себя молодая царица не просила ничего, кроме глотка воды и куска хлеба. У нее было слишком много дел. Она была занята ими с рассвета и до позднего вечера.
Не то чтобы приходилось заниматься всем этим совсем одной. При желании она могла бы облегчить свою жизнь. Советчики осаждали ее со всех сторон. Дворецкий, экономы, управляющие номами Египта, придворные вельможи, жрецы, писцы, всяческие чиновники видели, что юная царица управляется там, где не смог бы никто другой. И у каждого была масса советов, как преодолеть трудности. Все, конечно, соглашались с тем, что царь болен. Очень болен. Может быть, даже умирает. Молодой царь занят только охотой, рыбалкой и увеселениями. Его нельзя обременять скучными государственными делами. Если же Сменхкару все-таки заставляли, он исполнял их быстро, но крайне поверхностно.
— Царством управляют скверно.
Так сказал Хоремхеб, играя роль простого солдата, которая прекрасно ему удавалась. Он потребовал личной аудиенции у молодой царицы и отчасти добился своего. С ней была стайка служанок и, конечно, Нофрет. Царица пригласила господина Аи послушать, что военачальник из Дельты хочет ей сказать.
Господин Аи был единственным из многих, в ком виделась какая-то польза. Нофрет полагала, что ее госпожа лучше знает, до какой степени ему можно доверять, поскольку она была царевной, царицей и его внучкой, дочерью его дочери Нефертити. Он очень нравился Нофрет, может быть, потому, что напоминал Иоханана. Когда Иоханан состарится и станет дедом, его борода и густые вьющиеся волосы, бритые на египетский манер, благородная линия носа, твердые черты лица будут такими же, как у господина Аи.
Жена господина Аи, госпожа Теи, происходила из линии Нефертари, но не кичилась своим родом, как многие из придворных. В действительности она не приходилась Анхесенпаатон бабушкой; до нее у господина Аи была другая жена, мать Нефертити. Но она обожала внучку своего мужа. Нофрет редко считала женщину благородной в полном смысле этого слова, но госпожа Теи была и благородной, и благовоспитанной.
Именно она убедила царицу принять гостя в свободной обстановке, после небольшого угощения, и теперь стояла среди женщин недалеко от Нофрет. Ее муж стоял по правую руку царицы, вроде бы непринужденно, но, как и она, был настороже.
Военачальник Хоремхеб, звеня бронзой, вошел в благоухающую и мягко освещенную комнату и принес с собой запахи песка, ветра и лошадей. Он не стал тратить время на предисловия и изъявления вежливости — даже не присел на стул, который любезно приказала подать царица, и не притронулся к угощению, лишь выпил воды.
— Скажу откровенно, госпожа, — начал он. — Царством управляют плохо. Старший царь болен или умирает — никто не знает точно, что с ним, но это наверняка одно из двух. Младший царь ничего не делает, только развлекается, как ребенок, каковым до сих пор и остается. Ты справляешься хорошо, но у тебя нет ни авторитета царя, ни силы, чтобы править, как Тийа до тебя. Ты еще слишком молода и недавно едва оправилась от болезни. Бремя на твоих плечах намного превышает твои силы.
— Я сильнее, чем кажусь, — возразила царица с холодным спокойствием, которому научилась от матери.
Хоремхеб был не из тех, кого можно смутить.
— Ты словно выкована из бронзы. Но ты еще почти ребенок. Никак нельзя было взваливать на тебя царство — но ты несешь этот груз с тех пор, как умерла Тийа. Проклятье, это очень долго!
Некоторые служанки чуть не охнули от его грубости, но царица сохранила хладнокровие.
— Ты откровенен, — заметила она.
— Кто-то же должен, — ответил он. — Послушай меня. Весть о болезни царя разошлась по стране. В Фивах уже празднуют. С храма Амона сняли печати, и скоро наступит очередь других богов. На улицах поют, что Амон проклял дерзкого царя, что царь при смерти и скоро умрет.
— Это неправда, — возразила царица с жаром, который, казалось, озадачил Хоремхеба; его глаза чуть расширились. — Мой отец так же здоров, как и всегда. Он молится, постится и выслушивает приказания Атона, а вовсе не умирает. Он даже не болен.
— Это легко исправить, — сказал Хоремхеб.
Тут даже царевна охнула. Военачальник помотал головой, и вид у него был такой, как будто ему хотелось сплюнуть, но он удержался.
— Разве ты не понимаешь? Даже после Фив? Тогда царя не тронули, поскольку он неприкосновенен. Но если достаточно много людей верят, что царь умирает… Это можно приблизить. Ведь его же проклял Амон. Довершить действие проклятия можно вполне земными средствами.
— Ты хочешь сказать, — спросил господин Аи среди чудовищной тишины, — что могут быть попытки убить царя?
— Не попытки, — возразил Хоремхеб. — Они добьются успеха. Не с первого раза, так с десятого — это их не остановит. Они знают, что с ними благословение их Бога.
— Но мой отец не болен, — повторила царица. Казалось, от потрясения она не до конца понимает Хоремхеба. — Его нельзя убить, если он жив и здоров Он же царь.
— Царь проклят Амоном и остальными богами, которых он назвал ложными. Он больше не выходит из храма своего Бога. Люди делают все, чтобы забыть его. А то, что забыто, не существует вообще.
— Он болен, — сказал господин Аи, отвлекая на себя всю силу гнева царицы, но не отрывая взгляда от Хоремхеба. — Он болен духом. Может быть, и телом тоже. Посты, молитвы — он ведет себя как пророк в пустыне, а не как повелитель Двух Царств…
— Не слышу, — проговорила Анхесенпаатон своим нежным, чистым голосом. — Я не желаю этого слышать.
— Кому-то придется услышать, — отрезал Хоремхеб. — Остальные твои родственники закрывают глаза и уши и делают вид, что весь мир — сплошная золотая радость. Да, даже твой отец, ставший теперь всего лишь оболочкой для Бога, которого никто кроме него не видит. Ты единственная, кого бы я мог назвать разумной и мыслящей. Лучше выслушай меня и задумайся. Два Царства готовы обрести нового царя, поскольку те, что есть, не хотят или не могут править.
— Они не пойдут на это, — произнесла царица. Ее маска начала давать трещины.
Хоремхеб не тратил времени, чтобы продемонстрировать свое удовлетворение.
— Госпожа, — сказал он почти мягко, — могут или нет, но они уже начали. Уже начали!
— Но нет никаких признаков…
— Значит, ты просто слепа. Ты же видела, как царь покидал Фивы. Теперь дело еще хуже. Если бы он попытался вернуться туда, его бы вытащили из лодки и скормили крокодилам. Его город отрезан от остального Египта. Отрезан почти полностью, и ты должна это понимать.
— Он прав, — заметил господин Аи. — Послы теперь прибывают много реже, чем полгода назад. Дани присылают значительно меньше, чем обычно. Люди покидают город. Некоторые его части, прежде густонаселенные, теперь пусты.
— Но здесь-то все спокойно. И дел много, как всегда, — возразила царица.
— Потому, что ими занимаешься ты одна. — Хоремхеб опустился на колени возле ее кресла, может быть, выражая свое уважение, может быть, чтобы обратиться к царице, не нависая над ней. — Госпожа, ты делаешь все возможное, и очень хорошо, но этого мало. Ты не можешь быть одновременно царем и царицей. Ты не в силах соединить части распадающегося царства. С тех пор, как умер старый царь, в нем нет сердца.
— И все из-за Атона. Ты ведь это имеешь в виду? Именно прежние ложные боги держали в целости Два Царства. Без них не устоять.
— Прежние боги могут быть настоящими и ложными, но они-то и есть сердце Двух Царств.
— Твои речи, — заметила она, — нарушают указ царя. По закону ты должен за это умереть.
— Значит, я умру за то, что говорил правду. — Хоремхеб схватился за ручки ее кресла, окружив царицу, словно стена. — Госпожа, послушай меня. Великое дело царя провалилось. Никто за пределами Ахетатона не поклоняется его Богу, и лишь ничтожное количество людей в глубине души верят, что Атон — единственный истинный Бог. Если царь не отступит, или, по крайней мере, не позволит снова открыть двери храмов, он заплатит за это. И очень может быть, что плата будет кровавой.
— Ты нам угрожаешь? — Мягкость исчезла, в голосе царицы появилась непреклонность, напомнившая Нофрет самого царя.
— Я делаю то, что мне положено — защищаю царя. Но, госпожа, прежде всего я присягал Двум Царствам. Если действия царя угрожают государству, я буду защищать государство.
— Тогда тебе лучше скрыться. Или ты будешь арестован и наказан за измену.
Хоремхеб медленно поднялся. Возможно, у него затекли колени — он был уже не очень молод, хотя и не стар.
— Если я оставлю город, никто больше не защитит вас.
— У меня здесь есть свои люди, — сказала царица, — и стража моего отца, а это целая армия.
— Если я не заберу их с собой, — заметил он.
Наступило молчание. «Тупик», — подумала Нофрет.
Хоремхеб заговорил первым, но не потому, что поддался слабости:
— Госпожа, я оставляю тебя поразмыслить над моими словами. Если ты сумеешь пробудить здравый смысл в сознании его величества, весь Египет будет благодарен тебе. Пусть только он разрешит открыть храмы по закону — фактически они уже открыты — и этого будет достаточно, по крайней мере, на данный момент.
— А когда момент пройдет? Что тогда, господин военачальник? Мой отец поест чего-нибудь, и его найдут мертвым?
— Возможно, и нет. Если люди получат своих богов, они будут вполне удовлетворены.
— Но царь не разрешит. Он не может. Атон не позволит ему.
— Молись за то, чтобы у Атона прибавилось здравого смысла, — ответил Хоремхеб.
Царица отослала всех, даже господина Аи. Но Нофрет посчитала, что ее это не касается. Она осталась, и ее госпожа, кажется, ничего не имела против.
Когда все вышли, царица поднялась с кресла, сняла корону, отложила скипетр, двигаясь медленно и осторожно, как будто боялась рассыпаться от слишком стремительного движения.
Потом остановилась и замерла, словно не зная, что делать дальше. Подняла руки, опустила, повернулась и уставилась на Нофрет.
— Ты всегда знаешь, что делать. Что бы ты сделала теперь?
Вопрос застал Нофрет врасплох.
— Ты меня спрашиваешь?
— Я редко делаю это, — сухо ответила ее госпожа. — Но ты всегда ухитряешься подсказать мне ответ. Ты не так растеряна, как я.
— Но я же не царица, даже не царевна.
— Раньше это не имело для тебя значения. Что же ты видишь теперь? Думаешь, нам удастся убедить моего отца открыть храмы или заставить его брата заниматься чем-нибудь еще, кроме развлечений?
— Нет, если только солнце не начнет светить по ночам.
— Так оно светит в земле мертвых. — Царица прижала ладони к щекам. — Ох, как бы я хотела оказаться там. Хоть бы кто-нибудь помог мне!
Когда утихло эхо этих слов, Нофрет заговорила:
— Будь осторожна — ты можешь неожиданно получить такую помощь. Ты поняла, о чем не договорил военачальник Хоремхеб? О том, что будет потом? Амон придет в Ахетатон, поднимет бунт, свергнет царя и всех его последователей. Вот что я вижу, госпожа. И это еще не самое худшее.
Царица опустилась на пол, где стояла, не обращая внимания на то, что ее платье смялось и красивые складки разошлись.
— И я вижу это, — вымолвила она. — Я тоже вижу это. Нофрет, мне страшно.
Нофрет опустилась на колени рядом с ней. Царица вцепилась в ее руки, как слепая, и крепко держалась за них. Нофрет почувствовала, что ее госпожа дрожит, и дрожь передастся ей.
Здесь все было мирно. Никаких бунтовщиков на улицах, никто не ломится в ворота. С тех пор как царица навела во дворце порядок после чумы, жизнь текла гладко и спокойно. Все казалось таким же, как тогда, когда Нофрет впервые попала в Ахетатон — в те времена царь прочно сидел на троне, вся его семья была в полном здравии и процветала, и царство жило в повиновении, если не в полном довольстве, под властью Атона.
— Что-то произошло, — сказала царевна, уловив мысли Нофрет, как иногда случалось, или думая точно так же. — В тот ужасный год, когда все умерли — нет, даже раньше, когда отец узнал, что у него не будет сыновей. Что-то сломалось в нем и в Двух Царствах тоже. Это не удалось восстановить. И уже никогда не удастся. Некому. Нет достаточно сильного человека. Достаточно великого, чтобы совершить чудо. — Она задержала дыхание, пытаясь прогнать слезы, которые, казалось, злили ее, и замотала головой так, что жесткие, закрепленные бусами пряди ее парика качались и танцевали. — Я знаю, что сдаваться не стоит. Что-то ведь я могу сделать, но что? Я ничего не вижу.
Нофрет тоже не видела выхода, и признавать это было больно. Ее изобретательность и находчивость славились на всю округу. Но сейчас ей нечего предложить. Отчаяние накрыло девушку, как туман — холмы страны Хатти, густо и тяжело.
Она сказала единственное, что пришло ей в голову:
— Пойдем погуляем. Сходим куда-нибудь.
— Куда? Молоть муку возле гробниц?
Эти горькие слова не следовало понимать буквально, но Нофрет поймала царицу на слове.
— А почему бы и нет? Лучше, чем сидеть здесь, стенать и скрипеть зубами. Кроме того, у тебя там родственники. Помнишь предсказательницу Леа? Царица может попросить у нее совета, попав в очень трудное положение.
— Не знаю, настолько ли трудно мое положение, — сказала царица, но добавила: — В самом деле, почему бы и нет? Я пойду туда, как простая женщина, посоветоваться с пророчицей апиру.
26
Анхесенпаатон не привыкла ходить пешком на такие большие расстояния, и ее ноги, привычные лишь к дворцовым полам, даже в сандалиях были слишком нежны. Но она не жаловалась, и Нофрет не собиралась ее баловать.
Царица могла уйти из дворца незамеченной так же просто, как царь. Она вышла пешком, без короны и скипетра, и никто ее не узнал и не попытался остановить. Те немногие, кто мог бы — господин Аи, госпожа Теи, военачальник Хоремхеб — рядом в тот момент не случились. По-видимому, они совещались где-то в своих покоях, решая, что же делать с царем, который навлек на всех столько неприятностей.
В городе было тихо, — тише, чем должно быть в городе. Люди уходили из него, как песок уходит сквозь сито, медленнее, чем вода, но так же неотвратимо. Продавец пива, мимо которого всегда проходила Нофрет по пути в деревню, исчез вместе со своим прилавком. Наверное, вернулся в Мемфис, где было больше конкурентов, но и покупателей тоже.
И это больше, чем мятежи, вторжения, убийцы с ножами, убедило Нофрет, что она не в бредовом сне. Ахетатон умирал. Его жители возвращались в те места, откуда пришли сюда. Среди них ходили слухи, что царь болен или даже уже умер.
Никто по нему не горевал и не пытался выяснить истину: что он так же здоров, как всегда.
Нофрет крепко держала госпожу за руку. Та не привыкла ходить пешком, как обычная женщина, и все время обижалась, что прохожие не трудятся уступать ей дорогу. К счастью, она вела себя спокойно.
Когда они добрались до восточных ворот, царица уже натерла ноги, устала и шла вперед, молча следуя за своей служанкой. Нофрет купила бурдюк с водой, точно так же, как сделал Иоханан, когда она была больна — об этом вспомнилось и с удовольствием, и с грустью, — и заставляла ее понемногу пить по дороге. Анхесенпаатон не понравился вкус тепловатой воды, пропахшей кожей, но она была достаточно разумна, чтобы пить, когда хочется.
Вдвоем они добрались от ворот до селения гораздо медленнее, чем если бы Нофрет шла одна. Она с трудом сдерживала нетерпение. Если за ними примчится целое войско на колесницах, чтобы отвезти царицу туда, где ей надлежит быть, пусть будет так. Но ее изнеженные ноги не могли двигаться быстрее.
Селение, в отличие от города, выглядело точно так же, как и всегда. Никто его не покинул, и в воздухе не разносились стоны умирающих. Люди жили так же, как в те времена, когда Нофрет впервые попала сюда: растили детей, торговали и покупали на рынке, трудились на строительстве гробниц.
Однако работы теперь стало меньше, и на улицах встречалось больше мужских лиц. Мужчины собирались у дверей домов и на рынке, болтали и пили пиво. Они стояли у стен с пустыми от скуки глазами или сидели в тени и окликали проходящих женщин, которые не обращали на них внимания или отвечали насмешками.
Никто не сидел у дверей дома Агарона. Хозяина с сыном дома не оказалось; значит, у них еще есть работа или они делали вид, что есть. Так же поступали большинство апиру в селении. Все мужчины, встреченные Нофрет по пути к дому Агарона, были египтяне.
Леа тоже не откликнулась. Дом не был покинут, не похоже, чтобы из него бежали. Все осталось на месте, в загоне блеяли козы, и даже появилось кое-что новое — кошка, нежащаяся на солнышке у входной двери. Но людей не было ни внутри, ни снаружи.
Царица опустилась на ступеньки, а Нофрет пошла предупредить Леа об их приходе. Когда девушка вышла, ее госпожа сидела, держа на коленях мурлычущую кошку, очень спокойная — Нофрет давно уже не видела ее такой и не особенно усталая, несмотря на натруженные ноги.
Тревога Нофрет почему-то развеялась, и она сумела спокойно сказать:
— Никого нет дома. Посиди здесь, а я попробую найти Леа. Наверное, она у соседки. У Рахел маленький ребенок — может быть, Леа помогает ей.
Царица кивнула. Хорошо бы она не почувствовала ее волнения. Нофрет через силу улыбнулась, огляделась по сторонам, убедилась, что никто не досадит ее госпоже, и очень целеустремленно двинулась вперед, не зная, куда идти.
Сначала в дом Рахел, раз уж она о ней заговорила. Но Леа там не оказалось. Рахел ее давно не видела. Ничего не знала и другая соседка, Мириам, и Дина, которая была у нее в гостях и всегда знала, кто где находится.
— Может быть, Леа у гробниц, — сказала Дина, — она пошла туда утром, но я не видела, чтобы она возвращалась.
Правда, эта дорога вела и на рынок, но Нофрет не видела там Леа. Отходя от дверей Мириам, она оглянулась. Маленькая фигурка в белом платье спокойно сидела перед домом Агарона с кошкой на коленях, терпеливо ожидая, как приучены ожидать царицы. Она не поведет ее с собой к гробницам, пусть отдохнет.
Поблагодарив Мириам и Дину, Нофрет вернулась к своей госпоже.
— Входи и садись. В кувшине всегда есть вода, и я знаю, где они держат хлеб и сыр. Я поднимусь к гробницам. Леа там со своими мужчинами.
— Я пойду с тобой, — вскочила царица.
— Нет, не пойдешь. Подниматься наверх долго, а у тебя уже волдыри на ногах. Здесь ты в безопасности. Сюда никто не войдет без приглашения, а если попытается, пойди и выпусти козла.
— Но, — сказала ее госпожа, — как я узнаю, кто из них козел?
Нофрет вытаращила глаза.
— Ты не…
Конечно, она не знала. Царевны и царицы не имеют дела с козами — только с лошадьми, ручными газелями, кошками разного размера. Это животные для царей, а козы для простолюдинов и принцев пустыни.
Нофрет собралась с мыслями.
— Это несложно. Нос тебе укажет. Смотри, кто самый большой и вонючий и у кого на шее цепь. В случае чего, выпусти его, и я обещаю, что любой, кто вторгнется в дом, тут же вылетит наружу так быстро, как вынесут ноги — а козел следом за ним.
Царица слегка нахмурилась, потом ее лоб разгладился.
— Ах, ну да, я забыла. Козел всегда убегает, и все гоняются за ним по всей округе, но он возвращается только тогда, когда пожелает. — Она улыбнулась, что было теперь редким чудом. — Можно мне взглянуть на него прежде, чем я войду в дом? Чтобы точно знать, кого выпускать.
Нофрет подавила вздох. Стоило задержаться, чтобы увидеть улыбку своей госпожи.
Они постояли у козьего загона. Козел был сегодня во всей красе: царица зажимала нос, но смотрела на него с восхищением. Он тоже взирал на нее желтыми глазами со зрачками-черточками, древними, хитрыми и умными.
Потом козел сделал замечательную вещь, склонил голову, увенчанную большими изогнутыми рогами, к земле, не отрывая глаз от лица царицы. И она, маленькая дурочка, перелезла через загородку, подошла и погладила его, забыв даже про запах — а он прижимался к ней, нежно, как козленок.
Анхесенпаатон неохотно вышла, по пути лаская коз и козлят. Когда же они, наконец, выбрались из загона, Нофрет перевела дух. Козлиная вонь чуть не задушила ее. А он, удивительное создание, смотрел на ее госпожу, как на любимую козу из своего гарема.
Может быть, египтяне в чем-то правы, убежденные в божественности своих царей. Чем же еще объяснить поведение козла?
Царица даже не поняла, что смогла сделать. Она умылась над тазом, который ей показала Нофрет, позволила налить себе чашку воды и наполнить блюдо хлебом, сыром и фруктами, уложить ее на ковры, где вечерами сидели мужчины. Нофрет оставила свою госпожу там, молясь любому богу, готовому услышать ее, чтобы царица никуда не ушла и с ней ничего не случилось.
Теперь изнеженная госпожа не задерживала ее, и Нофрет очень быстро шла по горной тропе к гробнице царя. Она едва замечала, какой крутой, узкой, долгой и каменистой была ее дорога. Палящее солнце мало волновало девушку. Может быть, она была одержима богом или демоном торопливости. Неважно, что госпожа в доме Агарона находится в большей безопасности, чем когда-либо в жизни — там безопасней, чем во дворце, где слуги могут отравить царицу, стражники — достать мечи и пронзить ее сердце, а придворные — отдать на растерзание толпе. Нофрет всем телом чувствовала, что времени ужасающе мало.
Работа над царской гробницей продолжалась и даже показалась Нофрет более напряженной, чем прежде: так бывает, когда дело идет к концу. Там теперь трудилось больше народу, чем раньше — в глубине люди вырезали, расписывали, шлифовали.
Агарон находился в месте царского захоронения, куда нужно было спускаться по длинному коридору и двум пролетам узкой лестницы, где рабочие углубляли помещение. Иоханан наблюдал, как штукатурят стену, проверял качество работы. Но Леа нигде не было видно.
В жаркой духоте гробницы, пропахшей потом и ламповым маслом, Нофрет пришлось остановиться, чтобы перевести дух. Люди, погруженные в свое дело, не замечали ее. Но Иоханан закончил работу, позвал кого-то проверять следующий участок и направился в ее сторону среди множества занятых делом людей.
Пока он шел к ней, высокий и крепко сложенный, в запыленной полосатой одежде, Нофрет увидела в нем что-то такое, от чего захотелось плакать. Она прикусила язык, чтобы сдержать слезы, с трудом сглотнула и, когда юноша подошел к ней, сказала с видимым спокойствием:
— Мне нужна твоя бабушка. Она здесь?
— Нет, конечно. Она собиралась весь день ткать свадебную вуаль для Леви, дочери священника. Кто тебя сюда послал?
— Дина, — ответила Нофрет, слишком усталая, чтобы сердиться. — Я не знала, что она так сильно меня не любит.
Иоханан вывел девушку наружу — на солнце было еще жарче, чем в гробнице, но воздух был чистый. Он усадил ее под навесом для рабочих, дал напиться и присел рядом. Взглянув на него, Нофрет не смогла удержаться от смеха: Иоханан был такой чумазый, весь в пыли, заляпанный штукатуркой… Стекающий пот проложил по ней русла, просвечивающие коричневой теплотой кожи среди серой пыли.
Он с восхитительным терпением ждал, когда она успокоится.
— У меня жуткий вид, правда? Но и у тебя не лучше. Как будто за тобой гнались собаки Сета. — Иоханан сказал это небрежно, но внезапно посерьезнел, словно потрясенный собственными словами. — В чем дело? Что случилось? Царь умер?
— Это было бы лучше для всех нас. Но он даже не болен. Амон и его жрецы превращают свои надежды в предсказания. Они убьют его, если смогут, царь он или не царь.
Вторая тень, еще выше и шире, появилась возле Иоханана. Низкий голос Агарона подействовал на Нофрет успокаивающе, как будто он погладил ее по голове.
— Если царь еще жив, то скоро умрет. Мы получили приказ закончить гробницу до следующего новолуния.
Нофрет не могла сразу сосчитать дни и фазы луны. Но Иоханан соображал быстрее, а, может быть, не был так утомлен.
— Девять дней. Прибавь или отними один. — Нахмурившись, он оглянулся на отца. — Странно. Чтобы забальзамировать тело, нужно семьдесят дней. Почему же…
— Они хотят, чтобы все было готово к его прибытию, — ответил Агарон. — Не получится. Царская усыпальница готова только вчерне, а с остальным придется подождать.
— Какая спешка, — удивилась Нофрет. — В Фивах понадобились бы годы, чтобы сделать все как надо.
— Фивы — древний город, — сказал Агарон. — Ахетатон, я думаю, не успеет состариться. Он построен на бесплодной земле и умрет прежде, чем она принесет плоды.
Агарон говорил спокойно, без видимого сожаления. Нофрет подумала, что в нем всегда живет обитатель пустыни, который вырос, кочуя от одного оазиса до другого, но нет места, которое он назвал бы домом.
Иоханан внезапно спросил:
— Зачем ты ищешь бабушку? Ты могла бы просто подождать ее в доме.
— Я оставила там мою госпожу, — сказала Нофрет и добавила, увидев, как расширились его глаза: — Ей нужно кое-что узнать. Мне кажется, твоя бабушка могла бы ответить ей.
— Что… — начал было Иоханан, но, поймав взгляд отца, не закончил фразы, а сказал: — Мы спустимся вместе с тобой.
Нофрет не возражала, и мужчины собрали свою одежду, связали и взвалили на плечи, взяли на дорогу бурдюк с водой. Привычные жители пустыни… Она никогда не смогла бы приспособиться так, как эти люди.
Обратный путь был долгим и утомительным. Все молчали. Нофрет радовалась этому молчанию. Их присутствие успокаивало: двое сильных мужчин, которым она доверяла, шли по узкой крутой дороге — один впереди нее, другой позади.
После такой спешки и неимоверных усилий Нофрет почти пришла в ярость, когда, вернувшись в дом Агарона, обнаружила, что ее госпожа сидит у ног Леа, грызет финики в меду и чувствует себя так уютно, как будто всегда жила здесь. Нофрет, измученная, задыхающаяся, покрытая пылью, стояла и молча смотрела на нее.
— Сходи вымойся, — сказала Леа. В ее голосе вовсе не было повелительности, но Нофрет и в голову не пришло возражать.
Когда она вернулась, оставив мыться мужчин, женщины сидели все так же. Нофрет опустилась на груду ковров, взяла чашу, протянутую Леа, и обнаружила, что она полна сильно разбавленного вина. Вино приятно холодило горло, хлеб был свежий и показался вкуснее всего, что ей когда-либо случалось есть. Девушка думала, что уже не способна чувствовать голод, но, откусив первый кусок, поняла, что зверски хочет есть.
Остальные терпеливо ждали, пока она насытится. Было странно видеть их вместе и в такой близости. Надменная Анхесенпаатон никогда ни с кем не вела себя так просто, даже с родственниками. И Нофрет подумала, что не так хорошо знает свою госпожу, как ей казалось.
Мужчины вошли, когда Нофрет уже почти утолила свой голод. Чистые, с влажными волосами, одетые в свое лучшее платье, они больше походили на братьев, чем на отца с сыном. Иоханан явно был младшим: он смотрел на царицу с откровенным любопытством, его отец — более спокойней, он был не так ошарашен ее присутствием здесь. Нофрет подумала, что Иоханану пора бы уже привыкнуть: недавно сам царь сидел почти на том же месте.
Мужчины ели с не меньшим аппетитом, чем Нофрет, может быть, немного более сдержанно. Наконец Леа решила, что церемонии соблюдены в достаточной степени, и сказала:
— Раз вы закончили, надевайте сандалии. Мы идем во дворец.
Иоханан торопливо заглотнул последний кусок и чуть не подавился. Его отец и Нофрет вдвоем постучали его по спине. В конце концов, он, багровокрасный, отдышался и сел, возмущенно глядя на бабушку. Из глаз его текли слезы.
Леа, ничего не сказав ему, поднялась без посторонней помощи — не очень быстро, но достаточно ловко. Агарон помог ей надеть накидку и сандалии, и замешкался со своими. Иоханан прыгал на одной ноге, распутывая ремешок.
Нофрет ждала его у дверей.
— Бежать не обязательно. Ты же знаешь дорогу.
Иоханан свирепо взглянул на нее, но ему пришлось нагнуться, чтобы, наконец, застегнуть сандалию.
Нофрет усмехнулась, хотя в душе посочувствовала ему. Она тоже не знала, о чем Леа говорила с ее госпожой, но так же, как и Иоханан, понимала, что спрашивать не нужно. Когда придет время, они обо всем узнают. А до тех пор, пусть они хоть до слез упрашивают, Леа не скажет ни слова.
27
Египтянка, хеттка и трое апиру, идущие в город перед заходом солнца, привлекли некоторое внимание стражи, но гораздо меньшее, чем опасалась Нофрет. Она даже подумала, не сделала ли что-нибудь Леа — какое-нибудь маленькое колдовство, — чтобы их отвлечь.
Скорее всего, нет. Гораздо более странные люди проходили через эти ворота и гораздо более внушительные. Пятеро пешеходов, запыленных и усталых, едва ли достойны внимания, если никому не досаждают.
Вела их Леа, шагая стремительно, несмотря на свои годы. Она свернула не ко дворцу, а в сторону великого храма Атона. Казалось, она прекрасно знает дорогу, хотя, насколько было известно Нофрет, никогда не покидала селения строителей с самого начала работ над гробницами.
Остальные в молчании следовали за ней. Нофрет уже едва держалась на ногах. Когда Иоханан в первый раз поддержал ее, она на него рявкнула, но потом решила согласиться с тем, что он сильнее. В конце концов, он же гораздо больше. Пусть наполовину несет и ее, впридачу к себе самому, пока не устанет.
Но Иоханан почему-то не уставал. Он казался утомленным не больше, чем Агарон, который нее на руках царицу, когда та совсем обессилела. Она позволяла это, сохраняя достаточно гордости, как и всегда, когда разрешала другим быть ее слугами.
Странная процессия проследовала через храмовые дворы. Большие густоволосые мужчины в шерстяной одежде резко выделились среди чисто выбритых, одетых в полотно жрецов. Жрецы хотели было возмутиться, но царица приподнялась на руках Агарона и сказала звонким властным голосом:
— Это происходит по моей воле. Убирайтесь!
Тогда они ее узнали, и, кланяясь до земли, поспешили исполнить приказание. Царица снова откинулась на плечо Агарона. величественная даже теперь. Но в глазах ее была тьма.
Царь лежал перед алтарем во внутреннем храме. Вокруг громоздились груды приношений: большие хлебы разной формы, кувшины с пивом и вином, цветы, вянущие от дневной жары, фрукты со всех концов земли, уложенные на подносы и в корзины, куски жареного мяса, над которыми роились мухи. Царь не обращал на все это никакого внимания. Он выглядел настолько истощенным, что Нофрет подумала, ел ли он вообще что-нибудь с тех пор, как начался день.
Агарон поставил царицу на ноги. Она покачнулась, ухватилась за него, выпрямилась. Нофрет чувствовала себя не лучше.
Леа спокойно прошла среди приношений и остановилась над царем.
— Вставай! — резко сказала она.
Царь медленно поднялся, моргая, растерянно глядя на нее, как будто спросонья.
— Иди за мной.
Леа знала храм так же, как и город, и это знание могло быть дано ей только свыше. Она привела его на крыльцо восхода, к вечеру находившееся в тени, когда солнце уже спустилось низко с другой стороны храма. Тут было тихое место, сохранившее тепло дня, но не так много, чтобы доставить неприятности. Здесь никого не было, никто не мог подслушать, чем не погнушались бы жрецы во внутреннем храме.
Мужчины держались настороже. Нофрет никогда не видела, чтобы они ходили вооруженными. Однако сейчас за поясом Агарона появился длинный кинжал, и у Иоханана тоже. До сих пор они, видимо, прятали их в рукавах или под одеждой. Не слишком мощное оружие против солдатского копья или лука, но достаточно опасное. От его близости у нее похолодела спина. Это уже не болтовня. Это правда. Сюда может войти смерть. Люди могут попытаться убить царя.
Люди, которые ему сродни, которым она доверяла.
И этим надо доверять. Выбора нет. Они охраняют царя, а не готовятся убивать его.
Леа села на царскую кушетку в павильоне. Ему оставалось сесть либо на пол, либо на одну из ступенек. Царь предпочел стоять, чуть покачиваясь. Его длинные пальцы шевелились. Похоже, он еще наполовину находился в трансе.
Никто не возразил, что пророчица из народа рабов заняла место, принадлежавшее царю. Царя, судя по всему, это вовсе не волновало.
Он заговорил, опередив остальных, не обращаясь ни к кому в отдельности:
— Атон явился мне, — сказал он, — огненными словами.
— И что же он тебе сказал? — спросила Леа, четко, словно жрец во время церемонии.
— Что я должен… — Царь заколебался, заморгал, снова поглядел на нее, словно только что по-настоящему увидев. — Ты пришла. Он сказал, что ты придешь. Значит… Значит, уже так поздно?
— Если что-то может быть позже. Так что же он тебе сказал?
— Он сказал, что я должен умереть.
Кто-то охнул. Нофрет не думала, что это она. Может быть, ее госпожа?
Ни царь, ни пророчица не обратили на это внимания.
— Я должен умереть, — продолжал царь, но не должен… — Он помотал головой, чтобы обрести ясность мысли. — Я должен умереть, но я должен жить. Не так, как Осирис, который вечно воскресает. Бог зовет меня. Я должен встать и идти. Туда, где солнце, туда, где оно сжигает.
— Он бредит, — прошептала Нофрет то ли себе, то ли Иоханану, стоящему рядом с ней.
Но он не слышал ее. Никто не слышал. Все смотрели на царя.
— Я должен идти в пустыню. Я должен следовать за Богом. Ночью он будет огненным столпом. Днем…
Леа встала и сделала то, на что никогда не решилась бы Нофрет, будь она даже царицей Египта. Она сильно ударила царя по обеим щекам, один раз, а потом другой.
Царь закачался, но в его глазах появилось осознанное выражение и что-то вроде мысли. Он поднял руки к щекам и выглядел вполне по-человечески озадаченным.
— Вот, — удовлетворенно сказала Леа. — Это прочистит тебе мозги. Значит, Бог зовет тебя в Красную Землю. Учитывая обстоятельства, очень разумно с его стороны. Черная Земля не слишком довольна тем, как ты ею правишь.
— Я не был хорошим царем. — Казалось, царь сожалеет об этом в своей рассеянной и смутной манере. — И Богу своему служил плохо. Он сердится. Называет меня глупцом, дрянным слугой, хилым заикающимся рабом. «Вон! — приказывает он мне. — Вон, в пустыню! Там, в созданной мною земле, ты будешь низко кланяться и славить меня. Служи мне так, как предписал тебе я, который есть и будет вечно».
— Но ты же фараон, Великий Дом Египта, — возразила Леа.
— Я ничто! — вскричал он. — Пыль и пепел, дыхание ветра, белая кость на красном песке. Я мертвец, несказанное слово. Когда я уйду, меня совсем забудут.
— Если Бог хочет, так и будет. Но пока ты не умер. Ты еще царь, пусть даже твое царство желает иного.
— Я умираю, — пробормотал он. — Я умру. Так говорит Бог.
— Действительно, — вмешался новый голос. — Это действительно так.
Все уставились на Анхесенпаатон, даже царь. Она подняла голову под тяжестью их взглядов.
— Разве вы не понимаете? Даже ты, отец? Ты слишком полон своим Богом.
— Я понимаю, — сказала Леа, — но не мне говорить.
Царица медленно кивнула. У Нофрет все внутри сжалось. Так вот о чем шел разговор, пока она карабкалась к гробнице царя. Это было что-то ужасное. Царица держала все в себе, как была приучена, но из ее глаз глядел ужас перед тем, чего даже ее отвага не могла вынести.
— Ты должен умереть, — сказала она отцу, — перед лицом Двух Царств. Ты должен умереть и перестать быть царем.
Дыхание Иоханана со свистом вырывалось сквозь стиснутые зубы. «Он понял», — подумала Нофрет. И она поняла — не раньше, чем пришло время. Ужасно, да — для египтянина. Но для чужеземца это имело смысл.
— Царь умрет, — говорила Леа. — Он болен, об этом знает весь мир. Его дни сочтены. Но человек, который был царем, голос и слуга Бога, поступит так, как велит ему Бог. Он выйдет в пустыню, в Красную Землю, под его обжигающий взгляд.
— И умрет там, — подхватил царь, — умрет и возродится заново. — Он улыбнулся нежно, как маленький ребенок. — О, да! Да, ты понимаешь. Ты все понимаешь.
— Я понимаю, — сказала Леа, — что царь сложит свои обязанности и станет тем, кем всегда на самом деле был, — пророком своего Бога.
— Но чтобы это сделать, — сказала царица торжественно, словно во время ритуала, — нужно, чтобы люди видели, как царь умирает. Он должен быть забальзамирован и похоронен в своей гробнице.
— Люди каждый день умирают, — заметил Агарон. — Жрецов можно подкупить, бальзамировщиков — убедить, что тело, которое им дали, и есть тело царя. Но царю придется самому подумать, как обмануть своих врачей. Может он заболеть, так заболеть, что вот-вот умрет?
— Бог меня научит, — сказал царь, буквально светясь от возбуждения. И немудрено — он, наконец, освобождался от груза царской власти.
Нофрет внимательно следила за своей хозяйкой. Трое апиру и хеттка могут наблюдать отречение царя с чувством, напоминающим удовлетворение, и царь, конечно, безумец. Но ее госпожа была египтянкой и к тому же царицей. Ни один царь в Египте никогда не отрекался. Он умирал или его смерть устраивали другие, но никогда он не слагал с себя короны, оставаясь жить.
Царица казалась спокойной и способной, даже жаждущей встретиться лицом к лицу с тем, что для египтянина немыслимо. И все же Нофрет наблюдала за своей госпожой. Она должна понять, что в существующих обстоятельствах нет иного выбора, кроме как допустить, чтобы царь был убит. Царство изгнало его. Даже двор отворачивался от него.
— И это значит, — говорила Леа, здравомыслящая, как всегда — а именно здравомыслие было отчаянно необходимо в этом деле, — что тебе, девочка, предстоит сыграть роль, какую никогда прежде не играли царицы. Ты должна смотреть, как он умирает, там, где это увидят и другие; когда же все сочтут, что он скончался, тебе придется помочь ему скрыться, а затем скорбеть над телом какого-нибудь незнакомца и участвовать в погребении. А когда его похоронят, ты по-прежнему будешь царицей и возьмешь себе нового царя.
— Но не сразу же, возразила царица. — Сменхкара молод и, хотя духом не силен, телом крепок. Он может пережить нас всех.
— А может и не пережить. Но ты будешь носить свою тайну в сердце, и она станет грызть тебя. Ты сможешь сделать это, дитя? У тебя хватит сил?
— Надеюсь, хватит.
Леа кивнула, судя по всему, удовлетворенная, чего нельзя было сказать о Нофрет. Но здесь у нее не было права голоса. Она уже сказала свое раньше. Если бы она не привела госпожу к Леа, если бы Леа не пришла сюда…
Это все произошло бы независимо от Нофрет. Она такая же раба Бога, как и все остальные. Какой бы ни был бог. Амон мог не иметь ничего против того, чтобы слуга Атона жил, лишь бы сам Атон был изгнан в пустыню.
— Но куда же ты пойдешь? — спросила она. — Как станешь поддерживать свою жизнь?
Удивительно, но царь ответил ей; Нофрет не ожидала, что он думает о чем-то еще, кроме своего Бога и возможности избавиться от скучного занятия быть царем.
— Я буду следовать за своим Богом и пойду туда, куда поведет он.
— Он пойдет на север, — сказала Леа, — а потом на восток, в пустыню, которая была нашим домом до того, как мы пришли сюда. Наши родичи еще там те, кто остался позади, когда мы пришли в Египет. Они позаботятся о нем и укроют его. Египет никогда не узнает, что его царь находится среди племен Синая.
Нофрет резко замотала головой, — ничего не выйдет. Синай находится под властью Египта. Его найдут и убьют.
— Атон защитит меня, — сказал царь: все те же слова, такие же безумные, как всегда, и так пугающе правильные.
— Ну хорошо, — согласилась она. — Но как же ты выберешься из Египта? У каждой переправы через реку стоят заставы, в каждой деревне есть соглядатаи жрецов. Если у кого-нибудь появится хоть малейшее подозрение, тебя схватят. Даже если удастся выбраться из Ахетатона. Ты знаешь о мире не больше, чем новорожденный котенок.
Царь захлопал глазами, слишком озадаченный, чтобы обижаться. Вмешался Агарон:
— Да, все это верно, но он же будет не один. Я пойду с ним.
— И я, — подхватил Иоханан. — Мы давно так решили. Бабушка видела, что до этого дойдет. Мы станем теми, кто мы есть на самом деле — людьми из племен, которые жили в Египте и решили вернуться домой. Мы получим пропуска, чтобы пройти заставы, у нас будут ослы, разные вещи на продажу, чтобы прокормиться и не вызвать подозрений, когда мы направимся на север.
— Его величество будет моим братом, — добавил Агарон. — Он немного слабоумен, но его посещают видения. Мы будем всегда держать его при себе, так как с ним может случиться припадок.
Как и все безумные планы, этот выглядел красиво.
— Ничего не получится, — повторила Нофрет. — Кто-нибудь вас разоблачит. Военачальник Хоремхеб не дурак. Узнав о ваших намерениях хоть что-то, он бросится вслед со всей своей армией.
— Значит, надо позаботиться о том, чтобы он ни о чем не пронюхал, — сказал Агарон. Он был доволен собой так же, как Иоханан, словно мальчишка, замышляющий шалость.
— Разве ты не понимаешь? — спросил Иоханан, с легкостью читая ее мысли, — все настолько просто, что обязательно получится. Мы выйдем отсюда, поскольку имеем на это право, заберем с собой брата и поведем домой.
— Домой, — повторил царь, словно прижимая это слово к своей узкой груди. — Домой в Красную Землю, в священные горы моего Бога. Я построю там храм — высокий, до самого неба. Все будут смотреть на него и удивляться.
— Конечно, — ехидно сказала Нофрет. — Он тоже удивится, приедет туда и узнает покойного царя Египта.
— Царь Египта скоро будет мертв, — сказал Эхнатон. — Он умирает сейчас. Слышишь, как он тяжело дышит? Его жизненный срок сократился до дней, даже до часов. Проводник ждет, бог-шакал, сторожащий тропы мертвых.
Нофрет воздела руки к небу.
— Ну хоть кто-нибудь послушает меня? Вы все просто спятили.
— Мы делаем то, что должны, — мягко сказала Леа. — Да, и даже ты. Ты привела ко мне свою госпожу и дала мне время научить тому, что ей следует знать.
Хозяйка Нофрет кивнула, все еще бледная, но спокойная.
— Ты все понимаешь, хотя и не желаешь понимать. Как и я. Все правильно, Нофрет. Бог хочет, чтобы мы поступили именно так.
«Но какой же бог?» — задумалась Нофрет. Атон, который заявляет, что любит царя, или Амон, который его ненавидит? И есть ли разница между ними?
28
Умирание царя было величественным и страшным. Он торжественно и с церемониями улегся в постель, окруженный толпами жрецов, врачей, рабов, слуг, придворных и всяческих бездельников, сделав все, что надлежало сделать в этой жизни. То, что должно быть долгим и медленным погружением во тьму, стало царственным зрелищем, правда не среди золота и солнечного света, но среди белого полотна, темного дыма курений и стенаний женщин и евнухов.
Никто — ни один из них — не распознал лжи. Исхудавший царь, уже много дней не евший ничего, кроме кусочка хлеба и пары глотков воды в день, выглядел смертельно больным. С точки зрения Нофрет, все было даже чересчур убедительно. Он вполне мог бы умереть на самом деле, просто потому, что Бог приказал ему изобразить смерть.
Если бы царь и вправду был так болен, как казалось, Нофрет не стала бы огорчаться больше, чем полагалось по обязанности. Переход в мир иной тянулся бесконечно, хотя, как она потом сосчитала, это был лишь обычный оборот луны от новолуния до полнолуния и снова до новолуния. Девять дней, отведенные для завершения гробницы, прошли, а царь все еще дышал, хотя находился на краю жизни. Даже его враги поверили ему или решили набраться терпения и позволить богам самим разделаться с ним.
В темную безлунную ночь, когда его жрецы молились, врачи разводили руками, а слуги хором стенали, царь испустил хриплый глубокий вздох, и дыхание прекратилось.
Нофрет присутствовала при этом, потому что там была ее госпожа, исполняющая роль скорбящей царицы, играющая так же, как и царь слишком хорошо. Он умер на ее руках, или казалось, что умер. Уже бессчетное количество дней она молчала, не произносила ни слова, а тут издала громкий крик. Жрецы замерли в изумлении. Врачи толпой бросились к постели царя. Слуги стояли неподвижно и безмолвно.
Царица не отпускала тела, хотя ее пытались уговорить, а потом заставить сделать это. Борьба отвлекла врачей, как и было задумано. Осмотр был поверхностным, а их внимание — не таким обостренным, как следовало бы.
Если кто-то это и заметил, то ничего не сказал. Среди суеты возникло новое замешательство: примчался Сменхкара, голый, прямо из постели, а за ним Меритатон, неуклюжая из-за беременности. Она увидела на постели фигуру, белую и неподвижную в свете ламп, закричала еще ужасней, чем ее сестра, и, прежде чем ее успели остановить, бросилась к телу отца.
Похоже, царь действительно был мертв. Живой человек, конечно, вскочил бы от удара или охнул, когда она рухнула на него сверху. Меритатон совершенно обезумела; вопила, рыдала, схватила тело и трясла его до тех пор, пока сестра не вцепилась и не оттащила ее. В хрупком теле юной царицы скрывалась значительная сила, о чем уже узнали те, кто пытался оторвать ее от отца. Воспользовавшись этой силой, она швырнула сестру в руки Сменхкары. Он схватил ее, не думая, и держал, а она вырывалась, не сводя глаз с постели, с царя, с Анхесенпаатон.
Сменхара был поражен до глубины души, и от этого совсем поглупел. Видимо, он не верил, что брат болен, или это до сих пор его не волновало: он был слишком уверен, что опасности нет. Такое случается с людьми, особенно молодыми, красивыми и избалованными. Смерть ничего не значит для них, пока они не столкнутся с ней лицом к лицу; а потом забудут о ней до следующего раза, когда она поразит кого-то из близких.
Когда умерла его мать, Сменхкара был в Фивах, бежав от чумы. Нофрет задумалась, где же он находился, когда умер его отец. Да где угодно, так же, как и сейчас, убеждая себя, что болезнь не опасна. Был ли он тогда тоже так потрясен?
Может быть, да, а может и нет. Но радости она в нем не замечала. Сменхкара еще не осознал, что стал теперь единственным царем, не имеющим соперника.
Он был полностью занят своей женой. Меритатон совершенно лишилась разума: вырывалась, завывала, словом, вела себя так, будто вовсе не она радостно отвернулась от мужа-отца к своему красивому дяде. И не она появлялась здесь, только когда требовали обязанности, тогда как ее сестра проводила у постели умирающего дни и ночи.
— Заберите ее отсюда, — сказала царица спокойно, негромко, но властно. — Кто-нибудь из вас, целители, пойдите с ней. Приготовьте ей какое-нибудь снадобье, чтобы она заснула.
Когда Меритатон увели, воцарилась благословенная тишина. Слуги, подавленные ее истерикой, не возобновили своих причитаний. Царица, по-прежнему спокойным голосом, отправила прочь почти всех, одних послав за бальзамировщиками, других с известиями к вельможам. Ее самообладание упокоило и их, хотя они смотрели на царицу с неодобрением. Нофрет надеялась, что все будет списано на утомление и царственную силу воли, а не на то, что — насколько известно царице — ее отец еще жив. Глядя на него, трудно было предположить такое. Если он и дышал, то совсем незаметно. Его лицо на фоне пурпурного покрывала было лицом мертвеца, кожа обтянула череп, лишенный жизни и души.
Нофрет нужно было исполнить одно дело. Ей очень хотелось забыть об этом: она вовсе не желала оставлять свою госпожу одну с неумершим царем и обезумевшим двором, но такое поручение нельзя было доверить больше никому.
Она собрала всю волю и мужество, скользнула в тень и была такова.
Иоханан и Агарон не спали, сидя в главной комнате своего дома, хотя была глубокая ночь. Леа дремала в уголке, но, когда вошла Нофрет, сразу проснулась. Никому из них не нужно было спрашивать, что привело ее сюда. Иоханан уже вскочил, надевая сандалии. Его отец стал предлагать Нофрет угощение, даже в такой час, но она оборвала его. Это было невежливо, но времени не оставалось.
— Нужно действовать прямо сейчас, — сказала она, — бальзамировщики…
— Я позабочусь об этом, — отозвался Иоханан. Казалось, он двигается не особенно быстро, но исчез прежде, чем она заметила.
Нофрет хотела было двинуться следом, но Агарон удержал ее.
— Оставайся здесь. Отдохни, если сможешь. Его не понесут сюда до рассвета. То, что мы должны сделать… Весьма неприятно.
Он имел в виду, что надо было найти мертвое тело, достаточно длинное и худое, чтобы походило на царское, когда его выдержат в натроне и завернут в полотняные бинты. Оно не обязательно должно быть свежим, но свежее лучше. Тогда бальзамировщикам проще будет клясться, что тело настоящее, если они смогут сказать, что начали заниматься им как раз в тот день, когда умер царь.
Им уже хорошо заплатили царским золотом. Еще один ящик с золотом был спрятан где-то в доме Агарона — с золотом, которого он никогда не возьмет, но бальзамировщики останутся довольны. Часть платы они получат, доставив тело в свой дом, а остальное — когда работа будет закончена.
Нофрет надеялась, что они сохранят тайну. От этого зависело все. Если же бальзамировщики сочтут более выгодным поднять скандал…
— Отдохни, — сказала Леа. Одно негромкое слово разрушило заколдованный круг ее тревог. Нофрет скорее рухнула, чем легла на ближайшую кучу ковров и подушек. Агарон ушел, это она видела, потому что еще не уснула. Ей надо было что-то сказать ему, но что? Когда девушка собралась с мыслями, он уже вышел.
— Никого не убивайте, — пробормотала она, обращаясь к тому месту, где он только что стоял.
— Это не понадобится, — успокоила ее Леа. — Бог обо всем позаботится.
— Какой? — спросила Нофрет — или только хотела спросить. Она так и не узнала, какой. Сон одолел ее, хотя она отчаянно боролась с ним.
Агарон и Иоханан нашли тело — где и как, лучше было не спрашивать, и оставили его бальзамировщикам, а сами долго мылись и отскребались, молча, не глядя на Нофрет, когда она принесла каждому еще по тазу горячей воды. Они даже позабыли о скромности, так им хотелось снова стать чистыми.
Нофрет не могла не заметить, что они красивые мужчины, и кожа у них светлая — там, где не обожжена солнцем до коричневого цвета. Такое можно заметить, только когда слишком устал, чтобы стесняться. У Иоханана на бедре было небольшое коричневое пятно в форме языка пламени или наконечника копья. В стране, где красивых юношей приносят в жертву кровожадным богам, такое сочли бы изъяном.
Нофрет же посчитала, что это хорошее украшение для его стройного, четко очерченного тела.
Она была слишком утомлена, чтобы не смотреть, но все же не настолько, чтобы поддаться искушению дотронуться до него. Он бы никогда ей не простил такой вольности. Особенно и присутствии отца.
Когда они трижды вымыли все тело, волосы и бороды, Нофрет принесла им полотенца и чистую одежду. Одежду, в которой они ходили на поиски тела, сожгли. Оба все еще молчали. «Эти апиру, — вдруг поняла Нофрет с легкой тошнотой, которая, должно быть, передалась ей от них, — испытывали ужас, имея дело с мертвецами». Но все же сделали это, потому что их просили родичи.
Теперь они будут рисковать своими жизнями ради одного из них, самого худшего из всех: поведут его прочь из Египта, в пустыню Синая, где спрячут среди своего народа, расстанутся со спокойной и безопасной жизнью и, может быть, умрут ради него, поскольку у них есть честь, чего не скажешь о нем. У него есть только его Бог и царская блажь.
Нофрет больше не испытывала к нему ненависти. У нее лишь все сжималось внутри. Он был словно жар египетского лета или вонь навоза, или крокодил в тростниках: существует и неизбежен.
Даже уход царя ничего не изменит. Останется память, а его дочери придется жить с ложью о смерти отца — и с его врагами, но без Атона, который защищал бы ее так, как защищал царя.
Все чувствовали одно и то же: как будто, находясь среди пустыни, где нет убежища и негде его найти, видишь, как приближается буря. Они лишились даже той немногой зашиты, которую обеспечивали им присутствие царя и его власть. Дыхание ветра уже настигало всех. Египтяне пробуждались и обнаруживали, что царь, которого они так ненавидели, уже больше не царь. Теперь пробудятся боги, и жрецы выйдут из подполья. Сменхкара, даже если бы мог сопротивляться, не сумеет остановить их.
Нофрет гадала, будет ли он пытаться. Трудно сказать. Возможно, он поддастся жрецам, но может и проявить упрямство. Он был Возлюбленным Эхнатона, второй половиной царя: половиной распущенной, половиной, которая любила удовольствия и терпеть не могла скучные государственные дела.
Наверное, стоило бы попытаться узнать больше, чтобы понять, что он станет делать. Нофрет это как-то не пришло в голову — она была слишком занята царским обманом и участием в нем ее госпожи.
А сейчас у нее были неотложные дела. Агарон и Иоханан, все еще влажные и порозовевшие после трехкратного оттирания, снова собирались уходить. Когда царя принесут к бальзамировщикам — царица должна устроить, чтобы это было сделано поспешно, из-за жары, но в действительности потому, что чем дольше ждать, тем больше риск, что все раскроется, — они должны быть там. Вещи у них были с собой, огорчительно легкие для такого длительного путешествия: по небольшой связке для каждого и большая для царя. Нофрет знала, что в ней; сама помогала укладывать — конечно, одежда, сандалии, парик и накидка, чтобы скрыть слишком всем знакомое лицо царя и его бритую голову. Некоторые полезные мелочи. Для него не взяли никакого оружия, у остальных были длинные ножи, а у Иоханана — лук и стрелы. Глядя на них, Нофрет почувствовала смутное беспокойство. Она прежде не подозревала, что Иоханан умеет обращаться с этим оружием.
Надо было возвращаться, сказать госпоже, что все готово. Уходить не хотелось. Нофрет надеялась еще вернуться в этот дом. Там оставалась Леа, она не могла идти с ними, чтобы не мешать бегству. Но это будет уже не то…
Иоханан прервал ее размышления, потянув за растрепанную косу.
— Проснись, соня. Скажи своей госпоже, что мы будем ждать, как договорились, с едой, питьем и с ослом для нашего больного брата, который возвращается в пустыню для поправки здоровья.
— Или для смерти, — сказала Нофрет.
— Вряд ли нам так повезет, — возразил Иоханан.
У него всегда было легко на сердце, даже когда он занимался таким ужасным делом, как поиски трупа раба и доставка к бальзамировщикам. Ей было стыдно и за него, и за себя, за свои мрачные мысли и предчувствия. Она не заставила себя улыбаться — это было уже слишком, — но сказала:
— Иду. Мы еще увидимся? До того, как…
— Да, — Иоханан легонько подтолкнул ее к двери. — Поторопись. Уже скоро восход.
Нофрет, совершенно измученная и мало что соображавшая, все же ухитрилась достаточно быстро добраться до дворца. Она бежала, пока могла, а остаток пути шла быстрым шагом. Ноги даже перестали болеть и только слегка ныли. Она подошла к восточным воротам с первым лучом солнца, когда их только что открыли, и прошла в город, который, проснувшись, обнаружил, что лишился царя. Звуки, разносящиеся по улицам, могли бы сойти за скорбные стенания, если бы так подозрительно не напоминали вопли радости.
Во дворце царила удивительная безмятежность. Анхесенпаатон, наученная горьким опытом чумы, проследила, чтобы, когда настанет этот момент, предусмотрели все необходимое. Хотя встречались люди, бегущие без всякой цели, бьющие себя, в грудь и стенающие, чтобы их заметили и оценили, как преданных слуг, большинство из тех, что попадались по пути, были заняты делом.
Нофрет позаботилась о том, чтобы ее могли заметить только после появления во дворце цариц и не догадались, что она только что с улицы. Возможно, это была излишняя предосторожность — хотелось верить, что так. Всюду раздавался шепот, мелькали настороженные взгляды. Великий слуга Атона мертв. Никто еще не знал, что будет делать молодой царь. Может быть, сам он еще и не задумывался об этом, но его придворных и советников это очень занимало.
Нофрет, торопливо шагая по коридору к покоям своей госпожи, чуть не столкнулась с господином Аи. Она скользнула в сторону и опустила голову, как приучены делать слуги, стараясь быть как можно незаметнее.
Но он увидел ее. Хуже того, остановился. Нофрет молилась, чтобы он не заметил пыли на ее ногах, спутанных ветром волос. Его голос мягко прошелестел над головой.
— Ах, Нофрет. Твоя госпожа спрашивала о тебе.
— Я иду к ней, мой господин.
— Очень хорошо.
Господин Аи загораживал ей путь. Нофрет ждала, когда он сдвинется с места, но он не двигался. Девушка стиснула зубы. С людьми его положения не следовало поступать так, как с молодыми пьяными дураками, которые не раз пытались притиснуть ее к стене, и она не знала, как себя вести. Нофрет была крайне разочарована — прежде она думала, что господни Аи выше таких вещей.
У нее не создавалось впечатления, что от возбуждения он уже ничего не видит, кроме вожделенной цели, как дружки Сменхкары, с которыми ей случалось сталкиваться. Напротив. Господин Аи был совершенно спокоен. Но пройти ей не давал.
Она подняла голову.
— Господин, я хотела бы пойти к моей хозяйке, если можно.
— Да, — сказал он, все еще не двигаясь. Его лицо было лишено выражения. — Убеди свою госпожу отдохнуть. Она настаивает на том, что и сейчас, как всегда, должна быть царицей, как бы ни была измучена.
Нофрет подавила вздох облегчения. Он просто волновался за внучку, только и всего. Непохоже было, чтобы он заподозрил в смерти царя обман. На мгновение в голову пришла дикая мысль все рассказать. Но она была не настолько безумна, хотя и склонна доверять ему, в отличие от своей госпожи.
Она поклонилась с искренним уважением.
— Я сделаю все возможное, мой господин.
— Сделай. — Судя по всему, он поверил ей и, что еще лучше, отодвинулся, давая ей пройти.
Они и не вспомнили о второй царице, которая могла бы облегчить бремя власти. Нофрет, шагая к своей госпоже быстро, но без видимой спешки, решила пока не думать о том, что будет, когда Меритатон станет настоящей царицей, а Сменхкара — одним и единственным царем, что ждет Анхесенпаатон, чей муж умер, и у которой нет мужчины, чтобы дать ей другой и такой же могущественный титул.
29
Тело царя вынесли из города на золотых носилках, окруженных жрецами-бальзамировщиками и жрецами Атона, среди стенаний и воплей, как подобало царю, отправлявшемуся в дом мертвых или, как говорили в Египте, в дом очищения. Казалось, весь город, скорбя, последовал за ним. Они снова поступали так, как было заведено и Египте: разделяли человека и его власть, отделяя царя, которого они ненавидели, от царя, бывшего властелином Двух Царств, чье тело являлось телом царства, а сила — силой Египта.
Его будут оплакивать семьдесят дней. Затем молодой царь станет главным жрецом на его похоронах и унесет с собой из гробницы всю силу и власть царства. Так делали наследники царей еще с тех пор, как Египет был молодым, тысячи и тысячи лет, начиная с самого утра мира.
Но вдова умершего царя знала, что он жив. Знали об этом и служанка царицы, несколько бальзамировщиков и трое апиру из селения строителей. Даже этих немногих могло оказаться слишком много. Нофрет забыла, что такое сон, забыла, что такое отдых. Она не успокоится, пока царь не окажется далеко отсюда, пока тело раба не будет забальзамировано, завернуто в полотно и уложено в гробницу, пока не минует всякая опасность разоблачения.
Анхесенпаатон казалась значительно спокойнее, чем Нофрет. Она колотила себя в грудь и царапала себе щеки, как подобает царице, убитой горем, и, возможно, ее скорбь была искренней. Она теряла своего мужа-отца, будь он жив или мертв. Возможно, ей больше никогда не увидеть его.
Дверь дома очищения была закрыта для всех, кроме жрецов-бальзамировщиков. Даже царица должна была остановиться у входа и проститься с телом прежде, чем оно оденется в одежды вечности. Для Анхесенпаатон это было действительно последним прощанием. И она позволила себе сломаться, здесь, у этой двери, под небом, в тяжелых, почти холодных тучах, что было редкостью в Египте. Ветер пах дождем.
Она упала, рыдая, на грудь отца. Царь лежал совершенно неподвижно, без признаков жизни — ни малейшего дрожания век, ни малейшего дыхания. Нофрет снова подумала, не умер ли он на самом деле. Не заметно было, чтобы он хоть чуть-чуть пошевелился или вздохнул.
Другие слуги подошли, чтобы увести их госпожу от носилок. Нофрет не возражала. От непривычного холода она укуталась в темный плащ. Было несложно завернуться еще плотнее, скрыть голову и лицо и раствориться среди толпы.
Она видела, как рыдающую Анхесенпаатон подняли и повели прочь от носилок. Среди людей, поддерживающих ее, был господин Аи. Это порадовало Нофрет. Он позаботится о внучке и проследит, чтобы никто не беспокоил ее, пока она не выплачет свое горе.
Нофрет не тянуло плакать. Очень раздражало то, что ее госпожу пришлось втянуть в эту ложь, и то — да, то, что два человека, которых она считала своими друзьями, — идут в далекий путь и, может быть, на смерть, ради недостойного безумного царя.
Царские носилки исчезли в доме бальзамировщиков, и толпа сразу же поредела; вельможи разошлись со слугами и приятелями, простолюдины разбрелись по домам или вернулись к работе. Никто не задержался на пронизывающем ветру. Никто не остался, чтобы искренне оплакать царя.
Нофрет пошла, осторожно, словно тень, обходя дом очищения. Холодно было не только от ветра. Это простое здание из кирпича и камня было наполнено смертью, излучая холод и мрак так же, как солнце излучает свет.
Из мрака вышли две закутанные фигуры, а между ними — еще одна. Двое мужчин почти несли третьего, но он шел и сам, на слабых, дрожащих, подгибающихся ногах, уже больше месяца не знавших земли. Упрямый глупец… До самых глаз он был укутан в одежды жителя пустыни. Эти глаза, неподведенные, узкие, с тяжелыми веками, поднялись к лицу Нофрет, и напряженный взгляд застыл.
Девушка ответила дерзким взглядом, не волнуясь, что он прочтет в нем: ненависть, нетерпение, презрение. Он больше не царь. Царь мертв. Это был лишь ходячий покойник, тень, создание из воздуха и пустоты.
Взгляд длинных глаз потеплел, удивив ее. Он улыбался.
Нофрет повернулась к нему спиной и пошла через неровный каменистый пустырь, тянувшийся позади селения строителей. Эта труднопроходимая земля тоже защищала их — туда никто не пойдет без надобности.
Осел ждал у прохода — такой же, как эта, узкой и крутой расселины в скалах, кольцом окружающих город. На нем был легкий вьюк — все вещи, которые могли взять с собой апиру, — и достаточно места, чтобы усадить царя.
«Нет, — подумала Нофрет. — Больше не царя». Не Славу Атона, не царственного Эхнатона. Это был безымянный человек, полоумный брат Агарона, больной и ищущий исцеления в северной пустыне.
Им пришлось нести его почти всю дорогу, трудную даже для людей, не обремененных грузом. Они бережно усадили его на осла — бережнее, чем смогла бы Нофрет. Агарон отвязал повод от куста тамариска. Человек на осле качнулся вперед, почти теряя сознание, и Иоханан, ворча под нос, снял с вьюка веревку и привязал его, чтобы он не падал.
Под властью мгновенного порыва Нофрет подумала, что пойдет с ними. Она не вернется и больше не будет рабыней. Она пойдет в пустыню свободной. Ее госпожа не нуждается в ней. Господин Аи позаботится о внучке. Она пойдет…
Нет. Анхесенпаатон отказалась бежать вместе с отцом; спокойным, не допускающим возражений тоном царица сказала, что ее исчезновение покажется слишком подозрительным. Она принадлежит Египту. Так же, в конце концов, и Нофрет.
Иоханан заканчивал прилаживать ослиную сбрую. Агарон ждал, глядя на Нофрет. Она склонила перед ним голову.
— Пусть ваш бог защитит вас.
— И пусть он сохранит и наставит тебя, — ответил Агарон. Обычные слова, но в них была теплота, как в прощальном объятии, которого Нофрет не решилась просить.
Иоханан проявил меньше сдержанности — бросился к Нофрет, схватил ее в объятия и сжал так крепко, что она чуть не задохнулась. Девушка была слишком изумлена, чтобы сопротивляться.
Он так же неожиданно отпустил ее, задыхающуюся и растерянную. Щеки его пылали, глаза горели диким огнем.
— Я вернусь, — сказал он. — Обещаю.
— Смотри не вернись мертвым, — резко ответила она.
— И это обещаю. Вернусь живым и дышащим. И свободным.
У Нофрет не было сил взглянуть на него — она разрыдалась бы.
— Иди. Быстрее. Мало ли кто может сюда забрести. Воры, солдаты…
— Не надо. Я доберусь благополучно. Обещаю тебе.
— Обещай, что ты будешь в Египте, когда я вернусь. Живая и дышащая.
Нофрет не могла пообещать такого. Она подтолкнула его к отцу.
— Иди. Иди! Уже пора.
Иоханан начал было возражать, тянуть время, задерживать всех. Она прекратила это, повернувшись и отправившись назад по дороге, по которой пришла, по крутой, неровной, каменистой дороге… Пришлось собрать все силы и внимание, чтобы не споткнуться и не упасть. Она не смогла оглянуться, не смогла взглянуть на него в последний раз — на них, карабкающихся по склону вверх, в пустыню, где их ждет долгий и опасный путь, в конце которого, если боги будут милостивы, — свобода.
Оставшихся в Ахетатоне свобода не ждала. Нофрет несколько раз почти оглянулась, почти устремилась вслед за уходящими. Лучше умереть на этом пути, чем жить на том, который она для себя выбрала.
Но она сделала свой выбор. В ней была воспитана солдатская преданность командиру и, хуже того, неистребимое стремление женщины защищать то, что она считает своим. Анхесенпаатон была для нее и тем и другим.
Далеко внизу, на дороге, ведущей от скал в селение строителей, в ожидании стояла фигура. Нофрет узнала Леа прежде, чем разглядела лицо под покрывалом. Лицо было таким же, как и всегда, в нем не прибавилось грусти или выражения утраты, хотя она отдала сына и внука человеку, которому ничего не была должна.
— Каждый исполняет свой долг, — сказала она, как обычно, прочитав в глазах Нофрет ее мысли.
— Мне надо вернуться к моей госпоже, — отозвалась Нофрет, испытывая неловкость. Ей не хотелось идти в дом Агарона, где теперь осталась только Леа. Там будет слишком пусто. И слишком много воспоминаний.
Леа кивнула, соглашаясь со всем сказанным и несказанным.
— Я иду с тобой.
Нофрет остановилась в изумлении.
— Как же ты…
— А почему нет? Во дворце полно бездельников и всякого народа. Одним человеком больше — что особенного? К тому же я сродни царице.
— Но… — Нофрет прикусила язык. Леа все правильно сказала. Но все же, Леа во дворце…
Старая женщина криво усмехнулась, но без горечи.
— Может быть, я еще удивлю тебя. Пошли, мы теряем время. Госпожа тебя ждет.
Нофрет хотела возразить, но это было бесполезно. Леа поступала так, как считала нужным, и если придется прислуживать царице, значит, она станет прислуживать царице, с видом, не более странным, чем у женщин из Митанни, болтавшихся без дела и пользы с тех пор, как умерла госпожа Кийа.
Леа вошла во дворец и нашла себе место среди свиты царицы с таким спокойствием и уверенностью, что никому и в голову не пришло спрашивать, кто она такая и откуда явилась. Либо она в юности была царской служанкой, либо ее дар предвидения оказался сильнее, чем могла представить себе Нофрет, но она взяла на себя управление гардеробом царицы, словно рождена только для этого, и никому не причинила неудобства. Ее предшественница незадолго до этою покинула дворец, выйдя замуж за какого-то мелкого чиновника в Фивах. Впрочем, возможно, это было простым совпадением.
Леа не делала ничего такого, что могло бы кого-то смутить. Не изрекала никаких пророчеств и так замечательно вписалась в окружение царицы, что та, казалось, даже не обратила внимания на ее появление.
А вот Анхесенпаатон стала странной. Это была не апатия, которой так опасалась Нофрет, а нечто более тревожащее, но и более обнадеживающее. Царица погрузилась в свои обременительные обязанности до такой степени, что на рассвете, как обычно, уже совершала обряд в храме, а поздно вечером все еще занималась с писцами и управителями, разбирая государственные дела. Она исхудала и побледнела, и даже искусства ее служанок было недостаточно, чтобы скрыть глубокие тени под глазами.
От Сменхкары и Меритатон она по-прежнему не получала никакой помощи. И не просила о ней.
Однако господин Аи набрался такой дерзости. Нофрет удалось присутствовать при этом, поскольку она уловила его намерения и смогла освободиться от дел, которые могли бы задержать ее. Она не знала, зачем пошла, разве что из любопытства и желания взглянуть на Сменхкару.
Он упражнялся на колеснице, после чего жена и толпа служанок и придворных мыли и обихаживали его. Нофрет легко затерялась среди них, тем более что большинство ничего не делали, а только болтали, искоса бросая взгляды на царя. Он знал, что красив, и охотно демонстрировал свои достоинства: стоял, сияя чистотой, пока Меритатон втирала благовонное масло в его кожу. Она часто прерывала свое занятие поцелуями, не видя, что кто-то смотрит на них, и не слыша, как перешептываются служанки и придворные.
Господин Аи ворвался в эту картину семейного счастья, словно волк в стайку комнатных собачек. Он держался с безукоризненным достоинством и улыбался, как улыбаются мужчины, наблюдающие за детскими забавами.
Меритатон даже не заметила его прихода. Сменхкара вытаращил глаза, и на его лице появилось выражение вымученной любезности и глубочайшей скуки. Нофрет подумала, что манеры молодого царя заметно ухудшились с тех пор, как умерла его мать.
Господин Аи ничего не сказал, никак не проявил своего разочарования холодностью приема. Нофрет подозревала, что Сменхкара и прежде обходился так со всеми, кто хотя бы намекал ему на скучные обязанности и еще более скучный долг.
Господин Аи не спешил переходить к делу. Он почтительно приветствовал царя и царицу, получил в ответ кивок от одного и ни единого взгляда от другой. Стоя близко, но не среди суетящихся придворных, он с несокрушимым спокойствием ожидал, когда царь закончит купание и умащивание своего тела.
Может быть, Сменхкара рассчитывал дождаться, когда Аи лишится терпения и уйдет, — сам царь был человеком нетерпеливым. Но Аи прошел долгую и нелегкую школу терпения царских причуд. Когда Сменхкара уже пресытился заботами своих женщин, Аи все еще был здесь, слегка улыбающийся и совершенно спокойный.
— Ну что? — спросил Сменхкара небрежно, но с некоторой резкостью. — Ты желаешь мне что-то передать?
— В некотором роде, ваше величество.
— Сменхкара ждал, но господин Аи не продолжал.
Ну, выкладывай, — сказал царь, — и покончим с этим.
— Как будет угодно моему господину, — после этих слов он помолчал, хотя на царском лбу уже собирались морщины — на менее значительного человека уже обрушилась бы гроза, — потом заговорил, по-прежнему не спеша, мягко, без оттенка возмущения или укоризны. — Мой повелитель, несомненно, знает, что его брат умер и что теперь он сам стал царем. Сознает ли мой повелитель истинное значение такого положения вещей?
— Конечно! А ты, видно, собираешься объяснить мне насчет долга, царских обязанностей и всего такого? Не трать усилий. Я не стану этого слушать.
— Но, возможно, мне будет позволено заметить, что жена твоего брата тратит массу сил, чтобы избавить тебя от скуки царских обязанностей.
— Ах, так тебе жаль ее. Бедняжка! Но у нее больше ничего не осталось. Мне не хотелось бы лишить ее этого скромного развлечения.
— Она исполняет обязанности мужчины и царя. Обязанности, которые царь исполнять не трудится.
Сменхкара подошел ближе к своему дяде — Аи приходился его матери, царице Тийе, братом. Молодой царь был меньше ростом и умом тоже, хотя Нофрет сомневалась, что он осознает это. Однако то, что он оказался ниже, раздражало его: царь нахмурился, явно подумывая, не отойти ли назад, но решил, что это будет слишком похоже на отступление. Для такого человека это настоящая проблема.
Сменхкара разозлился. Злость заставила его говорить глупости.
— Ты хочешь сказать, что я не мужчина и не царь.
— Ничего я не хочу сказать, господин, возразил Аи. — Я просто хочу, чтобы ты знал: твоя родственница перегружена. Она еще почти ребенок. Разве годится, что она исполняет всю царскую работу, а царь в это время развлекается?
Сменхкара попытался засмеяться, но вышло похоже на рычание.
— Ты читал такие поучения и моему покойному братцу? Он ведь тоже все свалил на женщин. По крайней мере, я достаточно мужчина для того, чтобы ездить верхом, охотиться и танцевать с моими вельможами, вместо того, чтобы жить в храме, валяясь у ног своего обожаемого Бога.
— Конечно, — заметил господин Аи, — ножки женщины нежнее, и в ее присутствии легче добиться вознаграждения.
Сменхкара взвился. Все бросились врассыпную, кроме господина Аи, которого уже просто не было там, где он только что стоял. Отойдя в сторонку, он вздыхал и качал головой.
— О, мой господин, какая энергия, какой характер! Если бы все это применить, где надо, Два Царства получили бы много пользы.
— Я царь, — заявил Сменхкара, едва сдерживая гнев. — И веду себя так, как мне нравится. Уходи, и поскорее, пока я не вспомнил, как царь поступает с теми, кто дерзит ему.
Господин Аи поклонился, как кланяется царю высокородный вельможа, не ниже и не меньше. Насколько могла видеть Нофрет, в нем не было страха.
— Прощай, мой повелитель, — сказал он и ушел, как и было приказано.
Нофрет догнала его далеко внизу, в коридоре, ведущем от царской купальни. Она вовсе не намеревалась делать это и теперь не знала, что сказать. Господин Аи смотрел на нее так же невозмутимо, как на царя, но бровь приподнялась в вежливом удивлении. Девушка искала в его взгляде признаки раздражения, но не нашла.
— Как ты можешь быть таким спокойным? — спросила она.
Большинство знатных вельмож влепили бы ей пощечину за дерзость, но господин Аи отвечал так, как будто она имела право говорить с ним.
— Я служил трем царям. Надо либо быстро научиться невозмутимости, либо покинуть царскую службу.
— Я до сих пор не научилась, — вздохнула Нофрет, — но все еще здесь.
— Да, — сказал он, усмехнувшись, — но ты служишь царице, и весьма необычной, к тому же.
— Конечно. Нормальные царицы не взваливают на себя столько работы, если только совсем не выжили из ума. Она убивает себя, мой господин. И не желает никого слушать.
— Это право цариц и царей: никого не слушать, если им не хочется.
Его слова прозвучали скорее ехидно, чем печально. Нофрет взглянула на него, сощурившись.
— Дело ведь не только в том, что тебе ее жаль? Мне всегда казалось, что вельможи и господа предпочитают иметь царя, который не занимается делами и ни во что не вмешивается — а не такого, который успевает вникнуть сразу во все.
— Безусловно, — согласился господин Аи. Вероятно, ему нравилось быть прямолинейным, обходясь без придворных уклончивых фраз. — Царь, который ничего не делает, — это приглашение вельможам делать что заблагорассудится. Но у нас уже был царь, отказавшийся не только от царских дел, но и от богов. Теперь у нас есть царь, которому наплевать и на богов, и на царство.
Теперь он смотрел не на нее, а куда-то в пространство над ее головой, высказывая мысли, которые, должно быть, давно созревали в нем.
— Может быть, ты не понимаешь этого, будучи чужеземкой, а если и понимаешь, то не осознаешь до конца. Царь — это больше, чем человек, который носит две короны, посох и плеть и распоряжается в Великом Доме. Царь — и есть Два Царства. Пробуждаясь каждое утро, он посылает солнце на небо. Все, что он делает днем и ночью, воплощает мощь царства.
— У нас был царь, который отверг богов, но полностью посвятил себя непрерывному служению тому, кого он поставил на их место. Его ненавидели за это, но он, несомненно, был царем. Он жил, как подобает царю, и долгие годы исполнял свои обязанности как должно.
— Царь, которого мы имеем теперь, не служит богам — даже единственному богу своего брата — и не служит своему царству. Он считает, что его красоты и телесной силы достаточно, чтобы поддержать нас всех. Но красота вянет, а телесной силы очень легко лишиться. Наш царь слаб и, что еще хуже, он отказывается быть сильным.
Нофрет была очень спокойна. Она не осмелилась сказать, что ей сейчас пришло в голову. Если все, что говорил Аи, правда, то положение Египта еще хуже, чем он думает. Сменхкара — не только слабый царь, он считает себя единственным. Но ведь Эхнатон не умер. Он оставил свою корону и трон, отбросил их, как бесполезные вещи, — такого не совершал ни один царь Египта.
А вдруг он не смог сделать этого полностью? И то, что он жив и лишь притворился, что умер, повредило сердцу Египта — той силе, которая давала ему могущество? Он отверг богов Египта. Им, может быть, все равно, кто занимает трон теперь. Они могут отомстить тому, кто сидит на нем сейчас, — а потом обратить свой взор на человека, отрекшегося от него.
Это было бы хорошим концом скверного дела, но ведь Анхесенпаатон сродни обоим царям. Она может оказаться жертвой. И тогда…
Господин Аи ушел прочь, что-то бормоча себе под нос и совсем позабыв про Нофрет. Она была, скорее, рада этому. Рабы, которые слишком много знают, долго не живут.
30
Царица переутомилась до того, что у нее начался жар. Нофрет уложила ее в постель с молчаливой и неизбежной помощью Леа и заставила выпить чашку настоя из трав. Анхесенпаатон скорчила недовольную гримасу, но отпила пару глотков. Щеки ее пылали, глаза были ненакрашены, и она казалась еще моложе, чем на самом деле. Царица легла и притворилась спящей, что Нофрет только приветствовала. Это лучше, чем сидеть и болтать обо всем и ни о чем, задерживая чиновников и советников, которым давно пора отправляться домой по постелям. Царица походила на лошадь, которая слишком долго бежала и все еще пытается бежать, когда ноги уже не держат ее.
Нофрет загасила лампы, все, кроме одной, всегда горевшей у кровати, и села возле своей госпожи. Она привыкла делать так с тех пор, как царь изображал, что умирает, и нередко засыпала, опустив голову на сложенные руки, — частью на полу, а частью на постели своей госпожи.
В эту ночь с другой стороны кровати сидела Леа, словно тень в своих черных одеждах, с черным покрывалом на волосах. Было ясно видно только ее лицо, знакомое и какое-то странное, как будто череп стал заметнее под мягкой морщинистой кожей.
Нофрет хотела спросить ее, почему она здесь, почему именно в эту ночь, в ночь того дня, когда господин Аи так много говорил о том, что Сменхкара — не царь для Египта. Но молчание сковало ее губы. Вес ночи был велик, угнетая ее. Это не был сон; она бодрствовала, но тяжесть овладела всем телом, темнота заволокла ум и душу. Она могла только сидеть, ждать и смотреть, что же случится.
Со времен чумы скорбные стенания стали ужасающе знакомы всем. Каждый умел их распознавать и определять, откуда они доносятся.
Это был скорее дикий вопль, чем обычный плач горя. Он раздался с севера, от дворца царей. Там кто-то умер, или умирал. Крики, плач, стук бегущих ног… Царица, наконец, уснула и ничего не слышала. Нофрет двинулась, чтобы заслонить ее, как будто что-то могло защитить ее от того, что вошло: видимая тьма, воплощенная в служанке-нубийке Таме, которая служила Меритатон с тех пор, как царица была еще ребенком. Узнать ее можно было лишь по росту и черной коже — лицо Тамы было перекошено и кровоточило — она разодрала его ногтями.
Нубийка остановилась в дверях, гладя на Нофрет и Леа так, как будто раньше никогда их не видела — даже Нофрет, с которой давно дружила. Казалось, она не замечает спящую между ними.
Тама заговорила, и ее спокойствие потрясло Нофрет. Самым обыденным тоном она произнесла:
— Они мертвы. Моя госпожа, мой господин.
Нофрет не поняла.
— Кто-то при дворе умер?
Тама резко, из стороны в сторону, замотала головой.
— Нет. Нет, нет, нет. Ты совсем спятила? Они умерли ночью. И лежат в объятиях друг друга, неподвижные и почти уже холодные. Мне кажется, виновато вино, которое они пили перед сном. Или сладости, которыми она кормила его. А может быть, ничего, кроме воздуха и заклинаний. Я скормила пирожок коту — он и усом не повел. Я выпила остатки вина и не чувствую боли в животе. Но кто-то убил их. Донес яд до их лиц.
Наконец перепутанные мысли Нофрет дошли до ее языка.
— Сменхкара? Сменхкара мертв? И Меритатон? Но…
Тама кивнула, но кивок превратился в падение. Нофрет вскочила, чтобы поддержать ее и пошатнулась под массивным телом. Лицо Тамы стало серым, губы посинели. Она задыхалась, дрожала, язык заплетался, но Нофрет поняла.
— Вино. Это вино. Скажи — если кто-то… Это было вино!
— Я расскажу всем, кто захочет услышать, — вымолвила Нофрет. Ее сердце было холодно, холод нее, чем тело, дрожавшее в руках. Рыдания облегчили бы все, но она никогда не умела вызывать слезы, когда нужно. Девушка продолжала размышлять: мысли тяжко двигались в мозгу.
Тама умерла на ее руках. Нофрет знала точный миг, потому что тело, лишившееся души, еще продолжало вздрагивать, а холод постепенно овладевал им целиком. Затем она заглянула в лицо Леа, в темные глаза, затененные темной накидкой, как у изображения в древнем храме. Сейчас в них было не больше человеческого.
— Ты знала, — выдохнула Нофрет.
— Ты тоже. В своем сердце, где хранится все истинное знание.
— Нет, — Нофрет едва услышала себя. Она не отрицала сказанного Леа, но отказывалась слышать это. Услышать значило признать свое знание и выпустить его на свободу. Она не хотела быть пророчицей, как Леа.
— Дело не в том, — сказала она, то ли себе, то ли Леа, то ли женщине, лежавшей у нее на руках, — что я могу видеть. Дело в том, что я не могу действовать. Я знала — мое сердце знало, что его попытаются убить. Но я промолчала и не захотела даже слушать свое сердце.
— Может быть, ты желала его смерти, — заметила Леа.
Нофрет со свистом втянула воздух. Он был горячим, как гнев, поднимающийся в ней.
— Я знаю, кто это сделал.
— И кто же?
Нофрет колебалась, еще больше разозлившись, но Леа не сводила с нее глаз, заставляя думать, пользоваться своими мыслями. Господин Аи считал Сменхкару ничтожнее, чем настоящий царь Египта, но мог ли он убить сына сестры и старшего ребенка своей дочери? Обоих сразу, одной крупицей яда?
Тогда кто? Кто мог желать смерти Сменхкары?
— Кто угодно, — сказала Леа, как будто Нофрет говорила вслух. — Тот, кто мог найти способ сделать это так, чтобы не рассердить богов. Сменхкара был царем, но не единственным и полномочным владыкой Двух Царств, пока старший царь еще находится в доме очищения. Он был меньше, чем царь, и к тому же отказывался исполнять свои обязанности перед богом и государством. Лучше вообще никакого царя, чем такой.
— Но, в таком случае, каждый может убить царя в любой момент, просто потому, что он не такой, каким хотелось бы видеть царя.
— Да, — согласилась Леа. — А потом он задумается, нужен ли ему царь вообще, если с ним так просто разделаться.
Нофрет вздрогнула и осторожно положила тело Тамы на пол. Она не боялась мертвых, но холод, исходивший от него, мешал думать.
— Убили обоих, царя и царицу. А если они захотят избавиться и от другой царицы, которая единственная делает то, что полагается царице…
Она бросилась к чашке, стоявшей на столе у кровати, в которую сама налила снадобье из трав — бутылку дал ей царский врач. Чашка была еще почти полна. Жидкость пахла горечью, немного зеленью. Нофрет отхлебнула, поморщилась. Горько, да, но не опасно. Не отравлено. Она пробовала его перед тем, как дать выпить своей госпоже. В животе все ныло и сжималось, но от горя и ужаса, а не от яда.
И все же она боялась и не могла справиться со страхом. В Митанни бывали интриги. Никто не пил из чашки, стоявшей без присмотра, или из такой, которой мог коснуться враг. Но в Египте она уже успела забыть, что значит жить на краю медленной и таинственной смерти.
— Прекрати, — мягко сказала Леа, но Нофрет ощутила ее слова, как сильный удар. — Если собираешься впасть в истерику, повремени, пока все это кончится. Царь и царица мертвы. Теперь в Египте нет царя.
— Я должна волноваться об этом? — Нофрет покачала головой. — Нет. Нет, не говори ничего. Конечно, должна, ведь моя госпожа…
— Что? Что я должна?
Нофрет резко обернулась. Царица сидела, сонная, с полузакрытыми глазами, но вся в напряжении.
— Что случилось? О чем вы шепчетесь? Что там за шум?
Она отвела взгляд от лица Нофрет. Но та дернулась слишком поздно. Царица увидела Таму. Невозможно было ошибиться, что она мертва.
Леа обратилась к ней, мягко, как всегда, и безжалостно:
— Твоя сестра и ее муж мертвы. Яд унес их. Я полагаю, это был Амон и кто-то из придворных, уставший от царей, которые не умеют вести себя по-царски.
Царица протирала глаза со сна, как ребенок, и в то же время вовсе не ребенок, не сказав ничего глупого или того, что говорят в подобные моменты. Она встала, потянулась за платьем, которое Нофрет не сообразила ей подать, и быстро накинула его на себя.
Было ли это предчувствием, или бог наставил ее, но она была готова, защищена, как может быть защищена женщина, белым полотном и царственной гордостью, когда в двери вбежали люди — ее собственные стражники, а с ними другие, среди них было двое безоружных и без доспехов: господин Аи вел за руку ребенка, мальчика лет восьми-девяти, рослого и крепкого.
Он шел неохотно, красный и сердитый, как будто его вырвали из крепкого сна. Когда господин Аи отвлекся, расставляя стражников по комнате и отсылая большую часть караулить двери против неизбежного вторжения, мальчик вырвался и пришел в превосходное расположение духа.
Он заметил царицу, стоявшую возле кровати, бледную и неподвижную. Его лицо зажглось светом, словно лампа.
— Цветок Лотоса! Ты ужасно выглядишь. Тебе тоже налгали, будто кто-то убил Сменхкару?
— Это правда, — сказала царица, судя по всему, только сейчас поверив в это.
— Это ложь, — настаивал мальчик. — Люди не могут его убить. Он царь.
— И все же они это сделали. — Она протянула руки. — Иди сюда, Детеныш Льва.
Детеныш Льва, ее дядя Тутанхатон, подошел и взял за руки. Он получил мужское воспитание и сейчас не разревелся как дитя, не бросился к ней, умоляя все как-нибудь исправить.
— Но если мой брат умер, — спросил он, — кто же будет царем?
— Ты. Больше некому.
— Но я не могу. Я не женат на женщине, имеющей царское право.
— Я имею царское право.
— Значит, мне нужно жениться на тебе. Если я должен быть царем. — Тутанхатон хмуро посмотрел на нее. — Я должен?
— Боюсь, что да, — сказал господин Аи, стоявший позади, и обратился к царице: — Госпожа, я счел за лучшее привести его сюда. Во дворце есть люди, жаждущие захватить единственного возможного наследника престола.
— И ты думаешь, они не сообразят, как сообразил даже восьмилетий ребенок, что, пусть он и наследник, право на царство связано с одной из царственных женщин? — Царица говорила так же, как сразу после пробуждения, холодно и спокойно, словно вообще ничего не чувствовала. — Дедушка, а твои жена и дочь в безопасности?
— Моя госпожа и моя дорогая Мутноджме дышат воздухом в усадьбе недалеко от Мемфиса, — ответил господин Аи. — Ты можешь посчитать удачным совпадением, что отряд моей личной стражи расквартирован в том же поместье.
— Ты все знал, — сказала царица.
— Давай скажем, — спокойно произнес он, — что после смерти твоего отца я посчитал разумным убрать моих женщин с пути зла. Я бы сделал то же самое и для тебя, внучка, если бы это было возможно.
Анхесенпаатон склонила голову, изящно, как всегда, даже в таких чрезвычайных обстоятельствах.
Тутанхатон все еще держал царицу за руки, переводя взгляд с нее на ее дедушку, который приходился ему дядей. Его воспитывали строго и держали среди нянек и учителей; Нофрет даже не знала, что он в Ахетатоне, хотя мальчик вряд ли остался бы в Фивах, раз его старший брат стал царем. Тутанхатон уже не был тем пухлым загорелым малышом, которого она помнила. Для своего возраста он был высоким, стройным, крепким и красивым, каким и обещал вырасти. Он походил на Сменхкару, но Сменхкару, одаренного быстрым умом.
— Защитит ли тебя то, — спросил он, — что ты выйдешь за меня? На следующий год я буду учиться драться на мечах. Я уже умею немного стрелять из лука.
Царица не улыбнулась, как улыбнулась бы ребяческим фантазиям любая другая женщина, и ответила ему вполне серьезно:
— Это защитит нас обоих. Тебя, потому что ты станешь царем. Меня, потому что никто не может стать царем, если я не выйду за него замуж.
— К тому же, — вмешался господин Аи, — царь-ребенок может представлять меньшую опасность, чем взрослый мужчина.
— Опасность? — спросила Тутанхатон. — Какая же в нас опасность?
— Огромная, — ответила царица. — Мой отец убил всех богов. Потом его брат отказался вернуть их и даже думать об этом.
— Это неправильно, — возразил Тутанхатон. — Я знаю, что боги существуют. Они разговаривают ночью, когда все думают, что я сплю. Они вовсе не мертвы и не спят. Некоторые очень сердятся.
— Да, и некоторые достаточно сердиты, чтобы убить царя, — царица привлекла его к себе, обняв за плечи, то ли успокаивая, то ли ища успокоения.
Тутанхатон крепко обнял ее.
— Нас не убьют. Я не позволю.
— На все воля богов, — ответила Анхесенпаатон.
Часть вторая ВОЗЛЮБЛЕННЫЙ АМОНА
«Какой прекрасный миг, пусть он продлится вечно: Я полюбил тебя, Ты возвысила мое сердце». Из песен увеселения31
Казалось, они только и делают, что карабкаются к царской гробнице, — сначала с Эхнатоном, потом со Сменхкарой и Меритатон, что пиры во дворце Ахетатона — только погребальные пиры, а звуки раздаются только скорбные. Но когда цари были уложены на вечный отдых, оплакивание закончено и обряды заботы о покое умерших предоставлены жрецам, появился новый царь, возросший в Двух Царствах, и состоялась царская свадьба, и это было обещание чего-то нового. Царь был прежде всего еще ребенком, а его царица — немногим старше. Он мог оказаться более податливым, чем его братья.
Анхесенпаатон правила за него. Господин Аи руководил министрами и давал советы царице и юному царю. Сам царь, кажется, был склонен поступать так, как ему говорили, учиться всему, чему мог научиться, и не перечить предложениям своих советников.
Нофрет, однако, не совершила той ошибки, которую совершали многие, полагавшие, что его легко подчинить. Некоторые из них хотели бы разорвать Два царства, но господин Аи обладал достаточной спокойной силой, руководя советниками, а Анхесенпаатон училась искусству царственного управления у его сестры Тийи. Они устояли. Двор следовал за ними по разным причинам, но преимущественно из лености.
Остальной Египет, оказалось, был готов ждать и проявлять терпение. Царь, по настоянию советников, не заперся за стенами Ахетатона, как оба его брата, но выезжал с царскими процессиями, путешествуя вдоль и поперек по Двум Царствам, позволяя народу видеть с вое лицо и демонстрируя свое присутствие в стране. Он всегда возвращался в Ахетатон и проводил по крайней мере часть года во дворце, построенном его братом.
Египет смотрел, ждал и был терпелив. Снова открылись храмы, и жрецы безнаказанно поклонялись богам, хотя ни Сменхкара, ни Тутанхатон не отменяли законов, направленных против этого. Только двери храма Амона в Фивах оставались запечатанными.
Жрецы Амона явились в Ахетатон в первый год царствования Тутанхатона — явились, присмотрелись и удалились, не привлекая к себе ничьего внимания. Они не просили аудиенции и не стали, хотя этого боялись многие, обрушивать новые проклятия на нового царя. Ясно было, что жрецы собираются выждать и посмотреть, как этот царь-ребенок будет управляться со своим царством.
Ахетатон умирал. Он был болен еще задолго до того, как покинул его через двери дома очищения, а при Тутанхатоне вообще заметно поблек. Придворные еще вынужденно оставались здесь, как и чиновники, жившие и умиравшие по воле царя, но кровь города — простые люди, заполнявшие стены и заставлявшие его петь, — эта кровь вытекала прочь. Силы Атона было недостаточно, чтобы удержать их, и он не мог даровать жизнь и существование городу, выстроенному в пустоте.
На четвертом году правления Тутанхатона жрецы Амона вернулись и Ахетатон, где царь жил со времени разлива реки. Они привезли с собой дары и просьбу, которая на самом деле была требованием. «Возвращайся в Фивы, — сказал главный из них, склоняясь низко к ногам юного царя. — Возвращайся туда, где ты родился, в город своих предков. Покинь навсегда это бесплодное пустынное место. Позволь ему кануть в песок, из которого оно поднялось под солнцем, для чьей славы было создано».
Он говорил это в большом зале дворца, перед блистательным двором, стоя непреклонной фигурой в простоте белого полотняного одеяния и чисто выбритой головы. Царь, сидя рядом со своей царицей на возвышении среди разнаряженной толпы придворных, молча смотрел на жреца. Тутанхатон уже не был ребенком, но не стал еще и мужчиной: мальчик, превращающийся в юношу, с лицом, подобным маске из золота, прекрасным и непроницаемым. Но царь пока не умел управлять своими глазами, и когда он переводил взгляд со жреца на сопровождавших его, в них сверкал острый ум.
По большей части просителям отвечала Анхесенпаатон или господин Аи в звании регента. Но сегодня царица молчала, сидя в напряжении — от злости или от безразличия, — Нофрет, стоявшая рядом в толпе служанок, не могла определить.
Господин Аи пошевелился, как будто собираясь заговорить. Царь поднял руку, приказывая ему оставаться на месте.
Тутанхатон наклонился вперед и опустил посох и плеть, которые держал крест-накрест, как подобает царю. Он положил посох на колени и поигрывал хвостами плети, пропуская их между пальцами. Они были драгоценные и с виду бесполезные, все в золоте и лазурите, но Нофрет подозревала, что ими можно нанести весьма болезненный удар, прежде чем камушки рассыплются.
Царь прекрасно это знал и не был склонен к лишним разговорам.
— Я редко бывал там, — сказал он, — хотя много путешествовал по Двум Царствам.
— Повсюду, кроме Фив, — заметил жрец.
— Фивы не рады нам. Там пытались убить моего брата. Могу ли я быть уверен, что так не попытаются убить меня?
— Фивы будут рады тебе, во имя Амона.
Царь снова сел. Может быть, он о чем-то раздумывал, может быть, и нет. Немного погодя он заговорил снова:
— Предположим, я сделаю так, как вы просите. А вы что сделаете для меня?
— Мы будем служить тебе, — ответил жрец.
— И запретите проклинать меня? Какая милость. — Тутанхатон перестал играть плетью. — А если я откажусь?
— Это твое право. Можешь оставаться здесь, в пустом городе, где остались только придворные и их рабы. Или возвращайся в город, который живет так же, как жил тысячи и тысячи лет.
— Я помню, — заметил Тутанхатон, — как мы покидали Фивы, опасаясь, что нас убьют.
— Твой брат был проклят, — возразил жрец. — А ты — нет. Возвращайся, и тебе будут рады.
— Может ли вернуться Атон? Может ли он снова править за пределами собственного города? — В голосе царицы звучало спокойствие, означавшее для тех, кто ее знал, глубокое волнение. Однако Нофрет еще не понимала, что встревожило госпожу, разгневана ли она, или уже почти готова сдаться.
Жрец обратился к ней с опасливым почтением.
— Госпожа, Атон никогда не был богом Египта, это бог только одного царя и его родственников. Амон — властелин Фив, и всегда был им.
— Стало быть, чтобы жить в Фивах, мы должны склониться под властью Амона?
— Амон всегда был властелином Фив.
— Ты хочешь, чтобы мы отказались от дела моего отца? И забыли его имя?
Жрец не ответил. Когда она заговорила, его глаза на мгновение вспыхнули, и это не укрылось от взгляда Нофрет. Она вздрогнула. Вот человек, полный ненависти, и его ненависть умрет нескоро. Но он непрост. Он будет терпеливо выжидать, как ждал многие годы, пока не умер Эхнатон. Возможно, он приложил руку и к тому, чтобы избавиться от Сменхкары. Этого никто не знал. Человека, отравившего Сменхкару и его царицу, так и не нашли. Пропала пара рабов — может быть, они стали добычей крокодилов или же слишком много знали.
Если понадобится, жрец Амона будет ждать снова, но его терпение скоро иссякнет. Был царь-ребенок, был двор, сохраняющий свою роскошь в умирающем городе, было царство, отрезанное от своего правителя. Нофрет не видела возможностей выбора. Все шло к этому с самого начала, с того дня, когда Эхнатон отплыл из Фив, чтобы строить свой город среди пустыни.
Царица, должно быть, тоже все понимала: это было видно по ее глазам, по тому, как она держалась, — слишком спокойно, слишком сдержанно. Что думал по этому поводу Тутанхатон, Нофрет не знала. Он казался видимым насквозь, красивым ребенком, которому нравится быть царем. Но юный царь вовсе не был пустышкой, как Сменхкара.
Не глядя ни на Аи, ни на свою царицу, он не сводил глаз с жреца.
— Мы подумаем. Можешь идти.
Жрец поклонился, и это движение говорило о том, что его терпения хватит еще на некоторое время. Но не надолго.
— Какой у нас выбор?
В отдаленных царских покоях, в удобной простой одежде и почти без украшений, и царь, и его дядя могли спокойно поговорить. Царица, освободившись от короны, скипетра и тяжелого парика, ходила из угла в угол, как кошка в клетке. Она заговорила первой, озадачив остальных, ведущих беседу вокруг да около: Аи — потому, что отвык говорить прямо, пока был царским советником, а Тутанхатон — потому, что ему надо было все обдумать.
В ее взгляде горело нетерпение, еще больше озадачившее их.
— Нет, я не сошла с ума, и не демон вселился в меня! Я все время об этом думала. И вовсе не о переезде в Фивы, а о том, чтобы еще пожить здесь хотя бы немного. Я наблюдала за этим городом — он медленно умирает. Можем ли мы что-нибудь сделать, чтобы сохранить его живым? Ничего. Атон не говорит с нами так, как говорил с моим отцом.
Нофрет затаила дыхание. Никто не знал, что отец царицы все еще жив, кроме ее самой и Нофрет, и еще Леа, которая по-прежнему заведовала гардеробом царицы, пока та обитала в Ахетатоне.
Старая женщина стояла в тени у колонны, в темном платье и темном головном покрывале, наблюдала и прислушивалась, как случалось только тогда, когда было за чем наблюдать и к чему прислушиваться.
Ни царь, ни его советник, казалось, не заметили в голосе царицы ничего особенно странного, когда она с такой страстью произносила свою речь. Господин Аи медленно изрек:
— И все же если Атон истинный бог…
Может быть. А может быть, и нет. Он не сказал мне. Сказал ли он что-нибудь тебе, муж мой?
Тутанхатон выглядел озадаченным.
— Ничего, кроме головной боли, я от него не получал. — Он весь залился краской от собственной дерзости. — Нет. Нет, так говорить нельзя. Насколько я понимаю, он со мной не беседовал. Совершая обряды, я вижу только яркое сияние, а потом все кажется таким темным. Думаешь, мне надо его спросить? Я должен умолять Атона ответить, прежде, чем мы покинем его ради других богов?
— Я уже давно делаю это, — призналась Анхесенпаатон. — Каждый день, каждую ночь, с тех пор… С тех пор, как отец ушел в дом очищения Он все время молчит. По-моему, он умер вместе с отцом.
Казалось, никто не ужаснулся, слыша эти слова. Из тьмы не вырвался вихрь, не сверкнула молния.
— Только отец когда-либо видел истину, — продолжала она. — Это была его истина, в чем мы никогда не сомневались. Но мы, остальные… Что было у нас? Атон никогда не сказал нам ни звука.
Может быть, она сама не ожидала, что решится на такие слова, пока не произнесла их. А что сказано, то сказано. В ее словах была бездна горечи, такой старой, что она уже превратилась в отчаяние.
— Бог, который говорит только с одним человеком, не может быть богом для целого народа. Я помню, кто-то однажды это говорил. Но если мы склонимся на сторону Амона и он станет слишком могущественным…
— Амон был очень могущественным до появления Атона, — сказал Тутанхатон. — Ты так говорил, дядя, и другие тоже говорили. Атон не просто запер храм, но сокрушил могущество жрецов, думавших, что они выше царей.
— Да, — согласился господин Аи. — Но ты видишь, что из этого вышло. Он слишком далеко зашел. Лучше бы он использовал свою царскую власть, чтобы править именем Амона, чем вовсе свергать его.
— Ты так думал все эти годы? — спросила царица. — Все эти годы ты считал, что мой отец не прав?
Аи взглянул на нее с глубочайшим сочувствием, но не совершил ошибки — не обратился к ней, как к расстроенному ребенку, но заговорил с ней как с женщиной и царицей.
— Госпожа, каждый человек имеет право на собственные мысли, даже если служит своему царю, вкладывая в это все силы.
Анхесенпаатон смягчилась, слыша такие слова, хотя не до конца простила его.
— Ты всегда был верен моему отцу. Но теперь его нет. Верность кому удерживает тебя теперь? Стал бы ты служить Амону?
— Я пойду за моим царем и царицей. Куда бы то ни было.
— Даже на смерть?
Он смотрел спокойно, ничто не дрогнуло в его лице.
— Даже на смерть, моя госпожа.
— А если мы отвергнем то, что предлагает Амон, — то, чем он угрожает?
— Тогда я останусь с вами.
— Ты хочешь, чтобы мы поехали, правда? — Тутанхатон сидел, наблюдая за разговором, откинувшись на кресле и болтая ногами.
— И считаешь, что этот город все равно умрет, с нами или без нас?
— А ты как считаешь, мой господин? — спросил Аи.
Тутанхатон не оробел. Аи сам приучил юного царя к этому, всегда спрашивая о его выборе, даже если все уже было решено советниками.
— Я думаю, — медленно начал он, — что хотел бы дать Ахетатону умереть. Он так давно пытается это сделать, а мы все не позволяем. Я хотел бы его покинуть, чтобы он спокойно рассыпался — даже если это значит разрешить Амону взять верх. Разве мы не сумеем его обуздать? Мы можем заставить его служить царю, каким бы могущественным он не желал стать.
— Если Амон вернется, — сказал Аи, — его можно будет до определенной степени подчинить царственной воле. Но он будет настаивать на том, чтобы поклонение Атону прекратилось и он снова стал бы тем, чем был прежде: самым незначительным из самых незначительных обликов Амона-Ра.
— Амон ненавидит Атона. Жрец пытался скрыть это, но не сумел — такую сильную ненависть не скроешь. Если мы уедем отсюда, Атон больше не будет богом и царем. Его забудут.
Оба взглянули на царицу — она то прислонялась к стене, то отклонялась от нее, а потом вышла на середину комнаты, и свет лампы залил ее тело золотом, обрисовав все его линии под одеждой из тонкого полотна.
Тутанхатон, по-видимому, не замечал ни ее красоты, ни ее женственности. В этом он оставался все еще ребенком и до сих пор ни разу не был с ней в постели, как подобает мужу.
В тот момент она тоже не думала об этом. Ее руки сжались в кулаки.
— По-моему, если бы Атон хотел жить, он сказал бы кому-то из нас. Ты пойдешь со мной в храм, Детеныш Льва? Будешь молиться там вместе со мной?
— Последний раз?
— Она кивнула.
Тутанхатон склонил голову.
— Тогда пойду. Спрашивать его и просить ответа. А если он не ответит…
Никто не закончил его мысль. Это было ни к чему.
В храме, среди обширных дворов, под крышами, высокими, как небо, царил полумрак. Жрецы, служившие ночью, вынуждены были неожиданно приветствовать царя, царицу и их спутников: Аи, Нофрет и Леа, скромно державшихся позади, и нескольких стражников. В храме было пустынно, как и всегда, кроме тех случаев, когда царь совершал обряды, требовавшие присутствия публики. У Атона не было таких преданных почитателей, приходивших молиться ему в его доме, если только не приказывал царь.
Они прошли через все дворы во внутреннее святилище. На алтаре уже не лежали дары, все было убрано и распределено между жрецами, а приношений нового дня еще не поступало — их должен принести на рассвете царь. Сейчас, в полуночи, здесь был только голый каменный стол и золотое изображение Бога — солнечный диск со многими руками, благословляющими нарисованные фигуры Эхнатона, Нефертити и их детей. Все они мертвы, кроме Анхесенпаатон.
Вместе с Тутанхатоном она склонилась перед алтарем, воздела руки и громко произнесла слова молитвы, хотя по правилам обряда говорить должен был он. Она назвала Атона всеми его титулами и всеми именами, внимательно следя, чтобы не пропустить ни единого. Но суть молитвы была простой и короткой: «Властелин света, если ты существуешь, если ты действительно единственный истинный бог, говори с нами сейчас. Дай нам знак. Скажи, что мы должны делать».
Эхо отдавалось под крышей. Ни одна летучая мышь не вспорхнула там, не раздалось ни одного шороха или вздоха. В тени никого не было. Ничто не шевельнулось. Даже духов мертвых, любивших подглядывать за живыми и согреваться их теплом, — даже их здесь не было.
Анхесенпаатон ждала долго. Она повторила свою молитву три раза, с каждым разом все звонче, и ее голос метался среди колонн. Но ответа не дождалась. Бог, если он вообще когда-либо жил в этом месте, покинул его.
«Может быть, — подумала Нофрет, — он ушел в Синай вместе со своим единственным и самым преданным слугой». Тот, кто прежде был царем, находился там — так, по крайней мере, сказала ей Леа, принеся единственное за четыре долгих года известие, больно ранящее своей краткостью: «Мы в Синае. Все живы. У нас все в порядке». И с тех пор не было ничего, даже слухов. Пустыня поглотила их — безымянного человека и двух апиру, вдохновивших его покинуть Египет.
Где бы он ни находился, что бы с ним ни случилось, но его Бога в храме больше не было.
— Его нет, — сказала наконец царица, грустно вздохнув.
— Если он вообще когда-нибудь здесь был, — откликнулся Тутанхатон.
Она сердито посмотрела на него.
— Был! Но теперь ушел, покинул нас. Он не слышит и не ответит.
— Даже, — спросил Тутанхатон, возвысив голос, как будто хотел, чтобы бог услышал его, — если его молчание означает, что мы должны вернуться к Амону?
— Даже если так, — произнесла царица в звенящей тишине. — Он был богом моего отца. Похоже, нашим богом он быть не намерен.
— Что ж, тогда мы вернемся к Амону, — вызывающе сказал Тутанхатон, покосившись все же на изображение на стене, как будто ожидал, что Атон протянет одну из своих золотых рук и накажет его за дерзость.
Атон ничего не сделал. Его образ сиял во мраке, получая вечную дань от единственного избранного им слуги. Те, кого он избрать отказался, повернулись и пошли прочь, не оглядываясь.
32
Ни царь, ни царица больше не глядели на образ Атона в его храме, построенном Эхнатоном. Утром они совершили рассветный обряд в царской молельне во дворце. Бог, к которому они обращались, был Амон, и гимн, который они пели, был гимном Амону. Они просили защитить их, если Атон решится нанести удар, но никакого зла на них не пало.
Ахетатон умирал. Лишившийся своего бога, от которого отвернулись царь и царица, он увядал, как цветок на жаре.
Царь возвращался к Амону, но пока еще не имел желания перебираться в Фивы. Он выбрал Мемфис, куда и отправился. «Фивы стали убийцами царей, — сказал он, — и Амон проклял царя. Я признаю их силу, но я царь. И царь считает нужным править на севере, под защитой мемфисского бога Пта».
Амон едва ли мог возражать или даже задавать вопросы. Он получил назад свою силу. Царь доказал это: он изменил свое имя, что в Египте было непросто, поскольку имя являлось силой. Он стал Тутанхамоном, а его супруга, следуя ему в этом, как и во всем, стала Анхесенамон. По ее словам, новое имя легче выговаривалось и было более мелодичным. Царица объявила, что оно ей очень нравится и больше не откликалась на прежнее имя и не слышала, как его произносят. Живущая-Для-Атона умерла; теперь она жила для Амона и славила его имя.
Нофрет подумала, что для нее это способ запереть отца в его гробнице. Ее госпожа отвергла имя, данное им, и бога, которого он ей навязал, вернула себе то, что он отнял — прежних богов Египта, и сделала их своими. Может быть, царица и сожалела о содеянном, или боялась, что отец узнает обо всем и найдет способ наказать ее, но не говорила об этом никому. Она сделала выбор, на который подвигла ее душа, и не отступит от него.
Царь и царица покинули Ахетатон в день праздника Амона в Фивах, отправившись на судах вверх по реке со всем двором, свитой, прислугой и всеми обитателями города, которые могли стронуться с места. Двинулось все, живое и неживое. Даже тела умерших присоединились к долгому каравану, снесенные к реке и погруженные в лодки.
Лишь гробница Эхнатона осталась запретной для доступа, скрывая тело, названное именем царя и опечатанное его печатями, но принадлежавшее неизвестному рабу.
Его царицу и их детей тоже не стали забирать — Анхесенамон не разрешила. «Это был их город, — сказала она, — пусть они останутся в нем и после его смерти».
Но остальные уходили, и все, что можно было забрать, забирали. Никто не хотел задерживаться, как будто город был растением без корней, цветком пустыни, который завял и иссох, и ветер сорвал его с места и унес вдаль.
Нофрет стояла на палубе корабля царицы, уплывавшего от Ахетатона. День был прекрасный, довольно прохладный для этого времени года в Египте, солнце грело, но не палило. Люди пели, и над водой разносилась песня не горя, но радости. Исход из города Атона был похож на праздник.
Она не могла разобраться в своих чувствах. Было, конечно, облегчением покинуть это место, так похожее на гробницу. Но и сожаление, и печаль владели ею. Нофрет попала в Горизонт Атона как рабыня среди рабынь, полная решимости стать служанкой царицы. Теперь она стала ею, и положение ее было прочно. Больше она никогда не войдет во дворец Ахетатона со странными картинами на стенах, с его красивыми дворами, не будет бродить по городу, не придет в селение строителей, чтобы навестить Иоханана, Агарона и Леа.
Леа не поехала со свитой царицы. Она ушла так же незаметно, как появилась, не спрашивая у царицы разрешения. Нофрет она сказала только, что возвращается к своему народу. «Мы направимся в Фивы, — сказала она, — поедет туда царь или нет. Там много гробниц, которые надо достраивать, и много тех, кто рано или поздно пополнит ряды мертвых. Ищи нас на западных улицах, если когда-нибудь попадешь туда».
И Леа ушла, даже не дождавшись ответа. Так же, как и Нофрет, старая женщина не любила и не умела прощаться. Оставалось надеяться, что Леа поступит, как сказала, и царь и царица в конце концов решат простить и город, и его бога, и вернутся в Фивы, взяв Нофрет с собой.
Не было разговора о том, оставались ли еще апиру в своей деревне или уже покинули ее. Может быть, как жители пустыни, они предпочитали идти пешком со стадами коз и овец, чем плыть на лодках. Старый козел уже умер, но от него остался сын, выросший таким же скандалистом, как и отец. Может быть, он попадет в Фивы и так же будет наводить страх на рабочий люд.
Подумав об этом, Нофрет улыбнулась, глядя на реку. За короткое время они прошли большую масть пути. Ахетатон уже остался далеко позади и казался незначительным, городом, сделанным из глины, устроенным возле гробницы царя, чтобы ему было где жить после смерти. Его стены были высоки, как и прежде, крыши пока не обвалились, еще целым и красивым стоял он среди скал, но это был уже неживой город. Он был пуст, лишен Бога и людей. Пустыня покроет его, человек покинет. Город умрет, как все бренное, и будет забыт.
Нофрет обернулась, чтобы взглянуть на свою госпожу. Так, которая была Живущей-Для-Атона, стала Живущей-Для-Амона, совсем другим человеком — то же лицо, то же стройное тело и изящные руки, но дух, обитавший внутри, стал другим. Анхесенпаатон никогда бы не стала улыбаться, уплывая навсегда от города, построенного ее отцом, а Анхесенамон не только улыбалась, она обрывала цветы с гирлянды и вместе со своими служанками бросала их в царя и его молодых спутников, которые сидели в лодке, плывшей рядом.
Холодная, сдержанная царевна, которую знала Нофрет, никогда бы не сделала такого. Отвернувшись от Атона, она, казалось, отвернулась и от прежней угрюмости, став такой же легкомысленной, как ее супруг. Он запустил в нее целой охапкой цветов лотоса. Царица, смеясь, поймала их, и бросила обратно через узкую полоску воды.
Несколько служанок танцевали на палубе под дождем цветов. Нофрет оказалась в одиночестве возле пустого кресла царицы. Девушка почувствовала себя древней и холодной, как гробница. Когда-то, наверное, она умела и смеяться, и играть, как дети, но давно уже позабыла, как это делается.
Может быть, Анхесенамон только учится этому. Если так, она способная ученица. Царица окончательно повернулась к Ахетатону спиной и увлеченно вела веселую битву с царем и его друзьями.
Египет встречал юного царя с распростертыми объятиями, приветственными криками, песнями и ковром цветов. Все боги вышли навстречу ему, обогащенные уже его дарами — золотом, серебром и драгоценностями. Их изображения были обновлены, их храмы отстроены еще выше и величественней, чем прежде. Холодность, с которой Два Царства глядели на Эхнатона, была позабыта, радость безмерна. Им вернули гордость, древние обычаи и богов, которые были их богами и богами предков с самого утра мира.
К тому времени как царь добрался до Мемфиса, почти все на улицах уже, должно быть, охрипли, выкликая его имя. Этот город, основанный много раньше Фив, но всегда стоявший ниже их в сердцах царей, был безмерно горд тем, что стал избранным городом нового царя. Ходили слухи, что жрецы мемфисского Пта и мемфисского Амона часто ругались меж собой.
Справедливы эти слухи или нет, но ко времени прибытия царя между ними была прочнейшая дружба. Первым делом он отправился в храм Амона, сломал печати на воротах и собственными руками — с помощью нескольких жрецов посильнее — распахнул их настежь. Казалось, вслед за ним внутрь влилось полгорода, чтобы услышать, как в храме Амона поются гимны, которых не пели уже больше десяти лет, и увидеть, как жрецы вернутся к своим обрядам и обязанностям. Но свою речь царь произнес в храме Пта, произнес сам, ясным и чистым голосом, провозгласив возвращение богов на их престолы в Двух Царствах. Это было очень дипломатично, хотя не очень понравилось жрецам Амона; в конце концов, Тутанхамон был властелином Двух Царств, севера и юга, Мемфиса и Фив, Пта и Амона, а не просто одного из них.
Анхесенамон держалась возле царя, исполняя обязанности царицы, получая почести, как и царь. Никто не упоминал имени ее отца или названия его города. О них забыли. Теперь она находилась в городе Пта, на ней было благословение Амона, и жрецы обоих богов низко склонялись к ее ногам.
Такая всеобщая любовь должна была опьянять, особенно после того, как царицу так долго ненавидели по милости ее отца. Нофрет едва ли решилась бы обвинять свою госпожу за то, что та позволила себе забыть его — она сама сделала бы то же самое, и с радостью.
— Они собираются убить память о нем, — сказала Анхесенамон, когда со всякими празднествами и песнопениями было покончено и она удалилась в свои покои во дворце цариц, чтобы отдохнуть и, если удастся, поспать. Была глубокая ночь, До рассвета оставалось уже немного: в этот час везде стояла тишина, птицы еще не начали петь. Царица выкупалась, слегка умастилась благовониями и теперь сидела, обнаженная, на своей постели. Она выглядела почти ребенком, хотя была уже вполне сформировавшейся женщиной, несмотря на стройность и миниатюрность.
Анхесенамон говорила о своем отце так, словно он был царем из глубокой древности, спокойно заметив:
— Они так ненавидят отца, что готовы снести его город и стереть его имя всюду, где только найдут. Так всегда поступают те, кто приходит после, если царь заслужил ненависть своего народа.
Нофрет открыла было рот и снова закрыла. С тех пор как Эхнатон исчез, его дочь не говорила о нем ни слова, никогда не называла его по имени, только умершим царем. Судя по всему, для нее он умер так же, как и для остального Египта.
Не следовало напоминать царице, что ее отец жив, особенно если она предпочла забыть об этом.
Вместо того, чтобы сказать первое, что пришло на ум, о царе, который больше не был таковым, Нофрет спросила:
— Ты не собираешься мешать им убивать память о нем?
— Нет, — ответила Анхесенамон. Прежняя детская отрешенность вернулась к ней. — Назови это трусостью, если хочешь. Я почитала его, пока он был царем. Я делала все, что могла, чтобы служить ему. Но времена изменились. У нас теперь новый царь, и старые боги снова вернулись. Если они захотят отомстить его имени, кто я такая, чтобы останавливать их?
— Ты царица.
Глаза Анхесенамон сверкнули. Нет, она вовсе не была холодной и отрешенной.
— Царица никто и ничто перед лицом великих богов.
— Даже если она прапраправнучка самого Амона?
— Тем более. Как по-твоему, что думает бог, когда его дети восстают против него, называют его ложным и поклоняются другому? Ты полагаешь, он простит легко и быстро?
Нофрет покачала головой. Боги были довольно опасными существами, капризными и, как иногда казалось, чересчур могущественными, чтобы это могло идти кому-то на пользу. Она часто думала, что лучше быть незаметной для них всех — это надежнее защитит от зла. Смертный, не поклоняющийся богам, имеет меньше возможностей рассердить их, чем тот, кто поклоняется одному богу и вызывает ревность остальных. Вот в чем была ошибка Эхнатона, вот что погубило его царствование и большую часть его семьи. Его дочь, похоже, поняла это.
— Я не так уж много знаю о египетских богах, — произнесла Нофрет, что было правдой только отчасти, — но в Ахетатоне ты ведь никогда не смеялась, даже не улыбалась. Ты не знала радости. Здесь ты получила ее в полной мере, больше, чем когда бы то ни было. От этого дни становятся как-то ярче, а ночи не такими темными.
— Ах, все это лирика. У меня никогда не было времени смеяться. Я была слишком занята, стараясь быть царицей.
— Но ты по-прежнему царица. Однако в тебе появился свет. Раньше его не было.
Анхесенамон задумалась. Глаза ее сузились. Она нахмурилась, не потому, что сердилась, но размышляя, и немного погодя сказала:
— Я думаю, Атон был слишком могуществен для моего духа. Амон тоже могуществен и может быть мстительным, но не подавляет меня. Он делится, понимаешь, и позволяет существовать и другим богам.
— Это облегчает бремя, — согласилась Нофрет.
Анхесенамон поджала колени, обняла их руками и покачивалась, как бывало в детстве, продолжая размышлять вслух:
— Атон всегда говорил только с отцом, и никогда со мной. Я не знала, доволен ли он мною, известно ли ему вообще о моем существовании. Чем больше я старалась угодить ему, тем меньше чувствовала его присутствие. Тогда как Амон повсюду в Двух Царствах, не только в Фивах. Он говорит со своими жрецами, со своим народом.
— А говорит ли он с тобой?
Анхесенамон пожала плечами и вздохнула.
— Не знаю. Думаю, что да. Я чувствую, когда он сердится. Не думаю, что он сердится на меня. Я слишком незначительна.
— Или чересчур значительна. Ты носительница царского права. Никто не может отнять этого у тебя.
— Но мою жизнь может отнять каждый. Жрецы поняли, что в силах убить царя. Не думаю, что они забыли об этом.
Нофрет вздрогнула.
— Значит, ты опасаешься за своего царя?
— Нет, — ответила Анхесенамон, может быть, слишком быстро. — Они дорожат царем и восхищаются им. Тутанхамон упразднил все, что сделал мой отец. Они будут беречь своего царя и охранять его жизнь, пока он делает то, что им хочется.
Это скорее всего означало, что Амону нужно отдать всю власть в Египте. Нофрет знала, что жрецы — всего лишь люди, как и прочие, а люди всегда жаждут власти. Такова их природа, такова сущность мужчин.
То, чего хотят женщины, немного проще, но гораздо сложнее.
— Я хочу жить, — сказала Анхесенамон, — и подарить моему мужу сына, когда он будет готов прийти в мою постель. Разве это такие ужасные желания?
— Мне они вполне понятны.
— Но ведь ты чужестранка.
— Уже нет. Я не помню, какой была в Хатти. Все, что во мне есть, я приобрела в Египте.
— Но ты не египтянка, и думаешь не так, как мы.
— Я думаю по-своему. — Это была слишком давняя мысль, чтобы причинять боль. Нофрет присела у ног своей госпожи. — Мне кажется, я выросла какой-то особенной. Или родилась такой. Я размышляю о вещах, о которых не следует размышлять женщине, тем более рабыне. Я всегда удивлялась, почему не могу учиться сражаться, как мои братья.
— На это нетрудно ответить, — заметила Анхесенамон. — Женщины слабее. Это всем известно.
Нофрет вскочила на ноги.
— Посмотри на меня! Разве я выгляжу слабой? Я такая же высокая, как большинство мужчин в этой стране. Если понадобится, я смогу поднять быка.
— Но мужчины страны Хатти больше тебя. А тот, кто больше, всегда побеждает, потому что он сильнее.
— Не всегда. Часто побеждает тот, кто умнее, кто может дождаться, пока сильный устанет, а потом в подходящий момент нанести стремительный удар. Я говорила моему отцу, что тоже могла бы научиться сражаться, а он смеялся надо мной, ведь девочек воевать не учат, никто и нигде не слыхал о таком.
Анхесенамон с любопытством взглянула на нее.
— Ты хотела бы научиться носить доспехи и обращаться с копьем?
Нофрет снова села, недовольная собой.
— Конечно, нет. Даже не будь я женщиной, уже слишком поздно. Глупо пытаться освоить военное искусство в моем возрасте. Я спотыкалась бы о собственное копье и втыкала стрелы себе в ногу.
Анхесенамон не улыбнулась, хотя Нофрет и ожидала этого.
— Так чего же ты хочешь? — снова спросила она. — Быть свободной? Выйти замуж, иметь детей?
Никто никогда не задавал рабыне таких вопросов. Кроме Анхесенамон, которая, как и она сама, была странным человеком. Нофрет никогда особо не задумывалась о таких вещах.
— Будь я свободна, что мне делать? Куда деваться?
— К мужу, чтобы родить ему детей.
— Кто на мне женится? Я же такая огромная хеттская девица. Неужели я могу понравиться какому-нибудь египтянину?
— Почему бы и нет? Многие мужчины мечтают о сильной женщине. И чтобы на нее было приятно смотреть.
От такого разговора Нофрет стало как-то неуютно. Многие мужчины пытались приставать к ней по углам, но ни один не приглянулся настолько, чтобы пойти с ним в постель, а тем более — выйти за него замуж. Она полагала, что здесь с ней тоже не все в порядке. У других рабынь были любовники, или они проводили время с мужчинами просто ради удовольствия. Нофрет никогда такого не делала. Ближе всего к ней подступился тот придурок из Митанни, от которого она так успешно отделалась. С тех пор никто особо и не настаивал: может быть, потому, что в Египте она была больше любой из женщин и было видно, что сила у нее тоже есть.
— Я не хочу замуж, — сказала Нофрет. — Мне и так хорошо.
— Все выходят замуж, — возразила Анхесенамон.
— А я нет. Я же говорила, что я другая. А ты мне не веришь.
— Верю, но тебе нужно учиться чувствовать счастье. Прежде, чем приехать сюда, я думала, что это очень трудно. Там, раньше, всегда было очень мало веселья.
— Вовсе не было. Наверное, это все еще сидит во мне. Впрочем, я никогда не была беззаботной.
— Этому можно научиться, — заметила Анхесенамон.
— Возможно, — согласилась Нофрет.
33
Нофрет никогда не была склонна следовать советам других, но ей вдруг захотелось стать такой, какой ее хотела видеть госпожа: счастливой. Простое упражнение: сначала надо научиться улыбаться, затем — смеяться, а потом развлекаться и совершать глупости. Это было любимым занятием при дворе Тутанхамона, где все были молоды или старались казаться молодыми.
Царица превосходно овладела искусством быть счастливой. Царь ее научил. У него всегда было превосходное настроение. Анхесенамон, прежде жившая, словно птица в клетке, с подрезанными крыльями и молча, под его руководством научилась лежать и петь.
Они поженились в печали, когда Тутанхамон был еще ребенком, чтобы дать ему право носить две короны. На шестом году его царствования, на четырнадцатом году жизни, когда он уже стал почти мужчиной по возрасту, хотя и не по силе, они поженились и телом. Анхесенамон, шестью годами старше него, уже побывавшая и женой, и царицей, научилась с ним быть не только женой, но и любовницей. И женой, и даже матерью она уже побывала, но не получила от этого особенного удовольствия, потому что была еще слишком молода, и лишь долг и воля отца заставляли ее идти на это.
Теперь Анхесенамон стала женщиной, созревшей для любви. Ее муж, хотя еще очень юный, был полон желания, а влюблен в нее — еще с малолетства.
Они были красивой парой, оба стройные, изящные. Тутанхамон вырос высоким, а она, не высокая, но и не маленькая, доставала ему до подбородка. Супруги любили сидеть рядом, держась за руки, даже на троне. Когда приходилось по какой-либо причине разлучаться — дела, развлечения, государственные обязанности, — каждый казался не то чтобы меньше, но видно было, что рядом должен быть второй; образовывалась пустота, жаждавшая заполнения.
Не все было смех и радость. Анхесенамон дважды беременела. Дважды случались роды, преждевременные и тяжелые, и ребенок умирал, не успев и вздохнуть. Повторялось то же, что с Эхнатоном: только дочери, и слишком слабые, нежизнеспособные.
Нофрет думала, что кровь их была слишком родственной, но никогда об этом не говорила, как и все остальные. Таких вещей царицам не говорят.
Анхесенамон вынашивала каждого ребенка с большой надеждой и теряла с огромным горем. Она и царь скорбели вместе, чего никогда не было с Эхнатоном. Горе разделенное — полгоря, как говорят старые мудрецы. Конечно, легче переносить его в объятиях любимого.
— Мы сделаем сына, — сказал Тутанхамон своей царице, и Нофрет слышала. Они лежали в постели, царица опустила голову мужу на грудь, и ее щеки еще были мокры от слез по второму их ребенку. Он тоже плакал, но голос его был тверд.
— Это наша жертва, цена, которую мы платим богам. В следующий раз родится сын, и он будет жить.
Анхесенамон промолчала. Нофрет, которой там вообще не должно было быть, тоже помалкивала. Может быть, царь предвидел это. Он был царь и бог, Гор на земле, и, наверное, знал, чего от них хотят боги.
— Будем молиться, — сказал он. — Мы принесем богатые дары Амону, Матери Изиде и богине Таверет, которая помогает женщинам при родах, а они дадут нам сына.
Они сделали так, как он сказал, потом еще и еще раз. Их молитвы принесли только один результат: Анхесенамон не забеременела еще одной дочерью и не потеряла ее.
Но она не забеременела и сыном. Однако царь был молод, а у богов впереди еще долгие годы, чтобы простить его за родство со слугой Атона и вознаградить за молитвы.
Нофрет обнаружила, что горевать не проще, чем радоваться. Она не особенно хорошо владела обоими искусствами. И постоянно чувствовала какую-то пустоту и неуверенность. Девушка хорошо справлялась со своими обязанностями и знала это. Став главной над всей прислугой царицы, она приказывала, а другие подчинялись; надо было навести порядок во дворце царицы и поддерживать его, и это часто занимало весь день и часть ночи. Среди прочих дел она исполнила обещание, когда-то данное Амону в Фивах; принесла ему в дар хлеб и пиво за то, что он вознес ее на такую высоту, и каждый месяц, для собственного спокойствия, приносила еще дары. Нофрет добилась того, к чему устремилась, еще будучи пленницей из Митанни, и была удовлетворена, но в этом удовлетворении была какая-то пустота.
Нофрет решила, что ей не так-то просто угодить. У Анхесенамон был дар извлекать максимум пользы и удовольствия из чего бы то ни было. Нофрет все время искала чего-то большего.
В Мемфисе было на что поглядеть. Город был такой же древний, как Фивы — некоторые говорили, что древнее, — и такой же великолепный, как и подобает столице Севера. В Фивах была долина с гробницами царей, а в Мемфисе — одно из чудес света: древние гробницы, великие гробницы, могучие пирамиды, сиявшие ослепительной белизной под солнцем, призрачно белевшие под луной, охранявшие горизонт на западе. Мемфис находился ближе к Азии, и на его улицах было больше чужестранцев, чем в Фивах и даже в Ахетатоне. В толпе Нофрет обнаружила знакомое лицо: торговку пивом из Ахетатона, которая вернулась домой и построила лавочку со столом, скамейкой и задней комнатой, где в полуденную жару можно было провести время с любовником.
Нофрет никогда не делала ничего подобного, хотя торговка подмигивала, улыбалась и прозрачно намекала, что этой комнатой можно воспользоваться. Она лишь скромно заходила иногда выпить пива, поглазеть на прохожих, и пару раз возвращалась во дворец чуть-чуть навеселе. Большей частью она приносила обрывки сплетен и рыночной болтовни, чтобы развлечь госпожу. Казалось бы, все должно удовлетворять ее, но ничуть не бывало.
Царь устроил свою резиденцию в Мемфисе, но путешествовал повсюду по Двум Царствам; вверх и вниз по реке, вверх до самой Дельты и вниз, минуя Фивы, до границ Нубии. Фивы он посетил лишь в самом конце, и ненадолго, на обратном пути в Мемфис. Его гробница строилась в долине к западу от Фив, но царь ясно дал понять, что он лишь следует обычаям предков, и вовсе не этому городу принадлежит первое место в его сердце.
Отбросив дипломатические тонкости, царь проявил непривычное упрямство.
— Я дам Фивам только то, что должен, и не больше, — сказал он. — И поселюсь там только после смерти. Живой, я предпочитаю другое место.
Даже господин Аи не смог убедить его быть более дипломатичным. Во всех других делах он прислушивался к разумным доводам, но здесь не желал слушать никого. Он был царь, и никто не мог его заставить и пока еще никто не пытался его убить. Советники повздыхали и оставили царя в покое. Жрецы Амона ничего не говорили, не угрожали ему, поскольку получили назад свою власть, их бог находился во всей своей славе. Судя по всему, они были довольны или хотя бы делали вид, что довольны.
Когда царь разъезжал по Двум Царствам, — а по мере того как он взрослел, это случалось все чаще, — его царица отправлялась вместе с ним, если только он не путешествовал с войском. Нофрет тоже следовала за своей госпожой, но после смерти второго царского ребенка у нее стало слишком много дел в мемфисском дворце.
Если бы Анхесенамон приказала, Нофрет пришлось бы повиноваться. Но царица была поглощена мужем и не слишком много внимания уделяла служанке. Она вздохнула, услышав отказ, но спорить не стала. В дальнейшем, отправляясь в путь с царем, она брала с собой лишь нескольких служанок, а остальных оставляла в Мемфисе с Нофрет.
Нофрет ни разу не ездила в Фивы. В ней не было такой ненависти к этому городу, как у царя, но и любви тоже не было. Она не могла заставить себя поехать даже ради того, чтобы узнать, прибыла ли туда Леа вместе с остальными апиру.
В отсутствие в резиденции царя и царицы Мемфис не стал спокойнее, но дворец казался совершенно опустевшим. Придворные разъехались, часть вместе с царем, часть по своим поместьям. Во дворце оставались только слуги. Они могли бы воспользоваться такой возможностью, чтобы побездельничать или тоже разбежаться кто куда, но Нофрет быстро положила этому конец. Обязанностей пока было немного, но все равно требовалось подметать полы, готовить еду для людей и животных и выполнять другие работы, которые неудобно делать, когда дворец полон людей: вытащить и вычистить ковры, перестирать постельное белье, отполировать мебель в царских покоях.
Слуги сердито косились на нее, и некоторые старались улизнуть, прежде чем она успеет остановить их и заставить что-то делать. Но девушка всех задержала и приставила к работе, и они повиновались ей. Нофрет очень редко пользовалась хлыстом — вполне хватало ее голоса и свирепого взгляда.
В один из дней мягкой египетской зимы, когда царская чета снова отправилась в Верхнее Царство, она поднялась утром, как обычно — это давно уже вошло у нее в привычку, — вымылась в глубоком тазу, который принесли слуги, расчесала густую длинную гриву волос, заплела косы, вплетя в них амулеты Амона и Собека, когда-то купленные в Фивах, и надела чистое полотняное платье — последнее готовое к носке, с заложенными складками. Сегодня банный день, а потом будут чистить и проветривать покои царицы.
Оправляя платье, Нофрет задумалась. Она никогда не обращала на себя особенного внимания, следя только за тем, чтобы вымыть и одеть тело, но сегодня ее кожа была какой-то странной, чувствительной и нежной и с трудом выдерживала даже легкую шершавость полотна.
Месячные у нее кончились пару дней назад. Никакой бури не предвиделось: утро было ясное и тихое, днем будет жарко. Ни малейшего признака страшной бури, какие иногда случаются в это время года, когда сильнейший горячий ветер гонит перед собой стену пыли, а в ней сверкают молнии. В воздухе не ощущалось никакого напряжения. Дело было лишь в ней самой, в ее коже и в том, что под ней.
Если бы Нофрет спросила, что с ней, любой сказал бы, что ей нужен мужчина. Она уже подумывала о том, чтобы познакомиться с кем-нибудь, кто проявлял к ней интерес, может быть, с одним из стражников, молодым, с красивыми глазами, почти таким же красавцем, как царь. Но одна мысль о том, что к ней прикоснется мужчина и будет гладить ее чувствительную кожу, вызывала дрожь.
Как обычно, она начала дневную работу, собрав слуг царицы и раздавая поручения, и вдруг почувствовала, как будто выскальзывает из своего тела, взлетает к балкам потолка, словно крылатый дух, и слушает чужой голос. Никто из слуг не замечал ничего странного. Чужая Нофрет говорила те же слова, что и каждое утро, распределяла обязанности без всякого участия блуждающего духа.
Нофрет всегда была очень замкнута в себе, единая и неделимая, тело и душа. Египтяне имели очень странное представление об этом: разделяли душу на шесть частей, каждая — часть целого — дух Ка и дух Ба, тень, дыхание, сердце, имя, и еще само тело, вмещающее все остальное. Эта блуждающая ее часть должна быть или Ка — дух, остающийся с телом после смерти, — или Ба, свободно летающий на крыльях сокола.
Дух, какой бы он ни был, наблюдал, как тело раздает приказания, а потом ходит по комнатам царицы, проверяя, как их моют и чистят. Он не собирался улетать прочь, будучи связанным присутствием тела.
Отделенная от тела, как в странном сне, Нофрет наблюдала за собой все утро. В полдень, когда даже самые усердные отправились отдыхать от жары, тело пошло не к кушетке в прохладной затененной комнате, но на открытый воздух, под солнце. Жара показалась ему ласковой, а не обжигающей. Тело шагало по дворам и забиралось на стены, избегая встреч с охранниками, которые, как и все здравомыслящие люди, искали укрытия в тени.
На самом верху дворца, высоко над городом, тело Нофрет оперлось о парапет. Ветер подхватил ее дух и играл с ним, соблазняя полететь над городскими крышами, над роскошной зеленью возделанных полей, над бурыми водами реки, а затем все дальше и дальше, прочь из земли живых к гробницам древних царей, к пирамидам, словно посылающим столбы света в безграничное небо.
Но тело, связанное с ним, сопротивлялось. Долгое время дух балансировал, наполовину на ветру, наполовину в теле. Потом тело потянулось, достало его, проглотило вместе с ветром и стало резко, головокружительно целым.
Нофрет покачнулась на краю стены. Ветер ударил ее неожиданно сильно. Она оттолкнулась от него, осторожно отступая от края. Кружилась голова, мутило, ее охватил страх.
— Госпожа, вам плохо?
Она вздрогнула и резко обернулась. Рядом стоял человек в шлеме, в легкой полотняной одежде, с копьем в руках, тот самый красавец-стражник, по которому вздыхали все служанки. Сейчас он не показался ей красивым, просто незнакомым.
— Ты, похоже, больна, госпожа, — сказал он негромким приятным голосом. — Пойдем, в башне есть кувшин с водой. Я дам тебе чашку.
Нофрет хотела отказаться, но язык не послушался ее. Стражник привел девушку к башне в южном углу стены, налил воды из глиняного кувшина и подал ей. На его лице явно читалось сочувствие.
Внезапно девушка почувствовала приступ гнева. Если бы этот красавец схватил ее и попытался овладеть ею, если бы оказывал ей внимание, она бы и вполовину так не рассердилась. Но эта целомудренная заботливость вызвала у нее желание выцарапать ему глаза.
Ее тело, не обращая внимания на взбешенный дух, взяло чашку, даже улыбнулось перед тем, как выпить. Стражник ответил улыбкой. Красивая улыбка… Все в нем казалось безупречным. Но на его лице не было выражения, часто отличавшего красивых мужчин, когда они слишком хорошо понимают, как приятно на них смотреть. Конечно, он знал о своей красоте, не мог не знать, но ему это, похоже, было безразлично. В чем-то он напоминал и царя, и царицу.
Рука Нофрет протянулась и погладила его по щеке. Щека оказалась гладкой, едва пробившаяся борода была хорошо выбрита по египетской моде. Он чуть покраснел под бронзовым загаром, такой бывает от солнца и ветра, но не отстранился.
Чашка опустела. Она выпила ее до дна, даже не заметив этого. Стражник взял чашку из ее рук и бережно отставил в сторону, как будто, она была из тончайшего стекла, а не из простой грубой глины.
Нофрет не могла даже вспомнить его имя. Сени, Сети, что-то в этом роде. В Египте имена были силой. Ее имя, полученное при рождении, было скрыто и позабыто. Она поискала его в себе, но не нашла. Значит, ее настоящее имя окончательно потеряно сегодня утром? Может быть, поэтому ей так не по себе?
Взгляд стражника странно смягчился, возможно, отражая ее собственный. Он склонился к ней. Поцелуй был жарким, сухим, полным желания, но сдержанным. Какое счастье, что случай и боги послали ей такого мужчину, а не того, кто давно уже повалил бы ее и удовлетворил свои желания. Этот же был терпелив, обходителен и вообще намного лучше, чем она заслуживала.
В башне было пусто и темно после ослепительного сияния солнца. Глаза Нофрет освоились гораздо позже, чем тело. Оно лежало на чем-то скорее твердом, чем мягком, наверное, на тростниковой циновке, а платье валялось неизвестно где, как и его одежда и шлем. Мужчина был немного ниже ее, чуть худощавей. Его тело было гладко выбрито, и чуть заметные щетинки покалывали ее кожу, ощутимо, но не вызывая неприязни.
Свободно летающая часть Нофрет удивилась, что же она здесь делает. Но остальная часть прекрасно знала, что. Она лежала в объятиях красавца-стражника, оба постыдно пренебрегали своими обязанностями, но это их совершенно не волновало.
Когда он взял ее, Нофрет почувствовала резкую боль. Его глаза удивленно расширились. Мужчина не ожидал встретить такую преграду — у нее, которая была явно старше, чем он. Он хотел отступить, но она удержала его сильными руками, обвила ногами бедра, приковала к себе. Он попытался было инстинктивно сопротивляться, но другой инстинкт оказался сильнее и, вздохнув, мужчина покорился ему.
Нофрет ждала наслаждения, которое, как говорили, приходит после боли. Боль заглохла, но удовольствия было немного, разве что от ритмичного раскачивания, от близости другого тела, от запаха свежего пота. Его дыхание ускорилось, а с ним и ритм движения. Затем внезапно он замер, напрягшись, и Нофрет ощутила тепло внутри себя.
Он долго сжимал ее в объятиях, потом отпустил и упал рядом, уже почти засыпая. О таком ей тоже говорили — будто многие мужчины и даже некоторые женщины засыпают сразу после этого. Но не Нофрет. Она лежала неподвижно возле спящего незнакомца, чувствуя лишь затихающую боль в глубине тела. Ощущения, что она что-то приобрела, не было. Странное самочувствие не изменилось. Она по-прежнему казалась чуждой самой себе, хотя ее дух решил остаться на месте и больше не блуждать.
Нофрет медленно встала. На ее бедрах была кровь. Она нашла кусок холста, висевший на крючке, намочила его водой из кувшина, выйдя наружу, тщательно вымылась, чувствуя дрожь в руках. Потом хорошенько отстирала тряпку. Кровь еще слегка шла, как при месячных. Она повесила сырую тряпку на место, надела помятое платье, как могла, привела в порядок волосы.
Стражник еще спал, чуть посапывая. Командир задаст ему хорошую трепку, если узнает, что он покинул пост, чтобы провести время с женщиной. Надо бы разбудить его, заставить одеться, взять оружие и вернуться к исполнению своих обязанностей. Но тогда ему захочется снова целовать ее или даже еще чего-нибудь. Служанки говорили, что все мужчины так делают. Или взяв, что хотят, однажды, забывают женщину, которая им это дала, или возвращаются вновь и вновь, настаивая, приставая и надоедая.
Этот будет желать большего, даже судя по тому, как он лежал, свободно, как дитя, улыбаясь во сне. Он действительно был очень хорош собой, красивый мальчик с гладкой коричневой кожей и изящными руками. Ей захотелось поцеловать его, просто потому, что он был так мил, но она удержалась, положила рядом с ним шлем и копье и вознесла молитву Хатор, покровительнице влюбленных, чтобы он успел вовремя проснуться и избежать командирского гнева. Затем оставила его, ступая осторожно, чтобы дух не улетел снова. Но, казалось, теперь он держался крепко, связанный болью внутри ее тела. Хоть этого она добилась: дух и тело снова объединились, и можно было удерживать их — правда, они опять пытались разделиться.
34
Стражника звали Сети. Прежде чем прийти снова, он выждал несколько дней, но все-таки пришел. Он появился вечером, когда у Нофрет выдавалось немного свободного времени, выбрав этот момент по счастливой случайности или после тщательных расспросов, и принес в подарок цветок лотоса и кувшин финикового вина.
Нофрет приятно удивилась, увидев его стоящим в дверях ее комнатки, такого милого и робеющего, но старающегося выглядеть заносчиво. Несомненно, было приятно и даже лестно, что он не просто помнил ее, но решил порадовать своим посещением.
Прежде чем она успела приказать ему убираться вон, он очаровательно улыбнулся и сказал:
— Не уверен, что ты хочешь меня видеть, но я должен был прийти.
Нофрет открыла рот, приготовившись сказать что-нибудь обидное и непоправимое. Но ее язык имел собственное мнение и произнес:
— Надеюсь, у тебя не было неприятностей из-за того, что ты спал на посту?
Стражник чуть покраснел.
— Нет-нет. Боги были милостивы. Я успел проснуться и вернуться на пост, прежде чем кто-нибудь заметил.
— Это хорошо, — сказала Нофрет вполне искренне. Она вовсе не желала ему неприятностей. Юноша был хорош собой, обходителен, гораздо лучше, чем она заслуживала.
Сети поклонился и протянул ей лотос. Она взяла его, иначе цветок упал бы к ее ногам. Аромат его был сладок, и Нофрет чихнула. Он засмеялся, чуть задыхаясь; немного погодя засмеялась и она.
Каким-то образом оба оказались в постели, забыв на полу цветок и одежду. Казалось, ее тело своей волей выбрало из многих именно этого человека. Нофрет даже не знала, сможет ли он вести хоть какой-то разумный разговор. Разум не имел ничего общего с тем, что он делал с ней, а она с ним.
Сети, видимо, полагал, что этого достаточно, и шептал ей на ухо слова, которые были бы счастливы услышать многие служанки. Глупые, смешные слова о любви. Как он мог настолько потерять голову из-за нее, Нофрет не понимала, но это, несомненно, так. Может быть, дело просто в том, что она была главной над служанками царицы, и приятели уважали его за то, что он был допущен в ее постель.
Служанки завидовали ей, и не одна клялась, что отобьет Сети. Нофрет не стала бы возражать, если бы кому-нибудь из них это удалось. Ей было очень не по себе. Она не в силах была признаться, что не чувствует ничего, кроме легкого смущения, и вдобавок обнаружила, что совсем нетрудно дать ему то, чего он хотел от ее тела. Нофрет это даже доставляло удовольствие. Первое время впечатления были слишком сильными — ожидаемые и всегда превосходящие ожидания. А затем, когда оба лучше научились доставлять друг другу удовольствие, это стало просто великолепным. Нофрет скучала по нему, когда его не было радом, но не позволяла тоске полностью завладеть ею. Для этого она была слишком упряма. Сети получил ее тело — все, на что мог рассчитывать, но ему хотелось получить и душу, а этого она дать ему не могла.
Ей не с кем было поделиться. Человека, о котором она думала, в Египте не было, а если бы и был, он мог не понять ее. Нофрет считала Иоханана своим другом, но он был мужчиной. Мужчины любят мечтать; они создают воздушные замки с царицами и неземной любовью. Женщинам приходится быть более практичными, пить настои трав, готовить себе разные снадобья, не терять бдительности — или им придется произвести на свет ребенка, Нофрет подумала, что было бы настоящей насмешкой судьбы, если бы все ее предосторожности не помогли и она родила бы сына, о котором всегда мечтала ее госпожа. Сына рабыни и стражника — но все-таки сына.
Которого отвергнут боги. Ей не хотелось вынашивать в своем чреве отпрыска Сети, как бы красив и хорош он ни был. Она следовала всем нелепым, даже неприятным советам служанок. Но, по-видимому, это помогло: месячные пришли вовремя, с той же регулярностью, как и полнолуние. Она поблагодарила богов и решила отослать Сети прочь; но язык не поворачивался сказать это. Ее телу слишком нравилось все, что он делал с ним и что говорил.
И, в конце концов, что здесь плохого? Сети был счастлив, а ее тело научилось петь каждой своей косточкой — и тем приятнее, чем дольше он играл на нем. Нофрет по-прежнему исполняла свои обязанности, и Сети тоже. Они не были похожи на сказочных любовников, позабывших обо всем на свете, захваченных друг другом.
Нофрет исполняла свои обязанности не менее добросовестно, чем прежде, но обнаружила, что они занимают гораздо меньшее время и уже не захватывают ее сердце целиком. В один прекрасный жаркий полдень она успела сделать все, что требовалось царице, и полностью освободилась. Дворец был в полном порядке. Она отправила большинство служанок отдыхать. Оставшиеся сонно занимались немногочисленными, не слишком срочными делами. В присутствии Нофрет не было необходимости.
Было как-то чудно, что в ней особенно не нуждаются, и никакие дела ее не торопят, как в прежние дни в Ахетатоне.
Сети сегодня дежурит до самого вечера. Особого желания разыскивать его или увести с поста не было. Раньше она иногда делала такое, но не теперь. Нофрет слишком многое узнала о нем: о матери, живущей в городе, которую он обеспечивал на свое жалованье хлебом и пивом; о брате, который тоже мечтал стать дворцовым стражником, но был еще слишком юн; о сестрах, которых предстоит выдавать замуж, когда они станут постарше. Все это семейное здание может рухнуть, если Нофрет снова введет его в соблазн пренебречь своими обязанностями.
Странно было сознавать, что до вечера она никому не понадобится, но идти было особенно некуда. С этим чувством она вышла из своей маленькой комнатки, как, бывало, в Ахетатоне, без всякой специальной цели. Можно пойти в город, а можно и не ходить. Она могла остаться во дворце, среди роскоши, от длительного употребления ставшей даже удобной.
У нее было любимое местечко: сад с фруктовыми деревьями, а в нем фонтан с рыбками. Не особенно роскошный сад, маленький, заброшенный, со старыми деревьями. Сюда редко кто заходил. Его заложили при какой-то древней царице, наблюдавшей за посадкой деревьев и устройством фонтана. Она уже давно лежала в своей гробнице, а сад жил, внуки внуков ее деревьев склонялись под тяжестью плодов.
Нофрет сорвала гранат с корявого и развесистого дерева, о чьи низкие ветви легко было стукнуться головой. Плод оказался сладким. Она съела его, сидя в тени другого дерева, аккуратно закопала остатки, вознеся благодарственную молитву духу дерева, и снова села, слизывая с пальцев кроваво-красный сок.
Шум голосов заставил ее устремиться под колоннаду. Хотя в этот сад заходили редко, он находился рядом с двором приемов, где принимали иностранных гостей дворца. Пару раз, когда она была здесь, принимали послов, а однажды — вельможу из отдаленного дома Египта, который заблудился и очень растерялся, оказавшись в пустынном саду. Она выручила его, указав правильную дорогу, но не услышала даже слова благодарности — так обычно вели себя все вельможи.
Нофрет и дальше сидела бы в тени, ощущая на языке сладость гранатового сока, но любопытство повело ее под колоннаду и дальше, во двор для иностранных гостей. Там толпились и шумели люди, стучали копытами кони.
Сердце ее замерло. Посланцы из Великой Страны Хатти прибывали и раньше, и нередко: высокие, крепко сложенные светлокожие люди в длинных одеждах и вышитых мантиях, с густыми вьющимися волосами, длинными сзади и гладко подбритыми надо лбом. Их руки всегда были готовы схватиться за оружие. Даже безоружные, стоя перед царем, хетты выглядели так, будто были вооружены до зубов.
Они никогда не замечали служанок царицы, не обращали внимания на то, что одна из них хеттская девушка. И ей тоже было все равно, кто они и откуда явились. Она была привязана к Египту.
И все же, когда люди из Хатти говорили с царем, Нофрет испытывала странные чувства. Это был ее народ и не ее. Язык, на котором говорили земляки, казался странным, хотя она хорошо его понимала. Бывает, что люди теряют такую способность: она видела, как некоторые рабы, когда их соплеменники говорили перед царем, плакали оттого, что не могли понять их, и понимали только переводчиков.
Нофрет берегла свой родной язык — отчасти из гордости, отчасти из упрямства, отчасти из убеждения, что он может ей еще пригодиться. Она могла проверить, честны ли переводчики; и так и бывало, когда встреча происходила в ее присутствии.
А госпожа никогда не просила ее переводить. Анхесенамон это не приходило в голову, и Нофрет не считала нужным предлагать. Она была служанкой, а не знатоком языков.
Во дворе иностранцев были хетты — посол со свитой, несущей грамоты с печатями Царя царей, Великого Царя Хатти. Это все еще был Суппилулиума, как и тогда, когда ее увезли в Митанни. По не слишком восторженному мнению господина Аи, он был одним из великих царей. Великие цари могут причинить много хлопот. Они слишком часто развязывают войны и больше, чем надо, думают о том, как расширить свои земли.
Не нашло ли на Суппилулиуму снова воинственное настроение? В таком случае, военачальник Хоремхеб справится с ним. Хоремхеб теперь возглавлял царские войска в Азии — это был более высокий пост по сравнению с тем, что он занимал в Дельте, и достаточно далеко от Египта.
Нофрет задержалась в тени колонны, с любопытством рассматривая хеттов. В отсутствие царя и за пределами ее власти дворец пришел в некоторый непорядок: распорядитель церемонии встречи послов запаздывал, слуги и конюхи несколько растерялись.
Нофрет недовольно покачала головой. Дураки. Даже она, чья власть не распространялась за пределы дворца царицы, знала, где находятся конюшни, как нужно приветствовать послов, куда отвести их вымыться, отдохнуть и подкрепиться. Похоже, здесь никто не умел или не желал делать этого. Хетты были терпеливы, но главный вельможа уже начал хмуриться и его черные брови сошлись над переносицей внушительного горбатого носа.
Хотя она и служанка царицы, но тоже относится ко дворцу. Его честь для нее небезразлична. Нофрет не хотелось, чтобы хетты плохо думали о Египте, получив такой нескладный прием.
Она глубоко вздохнула, расправила платье и вышла из своего укрытия. Свет словно ударил ее, а с ним крики людей, ржание коней, лай охотничьих собак, даже рычание льва в клетке: страна Хатти прислала египетскому Детенышу Льва подходящий подарок. Несколько собак уже завязали драку. Посол, возвышающийся на своей колеснице, был уже готов гикнуть на своих коней и умчаться галопом обратно в страну Хатти.
Его окружали вооруженные люди. Распорядителю следовало позаботиться и об этом: никто, кроме людей царя, не должен входить во дворец с оружием.
Одинокой женщине опасно находиться среди такой толпы мужчин, но у Нофрет было собственное оружие: рост и ширина плеч, свирепый взгляд в ответ на любую нескромность. Только люди, стеной окружавшие посла, сохраняли спокойствие, но их оружие вовсе не казалось безопасным.
Нофрет отвела в стороны два копья, словно половинки двери. Копьеносцы уставились на нее. Она пристально взглянула на них. Это были молодые люди, гладко выбритые, как египтяне, но совершенно другие. Их лица были хеттскими, горбоносыми, с гладкими щеками. У одного был шрам на щеке, а у другого — необычные глаза, не черные или карие, как у большинства, а серые, и волосы отливали рыжим. В стране Хатти это было редкостью, но не такой уж особенной. У Нофрет были такие же глаза и волосы.
К тому же, что-то еще…
— Лупакки, — сказала она неожиданно, — что ты здесь делаешь?
Отлично! Теперь ясно, может ли она еще говорить по-хеттски. Вопрос прозвучал грубовато, но правильно.
Третий из ее братьев осмотрел ее с головы до ног. Наверное, он уже не помнил ее. Братья легко могли позабыть сестру, похищенную еще в детстве.
Но серые глаза расширились — так, что стали видны все белки. Вид у него был такой, словно он увидел призрак или ожившего покойника.
— Аринна, — потрясенно произнес он. Имя ошеломило ее. Оно было чужим, и все же отозвалось во всем ее теле: имя, данное ей при рождении, имя, которое она заставила себя позабыть.
Что-то пробудилось в ней, какая-то ее часть, которую она давно уже считала исчезнувшей. Он снова произнес:
— Аринна, — и взял ее за руку, чуть дрожа, но крепко. — Аринна, ты же умерла. Мы видели место, где тебя убили.
Она думала, что забыла и это: охоту, нападение, отчаянное сопротивление.
— Я заколола бандита. Он истек кровью, как свинья.
— Мы думали, это твоя кровь. — Он стиснул ее руку, потом отпустил, словно внезапно вспомнив, где находится и кто на него смотрит. — Великие боги, сестренка. Мы оплакивали тебя, просили твой дух смилостивиться, молились, чтобы ты не мстила нам за то, что мы так плохо присматривали за твоим телом. И все это время…
— И все это время я была в Митанни, а потом здесь. — Она задрала подбородок. — Я старшая служанка царицы.
Он не произнес слова, которое сказал бы другой, позорного слова: рабыня. Может быть, его губы дрогнули, но голое прозвучал легко:
— Значит, ты достигла большего, чем я. Я служу под началом царского полководца.
Нофрет указала подбородком на человека в колеснице, вовсе не замечавшего ее. Конечно, ведь он был слишком важной персоной и уже совсем лишился терпения.
— Этот?
— Да, — сказал Лупакки. — Это мой господни Хаттуша-зити, и он глубоко оскорблен.
— Я и сама нижу, — сухо заметила Нофрет. — Дай мне пройти.
— Зачем?
В этом был весь Лупакки: обязательно надо задать вопрос, а не просто исполнить приказание. Интересно, как-то ему служится в войске его господина?
Нофрет сохраняла спокойствие. Ум был ясен. Помогала привычка к исполнению своих обязанностей и потрясение, которое она испытала, увидев лицо, которое совсем не ожидала когда-либо увидеть.
Она прошла между своим братом и человеком, стоявшим рядом с ним, и схватила за уздечку ближайшего коня. Жеребец был норовистый, но хорошо выученный; он склонил голову. Девушка взглянула в лицо посла. Тот был ясно не в восторге от необходимости обратить на нее внимание, но эта девица задела его достоинство, прикоснувшись к одному из его коней. Но она обратилась прямо к нему, со всей почтительностью, на какую была способна:
— Мой господин, я приветствую тебя в Мемфисе. Прошу тебя не обижаться на мое присутствие и на достойную всяческого сожаления неготовность принять тебя. Как видишь, царь в отъезде, а его слуги не ожидали твоего прибытия.
Господин Хаттуша-зити был готов чуть ли не фыркать от возмущения, слыша признания в отсутствии должного порядка. Но Нофрет не волновало его презрение. Нужно было сдвинуть его с места и разместить там, где он сможет несколько поправить свое настроение.
— О моем прибытии, — высокомерно заявил он, — было известно.
— Мой повелитель, твои посланцы не сообщили точный день и время. Ты путешествуешь быстро. Надеюсь, путешествие было благополучным?
Он наконец фыркнул, словно один из его коней.
Все шло неудачно. Нофрет подавила вздох и повысила голос:
— Мой повелитель, окажи любезность спуститься со своей колесницы. Для тебя и твоих людей готовы комнаты и все, что вы пожелаете, все для вашего удобства. — Она протянула руку, удерживая другой коня за уздечку. — Прошу, господин.
На удивление, он послушался. Может быть, от изумления, или от того, что ему в новинку было получать указания от женщины, рабыни, да еще хеттской, но в египетском платье.
Она склонилась перед ним так низко, как подобает кланяться посланцу Царя царей.
— Мое имя Нофрет. Я главная служанка царицы. Я говорю от ее имени и предлагаю тебе все, что могла бы предложить она, если бы была здесь, а не в Верхнем Царстве.
Любезность рождает любезность. Хаттуша-зити был послом, а послы привычны к этому, как кони к упряжи. Он снизошел до нее, по крайней мере, настолько, чтобы позволить отвести себя во дворец.
Несколькими словами девушка послала слуг бегом вперед и привела остальных в чувство, чтобы они вспомнили о своих обязанностях. Быстро воцарился порядок; послов отвели в дом для гостей, лошадей поставили на конюшню, дары отнесли в кладовые, откуда их потом достанут, чтобы представить царю.
Наконец явился распорядитель, встрепанный, благоухающий духами. Когда его побеспокоили, он явно вкушал свой дневной отдых. Нофрет не стала делать ему выговора, это не ее дело. Она оставила такую возможность Хаттуша-зити, у которого явно был хорошо отточенный и ядовитый язык.
С появлением распорядителя присутствие Нофрет больше было не нужно, и она с радостью удалилась. Разговор с Хаттуша-зити походил на поединок на мечах: коротких, острых и опасных. Нофрет надеялась, что ей удалось не выронить свой. Но она охотно передала его тому, в чьи обязанности входило заниматься таким делом. Еще больше радовало то, что брат остался там. Ей нужно было время, чтобы собраться с мыслями, вспомнить, кем она была и кем стала.
Сети уже ждал ее, разогревшийся и слегка поглупевший от финикового вина, которое он пил, чтобы скоротать время. Он даже не дал ей времени поздороваться, схватил у самой двери и потащил в постель, со смехом и бранью стаскивая с нее платье. Тело стремилось к нему, но дух сопротивлялся. Нофрет не успела опомниться, как очутилась в постели, а он сверху, изнемогающий от желания.
Ей тоже хотелось этого. Она не пыталась остановить его. Ее дух снова рвался на свободу из тела, пытаясь улететь, как в тот день, когда она впервые была с Сети. Тогда дух привел Нофрет к нему, а теперь хотел увести ее.
Дух был очень непостоянным. Он думал о ее брате Лупакки, о хеттах, расположившихся в гостевом доме неподалеку от царского дворца. Будучи рабыней в Египте, она запрещала себе думать о братьях и об отце. Теперь один из них явился к ней.
Сети не заснул, как бывало обычно, а бодрствовал и был настроен поговорить. Так на некоторых мужчин действует вино; и теперь это было совсем некстати, Нофрет предпочла бы, чтобы он спал. Но Сети, казалось, не замечал краткости ее ответов, радостно болтал обо всем и ни о чем, о пустяках, которые ее совсем не интересовали. Она поила его вином, пока у него не стал заплетаться язык, но Сети только стал болтать еще быстрее.
Наконец и внезапно, так что он замолк на полуслове, вино подействовало. Нофрет облегченно вздохнула. Она уже была готова сама опорожнить кувшин, да здравый смысл помешал.
Вместо этого она встала, умылась, расчесала и заплела косы, размышляя, надеть ли повседневное платье или праздничное. Конечно, встречу с братом после такой долгой разлуки следует считать праздником, но платье было из тончайшего прозрачного полотна, а хетты стеснительны Она выбрала платье попроще, чистое, из хорошего полотна, пусть и не такое красивое.
Надела она и украшения; малахитовую подвеску в виде Глаза Гора, подаренную Сети, и золотые серьги с малахитом, дар своей госпожи. Оглядев себя в бронзовое зеркало царицы, Нофрет решила, что она совсем недурна — не так красива, как египтянки, но смотреть приятно. Она не посрамит ни себя, ни свою госпожу перед лицом хеттского посольства.
В посольстве были и женщины, а также придворные не из самых знатных, приехавшие в закрытых повозках, чтобы развлекать посла. Никто из них не смел, как египтянки, говорить наравне с мужчиной. Даже хеттские царицы, чьи сыновья только и могли быть царями, хранили молчание перед мужчинами, высказываясь лишь в задних комнатах, где их повелители могли слушать своих жен, а могли и не слушать.
Нофрет вовсе не пыталась казаться незаметной и решительно подошла прямо к стражникам у ворот, в доспехах, но с пустыми ножнами.
— Я хочу поговорить с воином Лупакки.
Одни из них хотел было прогнать ее, но другой его удержал.
— Нет, не надо. Это его сестра: я слышал, как они разговаривали. Она служит царице.
Нофрет ласково улыбнулась.
— Я старшая над слугами царицы. Может быть, вашему господину что-нибудь нужно? Скажите об этом распорядителю.
— Тому старикашке, похожему на женщину? — Стражник презрительно скривил губы. — Приятно смотреть, как он бегает.
— Пусть побегает, — сказала Нофрет. — Это его обязанности и его служба. — Она задрала подбородок. — Где Лупакки?
— Внутри, — ответил стражник, узнавший ее, — в караульной. — Он ухмыльнулся. — Если не найдешь его, найди меня. Я сменюсь с поста, когда солнце опустится до конька крыши.
Нофрет похлопала его по мускулистому плечу.
— У меня уже есть охранник, — похвасталась она.
Стражник засмеялся.
— Египтянин? А почему бы тебе не завести еще одного из нас?
— Мой брат не может защищать мою честь от египтянина, — сказала Нофрет, блеснув зубами, и, оставив стражника размышлять над ее словами, отправилась искать Лупакки.
Лупакки был доволен, что его отвлекли от работы по устройству посольства в доме для гостей. Его взгляд был еще несколько растерянным, но он, по-видимому, уже пережил первое потрясение от встречи и приветствовал ее нарочито беззаботно.
— Ах, чудесно спасшаяся! Если бы ты не пришла, сестренка, мне пришлось бы разгружать вещи.
— Ты и в детстве был лентяем, — заметила Нофрет. Они шли через двор для иностранцев. Теперь там было пусто, каменные плиты чисто выметены, никаких следов от толп людей и животных. Лупакки глазел по сторонам, пораженный его размерами, превосходившими царский дворец в Хатти, внушительными колоннами, напоминавшими стволы огромных деревьев. А ведь это был двор далеко не из самых больших.
— Все египетские постройки такие огромные, — удивлялся он. — Как здесь жить?
— Как и всюду. — Египтяне едят, спят, иногда ссорятся.
— Наверное, под такими высокими потолками, в таких больших залах бывает эхо.
— Цари и царицы не повышают голоса. Чем больше они сердятся, тем тише говорят.
— Это опасно, — заметил Лупакки, шагнул к столбу и попытался обхватить его руками. Он был высоким, длинноруким, но не смог сделать этого и смерил взглядом столб, раскрашенный под связку папируса.
— А если он на нас упадет?
— Лучше не надо, — ответила Нофрет. — Как отец? Здоров ли он?
Лупакки повернулся к ней.
— Он умер четыре года назад.
Ее сердце на миг остановилось, потом снова забилось, пронизывая грудь острой болью. Этого следовало ожидать. Воины никогда не живут долго, а отец был уже немолод, когда оплакивал ее мнимую смерть. И все же для нее это тяжкий удар.
— Он погиб в бою?
Лупакки кивнул.
Нофрет глубоко вздохнула.
— Тогда хорошо. Он не хотел бы умереть в собственной постели.
— Разве только с женщиной. — Лупакки помимо воли улыбнулся. — Все остальные живы и здоровы. Пиассили теперь глава семьи.
— Он все такой же зануда?
— Еще хуже, и очень занятый. А жена еще нуднее его. Но сыновья у них настоящие разбойники.
Нофрет грустно улыбнулась.
— Есть справедливость на небесах.
— Мы тоже любим так говорить, — сказал Лупакки и помолчал, набираясь решимости. — А как ты? Хорошо ли ты живешь?
— Неплохо. — Она пошла, сама не зная куда. Лупакки шел следом. Его молчание свидетельствовало о том, что он ожидал более подробного рассказа. Это ее брат, надо отвечать.
— Я служу царице. Она добра ко мне и прощает мне мои странности.
— Должно быть, очень необычная женщина, — заметил Лупакки.
Он подшучивал над ней, но Нофрет была серьезна.
— И царь, и царица Египта необычные люди. Скоро сам увидишь ее. Она вернется еще до наступления новолуния.
— А царь?
— И он с ней. Они везде вместе.
— Даже на войне?
— Нет, конечно, — улыбнулась Нофрет. — Но пока ему не нужно ехать на войну. Для этого у него есть полководцы.
Лупакки поднял брови.
— Правда? Здесь не почетно быть воином?
— Египет стар, — ответила Нофрет. — Он уже перерос порывы юности. — Она защищала царя, а зачем — сама не знала.
— Да, но, говорят, царь молод, — сказал. Лупакки.
— Он может пожелать того, что свойственно молодым: любить женщин, охотиться на львов, сражаться с врагами.
— Он любит свою царицу и охотится на львов — и убивает их.
— Но если царь настоящий мужчина, он должен сражаться.
— Ты кровожадный дикарь!
Лупакки ухмыльнулся, показав крепкие белые зубы. Один был сломан. Когда-то, защищаясь от него в потасовке, она бросила камень и угодила лучше, чем ожидала. За это ее высекли. Отец был справедлив и порол дочерей так же, как сыновей, если они того заслуживали.
Брат тогда вовсе не обиделся. Мальчишки делали страшные вещи и иногда серьезно ранили друг друга, демонстрируя свою мужественность. Им совсем не нравилось, когда девчонка стремилась делать то же самое, но Лупакки задавался перед ней меньше всех. Он был даже доволен. Похоже, так было и теперь, брат смотрел на нее с явным восхищением.
— Боги! — воскликнул он. — Если бы отец видел тебя сейчас, вот порадовался бы!
— Тогда ему повезло, что он умер, — заметила Нофрет.
— Вот что еще я скажу Пиассили, — говорил он, не замечая ее помрачневшего лица. — Наша сестренка не только жива, но и стала правой рукой царицы Египта. Помню, как он клялся, что с таким острым языком ты умрешь в тюрьме для рабов, если отхлещешь им своего хозяина после того, как он выпорет тебя.
— Это же когда-то сказала моя госпожа, а потом приказала мне всегда говорить откровенно.
— Она все-таки великолепна! И действительно так красива, как рассказывают?
— Еще лучше, — ответила Нофрет, поборов, наконец, скованность. Спорить с Лупакки всегда было бесполезно — он только смеялся и продолжал твердить свое. — Она дочь своей матери. На свете никогда не было женщины прекраснее Нефертити.
— А ты видела ее собственными глазами, — вздохнул Лупакки. — Какое везение! Я уже почти готов пожелать стать рабом.
— Ты бы был еще хуже меня, — заметила Нофрет и потащила его за собой в зал приемов. — Вот. Послушай, какое здесь эхо.
Лупакки с удовольствием послушал. Пустой зал был освещен лучами солнца, падавшими через отверстия в крыше. Эхо его голоса бежало от колонны к колонне, от каменного пола до балок крыши: переливы песен, вой шакала, боевые вопли хеттов.
Сердце Нофрет дрогнуло. Но это не было предзнаменованием. Однажды, лишь однажды, захватчики правили в Египте. Их изгнали, их имена преданы забвению Хетты никогда не сделают ничего подобного.
В этом не было также ни насмешки, ни угрозы. Просто невинное развлечение молодого человека в месте столь чуждом ему, что оставалось только изумляться.
Нофрет казалось, что, глядя на него, она будет чувствовать себя старой — старой и отчужденной. Странно, но ничего подобного не случилось. Она больше не принадлежала стране Хатти и не могла, но это все равно был ее брат. Странное ощущение.
Странное, немного тревожное, но все же обнадеживающее. Она владела большим, чем думала, и, считая себя такой одинокой в мире, на самом деле имела свое место и свою родню.
35
Хетты не пробыли в Мемфисе и десяти дней, когда вернулись царь, и царица. Между ними чувствовалась какая-то напряженность: это Нофрет заметила сразу же. Ничего очевидного, но уезжали они в одной колеснице, Тутанхамон обнимал жену и ее руки, державшие поводья, а вернулись в разных. Оба улыбались, как и всегда, рука об руку вошли во дворец, демонстрируя все признаки хорошего расположения духа, но в их поведении явственно проглядывал обряд, а не искренняя симпатия.
Нофрет узнала причину еще до конца дня. Царь собирался воевать.
Анхесенамон говорила об этом с холодным бесстрастием, обращаясь больше к стене, чем к Нофрет, пока та очищала от краски лицо своей госпожи и готовила ее ко сну.
— Все очень просто. Хатти напала на Митанни и одолела ее. Царь Тушратта мертв. Тебе это известно?
— Да, — ответила Нофрет, стараясь, чтобы ее голос звучал невыразительно.
— Я уверена, — продолжала Анхесенамон, — что ты порадовалась. Хатти стала еще более могущественной, чем прежде. Однако для нас все усложняется. Митанни была нашим союзником. Хатти, сокрушив ее, стала нашим врагом.
— Хетты полагают, что нет, — сказала Нофрет. — От них прибыли послы. Они в гостевом доме и ждут, когда их вызовут.
— Пьянствуют, вероятно, — заметила Анхесенамон, — и поднимают очень много шума. — Она покачала головой. — Вряд ли мой господин станет слушать их. Они проехали всего лишь в Мемфис. Кое-кто другой добрался даже до Абидоса, застал нас, когда мы совершали обряд поклонения богам, обнял колени моего мужа и умолял помочь его народу.
— И твой муж поднял его и пообещал все мечи и копья Египта.
Анхесенамон бросила на Нофрет свирепый взгляд.
— Не смейся над ним. Он отправил просителя отдохнуть и подкрепиться — а сам заперся с господином Аи и остальными членами совета.
— И сказал, что они могут советовать все, что угодно, но он собирается драться на войне. — Нофрет повесила парик своей госпожи на подставку, пригладив многочисленные, украшенные бусинами косички.
— И кто же союзник?
— Ты когда-нибудь слышала об Ашуре?
— В стране Хатти его называют Ассирией. Тамошний царь не старше египетского. Говорят, он полон стремления драться и полагает, что если Египет и Ашур будут воевать вместе, то смогут раздавить Хатти.
— Ты разговаривала с хеттами, — в словах Анхесенамон прозвучало утверждение, а не вопрос.
— Разве это измена? — спросила Нофрет.
Царица наклонилась на своем кресле, уперев локти в колени и положив подбородок на руки, и вздохнула.
— Вряд ли я знаю, что такое измена. И совсем не хочу, чтобы мой муж отправлялся на войну. Наверное, ты назовешь меня плохой женой. Все хеттские женщины чувствуют себя несчастными, если их мужья не сражаются, как подобает мужчинам.
— Насколько я помню, они представления не имеют, что для мужчины возможна какая-то иная жизнь.
— И никогда не спорят? Никогда не просят их остаться дома?
— Они не осмелятся. Такой мужчина считается трусом, посмешищем в глазах людей.
Анхесенамон закрыла лицо руками. Голос ее прозвучал приглушенно, но ясно:
— Он тоже так думает. Он сказал, что я хотела бы обращаться с ним, как с младенцем, сдувать с него пылинки, оберегать его, и так до самой смерти. Тутанхамон считает, что царь должен воевать. По его мнению, царь, который не сражается, предоставляя это своим военачальникам, вовсе не царь, а ребенок, посаженный на трон с короной и скипетром, чтобы все над ним потешались.
— Он вошел в возраст мужчины, — заметила Нофрет. — Разве ты можешь запретить ему желать того, что желают все мужчины?
— Он хочет покинуть меня. А вдруг его убьют?
Нофрет прикусила язык, чуть не ответив так, как отвечают хетты: если мужчину убивают, женщина оплакивает его. Но Анхесенамон пришлось оплакать слишком многих. Она, наконец, обрела радость и вместе с ней любовь. Если Тутанхамон погибнет, она лишится всего. И вряд ли обретет это снова.
Нет. Нельзя искушать богов отнять его.
— Не убьют. Он может идти на войну, устремляться в битву, но его люди защитят своего царя, жизнь их царства. Они не допустят, чтобы его убили.
Нофрет чувствовала в своих словах вкус правды, хотя под ней была горечь. Царь не погибнет в битве, не умрет в Азии. Где он умрет, как умрет…
Она закрыла глаза души, не желая видеть, где и как умрет царь. Чтобы успокоить госпожу, сейчас достаточно сказать то, что она хочет услышать.
— Он вернется к тебе. Положись на его войско.
Больше Анхесенамон не спорила. Возможно, ей хотелось поверить Нофрет, а может быть, она просто устала биться. Царица легла в постель одна и спала одна. Царь не пришел в ее покои, и она к нему тоже не пошла.
Холодность между ними сохранялась. Нофрет совсем это не нравилось, но она была бессильна. Можно, конечно, обратиться к царю, но что она ему скажет? Что у нее есть дар предвидения, как сказала пророчица апиру, и она увидела, что он вернется, и сообщила об этом его жене? Тутанхамон проклянет ее вмешательство. Ее госпожа должна была сама обратиться к нему, попытаться починить сломанное; но она ничего не предпринимала.
Оба были слишком горды, чтобы послушаться здравого смысла. И у обоих было на это право. Юный мужчина желал сражаться, что было в его природе. Женщина, его жена, хотела, чтобы он был в безопасности, защищал ее, занимал свое место рядом с ней, был отцом детей, которых она сможет зачать. Но если этот юный мужчина царь, а женщина — его царица, их ссора становилась государственным делом. Если царь жаждал сражаться в интересах союзника, а царица желала, чтобы он сидел дома, в безопасности, весь Египет будет страдать от последствий неверного выбора.
Они не ссорились так, как ссорятся простые люди. Их перебранки были тихими, голоса спокойными. В своем несогласии оба были очень рассудительны.
— Я помню, — говорил царь, сидя в саду с цветущими лотосами в дремотный полдень, — как про твоего отца говорили, будто он никогда не пойдет на войну, хотя и носит синюю корону — корону войны — и приказывает раскрашивать свое лицо, как лицо воина; что он боится этого, навсегда останется при своем храме и своем дворе и никогда не пойдет туда, где его жизни может что-то угрожать.
— Он не был трусом, — возразила Анхесенамон. — но бог поглощал его, не оставляя ни ума, ни духа для земных дел.
— Он ничего не предпринимал, чтобы защитить Два Царства, — настаивал царь. — Его войска делали все возможное, но без царского присутствия и без его руководства их силы уменьшались. Над нами смеются в Азии, моя госпожа. Они считают нас слабаками, слишком избалованными роскошью, чтобы защитить себя на войне.
— К войне стремятся глупцы или неразумные дети.
— Значит, я глупец или дитя, — царь поднялся со своего места. За этот год он стал еще выше ростом, похудел и загорел под солнцем и ветром. С тех пор как он родился в Фивах, прошло уже семнадцать разливов Нила. По египетскому счету, он уже стал мужчиной и не обязан был слушать своих советчиков.
Теперь в нем бушевал гнев, гнев молодого человека. Он поклонился, резко повернулся и ушел.
Ни разу с тех пор, как они были женаты, царь не покидал свою госпожу, не поцеловав или не приласкав ее. Царица была так же разгневана, как и он: на ее щеках появился легкий румянец, глаза сверкали. Если бы он поцеловал ее, она бы точно его ударила.
Тутанхамон увлекся военными искусствами: стрельбой из лука, ездой на колеснице, упражнениями с копьем и мечом. Царица же занялась искусством управлять, быть царицей и хозяйкой большого дома. Будь они хеттами, такое разделение было бы вполне обычным и правильным. Но в Египте, где царь вместе с царицей участвовали во всем, кроме войн, видеть это было огорчительно.
Посольство хеттов попало в сложное положение. Царь готовился к войне против страны Хатти, а ее посол находился и Мемфисе. Хаттуша-зити получил аудиенцию у царя, его послание было выслушано с царственной любезностью. Посол просил царя отказаться от войны, чего, конечно, тот не стал бы делать для хетта, если уж не хотел сделать для своей царицы. Слова, которыми они обменялись, были так же привычны и незначащи, как фигуры танца.
Но, как и фигуры танца, эти слова недолго задержались в памяти. Хаттуша-зити должен был вернуться в свою страну, прежде чем царские войска выступят в поход; царь ему не препятствовал и не собирался удерживать его как пленника. Так требовали понятия чести и правила ведения войны.
Нофрет простилась с братом на рассвете того дня, когда он возвращался назад в Хатти. Лупакки пропьянствовал почти всю ночь, как и остальные хетты: царь устроил для них пир — пир для достойных противников. Царица там не присутствовала, и Нофрет тоже. Анхесенамон обедала одна в своем дворце, отказавшись даже от общества придворных дам. Она рано отправилась в постель и так хорошо притворялась спящей, что Нофрет ей почти поверила.
У нее слипались глаза от недосыпа. Лупакки был утомительно жизнерадостен, на него действовали вино и радость от скорого возвращения домой из этой чужой жаркой страны. Он обнял Нофрет с радостью, быстро сменившейся хмельными слезами.
— Аринна, возвращайся со мной. Мы теперь враги Египта — и не будет бесчестным забрать тебя назад, на родину.
Да, имена обладали силой, а брат назвал ее так, как звали до того, как она попала в Египет. Но имя не могло ее заставить, оно больше не принадлежало ей. И все же прежде было именно так; и оно до сих пор являлось ее хеттской частью.
А взять имя назад, покинуть ту ее часть, которая принадлежит Египту, и снова оказаться среди своего народа? Говорить на родном языке, жить в женском доме, под накидками и вуалями, как подобает женщине, выйти замуж за воина, ткать ему боевые плащи и перевязывать раны… Вот и все, и не было и не будет никакого Египта.
Нофрет вздрогнула.
— Я привыкла жить здесь.
Лупакки отстранил ее. Внезапно он показался ей незнакомцем, совершенно чуждым в Египте человеком, с крепкими пальцами и широченными плечами. Она моргнула. Перед ней снова стоял ее брат, красивый сероглазый юноша в одежде хеттского воина, на глазах трезвеющий и явно начинающий сердиться.
— Стало быть, тебе по вкусу рабство?
— Враги поймали меня и продали в рабство, когда мне было девять лет от роду, — сказала она, отрывисто выговаривая слова. — А где были вы? Почему никто не разыскал меня, прежде чем я оказалась на невольничьем рынке в Митанни? — Она заставила себя замолчать, схватила его за край плаща и удержала, прежде чем он успел отвернуться. — Нет! Я не хочу расставаться с тобой в гневе.
— Можно вообще не расставаться, — промолвил Лупакки.
— Я не могу уехать с тобой, — вздохнула она. — Я служу царице. Было бы бесчестно оставить ее.
Лупакки открыл было рот, может быть, для того, чтобы напомнить ей, что царица — враг Хатти. Но промолчал. Честь была великой вещью для хеттов. У Нофрет ее, должно быть, слишком много, иначе она позволила бы увезти себя, не думая о том, что ее ждет.
Ему предстояло вернуться к своим обязанностям: позади колесницы посла уже строились воины, ожидая, когда Хаттуша-зити выйдет из гостевого дома. Лупакки медлил, а она все удерживала его за плащ. Глаза у него горели, как бывало всегда, когда следовало бы заплакать. Он смотрел неподвижными, широко открытыми глазами на ее лицо.
— Храни тебя бог, сестра, — сказал он коротко.
— И тебя, брат.
Лупакки рванулся как раз в тот момент, когда она отпустила его, и больше не оглядывался. Нофрет застыла на месте, в тени колоннады, пока не встало солнце и посольство Хатти не вышло из ворот, отправляясь в долгий путь домой.
36
— Выходи за меня, — сказал Сети.
От неожиданности Нофрет резко повернулась. Она закладывала складки на платьях госпожи и помещала их под прессы, заброшенные остальными служанками, которые резвились в бассейне с лотосами вместе с царицей. У Нофрет не было настроения на подобные забавы.
Не была она и восторге и от того, что Сети вернул ее к действительности. Он попытался схватить ее и повалить на кипу белья, но она удержалась на ногах. Тогда он притиснул ее к стене, осыпая поцелуями и бормоча:
— Выходи за меня. Я ухожу на войну, по приказу царя. Я не погибну в бою, если ты будешь ждать меня. Выходи за меня, моя красавица.
— Я не красавица, — отрезала Нофрет, — и не собираюсь выходить за тебя. Пусти.
Но Сети только крепче сжал ее, и его поцелуи стали еще более пылкими.
— Такой ядовитый язычок, а на вкус такой сладкий. Я буду жить воспоминаниями о тебе, пока буду воевать в Азии.
— Ты можешь вспоминать меня и так.
— Я хочу вспоминать свою жену. — Он запустил пальцы в ее волосы, которые она так тщательно причесала утром. Теперь косы растрепались, и выбившиеся пряди спадали по плечам и по спине. Сети зарылся в них лицом.
— Скажи мне, — заговорила она напряженно и холодно, — ты действительно этого хочешь не потому, что люди опасаются, как бы я не оказалась предательницей? В конце концов, я же враг. Я родом из Хатти.
Сети отшатнулся, не зная, смеяться или сердиться.
— Никто так не думает! Ты принадлежишь Египту. Страна Хатти давно уже потеряла тебя.
— Тогда почему ты так настойчив? Потому, что египетской жене можно доверять больше, чем хеттской рабыне?
— Потому, что я люблю тебя.
Нофрет вывернулась из его рук, не пожалев волос. Боль была слабее, чем острота нелепого раздражения, которое она чувствовала, глядя на него. Сети был красив как женщина, красивее ее, и его сердце полностью принадлежало ей, но она не хотела его взять.
Первый раз она отдалась ему, поскольку он просто оказался рядом. Потом позволила ему продолжать, потому что он очень хотел этого и получал много удовольствия. Нофрет не находила в себе любви, связывающей мужчину и женщину в Египте. Может быть, она какая-то неправильная женщина? Или хеттские женщины вообще другие?
Как бы то ни было, Нофрет не желала выходить за него замуж. Ей даже не особенно хотелось пускать его в свою постель, по крайней мере, сейчас, когда у нее столько дел. Она слишком хорошо овладела искусством завоевывать мужчин. Теперь придется научиться, как отделаться хотя бы от одного.
Резкие слова и ругань, которые отлично помогли бы, если иметь дело с другом или даже с врагом, похоже, никак не влияли на влюбленного. Это только добавило ему уверенности, что она нуждается в его защите — и даже хочет ее.
Пришлось буквально выставить Сети и захлопнуть дверь у него перед носом. Он стучался очень долго, прежде чем ему это наскучило. Нофрет оставалась одна, складывая и перекладывая каждое платье, а потом вынула простыни, разгладила и сложила каждую и снова убрала их в ящик из кедра. Теплый аромат дерева действовал успокаивающе. Нофрет вдыхала его, пока Сети не ушел, и еще долго спустя, пока он не заполнил ее целиком, не оставив места ни для чего иного.
Мужчины уходили на войну. Женщины оставались дома, как все женщины во все времена. Прощание Анхесенамон с мужем было принародным и безупречным. Прощание Нофрет с ее стражником было кратким и настолько прохладным, насколько это было в ее силах. Сети рыдал, уткнувшись в ее волосы, снова и снова умоляя, связать с ним жизнь. Она подтолкнула его к отряду: к другим мужчинам, рыдающим на плечах своих женщин, и к тем, кто стоял в одиночестве, и к солдатам, слишком стремящимся в бой, чтобы обращать внимание на матерей, сестер и жен, оплакивающих разлуку.
Они строились в ряды, сначала неуверенно и медленно, но эта неразбериха внезапно кончилась. Только что перед ней была беспорядочная толпа людей, копей, колесниц, вьючных мулов и повозок. В следующее мгновение это уже была армия на марше.
Во главе ее ехал царь на своей колеснице, его доспехи сверкали золотом, шлем украшали золотые перья. Тутанхамон был прекрасен, как бог войны. Он держал поводья коней собственными руками и сам правил ими. За спиной у него висел лук. Оперение стрел было золотым. Копье было закреплено в подставке, на боку висел меч, а вслед за ним шагала его армия.
Народ провожал царя приветственными криками. Его царица, стоя прямо и неподвижно под золотым балдахином, смотрела, как войско выходит из дворцовых ворот. Она не сказала ни единого слова: ни царю перед уходом, ни тем, кто стоял рядом с ней. Ее лицо было совершенно спокойно, а руки сжаты в кулаки.
Царь ушел на войну, но Египет сохранил свою древнюю суть, вовсе не пострадавшую от его отсутствия. Народ гордился им, довольный, что снова имеет царя-воина. Его совет, оставшийся дома, держал свои опасения при себе, не произнося вслух того, что было у всех на уме: если царь погибнет в битвах, наследника у него нет. Не было живого сына его линии. Царица не носила ребенка: в новолуние, через двадцать дней после отбытия царя из Мемфиса, у нее начались месячные. Но она носила в себе царское право, как и ее тетя Мутноджме и госпожа Теи, ее родня по господину Аи. Однако ни мужчины, ни мальчика, готового занять место царя, не было.
Господин Аи отправился вместе с ним. Нофрет не хватало его присутствия и его силы. Анхесенамон, по-видимому, тоже. Она снова стала молчаливой, но правила так же умело, как привыкла еще с детства; отсутствие царя, похоже, не слишком сказывалось на ее делах.
Народ любил свою царицу и называл госпожой-хозяйкой лотосов, потому что она всегда держала в руке цветок или вплетала в прическу. Начало этому обычаю положил царь, вскоре после того, как они стали настоящими мужем и женой, увенчав ее цветами на глазах придворных и горожан. Анхесенамон продолжала носить цветы даже после их ссоры и после его отъезда, то ли просто по привычке, то ли сохраняя надежду или защищаясь от возможных бед. Ей нравились сладкий запах и прохладная мягкость лепестков.
Цветком Нофрет, если бы он у нее был, должен быть цветущий куст ежевики, которая растет в стране Хатти. Она не стыдилась того, что не смогла влюбиться в Сети, ее лишь несколько беспокоила мысль о том, что она вообще не способна любить так, как любят женщины Египта. Она никого не любила. Ее братья жили в стране Хатти; она и не знала их, кроме Лупакки, который ушел, как велел ему долг, а она осталась. Царица была ее госпожой. Их отношения имели мало общего с любовью или даже симпатией. Все остальные были посторонними.
Иногда она вспоминала о Леа. Из Фив не приходило никаких вестей, она даже не знала, перебралась ли Леа туда. О ее родных Нофрет вовсе не хотела думать. Они живут, судя по всему, где-то в Синае, а с ними и умерший человек, прославляющий своего Бога среди пустыни. В память о них остались только имена.
Нофрет казалось, что внутри себя она становится все меньше. Это было странное чувство. Сети давал удовольствие телу и развлекал ум. Одним своим присутствием он, казалось, помогал ей удержать все души на месте. Однако любой другой мужчина и любая женщина, ставшие ей друзьями, могли бы сделать это.
Но вокруг не было никого подходящего. Служанки были глупы. Во дворце и в городе оставалось мало молодых мужчин, и они бесконечно ссорились из-за пустяков, a иногда дело доходило даже до потасовок из-за права на внимание какого-нибудь толстого писца или бритого жреца. Придворные дамы были немногим лучше: те, у кого были хоть какие-то мозги, разъехались управлять своими поместьями в отсутствие мужей. Анхесенамон делала почти то же самое, живя в Мемфисе, который был царской столицей.
Война в Азии шла успешно. Ассирийцы без помех перешли Евфрат и осадили хеттского правителя в его крепости. Египтяне дошли от своих границ до Кадеша и осадили город. Гонцы сообщали, что победы ждать уже недолго. Страну Хатти взяли врасплох.
— Хаттуша-зити слишком медленно возвращается к своему царю, — заметила Анхесенамон, выслушав новости. — Интересно, жив ли он еще? Может быть, наши войска захватили его прежде, чем он успел пересечь границу?
— Что бы с ним ни случилось, — ответила госпожа Теи, которая в отсутствие господина Аи состояла при царице, — ясно, что боги благоволят к нам.
— Хорошо бы, так было всегда, — вздохнула Анхесенамон.
— Все говорили, что Кадеш падет, что Ассирия захватит и сможет удержать провинции, которые страна Хатти прежде отвоевала у Митанни; и тогда будет завоевана сама страна Хатти. На словах все выглядело простым и быстрым. Однако Нофрет случалось слышать отцовские рассказы об изнурительных походах и кровавых битвах, и она полагала, что дела обстоят не так уж блестяще.
Страна Хатти была захвачена врасплох, но ее царь был великим царем, истинным львом в сражении. Говорили, что он пожирает поверженных врагов и впитал кровь войны вместе с молоком матери. Царь не станет отсиживаться в своем дворце, хотя Ашур и Египет вместе идут на него. Он соберет все свои силы — несомненно, уже собрал — и ринется в бой.
Египет не разбирался в таких вещах. Сейчас здесь было царство женщин, стариков и младенцев, далеких от военных дела. Пока они праздновали победу, которой еще не было, и неизвестно, будет ли вообще, Нофрет скрылась в убежище своих обязанностей. Так ей было спокойней — на случай, если кто-то вдруг вспомнит, что она родом из страны Хатти и может оказаться врагом.
Ее святилищем был сад, заброшенный сад, место прогулок древних цариц, находившийся по соседству с двором приемов. Она все чаще и чаще удалялась туда, когда хотела отдохнуть. Нофрет успокаивали его пустота, истертые каменные дорожки и заросли сорняков на месте бывших клумб. Она любила сидеть в тени дерева на бортике фонтана и смотреть, как рыбки скользят среди лилий. В этом был мир, и благословенная пустота воцарялась в душе.
В один прекрасный день, когда она задержалась там гораздо дольше, чем следовало, даже вздремнула немного в тяжелой мемфисской жаре в сезон разлива Нила, в этот уголок, который она уже привыкла считать своим, забрел незнакомец. Сначала послышались шаги, шорох босых мозолистых ног по каменным плитам; затем в колоннаде промелькнула тень, слишком большая, чтобы принадлежать кому-либо из дворцовых слуг или служанок. К тому моменту, когда тень обрела плоть, Нофрет уже вскочила на ноги, слишком рассерженная, чтобы бояться.
В самом деле, это был незнакомец — чужестранец, дикарь из пустыни, закутанный в пропыленные одежды, с пыльной лохматой бородой, с нильской грязью, приставшей к босым ногам. Даже на улицах Мемфиса, где можно было встретить человека из любого края света, он вряд ли бы представлял собой обычное зрелище. В глубине же дворцовых построек, за столькими охраняемыми воротами, его присутствие было вовсе возмутительным.
Нофрет схватила первое, что подвернулось под руку, — кусок, отколовшийся от каменной плиты, и прикинула его на вес. Он был достаточно тяжел, но держать его было неудобно. Хотя, если незнакомец вздумает наброситься на нее, она вполне сможет проломить ему голову.
Но он, видимо, и в мыслях не держал ничего подобного, лишь сделал пару шагов по двору, не сводя с нее глаз. Это не был хетт: мужчина был высок и широкоплеч, но скорее изящен, чем по-бычьи могуч, и к тому же слишком темен лицом, бородат и одет в платье жителя пустынь.
Человек произнес ее имя, ее теперешнее имя, а не то, каким она звалась в Хатти:
— Нофрет!
Она продолжала сжимать в руке кусок камня.
— Кто ты такой? Откуда ты знаешь, кто я?
Он поднял брови. Выражение его лица, насколько она могла разобрать в гуще бороды, было обиженным, но глаза сияли.
— Значит, я так сильно изменился? А ты нет. Язычок все такой же острый.
В сознании Нофрет очень медленно забрезжило имя. Голос был новый, низкий и глубокий, выговор чистый, как у египетских вельмож. Но лицо, осанка, выражение заставили припомнить одного полувзрослого мальчика…
— Иоханан… — Камень выпал из ее пальцев. Нофрет двинулась с места, не заметив, как сделала первый шаг — пошла, потом побежала, бросилась к нему.
Он даже не покачнулся, когда она всем весом повисла на нем, обнял ее и закружил со смехом.
Оба перестали смеяться в одно и то же мгновение, задыхаясь и икая. Нофрет уже совсем позабыла о своем гневе, даже его остатки улетучились — он вытряс их из нее, все до последнего.
Держа ее за руки, Иоханан рухнул на клочок дерна под деревом. Они рассматривали друг друга пристально, без малейшего смущения, отмечая каждую черту и каждую перемену. Иоханан стал еще выше ростом и шире в плечах и уже совсем не походил на жеребенка. Он был крупным мужчиной, но грациозным, как пантера.
Нофрет, повинуясь внезапному порыву, обмакнула край его одежды в воду и обтерла ему лицо. Он сморщился, но терпеливо ждал, пока она сотрет пыль с его щек. Мокрая борода завилась колечками, и она увидела очертания сильного подбородка и подвижные губы. У него была чистая смуглая кожа, больше оливковая, чем красновато-коричневая, как у египтян, когда они много бывают на солнце. Там, где волосы и накидка затеняли ее, кожа была почти такой же светлой, как у Нофрет.
Когда его лицо стало чистым, она вымыла ему руки и ноги. Ступни у него были изящные, руки с длинными пальцами, но сильные, в мозолях от тяжелой работы. Некоторые мозоли могли быть и от оружия: от тетивы лука и рукояти меча.
Сейчас оружия у него не было, кроме небольшого ножа у пояса, полускрытого в складках одежды.
— Агарон с тобой? — спросила она. — А как?.. — Но имя она не смогла бы произнести, даже если бы и знала его.
Иоханан покачал головой.
— Он остался там, в Синае. Я пришел навестить бабушку.
— Ее здесь нет, — сказала Нофрет, неожиданно взволновавшись. — Она в Фивах.
— Я знаю. — Он был доволен и ничуть не старался этого скрыть. — А Мемфис как раз по пути в Фивы. Ты против? Я зря остановился здесь?
— Нет! — Нофрет обнаружила, что кричит, и понизила голос: — Как ты сюда пробрался? У ворот повсюду стража.
— Перелез через стену. — Она бросила на него свирепый взгляд, возмущенная таким легкомыслием. Иоханан сделал виноватое лицо, развел руками. — Правда, перелез. Тут есть одно место, где это достаточно просто сделать, если только охранник не взглянет в твою сторону, когда карабкаешься по стене. Там везде выемки, чтобы держаться. Готов спорить, таким путем многие молодцы из города ходят в гости к хорошеньким служанкам.
— Лучше бы не ходили, — заметила Нофрет. — Моя госпожа прикажет усилить охрану на стенах, если во дворец так легко попасть.
— Но это же дружественный визит! Всякий, пришедший с оружием, был бы схвачен на первом же дворе. Я пришел с миром и с большими предосторожностями.
— А как же ты узнал, где меня найти?
— Я спросил у служанки. Она сказала, что мне нужно бы искупаться, и предложила свою помощь.
— Они всегда тебе это предлагают, — ядовито сказала Нофрет и сморщила нос. — Тебе нужно получше вымыться. Пошли.
Иоханан последовал за ней не споря. Может быть, он улыбался, но из-за бороды было не разобрать.
Мыться ему помогала не Нофрет и не одна из заботливых служанок, а мужчина, один из слуг царя, оставшихся в Мемфисе. Иоханан вышел, сияя чистотой, с льняным полотенцем на бедрах, борода была красиво подстрижена, а волосы подвязаны лентой. Его одежда, как сказал главный банщик с осторожным неодобрением, будет приведена в пристойный вид и возвращена так скоро, как только удастся.
Незаметно, чтобы он сильно скучал по ней. От пояса до колен он был прикрыт, и для скромности апиру этого было достаточно. Остального он не стыдился, да и нечего было стыдиться.
Пока он мылся, Нофрет приказала накрыть для него стол в одной из небольших комнат для отдыха и принести жареную утку, несколько сортов хлеба и сыра, фрукты и кувшин медового вина. Иоханан радостно удивился.
— Разве я царь, чтобы так угощать меня?
— Ты старый друг, а я главная служанка царицы. Ешь давай. Я не хочу, чтобы повар обиделся.
— Конечно, повара обижать нельзя.
Его не нужно было особенно уговаривать. Он ел, как сильно проголодавшийся человек — видно, ему пришлось некоторое время поголодать: Нофрет очень не понравились его выступающие ребра. Одни боги знали, как ему жилось в пустыне и на пути в Египет.
— Ты пришел один? — спросила Нофрет, когда он, уже утолив первый голод, потягивал густое темное вино.
Иоханан отставил чашку и кивнул.
— Мне ничто не грозило. Разбойники считают, что одинокий путник либо сумасшедший, либо без гроша в кармане, и не связываются с ним.
— У тебя ничего нет? Никаких вещей? Даже оружия?
— Кое-что есть, — признался он, — в доме, где я остановился, в городе. Лук, стрелы для охоты. Запасная рубашка. Немного ячменной муки.
— Бедновато. А ведь вы богато жили, когда были строителями гробниц. — У нее перехватило дыхание.
— Иоханан! ты же был на службе у царя. Люди могут подумать, что ты просто сбежал. Если кто-то узнает…
— Ничего страшного, — сказал он с величественной уверенностью. — В конце концов, все знают меня только как твоего друга, который приходил к тебе в гости в Ахетатоне. Теперь я навестил тебя в Мемфисе, что здесь особенного?
Нофрет прикусила язык. Царица знает правду, если какой-нибудь усердный придворный доложит ей, она захочет говорить с ним. В этом можно не сомневаться.
Иоханан съел все и откинулся на спинку кресла, потягивая вино, довольный и улыбающийся, но, услышав шаги, поднял глаза. Он вскочил прежде, чем Нофрет обернулась, чтобы посмотреть, кто вошел, и уже кланялся так низко, как только может кланяться мужчина.
Царица собственными руками, без особых церемоний подняла его.
— Оставь это! Рассказывай. Как он? Жив ли он?
Иоханан соображал быстро: лишь минутная растерянность промелькнула в его взгляде. Он стоял, возвышаясь над ней, как башня, что обоим не понравилось. Тогда он опустился на колено, царица не возражала, поскольку теперь их лица оказались примерно на одном уровне и можно было разговаривать.
— Он жив и здоров, госпожа, и часто вспоминает о тебе в своих молитвах.
Царица застыла.
— Он знает… Он обо всем знает.
— Он понимает, что царица делает то, что должна делать.
— Значит, он изменился.
— Да… — Иоханан помолчал. Когда он заговорил снова, его голос звучал спокойно и слегка отстраненно, как будто он вспоминал что-то из далекого прошлого.
— Черная Земля, где живете вы, мягкая, добрая. Пустыня, Красная Земля, другая: мрачнее, жестче, сильнее влияет на душу. Ваши боги — боги Черной Земли. В Красной Земле живут наши демоны и ваши умершие. — Он опять надолго замолк, потом продолжил: — Пустыня — кузница душ. Человек, который приходит туда по доброй воле и живет там, узнает силу солнца, закаляется и становится сильнее.
— А умерший царь? Что происходит с ним?
— Что происходит с ним… Иоханан задумался, и царица ждала в напряженном молчании. — Он становится другим. Новым. И учится более ясно видеть. И еще, — добавил он, бросив быстрый взгляд на ее лицо, — учится прощать то, что прежде счел бы предательством.
— Да, я предала все, ради чего он жил.
— Нет. Ты служила тому, что было в нем сильнее всего. Ты служила государству.
— Я поклонялась Амону. Я и сейчас поклоняюсь ему. Даже мое имя…
— Он это знает и все понимает.
— Как он может понять? Отец не признает никаких богов, кроме одного. Я отвернулась от этого единственного, чтобы поклоняться многим — ложным, по его мнению.
— Но таким образом ты сохранила Два Царства Египта. Это ему понятно. Он никогда не смог бы сделать этого. Твой отец понимает, что ты исполняешь свои обязанности.
— Какой же слабой он должен меня считать, — вздохнула Анхесенамон и покачнулась.
Иоханан поддержал ее и усадил на стул. Царица казалась маленькой и хрупкой, как ребенок, слишком отчаявшийся, чтобы плакать. Он опустился перед ней на колени и взял ее руки в свои.
— Госпожа, никогда не думай, что он забыл тебя или презирает тебя за твою отвагу. Нет, не спорь! Нелегко было решиться подчиниться египетским богам, чтобы Египет снова обрел свою силу.
Она уставилась на него, словно разыскивая в его лице что-то давно потерянное.
— Я не понимаю тебя. Или его.
— Потому что ты не жила в пустыне. Твоя душа вязнет в плодородной почве Черной Земли. Красная Земля требует иного духа, иного взгляда на мир.
— Странного взгляда, — заметила Анхесенамон. — Который видит одного лишь бога, но прощает женщину, которая от него отказалась.
— Не только женщину — царицу.
Она склонила голову, а потом резко подняла, и глаза ее блестели, может быть, от слез.
— Но с ним все в порядке? Он… Здоров?
— Вполне. Он поднимается на гору, чтобы поклоняться своему Богу. Некоторые наши люди ходят с ним, но по более пологим склонам. Его бог хорошо подходит для пустыни: суровый бог, но справедливый. Он многого требует от тех, кто поклоняется ему.
— А чего требует бог от моего отца?
— Всего. Всего, что в нем есть.
Анхесенамон вздохнула.
— Он отказался от всего, когда умер для Египта. Что же осталось?
— Тело, — ответил Иоханан. — Душа. Дыхание. Дух.
— Но не имя.
— Нет. Имя ему пришлось оставить в прошлом. Наш народ называет его пророком, голосом бога в пустыне.
— Значит, он стал ничем?
— Нет. Наш народ дал ему имя. Его называют египтянином — человеком из Двух Царств. У нас есть для этого слово: Моше.
— Мо-ше? — Анхесенамон нахмурилась. — Что это?
— Мос, — ответил Иоханан. — У многих египтян это часть имени, смотри: Ахмос, Рамос, Птамос.
— Это просто значит сын. Это не целое, не имя.
— Для него имя. Он взял его себе. Стал Моше-пророком и поклоняется своему богу в Синае.
— Мы не знали… — Анхесенамон умолкла. — Нет. Кажется кто-то говорил мне… Или я где-то слышала…
— Пророк в пустыне, — вмешалась Нофрет. — Свежая сплетня для свадеб и рождений. Как пустынные разбойники завели себе нового сумасшедшего предводителя, или что-то вроде того.
— При царском дворе такого не рассказывают, произнесла Анхесенамон. — И не станут, конечно. Двору интересны только войны и цари. Что им до слухов из пустыни, если это никак не задевает их достоинство?
— Тем лучше для тебя, — заметил Иоханан, — и для него. Если бы узнали, кто он такой…
— Этого никогда не узнают, — сказала царица с неожиданной яростью. — Я прикажу убить тебя, если ты скажешь хоть слово. Понятно?
— Понятно, — ответил он, ничуть не смущаясь. — Тебе не стоит меня опасаться. Я иду в Фивы навестить бабушку. Она уже старая и не такая сильная, как прежде. Нужно, чтобы внук был рядом с ней.
— Ты просишь моего разрешения на это?
Он взглянул ей в лицо.
— Нет, великая госпожа. Если только тебе не доставит удовольствия дать его.
Еще никто не разговаривал с ней так — спокойно, дерзко и без малейшего страха. Он поступит по велению долга. И она тут ни при чем.
Это так поразило царицу, что она даже не рассердилась и сказала:
— Если я дам тебе охранную грамоту для путешествия по всем Двум Царствам, что ты с ней сделаешь?
— Буду беречь ее, великая госпожа.
— Ты так же невыносим, как мой отец, — проговорила она без всякого раздражения, даже с удовлетворением. — Ничего удивительного, что он процветает среди вас. Вы все такие же.
— Конечно, мы же, в конце концов, родня.
Анхесенамон мимолетно коснулась ладонью его щеки, так же мгновенно улыбнулась и встала.
— Когда соберешься в путь, мой писец приготовит для тебя грамоту. Надежно храни ее. Она защитит тебя, где бы ты ни оказался. А без нее…
— А без нее я просто беглец. — Он ухмыльнулся, глядя на Нофрет, и та тоже ответила ему ухмылкой. — Я понимаю, великая госпожа. Ты так милостива ко мне.
— Я даю тебе не больше, чем ты заслуживаешь. — Она склонила перед ним голову. Это была высочайшая почесть, какую могла оказать царица работнику-апиру. — Будь здоров. Передай привет своей бабушке.
— Спасибо, госпожа, — сказал Иоханан, низко кланяясь. Когда он выпрямился, царица уже исчезла.
37
Иоханан покинул Мемфис утром, с охранным свидетельством царицы, спрятанным в одежде. Нофрет забрала у писца табличку и отдала ему, когда он собирался покинуть дворец. Но он все медлил, и девушка подумала, что ее гость собирается спать в той же комнате, где обедал. В конце концов Иоханан все-таки поднялся с места.
Одежда уже ждала его, чистая и починенная. Он оделся и сразу же изменился: стал и меньше, и больше похож на чужестранца. Широкие плечи и узкие бедра были уже не так заметны, но черты лица, резкие, словно у сокола пустыни, еще более обострились. Иоханан колебался, как будто хотел что-то сказать, но не знал, с чего начать. У Нофрет тоже не было слов. Она с радостью избавилась от Сети. А этот мужчина, чужестранец, друг ее детства, никогда не прикасался к ней так, как мужчина прикасается к женщине и никогда не осмелился на такую вольность…
Кроме одного момента… Тогда он тоже уходил, на годы и, возможно, навсегда. В ней вскипела злость, бросила ее вперед, заставила обнять Иоханана и наклонить его голову так, что их лица оказались на одном уровне. Странно целовать мужчину с бородой; не то чтобы приятно или неприятно, но как-то по-другому.
Нофрет отшатнулась первой. Он взглянул на нее, глаза его были темны и мягки.
— У тебя есть любовник?
У нее перехватило дыхание.
— Как ты смеешь…
— Я рад. Я так боялся за тебя, что ты одинока — ты ведь такая гордая.
— Но у тебя же есть жена. — Она не знала и не чувствовала это, просто хотела уязвить его.
Удар не попал в цель.
— Нет. У меня нет ни жены, ни любовницы.
— Не может быть. Ты же взрослый мужчина. Каждый мужчина женится, чтобы иметь сыновей.
— В Синае нет никого, — сказал он, — кто бы заставил петь мое сердце.
Нофрет сверкнула глазами.
— При чем здесь это? Жена — это удобство. Она печет тебе хлеб, ткет тебе одежду, даст тебе сыновей. Что еще нужно мужчине?
— Думаю, ничего, — сказал Иоханан и провел кончиком пальца по ее губам. Губы у нее были горячими, а его палец прохладным. — Пусть бог хранит тебя.
Он ушел, прежде чем Нофрет сдвинулась с места. До утра она не стала разыскивать его. Когда же ее посланец нашел дом, где он останавливался, Иоханан уже давно шагал по дороге в Фивы.
Нофрет не понимала, почему так сердится. Она любила его не больше, чем Сети. Меньше. Сети был ее любовником. Иоханан всегда был только другом, а теперь не был даже им. Он посторонний, человек из дикого племени, и больше никто.
Насколько было известно в Египте, война в Азии сопровождалась сплошным успехом, чередой побед, и царь сметал своих противников, куда бы ни шел. Война в Египте не могла быть другой, и его царь в любом случае не мог потерпеть неудачу. Ведь он был богом и не совершал промахов.
Но к царице приходили иные известия, из которых Нофрет, дочь воина, могла уловить правду. Царь не завоевал ничего, кроме возможности вернуться со своими войсками назад более или менее целыми и невредимыми. Страна Хатти поднялась против него и нанесла удар со всей силой, на какую была способна.
Еще хуже и обидней было то, что Суппилулиума даже не пошел сам разбираться с совместными силами Египта и Ашура, слишком занятый делами, гораздо более важными для его империи, далеко на диком севере. Он послал против врагов две армии. Одна быстро отогнала силы Ашура за Евфрат, на его собственную территорию. Египетское войско, услышав об этом, прекратило осаду Кадеша и отступило — неважно, было ли это глупо или нет, трусливо или мудро. Хетты преследовали их и впервые в истории вторглись б египетские земли в Азии, захватили город Амки, взяли египетских пленных и отправили их в Хаттушаш.
Это было большим позором и настоящим поражением, о чем за пределами собственных покоев царицы не говорилось ни слова. Писцы сделали записи о победе. Народ приветствовал войска радостными криками, бросал им под ноги цветы и воспевал их триумф на улицах каждого города.
Это была ложь, но красивая. Казалось, сам царь поверил в нее. Он въехал в Мемфис на золотой колеснице, сияя золотыми доспехами, словно залитый солнечным светом. Тутанхамон еще немного вырос, раздался в плечах и был теперь уже совсем мужчиной.
Его царица ожидала его там же, где стояла при расставании, — во дворе у ворот, под золотым балдахином, окруженная придворными дамами. Она нарядилась с огромным усердием, чего Нофрет за ней прежде не знала. Ее платье было безупречной чистоты и тщательно уложено в складочки. Украшения она выбрала самые лучшие, словно доспехи из золота и лазурита. Краски на лице были наложены совершеннее некуда. Парик, увенчанный короной в форме змеи, спускался до плеч, все косички на нем были такими же ровными, как складки на платье.
Анхесенамон была прекрасна, как изображение богини, и так же неподвижна. Она сидела на позолоченном троне; маленькая нубийка обмахивала ее опахалом из перьев страуса, потому что даже в тени воздух был тяжел от жары.
По приветственным крикам толпы, становившимся все громче, все слышали, как приближается царь.
Наконец стали различимы стук колес и топот ног шагающего войска. Двор с лесом колонн сохранял мертвое спокойствие за высокими стенами, люди в нем были так же неподвижны, как и царица.
Царь ворвался, словно лев в стадо газелей. Служанки с визгом разбежались. Он остановил своих коней, заставив их подняться перед царицей на дыбы, соскочил с колесницы и бросился к ней, раскинув руки для объятия. Она рванулась к нему навстречу, забыв трон, скипетр и царственное достоинство, и когда он подхватил ее на руки, ее безупречное платье было безнадежно измято. Оба смеялись, она сквозь слезы, все было прощено и забыто — осталась только радость снова видеть друг друга.
У царя появилось несколько мелких ран: царапина от стрелы, след от скользнувшего меча. Царица уделила им массу внимания. Она собственными руками вымыла его, переодела в легкую одежду и повела в зал, где все было готово для пира. Супруги шли рука об руку, как ходили до ссоры, и очень медленно. Если бы не царские обязанности, они бы пренебрегли пиром и прямиком отправились в спальню. Но такой роскоши царю и царице не дано.
Это был великолепный пир, подавали блюдо за блюдом, даже целого быка, и по гусю каждому гостю. На столах громоздились горы пирогов и фруктов, к каждому блюду подавали разные вина. Придворные — и те, кто оставался дома, и те, кто ходил на войну, — пировали с большим аппетитом. Казалось, все, как и царь, убедили себя, что празднуют победу. Возвратившиеся воины рассказывали истории о побежденных врагах, богатых трофеях и захваченных городах. Все это было ложью. Огромной ложью, передаваемой из уст в уста, как будто повторение могло превратить ее в правду.
Несомненно, в Хатти тоже праздновали победу, рассказывая о разгроме Ашура и могучего Египта. Там истории были поправдивей, но сильно преувеличенные; количество захваченных пленных увеличивали на сотни, убитых — на тысячи, а добычу описывали такой, какой никогда не бывало ни у одного, даже самого богатого царя.
Ложь, как и кровь, — неотъемлемая часть войны. Правда о войне совсем непривлекательна — кровь, боль и внезапные смерти. Но с ложью она выглядела чудесно.
Когда Нофрет пришла в свою комнату, слегка пьяная и готовая отвечать на нетерпеливые ласки Сети поцелуями, его там не было. Она никогда не вышла бы за него замуж, но ей хотелось, чтобы он продолжал бывать в ее постели. Сети был нужен именно для этого. Его тепло, близость, удовольствие, которое он давал ей…
Но Сети не было и в помине, не пришел он и позже, спотыкаясь и благоухая вином. Нофрет спала одна, и в египетскую жаркую ночь ей было холодно, и даже во сне она злилась. Сон был не о Сети. Мужчина из ее снов носил иное имя, и лицо у него было другим: с орлиным носом, с черной бородой, обожженное солнцем и ветром. Он делал с ней то же, что и Сети. Но Сети не было ни наяву, ни во сне.
Нофрет проснулась полная решимости выбросить его из головы, если он так откровенно забыл ее. Конечно, он нашел себе другую женщину, готовую выйти за него замуж. Но она не унизится до того, чтобы идти разыскивать его. Покинутая женщина может стать только посмешищем, если будет повсюду ходить в поисках своего любовника.
Нофрет выдерживала характер ровно полдня. К этому времени стало ясно, что госпоже она совсем не требуется — та заперлась с царем и появится, как сказал, подмигнув, стражник у дверей, не раньше, чем его величество соизволит разрешить ей идти, все дела были переделаны, и служанки отпущены отдыхать.
Сначала Нофрет решила отдохнуть в своей комнате, но потом передумала и собралась пойти в сад, так часто служивший ее уединению. Но теперь там все было окрашено воспоминаниями о Иоханане. После его ухода она побывала там однажды и не могла думать ни о чем, кроме прикосновения его руки и звука голоса.
Она повернула в сторону караульного помещения. Войти и подвергнуться ухаживаниям досужих вояк было ниже ее достоинства. Но можно было подойти к человеку, который сидел у дверей, чистил свой шлем и зевал во весь рот, хотя уже миновал полдень. Она небрежно толкнет его ногой, если он недостаточно быстро посмотрит вверх, а когда он поднимет покрасневшие от вина глаза, спросит:
— Могу ли я поговорить со стражником Сети?
Мужчина смотрел хмуро, как будто ее голос был слишком громким или резким для его ушей, а свет — чересчур ярок для его глаз, видевших так много света ламп и так часто глядевших на дно винной чаши. Но казалось, он знает ее, и поэтому вздрогнул, что неудивительно; он в неподобающем виде, а она так близка к царице.
— Госпожа, — промолвил он. — Госпожа… я не…
— Ты что здесь, посторонний? Ты не знаешь Сети?
— Птамос, — раздался голос изнутри, — в чем дело?
Человек со шлемом с облегчением повернулся к прихрамывающему пожилому человеку в шрамах.
— Она ищет Сети.
Пришедший смерил Нофрет взглядом. В его взгляде не было никакой похотливости, но мелькнуло что-то странное, непонятное, какая-то напряженность, не относившаяся к ее красоте или отсутствию таковой.
— Ах, вот это кто, — он слегка кивнул, — служанка царицы. Мы знаем тебя, госпожа. Будь благополучна.
— Я ищу, — сказала она терпеливо и осторожно, — стражника, который ушел с войском. Его имя Сети.
— У нас было несколько человек с таким именем, — ответил старший. Одет он был просто, но возраст и манера держаться выдавали в нем командира. — Однако, — добавил он, помолчав, — мы знаем, который твой. Он ведь собирался жениться на тебе?
— Нет, — возразила Нофрет и поспешила объяснить: — Он-то собирался. Но у меня не было такого намерения.
Мужчины обменялись взглядами. У Нофрет похолодела спина.
— В чем дело? Он бежал с поста? Опозорил себя в сражении?
— Нет, конечно, — сказал Птамос, как будто даже с обидой — Он дрался не хуже любого солдата из Двух Царств. Но…
— Но он погиб, — произнес командир, коротко и резко. — Убит при осаде Кадеша. Камень, брошенный со стены, попал прямо в него. Он скончался на месте. Его тело отнесли матери в город. Мы неправильно сделали? Надо было принести его тебе?
— Нет. — Голос Нофрет показался ей самой слабым и далеким. — Нет, вы поступили правильно. Я не была его женой. Вы не знали, не могли знать…
— Мы знали, — Птамос старался говорить мягче, — что он проводит ночи с одной из служанок царицы. Он был скромным человеком и никогда не хвастался, даже за пивом. Когда мы рассказывали о своих женщинах, он только улыбался.
У Нофрет сжалось горло, глаза были сухи и горели.
— Спасибо. Спасибо вам. — Она повернулась, чтобы уйти.
Один из них, судя по низкому голосу, командир, сказал.
— Погоди. Нам очень жаль…
Конечно, им жаль. Нофрет пошла, не быстро, но и не медленно, не мешкая, но и не торопясь. Они не пытались догнать ее. Мужчины никогда не знают, что делать или говорить, если женщина поступает странно.
Нофрет была очень спокойна, не сердилась, ей не хотелось плакать. Наверное, если бы она любила этого человека и хотела выйти за него замуж, все было бы иначе. Но она проводила с ним ночи, не более того, и даже не знала, что он умер.
— Конечно, — обратилась она к изображению царя на стене, — если бы я его любила, то знала бы, разве не так?
Лицо в каменном молчании смотрело на нее. Он был мертвый — такой же мертвый, как Сети. Что он мог ей сказать?
Дворцовый сад был полон присутствием другого мужчины. Стена, где она впервые встретилась с Сети, находилась слишком далеко, и там теперь стоял на посту другой человек, более ревностно относящийся к своим обязанностям. Ее комната шелестела воспоминаниями: смех, поцелуи и тень Сети, падающая на стену от зажженной лампы.
В конце концов она пришла к бассейну с лотосами. Царица уединилась с царем, заглаживая следы ссоры. Служанки разбрелись кто куда, пока госпожа не нуждалась в них. У бассейна сидела только Нофрет, а в нем плавали утки, выпрашивая кусочек хлеба. Хлеба у нее не было, и они с неодобрением уплыли по своим утиным делам в дальний конец бассейна.
Нофрет присела на каменный бортик. Можно было укрыться в тени под колоннадой, но ей хотелось, чтобы солнце со всей силой било ее по голове. Ей нужно было лежать под беспощадной, иссушающей жарой, опустив руку в прохладную воду. Сильно пахли лотосы, о чем-то болтали меж собой утки. Издалека доносилось пение, сильный и сладкий голос женщины. Слов она разобрать не могла, да это было и ни к чему. Звучала любовная песня, песня ослепительного полудня. В ней не было ни смерти, ни горя.
В Египте все помнили о смерти и всегда воздавали ей должное. Но смерть была для египтян образом жизни. Они сделали ее такой и, если были достаточно богаты и предусмотрительны, строили гробницы, чтобы встретить свой последний час достойно.
У Сети гробницы не будет. Он был простым человеком, солдатом-стражником. Он не успел скопить состояние, и на строительство дома для умершего не осталось ничего. Его тело принесли вместе с сотней других, положили в натрон, чтобы сохранить до тех пор, пока не передадут родне. Родственники заплатят бальзамировщикам, сколько смогут, за такой обряд, на который хватит средств — может быть, даже за полный, если за его геройскую смерть царь возместит семье расходы на достойные похороны. Нофрет ничего об этом не знала. С такой областью царских обязанностей она еще не сталкивалась.
И не хотела сталкиваться. Сети ей не родня и не муж. Она проводила с ним время, только и всего, и отказала, когда он просил выйти за него замуж. Это теплое гибкое тело, ставшее холодным и неподвижным, — она не сможет запомнить его таким. Она будет помнить его ласковые руки; губы, касающиеся ее кожи; его вкус, запах, тяжесть его тела — и удовольствие, которое он ей дарил.
Но, попытавшись представить себе лицо Сети, она увидела совсем другое лицо — человека, судя по всему, вполне живого.
— Я бы знала, что он умер, — сказала она солнцу. — Если бы любила его, если бы он много для меня значил, я бы знала.
Солнце не высказало своего мнения. Оно видело все, что происходило перед его ликом, и не понимало слепоты человека.
— Мне надо было любить его, — продолжала она, — вместо…
Вместо того, чтобы любить кого-то другого.
Странно, что понадобилась смерть любовника, чтобы понять истину. Он обладал ее телом, а дух все это время блуждал, стремясь к тому, кто не искал у нее ничего, кроме дружбы. Он даже не просил ее отправиться с ним в Фивы, да и зачем ему это? Она была для него как сестра, а сестра оставалась там, где ей положено, прислуживая своей госпоже, пока он шел туда, куда ему было нужно.
Если бы Иоханан, а не Сети лишил ее девственности, если бы Иоханан уговаривал ее выйти за него…
Нофрет отказала бы ему. Она не собиралась замуж. Она хотела быть одна. Даже любовник не стоил такого горя, тем более такой, которого она не любила. В конце концов, все это просто смешно и недостойно его памяти.
Хорошо, что его тело отнесли к матери. Нофрет не смогла бы обеспечить ему заслуженных почестей. Эта женщина в Мемфисе, которую она никогда не видела, вдова чеканщика, оплачет сына без вмешательства чужестранной печали.
38
Нофрет ни с кем не делилась своим горем. Единственная, с кем она могла бы поговорить, Анхесенамон, была не в том настроении, чтобы печалиться даже с другом, не то что со служанкой. К ней вернулся муж. Их ссора забыта. Они снова становились, как в первые дни своего счастья, одним сердцем, одной душой и одним телом так часто, как только могли. Это были царственные любовники, возлюбленные Египта, радость Двух Царств.
В сердце Нофрет царил холод, и она немного согревалась, лишь глядя на них. У них было все, чего только может желать человек: богатство, любовь, радость, молодость, красота и долгая жизнь впереди.
Боги не дали им детей, ни одного с тех пор, как их вторая дочь умерла при рождении, но Анхесенамон все еще лелеяла надежду. Она молилась в храмах Исиды, Хатор и Таверет, приносила богатые дары и платила за содержание их жрецов. Она получит то, о чем просит, и не сомневалась в этом.
Египет был очень доволен своим царем. Тутанхамон хорошо показал себя на войне, по крайней мере, так они думали. Он недурно управлял страной, и рядом с ним была его царица. Он вернул богам их храмы и сделал их богатыми. Он молод, полон сил и будет царствовать долго. Такого царя у них не было со времен юности его отца Аменхотепа или даже, как говорили некоторые, со времен великого Тутмоса.
Тутмос, по всеобщему мнению, был одаренным воином и полководцем. Тутанхамон, хотя и не совсем бездарный, таковым не был. Его ум не сосредотачивался на командовании войсками, не слишком занимали царя и другие государственные заботы. Для него они были обязанностью, с которой он хорошо справлялся, поскольку им руководил долг. Но его великие таланты, если и существовали, ничем себя не обнаруживали. Он был красивым, дружелюбным человеком, хорошим мужем, разумным царем, но блистательным не был, и, похоже, не нуждался в этом.
Но стоит ли волноваться? Истинное величие встречается у царей не чаще, чем у всех прочих людей. Ее госпожа счастлива. Египет любит их обоих.
Трон царя был сделан совсем недавно и поставлен на то же место, где стоял трон его отца: красивый, позолоченный, на львиных лапах. На его спинке был изображен царь на троне, а перед ним — жена с благовониями в сосуде, умащающая его. Эта нежная сцена была взята прямо из жизни. Именно так они относились друг к другу и только так собирались относиться всегда.
Или, по крайней мере, до тех пор, пока царь снова не захочет идти на войну. Пока он вроде бы не собирался, посвятив себя делам царства и заботам о счастье своей царицы. Насколько знала Нофрет, Хатти не предпринимала никаких вылазок. Военачальник Хоремхеб находился в Азии, в случае чего он позаботится о безопасности царства. Ей нередко приходила в голову мысль, что Хоремхеб явно предпочитает исполнять свои обязанности подальше от царского вмешательства.
Царь, отдохнув, наконец, от превратностей войны, оказался поистине неутомимым. Он вознамерился совершить новое путешествие, триумфальную поездку по Двум Царствам, и даже остановиться в Фивах, чтобы почтить Амона в его собственном городе. Он собирался доехать до самой Нубии, а потом назад, до Дельты, чтобы показать себя всему своему народу и получить все положенные почести. Если он и хотел напомнить людям, что его брат Эхнатон никуда не ездил и люди сами должны были приходить и падать ниц к его ногам, едва ли можно было винить его за это. В глубине души Эхнатон был человеком вялым и ленивым, а Тутанхамон молод, силен, его бодрость неисчерпаема. Для Египта он был словно свежее дыхание весны после тяжкой жары сезона разлива.
Чтобы подготовиться к поездке, требовалось некоторое время. Нужно было заново позолотить и обставить корабль. Царь заказал себе новую колесницу, и вождь нумидийцев прислал ему в дар пару коней: быстроногих, словно пустынные газели, цвета Красной Земли, с бледно-золотыми гривами, казавшимися почти белыми. Они пришлись очень по вкусу царю своей скоростью, послушанием и легкостью в управлении, когда он промчался на них по кругу для скачек в Мемфисе.
Ожидая, пока слуги подготовят двор и страну к путешествию, царь предложил поехать на охоту вверх по реке до Дельты. Там в зарослях тростника водились бегемоты, медлительные и вялые с виду, но смертельно опасные, если их застать врасплох, огромные стаи гусей и уток, на которых можно было поупражняться в стрельбе из лука, а самые смелые даже могли поискать в чаще львов.
Насколько был неутомим царь, настолько же Нофрет чувствовала себя вялой, но ее госпожа собиралась сопровождать мужа на хоте, и Нофрет добавила свои вещи к остальным. Может быть, ее соблазнила новая колесница царицы. Прежнюю пару смирных кобыл недавно отправили на пастбище и теперь запрягали новую: жен-сестер царских нумидийских жеребцов: серебристо-серых, в яблоках, с гривами цвета дыма.
Едва ли Нофрет позволят управлять ими, но она сможет прокатиться, пока будет править царица, и почувствовать ветер в лицо. Ей давно уже не приходилось испытывать такого удовольствия. Внезапно она поняла, что ей необходимо выбраться из дворца, где она обрела любовника и узнала о том, что лишилась его.
Царь и царица со свитой отправились к Дельте по суше, а слуги на лодках везли провизию и вещи: почти все слуги, кроме тех, кто имел удовольствие ехать со своими господами. Царь, как всегда, ехал впереди, царица рядом, пока позволяла ширина дороги; их охранял вооруженный отряд на колесницах, а следом двигались придворные, тоже на колесницах, но ярко раскрашенных. Они были молоды и отважны, бесстрашные охотники, конники, стрелки из лука и метатели копий, а вслед за многими бежали собаки. Затем шли пешие: загонщики и ловцы дичи, псари с гончими, сокольничьи с птицами, все прочие участники охоты.
Они двигались со смехом и пением, поскольку еще не добрались до охотничьих угодий и не было необходимости соблюдать тишину. Звучали новые песни, привезенные из Азии и переложенные на язык Египта. Нофрет узнала ободранный скелет хеттского военного марша, на котором висели египетские слова, рассказывавшие об охоте на льва и царской победе.
К охотничьим угодьям в глубине Дельты предстояло добираться несколько дней. Хотя по пути встречались города и деревни, где можно было остановиться на ночь, они, словно войско, предпочли ночевать под открытым небом. Конечно, у царя был шатер, а у каждого из вельмож — свой, поменьше, с кисейными занавесками, чтобы не залетали докучливые, звенящие, кусачие мошки. Путешественников окружали сырые моховые болота, а Красная Земля осталась далеко позади: в Египте таких мест больше не было нигде.
Здесь великая река Двух Царств разделялась на множество протоков, богатых зверями и птицами, рыбами и крокодилами. Каждую ночь охотники устраивали пир, подавали то рыбу, то гусей или уток, то оленя, подстреленного в зарослях. Они не слишком торопились приступать к собственно охоте; путешествие само по себе было удовольствием, и охотники развлекались, разыскивая и добывая дичь для стола.
Для Нофрет это путешествие было странным, полуреальным — они продвигались по стране, так же непохожей на страну Хатти, как и на тот Египет, который ей приходилось видеть до сих пор. Лучше всего было то, что ничто здесь не напоминало о Сети — ни о его лице, уже позабытом, ни о прикосновениях его рук, которое она помнила еще слишком хорошо. Здесь ее сон нарушали лишь зудение мошек и укусы тех немногих тварей, что ухитрялись проникнуть под полог, чтобы отведать ее крови.
В распоряжении Нофрет был шатер царицы, поскольку та ночевала в шатре царя, разделяя его ложе. Другие служанки спали среди остальной прислуги и, скорее всего, не одни.
Нофрет не хотелось к ним. Приятно было лежать одной в темноте. Просыпаясь, она не помнила своих снов и, казалось, была почти счастлива.
Наконец они не торопясь прибыли к месту царской охоты. Немногое отличало это место от других полей и болот, встречавшихся им по пути, разве что поля были шире, болота подальше, а прибрежные тростники кишели дичью. Тогда появились загонщики и псари, сокольничьи поднесли соколов своим господам. Охота ринулась в погоню за своей разнообразной добычей.
Царица хорошо управлялась с луком, и глаз у нее был верный. За полдня они вместе с царем настреляли достаточно гусей для вечернего пира. Когда повара с набитыми сумками стали возвращаться в лагерь, чтобы ощипывать и потрошить птиц, к царю подбежал один из запыхавшихся охотников.
Царь со смехом затащил его в свою колесницу, усадил и поднес чашку воды. Тот почтительно взял ее, но выпил поспешно, не отрываясь.
— Ваше величество, ваше величество, там — лев, — сказал он, все еще задыхаясь.
Царь насторожился.
— Где?
Человек мотнул головой.
— Там, мой господин. Вон заросли, а за ними скала, видишь?
— Конечно, — ответил царь, глядя из-под руки. Между зарослями и рекой было пустое пространство, и скала была хорошо видна.
Внезапно он громко крикнул. Придворные, которые разбрелись в поисках добычи, торопливо вернулись на зов. Несколько псарей подтащили свои лающие, упирающиеся своры поближе.
Нофрет сидела в колеснице вместе с царицей. Анхесенамон придерживала лошадей, не сводя с мужа глаз. Нофрет задумалась, видит ли ее госпожа царя таким же странным, как она. Казалось, он колышется, как мираж в пустыне. Но ведь здешний воздух не рождал таких видений. Для этого он был слишком влажным.
Другую дичь могла преследовать и женщина, но лев был царской добычей. Даже вельможи не осмеливались обгонять его. Анхесенамон оглянулась на остальных охотников. Когда она собиралась повернуть лошадей, предоставив погоню мужчинам, руки Нофрет сделали нечто совершенно помимо ее желания. Они перехватили поводья, снова повернули головы лошадей, взмахнули хлыстом и погнали их вскачь вслед за царем и его охотниками.
Собак спустили с поводков. На минуту они замешкались, вынюхивая след. Потом одна взвыла от волнения. Остальные сгрудились вокруг. Поднялся оглушительный лай, и собаки ринулись бежать.
Царские кони рвались вперед. Тутанхамон придерживал их, пока собаки искали след, потом пустил. Следом ринулись остальные; сначала царица, потом все пешие.
Лев ждал их с добычей: молодой газелью. Это оказалась львица, молодая, но сильная. В логове позади нее можно было заметить движение, блеск глаз. У нее детеныши…
Нофрет, держа поводья, вознесла молитву всем богам, какие только пожелали бы ее услышать. Царица, онемев, вцепилась в край колесницы. Могучий старый лев-самец был бы гораздо лучше, безопаснее, медлительней, чем ловкая молодая львица, и ленивей; он не стал бы набрасываться первым прежде, чем хотя бы одна стрела ранит его. Львица с детенышами опаснее всего. Она будет биться не на жизнь, а на смерть, чтобы защитить своих малышей.
Львица, понимая, что встретилась с врагом, притаилась за тушей газели, оскалив зубы. Собаки окружили ее, но не набрасывались. Пока. Это были умные собаки. Они должны задержать ее до появления охотников.
Подъем к логову был крутым, но не слишком крутым для колесницы и уверенных ног царских коней. Царь подгонял их, даже не остановившись посмотреть, удерживают ли собаки львицу. «Отважен до безумия!» — подумала Нофрет. Прямо у кольца собак он резко остановил коней и спрыгнул с копьем в руках.
У самого уха Нофрет раздавалось громкое взволнованное дыхание Анхесенамон, но царица молчала и не шевелилась, как и все остальные. По закону и древней традиции, это было дело царя.
Тутанхамон казался там, наверху, очень одиноким, всего лишь с тонким копьем и без всякой защиты, кроме собак. Он послал их вперед криком, напомнившим собачий лай. Львица скрылась под массой набросившихся собак.
Шум был неописуемый: вопли, вой, лай, рычание. Львица вырвалась рыже-коричневым вихрем, разбрызгивая кровь. Одна из собак была разорвана почти пополам. Лязгнули клыки, переломив шею другой. Сразу же за ней стоял царь.
Он стоял свободно, держа наготове копье, как будто в запасе у него была вечность.
Львица изготовилась к прыжку. Собаки снова окружили ее, завывая, но не решаясь приблизиться. Ни царь, ни львица не обращали на них внимания. Кончик ее хвоста подергивался, мышцы напряглись. Царь взвесил на руке копье, выжидая.
Мгновение тянулось бесконечно и закончилось с ослепляющей быстротой. Львица прыгнула. Копье поразило ее прямо в грудь, но она до конца готова была биться за свою жизнь и жизнь своих детенышей.
Царь изо всех сил удерживал копье. Когти рассекали воздух перед самым его лицом. Он устоял на ногах. Львица захрипела и испустила дух.
Царь осторожно отступил назад. Львица, с копьем в сердце, рухнула к его ногам. Он вздохнул, наверное, впервые с тех пор, как она прыгнула.
Это, казалось, пробудило радостные крики людей, они приветствовали победу: его одного, вооруженного лишь копьем, над львицей, защищавшей детенышей.
Во время поединка все замерло, а теперь бурно задвигалось. Тело львицы понесли, чтобы снять шкуру. Несколько охотников забрались в логово и вытащили шипящих, царапающихся детенышей — всего троих, самца и двух самочек. Львенка торжественно преподнесли царю. Он завернул его в плащ, поданный одним из вельмож, и прижал разъяренный сверток к груди. Тутанхамон казался странным — возбужденным и бледным от потрясения. Нофрет знала, что так выглядят воины после боя.
Царица не поднялась к скале вместе с другими. Она оставалась внизу со своей колесницей, окруженная служанками, сумевшими догнать ее, и смотрела на царя сияющими глазами, еще полными смертельного страха.
Царь, наконец, заметил ее, ослепительно улыбнулся и махнул рукой, держа в другой закутанного в плащ львенка. От внезапного прилива чувств он вместе со львенком вскочил в колесницу, подхватил свободной рукой вожжи и ринулся вниз со скалы.
Сердце Нофрет замерло. Он подвергался огромной опасности, несясь с такой скоростью по крутому и каменистому спуску. Иногда человек, избежав смертельной опасности, начинает верить в свое бессмертие.
Пусть он царь и бог, Гор во плоти, но даже цари Египта не живут вечно. Это дано только богам, рожденным не так, как люди.
Тутанхамон забыл обо всем. Нофрет вздохнула с облегчением, когда его колесница скатилась на ровное место. Кони мчались, а он смеялся. Даже львенок, захваченный его чувствами или просто от страха, перестал рычать.
Колесница царя с грохотом пронеслась мимо царицы. Она уловила порыв ветра и всплеск его радости, беззвучно засмеялась и послала лошадей вдогонку за их братьями.
Теперь уже Нофрет отчаянно цеплялась за края колесницы. Хотя земля была и ровная, но в камнях и трещинах, а они неслись слишком быстро, и это было опасно. В некоторые мгновения лишь одно из колес касалось земли.
Колесница царя, казалось, летела. Он несся во весь дух, не обращая внимания на рытвины, словно на кругу для скачек в своем городе. За ним мчался его смех, безудержный, звонкий и юный.
Все произошло мгновенно и очень медленно, как происходит все неотвратимое. Нофрет совсем не удивилась. Возможно, именно это она и ожидала увидеть, собираясь на охоту.
Жеребцы бежали уверенно, как всегда, едва касаясь земли. Колесница летела за ними. Камешек, задетый ею, был чуть острее, чем другие, и подскочил чуть выше. Колесо дернулось так, что у царя, наверное, лязгнули зубы. За грохотом колес и свистом ветра Нофрет услышала жалобное мяуканье львенка. Царь устоял на ногах: он был гибок и ловок, ему случалось выдерживать и не такую дорожную тряску.
Но колесница, его замечательная новая колесница, сделанная специально для этой охоты, с боковинами в виде золотых крыльев сокола, украшенная электром и драгоценным серебром, оказалась не такой прочной, как человек, управлявший ею. Наткнувшись колесом на коварный камень, она накренилась.
Царь изогнулся, чтобы уравновесить легкую колесницу. Колесо стало на место; он выпрямился. Кони чуть замедлили бег.
Ось лопнула со звуком, который Нофрет услышала даже издалека. Колесница подпрыгнула как живая. От неожиданности царь слишком сильно покачнулся и упал.
Те, кто умеет управлять колесницей, умеют и падать. Но царь думал о львенке. Падая, он изогнулся, защищая сверток, забыв о собственной голове. И покатился, продолжая удерживать свою ношу.
Наконец он выронил его. Сверток откатился в сторону, а царь лежал в неудобной позе, пока перепуганные кони уносили вдаль обломки колесницы.
Царица так резко осадила лошадей, что они присели на задние ноги. Ей было не до них. Она бросила поводья прямо в лицо Нофрет и соскочила на землю возле мужа. Он лежал совершенно неподвижно.
«Так может быть с любым человеком, который только что упал», — думала Нофрет, пытаясь успокоить рвущихся лошадей. Ему нужно некоторое время, чтобы прийти в себя: ведь он так быстро мчался и так сильно ударился.
Но царь лежал чересчур тихо. Царица опустилась на колени, трогая его лицо, дрожащими руками снимая с него шлем-корону и парик. Он зашевелился под ее руками, согнул колено, снова распрямил…
Нофрет успокоила лошадей и привязала поводья к раме колесницы. Лошадям хотелось последовать за братьями, но они были хорошо выезжены и сейчас стояли, фыркая, мотая головами, но не решаясь сопротивляться крепости поводьев.
Она слезла и побежала к своей госпоже. Царь пошевелился — жив!
— Он приходит в себя, — выдохнула она, подбегая. — Смотри, он двигается.
Анхесенамон, казалось, не слышала ее. Нофрет не сразу заметила, что на руках царицы кровь, кровь и на полотне ее платья, где лежит голова царя. Под загаром его лицо было серо-бледным. Он снова зашевелился, но не так, как человек, приходящий в себя, а слабо, словно в конвульсиях.
Нофрет упала на колени. Царица не возражала, когда она подсунула ладонь под затылок царя. Там было мокро и липко. Но для нее, дочери воина, кровь еще ничего не значила. Хуже было другое: ее пальцы нащупали узкий осколок камня, пробивший череп, как стрела, и нанесший смертоносную рану.
Подходили остальные — те, кто был сзади, еще радостно кричали, но передние уже узнали, может быть, слишком поздно, что царь упал. Среди них не было никого, кого хотела бы сейчас увидеть Нофрет, — ни врача, ни жреца, одни вельможи, бесполезные бездельники, у которых в голове были только вино и охота. Она поднялась, чтобы разогнать их, как будто могла одна справиться с толпой вельмож, и споткнулась обо что-то мягкое, заворчавшее.
Не думая, она подняла львенка, завернутого в плащ. По какой-то насмешке богов она оказался завернут надежно. Ни когти, ни зубы не угрожали ей, и она держала его, не зная, что делать.
Анхесенамон, стоя на коленях, снова и снова гладила лицо своего повелителя. Он побледнел еще больше, дрожь пробегала по всему его телу.
— Может быть, — сказала Нофрет, запинаясь, — может быть, он просто в шоке. Он так сильно ударился и так быстро…
— Он мертв, — произнесла Анхесенамон.
Эти простые слова прозвучали бессмыслицей.
— Нет, но он ранен, и тяжело. Срочно нужен врач. Он двигается, посмотри. Он жив.
Анхесенамон покачала головой.
— Он мертв, — повторила она. — Дух его улетел. Тело еще цепляется за жизнь, но души ушли.
— Нет, — возразила Нофрет. Не для того, чтобы отрицать правду, но потому, что Анхесенамон сказала ее так жестоко и ясно. Благодать забытья, даже краткого, не для нее. Царица точно знала, что видит, и что это значит.
Один из вельмож остановил колесницу совсем рядом. Тело царя все еще жило, где бы ни находились души. В теле еще была дрожь, подобие жизни.
Глупость вельмож и придворных не могла замутить ясность ума Анхесенамон. Она приказала поднять тело царя и медленно доставить в лагерь. Пока еще немногие верили, что он умер. Все считали, что царь просто без сознания, и несли его без скорбных воплей, которые могли бы лишить царицу самообладания.
Было сделано все возможное, чтобы вернуть царя к жизни. Несколько слуг кое-что смыслили во врачевании и смогли хотя бы перевязать его, пока он еще медлил, не в силах полностью сдаться смерти. Но царь был мертв. Анхесенамон это видела и не отрицала.
Нофрет шла вслед за процессией в лагерь, ведя лошадей царицы. Львенка, завернутою в плащ, она положила в колесницу, еще не зная, что будет с ним делать. Можно было обвинять его в том, что он погубил царя, потому что тот разбил себе голову, защищая львенка при падении. Но нельзя было оставить малыша на голодную смерть — он был еще слишком мал, чтобы самому добывать себе пропитание.
Когда она отправлялась на эту охоту, дух ее где-то блуждал. То же было и теперь. Но ум работал и пристально наблюдал за царицей. Анхесенамон видела слишком много смертей, но все их перенесла стойко. Она снова и снова доказывала свою силу и теперь поддерживала порядок среди охотников и в лагере, следила, чтобы не было паники и никаких взрывов горя по поводу царя.
Царица была слишком сильна. Это могло показаться странным, но в душе Нофрет знала это.
Как могла, она позаботилась о львенке, нашла для него поводок и служанку, чтобы кормить его молоком козы, которую кто-то из вельмож купил в деревне и взял с собой, чтобы обеспечить лекарством чувствительный желудок. Но львенку молоко было нужнее, чем господину Рахотепу. Нофрет предоставила служанку, козу и львенка их занятиям и отправилась заниматься своей госпожой.
39
Царь умер по-настоящему, а не только по мнению своей царицы, задолго до того, как вернулся в Мемфис. Он продержался еще несколько дней, очень унылых дней, искушая несведущих ложной надеждой. Но к тому времени, когда Тутанхамон вернулся в свой город, Египет знал, что царь мертв. В город теперь входила траурная процессия, хотя и подготовленная наспех, кое-как. Египет скорбел о своем царе, и скорбь эта, судя по всему, шла от самого сердца.
Нофрет тоже горевала о нем. Она знала его еще маленьким мальчиком, ясноглазым и любопытным и любила его и тогда, и когда он стал старше: очаровательный юноша, спокойный и приветливый мужчина, не великий царь, но вполне справляющийся со своим делом. И любящий свою царицу.
Анхесенамон казалась хрупкой, как статуэтка, вырезанная из дерева, раскрашенная и позолоченная, чтобы казаться живой женщиной. Она проследила за тем, чтобы тело забальзамировали и царская свита превратилась в траурный кортеж.
— Ничего не поделаешь. Придется ехать в Фивы. Все цари нашей линии похоронены там. Он так хотел, и его воля должна быть выполнена.
— Но его гробница едва начата, — заметил господин Аи. — Царь был так молод; у него не хватало времени.
— Значит, надо доделывать, — сказала она.
Господин Аи не мог отрицать такой необходимости, но все же высказал свое мнение:
— Если надо, его можно похоронить здесь, в старом доме вечности, а когда гробница будет готова, перенести в Фивы.
— Нет. — Анхесенамон была тверда. — Царя похоронят в Фивах. Гробница Тутанхамона будет построена наспех, может быть, не очень добротно и без роскоши, но его тело будет покоиться там же, где тела всего его рода, кроме старшего брата, который спит сном вечности в холмах за Ахетатоном.
Даже Сменхкара был в Фивах: его перенесли сюда вместе с остальными мертвыми, когда был покинут Горизонт Атона. Тутанхамон настоял на этом. Эхнатона он трогать не стал, но второй его брат должен лежать там, где и все цари их линии.
Аи согласился с волей царицы, хотя и оказался в положении, в котором никак не собирался оказаться. Он был наследником Тутанхамона. Других претендентов не было. Когда царя положат в гробницу, Аи наденет две короны и станет царем Египта.
Об этом пока еще не говорилось вслух, и, хотя жена Аи тоже была носительницей царского права по родству с линией Нефертари, главной оставалась царица. Отец Нефертити, чтобы стать по праву царем Египта, должен жениться на дочери Нефертити.
Нофрет не испытывала перед этим такого ужаса, как тогда, когда Эхнатон в отчаянном стремлении получить наследника женился поочередно на своих дочерях, приобретая все новых дочерей, пока не возмутились боги. Господин Аи был человеком разумным и добрым, несмотря на солдатскую грубоватость, и понимал, что он делает и зачем, и почему должен это делать. Он ни малейшим образом не повредит его обожаемой молодой царице.
Анхесенамон очень торопилась попасть в Фивы, так торопилась, что даже не хотела оставить тело царя в доме бальзамировщиков в Мемфисе. Когда все было приготовлено и Тутанхамона уложили в натронную ванну, она приказала построить дом очищения на гребном судне, которое могло бы идти по реке, сопровождаемое жрецами, знающими обряд. Они будут сопровождать царя до Фив и там закончат церемонию, а затем передадут его жрецам гробницы.
Никто, кроме Аи, не осмелился возражать воле царицы. Даже жрецы-бальзамировщики уступили, что вообще было неслыханно. Анхесенамон, несмотря на свою хрупкость и кажущуюся мягкость, была крепче кованой бронзы. Она царица и богиня, и получит то, что ей нужно.
— Но зачем? — Нофрет не спорила, просто хотела знать. Все было готово, утром они покинут Мемфис.
В тот вечер царица рано удалилась в свои покои, выполнила все вечерние обряды, но в постель не легла. С тех пор, как умер царь, сон не шел к ней. Сегодняшнюю ночь, как и многие другие, она собиралась провести за чтением книг, которые для нее переписывали писцы, или слушая музыкантов, которые будут играть до самого рассвета.
Но музыканты с арфой и флейтой, барабаном и систром еще не пришли. Анхесенамон держала книгу на коленях, но не читала. Однажды она сказала Нофрет, что это книга заклинаний и молитв, помогающих провести умершего через испытания загробного мира. В прошлые ночи она кое-что прочитана ей, но сегодня, похоже, не собиралась этого делать, что порадовало Нофрет. Ее госпожа говорила, что заклинания имеют силу, только если произносятся в нужном месте, в нужное время и с нужной интонацией, но, по мнению Нофрет, заклинания всегда оставались заклинаниями. Их лучше не произносить и даже не давать увидеть глазу чужестранца, а то они могут вырваться на волю и наделать неописуемое зло.
Нофрет заговорила, отчасти для того, чтобы помешать Анхесенамон читать книгу:
— Зачем такая спешка? Почему он не может оставаться в Мемфисе, пока гробница не будет достроена и как следует отделана?
— Потому, — ответила Анхесенамон, к большому удивлению Нофрет. Казалось, она не была расположена к разговору. — Я хочу, чтобы в своем доме вечности он был в безопасности, чтобы все молитвы были прочитаны, а жрецы стояли на страже.
— Но почему? — настаивала Нофрет. Его не ненавидели. Египет не захочет грызть его кости.
— Египет — нет.
Нофрет нахмурилась.
— Тогда кто же?
— Тот, кто его убил.
Наступило молчание. Нофрет не знала, чем его заполнить, кроме очевидного.
— Он не был убит. Его колесница налетела на камень.
— Ось его колесницы сломалась об камень, который не должен был оставить отметины даже на ободе колеса.
— Колесницы ненадежны, даже лучшие из них. А он несся по каменистой почве, очертя голову.
— Сломалась ось, — сказала Анхесенамон. — Она не должна ломаться. Кто-то позаботился о том, чтобы дерево было непрочным, треснуло, а потом разлетелось в куски, когда он никак не мог защитить себя.
Нофрет прикусила язык. Вот где проявилось неизбежное умопомрачение Анхесенамон, вот как она потеряла самообладание. Царица не может поверить, что ее царь погиб от несчастного случая и по собственной неосторожности. Как Сменхкара, он должен был быть убит.
— Его убийца, — продолжала Анхесенамон, — не остановится ни перед чем. Его гробницу надо хорошо спрятать, чтобы в доме вечности он был в полной безопасности.
— От кого спрятать? — спросила Нофрет.
Анхесенамон казалась вполне в здравом уме, разве только руки ее были слишком крепко сжаты поверх свитка, лежавшего на коленях.
— Я знаю это. И всегда знала. Он хотел смерти моего отца, позаботился, чтобы умерли Сменхкара и моя сестра. Когда же их не стало, оставался только мой царь, преграждавший дорогу к трону.
Нофрет вытаращила глаза.
— Господин Аи? Да он никогда…
— Нет. Военачальник. Хоремхеб.
Нофрет замерла. Но с тех пор прошло много лет, и царями, которых Хоремхеб хотел видеть мертвыми, были Эхнатон и его брат, Сменхкара, называвший себя Возлюбленным Эхнатона; не меньше, чем титул, который до него носила Нефертити. Всего лишь тщеславие, как и весь он, но жестокое искушение для тех, кто ненавидел его. Нофрет ясно, как будто это было вчера, припомнила храм Амона в Фивах и Хоремхеба со жрецом, говорящих о смерти царей, лицом к лицу.
Тутанхамон дал Амону все, чего он мог желать, и даже больше. Не было причины обрывать его жизнь.
Если только Хоремхеб действительно имел в виду то, на что намекал тогда, если действительно воображал себя властелином Двух Царств…
— Этого не может быть, — сказала Нофрет. — Ему пришлось бы жениться на тебе, а ты такого не допустишь.
— И думать не хочу, — мрачно ответила Анхесенамон. — Возможно, это глупо. Может быть, он мой преданный слуга. Я могу ошибаться или слишком бояться. Но я хочу, чтобы мой господин был положен в гробницу, где никто не сможет побеспокоить его, прежде, чем Хоремхеб вернется из Азии.
— Если он вернется, ты можешь приказать ему остаться. Он нужен здесь, когда Египет лишился своего царя, и враги могут воспользоваться моментом слабости.
— Хоремхеб не останется. Он позаботится о том, чтобы мой посланец никогда не добрался до него. Понимаешь? Я должна отвезти моего царя в Фивы и взять в мужья наследника царя в собственном доме Амона, чтобы бог защитил меня. Если мне не удастся, если он окажется быстрее и воспользуется моей слабостью…
Нофрет не верила в это, не хотела верить. Хоремхеб не станет применять силу. Он слишком здравомыслящий человек. Аи силен, но стар и вполне может скоро умереть. Вот тогда царицей сможет овладеть любой.
Но Анхесенамон не слушала разумных доводов. Некто — бог, демон, просто ослепление от горя — приковал ее внимание к Хоремхебу и назвал его врагом. Она будет изо всех сил защищать себя и своего царя, даже если это будет значить, что его домом вечности станет позолоченная лачуга среди утесов к западу от Фив.
40
Царский корабль поднимался по реке под парусом и на веслах. Люди прощались со своим царем по дороге, оплакивали его, пели песни о его юности, красоте и безвременной кончине. Царица ничего не могла ускорить — ни изменить течение реки, ни придать гребцам безграничную силу. Жрецы-бальзамировщики не могли спешить больше, чем царица уже заставила их, и только говорили, что спешить на пути умершего не подобает.
Нофрет не думала, что Анхесенамон опасается преследования со стороны духа умершего царя. Если муж являлся ей в снах, она радостно приветствовала его и плакала, просыпаясь, потому что он уходил. Угрозы жрецов, что он рассердится, не действовали. Но они незаметно сопротивлялись, замедляя движение процессии до более пристойного темпа.
Анхесенамон прошла суровую школу и знала, что нетерпеливость не приносит царицам ничего хорошего. По ночам она мерила шагами свою каюту — или комнату, когда они останавливались в городе, а днем соблюдала величественное спокойствие, сидя на троне во всем царственном величии, медленно совершая свой путь в Фивы.
Город Амона ждал ее и царя. Наместник Верхнего Царства стоял на набережной в огромной толпе вельмож и министров, слуг и народа; весь город собрался посмотреть на молодую царицу в горе. Они увидели не слишком много. Анхесенамон была, как и всегда, царственно отчужденной, лицо ее напоминало маску без следа каких-либо чувств.
Она словно окаменела. Пробежав глазами по толпе, собравшейся приветствовать царицу, Нофрет поняла, почему. Там было очень много солдат, гораздо больше, чем когда-либо раньше. А среди вельмож, рядом с правителем, стоял тот, при виде кого сердце Анхесенамон должно было застыть от ужаса.
Неудивительно, что Хоремхеб успел добраться сюда из Азии, пока царица совершала свой гораздо более короткий путь из Мемфиса. Хоремхеб перемещался с войсковой скоростью, а царица должна была двигаться не скорее, чем подобает погребальной процессии, даже срочной. Конечно, он был здесь, чтобы приветствовать ее, добавить к прочим и свои слова соболезнования, низко поклониться и предложить царице, лишившейся своего царя, любую помощь и поддержку.
Анхесенамон не могла заставить себя принять участие в пире при дворе Верхнего Царства. Нофрет видела, что царице простили это из-за ее молодости, горя и многих тягот, которые ей пришлось вынести, когда она была еще ребенком. Мужчины всегда испытывают сочувствие к таким юным и печальным красавицам.
Однако Анхесенамон не была печальна. Она была в ярости.
— Он явился требовать меня, — говорила она, полная холодного гнева, когда осталась в спальне вдвоем с Нофрет, отослав остальных служанок. — Он считает, что пока Аи не коронован и поле свободно, можно въехать на него и захватить награду.
— Госпожа, — Нофрет сказала, может быть, не самую умную вещь, но она слишком устала, — зачем ему стремиться нанести поражение господину Аи? Что он получит?
Анхесенамон обожгла ее взглядом.
— Ты еще спрашиваешь, что он получит? Ты что, слепая? Или совсем лишилась ума? Весь Египет! Он хочет получить его. Я знаю это, вижу по его глазам.
— Может быть, он просто хочет получить тебя?
Это было еще большей глупостью. Разъяренная Анхесенамон повернулась и выбежала из комнаты.
Далеко она не убежит — куда-нибудь во внешние покои, в купальню или в сады. Для разгневанной царицы лучше всего подходят сады. Было еще рано, по крайней мере, час до захода солнца. По тщательно ухоженным дорожкам сейчас никто не гуляет, и даже садовник не побеспокоит царицу в ее уединении.
Нофрет, решив быть разумной, может быть, слишком поздно, ждала у ворот сада. Там было спокойно, даже прохладно. Если только никто не перелезет через стену, ее госпожа в безопасности.
Анхесенамон оставалась в саду, пока совсем не стемнело, и, когда Нофрет уже собралась идти разыскивать ее с факелом в руке, не спеша вышла из сумрака. Она была спокойна, гнев улегся. Он не ушел совсем: Нофрет видела искры в глазах царицы, но та как-то смирилась с ним.
Хорошо, что ей удалось выиграть эту битву с собой. Когда они вошли во внешнюю комнату, там, удобно расположившись, сидел Хоремхеб с чашей вина.
Анхесенамон остановилась в дверях. Нофрет, стоя позади, услышала, как замерло ее дыхание, увидела, как напряглись хрупкие плечи. Он, должно быть, ничего не заметил. Для него это было слишком тонко.
Сделав шаг вперед, царица была уже спокойна, собранна, царственно любезна.
— Господин военачальник, — произнесла она своим негромким нежным голосом, — чем я обязана такой чести?
— Госпожа, — сказал он, вставая и кланяясь.
Анхесенамон села на кресло, с которого он поднялся. В комнате были и другие кресла, но он выбрал именно это, ее кресло.
Хоремхеб не мог не понять намека. И не осмелился сесть снова, поскольку она ему не предложила, но встал перед ней на одно колено.
Нофрет, никем не замеченная, стояла в дверях. Он вовсе не был так стар, как всегда казалось. Его суровость как бы добавляла ему лет. Хоремхеб был скорее молод, чем стар, — мужчина в расцвете лет, сильный, закаленный в боях. Настоящий мужчина, с точки зрения хеттской женщины.
Анхесенамон считала его виновником всех своих несчастий. Жаль. Сильный человек, молодой, но не слишком юный, был бы полезен Египту.
Если бы царица знала, о чем думает Нофрет, то назвала бы ее изменницей. Нофрет держала язык за зубами. Она оказалась здесь только по случайности. Стоит ей зашевелиться или заговорить, они тут же прикажут уйти.
А может быть, и нет. Если Анхесенамон действительно так боится Хоремхеба, она может пожелать, чтобы здесь был свидетель, даже защитник — хотя Нофрет не представляла себе, как сможет сопротивляться человеку, закаленному в битвах.
Пока Нофрет собиралась с мыслями, Хоремхеб говорил что-то о скорби, предлагал свою помощь, если только царица соизволит принять ее. Царица молчала и смотрела мимо него с каменным лицом.
Он позволил себе большую вольность — взял ее за руки.
— Госпожа, взгляни на меня. Ты потрясена до глубины души. Я знаю это, мы все знаем. Но Египет не станет ждать, пока ты придешь в себя, как и другие государства. Египту нужно, чтобы ты была сильной.
— Я всегда была сильной, — сказала она спокойно и холодно.
— Может быть, ты устала от этого, — настаивал он. — Любая женщина устала бы. И любой мужчина. Ты потеряла любимого мужа…
— Ты никогда не любил его. Он был для тебя ничем.
— Госпожа, он был моим царем.
— Ты презирал его. Считал слабым ребенком, хвастливым мальчишкой, бесполезным на войне. По-твоему, ему следовало сидеть дома и предоставить воевать тем, кто хорошо умеет это делать.
Хоремхеб совсем не казался уязвленным такими ядовитыми словами. Его, наверное, вообще невозможно вывести из себя.
— Госпожа, ты несправедлива и ко мне, и к нему. Он был хорошим воином.
— Но никуда не годным военачальником. Разве не так? Ему пришлось лгать, чтобы получить триумф в Египте. Он проиграл войну в Азии. Ты бы ее выиграл.
Хоремхеб медленно перевел дыхание: грудь его поднялась, потом опустилась. Казалось, он набрался решимости.
— Госпожа, если ты хочешь слышать правду, да, я мог бы выиграть эту войну — и выиграл бы, если бы он не вздумал вернуться домой слишком рано. Это его ошибка. Тутанхамон был всего лишь мальчиком, неопытным мальчиком; но он был царем.
— Ты тоже хочешь быть царем, да? — Она наклонилась вперед, глядя ему прямо в глаза. — И думаешь, что справишься с этим лучше, чем все те, кто правил после смерти моего деда?
— Человек волен желать чего угодно, или думать, что желает, но если у него нет соответствующего происхождения…
«Ага, — подумала Нофрет, — трещина в броне. Сожаление».
Анхесенамон, наверное, не заметила этого. Она не знала происхождения ниже царственного, не знала, что значит стремиться подняться выше места, определенного для тебя богами.
— Мужчине не обязательно иметь царское право по рождению. Он может приобрести его, женившись.
Взгляд его стал острым.
— Ты хочешь сказать, что я мог бы попробовать?
Царица попыталась встать, но он слишком крепко держал ее за руки. Она спросила сквозь зубы:
— Зачем ты сегодня явился сюда?
— Я пришел утешить тебя, — ответил он.
— Ах, утешить, — сказала она, скривив губы. — Знаю я эти утешения. Зачем они мне?
— Затем, что тебе нужен сильный мужчина. Ведь у тебя никогда такого не было. Твой первый муж был чересчур одержим богом, второй слишком юн. Ты уже не девочка, какой была, когда выходила за них. Теперь ты женщина. Настало время, чтобы рядом с тобой был настоящий мужчина.
— Будет. Господин Аи.
— Твой дедушка. — Хоремхеб покачал головой. — Хороший человек, но старый. В нем не осталось жизненных сил.
— А вдруг ты его недооцениваешь?
— Вряд ли. Ты думаешь, что с ним будешь в безопасности? Он слишком стар, чтобы беспокоить тебя в спальне. На крайний случай у него есть другая жена. А как по-твоему, каково это, когда некому согреть тебя по ночам?
— У нас ночи и так слишком теплые.
Хоремхеб засмеялся коротко, словно взлаял, и веселья в его смехе было мало.
— Я взял бы тебя в Азию. Там на высоких горах лежит снег. Ты знаешь, что это такое?
— Мне рассказывали. А видеть его я не хочу.
— Почему? Разве тебе никогда не хотелось путешествовать?
— Я много путешествовала по Двум Царствам.
— На все у тебя есть ответ, — заметил он. Казалось, ему нравится этот разговор. — Ты знаешь, конечно, что твой будущий супруг стар и скоро умрет. Кто же тогда будет царем?
— Без сомнения, ты полагаешь, что это будешь ты.
— Наследника нет. Или ты постараешься подарить ему сына?
— Если я не способна, — ответила она с восхитительным спокойствием, — выносить сына или вообще дитя, которое выживет и вырастет, почему ты думаешь, что я смогу подарить наследника тебе?
— Может быть, потому, — серьезно произнес он, — что я не твой близкий родственник. Я видел такое у лошадей и охотничьих собак. Можно скрестить силу с силой и получить еще большую силу, но слабость, скрещенная со слабостью, может ослабить линию так, что она вообще прервется.
— Ты называешь слабой меня?
— Я хочу сказать, что, если ты хочешь продлить свою линию, надо об этом позаботиться. Когда господин Аи умрет, она прервется, госпожа, что бы ты ни делала.
— Тогда ты можешь потребовать меня, если сумеешь.
— Я бы предпочел не ждать. Египту нужна сила сейчас. Ему необходим человек молодой, полный сил, который может сражаться сам и вести к победе войско. Страна Хатти видела нашу слабость. Будь уверена, они воспользуются ею.
— Но господин Аи был и воином, и полководцем. И есть ты, чтобы сражаться за нас в Азии. Что мы потеряем, если я откажу тебе?
— Время. Мудрость. Возможность иметь сына, рожденного тобой, чтобы взять его на руки.
Хоремхеб нанес верный удар, Нофрет заметила, как царица вздрогнула. Но она была твердо настроена против него и отвернулась.
— Иди, — сказала она отчужденно и холодно, как будто он уже не удерживал ее руки и не загораживал дорогу к бегству.
— Нет. Я не собираюсь уходить. Такая преданность тебе к лицу, но это неразумно. Будь же царицей и подумай. Что лучше для Египта?
— Лучше, если ты оставишь меня.
Его терпение иссякло внезапно, застав Нофрет врасплох. Хоремхеб вскочил, подняв вместе с собой царицу, как будто она вообще ничего не весила, поставил ее на ноги так резко, что у нее, должно быть, лязгнули зубы, и припал к ее губам. Нофрет почудился лев, хватающий за горло жертву: так же быстро и так же резко.
Она хотела броситься к ним, но все было бы бесполезно. Ее госпожа оказалась в ловушке. У Нофрет не было ли оружия, ни сил, чтобы освободить ее. Оставалось только смотреть и в напряжении ждать. Анхесенамон изогнулась, сопротивляясь, но он держал крепко. И его голос тоже напоминал рычание льва, но слова должны были привести в ужас женщину, которую он держал в объятиях.
— Маленькая шалунья. Маленькая львица. Ты можешь ненавидеть меня, бояться меня, но тебе придется уступить. Ты же знаешь, что нет больше никого, кто мог бы потребовать твоей руки.
— Есть, — выдохнула она едва слышно, — и я приму этого человека.
— И сделаешь глупость.
Царица засмеялась. Это было жестоко, неразумно лицо его исказила ярость.
— Глупость? А что же тогда твои поступки? Ты не имеешь права требовать меня. Ты всего лишь простолюдин. Как ты смеешь даже мечтать стать царем и богом?
— А может быть, боги осмеливаются за меня. — Его голос звучал не менее холодно, лицо побледнело, но спокойнее не стало. — Я буду царем, госпожа. В этом ты можешь быть уверена.
— Возможно, но не сейчас, пока я жива и могу противостоять тебе.
Хоремхеб посмотрел на нее долгим и внимательным взглядом. Краска совсем отхлынула от его щек, он был бледен под загаром и очень спокоен.
— Это ты говоришь теперь. А что ты скажешь, когда твой господин Аи будет мертв?
— Что ты убил его. Как и двух царей перед ним.
— Мне не понадобится делать этого. Мне помогут время и боги.
— А их, значит, убил ты. — Анхесенамон уловила момент, когда он отвлекся, вырвалась и убежала во внутреннюю дверь, что было явной глупостью, если он вздумает преследовать ее, — здесь хотя бы Нофрет могла послужить щитом. Солдат может посчитать, что лучше всего покорять упрямую женщину грубым насилием — но тогда придется начать с рабыни. У царицы будет время убежать.
Но Хоремхеб продолжал стоять на том же месте, озадаченный или даже обиженный.
— Ты убил их, — повторила Анхесенамон из-за двери. — Именно ты. Я нижу это по твоим глазам. Но третьего царя ты не убьешь. Я позабочусь, чтобы этого не случилось.
— Как? Раньше убьешь меня?
Она засмеялась, резко и немного безумно.
— Ах, нет! Живи. Ты нам нужен, чтобы защищать наши земли в Азии. Но мы знаем, чего ты хочешь. Я на страже. Я защищу от тебя всех нас.
— Ты с ума сошла, — сказал он.
Нофрет подумала то же самое.
— Возможно, — согласилась Анхесенамон. — Безумные иногда видят истину там, где ее скрывают боги. Я приду в разум, когда ты уйдешь долой с моих глаз.
— В конце концов, я все-таки получу тебя, — произнес он.
Хоремхеб был солдатом, он знал, когда пора покидать поле боя. Анхесенамон стояла недвижимо, пока он не ушел. И только тогда ответила на его последние слова.
— Вряд ли, — сказала она.
41
После того как Хоремхеб ушел, Анхесенамон долго металась по комнате, ломая руки и что-то бормоча. Вид у нее был вполне безумный. Нофрет не могла уговорить ее остановиться, отдохнуть или хотя бы замедлить свои метания.
Остановившись наконец, она улыбнулась так, что по спине Нофрет пробежали мурашки.
— Сильный мужчина! Мужчина, который может сражаться. И защитить Египет. — Улыбка ее стала шире. Она бросилась к шкафу с одеждой, стоявшему у двери, выхватила плащ. Нофрет пыталась удержать царицу, когда та пробегала мимо, но поймала только край плаща, выскользнувший из пальцев.
Ее госпожа двигалась стремительно, не бежала, но и не шла. Нофрет пришлось перейти на рысь, чтобы не отстать. Бесполезно пытаться вернуть ее. Она была сродни кобылице из собственной упряжки, которая несется, закусив удила, туда, куда несет ее прихоть.
Царица отправилась в дом писцов, прямо в комнату, где они спали, оторвала озадаченно моргающего, гладко выбритого старика от явно заслуженного сна.
— Приведи мне человека, который пишет словами Хатти, — сказала она так властно, как едва ли приходилось слышать Нофрет.
Писец, хотя и захваченный врасплох, соображал быстро. Он встал, завернулся в простыню, поклонился до полу и сказал:
— Пошли, я разбужу Мерира.
Мерира был помоложе, с длинной отвисшей челюстью и глазами, полными всемирной скорби. Он очень напомнил Нофрет пропавшего Эхнатона. Анхесенамон так не думала, а, может, не заметила. Похоже, она видела только тень с пером в руке.
— Напиши для меня письмо, — сказала она.
Человек молча поклонился, достал из-под постели дощечку и палочку. Положив дощечку на колени, он развернул на ней новый свиток папируса. Было непонятно, немой он или просто молчалив. Он приготовился и ждал.
Анхесенамон говорила быстро, как будто выучила произносимые слова наизусть — хотя могла сочинить их только по дороге сюда. Ею руководил бог или кто-то похуже бога.
— Пиши царю Хатти, — говорила она. — Пиши красиво и правильно. Вот что царица Египта говорит тому, кто называет себя царем царей:
«Мой муж умер. У меня нет сына. Но у тебя, говорят, много сыновей. Дай мне твоего сына, и я сделаю его своим мужем. Я никогда не выберу себе в мужья своего слугу — нет, никогда, потому что не доверяю ни единому из них. Спаси меня, царь Хатти, потому что я боюсь».
Писец записывал слова египетскими иероглифами. Затем, так же бесстрастно, переписывал их тем письмом, которое хетты позаимствовали у древних народов Азии, — быстрыми рядами клинышков, которые лучше всего получаются на сырой глине. В таком виде законченное письмо и будет послано в Хатти.
Если будет. Нофрет слышала его, значит, должна в это поверить. Такого не делала ни одна царица Египта прежде: Анхесенамон просила царя чужой страны прислать ей сына, чтобы он стал ее супругом. И не какого-нибудь царя какой-нибудь страны, но именно той, которая была и оставалась главным врагом Египта в Азии.
Анхесенамон, казалось, не понимала странности своих действий. Она смотрела, как письмо писалось по-египетски и по-хеттски, затем как его оттиснули в глине. Затем сказала писцу:
— Найди посланника — быстрого, надежного и умеющего хранить тайну. Когда он вернется с хеттским царевичем, ему заплатят золотом и царской милостью.
Писец поклонился и выполнил ее приказание. Любопытно, что он думает обо всем этом. По его лицу ничего понять было нельзя. Он не попытался разубедить царицу или посоветовать еще подумать, хотя бы подождать до утра, а пошел и привел посланца. Анхесенамон сама отдала человеку запечатанные таблички и наказала во что бы то ни стало передать их в собственные руки царя Хатти. И писец, и посланник повиновались — как будто слепо, не думая.
Это было сплошное безумие, ночной кошмар, чудовищно бессмысленный сон, где двигались, повинуясь приказу, молчаливые фигуры, не задавая вопросов.
Утром Нофрет проснется в своей постели и все окажется неправдой.
Но это вовсе не сон. Усталость, накопившаяся за долгое время, была слишком реальной. И страх тоже.
— Нельзя заходить так далеко, — сказала она своей госпоже, пока они стояли в спальне писца. Он вышел вместе с посланником. Вернутся ли он? — Ты не вправе так сильно ненавидеть военачальника. Это измена своему собственному царству.
— Это защита, — ответила Анхесенамон с ужасающим спокойствием. — Разве ты не понимаешь? Ведь ты же из Хатти. Я лучше о тебе думала.
— Я слишком долго живу в Египте. Объясни мне.
— Все просто. Даже слишком просто: я сама чуть не упустила эту возможность. У тебя были причины считать, что я лишилась разума.
— Вот именно, — заметила Нофрет. — Я не вижу в этом смысла.
— В этом огромный смысл. Смотри, Нофрет. Господин Аи подвергается опасности, если Хоремхеб увидит его коронованным царем. Он убьет его так же, как и других. Но если будет коронован не он, а воин из народа воинов, воспитанный, чтобы стать царем в собственной стране, — значит, мы приобретем то, чего хочет Хоремхеб: царя-воина. И более того. Какого врага мы больше всего опасаемся? Хатти. Но царевич из Хатти сядет на трон Египта. Египет будет защищен от Хатти, Аи от Хоремхеба, а я… я получу сильного мужа, как советовал наш мудрый военачальник.
— По-моему, — осторожно сказала Нофрет, — Египет никогда не примет чужеземца на свой трон, даже если он женится на носительнице царского права. Египет скажет, что тогда лучше уж простолюдин.
— Египет примет все, что пожелаю я, — возразила Анхесенамон. Она была так же самоуверенна, как некогда ее отец.
— Конечно, — сказала она, помолчав, — мы должны держать это в тайне до тех пор, пока царевич не прибудет сюда и не будет готов принять мою руку. Аи должен по-прежнему думать, что станет царем. Он примет дела моего умершего мужа и будет играть роль наследника. Но свадьбу я отложу и буду изображать утомление и безграничное горе. Скорее всего, я поеду в Мемфис, а его оставлю в Фивах позаботиться о Верхнем Царстве. Я скажу ему, что мы сможем пожениться после разлива реки.
— И что же помешает Хоремхебу убить старого человека, пока ты будешь в Мемфисе?
— Он не сделает этого, пока Аи не станет царем. Я защищаю его, понимаешь? Хоремхебу нравится убивать царей. Он не поднимет руку на вельможу, еще не получившего две короны. А тем временем Хатти пришлет царевича, который спасет нас всех.
— Не стоит обольщаться, — Нофрет хотелось схватить свою госпожу и хорошенько тряхнуть ее, но это было бы неразумно: слишком похоже действовал Хоремхеб. Нофрет вовсе не хотелось убеждать царицу в ее безумии. Она решила попробовать обойтись словами. — В Хатти могут посчитать это ловушкой. А вдруг Хоремхеб обо всем пронюхает?
— Не пронюхает. Я этого не допущу. — Она плотнее закуталась в плащ. — Пошли. Уже поздно. Наверное, теперь, когда я сделала такой необходимый шаг, я смогу заснуть.
— Когда ты сделала такой безумный шаг, — проворчала Нофрет. Если Анхесенамон и слышала, то виду не подала.
Нофрет думала, что Хатти скорей всего вообще не ответит на письмо. А если и ответит, то это будет отказ совершить безумный поступок.
Но в любом случае, пройдут дни, недели, прежде чем посланник сможет добраться до страны Хатти, и еще недели, прежде чем можно будет ожидать ответа. Все это время Анхесенамон придется упражняться в царственном искусстве терпения. Может быть, если судьба милостива, она забыла про свое ночное безумие; но Нофрет не особенно надеялась на это. Слишком многое о нем напоминало.
Небхеперура Тутанхамон, Возлюбленный Амона, охраняемый Гором, великий Дом, Фараон, Властелин Двух Царств, царь Египта, отправился к своей гробнице к западу от Фив. Церемония была пышной или, по крайней мере, такой, какую могла позволить спешащая и озабоченная царица. За царскими погребальными носилками шли все знатные люди Фив, сопровождаемые рыданиями женщин и восхвалением царских подвигов и достоинств. Путь процессии начался в восточном городе и проходил через него; народ шел следом, смотрел, рыдал и мазал лица грязью в знак скорби.
Сама царица шла за носилками, которые несли белые коровы, воплощающие богиню Хатор. Она шла совсем одна, на лице ее не было красок, только грязь, платье разорвано по обычаю, в знак горя. Она позволила себе горестно вскрикивать, воздевать руки, бить себя по щекам и груди, — в общем, делать то, что царственная сдержанность до сих пор строго запрещала.
У берега реки ждали погребальные лодки. В тот день, по приказу царицы, другие лодки по реке в Фивах не плавали; только те, что служили для последнего путешествия царя. Его погребальные носилки поместили на лодке с единственным гребцом и группой плакальщиц, которую тащил за собой корабль со многими гребцами. Процессия погрузилась на другие лодки, пересекая реку в траурном молчании.
Перед отплытием Анхесенамон прокричала слова, древние, как Египет, и юные, как ее горе:
— О мой брат, о мой муж, о мой любимый друг! Останься, останься со мной! Не оставляй меня одну, не пересекай реку. Гребцы, зачем вы так спешите? Дайте ему задержаться еще немного. Вы потом вернетесь по домам, а он останется в доме вечности.
Ответом ей был только плеск воды. Крик закончился бессловесным долгим воплем скорби. Женщины поддерживали рыдающую царицу, пока та не успокоилась; суда уже подходили к западному берегу.
Управители страны мертвых ждали там, где от края реки простиралась Красная Земля. Носилки снова заняли место в голове процессии, за ними несли вещи для загробной жизни, затем шла царица и все остальные. Она шла вперед по обязанности, не имея другого выбора, среди молчания и женского плача.
Процессия вышла из города в долину мертвых, из Черной Земли с мягкой почвой и богатой зеленью в голую безжизненность Красной Земли. Различие должно было потрясать: из зелени в пустыню, из жизни в смерть. От солнечного жара долгий путь становился еще труднее. Это было страдание, жертва, приносимая в память умершего царя.
Его гробница по сравнению с другими выглядела жалко. Какой-то вельможа начинал строить ее для себя, но или разорился, или умер слишком рано, не успев закончить. Слуги царицы сделали все возможное, но у них было очень мало времени, тем более что пришлось соблюдать слишком много ритуалов и придворных церемоний. Атрибуты загробной жизни, принесенные сюда, были лучшим, что удалось собрать из его собственных вещей, из наследства отца и братьев, из оставшегося от прежних похорон. Все они были совершенно необходимы, потому что царь и в загробном мире должен сохранять положение, которое имел при жизни, иначе он не обретет уважения среди обитателей темных земель.
«Спешка не пойдет ему на пользу», — думала Нофрет, продвигаясь вперед следом за госпожой. Анхесенамон была совсем рядом, но казалась бесконечно далекой, не замечая ничего, кроме умершего. Волновало ли ее, что обряды не исполнены как должно, что все делалось слишком наспех, что дом вечности невзрачен и непрочен, с кривыми стенами и скособоченной крышей? Может быть, и нет. Вероятно, этого вполне достаточно, ведь горе остается горем при любых обстоятельствах.
У края Красной Земли, где дорога стала слишком крутой и каменистой для неловких ног коров, носилки взяли люди, предоставив коров самим себе. Впереди шел жрец с кувшином и курильницей, отгоняя злых духов. Но один дух явился на его зов, вполне живой и солидный, в маске Хатор. Он произнес приветственные слова голосом смертного с хорошими сильными легкими. Это больше напоминало рев быка, чем мычание коровы.
Явление исчезло, пропустив процессию. Люди продолжали свой путь вперед и вверх, направляясь к открытой гробнице, ожидавшей, что в нее будет кто-то положен.
Здесь, на пороге вечности, время шло быстро. Сильные слуги подняли гроб царя с носилок и стоймя прислонили к камню. Анхесенамон подошла, грациозная, как танцовщица, обняла его. По сравнению с теплом живого тела он был холодным, твердым и недвижимым, какой всегда бывает смерть.
Плач и стенания зазвучали предельно громко. Отражаясь от скал, звуки, казалось, взлетали до самых небес.
Когда замерло эхо, жрецы мертвых засуетились перед гробницей. Здесь было много дела, много магии, обрядов, которые дадут умершему память о жизни и свободу жить на земле дальше запада. Они возвратят ему тело, силу, сердце, душу и голос. Магическая сила снова позволит ему видеть и слышать, осязать, чувствовать вкус и запах — все его чувства вернутся к нему в доме вечности.
Возглавлял жрецов господин Аи в мантии из шкуры леопарда. На нем была синяя корона, что полагалось только царю. Аи держался прямо, в нем чувствовалась сила, но все же он постарел. Во дворце его называли стариком, люди говорили о нем как о старике, но для Нофрет он всегда был мужчиной чуть старше среднего возраста.
Но больше он им не был. Господин Аи словно усох в своей коже, морщины на лице углубились, нос стал выдаваться еще сильнее. Он походил на старого орла со скрюченными когтями, полуослепшего, с мрачным упорством сидящего на своей скале.
С таким же мрачным упорством господин Аи исполнял сейчас обязанности, доверенные ему богом и судьбой. Он произносил слова, открывающие каждое из чувств умершего, совершая обряд с четкостью, подчеркивавшей суетливую поспешность жрецов. По тому, как жрецы суетились и неразборчиво бормотали, Нофрет заподозрила, что они даже делают ошибки; но Аи не ошибался. Все чувства царя были открыты по полному и правильному обряду тем, кто любил его при жизни и заботился о нем после смерти.
Гробница была построена так скверно, что вряд ли царю будет особенно приятно пользоваться там всеми своими чувствами. Но не дело Нофрет говорить об этом. Она молча наблюдала, как царя внесли наконец в тесную гробницу, уложили среди груд торопливо сваленных вещей и запечатали саркофаг на целую вечность.
Последним, что ей запомнилось, было тусклое мерцание лампы, блеск золота, наваленного вокруг, и на массивной каменной глыбе, скрывавшей его тело, единственная хрупкая и живая вещь, которая останется в этом месте: венок из лотосов, принесенный Анхесенамон. Она сама положила его на глыбу, расправив дрожащими пальцами, разгладив лепестки, которые уже начали увядать под жарким солнцем Египта.
Потом царица вышла наружу, на свет, а царь остался в вечной тьме. Она через силу поела на поминальном пиру среди вельмож и придворных. Тутанхамон будет пировать там, внизу, как верили египтяне, обеспечив его огромным запасом провизии, чтобы хватило на весь путь в страну мертвых. Но никто из живых не составит ему компании. Даже жрецы при царской гробнице будут служить его памяти под солнцем, подальше от печатей, заклинаний, всяческих предосторожностей и защит, налагаемых на дома мертвых.
Он ушел, оставаясь только в памяти. Его невозможно призвать обратно. Даже жрецы Египта, обладающие могучей магией, не могут возвращать умерших к жизни.
42
Царица уехала из Фив в Мемфис, не выйдя замуж за господина Аи и не дав ему, следовательно, права носить две короны. Было сказано, что она утомлена и в отчаянии от горя. Но, поскольку царством управляли, как и прежде, — господин Аи оставался в Фивах как главный советник и регент, а царица и в Мемфисе была царицей, как уже полжизни, — никто особенно и не возражал.
И никто не подозревал, что она сделала, какое письмо отослала под покровом ночи, о чем знали только два писца, которым хорошо заплатили за молчание. Сама она не говорила об этом ни слова.
Нофрет вовсе не была склонна обвинять Анхесенамон в забывчивости. Демон, заставивший ее пойти на это, не был демоном забвения. Он убедил ее, что она поступает правильно и вполне разумно. Не стоило волноваться теперь, когда все уже сделано и сделано самым лучшим образом.
Самой Нофрет сказать было нечего. Госпожа обратилась за помощью в ее родную страну. Египет воспримет это с ужасом. Нофрет, хеттская рабыня, хотела бы знать, как поведет себя сын великого царя Хатти, если его посадят на трон Египта. Египет возненавидит его за одно только чужеземное происхождение, но, если царевич хоть немного похож на своего отца, он найдет способ завоевывать сердца даже в царстве, так ненавидящем иноземцев.
Для Анхесенамон это было время ожидания. Разлив реки отступал с каждым днем, оставляя за собой свое богатство — черный ил, дававший Египту жизнь и силу. В самом начале времени сева, когда в стране Хатти начиналась зима, прибыл посол хеттского царя с большой свитой, охраной и слугами.
Приехал тот же человек, что и прежде, Хаттуша-зити, царский управляющий, и люди с ним были почти те же. Но Лупакки среди них не оказалось. Нофрет рассказали, что он женился, и жена его занимает высокое положение. Она добилась для него места при царском дворе.
Все это было очень отрадно. Хорошо, что ее брат поднялся так высоко и так быстро. Но Нофрет была бы рада снова увидеть его.
Если повезет, если в Египте будет хеттский царь, она сможет сделать и лучше: получить разрешение, поехать в страну Хатти и навестить его. И других братьев, если захочет. Они не смогут смотреть на нее с презрением, если их сестра приедет как женщина с положением, главная служанка самой царицы.
Но это случится не скоро. Двор и царство считали, что Хаттуша-зити приехал выразить соболезнования по поводу смерти царя, а также подозревали, что он приехал разведать обстановку в Египте, узнать, кто будет царем. Это выглядело разумно, предусмотрительно и вполне естественно для такого хитрого монарха, как Суппилулиума.
Царица приняла его при дворе, как принимала каждое посольство, с теми же словами и жестами, с тем же древним ритуалом, где в череде традиционных фраз говорилось все и ничего. Она не выказывала ни малейшего волнения, а Хаттуша-зити никак не давал понять, что прибыл по воле кого-то еще кроме своего царя.
Все было разыграно красиво, словно царственный танец; она в своих золотых украшениях, он в самом роскошном хеттском придворном платье, в высокой конической шапке, отчего казался еще выше, чем на самом деле. Его охрана имела весьма воинственный вид: высокие, могучие, широкогрудые мужчины — из каждого можно было сделать двух стройных соотечественников царицы, — звенящие бронзовыми доспехами и увенчанные высокими шлемами. Среди охраны царицы с ними могли сравниться нубийцы — угольно-черные великаны, в чьи густые черные волосы были вплетены куски янтаря и золотые самородки.
Но когда все слова были сказаны, все подарки вручены и приняты, посольство отпущено и царица удалилась в свои покои — отдыхать, по ее словам, от дневных трудов, — в маленькой уединенной комнатке произошла еще одна ее встреча с послом. Это случилось не в самом дворце царицы, но в соседнем, мало используемом крыле. Она приказала подготовить его, прибрать и обставить так, чтобы там могли расположиться царица и царский посол. Были поданы вино, изысканные угощения, даже сладости из тех, что, как говорили, больше всего любят в стране Хатти.
Ожидая появления Хаттуши-зити, Анхесенамон с одобрением разглядывала большое блюдо жареной баранины с ячменем.
— Они едят такое? Без всяких приправ и пряностей?
— Вкус тонкий, — сказала Нофрет, — но он может нравиться только тому, кто вырос на такой пище.
Анхесенамон чуть поморщилась.
— По-моему, у вашего народа не слишком утонченный вкус.
— Это всего лишь юность по сравнению с Египтом.
Кроме них двоих, там больше никого не было.
Царица не верила, что ее служанки смогут сохранить дело в тайне от своих приятелей и любовников. Она не опасалась, что хеттская служанка предаст ее или причинит зло. Нофрет надеялась, что ее госпожа полагается на хеттскую честность, но, скорее всего, это была самоуверенность и убежденность, что только египтянин может осмелиться покуситься на убийство египетской царицы.
Хеттский посол тоже пришел лишь с одним сопровождающим, высоким и спокойным человеком, который незаметно пристроился у дверей. Переводчика не было, кроме Нофрет. Царица и посол были одни и могли вести доверительный разговор без посторонних.
Нофрет, стараясь не показываться из-за спины своей госпожи, чувствовала на себе взгляд хетта. Хаттуша-зити взвешивал, судил, делал выводы, поскольку она была голосом своей госпожи, а черты ее лица были такими родственными ему.
После того как были произнесены слова приветствия, Хаттуша-зити задал первый вопрос, обращаясь к Анхесенамон:
— Эта женщина — она ведь из наших?
Нофрет не хотелось переводить эти слона на египетский, лучше было бы сочинить еще какие-либо приветствия и подходящий ответ. Но это нужно было сделать слишком быстро. Она перевела вопрос так, как его задал Хаттуша-зити, словно он не имел к ней никакого отношения.
Анхесенамон бросила на Нофрет быстрый взгляд, но ответила так, будто та была всего лишь голосом:
— Да, моя служанка родом из Хатти. Мне говорили, что ее захватили и продали в Митанни. Родные не искали ее?
Она прекрасно знала, что нет, но дело Нофрет было помалкивать, когда не приходилось переводить слова одного или другого. Хаттуша-зити нахмурился и потер подбородок.
— Честно говоря, ваше величество, я не знаю. Это нужно выяснить?
— Возможно, — ответила Анхесенамон, — но не сейчас.
Она погрузилась в молчание, как умеют только царицы, а царицы Египта — в особенности. Такое молчание подавляет волю, открывает плотно закрытые рты, заставляет людей говорить только для того, чтобы избавиться от груза царственной терпеливости.
Ясно, что Хаттуша-зити прошел такую же школу: царь Хатти сам был мастером этого дела. Но все же он был царским послом, а не царем, и ему следовало исполнить поручение. Он поступил просто, с прямотой, присущей военному человеку.
— Госпожа, наш царь, Солнце, получил письмо от царицы, жены Солнца, царицы Египта.
Анхесенамон ждала, все еще молча, но это было другое молчание. У него определились пределы.
— В письме говорится, — продолжал Хаттуша-зити, — что жена бога Египта, которую мы называем Дахамунзу, в большом горе и страхе, поскольку муж ее умер, и у нее нет сыновей.
— Мой муж умер, — повторила Анхесенамон, тихо и грустно, словно эхо, — и у меня нет сыновей. Ты знаешь это, человек хеттского царя. Ты был здесь, когда мы были счастливы. Тебе известно, что сыновей нет.
— Иногда сыновья рождаются, пока человек путешествует из одного царства в другое, госпожа, — сказал Хаттуша-зити, — а бывает, их прячут от родни, которая желает им зла. Разве не так было с твоим отцом, царем-Солнцем? Его привезли из дома матери, когда безвременно умер его брат, представили народу и сделали царем.
— Все знали, что он родился, и многие видели его в доме матери.
— Даже так? Однако наш царь находит твою просьбу довольно странной. Разве в Египте нет человека, кому ты могла бы передать царское право и скипетр?
— Нет. Но если бы и был, то умер бы так же безвременно, как мой возлюбленный.
Брови Хаттуша-зити медленно поползли вверх.
— У тебя есть причины для опасений?
— У меня есть причины для опасений.
Анхесенамон не казалась испуганной. Она выглядела царственно отрешенной. Такова была ее защита, маска, которую она носила.
Хаттуша-зити, кажется, понял это. До сих пор он стоял, поскольку царица не предложила ему сесть, а теперь огляделся, увидел стул пониже и попроще того, на котором она сидела, и мотнул головой в его сторону.
— Госпожа?
Она нетерпеливо кивнула.
Его спутник принес стул и поставил напротив царицы. Хаттуша-зити сел и устроился поудобней, двигаясь неторопливо, но и не слишком медленно. Он хотел стать не то чтобы равным, конечно, нет, но чем-то большим, чем просто посланец иноземного царя.
Глаза Анхесенамон блеснули, но она промолчала. Призывая Хатти дать ей супруга, она превращала хеттского царя в своего родственника. Его посол, таким образом, стоял выше, чем простой проситель или данник.
Наконец, удобно устроившись, Хаттуша-зити заговорил:
— Госпожа, могу ли я быть откровенным?
К его искреннему изумлению, Анхесенамон рассмеялась.
— Ох, конечно, — сказала она, — пожалуйста.
Нофрет не выдержала — она должна была объяснить или хотя бы попытаться.
— Господин, моя госпожа этого и ждет от нас, хеттов.
Хаттуша-зити озадаченно нахмурился, но потом ухмыльнулся, что было так же неожиданно, как смех Анхесенамон. Он напоминал мальчишку, и довольно неотесанного.
— Ах, вот как? Хорошо! — Он оперся кулаками на колени и наклонился вперед. — Тогда, госпожа, позволь сказать тебе, что, когда мой царь прочитал твое письмо, он не в силах был поверить ни единому слову и посчитал, что это ловушка. «А если сыновья есть? — спрашивал он у совета. — А вдруг она хочет посмеяться над нами и заманить нас в какую-то опасную глупость?»
— Думаю, — заметила Анхесенамон, — этого и следовало ожидать. Мы же враги. В Азии нет никого сильнее Хатти, и у Египта нет более дерзкого врага.
— Тогда зачем ты это сделала? Почему хетт? Почему не египтянин, или кто-нибудь из Митанни, из Нубии? Почему враг, а не союзник?
— Потому, что наши союзники слабы и пугливы. А мне нужен человек, способный встретиться лицом к лицу с сильнейшими людьми Египта и оказаться сильнее их.
— Это твоя служанка рассказала тебе такое о нас, хеттах?
— Ей не нужно было делать этого. Я и сама вижу.
Хаттуша-зити смерил ее взглядом.
— Госпожа, если дела так плохи, если твои люди убивают царей, что помешает им убить царского сына из враждебной страны?
— Ничто, кроме его собственной силы и храбрости. Говорят, хетты отважны. Они рождены быть воинами. У вашего царя целая армия сыновей, но только один может стать царем после смерти отца. Неужели никто из остальных не мечтает о троне? Даже если понадобится чья-то смерть, чтобы получить его?
— Это нужно спросить у моего царя, — заметил Хаттуша-зити, — и у царских сыновей. Прежде всего, он должен знать, что ты писала правду: не строишь козней и не собираешься мстить за войну в Азии.
— Я писала правду. Мне действительно здесь страшно. Каждый мужчина, который становится царем, рано или поздно умирает, но всегда раньше своего часа.
— Кто же его убивает?
— Тот, у кого есть сильные союзники. Тот, кто хочет сам получить трон, но знает, что этого никогда не будет, потому что такое делается только через меня.
— Он бы мог убить тебя, — сказал Хаттуша-зити. — Тогда препятствие будет устранено.
Анхесенамон кивнула. Она не боялась. Вернее, боялась, но не этого.
— Конечно, мог бы и, будь он по-настоящему умен, убил бы. Но он упрямый человек и хочет получить трон по всем правилам, через меня.
— А может быть, он хочет именно тебя, — заметил Хаттуша-зити, приподняв бровь. — Ты красива. Я редко встречал женщин красивее, а я повидал красавиц доброй половины мира. Любой мужчина был бы рад получить царство с такой царицей в придачу.
— Или получить меня, потому что тогда он подчинит себе то, чему прежде покорялся сам. Он убил двух царей, убьет и третьего, если только тот не окажется сильнее любого египтянина.
Хаттуша-зити размышлял, а царица напряженно молчала. «Так много молчания, — подумала Нофрет, — и все такое разное».
— Можно все же счесть, — заговорил он наконец, — что Египет, убив двух собственных царей, хочет получить еще одного, чужеземца, и тоже убить его, доказав Хатти, что хеттские царевичи не в большей безопасности, чем любые другие. Это была бы тонкая месть.
— Мы не настолько тонки, — возразила Анхесенамон, — за пределами нашего народа. Скажу тебе честно, я предпочла бы супруга из Хатти египтянину потому, что, если хетт умрет, он мне не родня и не друг, но чужеземец и враг. Но если он будет жить — а я клянусь в этом жизнью и честью, — я обрету сильного царя из сильного народа, способного противостоять злу, исходящему от одного египтянина и его союзников.
— Этот египтянин не из воинов? Или он простой человек, поднявшийся высоко, но желающий подняться еще выше?
— Похоже на то.
— Вот как, — сказал Хаттуша-зити, как будто это все объяснило. — Тогда понятно. Я вижу, что у тебя есть причины для опасений. А сыновей нет, или — или ты носишь ребенка?
Анхесенамон провела ладонью по животу. Ее голос снова прозвучал отчужденно.
— Боги не дали мне этой милости.
— Дадут, если один из наших молодых жеребцов станет твоим супругом, — заверил ее Хаттуша-зити.
— Надеюсь. На это я и делаю ставку. Нет наследника, чьей жизнью я могла бы рискнуть, никого, достаточно сильного, чтобы противостоять… Этому человеку.
Хаттуша-зити коротко кивнул, поднялся, с искренним почтением поклонился.
— Госпожа, с твоего позволения я еще немного задержусь здесь, чтобы не возникло подозрений, а потом отправлюсь назад, в Хатти.
— И что?
— И скажу моему царю, что если у него есть такое желание и один из его сыновей — любитель приключений, он вполне смог бы стать отцом царя Египта.
43
Хорошо, что царица так долго училась терпению. Хетты задержались, казалось, на целую вечность. Они не могли возвращаться в страну Хатти в разгаре зимы, когда снега на целые месяцы перекрывают дороги, а ветры такие холодные, что домоседы-египтяне просто не в силах поверить такому. Зима в Египте — время роста, сева и уборки урожая.
Хетты не все время проводили в Мемфисе. Они путешествовали по окрестностям, охотились, посещали старинные храмы и города. Некоторые считали, что они шпионят. Если бы кто-нибудь узнал истинную цель их приезда, подозрение перешло бы в уверенность, и посланцев закидали бы камнями, навозом и чем-нибудь похуже.
Когда они, наконец, отправились, в Египте собирали урожай, а в стране Хатти наступала весна. Они поедут так быстро, как только смогут — так обещал Хаттуша-зити. К разливу Нила или немного погодя, царица может ожидать в Мемфисе хеттского царевича, если царь будет хорошо настроен. Хаттуша-зити полагал, что будет.
Анхесенамон решила сама убедиться в этом и отправила с посольством письмо, а с письмом — своего человека по имени Хани, одного из советников. Нофрет не очень хорошо его знала, но Анхесенамон доверяла ему, может быть, потому, что он был в нее влюблен и никогда не мог отказать ей, даже если весь остальной совет был против.
Единственным достоинством Хани было то, что он знал, как исполнить его решение. Нофрет посчитала, что он не предаст свою царицу.
Посланец был скромен и обожал свою госпожу. Письмо ее было довольно обиженным. «Почему ты мне не веришь? — приказала она писать своему писцу. — Почему ты думаешь, что я обманываю тебя? Будь у меня сын, неужели я показала бы чужеземцам свой позор и позор Египта? Как ты осмеливаешься не верить мне? Мой муж умер. У меня нет сына. Я никогда не возьму в мужья никого из моих слуг. Ни один царь не получал от меня такого письма, только ты. Говорят, у тебя много сыновей. Дай мне одного из них. Он станет моим мужем и царем Египта».
С таким посланием и с господином Хани, незаметно включившимся в свиту, Хаттуша-зити отправился вместе со своим посольством из Мемфиса. Царица ждала, как ждала с тех пор, как умер царь, в настороженном молчании. Ее советники и посланцы от совета в Фивах ждать уже устали. Они требовали, хотя и деликатно, чтобы царица подумала о том, чтобы окончить траур и принять нового царя. Подразумевалось, что этим царем будет господин Аи.
Когда они стали слишком настаивать, Анхесенамон напомнила о существовании госпожи Теи.
— Мне больно занимать ее место, — сказала она.
— Госпожа Теи понимает нужды царства, — отвечали ей с растущим нетерпением. — Двум Царствам нужен царь. Они не достигнут процветания, пока у них нет царя.
Анхесенамон не преминула заметить, что, с тех пор, как она царица, Египет вполне процветает. Урожай был обильным, разлив реки ожидался сильным, многоводным, который оставит после себя богатство — черный ил, залог будущего урожая. Ее советники настаивали, что все это может оказаться ложными надеждами, шутками богов, прежде чем они низвергнут царство без царя. Царство не может процветать, если им управляет только царица. Даже женщина-царь, чье имя больше не произносят, правила как регент при царевиче, который потом сам стал великим царем.
Все верили, что богов обмануть нельзя. Анхесенамон знала это. Она никому не говорила, что собирается дать Египту царя, но по своему выбору и неожиданно для всех. Царица достаточно здраво мыслила, чтобы хранить тайну, пока он не прибудет сам и будет готов править с нею вместе.
Для Нофрет тоже настало время ожидания. Анхесенамон ждала, когда мир снова станет светлым, сильный мужчина сядет на трон рядом с ней и защитит ее от демона, которому она дала имя и облик Хоремхеба. Нофрет ждала, когда разразится буря.
Как обычно, она исполняла свои повседневные обязанности, и день проходил за днем. Однажды пошел дождь, что было редкостью, и все выбежали на улицу, танцевали, смеялись и радостно мокли. Все посчитали это добрым знаком, предвещающим радость Нофрет надеялась, что это не предупреждение о надвигающейся буре.
Весь урожай был уже собран и заложен в амбары. Река поднялась. Земли, только что бывшие плодородными полями, скрывались под прибывающей водой. Египет отошел подальше от берегов и предался честно заработанному безделью, отъедаясь на богатом урожае.
Этот древний круговорот времени странно успокаивал. Ни одна другая страна не была так привязана к своей реке, так зависима от нее в самом своем существовании. Без реки весь Египет превратился бы в безжизненную Красную Землю, никакой Черной Земли не было бы. Без разливов реки не развивалось бы земледелие, а без земледелия не бывает урожаев.
То, что посеяла Анхесенамон, дало плоды на второй месяц разлива. К ней тайно явился посланец — тот самый, которого она отправляла в страну Хатти с письмом, где просила царя прислать ей одного из своих сыновей. Посланец сообщил, что господин Хани и хеттский царевич уже находятся на пути в Египет.
Впервые за много месяцев лицо Анхесенамон стало лицом живой женщины, а не маской из слоновой кости. Нельзя сказать, чтобы она была взволнована, но голос зазвучал оживленно.
— Как его зовут? Каков он с виду?
Посланец был рад ответить на все ее вопросы.
— Госпожа, его имя Зеннанза. Он очень похож на своего отца. Крупный мужчина, как все хетты, и лицо у него, конечно, хеттское: орлиный профиль, никто не ошибется. Кожа светлая. Волосы рыжие, как у твоей служанки, госпожа, но посветлее. Глаза цвета разлившейся реки, не карие, не зеленые, скорее, и то, и другое.
— Он красив?
— Похоже, так думают все женщины, и в Хатти его считают красавцем. Он любимец своего отца и очень уважает тебя. И молод. Ему не больше девятнадцати.
— Молод? Это к лучшему. А силен ли он? Хорошо ли сражается в битвах?
— Исключительно хорошо. А что касается силы, то он самый лучший борец Хаттушаша, как и его отец в молодости.
— Любимый сын, — задумчиво сказала Анхесенамон. — Но не старший. Не наследник.
— Едва ли царь послал бы наследника в чужую страну, чтобы он стал царем там, а не на родине, — заметил посланник.
Анхесенамон покачала головой.
— Нет. Нет, это как раз хорошо. Наследник мог бы пожелать стать царем обоих государств и сделать из них империю. Младший сын мне больше по вкусу. У него не должно быть других амбиций, кроме трона, который дам ему я.
Царица отправила посланника отдыхать, щедро заплатив ему за труды золотом. После его ухода она еще долго сидела в своей спальне, задумавшись, опершись на руку. Такого выражения на ее лице прежде не появлялось. Мечтательное, улыбающееся, не удовлетворенное — таким оно станет только тогда, когда хеттский царевич прибудет в Мемфис, — но довольное представлением о нем.
Вполне возможно, что он настолько хорош, как говорил посланник. Суппилулиума — во всех отношениях превосходный мужчина, а его сыновья, по слухам, были точным его подобием. Нофрет не слышала о Зеннанзе — он был еще совсем младенцем, когда ее увезли из Хатти. Любопытно, что он думает по этому поводу, как собирается жить в Египте, так непохожем на все, что он знал до сих пор.
Ей это удалось неплохо. Сможет и он, тем более, что ему будут помогать гораздо больше, чем в свое время ей. Конечно, он выучит египетский, если еще не выучил, пусть даже его царственное самолюбие будет уязвлено необходимостью говорить на каком-то другом языке, кроме родного.
Ну вот: она тоже размечталась, как и ее госпожа. Хеттский царевич в Мемфисе, коронованный двумя коронами. Невозможный сон. Нелепость, — так сказала бы она, если бы сама не видела и не слышала этого.
Анхесенамон, наконец, очнулась от грез. Улыбка еще бродила в уголках ее губ, но в остальном она уже снова была самой собой, царственно здравомыслящей.
— К полнолунию, — сказала она, — в Египте будет царь.
За несколько дней до полнолуния в Мемфис прибыл военачальник Хоремхеб. До этого он находился на своем посту, на границе Египта и Азии, и царица считала, что так лучше всего. Он явился настолько дерзко, что она даже рассердилась, сопровождаемый отрядом солдат, на новой роскошной колеснице, запряженной конями, не похожими на легкокостных красавцев Двух Царств. Это были крупные животные, тяжелые и сильные. Такие кони возили боевые колесницы в Азии, в Великой Стране Хатти.
Хоремхеб просил — даже скорее требовал — приема у повелительницы Двух Царств. Царице не хотелось принимать его, и она отправила своего домоправителя сказать, что нездорова.
Ее посланец вернулся почти сразу.
— Господин говорит, что повелительница Двух Царств, возможно, почувствует себя лучше, если узнает, какую службу сослужил ей господин.
— Ничего он мне не сослужил, — с такими словами Анхесенамон отослала домоправителя.
Это было еще до полудня. Ближе к закату, когда Хоремхеб уже расположился во дворце, против чего никто возражать не стал, посланец явился снова. Царица только что закончила принимать ванну и теперь обсуждала с ювелиром новое нагрудное украшение. Она по-прежнему не желала видеть посланника: ее слова передавала Нофрет.
С тех пор как Хоремхеб появился в городе, Нофрет было неспокойно. Новый визит посланника почему-то рассердил ее. Его слова были деликатны и просты: «Твоя госпожа может поступать по своему усмотрению, но хорошо бы она пожелала поговорить с моим господином».
Анхесенамон не дала ответа. В положенное время она отправилась спать, утром встала, как обычно, позавтракала, оделась, надела парик, надушилась, подкрасила лицо и глаза и приготовилась к исполнению повседневных обязанностей. Сначала, как и всегда, обряды в честь богов: Амона, Матери Исиды и Гора, которого она молила о сильном муже, способном защитить ее и царство.
Хоремхеб ждал в храме Гора. Он ничего не сказал, не двинулся с места, просто стоял там, где царица не могла его не заметить. А когда она вернулась во дворец для утреннего приема, его посланец уже был там.
Она собиралась заставить его ждать, пока у него не лопнет терпение. Но посланец сказал:
— Мой господин просит передать тебе, о царица, что новости, которые он принес только для твоих ушей, лучше не кричать вслух по домам Двух Царств.
Это была уже угроза, и почти неприкрытая. Анхесенамон насторожилась. Может быть, ее гордость и была уязвлена, но, как и Нофрет, она не забывала, откуда приехал Хоремхеб. Царевич Зеннанза должен был пересечь границу, охраняемую им.
Он приехал, или приедет, в сопровождении египетского вельможи, с охранной грамотой самой царицы и обещаниями ее милости. Видимо, Хоремхеб задержал его и приехал в Мемфис, чтобы досадить этим царице.
Но почему он приехал сам, а не отправил гонца?
Возможно, он собирался потребовать царицу прежде, чем это сделает хеттский царевич. Или хотел встретиться с ней лицом к лицу, зная, что она не примет его посланца, но не сможет устоять против его личного и настойчивого присутствия.
Не дело Нофрет было вмешиваться, и она уже давно научилась помалкивать. Тем не менее, она нагнулась и прошептала царице на ухо:
— Это угроза, моя госпожа. Он знает — если не все, то достаточно. Тебе надо повидаться с ним.
Царица не шевельнулась, даже не взглянула на нее, но сказала посланцу:
— Мы будем говорить с ним за час до захода солнца. Пусть он придет к нам в малый зал приемов.
Посланный откланялся. По его виду было ясно, что такого ответа недостаточно, но он вынужден им удовлетвориться.
Анхесенамон, назначив время приема, казалось, совсем позабыла о нем. Царица может себе такое позволить. Но служанке царицы следует помнить и позаботиться о том, чтобы зал был подготовлен к удовольствию царицы. Предстоит холодный, формальный прием, присутствующих будет немного: несколько служанок, побольше охраны, а из советников только самые старые, глухие и сонливые. Они должны собраться раньше чем за час до появления царицы, чтобы успеть хорошенько наскучаться и не особенно прислушиваться к тому, что станет говорить их госпожа командующему войсками в Азии.
Сама царица прибыла поздно и не спеша. Хоремхеб прохлаждался в передней. Конечно, он не мог не почувствовать оскорбительности ситуации, но виду не подал.
Анхесенамон вела себя неразумно, как и всегда при встречах с Хоремхебом. Царица может себе такое позволить. Нофрет гадала, простит ли он ее, очень сомневаясь в этом. Хоремхеб был не из тех, кто легко прощает, даже если речь идет о красивых женщинах, царицах и царских дочерях.
Только хорошо подготовившись, Анхесенамон разрешила допустить к себе военачальника. Она сидела на малом троне, служанки стояли позади, стража — у стен, а престарелые советники дремали на своих местах. На лице ее нельзя было прочесть ничего. Она была царицей и богиней. Военачальник, простой смертный, должен почтительно склониться к ее ногам.
Похоже, ему все это нравилось. Нофрет заметила, что один из его людей, стоявших позади, держал бронзовую шкатулку, словно подарок или дань.
Когда были произнесены слова приветствия, пустые, словно погребальная маска царя, царица впала в молчание, как бывало и прежде. Молчание означало, что она не уступит ни в чем. Пусть проситель сам говорит. Не ее дело облегчать ему бремя или помогать сложить его с плеч.
Хоремхеб, однако, говорить не спешил и разглядывал царицу с удовольствием, но осторожно, чтобы избежать ее гнева. По выражению его лица было видно, что он простит ей все, потому что она царица, красавица и для него желанна.
Наконец, под храп советников, он заговорил:
— Госпожа, мы принесли тебе подарок. — Он кивнул человеку со шкатулкой. Тот с бесстрастным лицом поставил свою ношу у ног царицы и откинул крышку. Оттуда поднялся сильный и мучительно знакомый запах. Это был запах дома очищения, запах натрона, запах смерти. Несколько служанок вскрикнули. Одна упала в обморок.
Царица не шевельнулась. Она видела, что находится в шкатулке, и Нофрет могла увидеть, немного вытянув шею. Предметы, лежавшие там, среди того, что казалось темной, измятой тканью, были скорее непонятными, чем пугающими: один округлый и два бесформенных, непонятного цвета и вида — пока ум скорее, чем глаз, не понял, что это такое. Голова и руки мужчины. А ткань была на самом деле массой волос, рыже-коричневых, густых и блестящих.
Трудно было не понять, кому все это принадлежит, не будь даже необычного цвета волос. Нос на сухом мертвом лице был величественным, как у всех хеттов, но еще более благородных линий.
— Этот человек, — возмущенно сказал Хоремхеб, — пересек границу Египта со значительным войском, с пехотинцами и колесницами, с остро наточенным и сверкающим оружием. Его вестники рассказывали нелепейшую историю, какую только варвар и враг может осмелиться придумать. Они заявили, что он царевич из царевичей страны Хатти и пришел по приглашению Египта, чтобы занять египетский трон и принять руку царицы.
Хоремхеб замолчал. Пауза тянулась чудовищно долго. Анхесенамон ничего не говорила, не двигалась.
Он помотал головой, словно сомневаясь.
— Госпожа, ты в силах поверить в такое? Хетты увидели, что в государстве нет царя, и прислали своего, чтобы потребовать царство — для всего мира это выглядит так, словно Два Царства — брошенное имение, а их царица, их богиня на земле — добыча, которую вправе потребовать себе самый сильный. Только варвар мог нанести тебе такое оскорбление.
Он перевел дух, а затем продолжил:
— К тому же, госпожа, наглец утверждал, что ты сама просила его приехать, что ты просила его отца прислать царственного сына Хатти быть твоим царем, поскольку не желаешь взять ни одного мужчины из Египта. Как можно было додуматься до такого? Он получил то, чего заслуживал. Я бросился на мерзавца, убил его и привез его голову и руки тебе в подарок. Это слишком скромная плата за позор, который он причинил тебе, пачкая твое имя словами измены.
Анхесенамон не сводила со шкатулки глаз. Лицо ее под краской стало смертельно бледным. Она дышала очень быстро и слабо: Нофрет слышала, как воздух с трудом прорывается через ее горло.
Значит, этого она боялась, это предвидела, это ужасало царицу — иначе откуда такой страх перед Хоремхебом? Теперь ее опасения подтвердились.
Все-таки Нофрет была глупа. Анхесенамон все ясно видела с самого начала. Хоремхеб был, как всегда, хладнокровен, решителен и очень, очень опасен.
Сказанное им было разумно. Он просто исполнял свой долг, защищая границы Египта от вторжения и честь своей царицы от поругания. Однако он обо всем знал. Это можно было явственно прочесть в его глазах. Он знал, что царевич Зеннанза не лгал. Ему было известно все, что знали хетты и простодушно рассказали ему, не подозревая, что от человека царицы может исходить опасность, раз уж она сама просила их приехать. Они рассказали ему все, доверчиво, как дети, а он набросился на этих людей и убил их.
— Конечно, — продолжал он, — отделавшись от таких хитроумных визитеров, я должен был проверить, не идет ли следом — против нас — вся армия хеттов. Я немного прошелся по их стране, разграбил и сжег пару деревень и оставил им известия, из которых им все станет ясно. Они больше не решатся играть с нами в такие игры. Заявлять, что ты пригласила одного из них быть царем Египта — они, видно, думают, что я вообще ничего не соображаю?
— Ты ожидаешь, — спросила Анхесенамон так тихо, что Нофрет едва расслышала ее, — награды за свой подарок?
— Я не ожидаю ничего, кроме того, что мне надлежит получить от госпожи Двух Царств.
Анхесенамон склонила голову. Может быть, она кивнула. Возможно, ее голова склонилась от невыносимого утомления под весом короны.
— Ты получишь то, что тебе причитается, — сказала она чуть громче. — Можешь поздравить меня с тем, что я выхожу замуж за господина Аи, а его — с восшествием на трон. Все это произойдет, как только он приедет в Мемфис.
Глаза Хоремхеба сузились.
— Поздравляю тебя, госпожа, — сказал он сквозь зубы, — и твоего господина. Знает ли он уже о своем счастье?
— Он давно ожидает его. А твое усердие в защите нашего царства должно быть достойно вознаграждено. Ступай, мы подумаем, как это лучше сделать.
Еще долго после его ухода, после того, как служанки и охрана были отпущены, а советники разбрелись, зевая, по домам, Анхесенамон сидела на троне в зале приемов, а открытая бронзовая шкатулка стояла у ее ног. Лицо царевича Зеннанзы смотрело на нее снизу вверх с легким удивлением, как будто он так до конца и не смог осознать, что мертв. Видимо, он умер быстро и без мучений: на его лице не было следов страха или боли. Но это мало утешало в сложившихся обстоятельствах.
— Его отец будет вне себя, — произнесла Анхесенамон совершенно спокойно и даже как-то равнодушно, но Нофрет знала, что внутри у нее все рыдает от ярости.
— Не удивлюсь, — заметила Нофрет, — если окажется, что этот человек втянул нас в войну с Хатти.
Анхесенамон искоса взглянула на нее.
— Значит, ты думаешь, что в конце концов я не такая уж глупая? Глупая я. Здесь-то он сказал правду: я поступила неразумно, попросив иноземного царевича защитить меня от него. Я никак не думала, что Зеннанзу перехватят и убьют. Через наши границы все время ходят люди: торговцы, послы, путешественники. Их никто не останавливает, никто не задерживает, даже если они вооружены. А я была так осторожна. Я хранили тайну и знала, что если он догадается, если обнаружит…
Она помолчала.
— Ты не думаешь… Что нас предали? Что он допустил и письма, и посольство специально, чтобы принести мне голову моего будущего мужа, как будто подарок или дань?
— Не знаю. Наверное, Хоремхеб о чем-то догадывался, а когда царевич приехал, он спросил, и ему ответили. Он исполнил свой долг совершенно буквально, зная, что это будет для тебя значить.
— Интересный способ показать, как сильно он хочет получить меня, — Анхесенамон поднялась, тяжело, словно старуха, отложила скипетр и встала на колени, чтобы закрыть шкатулку. Стук захлопнувшейся крышки был четким и как бы подводящим итог.
Она поднялась.
— Хоремхеб никогда не получит меня. Клянусь тебе. Если мне придется самой запереться в собственной гробнице, чтобы избежать его притязаний, я сделаю это.
Разумная служанка могла бы заметить, что Хоремхеб оказался явно сильнее хеттского царевича и, по-видимому, лучше смог бы управлять Египтом. Но Нофрет давно перестала быть рассудительной. Она видела выражение глаз Хоремхеба, когда он подносил царице свой дар. Это был взгляд человека, который делает только то, что ему нравится, и только тогда, когда ему нравится, прикрываясь долгом и честью, человека, который действует на благо царства, но чьи действия всегда и безоговорочно служат прежде всего его собственным интересам.
Такие люди во все времена становились сильными царями и знаменитыми полководцами. Они превращали благо царства в свое и отчаянно защищали его. Им никогда не следовало доверять. Если бы Хоремхеб решил, что царству — под которым он подразумевал себя — принесет пользу смерть царицы, то убил бы ее. Нофрет подозревала, что он поступил именно так, избавившись от Сменхкары и Меритатон. Тутанхамон… Как знать? Это выглядело как несчастный случай. Возможно, так оно и было. А может быть, царица увидела правду, и в этом был замысел и желание Хоремхеба устранить последнее препятствие на пути к трону Египта.
— Но, — сказала Нофрет из глубины своих размышлений, — что же будет с господином Аи? Он тоже умрет, если ты выйдешь за него.
— Я должна выйти замуж хоть за кого-нибудь, — ответила Анхесенамон. — Он ждет. Я дам ему это. И предупрежу его и буду молиться, чтобы он смог защитить себя. Он был вельможей Двух Царств задолго до того, как Хоремхеб вышел из хижины своего отца, чтобы стать царским солдатом. Может быть, он все-таки окажется сильнее, чем чужеземец, даже хеттский царевич.
Ее голос звучал твердо, но руки дрожали. Царица огляделась, словно в растерянности.
— Ох, как я надеюсь, что он окажется сильнее! Ты видела глаза этого человека? Ему хочется большего, чем трон. Он жаждет получить мою душу и заберет ее, если я не буду сопротивляться. И пожрет ее целиком.
— Ну, не так уж он ужасен. Он хочет быть царем, только и всего. А ты носительница царского права.
— Нет. Он пожиратель душ. И точит на меня зубы. Я чувствую, как он ходит вокруг, принюхиваясь, как пытается укусить.
Слушая ее, Нофрет забеспокоилась. Царица была встревожена, но в пределах разумного; боялась, но не без причины, после того, что совершила, призвав врага Египта стать ее супругом. Естественно было ожидать, что теперь, когда все раскрылось, она будет опасаться за себя.
Но в ее словах прозвучало большее, чем простой человеческий страх. Это была одержимость. Анхесенамон дрожала, словно от холода, но тело ее горело. Своими тревогами она довела себя до лихорадки.
Нофрет вывела царицу из зала приемов и по коридору отвела в ее покои. Там толпились служанки. Нофрет всех отослала, сама раздела свою госпожу, обтерла ее водой, настоянной на свежей ароматной зелени, переодела в легкую полотняную рубашку и уговорила прилечь на кушетку отдохнуть.
Царица напряженно вытянулась, сотрясаемая дрожью, снова и снова повторяя:
— Он пожрет меня. Он собирается, я знаю. Я чувствую. Ты разве не чувствуешь, Нофрет? Не чувствуешь этого внутри?
44
Царица была больна, если не смертельно, то близко к тому, так что Нофрет сама послала быстроногого гонца в Фивы, умоляя господина Аи прибыть как можно скорее к Анхесенамон в Мемфис. У гонца было еще одно сообщение, только для ушей самого Аи: опасаться Хоремхеба и никому не доверять.
Не являются ли причиной болезни ее госпожи яд или черная магия? Нофрет не умела их распознать, а в Мемфисе не было никого, кого бы она осмелилась спросить, ни одного человека, которому можно доверять, кроме самой Анхесенамон. Леа, если была еще жива, находилась в Фивах. Об Иоханане она ничего не знала — да и что он мог сделать? С его заметной внешностью он не сумел бы затеряться среди прислуги. И, насколько ей было известно, не владел он другими умениями, кроме как руководить каменотесами, пересекать пустыни и стрелять из лука. Все это никак не могло пригодиться в тесном, замкнутом мирке дворца царицы.
В царском городе Нофрет была одинока, одинока и окружена чужими людьми. За все годы, прожитые здесь, она не завела друзей и не думала, что они вообще ей нужны. Теперь же, когда ее госпожа занемогла душевно и телесно, она не могла доверять даже служанкам, которые, то рыдая, то болтая, толпились повсюду. Любая могла подбросить яд в чашку госпожи или помочь совершить обряд черной магии, ввергший ее живой во мрак.
Ни одну из них ни в чем нельзя было заподозрить, но лихорадка и горестное умопомрачение продолжались. Об этом говорили в присутствии Анхесенамон, и та могла слышать такие разговоры, очнувшись от своего сна. «Ей нужно снова выйти замуж, — твердили они, — она изводит себя, горюя по мужу. Новый муж, лучше молодой и сильный, заставил бы ее забыть этого бедного мальчика».
Никто не знал, что царица попыталась сделать именно это, но ей воспрепятствовал человек, которого она боялась больше всего на свете. В жару она не бредила, как многие люди, а лежала молча, неподвижно, только дышала. Губы ее были стиснуты. Изредка она открывала глаза, устремляя невидящий взор в темноту, и снова закрывала.
Однажды, глубокой ночью, когда все служанки уже спали и тени шептались между собой, Нофрет выплела из своих кос амулеты Амона и Собека и повесила их на шею госпожи. Царицу уже снабдили множеством амулетов, изображениями всех богов и духов, каких только смогли вспомнить врачи и жрецы, но Нофрет в душе верила, что эти два обладают силой, которой недоставало остальным. Может быть, преданностью. Любовью к госпоже, которую она даже не могла назвать своим другом — скорее, второй тенью, частью самой себя.
Все остальные амулеты были призваны избавить царицу от болезни. Над своими Нофрет произнесла простую молитву:
— Избавьте ее от страха. Верните ее мне живой и здоровой.
Это был пустяк, но больше Нофрет ничего не могла сделать до приезда господина Аи. Если он приедет. Она уже даже сомневалась, можно ли ему доверять, — человеку, который всегда был искренне предан детям своей дочери Нефертити. Что, если он все-таки вступил в сговор с Хоремхебом? Соблазн власти может изуродовать даже лучшего из людей, превратить его в пародию на самого себя.
Нофрет гнала от себя такие мысли. Она должна надеяться, и все ее надежды возлагаются на господина Аи. Пусть он стар, и ходили слухи, что со здоровьем у него неважно, но он умен, хитер и любит свою внучку. Он придумает, что делать.
Наслушавшись всяческих россказней, Нофрет ощутила настоящий прилив сил, увидев господина Аи, хотя и была потрясена его видом, когда он пришел во дворец прямо с корабля, даже не задержавшись, чтобы сменить дорожное платье перед тем, как повидать царицу. Надев синюю корону на похоронах Тутанхамона, исполняя обряды наследника престола, он был стариком, теперь же выглядел древним. Аи все еще был высоким, но его спина согнулась, годы и усталость избороздили лицо глубокими морщинами. Он лишился зубов, всегда очень хороших; губы запали, речь стала тихой и невнятной.
Но глаза на изменившемся лице были по-прежнему ясны, и ум не утратил былой остроты. Он долго глядел на царицу, лежавшую в постели, словно безжизненное тело, затем приказал удалиться всем слугам, кроме Нофрет, и отправил своих сопровождающих приготовить для него комнаты как можно ближе к покоям царицы.
Наверняка их кто-нибудь подслушивал. Во дворце невозможно избежать этого. Он заговорил с Нофрет на языке апиру. Она и не подозревала, что господин Аи знает этот язык, хотя, вспомнив его отца и его историю, можно было предположить такое. Нофрет же говорила плохо и медленно, но понимала достаточно хорошо.
— Теперь рассказывай, — сказал он, — и быстрее. Ее отравили?
На языке апиру его речь звучала четче, даже несмотря на беззубые десны. В ответ Нофрет покачала головой, но сказала как можно понятнее:
— Не знаю. Иногда мне кажется, что да, иногда — нет. А может, это злая магия.
— Я привез врачей, жрецов и знатоков магии — черной и белой. Они сделают все возможное. Но я спрашиваю тебя. Ты думаешь, кто-то хотел навредить ей?
— По-моему, один человек был бы весьма рад увидеть ее мертвой. Особенно если ему станет известно, что она пыталась сделать.
— Царевич с севера? — Аи покачал головой. — Это было очень неразумно.
— Но откуда ты…
Нофрет замолкла, но Аи услышал достаточно, чтобы ответить.
— В Двух Царствах почти ничего нельзя сделать в полной тайне. Я слишком поздно услышал об этом, от человека, который знал, что мне можно доверять. Если бы я смог, то остановил бы ее.
— Я не сумела. Она моя госпожа и моя царица.
— И ты родом из его страны, — заметил Аи. — Тебя никто не будет ни в чем обвинять. Но она поступила неразумно.
— Она боялась.
— Ей и следовало бояться. — Господин Аи помолчал, словно раздумывая, что сказать дальше — может быть, решая, стоит ли ей доверять, и наконец сказал: — Ее опасения были не без причины. Ошибка состояла в том, что она считала, будто из Двух Царствах нет никого, кому можно было бы довериться, и что только чужеземный царь — царь, который совсем недавно был нашим противником на войне — сможет защитить ее от человека, которого она боялась больше всего.
— Его надо бояться. Я не думала так, пока не увидела его лицо, когда он стоял перед моей госпожой. Он желает получить то, о чем не имеет права и мечтать.
— Но ведь после меня может не оказаться никого, кто смог бы его удержать.
— Он очень опасен.
— Этот человек уверен, что вполне годится быть царем. Может быть, и так. Он превосходный полководец, умеет управлять людьми. Нам давно уже не хватало такого.
— Но ты… — начала Нофрет.
— Я старею, — сказал он бесстрастно. — Через год, два, может быть, три, я умру. Кто-то должен прийти после меня.
— Значит, ты посоветовал бы своей внучке принять предложение мужчины, который может убить ее, как только добьется своего?
— Он ее не убьет, — возразил господин Аи. — Хоремхеб хочет ее настолько, насколько мужчина может хотеть женщину.
— А ей отвратителен сам его вид.
Аи вздохнул.
— Ни один бог никогда не требовал, чтобы человеческое сердце было разумным. Анхесенамон любила своего мужа. Она уверена, что он погиб от вражеского покушения. Может быть, он это и сделал: но царица должна быть рассудительной.
— А ты сам разве не женишься на ней? Она надеется, что ты сможешь ее защитить.
— Я могу защищать ее только до тех пор, пока не умру. Может быть, это произойдет не очень быстро и она успеет оправиться от потери своего возлюбленного и понять, что разумно, а что нет. Надеюсь, что это случится нескоро.
— Он может попытаться убить тебя, — сказала Нофрет.
— Попытаться-то он может… — ответил господин Аи, и в нем блеснул прежний огонь.
Казалось, прибытие деда придало Анхесенамон сил. Его жрецы и врачи были не более искусны, чем ее собственные, но, раз уж царицу окружили такой заботой и так молили о ней богов, ей ничего не оставалось, как выздоравливать. На второй день пребывания Аи в Мемфисе, вечером, она пришла в себя настолько, что открыла глаза, взглянула на него и прошептала:
— Дедушка?
Господин Аи сжал ее хрупкую руку в своей — старая и морщинистая, она была все же намного сильнее. Анхесенамон прижалась к ней, как ребенок, не отрывая глаз от его лица, в котором, казалось, видела лишь то, что видела всегда: силу и защиту от страха. Он заговорил с ней ласково, словно успокаивая испуганную лошадь:
— Да, дитя, я здесь. Теперь ты проснешься и снова будешь сильной?
— Я уже проснулась, — произнесла она еле слышно. — А тот — здесь?
Аи понял и ответил:
— Я не дам ему причинить тебе зло.
— Заставь его уехать! Отправь его на край земли. Запрети ему возвращаться.
— Тише, — сказал он. — Тише.
Она попыталась подняться. Голос царицы прозвучал почти с прежней силой:
— Я приказываю тебе!
Жрецы и врачи толпой бросились успокаивать ее. Аи одним жестом отослал их, взял царицу за руку, удерживая, и твердо произнес:
— Сначала отдохни и наберись сил. А затем будешь отдавать такие приказы, какие сочтешь нужным.
— Я могу приказать и сейчас, — возразила она. — Я хочу, чтобы его отослали подальше. — Но царица говорила скорее обиженно, чем величественно, и покорно улеглась обратно в постель — ему не пришлось особенно настаивать. Так же безропотно она выпила чашку воды, съела немного бульона с овощами, выслушала множество молитв и заклинаний. Аи заставил жрецов и врачей управиться с этим поскорее, хотя они были склонны провести обряды по всей форме. Так же, как и Нофрет, он прекрасно понимал, что царица слишком слаба, чтобы выслушивать обряд целиком.
Когда она заснула, у нее еще был жар, но гораздо меньше, чем раньше. Нофрет уже почти убедилась в том, что единственным ядом, отравлявшим ее, был страх, и болезнь гнездилась только в ее душе. Конечно, страх тоже мог убить царицу, как зараза или отрава. Это пугало, но все-таки смертельный яд, подсунутый царице сообщниками Хоремхеба, был бы хуже.
45
Царица Анхесенамон вышла замуж за господина Аи, совершив, ввиду своей недавней болезни, скромную свадебную церемонию, и короновала деда — теперь уже мужа — собственными руками, возложив на его голову две короны царей Египта. Он принял их все и оказанную честь с подобающим достоинством и без особой самоуверенности.
— Я стою на грани двух миров, — сказал он своей царице. — Скоро я стану Осирисом. Тогда, царица, тебе придется хорошенько поискать того, кто станет Гором после меня.
Анхесенамон склонила голову, но только из почтения. Она не глядела на Хоремхеба, который присутствовал на церемонии в ранге военачальника. В нем не было заметно особой ярости из-за того, что она все-таки переиграла его. Весь его вид говорил, что он может и подождать. Старик умрет и тогда он получит то, к чему всегда стремился.
Хоремхеб не выдал царицу, и его слуги, похоже, тоже не проболтались. Возможно, писцы сказали лишнее. Или гонцы не удержали языка после хорошей порции вина. Как бы то ни было, в Египте стало известно, что царица, чтобы не выходить за египтянина, посылала к врагу и просила у него сына. Наиболее милосердные приписали такой поступок безумию царицы. Большинство были не склонны так легко оправдывать ее, как бы хороша она ни была и какой бы хрупкой не казалась после болезни.
Анхесенамон была не так уж хрупка для первой брачной ночи после свадьбы, но Нофрет предположила, что супруги всю ночь целомудренно спали на разных краях кровати. Госпожа Теи оставалась в Фивах, незаметно освободив дорогу, но все ощущали ее незримое присутствие. Аи не развелся с ней и не отверг ее. Он предпочел, как дозволяется царю, иметь двух жен: одну для сердца, а другую — свою царицу.
Конечно, после нескольких первых, необходимых ночей, Аи оставался в покоях царя, а Анхесенамон — в покоях царицы. Днем они вместе управляли Египтом, сидя рядом на чуть-чуть отличающихся друг от друга тронах. Трон Тутанхамона отправился в гробницу вместе с ним. Для Аи сделали новый, а у Анхесенамон оставался прежний, который когда-нибудь отправится в гробницу вместе с ней.
Супруги делали вид, что все идет как должно, но их постоянно окружали пересуды. Во время свадебной процессии, недолгой по причине слабого здоровья царицы, ее вынесли на кресле из дворца, так что народ мог видеть свою повелительницу. Народ видел и швырнул в нее несколько камней, которые, к счастью, пролетели мимо. Многие бормотали примерно одно и то же:
— Готов спорить, что она предпочла бы видеть рядом с собой здорового хеттского быка, а не этого дряхлого египтянина.
— Аи сам наполовину чужестранец, — вспомнил кто-то рядом с Нофрет. — Мы катимся назад, скажу я вам, во времена пастушеских царей.
От поднявшегося возмущенного ворчания по ее спине пробежали мурашки. Египет изгнал народ захватчиков, имя которого никогда не произносили, но память о нем не переставали с наслаждением позорить. За многие тысячи лет Египет мог стыдиться только тех единственных чужеземцев, когда-либо захватывавших трон Двух Царств.
Анхесенамон тоже пыталась отдать Египет чужеземному царю — и сделала это, как утверждали слишком многие, хотя Аи был наполовину египтянином по крови и полностью египтянином по языку и духу. Некоторые даже возмущались, что царица — внучка Аи, стало быть, тоже не совсем египтянка.
Поток сплетен был отвратителен. Время и новые толки все усиливали его. Вероятно, Хоремхеб был тут ни при чем; возможно, ему и не нужно было стараться. Простая истина, с которой все началось, — письмо Анхесенамон царю хеттов — сама по себе оказалась достаточной.
Люди ненавидели Эхнатона за то, что он отнял у них богов. Они вспомнили и об этом и обрушили все свое возмущение на голову его дочери — его дочери, которая заявила чужеземному царю, что не возьмет в мужья ни одного египтянина.
Анхесенамон с трудом могла бы не замечать летящие камни, злобный шепот за спиной в храмах, куда она ходила молиться и почтить их своим царственным присутствием, людей, отворачивающихся от нее на улицах, но стрелу, просвистевшую над головой, когда она выходила из носилок перед храмом Хатор, не заметить было невозможно. Мгновением раньше стрела попала бы ей прямо в глаз.
Царица не закричала и не побежала в панике. Она спокойно прошла в храм, а стража бросилась искать стрелка, чтобы расправиться с ним. Анхесенамон горячо молилась о сыне, о наследнике для умирающего царского дома. Нофрет, правда, подозревала, что на самом деле она молится всем богам, которые только могут ее услышать, чтобы они забрали Хоремхеба и пожрали его прежде, чем он успеет захватить трон.
Когда царица вышла из храма, начальник стражи доложил, что злодей найден на крыше, с кинжалом — по-видимому, его собственным — в груди. Она бесстрашно выслушала эту новость, поблагодарила начальника за службу, взошла в свой паланкин и молча отправилась во дворец. На сей раз люди не бросали камней, и никто ничего не говорил, — стрела была достаточно красноречива.
Анхесенамон позволила себе сбросить маску сдержанности лишь тогда, когда она уже находилась в безопасности в своих покоях, а вечерняя трапеза была давно закончена и служанки отпущены спать. Аи не пришел исполнять свои супружеские обязанности, хотя бы для виду, и никто его и не ожидал. Царица была в полном уединении, насколько это возможно. Нофрет во внимание не принималась, будучи или ничем, или слишком близкой — тенью царицы, привычной и потому незаметной.
Анхесенамон опустилась в свое любимое кресло, сидя в котором она иногда читала по вечерам или слушала игру на арфе или на флейте. Она закрыла лицо ладонями и сидела так долго, неподвижно, но и не плача.
Потом царица заговорила, неожиданно для Нофрет. Голос звучал ясно и спокойно.
— Кажется, я хочу умереть.
Нофрет постаралась сохранить спокойствие, сидя на коленях возле кресла, в позе служанки, давно ставшей привычной и удобной. Они промолчала, даже постаралась стать еще незаметнее, чем прежде.
— В конце концов, — продолжала Анхесенамон, как будто услышав ответ, — что мне еще остается? Аи недолго сможет защищать меня. Боги не дадут мне зачать от него сына. Наша линия кончится вместе с нами; другой может и не быть.
— Откуда тебе знать, — возразила Нофрет, тут же забыв о стремлении быть незаметной. — Раз уж семя Аи сухое и бесплодное, что тебе мешает найти кого-нибудь помоложе, чтобы он стал отцом сына и наследника Аи? Думаю, такое уже не раз бывало. Поговаривают, что именно так поступала твоя мать — якобы твой отец даже не мог поднять свое копье, не то что зачать столько детей.
Анхесенамон наградила Нофрет долгим мрачным взглядом.
— Оружие моего отца было не слишком большим и острым, но достаточным для дела. Он не нуждался в помощнике.
— Но сын, раз уж он так необходим…
— Не послать ли в кварталы, где живут рабы, — размышляла Анхесенамон, — и подыскать для меня здорового и сильного младенца? Может быть, апиру, моей крови. Я притворюсь беременной и скроюсь в уединении. Или сделаю вид, что нашла царственного младенца в корзинке среди тростника у реки, как подарок богов, с печатью богов на челе.
— Ты совсем сошла с ума, — заметила Нофрет.
— Пожалуй, — согласилась Анхесенамон. — Понимаешь, мое предвидение обмануло меня. Я знала, знала, что у меня будет сын, и что мой возлюбленный, мой царь и бог, будет его отцом. Я видела, как мы вместе стареем, и никогда не предполагала, что он умрет таким молодым и не оставит мне ничего, кроме двух крошечных, нежизнеспособных младенцев-девочек. Пока не стало слишком поздно, я не видела, что царем хочет стать кто-то другой и не остановится ни перед чем, чтобы добиться своего. Может быть, сами боги не знали этого.
— Боги-то знали. Они все знают. — Нофрет вздрогнула. Ночной воздух всегда полон шорохов, но сегодня они были особенно громки, как будто духи умерших и еще не родившихся вступили в сражение.
— Я все-таки думаю, что должна умереть. Или найти мальчика в тростнике. Мне нужно искать его? — бормотала царица.
— Тебе нужно лечь спать, — сказала Нофрет, не зная, что еще говорить.
Анхесенамон вздохнула.
— Да, я могу спать. И видеть сны. В снах я вижу его. Нет, не моего царя — того, другого. Царевича, который приехал, чтобы спасти меня. Как ты думаешь, он был бы ласковым или грубым и жестоким?
— Я думаю, он обожал бы тебя, — предположила Нофрет. Ей не хотелось закрывать глаза. Лицо хеттского царевича стояло у нее перед глазами, как и у ее госпожи. Такое не забывается.
— Обожание тоже может быть жестоким, особенно если его испытывает мужчина и боится этого. Глупо было посылать за ним. Но хотела бы я знать… Если…
Голос ее затих. Шелестение в воздухе, казалось, заглушило его.
Царица уснула, сидя на кресле. Нофрет подняла ее на руки. Она была легонькой, как ребенок, что-то бормотала по-детски и, когда Нофрет уложила ее в постель, свернулась калачиком.
Нофрет задула лампы, кроме одной, которая будет горсть всю ночь, и отправилась в свою комнатку. Она думала, что не заснет, но сон уже ждал в засаде, словно люди Хоремхеба, поджидающие хеттского царевича. Явились сны, кошмары, воспоминания, которые лучше стереть из памяти. Утро пришло как благословение, хотя и с громом, как в Ахетатоне, перед тем, как его покинул старый царь.
Царица тихо сходила с ума. Она исполняла свои обязанности как всегда как была привычна с детства. Но, подобно своему отцу, когда не нужно было быть царицей, Анхесенамон исчезала из своих покоев.
Иногда Нофрет обнаруживала ее в саду возле бассейна с лотосами, где она прежде нередко проводила досуг с молодым царем. Но чаще ее нельзя было найти ни в одном из мест, где подобает быть царице. Нофрет выследила ее внизу, у реки, среди тростниковых зарослей, куда слуги не ходили, боясь крокодилов. У царицы, к счастью, хватало соображения не опускать в воду руки или ноги, но она уходила далеко по течению, разыскивая, судя по всему, корзинку с младенцем.
Конечно, корзинки не было. Нофрет полагала, что она и не ожидает ее найти. Это было сном, одержимостью. Царица уходила от самой себя, от того, чем она была, в поисках того, чего никогда не найдет. История с хеттским царевичем была только началом.
Может быть, более всего она искала то, что удалось найти ее отцу. Смерть без смерти. Бегство от положения, ставшего невыносимым.
Она отыщет и настоящую смерть, если будет продолжать бродить так близко к воде. Нофрет наблюдала за ней скрытно, готовая броситься на помощь, если царица споткнется или упадет. Или — и это вызывало особое опасение — если кто-то набросится на нее и столкнет в реку. Хоремхеб был терпелив и надеялся получить Анхесенамон живой, вместе с царским правом, носительницей которого она была. Но другие могут не захотеть, чтобы она жила.
Когда царице наскучило бродить вдоль реки, она стала приказывать запрягать лошадей, и уноситься на колеснице куда глаза глядят. Охранники скакали следом, незамечаемо и невозбранно, а Нофрет сидела в колеснице царицы. Она всегда носила с собой нож, что бы ни говорили об опасности доверять оружие рабам.
Может быть, лучше было бы брать с собой лук и полный колчан стрел, но ей никогда не случалось упражняться в стрельбе из лука. Охранники на колесницах были вооружены копьями, от которых будет мало проку, если прилетит стрела и поразит царицу из безликой толпы. Камни прилетали, и не одиножды. Ни один не попал в цель, хотя иногда они задевали колесницу, а один камень ударил левую лошадь. Она испугалась и понесла, увлекая за собой правую. Но Анхесенамон, несмотря на свою хрупкость, отлично правила колесницей и удержала лошадей. Она успокоила испуганное животное и снова поехала легкой рысью.
Царица и слышать не желала о том, чтобы не выходить из дворца, даже под угрозой забрасывания камнями.
— Мой отец сталкивался с вещами и похуже, прежде чем покинул Фивы, — говорила она. — Меня не собираются убивать, только пугают. Его же хотели видеть мертвым.
— Ты могла бы задуматься, почему тебя хотят напугать, — сказал Аи. Он все еще мечтал пробудить в ней здравый смысл, хотя его внучка была так же далека от этого, как некогда ее отец.
Анхесенамон его, конечно, не услышала, но миролюбиво ответила:
— Они злятся, потому что я попыталась посадить над ними хетта. Этому был положен конец благодаря военачальнику Хоремхебу. Правишь ты, а с тобой они могут примириться.
— А когда я умру? Ты пошлешь за другим хеттом?
Анхесенамон взглянула на него широко раскрытыми глазами, так широко, что они казались белыми. Было ясно, что она видела его не лучше, чем перед этим слышала.
— Я умру прежде тебя, — сказала она.
46
В эти дни Нофрет отдыхала мало. Ночами она кое-как спала на полу спальни своей госпожи, но большей частью лежала без сна, тоскуя по своей кровати. Она уже разучилась спать где придется.
Успокоение наступало только тогда, когда царица находилась при дворе, а царь — рядом с ней. Аи был стар и уже не так силен, но его присутствие было властным, а стража — многочисленной и беззаветно ему преданной. Нофрет полагала, что ни у одного египтянина не хватит духу покуситься на царицу в таком месте.
Пока Анхесенамон выслушивала просителей, принимала посольства и управляла Двумя Царствами, Нофрет могла немного поспать или хотя бы просто отдохнуть. Она уединялась в одном из садов или надевала платье попроще, заплетала волосы в косу и гуляла по городу, заходя к торговке пивом, где можно было купить кувшин и посидеть немного. Она почти никогда не выпивала весь кувшин и часто отдавала остатки собаке торговки. Это было толстое, ленивое, хмельное животное, похожее на свою хозяйку, кормившееся пивом и отбросами у соседа-мясника.
В один из дней египетского лета, когда река была в полном разливе, но уже начинала спадать, Нофрет поила собаку пивом. Воздух был густой и так насыщен влагой, что его, казалось, можно пить, и кишел мошкарой. Дверь пивной лавки завесили от насекомых, так что внутри было темновато, и лампа, свисавшая с балки, давала мало света.
В этот час Нофрет была единственной посетительницей, если не считать собаки. На улице торговка предлагала свой товар прохожим. Нофрет слышала ее песню о пиве и о тех радостях, которые оно приносит. Прохожие смеялись над некоторыми строчками и покупали кувшин-другой.
Один из мужчин, остановившихся у лавки, отличался красивым низким голосом и возвышался над остальными людьми на улице, словно башня. Это был чужестранец, с бородой, в широких одеждах, с орлиным носом, широкий в плечах: похожий на хетта, но не хетт.
Нофрет смотрела рассеянно, мысли бродили где-то далеко. Она даже не заметила, как мужчина, перекинувшись парой слов с торговкой, проскользнул за занавеску и оказался перед ней. В комнате могло бы разместиться с дюжину людей, но он, казалось, заполнил ее целиком, даже тогда, когда, подтянув ногой табуретку, сел перед Нофрет с кувшином в руке.
— Выпьешь со мной? — спросил он.
— Иоханан… — Нофрет не понимала, почему вдруг так разозлилась. Он ведь не сделал ничего, что могло бы ее обидеть.
Вот поэтому-то она и разозлилась. Потому, что он ничего не делал. Нофрет не слышала о нем ни слова с тех пор, как он побывал в Мемфисе по пути к бабушке, еще при жизни Тутанхамона. Когда она была в Фивах, он не пытался отыскать ее. Она думала, что он покинул город. Возможно, так и было. Может быть, он снова уходил в Синай, а теперь вернулся в Египет. Возможно…
Нофрет взяла у него кувшин с пивом и отхлебнула — пожалуй, больше, чем следовало. Это было крепкое пиво, и голова у нее слегка закружилась. Лицо Иоханана поплыло перед глазами. Оно было более худым, чем ей запомнилось, темнее, дочерна загорелое. Руки его, когда он брал кувшин назад, оказались загрубевшими, видимо, от тяжелой работы.
Иоханан поймал ее взгляд.
— Каменотес, — сказал он без смущения. — Я строил гробницы в Фивах.
— Ты же не очень хорошо умел это делать, — заметила Нофрет. — Я думала, твой самый большой талант — командовать другими.
Иоханан пожал плечами и отхлебнул вина — поменьше, чем она, но с гораздо большим удовольствием. Стерев пену с бороды рукавом, он сказал:
— Другой работы не было. Фивы не Ахетатон. Начальники над всем — египтяне. Они не любят чужестранцев. Особенно тех, которые прежде пользовались покровительством падшего в Ахетатоне.
— Так его называют в Фивах? В Мемфисе о нем вообще не упоминают.
— Позже всего его забудут в Фивах, хотя там уже кое-что делают, чтобы стереть из памяти его имя. Мне приказали соскабливать его в надписях. Наверное, им нравилось, что мне приходится переделывать то, что еще так недавно делали мои люди.
В его словах не было ни горечи, ни отчаяния. Он не походил на человека, отрекшегося от своей гордости и своей воли.
— Ты даже не пришел повидать меня, когда я была в Фивах, — попеняла ему Нофрет.
— Работающим на строительстве гробниц не дают отпусков, чтобы навещать дворцовых слуг.
Здесь уже прозвучала горечь. Чуть-чуть, но Нофрет уловила. Горло ее сжалось.
— А Леа? Она…
— Бабушка жива. Она здесь. Я оставил ее на постоялом дворе, отдохнуть с дороги. Она почти не изменилась, но путешествовать ей и раньше было нелегко.
Нофрет удивленно посмотрела на него.
— Но тебя же никто не отпускал? Ты убежал?
— Мы никогда не считали себя рабами. Мы сродни царю. Но царь умер, и его родня не в чести.
— И поэтому ты убежал. А остальной твой народ — они тоже…
— Остальные не хотят. Говорят, что им и так неплохо. Им приходится работать больше, чем раньше, но платят столько, что хватает на хлеб и на пиво. Никто не отнимает их жен и дочерей, и удар плеткой достается лишь изредка, когда нужно кого-то проучить для примера.
Его тон заставил Нофрет вскочить. Кувшин разбился бы, не подхвати он его. Она рванула на нем одежду.
Одежда из тонкой шерсти, хорошо сотканная, но изношенная и выцветшая, с треском подалась, обнажив его плечи, почти такие же темные, как и лицо.
Там были шрамы на шрамах, а поверх — едва зажившие раны. Нофрет отдернула руку, словно обжегшись.
Иоханан с трудом натянул одежду. Его спокойное лицо даже казалось довольным, а глаза были слишком темны, чтобы разгадать их выражение.
— Я плохо понимаю указания. Я гораздо лучше умею их раздавать. А это не всегда достоинство.
— Тебя собирались убить, — сказала она.
— Так считает и моя бабушка, — согласился Иоханан. По-видимому, это его совершенно не волновало, и он совсем этого не боялся. — Она хочет уйти отсюда. Она сказала, что, если и дальше терпеть, будет только хуже, поскольку я все равно не могу сдержать свой язык. Я слишком долго жил в пустыне и забыл, что значит почтительно говорить с придирчивым мастером.
— Тебе не следовало сюда возвращаться, — заметила Нофрет. — И вообще не следовало возвращаться в Египет. Если кто-то узнает о твоем бегстве — и будет разыскивать тебя…
— Бабушка говорит, что нет. Мы пошли в пустыню, так что все думали, что мы идем на юг. Нас не станут искать на севере.
— Будут, если они не совсем дураки. Все же знают, каков ты.
— Нас никто не преследовал. — Иоханан больше не хотел слышать об этом: губы его сжались. — Мы долго шли к пустыне, но бабушка сказала, что здесь следует остановиться. Не хочешь ли пойти и поговорить с ней?
У Нофрет захватило дух. Она хотела отказаться, сказать, что должна вернуться во дворец, что уже поздно, что, если она не вернется, царица может уйти из дворца и ее могут ранить или убить, но, помимо воли, спросила:
— Где она? Отведи меня к ней.
Иоханан привел ее на постоялый двор в закоулках города, где встречалось больше чужеземных лиц, чем египетских. Люди здесь говорили на всех известных в мире языках. Нофрет услышала хеттский, странный певучий язык мореходов с северного побережья великого моря, нубийский, ливийский, наречия Митанни, Ханаана и Ашура и, конечно, оба наречия апиру, и кочевников пустыни, и их сородичей из Синая, которые были сродни царям Египта.
Леа отдыхала в притемненной задней комнате постоялого двора. Помещение так напоминало ее комнату в селении строителей в Ахетатоне, что Нофрет почудилось, будто она вернулась на годы назад. Стены, сложенные из простого илового кирпича, как во всех обычных домах в этой стране, были завешены тканью, превращавшей комнату в подобие шатра кочевников. Стульев не было, но во множестве имелись ковры и подушки, бронзовый сосуд с водой, кувшин финикового вина, маленькие чашки, блюдо фиников в меду.
В отличие от господина Аи, Леа совсем не изменилась. Она всегда казалась Нофрет древней, но сильной, как старое искривленное дерево. Кожа ее была мягкой, не очень морщинистой, спина — прямой, ясные глаза смотрели со знакомой приветливостью. К своему изумлению, Нофрет почувствовала, как ее глаза наполнились слезами, а ведь она зареклась плакать в тот день, когда ее похитили и увезли в Митанни.
Она села на свое обычное место, на кипу ковров перед Леа, разлила по чашкам финиковое вино из кувшина, — и для Иоханана, вошедшего вслед за ней, тоже.
— Не хватает только Агарона, все остальные в сборе.
Она хотела сказать это легко, но получилось печально. Никто из апиру не улыбнулся. Леа кивнула.
— Хорошо, если бы Агарон был здесь. Мы возвращаемся к нему, — он живет среди людей Синая.
Нофрет ожидала этого. В Египте для них не было безопасного места.
— Но если вы уйдете, я никогда вас больше не унижу.
— Если только не пойдешь с нами.
Это сказала Леа, а не Иоханан, который вообще никогда ни единым словом не предлагал ей следовать за ним куда-либо.
Беспричинно рассердившись, Нофрет все-таки заставила себя подумать, прежде чем произнести наиболее подходящие слова.
— Вы же знаете, что я не могу оставить мою госпожу. И сейчас больше, чем когда бы то ни было.
— Почему? — поинтересовалась Леа.
Нофрет поглядела на нее, прищурившись, и не отвела взгляда.
— Если ты способна видеть истину или хотя бы слышать, что говорят повсюду в Египте, ты знаешь, что ее не любят, а во многих местах даже ненавидят.
— Потому, что она сделала то, чего царице делать не следует. — Леа покачала головой. — Да, я слышала людские пересуды. Много ли в них правды?
— А ты не видишь?
— Скажи мне, — попросила Леа.
— То, что она посылала за хеттским царевичем, — произнесла Нофрет, помолчав, — это правда. Правда и то, что она отказывалась выходить за кого-либо из египтян, пока смерть царевича, посланного к ней, не вынудила ее к этому. Тогда она приняла то, что должна была принять. Царица рискует жизнью своего деда, защищаясь от человека, который, как она полагает, убил уже двух царей и готов убить третьего.
— А пойдет ли он на это?
— Я… Так не думаю. — Нофрет сделала паузу, размышляя, не изменить ли свои слова, но оставила все как есть. — Он знает, что его время скоро придет. Господин Аи стар. Время и боги разделаются с ним прежде, чем его соперник лишится терпения. И, кроме того, его занимает страна Хатти. Вряд ли они так спокойно примирятся с убийством их царевича.
— Вряд ли, — согласилась Леа. — Но все войны кончаются, и солдаты возвращаются домой. Этого ли опасается твоя госпожа?
— Моя госпожа теперь выше страха. — Было почти приятно произнести эти слова; а потом сказать то, чего она не говорила никому, даже господину Аи: — Она безумна, как и ее отец, но бог не дал ей своей милости. Моя госпожа считает, что, если ей удастся обрести сына, любого, где угодно, она будет в безопасности.
— Ты же понимаешь, что этого быть не может, — вмешался Иоханан, — если только она не найдет себе взрослого мужчину, закаленного в войнах. Вроде этого хеттского царевича. Жаль, что его убили. Египет бы возненавидел такого царя, но, насколько я знаю его соплеменников, он мог бы достаточно успешно противостоять врагу своей госпожи.
— Он бы долго не протянул, — сказала Нофрет. — Ей нужен египтянин, молодой и сильный. Такого она не нашла. Все подходящие умерли или находятся далеко отсюда. От них избавлялись по очереди, год за годом. И никто этого не замечал, кроме моей госпожи. Моей бедной госпожи, чей ум надломлен.
— Так ли это? — спросила Леа. — Может быть, она ясно видит, и эта ясность пугает ее, и она бежит от нее? Царица распознала врага прежде, чем кто-либо другой. А если она видит еще больше? Вероятно, она знает, что должно произойти.
— Прежде она никогда не видела так ясно.
— Горе способно открыть глаза сердца. А она за свою короткую жизнь испытала больше горя, чем многие женщины преклонных лет.
— И все же она сама не своя. Бродит вдоль реки, якобы разыскивая дитя в корзинке. Рассказывает сама себе сказки о детях рабов и слуг, мечтает взять одно, а всем остальным угрожать смертью, если кто-нибудь осмелится оспаривать права такого наследника на престол. Она сочиняет всякие дикие истории и с таким полетом воображения, какого не встретишь у женщины со здравым умом.
— И все-таки она продолжает править, и не так уж плохо, иначе люди заговорили бы об этом.
— О чем тут еще говорить? Царица посылала в страну Хатти за мужем. Одного этого безумства довольно.
Леа покачала головой.
— Я думаю, ты ее недооцениваешь. Она в огромной опасности и прекрасно сознает это.
— Тогда почему же, — сказала Нофрет с неожиданной горячностью, — царица носится в своей колеснице так, будто бессмертна, и бродит у самой реки, искушая крокодилов?
— Может быть, она хочет казаться своим врагам незначительнее, чем на самом деле.
— Не слишком ли хорошо она притворяется? Нет, моя госпожа хочет умереть. Она сама так говорит, и говорит правду.
Наступило молчание. Нофрет вдруг заметила, что стиснула свою чашку с финиковым вином так, словно хочет ее раздавить. Она расслабила пальцы, поднесла чашку к губам и снова отставила, не отхлебнув. Сладость вина помешала бы ей говорить.
Казалось, прошло очень много времени, прежде чем Иоханан медленно произнес:
— Он сказал, что мы будем обсуждать все это. Что, когда пожелает бог, царица станет такой, как ты говоришь: слабой духом, хрупкой и в большой опасности. А когда ее враг получит желаемое, он избавится от нее и возьмет себе более покладистую жену, попроще.
— Кто говорил тебе такое? — Но Нофрет знала, кто. Ей хотелось изгнать это знание из головы. — Это мертвый человек! Он по-прежнему рассуждает обо всем и ни о чем? Значит, он был в Фивах? Ведь уже несколько лет, как ты покинул Синай!
— Он все знал. И знал всегда. Его бог все ему показывает. Ум более слабого человека уже давно был бы сломлен этим.
— Ну, его ум сломлен давно. — Нофрет сплюнула, нарочито грубо. — Стало быть, он все предвидел. И что же он нам советует? Убить ее прежде, чем преданный военачальник сделает это вместо нас?
— Она погибнет, если останется здесь, — сказала Леа. — У царицы нет друзей, после смерти мужа ее некому защитить. У нее нет сына; если она и родит его, младенец будет легкой добычей для врага. Дети так легко умирают, а она еще не родила ни одного, который прожил бы хоть немного. У царицы нет защиты и очень мало надежды. Ее господин умрет, и другой овладеет ею. Ни один царевич из дальних стран не появится, чтобы защитить ее.
— Он ее не убьет, — возразила Нофрет. — Этот человек не остановится ни перед чем, но он хочет обладать ею самой, не меньше, чем царством. — Она повторяла слова господина Аи, а почему бы и нет? Он был умным человеком.
— Твоя госпожа носит в себе царское право, но не сына для царя. Получив две короны, он сразу же начнет искать женщину, которая даст ему наследника.
— Может быть, боги смилостивятся. Или он заведет себе наложницу. Сыновья таких женщин и прежде получали царство.
— Все это возможно, — заключила Леа. — Но может случиться и так, как предвидит царица. Она видит только смерть. Если бы она не послала в Хатти… Но Египет может вспомнить и ее отца, и то, что он сделал с древними богами.
— В Египте беспокойно, — вмешался Иоханан. — Люди поняли, что цари могут умирать не только от войн, старости или болезней, а от надоевшего царя можно избавиться и завести нового, который придется всем больше по вкусу. Теперь Египет видит себя под властью старого царя, слишком старого, чтобы обзавестись крепким сыном, и царицы, которая до сих пор рожала только дочерей, не способных к жизни. Царь и царица — жизнь и душа царства. Если правители так хрупки, что же будет с их страной? Сколько еще времени пройдет, прежде чем она зашатается и рухнет? И куда упадет, как не в руки тех, к кому царица посылала за царем, — чужого народа, который станет ее завоевателем?
Нофрет зажала уши, но его голос продолжал звучать — спокойно, безжалостно, произнося правду во всей ее беспощадной ясности. Когда голос смолк, она опустила руки. Иоханан склонился вперед, покачиваясь, как в детстве, когда он пребывал в расстроенных чувствах из-за какой-нибудь мелочи, составлявшей для мальчика целый мир. Теперь он был мужчиной, и Нофрет почти верила, что он переживает так же сильно, как и она.
— Значит, надеяться нам не на что. Остается только сдаться перед обстоятельствами — другого выбора нет.
— Ее отец так не считает, — заметил Иоханан. — Он говорил, что в свое время, когда мне уже не будет жизни в Фивах, а Египет окажется под управлением старика и женщины, которая хотела получить царя из другого царства, я должен буду принести царице Египта надежду и освободить ее.
— То есть убить?
Иоханан замотал головой, нетерпеливо, как в юности, и с возмущением.
— Ты слепа или просто боишься увидеть то, что прямо у тебя перед глазами?
— Она не сможет пойти по пути своего отца, — возразила Нофрет. — Только счастливый случай и бог спасли его от разоблачения. Вряд ли нам удастся повторить это.
— Нужно немного воображения, — заговорила Леа, с сочувствием встречая их удивленные взгляды. — Царица и не захочет уйти. Ее отец принадлежал только своему Богу. Она же всегда и навсегда принадлежит Египту и ни за что не уйдет по собственной воле.
— Она умрет здесь, — сказала Нофрет. — Она хочет этого, настаивает на этом.
— И ты ей позволишь? — Иоханан всплеснул руками. — Бабушка, ведь ты же сама заставила меня прийти сюда! А теперь говоришь, что все бесполезно.
— Разве я так сказала? — Невозмутимость Леа могла привести в отчаяние кого угодно. — Я не говорила, что ты должен убивать царицу, но нельзя позволить, чтобы ее убили.
— Тогда как же… — спросили Нофрет и Иоханан одновременно и замолчали, одинаково озадаченные и одинаково возмущенные.
Леа рассмеялась, звонко, как молоденькая.
— Ах, вы, дети! Откройте глаза и смотрите. Царица умрет, если останется здесь и не уйдет, потому что она царица и не знает ничего другого. У нее нет бога, чтобы вести ее. Ее отец мог бы сделать это, но его время еще не пришло. Он находится далеко в Синае, где приказал ему оставаться его бог. А ты слышал бога, Иоханан. Он позвал тебя прочь из Фив и привел в Мемфис.
— В Мемфис меня привела ты, — сказал Иоханан, надувшись.
— Ты шел туда, куда я вела, но знал, что там бог.
Нофрет переводила взгляд с одного на другого. Она никогда прежде не улавливала большого сходства между ними. Иоханан походил на своего отца, а Агарон, судя по всему, — на своего давно умершего отца. И все же они были похожи. У них были одинаковые глаза, одинаковым свет в них, — полный свет дня в глазах Леа, медленный и неохотно поднимающийся рассвет в глазах Иоханана.
— Ты же не имеешь в виду, что мы…
— И все же выход есть, — произнесла Леа. — Хотя, возможно, эта идея безумна.
— Так же безумна, как царица, — Иоханан взглянул на Нофрет, потом снова на свою бабушку. — Она ведь безумна? Что она будет делать, если…
— Ты же знаешь, что царица никогда не уйдет по своей воле, как бы ты ни надеялся, — сказала Леа.
Иоханан покачал головой.
— Нет. Нет, мы не сумеем. Если она будет против, то выдаст нас первому же стражнику, одним словом приговорит нас к смерти.
— Вряд ли.
— Как же мы поступим? Усыпим и понесем, как вещь?
Нофрет слушала с растущим недоверием. Сначала она ничего не понимала, потом уже не желала понимать. Эти двое рассуждали о похищении царицы Египта, о том, как схватить ее и утащить в пустыню, где, вне всякого сомнения, ее ожидал отец и за его спиной — его Бог.
— Вы не посмеете, — воскликнула она. — На ваши головы обрушится гнев всех богов. Египетское войско догонит и уничтожит и вас, и женщину, которую вы хотите похитить. Человек, который так страстно жаждет получить трон, получит причину, лучше которой и желать не надо, чтобы привести царицу к гибели.
— Нет, пока она — носительница царского права, — возразил Иоханан.
— Она не единственная. Все так думают, потому что господин Аи очень заботливо охраняет своих родных. Но у него есть дочь, младшая сестра Нефертити, еще вполне молодая, чтобы родить ребенка. Она никогда не была замужем. Она живет в уединенной усадьбе или в храме Амона в Фивах, где поет в хоре. О ней вспомнят, можете быть уверены. Она прекрасно выполнит свою роль, если этот человек попросит ее.
— Вот видишь, — сказал Иоханан, — у твоей госпожи здесь нет никаких надежд.
Нофрет вытаращила на него глаза.
— Так на чьей же ты стороне? Ведь сначала ты спорил!
— Я не обязан приходить с восторг от всего, что вижу. На самом деле, мне это совсем не нравится. Полное безумие!
— Другого выхода нет, — вмешалась Леа. — Иначе ей жизнь не спасти. Египет готов уничтожить свою царицу. Она знала об этом, посылая в страну Хатти. А теперь ее знание стало уверенностью.
— Не думаю, — заметила Нофрет, — что она хоть что-нибудь сделала правильно. Но как же, скажите мне, мы сможем похитить царицу и добраться с ней до Синая так, чтобы нас не поймали и не убили?
— Бог это знает, — ответила Леа. — Открой глаза и увидь.
— Я не вижу ничего, кроме смерти.
— Тогда ты слепа. — Леа наклонилась вперед и протянула к ней руки. Лицо Нофрет ощутило тепло рук старой женщины, сухих и тонких. Но в них была колоссальная жизненная сила, неистовая сила духа. Нофрет инстинктивно отшатнулась, но руки снова были перед ней. Она не могла избавиться от них.
— Открой глаза и увидь, — повторила Леа.
Нофрет крепко зажмурилась, но свет наполнил ее глаза. Свет, подобный пылающему костру, подобный огненному столпу в ночи. Свет, подобный тому, что наполнял ушедшего царя, мертвого человека, который еще жил и был пророком в Синае.
Она стиснула зубы.
— Я не желаю знать этого бога.
— Твое желание тут ни при чем, — сказала Леа. — Открой. Увидь.
— Нет!
— Увидь! — приказала Леа, теперь уже без всякой мягкости. — Открой и увидь.
47
Нофрет действительно не видела ничего, кроме безнадежности и царицы, повредившейся в уме, которую возненавидел ее народ. Может быть, она окажется достаточно сильной, чтобы преодолеть все это, даже превзойти мужчину, который ее получит, сильного человека, не знающего жалости. Все знали, что, когда умрет Аи, Хоремхеб станет царем. Это было так же неотвратимо, как разлив реки.
Он все еще находился в Мемфисе и часто, приходя в часы приема, стоял на месте, предназначенном для главнокомандующего, демонстрируя силу одним фактом своего присутствия. Царица вела себя так, как будто его вовсе не было. Царь обращал на него внимание, когда это следовало сделать. Военачальник пока еще не требовал провозгласить себя наследником, но никто и не подумал бы ему возражать. Все в Египте боялись Хоремхеба.
Тем, кто знал его чисто внешне, он вовсе не казался ужасным. Хоремхеб был красивым мужчиной, не первой молодости, но далеко еще не старым. Он держался, как подобает солдату, прямо, с достоинством, со всегдашней готовностью встретить опасность. Люди, сопровождавшие его ко двору, стража, следовавшая за ним во дворце и в городе, — все были прирожденные воины, красивые и опасные, словно дикие коты, но таковы были и воины в стране Хатти. Возможно, они вовсе не собираются причинить зла госпоже Нофрет. Возможно даже, их господин, несмотря ни на что, окажется как раз тем мужем, который поможет ей прийти в себя.
Наблюдая за ним при дворе и во дворце, Нофрет с трудом вспоминала, что это враг ее госпожи. Да, он принес в шкатулке голову и руки царевича Зеннанзы, но так издавна поступали египтяне, одолев врага. В некотором роде, Хоремхеб дал Египту только благо, предотвратив вступление чужеземца на его трон и защитив царицу от ее собственного безумия. Едва ли его можно было обвинить за то, что Египет, узнав о поступке царицы, возненавидел ее. Даже если он воспользовался случаем, чтобы получить власть над жизнью и судьбой царицы — за что его винить, в конце концов? Он просто поступил так, как поступил бы на его месте любой сильный мужчина.
Египту нужен сильный царь. Так сказал Аи, слишком старый и утомленный жизнью, чтобы быть царем, в котором нуждался Египет. Он не станет избавляться от того, кто намерен стать его наследником, будучи очень разумным и преданным своей стране.
Иногда Нофрет казалось, что она становится не менее безумной, чем царица. В городе находились Леа и Иоханан, ожидая, когда она сделает то, о чем они сговорились в комнате на постоялом дворе — то, что они навязали ей одной силой воли. Царица бродила вдоль реки, бесцельно носилась на своей колеснице, сидела, словно статуя, на приемах без единой здравой мысли в голове.
Нофрет сомневалась во всем, ничего не понимала, боялась что-либо предпринять. Она могла бы отказаться от участия в заговоре апиру — ибо это был заговор, злейшее предательство, и, если о нем станет известно, она умрет, и смерть ее не будет легкой. Она могла бы считать, что страхи ее госпожи напрасны и ей нечего бояться; после смерти господина Аи царица оплачет супруга, примет в мужья его наследника и по-прежнему будет царствовать — в полном здравии, невредимая и забывшая свое горе.
Можно было надеяться на такое, но Леа видела совсем иное, а в своем народе она считалась провидицей. Леа видела безжалостного солдата, живущего только ради власти, которую мечтает заполучить. Хоремхеб овладеет несчастной помешанной царицей, использует ее, даже будет хорошо к ней относиться, пока она служит его целям, но, в конце концов, когда жена окажется неспособной дать ему наследника, он избавится от нее и возьмет себе другую, которая родит ему сына. Возможно, он даже будет по-своему любить Анхесенамон, но любовь для такою человека значит слишком мало по сравнению с жаждой власти.
Нофрет видела его истинную сущность. Много лет назад она подслушали тот разговор в храме Амона, видела выражение его лица, когда он принес голову и руки царевича Зеннанзы. Хоремхеб не скрывал, каков он на самом деле.
Но, даже если она склонится к подобным мыслям, то, что ей предстоит сделать, чудовищно. Анхесенамон никогда не согласится быть кем-то другим, кроме царицы. Ею она живет, ею и умрет. Она ни за что не пойдет по пути своего отца. Этот путь не для нее.
Если Леа и Иоханан имеют такие намерения, Нофрет заставит себя подчиниться их воле. Девушка настаивала, что ей нужно время, чтобы поговорить со своей госпожой, постараться убедить ее. Но глядя на Анхесенамон во время придворных приемов, увенчанную золотыми перьями, сжимающую скипетр, она видела лишь женщину, блуждающую среди зарослей тростника на берегу реки в поисках невозможного.
Анхесенамон обратилась из царицы в помешанную и не слышала Нофрет. Сегодня она пронеслась по городу на своей колеснице карьером, ничего не замечая на своем пути, а потом помчалась прочь — в Красную Землю, в пустыню, мерцающую под безжалостным солнцем. Нофрет держала зонтик от солнца, ветер рвал его из рук, и она чуть не вылетела из-за него из колесницы. Стражники отстали, их кони не могли догнать стремительных лошадей царицы. И даже они устали: их шкуры потемнели от пота, из серебристых стали синевато-серыми.
У Анхесенамон еще оставалось немного здравого смысла: она не спеша, постепенно замедляла бег лошадей, пока они не перешли на шаг. Бока их дымились, с них стекали пот и пена. Царица медленно развернула колесницу. Они двинулись обратно в город, по дороге встретив стражу с запыхавшимися, хромающими лошадьми. Стражники в доспехах шли пешком, ведя коней в поводу, чтобы облегчить вес колесниц.
Анхесенамон на них даже не взглянула. Взгляд царицы был устремлен на городские стены, на ворота, распахнутые для ее въезда. Нофрет задумалась, что же она видит: приветствие, угрозу или просто границу, которую нужно пересечь.
Невозможно было понять, о чем она думает. Когда-то Нофрет знала или умела догадаться. Сейчас в сердце своей госпожи она не видела ничего и вообще ничего, кроме бога апиру, которому не могла поклоняться, поскольку это был не ее бог. Он маячил перед глазами, как столб огня, требовал, чтобы она совершила то, против чего восставала каждая крупица ее ума и здравого смысла, потому что это было безумием и в случае неудачи грозило смертью. Но, даже если она не…
Нофрет трусила. Она никогда не думала, что сможет признаться себе в этом, но похитить свою госпожу и унести в Синай, где ее ждет отец, а с ним и его Бог, и народ, который он сделал своим, она не могла.
Анхесенамон поручила колесницу и лошадей слугам и направилась в купальню, чтобы смыть с себя пыль и пот после этой сумасшедшей гонки. На щеке у нее была кровь от камня, то ли вылетевшего из-под колес, то ли брошенного кем-то и городе, — Нофрет не знала и вспомнить не смогла. Она осторожно обтерла кровь, пока Анхесенамон сидела неподвижно, даже не спросив, глубока ли рана и может ли от нее остаться след. Ранка была ничтожная, всего лишь царапина, но женщина в своем уме, красивая и знающая о своей красоте, хотя бы поинтересовалась.
Царица заторопилась уходить почти сразу же после ванны. Нужно было еще идти на прием, но она отказалась надеть парадное платье, выбрав самое простое, полотняное, — немногим лучше, чем носили служанки.
— Я должна посмотреть, — там, на реке…
Теперь Нофрет должна была идти следом. Но она не могла себя заставить. И впервые за долгие годы отправила за царицей стражника, приказав ни в чем ей не мешать, но в случае опасности защитить.
Это был отказ, полный отказ от всего, что хотела от нее Леа. Но все же Нофрет чувствовала, что поступила разумно — слишком разумно. Ничего непоправимого не произошло. Время еще было. Если предвидение правильно, Аи умрет еще не скоро.
Сможет ли Леа так долго ждать? А Иоханан, с его лицом апиру и спиной в шрамах — за ним, возможно, охотятся и могут даже убить за бегство со строительства гробниц в Фивах?
Они уйдут. Нофрет обретет спокойствие. Анхесенамон будет жить, если сможет. Нофрет станет охранять ее. Хоремхеб не опасен для царицы, пока жива Нофрет.
Анхесенамон вернулась с реки, с ногами, облепленными грязью.
— Она хотела влезть в воду, — доложил стражник.
— Она сказала, что видит лодку.
— Не лодку, — возразила Анхесенамон, неожиданно для них обоих. — Корзину. Я видела корзину.
Нофрет переглянулась со стражником.
— В тростниках было утиное гнездо, — сказал он.
— Нет, корзина, — настаивала Анхесенамон, — сплетенная из тростника и застрявшая в прибрежных зарослях. Я хотела ее достать. Он помешал мне. Прикажи его высечь.
Стражник вытаращил глаза и забеспокоился. Нофрет покачала головой и жестом велела ему выйти. Он поспешил исчезнуть, укрывшись в караульном помещении.
Как и ожидала Нофрет, Анхесенамон сразу же забыла о нем. Она беспокоилась о корзинке, которую не сумела достать, но не проявляла стремления вернуться за ней. Нофрет уговорила ее снова искупаться и надеть чистое полотняное платье — было уже слишком поздно, чтобы почтить двор своим присутствием. Предстоял еще пир, но Нофрет предпочла не вспоминать о нем. Она добыла на кухне еду, лакомства, вызывающие аппетит — некоторые Анхесенамон даже отведала. В вино, обильно приправленное пряностями, было добавлено снадобье, успокаивающее и помогающее заснуть, — не то сильнодействующее, что дала Леа. То было спрятано среди личных вещей Нофрет, тщательно завернутое в полотняные лоскуты, которыми она пользовалась во время месячных.
В эту ночь и каждую ночь до тех пор, пока она не принесет погруженную в глубокий сон царицу, Иоханан будет ждать в лодке, чтобы увезти их по реке. Если он попадется, его убьют. Жизнь отступника не стоит ничего, и нет у него надежды, если его разоблачат.
Нофрет смотрела, как госпожа погружается в дремоту. Для нее это был редкий момент покоя и отдыха. Царица не пыталась противиться сну и, казалось, не замечала ничего. Все ее мысли были еще заняты корзинкой, померещившейся в тростниках.
— В ней был ребенок, — бормотала она. — Был. Я видела, как он шевелится. Он лепетал, словно вода в реке, и в нем не было страха. Он станет царем, этот бесстрашный ребенок. Он обязательно будет царем.
— Да, — сказала Нофрет примирительно, — да, моя госпожа.
Анхесенамон вздохнула и закрыла глаза. Дыхание стало ровным и глубоким, и она заснула.
Нофрет некоторое время смотрела на нее. Царица не двигалась и не просыпалась. У дверей стояла стража, в соседней комнате щебетали служанки. Нофрет покинула их с некоторой неохотой. Но сегодня вечером ей нужно вымыться, очень нужно после поездки с царицей в колеснице. Можно было надеяться, что так много слуг и стражников сумеют присмотреть за одной женщиной, погруженной в сон.
…Нофрет долго просидела в ванне, блаженствуя в теплой воде. Она вымыла и голову, потом с помощью маленькой нубийки расчесала спутанные волосы. Служанка восхищалась ее волосами: густые, темно-рыжие, она закрывали ее почти до колен. У нубийцев не бывает таких грив: волосы у них словно руно или черный дым, и они стригут их коротко, чтобы можно было только прикрепить к ним бусины и воткнуть перья.
Когда Нофрет вернулась, солнце уже давно село. Ее волосы, еще влажные, были тщательно заплетены. Она надела новое льняное платье и чувствовала себя чистой, прохладной и почти довольной жизнью.
Когда она вошла в спальню своей госпожи, кровать оказалась пустой. Некоторые служанки спали, а остальные играли в жмурки в соседней комнате. Нофрет не стала их расспрашивать. Ответа не будет, так же, как не ответят и стражники. Царица ушла, и никто не заметил ее исчезновения.
Приходил Иоханан, а может быть, Леа. Они забрали царицу без помощи Нофрет, поняв, что у нее не хватает духу. Теперь надо пойти в свою комнату, лечь спать и сделать вид, что она тоже ничего не видела. Когда придет утро и надо будет будить госпожу и готовиться к церемонии встречи солнечного восхода, Нофрет будет так же невиновна, как и все остальные.
Но если это были не апиру? Что, если Хоремхеб составил свой собственный заговор, чтобы избавиться от царицы, которая его ненавидит и делает все, чтобы преградить ему путь к власти? А если не Хоремхеб, а еще кто-то? Многие египтяне, как высокого, так и низкого происхождения, считают ее изменницей за обращение к царю Хатти.
Нофрет тихонько вышла. Тело ее рвалось броситься бежать, но это могло бы вызвать подозрения. Не узнав, кто забрал царицу, она никому ни слова не скажет, сама все выяснит, а потом решит, поднимать ли тревогу или притвориться, что ничего не знает. Если Аи или Хоремхеб вздумают пытать слуг…
Пока об этом думать не стоило. Нофрет старалась идти как можно спокойнее. Сначала к реке, на тот случай, если Анхесенамон ушла сама, чтобы отыскать воображаемого младенца в тростниковой корзине. О крокодилах думать не хотелось, так же, как и о пытках, которые Египет может применить к слугам, не сумевшим уберечь свою госпожу.
Луны не было. Звезды отражались в глади реки, словно плывя по воде. Света от них было мало. Нофрет осторожно пробралась из дворца, через ворота в стене, выходящие на открытое место вдоль реки. Вода поблескивала в звездном свете. Она услышала, как волны шепчут и плещутся о берег. Зимой здесь был целый тщательно ухоженный сад, сбегающий к обмелевшей реке, но сейчас, в разгар разлива, он стал лишь узкой полоской, а река под звездами казалась безбрежной, словно море.
Пару раз она оглянулась. Белые стены Мемфиса маячили позади. Впереди была только река. Там не шевелилось ничего живого. Не слышалось ни голоса ночной птицы, ни шакальего воя среди гробниц на западе, по другую сторону города. Только плеск реки и шорох ветра в тростниках.
Царица сюда не приходила, а если и приходила, то давно уже ушла. Нофрет, поколебавшись, уже хотела повернуть обратно, но остановилась. Внизу, у берега, что-то хрустнуло. Шевельнулась тень. Она едва различила смутно белеющую фигуру. Это мог быть заблудившийся призрак, но призраки не ломают тростник, не спотыкаются и не вскрикивают. Нофрет ясно услышала падение тела.
Ей никогда не случалось так стремительно и уверенно двигаться в темноте. Она чуть не споткнулась о скорчившееся тело, лежавшее на самом краю, — частью в воде, частью среди тростников. Нофрет подхватила его и отчаянно потащила прочь, подальше от неведомых опасностей, подстерегавших в воде.
Это была Анхесенамон, живая, глубоко дышащая, но без сознания. Нофрет, склонившись, нашла ее руку. Царица сжимала неплотно закрытую бутылочку. Почувствовав запах, Нофрет чуть не вскрикнула. «Как же она ухитрилась…»
Запах снадобья Леа был и на губах Анхесенамон. Пальцы ее стиснули бутылочку. Как бы царица ни ухитрилась разыскать ее, что бы ее ни привело к ней, она принесла бутылочку к реке и пила из нее, как если бы это был яд, который она намеревалась пить, пока не умрет, здесь, на берегу реки, которая была жизнью Египта.
Она выпила большую часть, если только не разлила при падении. Леа говорила, что снадобье безвредное, но велела давать его в вине, по несколько капель, а не сразу неразбавленной всю бутылочку.
Анхесенамон вся обмякла, как будто кости ее стали жидкими. Нофрет подняла свою госпожу — та была легонькая, но нести было неудобно. Надо идти во дворец, позвать врачей. Но можно ли им доверять? Что, если это один из них нашел бутылочку и уговорил царицу выпить снадобье?
Так много вопросов. И никаких ответов, кроме одного: почти пустая бутылочка, бесчувственная женщина, ночь и река, опасность утонуть или попасть в зубы крокодилу, упади она чуть ближе к воде. Нофрет пошла, но не к дворцу.
Она шла вдоль реки, к северу, по течению, между стеной и водой. Может быть, ее направлял бог. Она носила амулеты Амона и Собека. Собек, бог-крокодил, защищает путешествующих по реке… Возможно, это он навел ее на правильную тропинку и облегчил груз, который она несла, — тело спящей госпожи. Но бог, к которому направлялась Нофрет, не был богом Египта.
Еще можно было повернуть, возвратиться во дворец, решить, что все ее страхи напрасны, что царица по чистой случайности нашла в ее вещах бутылочку с жидкостью, которая вполне могла оказаться отравой.
Доверять нельзя никому. Доверять можно лишь той, кого она несет на руках, или тому, что ожидает в условленном месте. Нести одурманенную спящую женщину нужно было не так уж далеко, но в темноте, по неровной дороге, со страхом, следующим по пятам, путь казался очень долгим: а если ее преследуют, если это ловушка и вместо большого чернобородого мужчины в лодке ее встретит отряд солдат?
Спокойствие ночи было полным. Нофрет не могла припомнить такой тишины. Не слышалось даже плеска воды. Ветер затих. В ушах звучали лишь собственные шаги и шелест тростников, когда случалось задеть их. Если кто-то за ней и шел, то абсолютно бесшумно. Ночь была такая тихая, что она услышала бы дыхание преследователя. Но Нофрет не слышала ничего. Ничего.
Во всем чувствовалась рука бога: он окружил ее своей защитой. Совершенной. Ужасающей. В ней зрело убеждение, что, обернувшись, она не увидит Мемфиса. Не будет ни города, ни дворца: только сухая земля, пристанище мертвых.
Нужно идти только вперед. Сомнения и нерешительность покинули Нофрет. Дворец для нее потерян. Выбор сделан, и не ее волей. Его сделала сама царица.
Словно в полусне, Нофрет едва не прошла мимо назначенного места встречи. Это был причал, построенный на время разлива, маленький тростниковый плот, к которому можно ненадолго привязать лодку. Им пользовались рыболовы и охотники за птицами, чтобы передохнуть перед въездом в город и припрятать лучшую часть добычи от чиновников, которые могут потребовать ее себе. Как заверял ее Иоханан, ночью тут всегда пустынно.
Сейчас здесь стояла лишь одна лодка: маленькая, неприметная, какой пользуется простой египтянин, чтобы передвигаться по реке — узкий нос и корма, в середине навес, сзади одно длинное рулевое весло. В темноте было не видно, раскрашена ли лодка. Скорее, нет. Она должна быть совсем незаметной.
Но трудно представить, как может быть незаметным лодочник, поднявшийся при ее появлении. Такого высокого и широкоплечего мужчину в одежде жителей пустыни нечасто увидишь в египетской лодке.
Правда, одежду он снял, оставшись лишь в набедренной повязке. А остальное… Она сказала шепотом, показавшимся в тишине громом:
— Иоханан! Что ты сделал со своей бородой?
— Тише, — произнес он чуть слышно и протянул руки. — Давай ее сюда. Осторожней. Не раскачивай лодку, а то перевернемся.
Нофрет отдала свою ношу так же бездумно, как несла, и только потом засомневалась. Иоханан, чье лицо смутно виднелось в темноте, понес царицу к навесу и исчез под ним. Девушка шагнула следом, неловко качаясь вместе с лодкой — ей давно уже не приходилось бывать на воде.
Иоханан появился внезапно — Нофрет чуть не вскрикнула, — взял ее за руку и бережно, но твердо усадил на палубу.
— Оставайся здесь, — сказал он мягко, словно мурлыкающий лев.
На ней словно лежали чары: чары покорности. Она села там, где было сказано. Иоханан легко прошел по лодке, отвязал ее, взял рулевое весло и оттолкнулся. Нофрет с немым изумлением наблюдала за его сноровистыми движениями. Похоже, он умел делать все, даже плавать на лодке по великой реке Египта.
Лодка, маленькая и невзрачная с виду, на воде была легка и стремительна. Она плавно вошла в течение и неслась по нему, словно сокол по небу.
Нофрет колебалась между палубным навесом и человеком на корме. Сначала на корму. Теперь девушка двигалась более ловко, пробираясь туда, где стоял с веслом Иоханан.
Он возвышался перед ней; широкие плечи и гордая голова, увенчанная звездами. Бороду он сбрил, но волосы оставил: они были тщательно заплетены и уложены, подобно шлему, над светлым овалом его лица.
— А ты, оказывается, тщеславен, — пробормотала она, глядя на него снизу вверх.
— Так удобней. Да и времени было мало. По городу сегодня ходили солдаты. Судя по тому, что говорили люди, они не искали кого-то определенного, но присматривались к лицам и настораживались при виде человека из пустыни.
— Кто-то знает или подозревает. — Нофрет помолчала. Казалось глупым говорить шепотом на таком широком просторе реки, но они еще находились в Мемфисе и нескоро из него выберутся. А звук далеко разносится по воде.
— Иоханан, это не я опоила царицу и принесла сюда. Я нашла ее уже у реки, с бутылочкой в руке.
— Значит, ты ей рассказала? Как собиралась?
— Нет. — Нофрет успела сдержать свой голос, и слова прозвучали тихо-тихо. — Я трусила. Я ничего не сделала. Но она откуда-то узнала, разыскала бутылочку и знала, куда идти. Если это ловушка…
— Бог наставит и защитит нас, — выдохнул Иоханан.
— Я думаю, нам нужно двигаться как можно скорее. Если нас кто-то слышал, подсматривал за нами и кому-то сказал…
— Любой египтянин назовет нас изменниками и убьет на месте. — Иоханан помолчал, подняв голову, словно пробуя воздух. — Ни ветерка. Мы не сможем поднять парус.
— Будем грести по очереди.
— Думаю… — Он запнулся. — Пойди поговори с бабушкой.
— Она здесь? — Сердце Нофрет заколотилось. Леа постоянно твердила, что не поедет с ними, так как только замедлит передвижение. Она хотела остаться в Мемфисе, где некоторые строители гробниц, апиру, приходились ей родней. Позже, когда все уляжется, она возьмет кого-нибудь из них в провожатые и отправится в пустыню.
Но старая женщина была в лодке, под навесом, где едва мерцала лампа, свет которой в черноте ночи казался ярким. Анхесенамон лежала на мягких коврах и подушках, на постели, приготовленной для нее. Леа сидела рядом, прямая под низким потолком навеса, сложив руки на коленях и, как всегда, невозмутимая.
В этом крошечном помещении как раз оставалось место для Нофрет, чтобы присесть на корточки, не задевая спящую женщину. Царица действительно спала: грудь ее поднималась и опускалась, в лице были краски жизни.
— Она выпила почти все, — выпалила Нофрет вместо приветствия. — Сама, без моих уговоров. Не понимаю, как она ее нашла.
— Бог указал ей, — ответила Леа. — Ох, дитя, как же ты дрожишь! Ты настолько боишься?
— Я вне себя от гнева, — Нофрет скрипнула зубами. — Я-то себе представляла всякие ужасы. Почему ты мне не сказала, что она точно знала, где искать и что делать с тем, что найдешь?
— Да, похоже, она знала.
— Если только не было соглядатая, который навел ее на эту мысль, а теперь приведет войско, чтобы схватить нас.
— Возможно, — согласилась Леа. — Были, конечно, и соглядатаи, и солдаты могут нас разыскивать.
Она помолчала, затем продолжила:
— Но царица тут ни при чем. Иногда безумцы ясно видят то, что здравые умом видят лишь туманно, и хорошо слышат богов. Готова поспорить, что бог ничего не говорил об уходе из Двух Царств. Он только велел ей пойти к реке, где она найдет то, что искала.
Нофрет немного подумала.
— Да, в общем-то вполне похоже на бога. Боги всегда говорят правду, но никогда — прямо.
— Напротив, дитя, нет прямее их правды. Они говорят так прямо, что смертные не в силах понять их. Смертные всегда лгут. Себе, другим людям, богам. Одни боги всегда говорят правду.
— Такая совершенная правда — это ложь. — На языке у Нофрет была горечь. — Я не солгала Иоханану. Я шла за моей госпожой и нашла ее у реки, там, где на нее подействовало снадобье. Я вовсе не собиралась нести ее сюда.
— Конечно, собиралась. Просто не можешь признаться.
— Не собиралась! — повторила Нофрет с яростью. — Не могла я этого сделать. И не хотела.
— Ты сделала все и выполнила свой долг. — Голос Леа был совершенно спокоен. — Теперь ложись и спи.
— Я не могу спать. Если нас выслеживали, то впереди — солдаты в засаде.
— Бог охранит нас, — в который раз повторила Леа.
Старая женщина говорила так похоже на умершего царя, что Нофрет чуть ее не ударила. Чтобы не совершить такой ужасный поступок, она выбралась из-под навеса, в темноту, к звездам и удивительно успокаивающему присутствию Иоханана. Девушка села на корме, там, где он велел ей сесть, когда они отчаливали, обхватила колени руками и медленно покачивалась вместе с лодкой. Может быть, она спала или мечтала. Возможно, все это вообще было сном, и, проснувшись, она окажется в собственной постели в Мемфисе, и царица будет готовиться к церемонии встречи восхода.
Но сон все продолжался. Тьма, звезды, запах воды… Лодка скользит по течению, легко направляемая веслом Иоханана. Стены Мемфиса медленно тают вдали. Впереди широкая черная гладь воды, ночь и свобода.
Свобода… Нофрет никогда не позволяла себе вспоминать это слово. Оно не для нее. Свобода, скорее всего, — умереть как похитительница царицы Египта…
Но, покачиваясь на палубе лодки в ночи, когда до рассвета еще оставались долгие часы, а впереди маячил страх разоблачения, она испытала внезапный подъем духа. Свободна, пусть ненадолго. Свободна, как не была — о боги, как не была с тех пор, когда ребенком преследовала орикса на холмах страны Хатти.
Даже если она не доживет до утра, даже если умрет в мучениях, это дорогого стоит — вспомнить давным-давно позабытое: что такое быть свободной.
48
Наконец Нофрет все-таки заснула, потому что ей снилось, будто ниже Мемфиса их ждут войска, целая флотилия на реке и армия по берегам, чтобы отобрать царицу. Но когда она вскочила было предупредить Иоханана прежде, чем он окажется прямо среди войска, на реке уже не было никого, кроме стаи диких гусей. Она ясно их видела. Появился слабый бледный отсвет, как всегда перед восходом, когда тени еще длинные и черные, но вода уже блестит серебром, небо на востоке наливается багрянцем, а на западе — глубоким синим светом.
Кругом были лишь вода и небо. С того места, где сидела, Нофрет не видела ни земли, ни людей. Река уже далеко унесла их от Мемфиса. Здесь воздух казался душистей и теплее. Даже и прохладе утра он был тяжелым, обещая жару, влажную и давящую.
— Мы всю дорогу плывем к океану? — спросила она Иоханана.
Он все еще стоял у весла, неимоверно усталый, и чувство вины, слишком запоздалое, кольнуло ее.
— Мы плывем туда, где безопасно.
— А в море безопасно?
Иоханан некоторое время смотрел на нее, то ли изумленный, то ли слишком усталый, чтобы ответить сразу.
— Мы не в море плывем. Здесь недалеко пристань — деревня, там безопасно, и там есть наши люди. Они нас ждут.
— Нигде не безопасно, — пробормотала Нофрет.
Иоханан, казалось, не услышал. Она потянулась, чувствуя, что отлежала бока на твердой палубе, и, размявшись, забралась под навес.
Леа спала, сидя прямо, уронив подбородок на грудь. Анхесенамон за всю ночь не пошевелилась и лежала точно так же, как Нофрет уложила ее, — на спине, вытянув руки. Царица была жива; она дышала, как прежде. Ничто не изменилось.
Ничто не изменилось, и пока они продолжали свой путь вниз по реке утром, в усиливающейся жаре. Это казалось странным; Нижний Египет был населенным местом, по крайней мере, в окрестностях Мемфиса; но в то утро никому не пришло в голову поднять на реке парус. Они были одни в бесконечном, словно море, пространстве, их сопровождали лишь водяные птицы и одинокий крокодил, плывший за ними, пока его не отвлекла стая уток.
Ближе к полудню Иоханан увел лодку с середины реки. Река была здесь так широка, что, казалось, не имела берегов, но, когда они свернули к востоку, Нофрет увидела зеленую полосу, должно быть, землю, а за ней — красную полосу пустыни. Среди зелени были вкрапления коричневого — дома селения, о котором говорил Иоханан.
Это была крошечная деревушка, такая маленькая, что в ней даже не построили храма, но имелся свой богач с домом в целых шесть комнат и садом позади него. Он был египтянином, но его жена была апиру, и в деревне жили некоторые ее соплеменники. Они не были каменотесами, как апиру строители гробниц, а занимались делом, более привычным в их пустынном мире, пасли коз и овец, пряли и ткали из шерсти, делали острый ароматный сыр, удивительно вкусный вместе с вечным египетским хлебом и пивом.
Нофрет так и не узнала, как называется деревня. Она не могла быть безымянной — в Египте все имеет имя, — но никто при ней его не произносил. Это было просто место, куда она прибыла, где ее накормили, предложили вымыться и выспаться. Она приняла ванну и угощение, но отказалась лечь спать. Остальные воспользовались такой возможностью. Анхесенамон, не проснувшаяся даже когда ее переносили из лодки в дом богача, спала с тех пор, как Нофрет нашла ее. Ей в рот влили немного воды, которую она проглотила, положили пару кусочков хлеба, — она сжевала их во сне, но не проснулась.
Нофрет не о чем было говорить с людьми, жившими в доме. Они тоже мало что могли сказать ей. Ясно, что муж считает ее ничем, поскольку она рабыня. Жена же казалась робкой до немоты, не женщина, а маленькая бурая мышка, не решающаяся даже встретиться с Нофрет взглядом. Никто особенно не интересовался, кто спит на лучшей кровати под надзором Леа. Иоханан, прежде чем самому провалиться в сон, пробормотал что-то о родственнице и сонной болезни. Этого было достаточно.
Нофрет чувствовала, что должна стать на страже. Пару раз она уже дошла до двери, но так и не выбралась из дома. Она оставалась с Леа и с госпожой, глядя, как те спят, отгоняя от них одно за другим пугающие видения о том, как их ловят, разоблачают, приговаривают и казнят за самую страшную измену.
Бог, должно быть, и вправду охранял их. Солдаты не ворвались, чиновники не приехали. Вообще никто не появился, как будто она была одна, никому не известная и в полной безопасности.
— Нам надо опасаться застав, — сказал Иоханан. Он проснулся перед закатом, жадно поел и заявил, что следует тронуться в путь, как только стемнеет. Хозяева слабо возражали, но Нофрет видела, что они испытывают большое облегчение. Может быть, эти люди ни о чем и не подозревали, но такое множество гостей их явно стесняло.
Иоханан купил у них осла, который вполне мог быть близким родственником тому, который увез из Ахетатона старого царя. Он был такой же маленький, облезлый и зловредный. Осла нагрузили бурдюками с водой и солидным вьюком, но он мог выдержать еще и небольшой вес Анхесенамон. Ее нарядили в платье, по-видимому принадлежавшее Леа, закутали в покрывало, как делают женщины апиру вдали от дома, и безликий, бесформенный тюк черной шерстяной ткани поместили среди груза на спине осла.
Нофрет представляла из себя подобное же зрелище, только шла пешком, одетая в старое платье жены богача. Оно пахло мускусом, было сшито из хорошей материи и не слишком изношено. Длинное и просторное, платье укрывало ее с головы до ног. Под наброшенным покрывалом Нофрет была надежно скрыта, превратившись в высокую и широкую тень другой бесформенной фигуры — Леа.
Никто не пришел с ними прощаться, никто не смотрел, как они уходят, даже дети не болтались у дверей. Как и на реке, путники были одни в этом мире под бескрайними небесами.
От Черной Земли до Красной, от плодородной почвы до бесплодной пустыни, песка, камней и неба, остался один шаг. Иоханан шел впереди, с посохом в руке, ведя за собой осла. Леа двигалась так же легко, как Нофрет, может быть, даже легче среди привычных ей скал и песка. Они шли не спеша, приноравливаясь к неторопливому шагу осла, изредка останавливаясь, чтобы передохнуть и подкрепиться.
Они шли по звездам, держа путь к востоку, на Синай. Иоханан шел так, как будто прекрасно знал дорогу, улавливая приметы, невидимые для Нофрет. Она жила в горах и долинах Хатти, а потом — в городах. Пустыня была непривычна для нее. Вид пустыни был изменчив, как песок. В ночи она превращалась в тьму, освещаемую звездами, но Иоханан ориентировался в ней так же легко, как на улицах Мемфиса.
Нофрет надеялась, что он ведет их правильно, не слишком отклоняясь от дороги, и не наткнется на заставу, полную солдат, подчиняющихся Хоремхебу. Ее чутье здесь было бесполезно. Оно заставило бы ее ждать дня, придерживаться дорог и выйти по хорошо обозначенному пути прямо в лапы к врагам.
Пробираясь сквозь ночь, Нофрет много молилась, полагаясь больше на слух и чутье, чем на зрение. Леа шла прямо перед ней, от нее пахло сандаловым деревом, и шаги чуть слышно шуршали по песку. Под четырьмя легкими ногами осла изредка постукивали камешки, но поступь Леа была почти беззвучной.
Нофрет молилась не какому-то богу отдельно. Здесь пока сохраняли власть египетские боги, потому что это был еще Египет, но они изменились так же, как и земля вокруг. Теперь боги были не милостивы и снисходительны, но жестоки, холодны и странны. Амон стал оглушающей жарой солнца, Гор — слепым глазом луны и полетом сокола на рассвете, прекрасным, но недостижимо далеким. Нут, владычица ночи, чье тело было небесной аркой, усыпанной звездами, изгибалась здесь гораздо выше и дальше, чем где-либо в Черных Землях.
Нофрет молилась им всем и никому, бессловесными молитвами, состоящими из страха, надежды и отчаяния. Здесь она не чувствовала себя свободной, как там, на реке. Ей казалось, что она попала в ловушку, затерялась в этой чуждой земле, привязанной к людям, почитающим одного непонятного бога. Ее увлекало за ними не по своей воле. Если бы не госпожа, она бы уперлась и отказалась от всего, потребовала бы вернуть ее в знакомые места, как бы ни пришлось потом пострадать.
Это даже не был мир живых. Египтяне располагают обиталище мертвых на западе, за горизонтом Красной Земли, но кто сказал, что оно не простирается и на восточную пустыню? Кроме одинокого сокола на восходе Нофрет не видела ни птицы, ни зверя, ни человеческого существа. Иногда издалека доносился вой шакалов. Но шакалы — проводники мертвых, слуги Анубиса, у которого тело человеческое, а голова шакалья.
После первой долгой ночи, на восходе Нофрет натолкнулась на препятствие, которое подалось, обернулось и подхватило ее, когда она начала падать. Девушка тупо смотрела в лицо Леа. Старая женщина казалась такой же измученной, какой себя чувствовала Нофрет. На лице густо лежала пыль. Она морщилась, чувствуя, как песок царапает кожу.
За плечом Леа маячил Иоханан — он остановился и сгружал Анхесенамон на землю. Среди груза на спине осла был шатер всего лишь большой плащ или одеяло из козьей шерсти; посох Иоханана послужил опорой. Внутри оказалось тесно, но это все-таки было укрытие. В предрассветном холоде Нофрет порадовалась ему и, несомненно, будет рада еще больше в разгаре беспощадно жаркого дня.
Они в молчании поели ячменного хлеба, козьего сыра, лука, запили водой из бурдюка. Нофрет влила немного воды в рот Анхесенамон. Часть пролилась, но кое-что она все-таки проглотила.
— Проснется ли моя госпожа когда-нибудь? — Голос Нофрет был хриплым от сухости во рту и долгого молчания. Никто из них не сказал ни слова с тех пор, как покинули деревню: странно, что только теперь она заметила это. Молчание и пустыня были неразделимо связаны.
— Она проснется, когда пожелает бог, — ответила Леа.
— Значит, ты не знаешь. — Нофрет слишком устала, чтобы рассердиться, но явно была недовольна. — А если она умрет здесь? Врач мог бы ее спасти…
— Бог охраняет ее, — снова повторила Леа.
Нофрет отвернулась от нее, легла возле своей госпожи, закрыла лицо рукой и стиснула зубы. Хотелось плакать, долго, громко и совершенно без всякой пользы. Ее привели сюда, не считаясь с ее желаниями, не слушая возражений. Назад пути не было. Только вперед.
Иоханан оставался снаружи: по-видимому, на страже. В шатре ему места не хватило. Нофрет пожелала ему хорошо провести время в обществе осла.
Сон приходить не спешил. Рядом неподвижно лежала Анхесенамон. Леа спала, тихонько посапывая. Солнце поднялось, а вместе с ним и жара. Шатер заметно смягчал зной и укрывал от мух, взбодрившихся днем.
Жара и мухи набросились на Нофрет со страшной силой, как только она выбралась наружу. Ей не спалось. Иоханан устроил для себя по соседству укрытие, развесив на кустах свой плащ. Стреноженный осел лениво глодал колючие ветки.
Блеск солнца был ослепительно силен. Девушка остановилась в тени скалы. Стремительное движение привлекло ее внимание: ящерица в погоне за жуком. Ящерица была быстра, но жук забился в трещину, слишком узкую для нее. Ящерица ждала, раскрыв рот. Казалось, от жары она дышит тяжело, как собака, или неслышно кричит, как хотелось кричать Нофрет.
Она снова забралась в шатер. Там было жарко и душно, пахло мускусом и потом, но все-таки это тень. Она отхлебнула воды, еще холодной, долго держала ее на языке, наконец проглотила.
Ночью они продолжили свой путь, пользуясь прохладой и темнотой. Нофрет все-таки немного поспала — достаточно, чтобы идти дальше. В глаза ей словно насыпали песку, мысли ворочались медленно, но не нужно было особенно напрягать ум, чтобы следовать за Леа, которая шла за ослом, которого вел Иоханан, ориентируясь по звездам и держа путь к востоку.
Нофрет не особенно разбиралась в картах и дорогах. Караван с дарами из Митанни шел в Ахетатон по царской дороге, а потом по реке Египта. Нофрет мало что запомнила, кроме пыли и жары, бесконечной ходьбы и слишком кратких привалов. Там была застава, это она помнила. Когда же караван прибыл в Египет, они долго стояли в городе, чтобы посланник успел посетить все храмы. Это был очень набожный человек со множеством предрассудков. Все, что ему случалось видеть или слышать, посланник считал добрым или злым предзнаменованием и носил на шее так много амулетов, что они казались огромным гремящим ожерельем.
Нофрет все еще хранила свои амулеты Амона и Собека. Шагая вперед, она поглаживала их гладкие резные поверхности. В них не чувствовалось ни силы, ни проблеска божественности. Амулеты были всего лишь камнями, но все же успокаивали.
Она сжимала их в кулаке глубокой ночью — четвертой, считая от деревни к северу от Мемфиса, когда Иоханан вывел их прямо к солдатскому биваку. Он не заблудился, конечно, нет, и держался по возможности подальше от любой заставы, но солдаты неожиданно встретились им здесь, в пересохшем русле, в глубине пустыни. Что они тут делают, Нофрет не могла себе представить. Возможно, охотятся: на льва, газелей или на каких-либо вовсе сказочных зверей. Или ищут медь или бирюзу — разве не добывают бирюзу в Синае? Или же, что хуже всего, в засаде ожидают сбежавшую царицу и ее сообщников.
Анхесенамон к тому времени пришла в себя настолько, что могла час-другой просидеть на спине осла, хотя по-прежнему, похоже, находилась в трансе или под действием чар. Глаза ее, открытые, казались затуманенными сном, и на лице не было никакого выражения. Днем царица лежала, открыв глаза, почти не моргая, ничего не говоря и не замечая, где находится. Она ела, если ее кормили, пила воду, но не отвечала, когда ее спрашивали, хотя реагировала на звук голоса. Любого голоса, говорящего что угодно, и даже на вой шакала.
Насколько Нофрет понимала, разум ее госпожи был утерян, заблудился среди умерших или во дворце в Египте. Египтянин сказал бы, что Ка, двойник, находится отдельно от своего тела. Вернется ли он назад, Нофрет не знала, а спрашивать у Леа не хотела. Это было настоящим капризом, но причудам сердца нет объяснения.
Анхесенамон проснулась, но ничего не соображала, а остальные стали так беспечны, что уже почти вошли на бивак, пока сообразили, в чем дело. В тихое время года путники часто ходили по вади — высохшим песчаным руслам, гладким, как хорошая дорога. Эти солдаты, доверившись чистому небу и пустынной местности, расположились на широком изгибе, на чистом песке. Повсюду в других местах берега были крутые, но здесь восточный край вади уходил в пустыню пологим холмом плотного песка, по которому привычному человеку нетрудно было подняться.
Как и путники, на биваке тоже ничего не опасались. Открыто горели костры, вокруг них стояли шатры, опираясь на копья, воткнутые в песок. Позади самого большого шатра стояла колесница, к которой была привязана пара коней, лениво копающихся в груде сена. Видимо, колесницу пришлось сносить к вади на руках: песок был глубокий, и колеса увязли бы в нем.
На самом краю бивака, за пределами круга света от ближайшего костра, путники остановились, словно забыв, как двигаться. Бивак занимал не всю ширину вади, можно было осторожно обогнуть его. Нофрет как раз хотела сказать об этом, когда одна из лошадей заржала.
Осел, вернее, ослица, радостно взревел в ответ, а там были жеребцы. Видимо, уловив ее запах, они забеспокоились и стали рваться с привязи. Из шатров выбегали люди, встревоженно крича. Кто-то вывел свору охотничьих собак на поводках. Они залаяли, стали рваться из своих ошейников — одни к лошадям, другие к путникам, стоявшим в темноте.
Ослица, упрямая, как и вся ее порода, замолчала, испустив единственный предательский вопль. И с места двинуться она тоже не желала, хотя Иоханан отчаянно тянул за повод.
К ним приблизились люди с факелами. Нофрет рада была бы провалиться сквозь землю, но Анхесенамон на спине осла находилась, как всегда, в трансе, и ни Леа, ни Иоханан не могли сдвинуться с места. Иоханан, оставив бесполезные попытки заставить осла стронуться, неподвижно стоял в свете факелов, словно высокая и узкая тень в бесформенных одеждах.
Один из египтян, приблизившись, обратился к нему на языке, который он, по-видимому, считал языком жителей пустыни:
— Кто, какое имя тебе дано?
Иоханан отвечал по-египетски, но с таким акцентом, какого Нофрет прежде у него никогда не слыхала, с убедительным акцентом пустынного жителя. Выглядело бы странно, если бы человек в такой одежде говорил, как фиванский вельможа.
— Добрые люди, мы направляемся в Синай. Моя бабушка устала, а сестра больна. Вы позволите немного отдохнуть под вашей защитой?
У Нофрет перехватило дыхание. Иоханан никогда не страдал излишней робостью и не был трусом, но на такую дерзость не решилась бы даже она.
Его слова возымели действие. Солдаты переглянулись. Немного погодя один из них сказал.
— Надо бы спросить его милость.
— Обязательно, — согласился Иоханан, — обязательно спросите разрешения у своего начальника. Вы не должны принимать гостей без его согласия.
Солдаты снова обменялись взглядами. Тот же, что говорил прежде, произнес:
— Пошли с нами.
Нофрет не удивилась бы, если боги сыграли над ними злую шутку, и здесь, среди пустыни, вдали от всех городов, окажется сам Хоремхеб, в засаде дожидающийся беглецов с похищенной царицей. Но в самом большом шатре оказался человек незнакомый, для египтянина крепко сложенный, с широким, скуластым лицом воина. Разбуженный среди глубокой ночи, он глядел хмуро, но природная обходительность взяла верх. Он сам налил вина для Леа, приказал своему повару приготовить для них еду, как будто нежданные гости были странствующими вельможами, а не просто случайными путниками.
Апиру вовсе не смущались, оказавшись в гостях у египетского военачальника и его солдат. Анхесенамон, по обыкновению пребывающая в полузабытьи, ела, пила и молчала. Для встревоженного взгляда Нофрет ее поведение и лицо несомненно были царственными, но в своем платье и под покрывалом она казалась простой женщиной из пустыни, молчаливой и не особо одаренной умом. Царица Египта не привлекала ничьего внимания.
На женщин вообще никто не реагировал. Иоханан удерживал все внимание на себе, без умолку болтая обо всем и ни о чем. Ничего толкового он не рассказал, вовсе не упомянув, откуда и куда идет. Большей частью он угощал всех историями об охоте на львов, заинтересовавшими начальника, который для этого и приехал в такое пустынное место. Поведал он и о том, как в Тире торгуют пурпуром, а в диких краях Газы ищут новые оазисы.
— Есть один такой, — вещал он, — в глубине пустыни, куда не решаются заходить даже волки; там, говорят, финики растут, уже пропитанные медом, а деревья истекают соком, сладким, как настоящее молоко. По слухам, в древности его благословила какая-то богиня и сказала, что каждый достойный путешественник может отдохнуть там одну ночь и один день. Но не дольше. Если кто-то останется сверх этого срока, то, проснувшись на второе утро, обнаружит, что финики стали камнями, сок с деревьев высох и превратился в золу и даже вода в колодце обернулась грязной жижей.
— Настоящие чудеса! — изумился начальник. Есть он не стал, но вино пил с явным удовольствием и допивал уже вторую чашу. — Скажи, а ты когда-нибудь бывал там?
— К сожалению, нет. — Иоханан широко раскрыл наивные глаза. — Но я знал одного человека, который там был, а он вовсе не дурак. Он провел там дозволенное время и клянется, что с тех пор ему ни разу не довелось отведать такого замечательного молока и меда, какие он ел в оазисе. Все, что он ест и пьет с тех пор, по его словам, причиняет одно разочарование.
— Это похоже на проклятие, — заметил начальник.
— Похоже, — дружелюбно согласился Иоханан.
Они двинулись в путь перед рассветом. Иоханан хотел достичь оазиса, до которого, по его мнению, можно было успеть добраться прежде, чем дневная жара одолеет их. Он замечательно туманно объяснил, где находится это благословенное место, хотя, казалось, давал начальнику вполне четкие указания насчет дороги. На прощание они обменялись подарками: в обмен на бурдюк вина начальник получил красиво вытканный ковер, один из тех, которые служили седлом для Анхесенамон.
Нофрет считала, что обмен был явно неравноценным. Начальник, небось, посмеивался над щедрым кочевником. Кочевник же был исключительно доволен собой, радостно прощаясь со всем биваком, включая собак и лошадей.
— Он тебя надул, — сказала Нофрет, когда бивак остался далеко позади.
В утреннем свете была уже ясно видна довольная ухмылка Иоханана.
— Конечно. И поздравляет себя с этим.
— Ты бы мог дать ему что-нибудь менее ценное, и все же он остался бы в убеждении, что облапошил тебя.
— Ну да, но так он полностью будет убежден, что я дурак, а все кочевники — полные идиоты. Начальник даже не заметил тебя, не говоря уж о госпоже. Он же буквально упивался собой — могущественным, благородным, неизмеримо превосходящим всех на свете египтянином.
— И даже не подумал о том, что нас стоило бы расспросить поподробнее. — Нофрет покачала головой. — Вот как плохо быть чересчур умным.
— Ну, от этого бог меня сохранит, — выразил надежду Иоханан, все еще ухмыляясь.
49
Покинув солдатский бивак, они не встретили больше ни души. В пустыне не было людей, хотя живых существ оказалось великое множество: птицы, ящерицы, змеи, шакалы, вышедшие на ночную охоту. В следующую ночь после ухода с бивака Нофрет, карабкаясь на очередной песчаный холм, уловила какое-то движение. Тонкая остроухая тень трусила впереди, казалось, направляя Иоханана, их предводителя, на верный путь среди безграничного пространства.
Тень оглянулась. Глаза ее светились в сумраке, но не зеленым или красным светом, как у других животных, а холодным белым сиянием звезд. Нофрет моргнула. Какое-то мгновение создание бежало не на четырех, а на двух ногах: стройное человеческое тело, но с головой шакала, с глазами шакала, с клыками, сверкнувшими в улыбке.
Шакалоголовый Анубис был проводником мертвых, причем египетских мертвых. Нофрет же чувствовала себя даже слишком живой. У нее ныли все кости, горели ноги: ночь за ночью ей приходилось шагать в сандалиях на тонкой подошве. Она невероятно устала, хотелось есть, хотелось пить. Леа должна бы чувствовать себя еще хуже, но шла с видимой легкостью. Старая женщина не позволила посадить себя на осла позади Анхесенамон. Она пойдет пешком. Ни о чем другом она и слышать не желала.
В эту ночь путники нашли воду, колодец в пустыне, такой маленький и незаметный, что возле него не видно было ни клочка травы. Воды хватило только на то, чтобы наполнить один бурдюк, но это было лучше, чем ничего.
Иоханан не говорил, как долго им еще придется идти, чтобы добраться до его народа в Синае. Они находились вдалеке от караванных путей, вообще за пределами мира, но — и тут Иоханан был тверд — не заблудились. Если бы у Нофрет была какая-нибудь карта пустыни, она бы все равно не знала, где находится, кроме как к северо-востоку от Египта.
Девушка никогда не предполагала, что в мире существует так много пустыни и что ей придется самой идти по ней. Это была смятая, растрескавшаяся, бесплодная земля, а на горизонте вздымались горы. С каждым днем они все приближались. Анхесенамон с каждой ночью все больше приходила в себя, но, по-видимому, до сих пор еще неспособна была осознать, где находится.
Если ее дух ушел и не вернулся, Нофрет не представляла себе, что с ней станет. Она, всегда такая царственно надменная, не признававшая ничьей волн, кроме своей собственной — с тех пор, как ее отец отправился в дом очищения в Ахетатоне, — стала такой покладистой и покорной. Больно было смотреть на нее, видеть лицо, такое красивое и такое пустое, невидящий взгляд, устремленный на сухую землю, как будто перед царицей простиралась зеленая роскошь ее сада.
Возможно, ей было хорошо. Она не знала боли. Никакие воспоминания не беспокоили ее. Анхесенамон была телом без духа и шла туда, куда ее вели.
— Он тоже шел этим путем? — спросила Нофрет у Иоханана, когда они почти без труда шли по полосе ровного песка. — И был так же не в себе, как и она? Вернулся ли он когда-нибудь?
— Он сам вел нас, а перед ним был его бог.
— Конечно, — сказала Нофрет, помолчав. — А она идет за нами, слепая, как всегда.
— Так лучше. Когда мы доберемся до места, она придет в себя.
— Откуда ты знаешь? Почему так уверен в этом?
— Так мне было обещано. И еще мне было обещано, что никакая опасность нас не коснется. Разве мы не прошли невредимыми через страну львов, через пылающую землю, через солдатский бивак?
— Но мы еще не дошли, — пробормотала она. — И может быть, не дойдем никогда.
— Надейся, — сказал Иоханан.
— Надежда для глупцов, — Нофрет ускорила шаг, вскоре намного опередив его, идя по песчаной тропе от камня к камню, прямо в бесконечное пространство. Она слышала, как остальные движутся следом. Тень появилась и пошла впереди: опять тот же шакал или его родич. Нофрет решила последовать за ним, хотя он, возможно, направлялся всего лишь к своему логову.
Шакал вел ее до рассвета и привел к углублению в каменистом холме, где из-под скалы, побулькивая, вытекал ручеек. Здесь можно было утолить жажду, отдохнуть и даже выспаться на чахлой траве.
Все заснули, даже Анхесенамон. Нофрет лежала без сна. Устроившись в тени камней, она решила не забираться в палатку, где спали Леа и Анхесенамон. Иоханан был на страже: сидел наверху, прислонившись к скале, закутавшись в свои многочисленные одеяния, и смотрел, как восходит солнце, а с ним поднимается жара.
Здесь оказалось не так уж плохо. От присутствия воды воздух посвежел. Нофрет умылась, погрузила в прохладную воду ноющие, натертые ноги, даже напевая от удовольствия…
И почувствовала, что на нее смотрят. Она перевела взгляд с воды на лицо Иоханана. Он сбросил свое покрывало. У него снова отрастала борода, черная и густая, но линии лица были еще ясно видны. Густые брови скрывали выражение темных глаз.
Нофрет вспыхнула, снова взглянула на воду, на свои ноги, незагорелые, растертые до красноты, и не увидела в них ничего привлекательного. Она быстро вытащила их из воды и спрятала под юбками.
А чего ради? Нофрет нагишом ходила по большим египетским городам, а здесь, в пустыне, под взглядом единственного мужчины, вдруг стала робкой, как дикая кочевница.
Она специально снова подняла подол и погрузила ноги в воду до самых колен, все же чувствуя себя покрытой грязью, хотя уже не раз оттиралась песком, как это делают жители пустыни. Но ничто не очищает и не освежает кожу лучше, чем вода.
Ей очень хотелось искупаться, и вода была, чистая и в достаточном количестве. Нофрет сбросила все свои пропотевшие и пропыленные тряпки и принялась старательно мыться. Ей было все равно, смотрит ли он. Пусть смотрит. Со времени своего возвращения в Мемфис Иоханан всегда держался с ней исключительно скромно и совершенно по-братски.
Плеск за спиной заставил ее обернуться. Иоханан был почти рядом, а его одежда кучей лежала на берегу, но он все-таки прикрылся набедренной повязкой. Жаль. Шрамы на его спине при движении поблескивали. Некоторые раны едва зажили, другие даже недавно открылись, но он и виду не показывал, что ему может быть больно.
Иоханан отмывался, как и она, песком и водой из ручья. Он даже распустил волосы и вымыл их, сосредоточенно распутывая узлы. У него была такая же густая грива волос, как у нее, и почти такая же длинная.
Наконец ему надоело разбирать спутанные космы. Нофрет уже успела вымыться и привести волосы в порядок, с тоской подумав о чистоте на египетский манер — о бритой голове, которая не чешется и где не заводятся насекомые. Но придется подождать до цивилизованного места, если на этой окраине мира вообще есть что-либо подобное.
Она подошла к нему сзади, вынула гребень из пальцев и принялась за дело. Гребень был из дорогих, костяной, украшенный резными головками рогатых газелей. Должно быть, сохранился еще с тех времен, когда он жил как царевич в селении строителей гробниц в Ахетатоне.
Иоханан вздохнул и отдался в ее руки. В нем не было смущения, по крайнем мере, явного. Ей пришлось действовать с силой, но хотелось дернуть еще сильнее, чтобы он заохал.
Но Иоханан терпел молча. Во время мытья он добавил к песку немного травы, и теперь от него исходил свежий запах зелени, смешанный с запахом тела. Эта смесь показалась Нофрет приятнее любых благовоний.
Она долго расчесывала и разбирала его волосы, затем, стоя на коленях, заплела их в две длинные косы и уложила вокруг головы, как было раньше. Казалось, он заснул сидя, дышал глубоко и ровно, и длинные мышцы его тела, расслабившись, стали еще длиннее. Нофрет провела рукой по широким плечам, осторожно касаясь рубцов, и уже заживших, и еще воспаленных и распухших.
— Жаль, что здесь нет бальзама, — посетовала она. — Я бы их смазала.
Нофрет говорила сама с собой, но он услышал и оглянулся. Глаза его были ясными, вовсе не затуманенными сном.
— Во вьюке, завернуто в шерстяной лоскут.
Двигаться с места не хотелось, но любопытство одолело ее. Пришлось рыться среди множества вещей, большинство из которых ей прежде видеть не приходилось, но наконец она нашла сверток в вылинявшей черной тряпке. Внутри лежала баночка из светлого халцедона с печатью на крышке. Изображение на печати было ей знакомо.
Снова опускаясь на колени рядом с ним, Нофрет спросила:
— Ты всегда покупаешь только все самое лучшее?
— Это подарок. От того, кто был царем.
Иоханан имел в виду Эхнатона. Нофрет сломала печать и открыла крышку. Великолепный аромат окружил ее, аромат самого лучшего бальзама из мирра и алоэ. Он был предназначен смягчать кожу цариц и восхищать благоуханием царей.
Но и простолюдины, и рабы тоже могли получить от него достаточно удовольствия. Нофрет бережно, едва касаясь, смазала шрамы на спине Иоханана. Он даже ни разу не охнул и не вздрогнул. Кожа вокруг шрамов была гораздо нежнее, чем она представляла себе кожу мужчины. «Нежная, как во сне», — подумала она и прижалась к ней щекой.
Иоханан повернулся так ловко, что она даже не покачнулась. Грудь его была не такой гладкой, покрытой курчавыми волосами. Она запустила в них пальцы и над самым ухом услышала ласковое ворчание:
— Ты понимаешь, что если так пойдет дальше, твое дело безнадежно — и мое тоже. Перед всем моим народом я назову тебя своей женой.
Нофрет замерла, но не могла заставить себя отодвинуться.
— Сколько жен у тебя уже есть?
— Ни одной.
— И даже наложницы нет? Кто же согревает тебя по ночам?
— Мне нужна лишь одна женщина, и никогда не были нужны другие.
— Удивляюсь, как это никто не женил тебя на себе. Разве ты не царевич среди своего народа?
— Кто бы стал пробовать? Бабушка знает, кто для меня предназначен, и уже давно предупредила отца, чтобы он не искал мне жену среди апиру.
— А ты? Ты такой послушный?
— Если это послушание, — ответил он, — тогда я готов его обнять.
— А может, я не хочу тебя, — поддразнила его Нофрет.
Иоханан засмеялся прямо над ухом, обнимая ее, согревая своим телом. Уже так много лет она не бывала в объятиях мужчины. Ни разу с тех пор, как умер Сети.
Бедняга Сети. Нофрет не могла вспомнить ни его лица, ни звука голоса. Смутно помнилось лишь прикосновение его тела.
А теперь ушло даже это. Теперь она будет помнить единственного своего мужчину, только его тело. Его набедренная повязка исчезла, отброшенная и позабытая. Когда он вошел в нее, Нофрет застонала — не от боли, но от сильнейшего наслаждения.
Двое проснулись в вечерней прохладе, сплетенные. На мгновение Нофрет пронзило воспоминание о том, как она пробуждалась рядом с другим мужчиной, о том, какое возбуждение и нетерпение охватывали ее, когда она была с Сети. Но Сети значил для нее так мало по сравнению с тем, кто сейчас рядом с ней. Этот человек был половиной ее души.
Этот большой бородатый человек с такими удивительно нежными руками, незнакомец, которого она почти не видела с тех пор, как оба они были еще детьми… Слуга неведомого ей бога… Нофрет хотела отстраниться, но обнаружила, что прижимается еще теснее, обвивая его руками и ногами, как будто хотела слиться с ним, стать его частью.
Это напоминало болезнь — но сладостную — сладкую, как мед.
— Я хочу всего тебя, — каждую частицу твою.
— Все это твое, еще с детства.
— Нет. Если я этого не знала, ты тоже не мог знать.
— Одни соображают быстрее, другие медленнее.
Он смеялся над ней. Как всегда. С ума можно с ним сойти. Нофрет поцеловала его, так крепко, что он задохнулся, и укусила, но легонько, не до крови. Иоханан продолжал смеяться — что ж, он имел такое право.
Леа, конечно, обо всем знала. Анхесенамон не знала ничего, не больше, чем в тот день, когда Нофрет нашла ее у реки в Мемфисе. Никто ничего им не говорил. Днем они обе прятались в шатре, а Нофрет проводила время с Иохананом в тени, какую удавалось найти, иногда просто под двумя их плащами, наброшенными на засохший куст. Однажды это была лишь тень осла, задремавшего на солнце. Каким бы ничтожным ни было укрытие, его всегда было достаточно. Им было достаточно.
Ночами они шли рука об руку. Часто их вел шакал, слуга египетского Анубиса в диком Синае. Оба были счастливы, здесь, в пустыне, где, казалось бы, нет места для живого существа. Да, счастливы, даже Нофрет, которая прежде думала, что едва ли сможет быть хотя бы довольной.
50
Однажды ночью, продвигаясь при свете почти уже полной луны, они следовали за ней и своим проводником-шакалом до самого рассвета. На востоке между каменистыми холмами показалась ложбина, а за ней маячила гора. В ложбине стояли шатры, виднелось несколько собак, стадо коз и овец. В середине была зеленая лужайка, дерево, колодец, обложенный каменными плитами, так же тщательно обтесанными и подогнанными, как повсюду в Египте.
Нофрет остановилась на краю лагеря, охваченная смущением. Иоханан выпустил ее руку. Шакала нигде не было видно. С лаем подбежали собаки, но не рычали и зубов не скалили. Все они прыгали вокруг Иоханана — он со смехом потрепал за уши серую собаку, тогда как остальные — несомненно, ее щенки — с любопытством обнюхивали его одежду.
Иоханан обернулся, все еще смеясь.
— Бабушка, Нофрет, посмотрите! Это Тирза. Она меня помнит.
— Я вижу, — отозвалась Леа. С тех пор, как они покинули Египет, старая женщина все время шла под покрывалами. Сейчас, откинув их, она улыбалась и выглядела такой молодой, какой Нофрет никогда ее не видела, хотя была усталой и похудевшей после долгого путешествия.
Из палаток выходили люди, привлеченные лаем собак. Они казались знакомыми, хотя Нофрет прежде никогда их не видала, почти все высокие, крепкие, с гордыми лицами, лицами апиру. Но это были не закабаленные строители гробниц, а свободные кочевники, народ пустыни.
Они столпились вокруг Иоханана, как недавно собаки, и увлекли за собой его бабушку, болтая так быстро, что Нофрет ничего не могла разобрать. Она осталась за пределами круга, посторонняя, одинокая и забытая, почему-то держа за повод осла. Ее госпожа молча сидела на спине животного, глядя неподвижными глазами, как глядела бессчетные дни и ночи, не видя ничего, кроме собственных мечтаний.
Нофрет уловила миг, когда ее взгляд изменился. Анхесенамон выпрямилась и увидела…
С горы спускался человек, направляясь через лагерь. Его походка была свободной и легкой, как у человека, привыкшего ходить часто и долго. Он держался так прямо, что казался выше, чем на самом деле, хотя маленьким не был. Но по сравнению с тем, кто за ним шел, он был лишь среднего роста.
Нофрет вовсе не узнала бы этого человека, если бы не его спутник. Иоханан в зрелом возрасте, отпустивший длинную бороду, где уже мелькала седина, выглядел бы точно так же, как Агарон, почти не изменившийся с тех пор, как покинул Египет. Второй мужчина мог быть только отцом ее госпожи.
Он стал совершенно другим, отпустил длинные волосы и бороду, скрывавшие узкий высокий череп и длинный подбородок. Когда Нофрет знала его, они отрастали черными, теперь же были как серебро. Нос остался таким же длинным, надменно изогнутым, с теми же тонкими ноздрями. И те же глаза, длинные, с тяжелыми веками, отстраненно и свысока созерцали мир.
Но выражение этих глаз изменилось до неузнаваемости. Они были проснувшимися, внимательными, потеряли свое сонное выражение. Они видели ясно, но ясность эта была не более здравой или человеческой, чем туман, застилающий их прежде.
Перед ними был не царь, отказавшийся быть царем, а провидец людей пустыни, пророк Синая. Когда он проходил через толпу, люди шептали: «Моше. Моше-пророк».
Анхесенамон издала звук — не слово, ничего членораздельного — и соскользнула со спины осла. Она стояла рядом, слегка пошатываясь, но прямо. Ее лицо ожило, но эта жизнь была кошмарна: наполовину гнев, наполовину ужас.
— Ты мертв, — сказала она ясным, хорошо слышным голосом. — Ты умер.
— Здесь, в Синае, — ответил он, — я жив.
Его голос был больше похож на прежний, чем все остальное. Он был так же высок и слишком слаб, чтобы разноситься далеко, и все еще запинался, хотя меньше, чем раньше. Похоже, смерть может изменить лицо человека, но не голос, данный ему богами.
Богами. Его Богом. Апиру отступили, оставив своего пророка лицом к лицу с дочерью. Он не обратил на них внимания.
Однако Анхесенамон обратила на них слишком много внимания, недоверчиво озираясь, как человек, очнувшийся от долгого и глубокого сна, обнаруживает, что его перенесли в совершенно незнакомое и непонятное место.
— Кто эти люди? Как я сюда попала? Я умерла?
— Тебя сюда принесли, — объяснил ей отец. — Бог вел тебя. Бог хранил тебя. Он привел тебя ко мне.
Анхесенамон покачала головой.
— Нет. Я все еще в Мемфисе. Мне это снится. Или я умерла. Это наказание за жизнь, прожитую нехорошо? Я должна провести свою смерть в этой пустыне, среди дикарей?
Нофрет вмешалась, хотя знала, что это глупо.
— Ты жива. И ты не в стране мертвых, а в Синае. Мы унесли тебя из Египта, прежде, чем тебя убили или сделали еще что-нибудь скверное.
Анхесенамон резко повернулась.
— Что же может быть хуже смерти, чем это?
— Рабство, — резко ответила Нофрет. — Зависимость от воли человека, которого ты ненавидишь, убивавшего царей, чтобы добиться власти. Заключение в собственном дворце, в окружении людей, которые тебя совсем не любят. Опасность…
Анхесенамон покачала головой. Лицо ее стало замкнутым, глаза лишились выражения.
— Вы похитили меня. Наложили на меня заклятие. Это измена, предательство…
Все оказалось еще хуже, чем опасалась Нофрет. Потрясение? Да, она предполагала это. Гнев? Конечно: она лишила царицу ее царства и забрала прочь от всего, что та знала. Но такой холодной царственной ярости она не ожидала.
— Верни меня назад, — приказала царица Египта. — Верни меня домой, туда, где мне следует быть.
— Возврата нет, — вмешался царь, который умер и возродился к жизни в Синае. Здесь его называли пророк Моше. Нофрет должна научиться называть его так.
Анхесенамон замотала головой, охваченная гневом, ослепленная им.
— Я не желаю этого. Верните меня назад!
— Никто не сможет вернуть тебя назад, — сказал он мягко, но непреклонно. — Для Египта ты умерла; умерла и исчезла. Остатки твоей одежды нашли у реки в тростниках, куда приходят охотиться крокодилы. Твое имя вычеркнули из списка живых. Тебя оплакали, превратили в воспоминание. Ты больше не будешь жить в Двух Царствах.
— Нет. Ты лжешь, ты завидуешь мне! Это ты умер. Ты ненавидишь меня, потому что я жива и сохраняю свое имя, а твое совсем уже забыто.
— Ты так же мертва, как и я.
— Нет! — Анхесенамон повторяла это слово снова и снова.
Ее ум сокрушался — если там еще было что сокрушать. Нофрет двинулась, чтобы схватить ее, встряхнуть, вывести из оцепенения. Но Моше опередил ее и положил руки на плечи дочери.
Анхесенамон вырывалась. Он не двигался, но она, как ни рвалась из его рук, освободиться не могла. Когда царица — теперь уже бывшая царица, — наконец, покорилась, задыхаясь, его руки по-прежнему лежали на ее плечах, а глаза неотрывно смотрели на ее лицо.
— Дитя, — произнес он самым нежным голосом и не запинаясь. — Дитя, посмотри на меня.
Анхесенамон, давно уже не дитя, все еще считавшая себя царицей, сопротивлялась его призыву, но он был слишком силен.
— Бог привел тебя ко мне, — сказал ей отец. — Он вывел тебя из Египта, из-под тени смерти, сберег твою жизнь среди ужасов пустыни. Не хочешь ли ты принести ему благодарность? Или ты лишена такого чувства?
— Я не испытываю благодарности, — ответила она сквозь зубы, — за то, что он лишил меня всего.
— Когда-то ты любила его, — заметил ее отец.
Она решительно покачала головой.
— Я никогда не любила его. Я любила тебя, но ты мертв. Я забыла твое имя.
— Мое имя Моше.
Анхесенамон уставилась на отца. Казалось, она впервые его увидела: не голос, не глаза, но человека, стоявшего перед ней, — незнакомца, жителя пустыни. Она протянула явственно дрожащую руку и коснулась его щеки и жесткой бороды.
Затряслась не только рука, но и вся она. Анхесенамон огляделась, взгляд ее был дик.
— Я не хочу быть мертвой. Не хочу быть мертвой!
Он обнял дочь. Ее трясло, но она не пыталась вырваться. Силы оставили ее, колени подогнулись. Отец поднял ее на руки так легко, как дитя, — так он ее называл, укачивая, как должно быть, делал, когда она была маленькой.
— Отдохни, дитя, — приговаривал он. — Обрети мир.
Он унес ее в палатку, стоявшую в стороне от остальных. Нофрет шагнула за ним, но следующего шага сделать уже не смогла — осел по-прежнему находился на ее попечении. Леа не было видно. Иоханана окружала толпа людей и собак.
Она оглянулась на пустыню. Где-то на северо-востоке лежала страна Хатти. Осел составит ей компанию. Животное, казалось, не слишком радо придти сюда, и не особенно хотело здесь задерживаться. Ему досаждали собаки, детишки подкрадывались дергать его за хвост. Лучше снова уйти в дикие просторы.
Нофрет развернула осла и тронулась в путь.
Чья-то рука перехватила у нее повод. Чье-то тело воздвиглось стеной между Нофрет и пустыней. Иоханан спросил:
— Куда ты собралась? Ты даже не хочешь поздороваться с моим отцом?
— Я иду домой.
— Дом здесь, у подножия священной горы.
— Для тебя. Но не для меня. Я пришла из страны Хатти. Мне пора возвращаться.
Теперь он не смеялся, не смотрел на ее причуды с величественной невозмутимостью. Он был испуган — дерзкий Иоханан был испуган!
— Разве я так мало для тебя значу? — Голос его звучал почти нежно.
— Ты значишь для меня все. Но здесь мне нечего делать. Здесь для меня нет места.
— Здесь есть место, — он обнял ее за плечи. — Именно здесь, где тебе предназначено быть.
— Я не… — Нофрет замолчала. Не стоило кривить душой. — Но дело в другом. Я не смогу стать одной из ваших робких женщин. Я иначе создана.
— Ты такая, какой тебя сделал бог, — сказал он.
Она вырвалась.
— Я должна идти.
— А что тебя ждет в Хатти? Разве там ты будешь менее чужой, чем здесь? Тут у тебя есть друзья, они тебя любят. И здесь у тебя есть я.
Нофрет колебалась. Она набиралась решимости, но из-за чего? Из ложной гордости?
Из робости. Их страха. Если Иоханан выйдет перед своим народом и назовет ее так, как хотел назвать, а они ее отвергнут…
— Они примут тебя, — произнес он, как всегда, прочитав ее мысли. — Я уже давно сказал им, что выбрал себе жену — хеттскую женщину, чужестранку и неверующую.
— Они сердились?
— Ужасно. Но недолго. Потом решили смириться, а немного погодя даже убедили себя, что сами этого желали. Теперь они ждут тебя, чтобы поприветствовать. Ты гостья, которую они ждут давно.
— Меня? Не мою госпожу?
— Твою госпожу тоже, но по другой причине. Я не собираюсь на ней жениться, — сказал Иоханан насмешливо, как прежде.
У Нофрет перехватило дыхание.
— О, боги! Ее отец — когда он ушел — был ее…
Иоханан тряс ее за плечи, пока она не перестала бормотать.
— Тише! Тише. Все это забыто. Больше того: запрещено. Он приносит законы с горы, слово Бога к нам, его народу. Один из них гласит, что отец не может брать свое дитя в жены, сын не может жениться на матери. Любимая, он не нарушит собственного закона. Даже если прежде у него был другой закон.
— Я рада бы тебе верить…
— Поверь. Человек, бывший царем Египта, умер. Пророк Моше приветствует свою дочь только как дочь, которую он любит и охраняет. Он снова научит ее жить.
— Не знаю, сможет ли кто-нибудь это сделать, — усомнилась Нофрет. Она шла, осторожно направляемая Иохананом. Прочь от пустыни. К его народу.
Незнакомому. Чужому.
А знала ли она другой, с тех пор, как покинула страну Хатти?
Незнакомые, да. И родичи. И любимый.
Она взглянула над шатрами на склон горы. Гора называлась Хореб: гора их бога. Солнце наконец преодолело ее вершину и выкатилось, ослепляя, в небо. В Египте оно было богом и царем. Здесь, в диком краю, оно значило и меньше, и больше: было не самим богом, но слугой и созданием бога, который правил апиру. Они знали лишь одного бога и никого более.
— Ты не мой бог, — сказала ему Нофрет, — и твой народ — не мой народ, хотя они желают этого. Но из любви к твоему слуге и к моей госпоже, которой я все еще необходима, я остаюсь. И исполню твою волю — не потому, что ты так хочешь, но потому, что так решила я.
И бог не поразил ее на месте, не ослепил и не сделал более безумной, чем она уже была до сих пор. Он знал, что не добьется от нее большего, не заставит ее как-либо еще служить ему.
Этого было предостаточно. Она взяла за руку Иоханана, покрепче сжала повод осла и повела их обоих в лагерь.
Часть третья ПРЕДВОДИТЕЛЬ
«Господь — крепость моя, слава моя, спасение мое. Он Бог мой, и я прославлю Его; Бог отца моего, и я превознесу Его». Исх., 15, 2.51
Анхесенамон никоим образом не смирилась со своим изгнанием. Она не хотела этого. Она не выбирала этого. Дерзость слуг навязала ей иную жизнь, разлучив со всем, что было ей привычно. Судьба забросила бывшую царицу Египта в ненавистное ей место и положение.
Да, она ненавидела. Всем сердцем. И не скрывала. Каждое утро, пробуждаясь, Анхесенамон требовала, чтобы ей прислуживали, как царице, как бы трудно это ни было в лагере кочевников. Она ничего не делала, хотя на счету были все руки, даже пророка Моше. Он был одним из пастухов и охранял стада, пасшиеся на склонах горы.
— Как пало величие, — заметила Анхесенамон, слегка поморщившись, когда ей объяснили, что сам ее отец трудится на пользу всему роду.
— Посох царя Египта — пастуший посох, — напомнила ей Нофрет.
Она подняла бровь.
— Властелин Двух Царств — человеческий пастух. Он пасет не вонючих овец.
Нофрет говорила себе, что Анхесенамон потрясена до глубины души, вырвана из своего места и времени, ее заставляют стать той, кем она никогда не собиралась быть. Бог не призывал ее, и она не в силах смириться. Даже ее отец больше не был тем человеком, которого она знала.
В первый же день в лагере, когда отец принес ее в свой шатер, Анхесенамон обнаружила, что он очень переменился. Нофрет, придя позже, нашла Анхесенамон скорчившейся у дальней стенке — она смотрела на женщину апиру так, как будто та была коброй, приготовившееся к броску. Это была совсем незаметная женщина, закутанная в покрывало, как все здесь, но сейчас лицо ее было открыто. Она была некрасива и ничем не примечательна. Пухлый голый мальчик с кулачком во рту цеплялся за ее юбки, широко раскрыв карие глаза. Под платьем обрисовывался живот — было ясно, что и другой ребенок вскоре готов появиться на свет.
Когда Нофрет вошла, моргая в неожиданном сумраке после ослепительного света дня, Моше говорил:
— Это Зиппора. Моя жена. А это, — сказал он, наклоняясь и подхватывая смеющегося ребенка, — мой сын. Его зовут Гершом. Гершом, поздоровайся со своей сестрой.
Ребенок пробормотал что-то, не вынимая кулачка изо рта. Анхесенамон отшатнулась еще дальше, вся белая, вне себя от ярости.
Нофрет подумала, что в иные времена одна только мысль о сыне этого человека привела бы его дочь в беспредельный восторг. Но теперь, когда он был мертв для Египта, и она тоже, хотя и помимо своей воли, видеть его счастливым и наконец получившим наследника, и от такой матери…
Зиппора казалась робкой коричневой мышкой, но в ней чувствовалась внутренняя сила. Без такой силы она вряд ли могла стать женой этого человека. Она негромко сказала столь же красивым голосом, как было некрасиво ее лицо:
— Госпожа, я приветствую тебя под кровом моего народа.
Анхесенамон вздернула голову.
— А кто ты такая, чтобы приветствовать меня?
— Мой отец — жрец этого народа, — произнесла Зиппора спокойно, — а я старшая из его дочерей, жена пророка Синая. О тебе, госпожа, я знаю. Тебе здесь очень рады.
— Я не желаю, чтобы мне радовались, — отрезала Анхесенамон.
Она ничего не желала. Она потребовала и получила для себя отдельный шатер, ожидая, что Нофрет разделит его с нею. Нофрет решила на некоторое время пойти ей навстречу. Иоханану это не понравилось, но у него были свои дела, свои обязанности среди соплеменников. Нофрет не удивилась, увидев, какое высокое положение он занимает. Его отец, которого здесь звали Левит, был жрецом весьма высокого ранга. Иоханан, его старший сын, являлся наследником.
Очень долгое время он был единственным сыном, рожденным матерью, умершей при родах. Но в Синае Агарон взял не одну, а двух жен. Они были сестрами: по каким-то хитроумным законам апиру он должен был жениться сразу на обеих, если хотел жениться на одной. Сестры были этим, по-видимому, вполне довольны и одарили его целым выводком сыновей. Нофрет насчитала с полдюжины, и ожидался еще.
Она очень быстро перезнакомилась со всеми. Анхесенамон не могла удерживать ее в шатре постоянно: нужно было ходить за водой, за провизией, готовить еду, стирать одежду в речке, протекавшей за пастбищем. Нофрет отсутствовала почти весь день, а Анхесенамон сидела в шатре, неподвижно, как прежде на троне, отказываясь стронуться с места, ничего не говоря, лишь изредка отдавая приказания.
— Для нее это большое потрясение, — сказала Кора, младшая и более хорошенькая из жен Агарона, — хотя обе были очень миловидные, пухленькие, румяные, словно спелые яблоки, и смешливые. Над Анхесенамон они не смеялись. Сестры жалели ее.
— Бедняжка, — вздохнула старшая, Элишеба. В тот день они все стирали, выколачивая белье о скалы. Некоторые женщины пели. Остальные со вкусом сплетничали, зная всех и вся и обо всем имея свое мнение.
Элишеба заправила под накидку выбившийся локон и принялась оттирать особо неподатливое пятно.
— Бедная растерявшаяся госпожа: уснула царицей, а проснулась дикаркой в пустыне. Весь ее мир перевернулся.
— Я бы не стала ей так уж сочувствовать, — отозвалась другая женщина, чье имя Нофрет еще не знала. — Видно, мы недостаточно хороши для нее.
— А разве не так? — спросила Кора. — Вспомни, кем она была.
— Я знаю, кто она теперь. — Женщина заметила взгляд Нофрет и поспешила умолкнуть.
Остальные не так дичились служанки египетской женщины. Все знали, что она выйдет за Иоханана, когда придет время. Если у кого-то и имелись возражения, Нофрет их не слышала. Большинству людей было слишком ясно, как объяснила ей Зиппора, что бог предназначил им двоим стать супругами.
Для этих людей бог был повсюду. Он все предвидел, все знал, ничего не упускал. Он был как боги Египта или Хатти, все вместе — в одном. Нофрет удивлялась, как он справляется с необходимостью быть богом всех и вся.
Однако он не только справлялся, но и наслаждался этим. Женщины сказали ей, что он не потерпит рядом с собой никакого другого бога. Если же кто-то попытается возвыситься до него, безумца быстро поставят на место, даже уничтожат — об этом говорилось шепотом и с опаской. Люди не представляли себе его облика, не могли даже назвать его имени. Он был просто Адонай, Господин, а это для апиру могущественней любого имени.
— Это значит, что у него нет имени? — спросила Нофрет.
— Вовсе нет, — ответила Зиппора. Здешние женщины не могли быть жрецами, как и в Египте, но им разрешалось знать некоторые тайны. Мужчины не могли помешать им в этом — если они хотели, чтобы им стирали одежду, готовили еду и нянчили их детей.
Зиппора, старшая дочь жреца, не имевшего сыновей, была одной из посвященных в божественные тайны, но не хвасталась этим и не болтала зря, однако, когда Нофрет спрашивала, могла ответить.
— У него есть имя, известное только избранным. Никто не вправе произнести его. Мощь этого имени слишком велика. С его помощью можно сокрушить мир.
— Можно подумать, — сказала Нофрет, — что стоило бы начать войну, чтобы овладеть мощью имени вашего бога.
Зиппора испуганно взглянула на нее.
— Нет, нет… Никто на такое не осмелится. Понимаешь, человек, который употребит это имя во зло, умрет страшной смертью.
Наступило молчание. По сердцу пробежал холодок. Нофрет с усилием заговорила:
— Такой бог для меня слишком страшен. Я бы предпочла, чтобы он больше походил на человека и был милостив к своим слугам.
— Господин всегда милостив, — возразила Зиппора. — Даже его справедливый суд смягчается милостью.
— А в тех случаях, когда кто-то слишком вольно обращается с его именем?
— Тогда он справедлив, — сказала Зиппора.
Анхесенамон считала, что она не заслужила того, что ей приходилось терпеть. Очнувшись в лагере, она полностью пришла в себя и обрела не только сознание, но и здравый ум. Царица Египта слишком долго была погружена в сон, и пробуждение оказалось горьким и жестоким.
Сначала это заставило ее молчать, а потом говорить. Нофрет никогда не предполагала, что ее госпожа может быть столь многоречива, как теперь, когда плотина была прорвана. Поток горьких, гневных слов лился, не встречая преград. Нофрет и не подозревала, что Анхесенамон известно столько слов, и не только египетских. До прибытия в лагерь она не знала других языков, а теперь говорила на языке апиру так же хорошо, как Нофрет, если не лучше.
Она вспоминала каждое мгновение своей жизни в Египте. Царевна и царица, дочь царя и Великая Царственная Жена его и его наследника и еще одного, кто пришел после. Она вспоминала их всех, иногда плакала, но чаще сидела, сжавшись в разъяренный клубок, выплевывая слова, перебирая воспоминания, словно бусины на нитке.
Скоро Нофрет перестала ее слушать. Она могла уйти по своим делам, даже заснуть, а речь все лилась, убаюкивая ее по вечерам, пробуждая по утрам. Спала ли Анхесенамон когда-нибудь, было непонятно.
Нофрет не отдавала себе отчета, насколько она устала, пока апиру не решили сниматься с места. Они были кочевниками: шли от пастбища к пастбищу, от реки к колодцу, подобно луне, совершающей свой оборот на небе. Нофрет не знала, кто и как принимал решение: может быть, старейшины, собиравшиеся на совет большей частью для того, чтобы попивать финиковое вино и сплетничать, словно женщины на берегу речки. Однако иногда они решали и такие дела.
Анхесенамон не хотела уходить. Нофрет пришлось собрать шатер, погрузить на осла, привезшего их из Египта, сложить и остальные вещи. Анхесенамон сидела недвижимо, словно каменная.
— Я останусь здесь, — сказала она царственным голосом, от которого можно было прийти в отчаяние.
— Нет, госпожа, — возразил Иоханан, появившийся неизвестно откуда. — Ты не останешься. — Прежде, чем женщины успели что-нибудь сообразить, он сгреб Анхесенамон, посадил на осла и хлестнул его по крупу так, что тот сразу пустился рысью. Анхесенамон оставалось только уцепиться за его шею, чтобы не упасть.
Осел замедлил бег, догнав толпу своих собратьев. Нофрет с руганью бросилась было вдогонку, но Иоханан схватил ее за руку и удержал.
— Оставь ее. Ничего с ней не случится. Все племя присмотрит за ней.
— Но она моя…
Иоханан прервал ее:
— Уже нет. Пойдем со мной. Я не видел тебя целую вечность.
— Ты видел меня вчера вечером, — нетерпеливо сказала Нофрет. — И ел хлеб, который я сама испекла.
— Хороший был хлеб. Вечером испечешь еще?
— Если будет где — обязательно.
Он сплел ее пальцы со своими, замедлил шаг, идя вместе с ней в последних рядах. Нофрет взволнованным взглядом искала Анхесенамон и нашла среди людей, едущих на ослах. Ошибиться было невозможно — так прямо она сидела, переполняемая злостью.
— Она все делает со злости, — заметил Иоханан. — И все ее мысли отравлены злостью. Совершенно испорченное дитя. Будь я ее отцом, я надавал бы ей по заду.
— Нельзя надавать по заду царице Египта, — внушительно сказала Нофрет, но сердце предательски соглашалось с Иохананом. — Ее пожалеть нужно. Все, чем она была, все, что у нее отняли…
— …было помешательством с горя и верной смертью. — Иоханан хмуро посмотрел на фигуру, садящую на осле. — В ту ночь, когда мы ее забрали, она собиралась не куда-нибудь, а в реку. Мы дали ей жизнь. И свободу гневаться.
— Может быть, ей нужно было позволить умереть.
Иоханан остановился. Нофрет, шедшая с ним за руку, тоже остановилась.
— Возможно, — сказал он, — но я так не думаю. Бог рассчитывает, что она сделает кое-что еще, кроме как сидеть в шатре, дуться на всех и оплакивать утраченный трон. Чем раньше она это поймет, тем лучше будет нам всем.
— Я хотела бы… — начала Нофрет, но замолчала. Она все еще была служанкой своей госпожи и о некоторых вещах не могла сказать даже Иоханану.
Но он все сказал за нее:
— Мы все хотели бы, чтобы она поняла. Жалость здесь бесполезна; сочувствие не нужно женщине, пренебрегающей им. Может быть, все-таки, по заду?..
— Нет! — Нофрет попыталась вырваться, но он был слишком силен. — Не говори так. Что бы ты о ней ни думал, она все еще царица и богиня и не может быть никем другим.
— Не хочет, — поправил ее он. — Но ей все же придется. Даже если это убьет ее.
— Думаешь, убьет?
— Может быть, и нет, хотя иногда я надеюсь, что да. Она никогда не была особенно приятным человеком.
— И никогда не умела им быть. — Нофрет обнаружила, что он послушно замедлил шаг, идя вровень с ней. Позади них был теперь только отряд молодых людей с луками и копьями для защиты от хищников, четвероногих и двуногих. У Иоханана за плечами тоже висел лук и колчан со стрелами.
Нофрет чувствовала себя в безопасности, но была очень расстроена. Тоска и печаль овладели ею.
— Царевен не любят. Им поклоняются. Откуда ей знать, как себя вести, чтобы понравиться людям?
— Некоторые люди знают это от природы. — Иоханан шел теперь вровень с нею и чуть позади. Так они уже прошли через пустыню, подстраиваясь под шаг друг друга, чувствуя покой от присутствия другого — даже сейчас, когда были почти на грани ссоры.
— Я устала, — призналась Нофрет, пройдя несколько десятков шагов. — И была бы рада избавиться от обязанности служить моей царственной госпоже.
— А ты обязана?
— Я дала слово.
— Когда? Когда тебя принесли ей в дар? Она теперь не царица. Ты больше не ее рабыня.
— Только в сердце. Я не могу оставить ее.
— Придется. Если ей суждено перерасти саму себя, ее нужно предоставить самой себе. Ты не должна ее нянчить. Если она хочет есть, пусть заработает свой хлеб и сама испечет его. Если она хочет спать в шатре, пусть поставит его. Если она хочет, чтобы ее одежда была чистой, пускай выстирает. Она может делать все, что делает любая женщина из любого народа.
— Мужчины этого не делают, — заметила Нофрет.
Он ухмыльнулся.
— Что ж, если она не хочет быть женщиной, пусть станет мужчиной: пасет стада, отгоняет диких зверей и защищает племя.
— А по вечерам сидит в шатре, попивает финиковое вино и рассказывает занимательные истории. — Нофрет покачала головой. — Такое ей подошло бы больше, но не думаю, что она захочет все дни проводить на солнце. Это погубит цвет ее лица.
— Ну, вот видишь. Ей придется научиться быть просто женщиной, а не царицей.
— Она не станет учиться.
— Если ей понадобится, станет.
Нофрет замолчала. Иоханан не прерывал молчания. В этом было одно из его величайших достоинств: он знал, когда нужно помолчать. Так они и шли по дороге, по которой ходили апиру еще в те времена, когда мир был юным, перегоняя стада с пастбища на пастбище.
52
Анхесенамон училась тому, чему вынуждена была учиться. Та первая ночь, когда Нофрет не пришла ставить ее шатер, была горькой для них обеих. Она была слишком горда, чтобы прислать кого-нибудь за своей служанкой. Нофрет часто оглядывалась на ту сторону лагеря, где сидела одинокая прямая фигурка, ожидая, когда ей придут прислуживать, но каждый раз Иоханан перехватывал ее взгляд или Леа звала ее к костру обсудить что-то незначительное, но срочное.
В ту ночь Анхесенамон спала на земле, в холоде и без ужина. Никто не дал ей одеял. Никто не принес ей поесть. Кто-то — не Нофрет, которую все время чем-то отвлекали, — оставил рядом с ней лишь бурдюк с водой, чтобы она могла утолить жажду.
Утром снова двинулись в путь. Нофрет сказали, что до зеленых пастбищ три дня пути. Она боялась не увидеть среди людей свою госпожу, но, оглянувшись, заметила маленькую прямую фигурку на осле, как и накануне.
В этот вечер Анхесенамон поставила шатер, долго провозившись с ним, хотя шатер был маленьким и легким. Но она никогда не трудилась выяснить, как с ним обращаться. Нофрет с трудом удерживалась, чтобы не броситься на помощь, даже когда стало ясно, что Анхесенамон удастся поесть, только если она потрудится подойти к одному из костров и попросить хлеба. У нее была вода и немного фиников, которые собрала Нофрет, когда они уходили с горы. Если Анхесенамон съела их, то в шатре, где никто не видел.
Никто к ней не обращался. Об этом специально не сговаривались, просто все так решили. Она должна разговаривать с людьми, если хочет, чтобы говорили с ней. Она должна заслужить свое место среди людей или не иметь никакого.
Не в характере Анхесенамон было плакать, даже от жестокой обиды. Она не прятала от племени холодное гордое лицо. Попросив, наконец, хлеба, она сделала это с ледяной вежливостью. Ей дали хлеба с теплотой, которая сама по себе выглядела укором, и пригласили провести вечер у костра Коры и Элишебы. Агарона с ними не было: он сидел с Леа, Иохананом и Нофрет, ужиная окороком газели, которую днем подстрелил Иоханан.
Другой окорок жарили его жены. Они предложили Анхесенамон самые лакомые кусочки, но та отказалась, отступила и удалилась в свой холодный шатер, в свое надменное одиночество.
Глядя на это, Агарон покачал головой и вздохнул.
— Трудно стать человеком, когда так долго был богом.
— Придется научиться, — сказала Леа, — или умереть. — Она смотрела, что происходит возле другого костра. Там сидел Моше с маленьким сыном на коленях, а вокруг толпились старшие. Он что-то говорил, как обычно, и заикание, бывшее его проклятием с юных лет, вовсе не мешало ему. Старшие дети слушали и кивали. Иногда они спорили, но быстро приходили к согласию.
«Он снова говорит о боге», — подумала Нофрет. Они обсуждали новый закон, который пожелал дать людям его бог. Апиру были готовы спорить даже с самим богом и его пророком. И только когда разговор шел непосредственно о боге, замолкали и слушали, веря, что бог говорит со всеми, но яснее всего — с пророком Моше.
Нофрет, покинув свою госпожу, нашла приют в шатре Леа. У Иоханана был свой шатер, но ей туда входить не разрешалось. Они были помолвлены, как это называли апиру, но до свадьбы им не полагалось жить вместе.
Ничто, однако, не могло помешать Леа засидеться у костра с другими женщинами, а Иоханан в это время проскальзывал с задней стороны шатра прямо под одеяло к Нофрет. В первый раз она от неожиданности чуть не вытолкнула его наружу. Он был готов к этому: вытянул свои длинные руки и удерживал ее, пока она не перестала сопротивляться. Когда Нофрет уже хотела было закричать, он закрыл ей рот поцелуем и не скоро позволил заговорить. Нофрет потом еще долго смеялась:
— Ах, ты бессовестный! Разве это прилично?
— Ну, не совсем, — жизнерадостно отвечал он, — но вполне естественно.
— Так когда же мы сделаем это приличным?
— Тут есть одна сложность. Понимаешь, когда дело идет обычным путем, мой отец должен прийти к твоему и предложить разумную цену выкупа. Твой, конечно, должен не соглашаться и предложить то, что считает разумным он. Мой возмутится огромными размерами, и так и будет продолжаться, пока они не сойдутся на том, что знали оба с самого начала. Тогда они составят брачное соглашение.
— Насколько я помню, в Хатти примерно то же самое. Но здесь у меня нет ни отца, ни братьев… — Она задохнулась. — Иоханан! Только не говори мне, что мы не сможем пожениться.
Он крепко поцеловал ее.
— Да нет. Выбрось это из головы. Конечно, мы поженимся. С твоей стороны будет выступать бабушка. Она заключит замечательное соглашение. Просто она ждет нужного времени.
— Которое может никогда не наступить, — уныло сказала она. — Но, допустим, время пришло — что тогда?
— Тогда на соглашении поставят печать, отец заплатит выкуп за невесту: обычно это овцы с хорошим руном, шатер, где жить, и все необходимое. И мы сыграем свадьбу.
— О, боги! О чем мы думаем? О свадьбе. Неужели все скоро станет явным?
Иоханан смеялся так, что выкатился из груды ковров и шкур и голый валялся по полу. Нофрет свалилась вслед за ним с кучей одеял, набросила их на него, сама упала и закрыла ему рот ладонью.
— Прекрати! Тебя слышно по всему лагерю.
Он еще долго не мог успокоиться, но, наконец, умолк и, отдышавшись, заговорил:
— Лучше привыкай заранее. Я не собираюсь быть одним из тех мужей, которые проводят больше времени с овцами, чем с собственной женой.
— Надеюсь, — ехидно сказала она. — Надеюсь также, что ты способен сохранять хотя бы видимость приличия.
— А что, надо?
— Ты и сам знаешь, что надо.
Иоханан тяжело вздохнул.
— Ты ставишь трудные задачи. Если ты так жестока сейчас, что же будет, когда ты станешь моей женой?
— Будет хуже, — ответила Нофрет, — гораздо хуже.
Место зеленых пастбищ вполне соответствовало своему названию — глубокая долина между голыми холмами. Там росли сады и виноградники и располагалось селение апиру, которые не кочевали, а постоянно жили на одном месте.
Место было замечательным. С гребня холмов над долиной можно было увидеть гору бога. Из сердца долины, от реки, не пересыхавшей даже летом, виден был лишь зеленый мир.
Долина, казавшаяся такой мирной, была надежно защищена, окружающие склоны были почти отвесными, спуск — крутым и узким. Колесница здесь не проехала бы. Могли пройти только путники друг за другом, их стада, привычные к горам или одинокий осел.
На вершинах холмов стояли стрелки с натянутыми луками, они приветствовали сородичей, но постов не покидали. Нофрет подумала, что, наверное, многих других, спрятавшихся среди камней, она не видит. Мир в этой стране так хрупок, а зеленая трава и вода — дороже золота.
Главным среди старейшин долины был отец Зиппоры жрец Риуэль, встретивший путников с искренней радостью Они разбили лагерь ниже по течению, образовав собственное селение, удвоив и утроив число обитателей долины.
Нофрет поняла, что здесь сердце, дом племени. Кочевники делали все, чтобы сберечь растительность в долине и следовать путями своего бога. Чтобы поклоняться ему в священном месте, апиру ушли к горе, которую называли Хореб. Они вернулись до конца сезона и снова уйдут через год, и это так же постоянно, как луна, и так же диктуется необходимостью.
Кочевниками становились разные люди. Иногда бывшие кочевники оставались в селении, а другие уходили: обычно оседали самые старые, слишком молодые, беременные женщины. Жрецы тоже уходили, когда их призывал бог, или оставались в этом благословенном месте.
Апиру верили, что сильны потому, что были и оседлыми людьми, и шли туда, куда их вели ветер и бог. Если они построят город, будут жить, привязанные к нему, и посадят на трон царя, их силе придет конец. Им одинаково необходимы и свобода пустыни, и мир укромного места. Если они сделают выбор в пользу чего-то одного, то, в конце концов, лишатся и того, и другого. Так объявил им бог на заре мира.
Утром того дня, когда Нофрет выходила замуж за Иоханана бен Агарона, Анхесенамон обрела свое имя среди апиру. Она сидела перед своим шатром одна, как всегда. Дети кочевников уже привыкли не таращить на нее глаза, встав в кружок, но для детей из долины она была еще в диковинку. Анхесенамон считала ниже своего достоинства разгонять их и не обращала на них внимания, не отвечая на поток вопросов.
Один из детей постарше был посмелее.
— Мама говорит, — сказал он, — что тебя грызет тоска, как черви — дерево. Почему ты тоскуешь? Места лучше, чем это — нет.
— Я знаю, кто она такая, — вмешался другой. — Она тоскует, ей горько. Она горькая — Мириам. Это твое имя, госпожа-чужестранка? Ты Мириам?
— Я… — Анхесенамон умолкла, а потом продолжила холодным слабым голосом: — Я никто и ничто. Можете звать меня, как вам нравится.
Стало быть, Мириам. К вечеру уже все называли ее так. Это имя было проще произносить, чем ее египетское имя, и лучше подходило женщине, которой она стала: Мириам, горькая, бунтовщица, не желающая смириться с изгнанием, в котором оказалась.
Она пришла на свадьбу. Нофрет была слишком изумлена, чтобы обрадоваться. Никто не ожидал, что Анхесенамон, ставшая Мириам, примет участие в каком-либо празднике, особенно в свадьбе своей служанки, которую она обвиняла во всех своих несчастьях.
Но она была здесь, одетая, как обычно, в темное. У нее не было другого платья, не было украшений, не было ничего яркого или нарядного. Нофрет не сомневалась, что, если бы ей предложили что-нибудь подобное, она отказалась бы.
Прикосновение заставило Нофрет подскочить. Леа, сидевшая сзади, вернула ее в мир реальности. Нофрет была невестой во всей красе, перед лицом всего народа. А под навесом стоял жених, красавец в новой одежде, ожидающий, когда она придет и соединится с ним. Жрецом был седобородый Риуэль, а вместе с ним Моше и Агарон, пророк и князь-жрец. Они все ждали, весь народ, сменивший свое черное платье на яркое, словно цветущий луг.
Нофрет, знавшая суровых строителей гробниц и пустынных бродяг, одетых в черное, увидела теперь, каковы они, когда пребывают в довольстве и мире. Апиру глядели на нее с живым любопытством, хотя она была чужеземкой и ее можно было считать похитительницей, забравшей сына Агарона у женщин его народа.
По крайней мере, сегодня они гордились ею и радовались за нее. Люди пели, плясали, хлопали в ладоши. Девушки танцевали перед нею, бросая цветы к ее ногам. Нофрет медленно шла среди толпы, довольная собой, как никогда. Даже когда она была старшей над всеми слугами царицы Египта, никто не смотрел на нее саму, отдельно от ее госпожи и хозяйки, и это было ужасно.
Нофрет не сводила глаз с Иоханана. Его вид придавал ей уверенности. Ее жених чувствовал себя непринужденно, но так и должно быть: он находился на своем месте, среди своего народа. Подойдя к нему в конце этой бесконечной церемонии, она тоже будет принадлежать ему. И станет апиру: приемной, принятой, одной из них.
Сердце сжалось у нее в груди. Она заморгала. Если она не выдержит и разрыдается посреди свадебной церемонии, это будет наихудшим предзнаменованием. Нофрет проглотила слезы, душившие ее, подняла подбородок и твердым шагом направилась прямо туда, где ее ждал муж.
— Ты тоже могла бы сменить имя, — сказал Иоханан. Они были в своем шатре, в блаженном уединении, а снаружи продолжалась свадьба. Там царила подвыпившая лень, наиболее стойкие еще продолжали пировать, но многие заснули, где упали, а другие разбрелись по своим шатрам, по собственным постелям, вернулись к женам и мужьям.
Они были здесь пленниками. Им не разрешалось выходить до самого вечера. Дело должно быть полностью и безукоризненно доведено до конца, как сказали Нофрет женщины, на благо племени и к удовольствию Бога.
Начали они очень хорошо. Теперь Иоханан отдыхал, опираясь на локоть и лениво улыбаясь ей. Нофрет потянулась потрепать его бороду.
— Разве недостаточно того имени, что у меня есть? — спросила она.
— Но отец дал тебе другое имя.
— Я не то дитя, которое он называл.
— А разве ты все еще та женщина, которой дали первое попавшееся египетское имя из длинного списка, словно отвесили порцию ячменя?
— Я его оставлю.
— Даже теперь?
— А что? — Нофрет поднялась на локте, оказавшись с ним лицом к лицу. — Тебе так неприятно называть меня этим именем?
Ее резкость смутила его.
— Я просто думал…
— Потому, что оно египетское, не так ли? Как же ты ненавидишь Египет! И меня тоже возненавидишь потому, что тебе придется каждый раз пользоваться египетским словом, чтобы назвать меня?
— Нет. Я просто думал, что ты взяла это имя, чтобы Египет не узнал твоего настоящего — твоей настоящей души.
— Моя настоящая душа давно уже срослась с этим именем. Египет давно одержал надо мной победу. Я никогда не думала; что так случится, и все же это именно так.
— Теперь ты могла бы сменить его. Египет далеко. Ты стала апиру и принадлежишь нашему народу.
Она покачала головой.
— Я так не думаю. Пока я все еще хеттская женщина, рабыня египетской царицы.
— И жена Иоханана бен Агарона.
— И это, — согласилась она, — все вместе.
Нофрет знала, за что она его любит: он никогда не настаивал. Много позже, когда он уже и думать забыл об этом, она спросила:
— Как бы ты меня назвал? Если бы я захотела сменить имя?
Он помолчал, напрягая ум и тело, потом ответил:
— Не знаю. Я тебя спрашивал.
От изумления она присвистнула.
— Так ты даже не собирался дать мне имя?
— Я думал, тебе уже должно быть тошно от этого: сначала твой отец, потом первый попавшийся писец или слуга, который заносил тебя в списки царской прислуги. Я решил, что на сей раз ты захочешь сама выбрать себе имя.
— С именами так не получается. Они приходят, когда их посылают боги.
— И бог тебе никакого не послал?
— Бог оставил меня тем, кто я есть: Нофрет. Хеттская женщина, египетская рабыня.
— И моя любимая.
— И твоя любимая.
— Моя прекрасная. Моя невеста. — Голос его зазвучал нежно, словно начиная песню. — Я взойду на гору мирра и на холм ладана.
Они все поэты, эти апиру. Поэты, мечтатели и безумцы. И красивые, все красивые. Вино, выпитое во время пира, давно уже улетучилось, но голова кружилась, как и всегда, когда она бывала с ним.
— Если бы я не любила тебя до умопомрачения, — сказала она, то запросто могла бы тебя возненавидеть.
— За то, что я такой настырный?
— Нет. За то, что перед тобой невозможно устоять.
— Тогда я должен разделить эту ненависть с тобой.
— Жена, — произнесла она торжественно, — должна все делить с мужем.
— Безусловно, — согласился Иоханан. — И во всем повиноваться ему.
— Ох, нет. Делить — это одно, а повиноваться — совсем другое.
— Это не…
— Таков мой обет тебе.
— Ты снова выходишь за меня замуж? И теперь говоришь иные слова?
— Каждый день, — отвечала она, — каждую ночь обеты будут все теми же. И убеждения — тоже.
Иоханан был так откровенно нетерпелив, когда она повторяла за жрецами апиру слова клятвы, слова, очень похожие на эти. Но, в той клятве гораздо больше говорилось о повиновении воле мужа. Конечно, она будет следовать им. Но клянясь перед народом, она поклялась и в своем сердце, перед богом, что и Иоханан будет для нее тем же, чем и она для него.
Теперь Нофрет затаила дыхание. Если он не произнес таких клятв в своем сердце, если не хотел произнести их, она не знает, сможет ли остаться его женой. Поздно уже думать об этом, слишком поздно, сказали бы апиру, но она ничего не могла с собой поделать. Ей необходимо думать об этом.
Прежде чем ответить, Иоханан долго молчал, так долго, что глаза ее затуманились и она чуть не задохнулась. Наконец он произнес:
— Повиновение за повиновение. Любовь за любовь.
— Боги тому свидетели, — сказала Нофрет.
— Один бог, — поправил ее Иоханан, — один за всех.
Она хотела было указать разницу, но передумала. Что же тогда есть повиновение? Нофрет решила, что справедливость соблюдена, ведь Иоханан обменялся с ней клятвами.
53
Бывшая Анхесенамон, теперешняя Мириам, могла бы затеряться бесследно среди апиру, если бы не Леа. Нофрет при всем своем желании больше не могла быть служанкой, всецело преданной своей госпоже. Она стала замужней женщиной, у нее появились приятельницы, она советовалась с ними. У нее был муж, она должна была вести хозяйство и твердо намеревалась отправиться кочевать, если понадобится, как бы ни поступали обычно здешние женщины. А когда у нее родились дети, они поглотили все ее время.
В течение многих дней и даже недель она видела маленькую фигурку Мириам, сидящей в одиночестве у своего шатра на краю селения. Нофрет виновато напоминала себе, что надо пойти навестить ее, и ходила. Но говорить было не о чем. Мириам не интересовалась сплетнями: у кого-то родился ребенок, кто-то так болен, что, того и гляди, умрет, эта выходит замуж, а та замучила мужа скандалами — все мелочи повседневной жизни простого народа. Еще меньше она желала слушать, как Нофрет хвалит Иоханана, даже когда тот совершал совершенно дурацкие поступки, и рассказывает, какие чудесные у нее дети.
Нофрет родила их поздно, уже ближе к тридцати, но ее тело, созданное, чтобы вынашивать детей, было полно сил.
Сначала родился сын, которого его отец назвал Иегошуа. Это было великое имя, имя, полное силы: «Бог есть спасение, вот что оно значит, — сказал Иоханан. — Так и есть. И наш сын будет одним из тех, кто докажет это».
Нофрет такого не предвидела. Она не утратила ясности видения, но смотрела теперь как бы уже. Она видела своего мужа, своих детей, даже детей своих детей. Но не больше. Здесь и сейчас ей и не нужно было видеть большего.
Нофрет одолевали сомнения, но звучание имени первенца ей нравилось. Она считала, что это имя ему вполне подходит. Поворачивая его на языке, она не чувствовала горечи страха, но только вкус правоты. Так он стал Иегошуа; имя было дано ему перед всем народом, он был принят в племя и должен был вырасти мужчиной среди апиру.
Когда Иегошуа уже был отнят от груди, спустя почти три года со дня свадьбы в долине, родились близнецы, мальчик и девочка. Имена им дала Нофрет, поскольку первенца назвал Иоханан. Она подумала было о хеттских именах, потом о египетских, но это были все-таки дети апиру. Она назвала дочь Анной, потому что она уродилась простой и красивой, а сына Исхаком, потому что даже младенцем он всегда смеялся.
Каждый раз при рождении детей присутствовала Мириам. Она держалась поодаль и не предлагала своей помощи, но приходила, и Нофрет знала об этом. Обычно она уходила прежде, чем Нофрет успевала окликнуть ее; когда ребенок уже родился, но его еще не понесли показать отцу.
Мириам всегда молчала. Она не говорила ничего и позже, когда Нофрет навещала ее, хотя присылала подарки: одеяло, которое сама соткала, сухую тыкву-погремушку, деревянного человечка, руки и ноги которого могли сгибаться, подниматься и опускаться. Мелочи, но полезные и потому ценные.
Именно Леа вызволила Мириам из заточения в себе. У Леа были сын, внуки и правнуки, но ее положение и достоинство заставляли ее держаться отдельно. Она позвала Мириам — и, на удивление, та пришла на зов.
Они часто бывали вместе. Когда старейшины собирались на совет, провидица Леа тоже участвовала в нем, а позади молча сидела Мириам, опустив глаза, сложив руки на коленях. Не было в ней ни царственной осанки, ни надменности. Благодаря урокам Леа или по собственной прирожденной мудрости, Мириам научилась сохранять хотя бы видимость скромности перед апиру.
Нофрет рада была сознавать, что они могут позаботиться друг о друге. Горькая Мириам, казалось, повзрослела и, если не окончательно примирилась со своей участью, то, по крайней мере, уже не отвергала ее так открыто. Нофрет ни разу не видела ее улыбки, но ее бывшая госпожа вообще улыбалась только будучи царицей и возлюбленной Тутанхамона.
Все это она, казалось, позабыла или похоронила глубоко в душе. Ее красота вовсе не поблекла — даже стала еще более потрясающей без краски и парика, скрывавших ее прежде. Со временем она стала тоньше и засияла ярче. Но никто из мужчин не осмеливался сделать ей предложение, да она и не приняла бы его. Мириам была настолько далека от телесных влечений, насколько это возможно для живого существа. Эта ее часть умерла и исчезла. Красота ее была чиста, пронзающа, как меч, и не более человечна.
Среди какого-нибудь другого народа ее почитали бы богиней. Здесь ее приняли спокойно, как дитя бога. Ее отец в своей приземленной жизни с простенькой женой и обожаемыми сыновьями был счастлив. Но это он бродил в пустыне, следуя зову своего Бога, это он поднимался на священную гору и говорил с ним. Иногда его сопровождал Агарон, изредка Иоханан, но чаще всего он ходил один, и никогда с Мириам. Она оставалась в селении, рядом с Леа.
В одну необычно сырую весну они встали лагерем у подножия горы бога. В тот год дожди шли почти каждый день, и даже самые бесплодные холмы покрылись нежной зеленью. Иегошуа уже достаточно подрос, с ним можно было поговорить, если отвлечь от любимого занятия — лука, недавно сделанного для него отцом. Близнецов пора было отнимать от груди. Исхак, как всегда улыбаясь, укусил мать, за что получил легкий шлепок, а Анна, похоже, огорчилась, что первой не додумалась до этого.
Нофрет оставила детей в шатре под присмотром старшей дочери собаки Тирзы, жившей когда-то в селении строителей, тоже уже немолодой. У Тирзы-младшей много раз были щенки, сейчас она вынашивала очередных, наверное, последних, и вполне могла присмотреть за парой человеческих щенят.
Нофрет стояла на улице, потирая укушенную грудь. Вокруг царило спокойствие. В эти часы все женщины были заняты детьми или стиркой. Мужчины ушли со стадами вверх в горы. Иоханан пошел на охоту, взяв с собой Иегошуа, который с гордым видом ехал верхом на отцовских плечах.
Она улыбнулась, вспомнив о них. Это была сильная линия, линия жреца Левита. Все мужчины были похожи друг на друга, даже дети: крупные, широкоплечие горбоносые. Исхак был таким же. Анна, к счастью, унаследовала другую красоту, может быть, от Леа. А волосы у нее были, как у матери, что приводило Иоханана в безумный восторг.
Это была красивая семья. И здоровье у них было крепким. Нофрет сотворила защитный знак, на тот случай, если какой-нибудь злой дух подслушивал ее. Бог апиру не имел ничего против счастья своего народа, но другие силы были не так милостивы.
Она вздохнула, потянулась, наслаждаясь движением. Конечно, она не становилась моложе, но, к счастью, у нее сохранились все зубы, кроме одного, которым повитухи назвали данью за детей, потерянного, когда она вынашивала близнецов. Бедра ее стали шире, груди уже не были высокими и твердыми; но она никогда не была хрупкой красоткой, и ее мощный хеттский костяк предназначен носить основательную плоть.
Ее муж был вполне доволен. Сил у нее не убавилось. Удивительно, насколько крепкой может быть женщина, когда гоняется за своим шустрым отпрыском, вынашивая еще двоих, таскает тяжелые кувшины с водой из колодца и реки, выколачивает белье на камнях и делает множество вещей, которые должна делать женщина там, где даже богатые работают вместе со своими слугами.
Была девочка, которая приходила днем присмотреть за детьми и делать срочные дела: младшая дочка из семьи, исключительно благословленной дочерьми. Их мать предлагала взять в услужение еще одну, даже двух, но Нофрет не видела в этом смысла. Если бы у нее был дом в селении, тогда конечно, но в шатре кочевника столько прислуги ни к чему. Нофрет не собиралась отказываться от путешествий. Ей нравились дальние дороги; в пути она набиралась сил. Ее дети росли крепкими и здоровыми, хотя несколько буйными.
Нофрет была довольна. Больше, чем довольна. Счастлива.
Как ни странно, это состояние становилось уже привычным, хотя прежде казалось невозможным. Она снова потянулась на солнышке, чтобы перестала ныть спина, что случалось после рождения близнецов. Не искупаться ли в реке, в заводи, которую облюбовали для себя женщины… Это было бы приятно. Если бы она вымыла голову, надушила бы волосы, тогда сегодня ночью…
Нофрет грустно покачала головой. Она слишком хорошо знала, к чему это приведет. Может быть, получится еще одна дочка. Все хотели сыновей, но она и в этом отличалась от остальных. Сыновья повзрослеют и уйдут с отцом. А дочери останутся с матерью, пока сами не станут женщинами. Если повезет, они будут подругами и тогда, выйдя замуж, перейдут жить в шатер мужа и будут слушаться его мать.
Нофрет скользнула в палатку, чтобы собрать все необходимое для купания. Выходя с узлом, она чуть не споткнулась о кого-то, сидящего перед входом. Сначала она подумала, что это ребенок, девочка в женском платье и накидке. Но лицо было не детским.
Нофрет резко остановилась.
— Госпожа! — Она так и не избавилась от привычки называть ее так, да и не считала нужным. — Ты меня напугала. Ты пришла проведать детей? Они спят. Там Тирза. Если хочешь, входи и посмотри…
— Нет, — ответила Мириам. Знакомое слово, знакомый негромкий отчужденный голос. — Леа хочет тебя видеть.
Нофрет не поняла.
— Леа хочет видеть детей? Если она подождет до вечера, у нас будет газель. Или зажарим козленка, если охотничье счастье не подведет моего мужа…
— Она хочет видеть тебя, — повторила Мириам. — Сейчас.
Что-то в выражении ее лица удержало Нофрет от вопросов. Мириам поднялась и быстро пошла через лагерь, и Нофрет последовала за ней.
Нофрет навещала Леа день или два назад. Ну, может быть, три — у близнецов режутся зубки, хлопот много, всего не упомнишь. Четыре? Пять? Нет, не настолько давно. Не настолько давно, чтобы Леа успела так сильно измениться.
Она была уже немолода, когда Нофрет впервые увидела ее. Теперь она была очень старой, но еще бодрой, способной следовать за стадами и кочевниками. Пару лет назад старейшины — мужчины и женщины уже почтенных лет, но младше ее — пытались уговорить Леа остаться в долине. Та засмеялась им в лицо. Она ходит лучше них, все делает лучше них и всех их переживет.
Однако за те несколько дней, прошедшие после того, как Нофрет сидела в ее шатре, попивая финиковое вино и заедая чудесными сладкими пирожками с изюмом и медом, Леа стала совершенно древней и ветхой. Кожа ее была восковой, руки иссохли. Она лежала на постели среди ковров и одеял, и даже глаза ее помутились. Однако, как только Нофрет опустилась возле нее на колени, взгляд старой женщины снова стал живым, ясным, как и всегда, но в нем появилось незнакомое выражение.
К несчастью, Нофрет никогда не умела затуманить собственный взор. Все, что она видела, она видела ясно. И в этих глазах она увидела смерть.
Она взяла руки Леа в свои. Вся сила ушла из них.
— Почему? Почему так быстро?
— Это дар, — ответила Леа слабым голосом. — Господь дал мне его в детстве: быть сильной до последнего дня, но, когда придет конец, он придет быстро.
— Нет. Быстро — это во сне, между одним вздохом и следующим, не теряя сил.
Леа улыбнулась.
— Правильно. Но ведь нужно же предупредить. Дать себе время уладить все свои дела. И проститься.
Глаза Нофрет горели. Она так и не научилась плакать.
— А если я тебе не позволю?
— Ты не сделаешь такой глупости. — Пальцы Леа сжали руку Нофрет. — Послушай. Я уйду, как только сядет солнце — мне так обещано. Но до этого нужно многое сделать, многих повидать. Ты первая, не считая моей дочери, которая уже здесь.
Нофрет обернулась, следуя за взглядом Леа, и увидела Мириам, сидящую у самого входа в палатку. На ее лице была прежняя царственная маска, позволявшая сохранять видимость спокойствия даже тогда, когда разрывается сердце.
Леа продолжала говорить, расходуя силы на слова, которые не было необходимости произносить.
— Ты тоже была моей дочерью, внучкой, возлюбленной моего любимого внука. Я рада видеть тебя такой счастливой и довольной.
— Я все это знаю, — сказала Нофрет, может быть, невежливо, но она никогда не лгала Леа. — И не желаю этого слышать. Я хочу, чтобы ты встала, вышла отсюда и стала такой, как всегда.
— Нет. Я возвращаюсь домой. Бог призывает меня. Он ждал так долго… Знаешь ли ты, что вся моя семья умерла, все, кто был жив во времена моей юности? Я самая старшая в племени. Старейшины родились тогда, когда я уже была женщиной.
— Ты не можешь быть такой старой, — возразила Нофрет. — Агарону не больше, чем…
— Агарон родился, когда я была уже в годах. Он был мой Исхак: невозможный, родившийся, когда я уже, казалось, не должна была забеременеть. — Леа хмыкнула. — Не смущайся так, дитя! Нет ничего неприличного в том, чтобы родить ребенка после сорока, просто это как-то… Неожиданно.
— Не может быть, что ты такая старая, — протестовала Нофрет.
— И тем не менее. Люди думали, что я бесплодна, ты знаешь об этом? И я так считала. Мой муж взял двух других жен, и они родили ему сыновей, которые стали его наследниками. Потом родился Агарон, наш любимый, наш царевич. Он был нашей великой радостью. Мой муж умер в расцвете лет, но я дожила, чтобы увидеть сына и внуков моего сына. Немногим женщинам дается такой подарок.
— Тогда зачем же ты отказываешься от него?
— Потому, что пришла пора. Прежний порядок кончился, тот, что пришел в Египет с Юйи и его братьями, и тот, что живет здесь, у горы бога. Люди были разделены, а теперь снова стонут одним целым. Они пойдут за Моше и за Агароном, и за нашим Иохананом. И за твоим Иегошуа, за спасителем народа.
Кожа Нофрет покрылась мурашками, но не от того, что в шатре Леа было холодно. Там было даже слишком жарко.
— Я тоже это видела. Немного. И не так уж ясно, чтобы знать наверняка.
— Еще увидишь, когда придет время. Сейчас ты поглощена детьми. Так и должно быть. Твой муж нуждается в том, чтобы ты любила его, а не посвящала себя людям.
— Но раз я должна, раз это возложено на меня и я могу предвидеть… — Нофрет не хотелось продолжать, но ее желание сейчас ничего не значило. Это ждало ее с тех пор, как она впервые увидела Леа в Ахетатоне и узнала, что способна видеть то, чего не видят другие.
— Ничего на тебя не возложено, — возразила Леа. — Пока еще нет.
Нофрет удивленно взглянула на нее.
— Еще нет?
— В свое время ты станешь провидицей нашего народа. Но время еще не настало. Сейчас ты жена Иоханана бен Агарона, мать Иегошуа, Исхака и Анны. Они связывают тебя и замутняют твой взор, но так и нужно.
— Но у меня же есть дар, — настаивала Нофрет. — У меня все-таки есть дар!
Она никогда не стремилась иметь его, но — он был и принадлежал ей. Зачем же Леа отнимает у нее этот дар?
— Я ничего у тебя не отнимаю, — сказала Леа, как всегда без труда прочитав ее мысли. — Я делаю тебе подарок, благо. Возможность жить спокойно, пока не подрастут твои дети.
Нофрет только этого и хотела, но все же рассердилась. Безрассудство, по-видимому, заключено в самой человеческой природе. Особенно, как сказал бы Иоханан, в женской природе.
Иоханан бывал иногда несносным. Как и его бабушка, даже на смертном одре.
— А если я не желаю такого подарка?
— Не тебе решать, принимать или отказываться. Будь рассудительной и хорошенько подумай.
— Я думаю, — огрызнулась Нофрет. — Я думаю, что людям нужна ты. Ты не можешь так просто покинуть их.
— Конечно, не могу, — согласилась Леа. — Есть кому меня заменить.
— Но ты сказала, что я…
Нофрет умолкла. Мириам не шевельнулась, но взгляд Нофрет упал на нее и замер.
Пусть он был затуманен, но не настолько, чтобы не видеть, кто сидит перед ней.
— У нее нет дара, — воскликнула Нофрет. — И никогда не было!
— Царица Египта видела только свою родню и царя, — сказала Леа, вмешавшись в ее мысли. — Теперь их нет, глаза ее открылись, и она может видеть иное.
У Нофрет перехватило горло. Она не могла поверить своим чувствам. Это была настоящая черная ревность. Она завидовала своей бедной госпоже-изгнаннице, своей царице, которую забрала из Египта. Несчастной, которую она жалела, когда находила время подумать о ней. И эта женщина должна была стать пророчицей, провидицей апиру, потому что Нофрет еще не готова.
Ей нелегко было смириться с этим, но еще труднее смириться с самой собой. Нофрет не нравилось происходящее. Когда-то было правильно и справедливо, что ее госпожа стоит над ней. Разве не так устраивали боги с тех пор, как они обе появились на свет?
Живя среди апиру, Нофрет стала слишком гордой. Жена человека, который был почти князем, мать его детей. Она привыкла думать о своей госпоже как о ком-то менее значительном. Но бог апиру не одобрял гордыню смертных, а еще меньше — их глупость.
Все это незаметно дошло до нее. Можно было, преисполнившись гордыни, подняться и уйти, не говоря больше ни слова, но здравый смысл удерживал ее на месте. Он же заставил сказать:
— Госпожа, я…
— Мириам, — поправила ее госпожа. — Теперь меня зовут Мириам. Мое положение не выше твоего.
Но и не ниже. Мириам не лишилась ни капли своей гордости, раз уж когда-то была царицей Египта.
Нофрет чуть улыбнулась. Теперь они равны, как никогда прежде. Интересно, что думает об этом Мириам. Наверное, то же самое.
— Мириам, значит, ты здорова? Сердце твое исцелилось?
— Нет. Но это не страшно.
Нофрет склонила голову, снова подняла. Все стало ясно.
Она по-прежнему держала Леа за руки, худые, холодные. Холоднее, чем надо бы. Она охнула.
— Леа!
Глаза Леа блеснули из-под век, ставших почти прозрачными. Она вздохнула; еще раз, а потом, словно вынырнув из глубины вод, взглянула в лицо Нофрет и улыбнулась.
— Ступай, дитя. Твои дети зовут тебя.
Ее дети спокойно спят. Нофрет открыла было рот, чтобы сказать это, но передумала. Она склонилась, поцеловала слабые руки, бережно сложила их на исхудалой груди.
— Да хранит тебя твой бог, — прошептала она.
54
Леа умерла вечером, глядя на святую гору, на руках своего сына, окруженная всей своей родней. Это была хорошая смерть. Ее оплакали по полному обряду и похоронили на горе, там, где по утрам показывалось солнце. Неподалеку от ее могилы журчал ручеек, одевая землю травой, а по весне — ковром цветов.
Благословенное место… Нофрет часто приходила туда, иногда с детьми. Несмотря ни на что, после близнецов дочки не появилось, но она не особенно огорчалась. Время еще есть, она еще сможет забеременеть.
Мириам оказалась хорошей провидицей. Это никого особенно не удивило: царица Египта была очень похожа на прорицательницу апиру. Как понимала Нофрет, ей не обязательно было верить в их бога. Это Моше был божьим слугой в душе и в сердце. Мириам служила только дару своего предвидения и людям, для блага которых он был ей дан. Она ничего не говорила ни о боге, ни о духе.
Нофрет едва ли стала бы спорить с этим, поскольку сама вела бы себя точно так же. Теперь у них было еще меньше общих тем для разговоров. Мириам участвовала в советах старейшин. Место Нофрет было среди женщин и в ее семейном шатре. Она покидала его, чтобы подняться к могиле Леа или прогуляться по тропинкам в пустыне в сопровождении одной из собак Иоханана, охранявших ее.
Нофрет не считала свои блуждания чем-либо необычным. Она всегда уходила, когда хотела и могла. Женщины апиру такого не делали, но мужчины поступали так часто. Они говорили, что под открытым небом лучше слышат своего бога.
Нофрет не слушала голоса бога. Она уходила за молчанием. В лагере его никогда не бывало, даже глубокой ночью, то закричит ребенок, то заблеет коза, то собака зарычит во сне. Подальше от всего этого, в пустыне или на горе, не слышалось никаких звуков, кроме пения ветра и редких птичьих криков.
Однажды во время своих блужданий она встретила Моше. Его не охраняли собаки, оружия у него не было, только посох, который он сам вырезал, вскоре после того, как ушел из Египта. Это была замечательная вещь — прямой ствол какого-то золотистого дерева, с верхушкой в виде кобры, готовящейся к удару. Та же змея охраняла корону Египта, змея-урей, защитница Нижнего Царства. Никто не считал странным, что пророк Синая носит такой посох, как будто он все еще властелин Двух Царств.
Они встречались и после, иногда беседовали. Говоря один на один с женщиной, Моше не заикался, но сохранил всю свою прежнюю вежливость, царственную любезность, расспрашивая о ней и о ее семье. От удивления Нофрет отвечала ему и втягивалась в разговор. Моше стал более здравомыслящим, чем она его помнила, более человечным: мужчиной, а не царем или богом. Только говоря о своем Боге, он становился таким же, каким был в Ахетатоне. скованным, порабощенным, одержимым.
Но теперь в нем было меньше отчаянной принужденности. Здесь люди верили так же, как и он. Он был не царем, навязывающим чуждую веру упрямому народу, но пророком среди избранников своего Бога.
В тот год они выбрались на горные пастбища поздно, потому что дожди начались позже обычного. Взбираясь на особенно крутой склон, Нофрет вовсе не удивилась, увидев, что впереди нее карабкается Моше. Со времени ее прихода в Синай он совсем уже поседел, борода у него была почтенной длины, но он по-прежнему был легок на подъем, как молодой, и лишь изредка опирался на посох.
Нофрет уже давно хотелось пройтись по своим излюбленным тропинкам. В ней росло беспокойство, несколько неуместное для женщины сорока лет, матери детей, уже ставших высокими, а старший, с точки зрения апиру, был уже мужчиной. Она бы не сказала, что стала предвидеть яснее. Мириам все еще была бессменной провидицей. Но что-то менялось. Может быть, просто тело предупреждало о том, что ее чадородные годы на исходе.
Если это и так, то доказательства она получит еще не сейчас. По обычаю апиру, женщины во время месячных должны жить отдельно, а у нее они пришли всего десять дней назад. Вместо того чтобы закрыться в женском доме, Нофрет решила побродить в горах. Завтра, когда истечет срок, считающийся у апиру нечистым временем, она спустится обратно в лагерь.
Сейчас ей не следовало идти за Моше. Он стал уже до такой степени апиру, что может счесть себя оскверненным ее присутствием. Но Моше поднимался в гору так сосредоточенно и целеустремленно, что она не могла удержаться, чтобы не начать карабкаться следом.
Прежде она никогда не поднималась так высоко. Апиру не ходят на гору бога, если только он не зовет их. Насколько Нофрет знала, такие призывы получал только Агарон, и, конечно, Моше, который проводил на вершине многие дни, общаясь с богом.
Она очень хорошо представляла себе, что подумает бог, обнаружив в своем священном месте нечистую женщину. Но если он не хотел ее прихода, разве он позволил бы ей увидеть пророка и стал бы искушать ее последовать за ним?
Склон, выбранный Моше, был одним из самых крутых. Он, по-видимому, не замечал, что за ним кто-то идет, и двигался вперед с напряженным и сосредоточенным видом, как будто кто-то звал его и махал рукой с вершины горы.
Недалеко от вершины он остановился. Склон здесь был покрыт трещинами, и с одной стороны на фоне неба возвышался большой обломок скалы. За вершину скалы мрачно цеплялся корявый куст, изломанный и спутанный ветром. Поднимающееся над горой солнце словно запуталось в его ветвях.
Моше остановился у подножия скалы. Нофрет, ничего не замечая, в напряженном стремлении не отстать, чуть не налетела на него и едва успела скрыться за грудой камней.
Но даже если бы она вздумала плясать вокруг пророка или швырять в него песком, он бы ничего не заметил. Все его существо было сосредоточено на склоне, высившемся перед ним. Солнце слепило глаза. Нофрет сощурилась, загородившись рукой.
Моше вырисовывался тенью на фоне ослепительного сияния, но смотрел прямо на него. Он говорил с ним, говорил на языке апиру, как делал теперь всегда, полагая его единственным языком, подходящим для общения с их богом.
— Я здесь, — сказал он, наклонил голову, как будто прислушиваясь, и двинулся по тропинке, вившейся вдоль скалы. Сияние ослепляло. Из глаз Нофрет текли слезы. Ей пришлось склонить голову и набросить на лицо покрывало. Но она не ушла. Она была слишком упряма.
— Я здесь, — повторил Моше и нагнулся, снимая сандалии и аккуратно поставив их рядышком. Она думала, что он поднимется на скалу, но пророк оставался на месте, с открытым лицом, глядя на солнце широко раскрытыми глазами.
Сквозь покрывало было видно достаточно хорошо. Моше стоял к ней боком. Выражение его лица менялось, словно блики на воде, и каждое из них было очень легко прочесть: напряженная сосредоточенность; медленное понимание; недоверие.
— Но, — произнес он наконец, — мой повелитель, кто же я, чтобы сделать это?
Нофрет могла бы ответить и сама: пророк Синая, некогда бывший царем Египта. Возможно, бог сказал то же самое.
— А ты? — спросил Моше у безграничной и говорящей тишины. — Каким именем должны называть тебя люди? Я знал тебя в Двух Царствах, или думал, что знаю. Здесь я чужой. Люди никогда не назовут мне тебя. Они считают, что я знаю твое имя, что у меня нет нужды спрашивать или произносить его.
Молчание стало еще глубже. Нофрет ощущала его мощь в земле. Она не чувствовала ничего подобного с тех пор, как побывала в Фивах, обители богов Египта, когда Атон сверг их всех и запечатал храмы. Здесь присутствовал бог. Воздух был переполнен им, пахло раскаленной бронзой, свет был нестерпимо ярок.
Ей не следовало находиться здесь. Она чужая, посторонняя. Огонь уничтожит ее.
Но ничего не произошло, и Нофрет осталась на месте. Она не могла слышать слов бога, если он действительно что-то говорил. Только слова пророка.
— Мой повелитель. То, что ты хочешь… У меня нет силы. Мой язык запинается, голос слаб. Я никогда не имел дара увлекать за собой людей, даже — когда…
Его голос окончательно сел. Моше опустился на землю. Он весь дрожал.
— Мой господин, они никогда не поверят мне. Никто из них не пойдет за мной. Ты знаешь, как я пытался и какую неудачу потерпел. Теперь мой город превратился в пыль, мое имя и мои законы забыты.
Но не здесь. Нофрет слышала эти слова так ясно, как будто чей-то голос произнес их. Не в Синае. Апиру верили ему и знали его бога.
— Но пойдут ли они за мной? — закричал Моше.
Воздух зазвенел, словно щит под ударом копья. Бог швырнул наземь своего пророка, слабого протестующего смертного, давно лишившегося своего царственного и божественного величия.
Но у Моше еще оставалось немного сил и стремления к сопротивлению, чтобы прошептать:
— Повелитель, молю тебя. Пошли другого человека!
Моше был избранником бога. Нофрет, укрываясь в своем ненадежном убежище, знала это так же четко, как и он. Ни возражения, ни слабость не помогут снять это сокрушающее бремя с его плеч. Он был слабаком, трусом. Устав от Египта, он бежал из него, чтобы укрыться в Синае. Но и Синай оказался ненадежным убежищем. Бог схватил его и не даст уйти.
Нофрет и представить не могла, чего хочет от него бог. Несомненно, чего-то ужасного, божественно пугающего.
Она уловила момент, когда бог покинул это место. Свет стал чуть менее слепящим. Жара была по-прежнему убийственной, но исчезла страшная тяжесть, развеялся запах раскаленной бронзы. Земля снова стала землей, священной, потому что ее коснулся бог, но свободной от его присутствия.
Медленно, кряхтя как старуха, Нофрет поднялась на ноги, почти ничего не видя; когда она слишком резко повернулась, перед глазами заплясали разноцветные пятна. Она испугалась, что ослепнет, и чуть было не бросилась бежать. Но Моше лежал там, где бог оставил его, едва дыша — с хрипами, которые ей очень не понравились.
В прежние времена Нофрет ушла бы прочь, и без всякого сожаления. Но она дружила с его женой и очень любила его сыновей. Все они обожали своего отца и, узнав, что, она оставила его одного лежать на горе, может быть, умирать, возненавидят ее.
Ради этих мальчиков, а не ради него, она неуверенной походкой, почти ничего не видя, подошла к человеку, лежавшему у подножия скалы. С этого места было видно то, что, должно быть, видел он: густой куст на вершине, ветви которого так бесконечно долго удерживали солнце.
Дыхание Моше выровнялось Его била лихорадка, но ей доводилось видеть кое-что и похуже. Нофрет смочила лицо пророка водой из бурдюка, который принесла с собой, и уговорила выпить немного.
Вскоре он пришел в себя, по крайней мере, стал таким, каким был в Ахетатоне. Похоже, он ее вовсе не видел. Глаза пророка были полны света. Он засуетился, ощупью разыскивая посох, который выронил, падая, а найдя его, с радостным криком схватил и прижал к груди, как будто живое существо.
Он неуверенно двинулся и пошел пошатываясь. Нофрет подставила ему плечо. Он видел ее не яснее, чем раньше, но принял поддерживающую руку.
Ей все время приходила в голову злобная мысль дать ему упасть, но на это не хватало духу. Таков уж был изъян ее характера. Она свела его с горы — это была долгая и трудная дорога — но не получила ни взгляда, ни слова в знак благодарности. Его бог полностью владел им, больше он ничего не видел, не слышал и не понимал.
Что же он такое видел? Бог не счел нужным говорить с Нофрет, только с Моше. Она могла бы и обидеться. Но можно просто пожать плечами и сделать то, чего от нее явно хотел бог: позаботиться о пророке так, как женщины испокон века заботились о мужчинах, и довести его в целости и сохранности до стоянки людей.
По крайней мере, она знала обязанности прислуги, хотя уже отвыкла от них.
— И не рассчитывай, что я стану делать это каждый день, — сказала она куда-то вдаль — то ли человеку, которого вела, то ли богу, доведшему его до головокружения. Человек ее не слышал, бог предпочел не расслышать.
«Отлично», — подумала она. Скоро ей станет ясно, что же испугало Моше настолько, что он забыл, как ставить ноги, чтобы не упасть. Нофрет надеялась только, что это не война и не что-нибудь столь же разрушительное для душевного спокойствия женщины.
55
Это оказалась не война, а немного хуже.
Бог, как объявил Моше на собрании старейшин, приказывает ему вернуться в Египет. Не для того, чтобы снова стать царем — ничего подобного. Но бог устал от плача своего народа, оставленных племен и семей, детей тех, кто ушел с Синая вместе с Юйи. Бог вознамерился освободить их и вернуть в пустыню, подальше от власти египетского царя.
— Но почему именно теперь? — недоумевали старейшины. Они охотно собрались по просьбе Моше, ожидая услышать некое откровение с горы, новое слово закона, которое Моше принес из рук бота. То, что они услышали, было для них совершенно неожиданным, так же, как для Нофрет. — Почему он призывает тебя теперь? Почему так поздно, когда ты уже столько лет провел среди нас? Почему не тогда, когда ты был в Египте и положение позволяло тебе освободить их всех?
— Господин приказал мне, — сказал Моше, заикаясь так же сильно, как прежде, — что я… я должен. — Ему пришлось замолчать и совладать со своим языком, прежде чем он смог продолжать. — Теперь самое время. Теперь, а не тогда. Теперь, когда я стал одним из вас и душой и сердцем привязан к этой земле и к этим людям.
— Там стало хуже, да? — спросил Иоханан, пришедший на совет с опозданием, в охотничьей одежде, с волосами, перевязанными шнурком. Он оставил свой лук и колчан у входа в палатку, где собрался совет, но на поясе болтался нож. Иоханан остановился перед Моше, подбоченясь. — Было плохо, когда я уходил — тому уже десять лет? Пятнадцать? Насколько же хуже может быть еще?
— Много хуже. Мне показали… — Моше закрыл глаза, покачиваясь. Протянулись руки, чтобы поддержать его, но он с удивительной ловкостью уклонился.
— Хоремхеб умер.
Звук этого имени, даже через столько лет, словно заморозил Нофрет в дальнем углу палатки. Ей вообще-то не полагалось находиться здесь, но она свела Моше вниз с горы и была исполнена решимости узнать, что же он скажет.
Хоремхеб умер. Странно слышать это. Он стал царем после смерти Аи; получил, наконец, трон и корону, ради которых столько лет строил козни. Хоремхеб был сильным царем, даже жестоким, как говорили многие, но, после стольких слабых правителей, Египет был рад ему.
Но теперь его нет. И у него не осталось сына. Для него это было большим горем, а тем более для апиру. Его преемником был человек с амбициями, захвативший власть в Двух Царствах.
— Рамзес, — произнес Агарон. — Вот его преемник. По слухам, человек суровый, как и Хоремхеб.
— Очень суровый, — подтвердил Моше, — и сильный, и не любит наш народ. Мы напоминаем ему о том, что наш бог жив, бог горизонта, который превыше всех богов.
— Я полагаю, — сказал Иоханан, что он считает апиру слишком гордыми и непокладистыми, но хорошими работниками, слишком умелыми, чтобы их так просто лишиться.
Моше смотрел на него, не понимая. Богам нет дела до соображения трезво мыслящих людей.
— Их надо освободить. Для этого Господь выбрал меня. Он не слушает моих возражений, и вы не сможете его переубедить. Я должен идти. Я должен вывести мой народ из Египта.
— Один?
Моше повернулся лицом к Агарону.
— Нет, брат мой. Когда я кричал ему, что слаб духом и телом, что язык мой запинается, что я не гожусь вести за собой людей или говорить перед ними, он дал мне человека, чтобы тот говорил за меня. Человека, имеющего голос, которого недостает мне, представительность и умение обращаться со словами. Он дал мне тебя.
При этих словах поднялся шум. Но Агарон улыбался.
— Правда?
Моше кивнул. Вид у него был такой, что он едва ли смог бы добраться до выхода из палатки, не то что совершить трудное путешествие в Египет.
— Я спросил его, — продолжал он, — почему, если уж ты можешь говорить, вести за собой людей и делать все остальное, на что у меня не хватает ни сил, ни ума, тебе не стать единственным избранником бога. Он ответил в своей непостижимой мудрости: «Это мой выбор. Иди в Египет и возьми с собой брата своего».
Никто и не пытался возражать этой высшей божественной мудрости. Все были согласны, что бог может послать их пророка, куда пожелает, а в помощь ему дать князя народа. Шум поднялся при решении вопроса о том, кто последует за ними: все старейшины, добрая половина женщин и чуть ли не все племя.
Иоханан утихомирил их и быстро втолковал, что к чему. Решили, что пойдет посольство: Моше, Агарон, несколько старейшин и группа молодых мужчин под началом Иоханана, чтобы защищать их и придать им солидность.
— А как же ваши жены? А ваши дети? — Нофрет, забыв о всякой осторожности, стояла рядом с Иохананом перед старейшинами. — Вы так легко покинете их?
— Любимая… — начал Иоханан.
— Мы тоже пойдем, — сказала она четко и холодно. Во время этого странного разговора Мириам молчала, незаметная, укрывшись в уголке. Теперь же она приковала к себе всеобщее внимание, как умела делать, будучи царицей, и люди не могли отвести от нее взглядов.
— Те из нас, кто пришли из Египта, — пойдут вместе с вами.
— Но, — сказал Иоханан, — дети…
Нофрет поймала его на слове.
— Вот именно! Ты собираешься бросить своих сыновей и дочку, которая так тебя любит?
— А ты?
Мириам стала между ними.
— Дети останутся среди народа. Здесь Зиппора, Кора, Элишеба — матерей им найдется достаточно, братьев и сестер сколько угодно. О детях будет кому позаботиться.
Нофрет обнаружила, что стоит разинув рот, и поспешила закрыть его. Меньше всего ей хотелось снова увидеть Египет. На Синае, среди апиру, она была счастлива. Египет означал рабство, бедствия, смерть.
— Египтяне увидят, кто к ним возвращается. Мертвые идут! Забытый царь, пропавшая царица возвращаются живыми — земля поднимется против вас. Если только… — Она помолчала. — Вы действительно не собираетесь…
— Я оставил посох и плеть, — сказал Моше. — И никогда не возьму их снова. Я принадлежу народу Бога. Он хочет, чтобы я вывел его народ из Египта.
— А если кто-нибудь тебя узнает? Что тогда?
— Мне кажется, — ответил Моше с удивительной мягкостью, — что я немного изменился — с тех пор, как умер в Двух Царствах.
С этим трудно было спорить. Человек, некогда сидевший на троне в роскоши золота, увенчанный двумя коронами, с посохом и плетью в руках, не имел ничего общего с пророком апиру. Длинный надменный рот был скрыт, а длинный нос незаметен среди роскошной белой бороды и пышных вьющихся волос. Но глаза, звенящий голос, частые запинки…
— Это было давно, — вымолвила Мириам, — и давно забыто. Египет увидит пророка апиру, а не человека, когда-то умершего в Ахетатоне.
— Это должен быть ты, — вмешался Иоханан. — Верно? Ведь Египет ни за что не позволит уйти такому количеству ценных работников. И только ты можешь заставить согласиться саму землю, богов и даже царя.
— Или они убьют всех вас. — Нофрет переводила взгляд с одного на другого, но они не обращали на нее внимания. Эти двое могли спорить бесконечно, но не станут обсуждать веление бога. Он сделал выбор, и они исполнят его волю.
Иоханан тоже. Иоханан прежде всего.
— Никогда не знала, — сказала она негромко, чтобы слышал только он, — что ты так ненавидишь Египет.
— Это не ненависть. Это неизбежность. То, что было со мной, прежде чем я ушел из Фив, — мелочь. Некоторые наши люди умерли из-за прихоти или злобы своих хозяев.
— Все люди умирают.
— Но не так, как мой народ.
Нофрет знала, что значит этот взгляд, этот затвердевший подбородок. Иоханана не переубедить. Он пойдет.
Она коротко кивнула.
— Ладно. У нас много дел. Ты собираешься продолжать болтать или поможешь мне?
Казалось, Иоханан готов огрызнуться, но что-то остановило его. Видимо, он заметил на ее лице то же выражение — несокрушимого упрямства.
Решившись на что-то, Нофрет делала это без малейшего колебания или сожаления, за что уважала себя. Но ей никогда еще не приходилось решать такую сложную задачу: покидать место, ставшее ей домом, уходить от своих детей.
Это оказалось даже тяжелее, чем она ожидала. Близнецы и младенцами плакали редко, а теперь, как они объяснили матери, слишком выросли, чтобы плакать. Исхак уже давно ходил на охоту вместе с мужчинами. Анна становилась женщиной. Скоро она захочет замуж.
Не так уж скоро. Нофрет успеет вернуться гораздо раньше, чем ее дети станут взрослыми.
С Иегошуа возникли совсем другие сложности. Он уже вошел в свою пору, по крайней мере, с точки зрения апиру, и ушел к молодым мужчинам. Когда мать и отец собирали вещи, готовясь в путь неведомой длины и немалой опасности, юноша не выказывал особого огорчения. Он казался даже безмятежным, приходя по вечерам к их костру поужинать, что делал довольно часто, отмечая, что стряпня его матери куда вкуснее, чем то, что готовят на своем костре молодые люди.
Нофрет следовало бы чувствовать себя успокоенной, хотя и несколько огорченно: ее старший сын стал мужчиной и вел себя с мужской сдержанностью. Но она исполнилась подозрений и настороженно наблюдала за ним, пытаясь уловить в его словах, некий скрытый смысл. Иегошуа был вылитый отец в юности, нескладный, угловатый, с глазами, не умевшими лгать.
Вечером накануне отправления она поймала его у костра. По случайности, рядом никого не оказалось. Близнецы сидели в шатре Агарона, где играли с осиротевшим ягненком, которого воспитывали ручным. Иоханан был со старейшинами, где, конечно, шел спор, как шел постоянно со времени прихода Моше с горы. Обсуждали, сколько ослов взять с собой и каких, и надевать ли на них лучшую упряжь сразу или подождать, пока доберутся до Египта.
Нофрет собиралась идти пешком, а не ехать на осле. У ее вьючного животного была вполне приличная упряжь, годная и в пустыне, и при дворе египетского даря. Уже успели благополучно обсудить, какая будет одежда у посольства, какие украшения, сколько и когда их надевать. Нофрет была рада, что у ее костра спокойно, из кипящего горшка поднимается вкусный пар. Немного позже, когда стемнеет, все соберутся в середине лагеря, где жарятся бык и жирная овца.
Этот край лагеря был почти пустынен. Все собрались к площадке, где жарилось мясо. Некоторые, уже успев хлебнуть вина, пели, несколько человек закружились в танце.
Она несколько удивилась тому, что Иегошуа остался возле нее. Сын пришел взять свой охотничий рог, чтобы подыграть песням. Он задержался, чтобы сунуть нос в горшок и исследовать пирожки, пекшиеся в золе. Нофрет шлепнула его по руке, когда он хотел стащить один из груды остывавших на красивом бронзовом блюде.
Иегошуа посмотрел на нее большими голодными глазами.
— Ну всего один, — заныл он. — Надо проверить, годятся ли они для пира?
Нофрет фыркнула.
— Если в один прекрасный день хоть один мой пирожок окажется недостоин пира у самого царя, значит, меня пора заворачивать в саван.
Он замахал руками, отгоняя дурные знамения. Нофрет вынула еще пару пирожков, переложила остальные, чтобы не пропадал жар остывающих углей, но краешком глаза все время наблюдала за Иегошуа.
Сын присел на корточки, так же наблюдая за ней. Он опять вырос: руки и ноги такие длинные, а одежда снова коротка. Надо бы…
Нофрет оборвала себя. Кому-то другому придется отпускать ему рукава и надставлять подол. А она уходит в Египет вместе с его отцом.
Немного погодя Иегошуа встал, проскользнул мимо нее, ухватил пирожок и со смехом убежал. Она погрозила ему кулаком, но без всякого возмущения.
— Он не горюет, — сказала она Иоханану. Они лежали, крепко обнявшись. Близнецы спали рядом или делали вид, что спят. Скоро нужно будет вставать, разводить огонь, чтобы приготовить последний завтрак, который они съедят вместе. Нофрет не знала, придет Иегошуа или нет.
— Он слишком занят собой, — продолжила она. — Можно подумать, будто он не верит, что мы уходим.
— Верит он, — отозвался Иоханан. Муж спал не лучше, чем она. Ночник освещал тени под его глазами, глубокие складки от крыльев носа к губам. Нофрет разгладила их пальцем. Иоханан поцеловал ее руку, но мысли его были заняты другим. — Ты хотела бы, чтобы он плакал, рыдал и выставлял себя на посмешище?
— Нет, но я хочу, чтобы он перестал вести себя так, как будто идет с нами.
Иоханан раскрыл глаза.
— Почему ты думаешь…
Она вскочила.
— Я знала! И ты знал. Проклятье, Иоханан, ты не можешь позволить…
— Тише. Ты разбудишь детей.
Нофрет чуть понизила голос, но силы в нем не убавилось.
— Ты сейчас же пойдешь и скажешь нашему сыну, что он останется здесь.
— Я не могу этого сделать, — возразил Иоханан.
Она едва не ударила его.
— Ты же его отец! И можешь приказать ему. Он должен тебя послушаться.
— Я не могу, — повторил он. — Иегошуа приказано идти.
— Кем приказано?
— Господином.
— Моше, — сказала Нофрет. — Ведь это Моше? Он думает, что мы будем счастливее, если наш первенец будет с нами, и мы увидим его… Смерть…
— Иегошуа не умрет в Египте.
— Ты не можешь этого знать. Пойди и запрети ему идти.
— Нет, — отрезал Иоханан.
Нофрет медленно, мускул за мускулом, успокаивалась. На самом деле давно было ясно, хоть она и отгоняла от себя такие мысли, что Иегошуа собирается идти в Египет вместе с остальными. Это знание не особенно волновало ее. Но что отец знал и не запретил — с этим она смириться не могла.
— Ты же знаешь, — сказала она, — что я хочу, чтобы мои дети остались здесь. Неважно, чего это будет мне стоить, неважно, как долго мне придется отсутствовать. Тут они в безопасности. В Египте мы все будет находиться под угрозой.
Она надеялась, молилась, что муж не скажет слов, которых она не сможет ему простить.
Именно эти слова он и сказал. Ее муж был апиру.
— Господь защитит его, — произнес он. Иоханан верил этому безоговорочно, он, сомневавшийся во всем на свете.
От гнева у Нофрет перехватило горло.
— Ты слепой! Все вы слепые. Ничего не видите.
— Ты можешь не ходить. Если ты боишься, если не веришь…
— При чем здесь вера? Я иду. Иегошуа — нет.
— Иегошуа должен идти.
Нофрет показалось, что она впервые видит своего мужа. В каждом апиру жило несокрушимое упрямство. В Иоханане оно было скрыто глубоко, но теперь проявилось достаточно ясно. Он выполнит любую ее просьбу, согласится с ней во всем. Но сейчас — нет. Нет, если так велит его бог.
Она должна простить его. Ни один апиру не пойдет против своего бога. Даже ради жены. Даже ради того, чтобы защитить жизнь сына.
Нофрет никогда не почитала бога апиру, хотя и признавала его существование — она была не так глупа, чтобы отрицать это. Но никогда не считала его единственным — в мире были и другие боги. Она ощущала их присутствие, слышала их голоса.
Для Иоханана все это не имело значения. Он точно знал, что его бог один и единственный. Так молился ему его народ, дети Исроела, как они называли себя перед богом.
Она уже пятнадцать лет жила среди апиру, вышла замуж за одного из них и родила ему детей. Оказалось, что она совсем не знала их. И они не знали ее, если думали, что могут забрать у нее сына, как забрали мужа — как забрали ее саму. Иегошуа не будет участвовать в этом.
Но что она может сделать? Он же сам хочет, глупый мальчишка. И никто не остановит его. Можно, конечно, попытаться, но ей тоже нужно идти. Если мальчишку не сбить с ног и не связать, его здесь не удержишь. Он упрям, как оба его родителя вместе взятые.
С поражением смириться нелегко. Нофрет поднялась на ноги — неловко и с трудом, как будто на мгновение стала старой. Иоханан, должно быть, что-то сказал, потянулся к ней, чтобы как-то сузить холодную пропасть, внезапно разверзшуюся между ними. Но она не видела и не слышала его.
Наступало утро. Лагерь просыпался, охая, усталый от вина и танцев. Женщины разводили огонь, ставили печься хлеб. На западном краю лагеря уже собирался отряд посольства: вооруженная охрана, навьюченные животные, старейшины, одетые по-дорожному, припрятавшие свои лучшие платья и украшения до прихода в Египет.
Нофрет двигалась с нарочитой медлительностью. Она делала то, что делала каждое утро: разводила огонь, пекла хлеб, доила козу, разливала по чашкам теплое жирное молоко. Вышли близнецы, протирая заспанные глаза. Она приказала им умыться и расчесать космы. Исхак стал возражать. Анна смотрела упрямо. Нофрет заставила их, свирепо взглянув.
Все они делали то же, что и обычно, пока не прогудел рог, созывая людей. При этом звуке Нофрет похолодела. Иоханан был уже на ногах — поспешно проглотив последний кусок хлеба, схватив лук и колчан, он почти бегом устремился на зов. Нофрет шла медленно, и не потому, что два крепких молодых тела повисли на ней. Близнецы и сейчас не желали плакать и упрашивать. Тяжесть их непролитых слез тянула ее к земле.
Собрав все силы, Нофрет вырвалась. Она должна помнить, зачем идет. Если для этого есть причина, если это не простое упрямство и не желание выпускать мужа из поля зрения.
Нет, все гораздо серьезней. Посольство безумцев и одержимых нуждалось в ком-то, чьи глаза видели ясно, чей ум не был ослеплен сиянием их бога. Может быть, он сам звал ее, убедив в том, что она должна идти.
Иегошуа стоял среди молодых мужчин, вооруженный так же, как они, уверенный в себе, как они. Встретившись с ней глазами, он задрал подбородок. Сын словно провоцировал ее окликнуть его, запретить ему идти.
Нофрет не доставит ему такого удовольствия. У нее не было определенного места в караване, и она выбрала самое подходящее, немного позади Мириам, которая шла в первых рядах, рядом с отцом Иоханан, командир стражников, пойдет со своими людьми сзади, прикрывая колонну, а ей полагалось быть здесь.
Близнецы, спасибо их здравому смыслу, не бросились с рыданиями следом, умоляя, чтобы их тоже взяли с собой, как брата. Нофрет видела их сквозь туман навернувшихся слез: две высокие и прямые фигуры среди толпы детей — детей Агарона, Моше и многих других. На их лицах, бледных, спокойных, слез не было.
Крепкие ребята. Крепче, чем их мать, которая была на волосок от того, чтобы разреветься, как корова.
Уходя, люди пели. Они были рады или изображали радость, восхваляя своего бога, называя его могучим, в надежде, что он освободит свой народ из Египта.
Нофрет не слышала в себе песни. Она мрачно уходила из лагеря, прочь от своей радости и свободы, назад в рабство, и не потому, что ее звал какой-нибудь бог. Просто она была дурой: тупоголовой, недальновидной, презираемой всеми богами влюбленной дурой.
56
Дура или не дура, но Нофрет двинулась в путь в Египет. Ей нечего было сказать Иоханану. Если муж и хотел поговорить с нею, она не желала слышать этого. Нофрет делила шатер с Мириам, шла с ней, прислуживала ей — казалось, она уже позабыла, как это делать. Но вспомнила с удивительной легкостью.
Они шли не теми тайными путями, какие выбирал Иоханан, когда вел царицу из Египта, а шли по царской дороге через Синай, путешествуя открыто, как и подобает посольству. На ночь путешественники останавливались в оазисах или на стоянках своих соплеменников, а когда достигли царской дороги — на заставах или постоялых дворах среди других посольств и купцов. Они не трубили о своем прибытии всем окружающим, но и не скрывали, что являются послами от племен пустыни к царю Египта.
Страну, завоеванную давно и окруженную заставами, бежавшими цепочкой вдоль границы с Ханааном, называли Египтом. Но это не был собственно Египет. Египет — это Два Царства, Верхнее и Нижнее, своими очертаниями напоминавшие цветок лотоса на стебле, протянувшемся от Нубии до Мемфиса. Цветком была Дельта — многочисленные устья реки, открывавшиеся в море.
Все прочие территории, как и Синай, были завоеванными. Египет — Красная Земля и Черная Земля — это сердце империи. Его боги — самые сильные. И его земля под ногами была иной.
Нофрет знала, когда они вошли в настоящий Египет. Пустыня была все еще пустыней, Красной Землей. Черная Земля и породившая ее река находились далеко. Но это уже был Египет, и он знал, кто в него возвращается.
Насколько могла понять Нофрет, Моше, защищенный светом своего бога как броней, не чувствовал ничего. Мириам хмурилась, как и всегда. Казалось, только Нофрет ощущала, как дрожит воздух, как солнце присматривается к ним. Пристальнее, замечая вернувшихся мертвых.
В пустыне Синая они шли, как все путешественники, опасаясь разбойников, объединяясь с другими путниками, если представлялся случай. Звери пустыни прятались от них, даже по ночам не решаясь приближаться к палаткам.
В Египте у них появились попутчики — не люди, а животные. Ночью их окружала целая стая шакалов. Охрана хотела разогнать их, но Иоханан не велел. «Шакалы не причинят вреда, — сказал он, — даже могут оказаться полезными. Если кто-нибудь попытается пробраться через это окружение, они поднимут такой шум, что весь лагерь проснется».
Никому не показалось странным, что их так сопровождают и охраняют. Некоторые из апиру сочли, что египетские шакалы — это разновидность диких собак, и относились к ним соответственно.
Нофрет держала язык за зубами. Если те, кому положено, не сочли нужным просветить наивных, то ее это не касается. Боги Египта были здесь, наблюдали за ними. Может быть, бог апиру сильнее их, а может быть, и нет. Нофрет не собиралась участвовать в их битве.
Египет выжидал. Нофрет заставляла себя делать то же самое. Она снова носила амулеты, которые так долго прятала в своей палатке, — маленькие фигурки Амона и Собека, синее стекло и зеленый камень, вплетенные в волосы. Она сомневалась, что кто-нибудь из них поможет, но с ними было как-то спокойнее.
В Красной Земле, вдали от Синая, Моше мало-помалу терял нормальный человеческий облик. Без жены, которая сдерживала его порывы своей мягкостью, без сыновей, отвлекавших его от беспрерывного общения с богом, он стал таким, каким Нофрет знала его в Ахетатоне. мечтателем и пророком, отрешенным и довольно безумным. Пока что его удавалось вывести из этого состояния, особенно молодым людям, которые задавали ему бесчисленные вопросы и радостно спорили, получив ответ. Но, чем ближе он подходил к Мемфису, тем отчужденнее становился.
Мириам же оставалась сама собой. Нофрет не возлагала особых надежд на то, что они сблизятся во время путешествия, и не была разочарована тем, что Мириам не стремилась к этому, предпочитая молчать, а не болтать о пустяках, как женщины апиру. Не ожидала услужливости или раболепства, что вполне устраивало Нофрет. Они были просто двумя женщинами, путешествующими в обществе старейшин и молодых людей, спутницами, но не подругами.
Похоже, что Мириам никогда не знала искусства дружбы, а начинать учиться было поздновато. Нофрет не собиралась ни помогать ей в этом, ни пытаться изменить ее.
Старейшины не были такими осмотрительными, как Нофрет. Все они слышали, как Моше заявил перед священной горой, что не будет снова царем Египта, но теперь, когда они уже подходили к Мемфису, стали наседать на него.
— Только подумай, — говорили они. — Вот ты, вот царство. Его правитель — твой преемник по очень отдаленной линии. Царская линия прервалась, почему бы тебе не восстановить ее? У тебя даже есть сыновья, чтобы наследовать тебе.
Моше, казалось, не слышал их. Он сидел, скрестив ноги, у костра под звездным сводом, который в Египте считают телом богини, и слушал песни шакалов. В отблесках костра его лицо ничем не напоминало царя, некогда правившего в Ахетатоне: того странного человека с длинным подбородком и всегда недовольно искривленными губами.
— Подумай только, — продолжали они, с удовольствием слушая сами себя. — Наш народ притесняют цари, которые и боятся, и презирают его. Если бы явился человек, провозгласивший себя царем, и предоставил нашему народу свободу править вместе с ним…
Это зашло уже слишком далеко. Мириам вмешалась с горячностью, какой Нофрет не замечала в ней со времен смерти Тутанхамона:
— Вы сами не понимаете, что говорите. Египет не потерпит чужеземного царя или власти другого народа. Он уже терпел царей-пастухов — и никогда не забудет этого. Как вы полагаете, почему теперешний царь так угнетает ваш народ? Потому что он помнит, что Египет однажды был завоеван и может быть завоеван вновь.
— Разве это завоевание, если царь возвращается на трон, принадлежащий ему по праву рождения? — спросил один из старейшин.
— Если якобы умерший царь и возвращается, ведя за собой чужеземное племя, то это самое настоящее завоевание.
Старейшины замотали головами, затрясли бородами, их челюсти сжались. Все были возмущены ее непоколебимой логикой.
— Почему царь должен освобождать такое множество рабов, полезных ему, даже если их соплеменники пришли просить за них? Куда проще избавиться от царя и посадить на его место человека, у которого есть причины любить наш народ.
— Бог не приказывал ничего подобного, — резко сказала Мириам. — Нам велено освободить наш народ от фараона и вывести его из Египта. А не требовать трона Египта.
— Однако если бы мы…
— Вы не будете ничего делать. В свое время мне пришлось отправиться в изгнание, потому что я пыталась посадить рядом с собой на трон чужеземного царевича. Если бы мы с отцом вернулись из страны мертвых с кучкой пастухов за спиной, Египет сам убил бы нас, его царю не понадобилось бы пошевелить и пальцем.
Апиру не верили ей. Никто из них, кроме Агарона и Иоханана, не жил в Египте. Все они были людьми свободной пустыни, наивными в делах Двух Царств. Они спорили об этом снова и снова, пока Моше не перестал обращать на них внимание, а Мириам не ушла, рассерженная.
Мириам продолжала сердиться, даже укладываясь спать в своей половине шатра. Она была спокойна, но Нофрет ощущала тяжесть в воздухе, напряжение тетивы, готовой лопнуть. Она расстелила свои одеяла, разделась и легла в тусклом свете лампы, висевшей на столбе. Мириам лежала неподалеку, завернувшись в одеяла; масса темных волос почти скрывала маленькое замкнутое личико, широко раскрытые темные глаза глядели в никуда.
— Мне показалось, — сказала Нофрет после долгого молчания и размышлений, — что ты была рада таким разговорам. Ты действительно не хочешь снова стать царицей?
К ее удивлению, Мириам ответила:
— Чего бы я ни хотела, это совершенно неважно.
— Значит, хочешь, — обрадовалась Нофрет. — Но, похоже, не так сильно, чтобы попытаться сделать это.
— Я ничего не хочу, кроме как выполнить свой долг и покончить с этим.
— И потом умереть?
Взгляд Мириам хлестнул Нофрет по лицу, но она выдержала его спокойно, будучи женой мужа с норовом и матерью еще более норовистых детей.
— А что мне еще делать?
— Жить. Быть счастливой. Поклоняться своему богу, если хочешь.
— Это не так просто.
— Иногда просто.
— Для тебя — может быть. — К Мириам вернулось былое высокомерие царской дочери.
Нофрет рассмеялась. Возможно, этого делать не стоило, но она не смогла удержаться.
— Ты все так усложняешь. Неудивительно, что люди думают, будто бог запретил тебе улыбаться. Они считают, что если ты улыбнешься, тебя поразит проказа или кое-что похуже.
— Какие глупости!
— Неужели? — Нофрет оперлась на руку. — А мне кажется, ты боишься улыбаться. Боишься, что лицо треснет. Или кто-то улыбнется в ответ. А вдруг это будет мужчина? И недурной собой? А что если он достанет твое сердце из саркофага, где оно так давно лежит, согреет его и вернет к жизни?
— Мое сердце не… — Мириам поспешила закрыть рот.
— Следовало сказать тебе это много лет назад, — сейчас Нофрет говорила больше с собой, чем с Мириам. — Ты же превратилась в мумию — ходишь и дышишь, но с тех пор, как умер твой молодой царь, ты мертва.
Мириам лежала неподвижно. Нофрет сумела проникнуть за воздвигнутые ею стены. Эти стены были очень высокими, а с годами стали еще выше. Что за ними скрывалось, Нофрет точно не знала, но почему-то надеялась, что там все та же девочка, третья царевна Ахетатона, обнаженная, гибкая и бесконечно любопытная. Эта царевна еще не научилась быть царицей, носить маску гордости, твердости и холодности, и сердце ее было нетронутым, как зеленый неспелый плод.
В спокойной грустной женщине, чья красота не поблекла и не огрубела, от этой девочки осталось очень мало. «Странно, — подумала Нофрет, — что красота сохраняется, даже когда сердце с годами иссыхает».
— Ты забыла, как жить, — продолжала она, — и теперь даже не вспоминаешь, что значит хотеть жить. Ты потакаешь своему безумному отцу и надеешься, что он потерпит неудачу, а тебя убьют.
— Ничего подобного, — запальчиво сказала Мириам. Нофрет добилась своего, перед ней был ребенок, пусть дерзкий и обидчивый, но все же настоящий. — Ты ко мне придираешься.
— Разве? Но так было всегда. Ты сама мне разрешила, очень давно. Помнишь?
Мириам не ответила.
— Я всегда говорила то, что не могла сказать ты, потому что ты была слишком безупречной, царевна. И теперь позволь мне сделать то же самое. Ты не возражала бы, если бы последние из вас умерли в Египте.
— Ты осуждаешь меня?
Нофрет села, обхватив колени. Ее волосы, заплетенные на ночь, скользнули по плечу. Она заметила в них проблески седины. Волосы Мириам были такими же черными, как и прежде. Везет некоторым женщинам.
— Посмотри на себя! — сказала она. — Всех нас уже коснулись годы. В моих волосах появляется седина, груди начинают обвисать, а кости по утрам ноют. А ты едва ли стала хоть на день старше с тех пор, как была девочкой. Ты такая же стройная, волосы у тебя такие же черные, на лице не прибавилось ни морщинки. И ты — ты — хочешь умереть. Почему? Какая от этого польза? Разве что труп получится красивый?
— А зачем мне жить? — спросила Мириам, выбравшись из своих одеял.
Поразительно, сколько жизни сейчас было в ее лице.
— Я думала, у тебя есть твой бог и твои пророчества. А если этого недостаточно, у тебя есть отец.
— Моему отцу я не нужна. У него есть сыновья.
— Так ты ревнуешь?
Мириам гневно взглянула на нее.
— Я рада за него. Но зачем нужна я, последняя из его дочерей, если у него есть мальчики, помогающие ему быть уверенным в себе?
— Но ты старшая из оставшихся в живых, и знаешь его лучше всех. Ты достаточно сильно любила его, чтобы позволить ему умереть для Египта. И не меньше порадовала его, придя к нему в Синай.
— Когда он ушел, я отказалась от него и вернула старых богов. А теперь? Чем же я порадую его — горькая, чье лицо может испортить любой праздник?
— Ты ясноглазая пророчица, зеркало его бога.
— Ты говоришь совсем как Леа.
Нофрет моргнула.
— Она бесконечно издевалась надо мной, — сказала Мириам. — Ругала меня, корила меня, объясняла мне, что я просто дурочка, переполненная жалостью к себе и расточающая дары бога. Она говорила, что мне многое дано. Но я никогда не понимала это. Наверное, в конце концов она исполнилась ко мне презрения.
— Вряд ли. Ведь она сделала тебя своей преемницей.
Губы Мириам скривились.
— Она отомстила мне за мое непослушание.
— Не думаю.
— Можешь думать все, что тебе угодно.
— Спасибо, ваше величество, — сказала Нофрет.
Мириам с недоверием разглядывала ее, даже забыв рассердиться.
— Неужели ты никогда не простишь меня, — спросила она наконец, — за то, что я была твоей царицей?
— Никогда!
Мириам задумалась: ее темные глаза, казалось, были устремлены в себя. Немного погодя она кивнула в знак согласия и улеглась, отвернувшись от Нофрет и закутавшись в одеяла.
Нофрет не могла разобраться в своих чувствах. Это не было удовлетворением, нет. И, конечно, не сожалением. Ей приходилось видеть, как вскрывают застарелые раны и из них течет гной, пока не покажется чистая кровь. После этого раненые выздоравливают — если только помощь приходит не слишком поздно, но и тогда они, по крайней мере, умирают более легкой смертью, чем если бы были предоставлены самим себе.
Она надеялась, что правда не убьет Мириам, что та выздоровеет, хотя бы отчасти. Ее рана старая и очень глубокая, такая глубокая, что сверху заросла, а в глубине продолжала болеть.
Вероятно, Нофрет тоже была ранена; годами и пренебрежением, гнетом и старыми обидами. Мириам попала в больное место, когда заговорила о прощении за то, что она была хозяйкой Нофрет, держала ее в рабстве и не отпустила на свободу.
Египет исцелит их обеих, а может быть, убьет. Сейчас Нофрет было безразлично, что именно случится.
57
Древний Мемфис со времен царя Тутанхамона мало изменился, разве что стены стали побелее, заново очищенные при новом царе. Великих гробниц на западной окраине время, казалось, не коснулось. И, конечно, имя, вырезанное на стенах и написанное в указах, было другим: не Небхеперура Тутанхамон, как когда-то, но имя недавно коронованного Менпетира Рамзеса, который состоял при Хоремхебе главным советником.
У Хоремхеба не было сына, не было наследника. Возможно, так боги покарали человека, научившего Египет тому, что царя, как и любого смертного, можно убить для чьей-то пользы. Он получил вожделенным трон, но не оставил сына, который занял бы этот трон после его смерти. Ему пришлось, как и Аи, как самому Тутанхамону, оставить его человеку, который — как всем было известно — желал ему столько же зла, сколько сам Хоремхеб желал Сменхкаре и Тутанхамону.
Нофрет с облегчением вздохнула, когда Мириам прочитала имя в картуше на новом камне, установленном перед воротами Мемфиса. Она не верила, что Хоремхеб скончался. Весть о его смерти разнеслась по торговым путям, как и весть о том, что в Двух Царствах пришла к власти новая линия, линия, не получавшая права на царство от дочерей Нефертари. Хоремхеб все же подчинился старому закону. Рамзес отбросил его. Насколько было известно, в Египте не осталось живых потомков Нефертари. Царю Египта пришлось отказаться от старой линии и начать новую со своего сына. Боги Египта, казалось, смотрели на своего нового Гора с одобрением. Лица людей были радостными, чего Нофрет прежде не замечала, и беззаботными, как будто огромный груз свалился с их плеч. При этом новом царе древний мир обновился.
Нофрет вспомнилось очень многое, когда она проходила под воротами, стараясь опасливо не коситься на скучающих стражников, вооруженных копьями.
Послы принимались по особой церемонии, даже посольство дикарей из пустыни. Лица придворной челяди красноречиво выражали презрение, губы были поджаты, они воротили носы, как будто от запаха коз. Апиру в лучших нарядах, тщательно вымывшись на постоялом дворе, причесанные, надушенные благовониями, задрали носы еще выше и вступили во дворец, преисполненные необычайного величия.
Ни один нос не может быть горделивей, чем нос апиру, разве что хеттский. Они посрамили египтян, и тем пришлось сдаться. Не то чтобы их манеры смягчились, но они стали вести себя куда уважительнее.
Агарон говорил от лица своего народа на безупречном египетском языке с царственным фиванским выговором. Придворные были покорены и предложили послам помещение, подобающее их положению. Однако апиру не добились немедленного приема у царя. На это не могли бы рассчитывать даже царские послы из Хатти или Пунта.
Они настроились ждать. Старейшины были терпеливы и радовались возможности отдохнуть в роскошных комнатах с высокими потолками, просторных, как полдюжины шатров, погулять в саду с фонтанами и деревьями, отягощенными плодами. Слуги были готовы исполнить каждое их желание. Молодые люди, расставшись с оружием, проводили время в городе, хотя и без особой охоты.
Моше, казалось, не воспринимал ничего, кроме голоса своего бога. Мемфис не был его столицей, он не правил в здешнем дворце. Этот город немного значил для него, даже если бы он потрудился вспомнить, кем был прежде.
Но для Мириам это было пыткой. Здесь, в этих стенах, она была царицей, здесь познала и величайшее счастье, и величайшее горе. А дворец не узнал Анхесенамон. Он забыл ее, как забывал всех умерших. Он и не мог поступать иначе, древний, переполненный воспоминаниями.
Нофрет видела ее страдания, но ничем не могла ей помочь. Заговорив о прошлом, можно было выдать бывшую царицу. Признать, что она сознает, где находится, она, известная в этой жизни как провидица апиру, значило воскресить умершую, которая не должна была ожить.
Для Нофрет жизнь здесь очень походила на ту, прежнюю: она прислуживала своей госпоже, которая была слишком уязвлена или слишком расстроена, чтобы разговаривать, и наблюдала, как Моше бродит, словно в тумане, одержимый богом. Апиру были склонны держаться вместе: они ели не так, как здешний народ, а своему богу молились по-особому, уходя в какое-нибудь укромное место.
Иоханан не искал общества Нофрет, а она не пыталась разыскивать его Она полагала, что муж не теряет Иегошуа из виду, но точно не знала, так ли это. Сын тоже не приходил навестить ее и не присылал справиться, как у нее дела. Их ссора росла в тишине, пока не превратилась в стену, разделявшую их в пути и разлучившую здесь, в Египте.
Нофрет убеждала себя, что ей это безразлично, но чувствовала в себе пустоту, холодное упрямое спокойствие. Внешне она вела себя так же, как и всегда: ходила, говорила, ела, дышала, прислуживала своей госпоже. Ей не хотелось никуда идти, даже погулять по Мемфису. Насколько она знала, торговка пивом еще жила здесь, по-прежнему варила свое крепкое пиво и подавала его в щербатых чашках.
И дело было вовсе не в том, что она всецело зависела от благорасположения Иоханана. Муж мог быть полнейшим дураком, если пожелает, подвергать своего сына — ее сына — опасностям, погибнуть вместе с ним и заслужить проклятие. Нофрет неплохо жила до того, как вышла за него замуж, и может неплохо жить и дальше, в Египте или в любом другом месте.
Она чувствовала себя странно, думая об этом, как будто у нее не было будущего. Каждое утро приходило, словно последнее, и она качалась на краю мира, но не падала, и что там, внизу, не представляла.
В Синае Нофрет знала, как пройдут эти годы, надеялась, что они будут долгими; ее дети вырастут, обзаведутся семьями, одарят ее внуками; череда лет пройдет в странствиях с пастбища на пастбище. В конце концов они с Иохананом, конечно, умрут, но не преждевременно, а когда оба доживут до почтенных преклонных лет. Египет тут ни при чем, они не должны умереть молодыми, не должны потерять Иегошуа, который не успел даже стать мужчиной. Борода его была еще лишь тенью над верхней губой; голос ломался; и он воображал себя великим воякой.
Но у него был отец, которому полагалось соображать лучше. Нофрет лелеяла свою обиду с трогательной заботой. Это удерживало ее от того, чтобы превращать себя в посмешище, бегая за своими отчаянными мужчинами и упрашивая их вернуться домой.
И где же этот дом, если не там, где они? Нофрет по-настоящему не была апиру. Египет ничего не знал о ней, а страна Хатти забыла о своей дочери. Ей негде было быть, кроме как здесь, и нечего было делать, как только сопровождать женщину, которая не нуждалась в ней и не обращала на нее внимания.
Нофрет не одобряла жалости к себе. Она отталкивала, топтала ее, но жалось поднималась снова и снова, овладевала ею, повергала в тоску.
Прошло немало времени, прежде чем к апиру явился посланник. Царь примет их среди других посольств, которые пришли в Египет со времени прошедшего полнолуния. Их было на удивление много, большинство явились, чтобы приветствовать нового царя на его троне и выяснить, насколько он расположен к их собственным царям и вождям.
Все послы собрались в зале приемов и выстроились по порядку так, как пожелал величественного вида распорядитель с жезлом, увенчанным золотым набалдашником. Он не был распорядителем церемоний, когда царицей была Анхесенамон, но Нофрет его помнила. Он стал гораздо старше и представительней, чем тот прежний молодой чиновник, но все так же косил глазом и держал голову набок, думая, что это помогает скрыть его недостаток.
Нофрет склонила голову и закуталась в покрывало. До нее, наконец, дошло, что она, а не ее госпожа, может выдать их всех. Слуги незаметны, это верно, но хеттская служанка царицы, главная над прислугой, вряд ли так быстро забыта. Оставалось надеяться, что ее покрывало будет надежным прикрытием, и никто не спросит, почему у женщины апиру серые глаза.
Никто ее, похоже, не замечал. Она была лишь одной из массы чужеземцев. Люди из страны Пунт были гораздо заметнее: обнаженные, угольно-черные, утыканные перьями и обвешанные янтарем и слоновой костью. Были здесь татуированные ливийцы, бородатые, в парчовых нарядах вельможи из Азии, даже здоровенные, мускулистые люди из Ашура, привезшие в дар львиные шкуры. Хеттов не было. Страна Хатти могла еще и не знать, что в Египте новый царь, или выжидала, чтобы посмотреть, как он себя поведет по отношению к народу, который был одновременно его врагом и союзником.
Медленно проходил час за часом. Каждое посольство выносило свои дары или дань, звучали речи, выражающие почтение по обычаю той или иной страны. Апиру, стоявшие в задних рядах, видели немного — лес колонн и головы стоящих впереди. В проход высунуться было нельзя: стражники не разрешали. Все должны были оставаться на своих местах, соблюдать порядок и ни в коем случае не возражать.
Нофрет не могла припомнить такой пытки, разве что в тот день, когда она пришла в Ахетатон среди дани, представлявшейся царю. Наверное, она уже позабыла, как муторно стоять в рядах придворных во время бесконечно долгих церемоний, или это выглядит совсем иначе, когда стоишь среди приближенных за спиной царя. Оттуда можно незаметно выскользнуть, не пререкаясь со стражей, отдохнуть, облегчиться, перекусить и вернуться незамеченным.
Царь мог себе это позволить, но явившиеся на прием — нет. Когда он выходил, все оставались стоять, голодные, мучимые кто жаждой, а кто наоборот — желанием освободиться от воды. Нофрет услышала за спиной шепот — похоже, это был Иегошуа — достаточно громкий, чтобы разнестись по всему залу: «О, боже, но мне надо выйти!»
Таким же хорошо слышным шепотом ему ответили: «Полей колонну. Никто не заметит».
Кто-то зашипел, призывая их к молчанию и, как надеялась Нофрет, удержав от святотатства. Она полагала, что это был Иоханан, но не стала оглядываться, чтобы убедиться в этом.
Она еще не видела царя, но, похоже, правитель был стар, поскольку отлучался достаточно часто. Время его отсутствия тянулось бесконечно. Нофрет задумалась, продолжаются ли суды над умершими так же долго, как здесь, среди живущих. Множество столпившихся людей, кошмарная вонь от пота, шерсти и плохо вымытых тел. Даже в таком просторном зале, за толстые стены которого не проникало солнце, людям в одежде жителей пустыни было слишком душно и жарко.
Нофрет не решалась хоть немного откинуть покрывало, хотя все ее тело отчаянно зудело. Стоявшие перед ними азиаты явно не отличались чистоплотностью. Боги сыграли бы с ней злую шутку, напустив на нее блох; она только недавно мылась.
Она покосилась на своих спутников. Старейшины собрались в кружок. Некоторые тихонько похрапывали. Молодые стояли, и среди них Моше, опиравшийся на свой посох, и Мириам. Все они, казалось, впали в транс от бесконечного ожидания, даже молодежь, хотя у Иегошуа вид был несколько свирепый.
Если кто-либо из них и наблюдал за происходящим, то его внимание уже давно рассеялось. Что будет говорить и делать Моше, не знал никто, даже он сам. Моше полагал, что бог наставит его. Но вполне могло оказаться, что бог намеревается выдать его в самом сердце царства, которым он некогда правил, перед лицом нового царя.
Нужно было бежать, пока не поздно — или остаться на постоялом дворе, откуда еще можно было попробовать ускользнуть. Здесь такого шанса не оставалось. Все двери охранялись. Бежать было некуда, кроме как мимо царя.
В конце концов они медленно продвинулись на середину зала. Постепенно Нофрет смогла рассмотреть всех высокопоставленных вельмож — множество сверкающих рядом — и всю их прислугу, начиная от маленьких нагих служанок и кончая величественными управляющими. У нее было время — намного больше, чем хотелось бы — рассмотреть и лица. Многие были ей знакомы, многие — нет. Некоторые еще совсем молодыми состояли при дворе Тутанхамона. Но новый царь привел к власти своих друзей и сторонников. Эти люди были слишком низкого происхождения или слишком не в чести, чтобы пользоваться влиянием при Тутанхамоне.
Сам царь сидел на возвышении, на месте, до боли ей знакомом. Его трон был новым, но стоял там же, где стояли все троны с тех пор, как Мемфис был лишь деревней на берегу реки. Трона для царицы рядом не было. Царица Рамзеса умерла, другой он не взял, хотя говорили, что наложниц у него много. Так же, как и дочерей, большинство которых стояли среди наиболее приближенных, а одна, самая старшая, только чуть дальше, чем юный и на удивление привлекательный сын. По возрасту женщина вполне могла быть его матерью, но никто никогда не говорил, будто это она родила своему отцу сына.
Оба они были весьма похожи на царя. Нофрет мало знала его, больше по имени, чем в лицо. При Хоремхебе он звался Па-Рамзесом и был одним из приближенных военачальника, таким же самолюбивым, как и его господин. Порывшись в памяти, она вспомнила, что он был главным строителем в Дельте, много сделавшим, чтобы основать новые города и обновить старые.
Должно быть, Рамзес был ненамного моложе Хоремхеба. Он казался таким же старым, как Аи, когда тот принимал две короны, и очень располнел, как многие египтяне к старости. Однако, по обычаю, царь должен был носить одежды, требовавшие молодого тела, чтобы хорошо выглядеть. Слуги сделали, что могли; подпоясали его туже и выше, чем обычно, и обвешали массой украшений — браслетов, запястий, широким, словно нагрудник полководца, ожерельем. Но ничто не могло скрыть пухлости его тела, узловатых вен на руках, сжимающих посох и плеть.
Напоследок Нофрет заглянула в его лицо. Знакомая царственная маска под двумя высокими коронами, белая внутри красной. Лицо, раскрашенное, как у женщины, тяжелое от белил, глаза густо подведены колем и малахитом… Она увидела тяжелые челюсти, опущенные уголки рта, глубокие складки, видные и под краской.
На своих изображениях царь выглядел намного красивее. Но так было со всеми царями, кроме Эхнатона, который мятежно гордился своим уродством.
Азиаты, наконец, вручили свои дары и произнесли речи, длинные и витиеватые. Среди речей царь зевнул: аккуратно, замаскировав зевок наклоном головы, но Нофрет еще с юности научилась распознавать все царственные уловки. Если бы нынешний правитель родился царем, он бы лучше умел это делать и был тоньше в таких хитростях.
Азиатов, наконец, проводили к выходу, хотя один из них еще продолжал говорить. Апиру сразу подтянулись, их дремотное состояние сменилось настороженностью.
Моше едва дождался, когда царский распорядитель пригласит его выйти вперед. Пространство перед возвышением было самой светлой частью зала, освещенной так, чтобы царь мог ясно видеть каждого, стоявшего перед ним. Моше вышел твердой походкой, с высоко поднятой головой. Его волосы отливали серебром, белая борода простиралась по груди. Он надел свою лучшую одежду из чистой некрашеной шерсти.
Единственным ярким пятном был набалдашник его посоха; голова змеи из бронзы, сияющая, слоимо золотая.
Вышедший вслед за ним Агарон в пурпурно-золотой полосатой одежде имел уже вид несколько подчиненный. Остальные, в черном, были подобны теням, окружающим Моше почетным эскортом.
Они не принесли царю никаких даров. Это само по себе было достаточно необычным, чтобы брови царя удивленно поднялись. Придворные возмущенно зашумели, называя апиру неблагодарными дикарями, явившимися к царю Египта с пустыми руками. Если, конечно, дарами не были молодые люди или посох в руке старшего… Нофрет заметила, как царская свита приглядывается и обсуждает это от нечего делать.
Моше снова привлек их внимание тем, что не пал ниц к ногам царя. Он стоял прямо, даже не поклонился, и смотрел на человека на возвышении с такой сосредоточенностью и с таким напряжением, что царь сам уже был готов приподняться. Нофрет, осторожно пробравшись почти в самые ряды царедворцев, достаточно хорошо видела лицо Моше, чтобы понять, что он совершенно спокоен, даже улыбается. В глазах его был бог.
Царский распорядитель первым пришел в себя. Брови его сошлись, косые глаза смотрели почти прямо, устремленные на человека, отказавшегося вести себя так, как подобает просителю. Он поднял свой жезл, чуть ли не собираясь ударить им Моше, но тот задрал подбородок и произнес:
— Мой господин, властелин Египта. Знаешь ли ты, кто я?
Сердце Нофрет почти перестало биться. Она бросила взгляд на Мириам. На ее лице нельзя было прочесть ничего — оно было до самых глаз закутано покрывалом, а широко распахнутые глаза смотрели бесстрастно.
Но ни один человек не выкрикнул ни имени Эхнатона, ни прозваний, данных ему после смерти: падший, мятежник из Ахетатона. Никто не назвал его царем или богом, богом, который умер и снова вернулся в дом живущих. Царь рассматривал его с высокомерным изумлением, разыгранным довольно неловко, с точки зрения тех, кто видывал настоящую царственную надменность.
Таких здесь было немного, или они не замечали истины. А Моше стоял, как настоящий царь, глядя этому царю прямо в лицо, говоря негромко и спокойно:
— Я вижу, ты не знаешь меня. Ты держишь мой народ в плену, господин Египта. Они строят для тебя город, для тебя, Па-Рамзес, который сам когда-то строил гробницы для царей и вельмож.
Старшая дочь царя наклонилась, что-то шепча ему на ухо. Царь нахмурился еще грознее. Возможно, она посоветовала ему ничего не отвечать: Нофрет видела, как сжались его челюсти. Женщина тоже заметила это и выпрямилась. Выражение ее лица ясно говорило: «Поступай как знаешь».
Царь начал свою речь отрывисто, хрипловатым голосом пожилого человека, громче, чем Моше, но не так четко;
— Да, я знаю тебя Ты, должно быть, и есть тот пророк из Синая, что передает свои видения тамошним племенам. Ты принес мне свое пророчество? Это твой дар мне?
— Может быть, — ответил Моше. — Но наш бог предпочитает говорить, а не показывать картинки. Он внял желаниям тех, кто поклоняется ему и требует, чтобы ты дал моему народу свободу пойти в пустыню, устроить в его честь праздник и принести ему жертвы.
— Что? Твой бог приказывает мне? А кто он такой, чтобы навязывать свою волю великому Дому Египта?
— Мой бог велит тебе отпустить их, чтобы они могли служить ему. Они должны провести три дня в пустыне, чтобы почтить его молитвами и жертвоприношениями, или он поразит твой народ мором.
Царь презрительно фыркнул, чуть не уронив с головы две короны.
— Вот еще! Кто мне этот бог, чтобы я прекратил строительство в моем городе, оставил без работы надзирателей и дал рабам возможность бродить, где им заблагорассудится? Или он полагает, что я совсем дурак и поверю, что хоть один из них вернется назад после окончания празднества? Они исчезнут в пустыне: мужчины, женщины, все до последнего младенца, и мой город останется недостроенным.
Моше выдержал взрыв царского гнева с замечательной невозмутимостью, дождался, когда царь успокоится, и сказал:
— Мой бог гораздо могущественней, чем ты способен вообразить. Ты собираешься противоречить ему? Разве тебе не страшно?
— Я не боюсь ничего, что является из пустыни, — отрезал царь.
Моше медленно кивнул.
— У тебя есть свои боги. Ты думаешь, что они защитят тебя. Но мой бог сильней их.
— Он наверняка так силен, что сведет тебя с ума прямо на моих глазах.
Моше улыбнулся. Его улыбка была приятной, но без всякой мягкости. Он повел рукой. Агарон сразу же вышел вперед. Моше подал ему посох. Казалось, что змеиная головка зашевелилась, капюшон ее начал раздуваться. Теперь она уже не сверкала так ярко, бронза потемнела. Ее форма и изгибы казались зеркальным отражением змеи-урея на царской короне.
Агарон бросил посох к ногам царя. Он должен был застучать, но упал мягко, словно был живым, а не вещью из дерева и бронзы. Лежа на каменном полу, он, казалось, начал извиваться.
Двор замер. Раздались крики, и не только женские. Царь отстранился, насколько позволяла спинка трона.
Громкий голос прозвучал из толпы приближенных, стоявших возле царя. Это был молодой человек в полотняной одежде с эмблемой Амона, отличавшей жреца высокого ранга. Он весьма насмешливо произнес:
— Неужели твой бог так ничтожен, пророк? Этот фокус стар, как сам Египет. Смотри, мы тоже так умеем.
Все жрецы, стоявшие в передних рядах, вышли и бросили свои посохи. Многие из них смеялись. Посохи, падая, извивались, даже, казалось, шипели.
Фокус… Прихотливо соединенные кусочки дерева, искусно выкованная бронзовая головка, одна из многих хитростей жрецов…
Моше улыбнулся. Агарон произнес, обращаясь явно не к человеческому существу:
— Иди, питайся.
Посох Моше изогнулся, будто живой, и бросился, как бросается змея: туда, туда, сюда, Он пожрал посохи жрецов один за другим, проглотив их целиком, и, покончив с последним, упал на пол, словно умер: стал твердым и цельным, из одного куска простого дерева и из бронзы. И вокруг больше не было ни единого посоха, хотя жрецы шарили везде с возрастающей тревогой.
— Умно, — сказал царь. — Хорошо задуманное увеселение. Может быть, нам нанимать тебя на наши пиры? Хорошее развлечение между мясом и вином, немного колдовства, чтобы наши женщины визжали и дрожали от страха?
— Над моим богом не смеются, — вымолвил Моше ясно и холодно. — Так ты освободишь мой народ?
— Что, теперь разговор уже не о жертвоприношениях и обрядах? Ты требуешь полной свободы? — Царь покачал головой. — Ты сошел с ума, почтеннейший. Ты забавен, но ты совершенно сумасшедший. Ты сам уйдешь, или мне приказать, чтобы тебя увели с глаз моих долой?
— Я уйду. Но мой бог еще не закончил свое дело, и не закончит, пока народ мой не будет освобожден.
— Тогда хорошо, что боги живут вечно.
— А вот цари, — сказал Моше с ужасающей любезностью, — нет.
58
Пророк Моше угрожал Великому Дому Египта. По-другому понять это было невозможно.
И, однако, его не уволокли, закованного в цепи. Моше позволили уйти от царя так же, как он пришел, свободным и невредимым. Он направился к месту их остановки, а остальные плелись следом, глубоко потрясенные его словами. «Глупцы», — думала Нофрет, в том числе и о себе. Следовало предвидеть, что Моше совершит нечто немыслимое.
Он уединился где-то в недрах гостевого дома. Остальные собрались в общей комнате, даже Агарон, который выглядел измученным и старым. До сих пор Нофрет не вспоминала, что он старше Моше, но теперь увидела это воочию.
— Нам надо куда-нибудь уходить, — сказала она, когда молчание стало удушающим. — Во дворце небезопасно. Если царю придет в голову, что мы собираемся напасть на него…
— Здесь безопасней, чем где бы то ни было. — Это были первые слона Иоханана, адресованные непосредственно ей с тех пор, как они ушли от горы Хореб. — Здесь крепкие стены и стража. Царь прикажет шпионить за нами — странно, если он этого не сделает — и успокоится. Если же мы соберемся и уйдем, он будет знать, что мы замышляем против него зло, начнет преследовать нас и потихоньку избавится от нас где-нибудь.
— Он может сделать это и здесь.
— Тогда весь дворец узнает. — Иоханан мерил шагами комнату. Остальные, словно оцепенев, наблюдали за ним.
Нофрет единственная из всех собралась с мыслями и заговорила:
— Во дворце никому не интересно, живы мы или нет. Они сейчас смеются над нами, если не пребывают в ярости: шайка дикарей из пустыни набралась наглости угрожать Великому Дому! Для них наша магия — сплошные глупости, шарлатанские фокусы, заурядные, словно скверное пиво на рынке.
— Так велел Господь, — устало сказал Агарон. — Мы поступили так, как нам было велено.
— Неужели ваш Господь имел в виду, чтобы мы стали посмешищем всего Египта? — спросила Нофрет.
— Непостижим ум Господа, — ответил Агарон. — И неисповедимы его пути.
Остальные забормотали, почтительно соглашаясь. Нофрет неодобрительно покачала головой и вскочила на ноги. Она не собиралась метаться взад-вперед по комнате, как Иоханан, а вышла из комнаты и побрела, сама не зная куда.
У ворот стояла стража: огромные, черные как смоль нубийцы в одеяниях царских слуг. Они не понимали по-египетски или делали вид, что не понимают. Ей объяснили, что она может идти, но только если один из них пойдет с нею. Конечно, только ради ее собственной безопасности.
Ворча, Нофрет вынуждена была вернуться. В саду, по крайней мере, не было вооруженных людей, а стены были слишком высоки, чтобы лезть через них. Прежде она не замечала, насколько мал сад, насколько ограничены его пределы.
Нофрет не слишком удивилась, обнаружив, что она здесь не одна. В саду Иоханан уже не так нервничал, но все же был слишком взволнован, чтобы сесть. Он стоял в тени гранатового дерева, разглядывая ветви, может быть, высматривая спелый плод среди зеленых.
— Еще рано, — сказала она ему.
Иоханан взглянул на нее, холодно, как посторонний человек. Он тоже умел дуться, негодяй.
— Может быть, уже поздно…
— О чем ты?
— Поздно бороться за свободу нашего народа.
— По-моему, им вообще не стоило приходить в Египет.
— У них не оставалось выбора. Была засуха, голод. Наши пастбища опустели. В Египте же было зерно для наших стад, а в его реке достаточно воды, чтобы сохранить наши жизни. И здесь жил наш родич, человек, которого египтяне называли Юйи, попавший в Египет рабом и бывший родней царю. Он предложил нам убежище.
Иоханан рассказывал так, будто сам жил в то время. Но все это происходило задолго до его появления на свет: он родился в Египте, приходился родней царям, но вынужден был работать, чтобы прокормиться.
— Мы не были рабами, — говорил он. — Мы задолжали царю, это верно, но обязались выплатить долг. Мы никогда не принадлежали ему.
— Тогда как же ваши люди дошли до этого?
Иоханан плюхнулся под гранатовое дерево. На мгновение она увидела не высокого величественного мужчину с первой проседью в бороде, а длинноногого мальчишку, каким он был когда-то. Он говорил словно сам себе:
— Мы плодовитый народ. Даже в изгнании, даже связанные долгом царю, который, казалось, становился все больше, по мере того, как мы его выплачивали, мы оставались плодовитыми: нас становилось все больше. А детей надо было кормить. Они нуждались в крыше над головой. За это нужно было платить. И тогда мы продали себя: не только нашу работу, но и тела, которые ее выполняли. — Он заметил блеск ее глаз. — Нет, другие, не я! Но когда я вернулся в Фивы, побывав на Синае, то обнаружил, что там уже не осталось свободных людей. Все они были порабощены — для удобства, как говорили надзиратели. Чтобы было проще приказать делать то или другое. И после того, как я снова ушел, строителям гробниц было велено собираться в путь: нужно было строить город для живых.
— Пи-Рамзес, — сказала Нофрет. — Город Рамзеса. Стало быть, вы все принадлежите ему.
— Он так считает.
— И вы надеетесь, что царь действительно освободит вас всех только потому, что вы об этом просите?
— Ему лучше уступить нам.
Нофрет взглянула на него так, будто видела впервые.
— Даже ты веришь в это? Две дюжины мальчишек, горстка старейшин, пара жрецов, знающих трюк, который каждый жрец в Египте умеет делать чуть ли не с колыбели — и вы думаете, что можете пошатнуть силу Египта?
— Такой фокус, — ответил Иоханан, слегка скривив губы, — был проделан только для того, чтобы показать, что наши жрецы — тоже жрецы, а не погонщики мулов. Это было только началом.
— Это может стать и концом, — заметила Нофрет, — после того, что Моше наговорил царю.
— Не думаю. Царь, наверное, изумлен не меньше тебя. Теперь, когда его гнев улегся, он, возможно, даже доволен. Ему любопытно узнать, что мы еще можем сделать.
— И что же, последуют новые фокусы? Рука прокаженного, которой жрецы Сета и Собека пугают легковерных? Или превращение воды в вино, либо в кровь, если вы особо много о себе мните? Вы не умеете сделать ничего такого, что убедит царя освободить такое множество полезных для него рабов.
— Ты так думаешь? — Иоханан поднялся. — Что ж, я готов заключить с тобой пари.
— Не знала, что ты игрок.
— Конечно, игрок. Я дважды приходил в Египет. Я женился на тебе.
— Ну хорошо, пусть будет пари. Если выиграю я, мы все умрем здесь. Если выиграешь ты…
— Если выиграю я, мы уйдем свободными. И, как бы то ни было, сделаем это вместе.
— Если только ты отправишь Иегошуа обратно в Синай.
Теплота, возникшая было между ними, снова исчезла.
— Уже слишком поздно, — ответил Иоханан и ушел, оставив ее сидеть и гневно смотреть на то место, где только что стоял.
На другой день после приема у царя явился посланец, заявив, что желает говорить со жрецами из Синая. Он тоже был жрецом, из числа жрецов Амона, тот самый молодой человек, который в ответ на фокус с посохом показал свой. Имя у него было очень длинное, и он разрешил называть себя Рамосом — почти так же, как царя. Послание, которое он принес, исходило прямо из Великого Дома.
— Мой повелитель Гор размышлял над просьбой ваших людей, — сказал Рамос своим красивым голосом, — и решил, что стоит удовлетворить ее. Он сожалеет, что ему придется лишиться работников — столь умелых, столь многочисленных и столь необходимых на строительстве его города. Однако, если вы действительно желаете, чтобы ваш народ был свободен, вам всего лишь придется заплатить за каждого раба столько, сколько он стоит на рынке в Мемфисе, чтобы можно было купить новых работников вместо тех, кого придется отпустить.
Рамос замолчал, пока они распутывали его витиеватую речь и те, кто знал египетский, переводили остальным. Иоханан передал ее с возможной краткостью, словно выплюнув слова:
— Он говорит, что мы можем освободить своих людей, выкупив их.
Некоторые старейшины обрадовались, услышав это.
— Так просто? Всего лишь выкуп, и они наши?
— Именно так, — сказал жрец Рамос, обнаружив свое знание языка апиру. Говорил он, однако, по-египетски, не решаясь пользоваться языком пустыни.
— Вы заплатите за каждого мужчину, женщину, ребенка по ценам рынка в Мемфисе.
Все замолкли. Некоторые считали на пальцах. Нофрет видела, как истина постепенно доходила до них, и истина неприятная.
— Это же царское состояние в золоте!
— Но вы ведь понимаете, — сказал жрец, — что рабы и есть царское состояние. Разве он может лишиться их?
— Эта люди принадлежат нашему богу, — произнесла Мириам. Моше все еще сидел запершись во внутренних комнатах, но она вышла к жрецу, закутанная в покрывало. Ее голос звучал невероятно холодно. Почти нечеловечески холодно.
Жрец не смутился.
— Значит, ваш бог отдал их в руки нашего царя. Он будет продавать их, поскольку имеет на это право. Но он не может отдать их просто так.
— Наш бог одолжил их вашему царю для своих целей, своей славы и славы своего народа. Ваш царь тоже всего лишь инструмент в руках Господа. Смотри, жрец, как наш бог ожесточил свое сердце против нас, чтобы закалить свой народ, как железо в горниле.
— Наш царь и бог, — сказал жрец Амона, — не склонится перед волей простого духа пустыни.
— Конечно, — согласилась Мириам. — Его гордыня служит воле нашего бога.
Жрецу это, похоже, показалось забавным.
— Я вижу, ваш бог умеет все обращать в свою пользу. И, тем не менее, госпожа, хорошо бы получить от него более серьезные знамения, чем те, что мы накануне видели. Такие штуки может проделывать любой, самый незначительный божок. Великий бог, истинный бог, должен уметь делать больше.
— Наш бог — величайшим из всех. И скоро вы убедитесь в этом.
— Очень интересно, — сказал жрец, улыбаясь, и поклонился ей так низко, как будто она все еще была царицей.
59
Пока апиру сидели взаперти в гостевом доме мемфисского дворца, принимая посланцев и любопытных придворных и ожидая, пока Моше закончит свой пост и молитву, под покровом ночи явился еще один посланец. Он проделал долгое и трудное путешествие, почти ничего не ел и не пил по дороге. Нетрудно было догадаться, кто он такой: у него было лицо апиру, а шрамы на его спине были еще глубже, чем у Иоханана.
Звали его Эфраимом. Он принес в Мемфис известие от своих сородичей.
— Рабы ничего не имеют, но все знают, — сказал он с горьким юмором, сохранившимся, несмотря на усталость и страх.
Ибо он был в страхе, более того — в ужасе. Страх привел его в Мемфис, может быть, даже в руки царя, если того пожелает бог, чтобы говорить с пророком из Синая.
— Я не обращался к старейшинам в Пи-Рамзесе, — сказал он, — и не стал бы говорить с ними, даже будь у них у всех языки; но у многих их нет, потому что они возражали против недавних нарушений законов, и их лишили возможности возражать снова. — Он не стал слушать возмущенные слова собравшихся и продолжал: — Я пришел, потому что смог бежать, и Господь позволил это. Я хочу задать пророку один вопрос.
— Пророк молится Господу, — сказала Мириам. — Не смогу ли я ответить на твой вопрос? Люди называют меня провидицей апиру.
Эфраим покачал головой.
— Я должен спросить пророка.
Он явно был намерен добиться своего и во что бы то ни стало дождаться Моше. Тогда его накормили, отвели помыться, а потом уложили спать в помещении для молодых мужчин. Под защитой своих родичей он спал так, как не спал уже бессчетное множество ночей.
Эфраим, отдохнувший и сытый, при свете дня оказался худым и иссохшим, но все же было непохоже, что он вот-вот умрет от усталости и голода.
— Нас кормят как раз так, чтобы мы могли работать, — говорил он, завтракая вместе со всеми, кроме Моше. — Если мы слабеем и плохо работаем, нас секут бичами. Не до смерти, ни в коем случае — мертвыми мы не нужны. Нам говорят, что мы гораздо ценнее живые. Мы нужны царю, чтобы строить ему город.
— А женщины? — поинтересовалась Нофрет. — А дети? Они тоже страдают?
— Женщины работают вместе с мужчинами. Дети тоже, если они достаточно большие. Если нет, матери носят их на спине. Или… — он умолк.
— Или? — уточнила Нофрет.
Он не хотел говорить этого, но устремленные на него взгляды были слишком настойчивы.
— Или их продают. Мальчиков, если они уродились сильными, забирают, как только они достаточно подрастут для того, чтобы их можно было отнять от груди. И парней постарше — тоже, вплоть до тех, которые уже почти стали мужчинами. Египтяне говорят, что нас слишком много. Они не могут прокормить нас всех и потому продают детей, за которых можно взять хорошие деньги, но которые слишком малы, чтобы работать наравне со взрослыми мужчинами.
Нофрет не удивилась, тому что Эфраиму так неприятна эта тема. Рабство — ужасная вещь, приводящая в ярость даже ее, рабыню. Но то, что отбирали и продавали сыновей, было еще кошмарнее.
— Их отнимают у родственников, — вмешался Агарон, — и воспитывают среди чужих — среди людей, которые ничего не знают ни о нашей жизни, ни о нашем боге. — Он поднял голову, как будто они находились под открытым небом, а не под крышей, и закричал:
— О, Господин мой, великий Бог! Как ты можешь терпеть это? Как же мы отыщем их?
— Я надеюсь, — заговорила Мириам, и ее голос после этого вопля показался очень тихим, — что Господь приведет нас к ним или их к нам, когда наступит срок.
— Иногда я перестаю на него надеться, — вздохнул Иоханан, отчасти с грустной насмешкой, отчасти серьезно.
Эфраим заговорил в том же тоне:
— Я помню времена, когда на строительстве города нам было не так уж и плохо. Конечно, мы все равно находились в неволе, и некоторые из нас были знакомы с плетью даже слишком хорошо. Но у нас была еда, наши дома были лучше, чем у многих свободных людей, и никто не мешал нам поклоняться нашему богу так, как мы желали. Я даже не знаю, когда все переменилось. Это происходило медленно. Немного здесь, немного там. Возможно…
— Возможно, когда Па-Рамзес узнал, что станет царем? — предположила Нофрет.
— Очень может быть, — согласился Эфраим. — Я полагаю, ты знаешь, что он был царским строителем.
Он жил в Пи-Рамзесе и приходил наблюдать за нами. Изредка он задавал нам вопросы: как идет работа, достаточно ли у нас еды, не нужен ли нам свободный день, чтобы молиться богу. Иногда он выполнял наши просьбы, иногда нет, и тогда мы знали, что это не в его силах. Но когда царь состарился, царский строитель стал приходить реже. Он все время был у царя, чтобы потом самому стать царем.
— И, кроме всего прочего, — добавила Нофрет, — он постарался показать Хоремхебу, что при необходимости может быть достаточно жестким. Даже продавать ваших детей, если посчитает, что их слишком много.
Эфраим кивнул.
— Мы знали, что старый царь не любит нас. За нами требовалось присматривать, потому что в нас подозревали мятежников, наподобие царя, чье имя все позабыли — падшего, слуги Атона. Приходилось быть очень осторожными, не разговаривать с египтянами о нашем боге и не говорить ничего такого, что может напомнить им о боге падшего. Это было непросто. Главное было не назвать его Единственным, единственным богом.
— По-моему, — заметила Нофрет, — вы ничем не опасны для богов Египта. Они победили Атона, полностью уничтожили его. С чего им бояться вашего бога? Он даже не один из них.
— Страх не обязательно должен быть понятен, — вмешалась Мириам. При Эфраиме она была в безопасности и сидела, скинув покрывало, как и Нофрет. Но на Мириам он смотрел совсем не так, как на нее. Нофрет была довольно обыкновенной женщиной, далеко уже не юной. Мириам была красива древней царственной красотой, а отчужденность делала ее еще прекраснее.
Эфраим буквально впился в нее взглядом. Мириам, казалось, не замечала этого.
— Можно ощущать страх, не понимая его причины, просто знать, что причина есть, — продолжила она.
— Память — уже достаточно веская причина, — сказал Иоханан. — Боги не прощают. Даже будучи сильными, они могут опасаться других, которые сильнее их. Они знают, что наш бог не только могущественнее Атона, он могущественнее их всех. А их слуги боятся этого.
— Но если они не существуют… — начала Нофрет.
Иоханан повернулся к ней.
— Бог, властвующий над богами, существует, это не подлежит сомнению. А боги людей живут в их умах, питаются людскими страхами, живут человеческой верой. Теряя своих почитателей, такой бог теряет себя и перестает существовать.
— Но…
Иоханан не дал себя перебить.
— Боги боятся этого. Если царь — один из таких богов, тогда его страх вполне реален. Такой страх может поработить целый народ.
— Подобный образ мыслей отличает безумцев в большинстве стран мира, — заметила Нофрет.
— Тогда все наше племя — безумцы, — согласился Иоханан.
— Я и не сомневаюсь в этом, — сухо ответила она.
Моше вышел из своего уединения с видом человека, который долго и хорошо спал. Он нашел их всех сидящими у стола с остатками завтрака. Они продолжали сидеть, зная, что не стоит спрашивать пророка о результатах его бдения, лишь Эфраим попытался вскочить на ноги.
Иегошуа удержал его. Тот попытался вырваться, но Иегошуа был больше и сильнее.
Моше этого не заметил. Он сел там, где было свободное место. Сосед придвинул ему корзинку с хлебом, кто-то подал блюдо с фруктами, сыр, мясо ягненка, оставшееся с вечера.
Пророк ел не спеша, как люди, которые часто постятся, но было видно, что он проголодался. Он попил воды, охлажденной в кувшине, зарытом в землю, и немного слабого египетского пива.
Утолив голод и жажду, Моше, казалось, пришел в себя. Он осмотрелся и увидел незнакомца. Эфраим, сначала не решавшийся встретиться с ним взглядом, теперь смело взглянул на него в упор и сказал, словно самому себе, как говорил уже много раз:
— Я пришел спросить тебя. Почему мы так страдаем? Почему Господь допускает это? Ведь мы принадлежим ему!
Моше никогда не раздражался, если ему задавали трудные вопросы, даже будучи царем. И этот вопрос он выслушал спокойно, словно ожидал его.
— Пойми, никто кроме нашего народа не может его слышать. Все другие племена и народы стали глухи к нему, изобрели собственных богов и забыли, как слушать его голос. Только мы умеем это.
— Тогда Господь должен защищать нас. И уничтожать тех, кто желает нам зла.
— Он так и делает. И дальше намеревается так сделать.
— Он должен был сделать это уже давно.
Моше протестующе вытянул руки.
— Господь поступает так, как хочет. Кто мы есть, чтобы судить его?
— Мы принадлежим ему, — сказал Эфраим. — Он назвал нас своими.
— А может ли дитя подвергать сомнению волю отца?
— Если эта воля причиняет ему мучения, может.
— Но если у этих мучений есть цель, непостижимая пониманию ребенка — что тогда? Должен ли отец уступить ему?
— Он должен научить ребенка, как понять это.
— Если ребенок способен понять, безусловно. Но если он слишком мал или слаб разумом, тогда лучше, чтобы отец просто сказал ему: «Делай так, потому что я так велю», — и ребенок должен повиноваться. Так и мы повинуемся нашему богу, недоступному человеческому пониманию.
Способность апиру спорить о боге была уж точно недоступна иноземному пониманию Нофрет. Она подавила зевок и принялась собирать посуду. Слуги, услышав звяканье, торопливо прибежали исполнять свои обязанности.
Она намеревалась выставить их, но Моше, оказывается, как ни удивительно, сказал все, что собирался. Нофрет не подозревала, что пророк может быть так краток. Он вымыл руки, встал, кивнул Агарону и сказал:
— Пошли.
Остальные поспешили вслед за ними; некоторые даже не успели надеть сандалии. Даже Эфраим пошел, в одежде с чужого плеча, босиком и глубоко озадаченный.
Стражники у дверей посторонились, пропустили всю толпу, но двинулись следом, как им было приказано. Некоторые из молодых людей явно сожалели, что у них нет с собой оружия, но враждебности не проявляли, сдерживаемые присутствием Моше. Он решительным шагом вел их через дворы и коридоры дворца.
Они шли к воротам самым прямым путем, не интересуясь, что о них могут подумать. Моше был пророком, а пророками руководят боги; они знают, куда ведут все дороги и как по ним идти.
Никто не решался остановить его. Стражникам было приказано только присматривать за ними. Моше, с младенчества окруженный вооруженными людьми из царской стражи, не находил в таком сопровождении ничего странного.
Он вел их вниз к реке. Уже наступал день, на улицах было людно, как всегда. У воды стояла большая толпа, раздавались музыка и пение жрецов.
Нофрет с удивлением обнаружила, что помнит этот обряд. Отмечался конец разлива реки, время, когда она прекращала поглощать Черную Землю и начинала возвращаться в свое зимнее ложе. Высоту разлива египтяне отмечали на большой колонне и оценивали, насколько милостива была река.
На сей раз милость была дана в полном объеме. Вода убывала. Черный плодородный ил высыхал, началось время пахоты, некоторые поля уже зеленели. Жрецы и царь воздавали благодарность богу реки, принося ему молитвы и жертвы.
Простым людям не позволялось приближаться к собранию жрецов и вельмож. Но апиру подошли и встали почти рядом с ними на еще влажном берегу. Здесь тростник был вырублен, и сделана площадка, чтобы высочайшие особы не замочили ног. Апиру стояли среди тростников, их ноги были погружены в жидкий ил.
Нофрет опасалась крокодилов. Она не слышала, чтобы крокодилы нападали на такую большую толпу людей, но от них можно ждать всякого. Ее рука скользнула под покрывало — в косу был вплетен амулет Собека.
На возвышении обряд подходил к концу. Люди на берегу захлопали в ладоши, выкрикивая приветствия царю: «Тысячи и тысячи лет! Живи вечно!»
Царь совершил жертвоприношение и вернулся на трон под навесом. Носильщики заняли свои места и нагнулись, чтобы взяться за ручки.
Громкий голос Агарона заставил их замереть.
— Господин Египта! Ты все еще отказываешься повиноваться нашему богу?
Среди всеобщего замешательства, вызванного таким неслыханно дерзким обращением к царю, Моше вспрыгнул на возвышение, а вслед за ним и Агарон. Седобородые старейшины двигались ловко, как мальчишки. Агарон высился, словно башня, над жрецами и вельможами. Моше, высокий даже для египтянина, был не ниже любого из них.
Царская стража, придя в себя, ринулась вперед. Моше поднял посох.
— Нет, — сказал он мягко.
Стражники остановились, словно налетев на стену.
У жрецов и вельмож тоже, казалось, не было сил шевельнуться. Моше улыбнулся им смертельно ласковой улыбкой, но слова его были обращены к царю:
— Мой повелитель, царь, Великий Дом Египта, Властелин Двух Царств, ты все еще насмехаешься над Предводителем?
— Я не знаю вашего бога. — Голос царя прозвучал резко, скрипуче, как будто он утратил умение смягчать его.
— Ты знаешь его, — возразил Моше, все еще негромко, но слышал его каждый. — Он говорит с тобой днем и ночью, с тех пор, как ты превратил его людей в своих рабов.
— Я не слышу его, — упорствовал царь.
— Слышишь. Но отказываешься признать его. Он пугает тебя. Так и должно быть, поскольку он могущественней всех богов Египта.
Царь попытался поднять руку, в которой держал плеть, но то ли этот золоченый символ царской власти был сделан из камня, который тяжелее даже золота, то ли его рука преодолевала невидимую тяжесть.
— Уберите его, — приказал он. — Уберите его отсюда.
Никто не двинулся с места, чтобы исполнить приказ. Стража не в силах была преодолеть стену, воздвигнутую посохом Моше. Жрецы тоже не могли или не хотели сдвинуться с места.
Глубокий румянец гнева залил щеки царя под краской.
— Твои чары рассекутся, как и любые чары. И тогда ты умрешь.
— Чары? — изумился Моше. — Но я не колдун. Я служу своему Богу, только и всего. Сейчас его рука лежит на тебе.
— Твой бог — ложь и сон. Я призову против тебя Амона. Я призову Пта и Тота, Осириса и Исиду, Гора, Сета…
Моше выслушал это перечисление богов с нерушимым спокойствием и, когда царь исчерпал свои познания, сказал:
— Мой бог один, и имя его могущественно. Так ты освободишь мой народ?
— Я не освобождаю рабов, которые мне еще нужны.
— Это Господь делает тебя таким непреклонным. Что ж, смотри и ты увидишь доказательство его мощи.
— Что, новые фокусы? Руки прокаженного? Превращение воды в кровь?
— Проси, и тебе будет дано. — Моше повернулся лицом к реке и наклонил свой посох вдоль течения. — Смотри.
Томительно долго ничего не происходило. Если бы стража могла наброситься на Моше, она бы успела это сделать. Жрецы неотрывно глядели туда, куда указывал пророк апиру, словно их воля была полностью подчинена ему. Только царь еще имел силы сопротивляться. Преодолевая мощь руки бога, возложенной на него, он почти встал с трона, но тут по толпе пронесся ропот. Первыми шум подняли люди, находившиеся выше по течению и не дошедшие до места царской церемонии. Нофрет показалось, что этот полустон, полувопль пришел сюда из самой Нубии.
Река, успокоившаяся после разлива, отливала голубым под солнцем и коричневым в тени, темно-коричневым, цветом Черной Земли. Кое-где, под деревьями и среди тростников, вода была зеленой, под облаками становилась серой, под ветром покрывалась белой пеной.
Теперь в реке бежало новое течение. Шум, доносившийся сверху, приблизился и стал яснее: «Кровь! река обратилась в кровь!»
Вода стала почти красной. Нофрет видела такой цвет у земли. Красной Земли, а мореходы рассказывали, что иногда вода в море тоже краснеет, рыба, живущая в нем, умирает, и люди, которые ее ели, тоже умирают от рези в животе.
— Превращение воды в кровь, — произнес Моше спокойно и четко среди криков толпы, — это, как ты сказал, простой фокус, шарлатанство — Он помолчал. — Так ты освободишь мой народ?
Царь не мог оторвать глаз от реки, скованный ужасом, но в глазах его ясно читался гнев.
— Нет, — ответил он. — Я никогда не сделаю этого.
60
Вся вода в Египте была из реки. Ею поливали поля, ею наполняли колодцы. Поэтому теперь все колодцы, все цистерны, все каналы были полны кроваво-красной воды.
Вода была не такой густой, как кровь, но пахла железом. Только та вода, которую люди набрали прежде, чем река изменилась, оставалась пока чистой и неиспорченной. В этих нескольких кувшинах и бурдюках была вся вода и Египте, годная для питья; весь запас воды для людей и животных, до тех пор, пока бог апиру не решит, что можно снять проклятие.
Так говорили в городе и даже во дворце. До Нофрет доходили разные слухи. Она ушла с берега реки вслед за остальными, шагая рядом с Моше, и не удивилась бы, если бы толпа набросилась на них и разорвала в клочья, но никто не двинулся с места. Для них освободили путь, словно для царской процессии: от речного берега до самого дворца.
Нофрет меньше всего хотелось туда возвращаться, но их вел Моше, неспособный понять, почему дворец может оказаться не лучшим убежищем. Наверное, так уж он был воспитан. Дворцы всегда давали ему укрытие, поэтому он не видел надобности куда-то уходить, если можно было оставаться в царском доме.
Им не причинили никакого вреда. Никто к ним не приближался, никто не останавливал их. Много позже, в тот же день, Нофрет выглянула из дверей, но стражников там не было. Казалось, во всей этой части дворца кроме апиру не осталось никого.
Вода в гостевом доме была чистой, как и в цистерне позади него. Иегошуа, обследовав окрестности, вернулся со связкой жирных гусей, ощипанных и выпотрошенных, и сообщил, что остальному дворцу не так повезло. По его словам, гусей ему преподнес перепуганный чиновник, умоляя снять заклятие с его колодца.
— Господь поступит так, как захочет, — сказал Моше. Некоторое время он молился вместе с Агароном, но потом вышел, чтобы поговорить с Эфраимом. Никто из апиру не спросил его, что и как он сделал на реке, да им и не нужно было спрашивать — они свято верили в могущество бога, говорившего устами своего пророка.
Нофрет не знала что и думать. Она была упряма и не менее непреклонна, чем сам царь. На месте Рамзеса она бы тоже не уступила горстке бандитов из пустыни.
Люди царя разошлись по Двум Царствам, успокаивая народ, вознося молитвы, чтобы умилостивить своих богов. О боге апиру не говорилось ни слова.
Моше оставался невозмутимым.
— Господь только начал, — говорил он.
Семь дней вода в реке была красной и ни для чего не пригодной. Люди берегли остатки чистой воды как зеницу ока. На базарах и полях случались драки. Скот разбежался в поисках воды, поскольку из реки пить было невозможно.
В реке вымерла вся рыба, и речные птицы, питавшиеся ею, тоже умерли. Только крокодилы были сыты и довольны. Они ели дохлую рыбу и птиц, пили воду из реки, и ничего плохого с ними не делалось.
На рассвете седьмого дня вдоль реки снова пронесся вопль. Сквозь сон Нофрет подумала, что ей снятся шум деревьев под ветром или отголоски далекой битвы, но, просыпаясь, все яснее слышала крики.
Она соскочила с кровати. Соседняя кровать Мириам была пуста, всех остальных тоже не было. Нофрет нашла их на крыше гостевого дома, сзади примыкавшего к дворцовой стене. Отсюда были видны река и толпы народа на берегу. Некоторые с криками плескались в воде, не обращая внимания на гниющую рыбу и крокодилов.
Мутная река разлилась широко, и цвета крови в ней уже не было. Нофрет подумала, что река, наверное, очистилась везде, от Нубии до Дельты, кровавая вода исчезла из всех колодцев, цистерн и с полей, пропахших дохлой рыбой.
Люди плясали, пели, славили богов. Никто не смотрел в сторону дворца, на чужеземцев на его стене. Нофрет была рада этому. Лучше, когда тебя не замечают, чем когда винят за свои страдания.
— Это еще не все, — сказал Моше.
Река очистилась, но дохлой рыбы в ней было так много, что даже крокодилы не могли пожрать ее всю. Земледельцы справлялись с ней лучше: дохлая рыба — прекрасное удобрение. Только вонь стояла неописуемая.
Вслед за вонью незаметно появилось кое-что еще. Оно барахталось в бассейнах, кишело в реке, с кваканьем выпрыгивало из переполненных водоемов на землю: повсюду, где недавно бежала кроваво-красная вода, — в колодцах, цистернах, на полях и в каналах, развелось множество лягушек.
Лягушки были самыми разнообразными: одни не больше ноготка на женском мизинце, другие громадные, квакающие басом, которые не уместились бы на самом большом блюде на царском пиру.
Их породила вода. Возникнув из крови и зловонной смерти, они заполонили все дома в Египте.
Все, кроме дома, где жили апиру. Лягушки были даже в царском дворце; лезли в кувшины с водой для питья, скакали по постелям. Слуга, белый как полотно, с трясущимися руками, привел Моше к царю, а за ним шли еще несколько человек, осторожно ставя ноги, чтобы не наступить на скользкие тельца.
Лягушки, казалось, избегали ног апиру, но вполне охотно приносили себя в жертву под сандалиями египтян. Когда те наступали на них, лягушки пронзительно и гадко орали.
Нофрет стало жаль слугу. Пусть он египтянин и служит царю, который не желает исполнить просьбу апиру, что он не причинил им никакого зла.
Однако бог апиру, похоже, не знал жалости. Нофрет шла за его пророком, погруженная в свои мысли, раздумывая, как бы самой договориться с богами, знакомыми ей.
Царь находился в личной комнате для приемов. С ним были лишь несколько слуг, дочери и два стражника.
В прежние времена, когда Нофрет бывала здесь, комната служила для проведения досуга. На стенах еще сохранилось изображение охоты: юный стройный царь на колеснице, поражающий льва, к радости своей царицы. Нофрет заметила, как Мириам, взглянув раз, поспешила отвести глаза. Воспоминания ее были печальны.
Царь, восседавший на высоком резном кресле, не имел ничего общего с тем царем, которого вспоминала Мириам. Он был одет по-домашнему просто и почти без украшений. На нем была синяя корона, по форме напоминавшая шлем, что свидетельствовало о его воинственности или о том, что он хочет чувствовать себя посвободнее, когда от него не требуется исполнения государственных обязанностей.
Трудно чувствовать себя посвободнее, когда по комнате повсюду шныряют лягушки. Царские слуги изо всех сил старались сохранять достоинство, но с трудом удерживались от вскриков, когда лягушки прыгали им на ноги. И на возвышении вокруг трона тоже было полно лягушек. Одна, огромная, зеленая с коричневыми пятнами, неподвижно сидела у ног царя, глядя на него мудрыми глазами. Когда посольство приблизилось, его каменная неподвижность нарушилась: стремительно мелькнул длинный язык, подхватил муху, и лягушка снова погрузилась в созерцание.
Царь, стиснув зубы, старался не замечать ее. Он обратился к Моше, как только пророк приблизился к нему, не ожидая от него выражений почтения, которые были бы странны в таком положении.
— Убери от нас это проклятие, и я освобожу твой народ.
Рядом с Нофрет кто-то глубоко вздохнул. Она стояла, затаив дыхание. Моше, прежде чем заговорить, тоже перевел дух.
— Конечно, мой господин. Но сдержишь ли ты свое слово?
— Только освободи меня от этой гадости! — рявкнул царь.
Моше склонил голову.
— Все будет так, как желает мой господин. Мой Бог снимет проклятие. Ты дашь свободу нашему народу, чтобы он мог принести жертвы богу.
— Так сделай же это, — царь отчеканивал каждое слою.
— Конечно, мой господин. Уже сделано.
Царь открыл рот, пытаясь что-то сказать, но не мог произнести ни слона. Пол, только что кишевший живыми существами, медленно затихал. Больше не было слышно ни кваканья, ни писка.
Очень осторожно, с напряженным вниманием, царь вытянул ногу и дотронулся до огромной лягушки. Она не шевельнулась. Царь наподдал ей с неожиданной силой. Лягушка слетела с возвышения и упала светлым брюшком вверх к ногам Моше, неподвижная и безжизненная.
Пророк апиру перевел взгляд на лицо царя.
— Завтра мы пойдем в Пи-Рамзес. Оттуда наши люди отправятся с нами в пустыню.
Царь ничего не ответил. Так его и оставил Моше, сидящим на троне среди множества дохлых лягушек.
Вонь от гниющей рыбы и гниющих лягушек испортила воздух Мемфиса до невозможности. Чистым он оставался лишь в стенах гостевого дома. Там пахло только шерстью, да из сада доносился легкий аромат цветов.
Молодые люди смеялись и плясали, воспевая победу. Эфраим был среди них. Он обрел такую же свободу речи и движений, как они, словно таким родился. Нофрет подумала, что все апиру в душе свободны. Никто из них не годится быть рабом.
Старейшины тоже немного одурели, опьяненные успехом. Все, кроме Мириам и Моше, удалившегося к своим размышлениям. Мириам не участвовала в пиршестве. Она скромно поужинала и рано ушла спать.
Нофрет последовала за ней. Мириам лежала на спине, сложив руки на груди.
— Ты даже не собрала вещи, — сказана Нофрет. Сложить их?
— Нет, — ответила Мириам.
Нофрет пожала плечами, вздохнула и молча начала собирать свои немногочисленные пожитки: чистое белье, запасную пару сандалий, сумочку со всякими мелочами. В Мемфисе она ничего не купила, да и не собиралась. Она уйдет так же, как пришла, путешествуя налегке.
— Не стоит беспокоиться, — произнесла Мириам.
Нофрет остановилась.
— Что ты сказала?
— Не суетись.
— Мириам, но царь говорил…
— Царь не обязан быть порядочным.
Нофрет покачнулась и упала на кучку своих вещей. Их было слишком мало, чтобы падение показалось ей мягким.
— Разве царь не собирается отпускать их?
— Он только хотел избавиться от лягушек. А как только он избавился от лягушек, ему уже не обязательно выполнять свое обещание.
Нофрет невесело усмехнулась.
— Какие же мы наивные, что поверили ему.
— Мы поверили богу, — возразила Мириам, — а бог могущественнее любого царя.
Очень может быть. Но разве царь, как и сама Нофрет, не считал, что это вовсе не знамение бога апиру, а смесь удачи и колдовства? Реки и прежде становились красными. Лягушки вполне могут завестись от грязи и умереть так же, как и возникли, отравленные собственной многочисленностью. Во всем этом может вовсе не быть ничего божественного.
61
Утром, приготовившись уходить, апиру обнаружили, что двери заложены и возле них стоит удвоенный караул. Царь нарушил свое слово. Рабы не будут освобождены, и посольство не уйдет из Мемфиса. Они останутся во дворце, под усиленной охраной, кроме того, их будут стеречь жрецы, чтобы защититься от угрозы их колдовства.
Моше был, как всегда, невозмутим, полагаясь на своего бога. Несколько молодых людей собрались было бежать, но Агарон запретил им.
— Стены стали двойными и тройными, — сказал он. — Разве вы не чувствуете запаха магии?
— Я чувствую запах смерти, — ответил Иегошуа, передернувшись. — Фу! Вся страна воняет.
Еще хуже было на крыше, куда им позволяли выходить, поскольку стены были очень высоки и убежать они не могли. Люди сгребали мертвых лягушек в кучи, некоторых закапывали, некоторых сжигали. Рынки превратились в кладбища лягушек. Улицы были завалены ими.
— Ваш бог ничего не делает наполовину, — сказала Нофрет Мириам, стоявшей рядом с ней.
Мириам согласно кивнула.
— Будет и еще, снова и снова, до тех пор, пока фараон не освободит наш народ.
Вслед за лягушками произошли нашествия жалящих оводов и мух. Первыми их обнаружили похоронные команды: черные, ослепляющие и клубящиеся облака преследовали их, когда они пускались в бегство.
Скот страдал еще больше, чем люди, ухаживавшие за ним. Топот и дикое ржание коней, блеяние овец, рев ослов, доведенных до безумия, достигали даже дворцовых стен. Ни один дом не был в безопасности, двери и окна не защищали от насекомых. Оводы жужжали и жалили. Мухи лезли повсюду. Никто не мог поесть, не наглотавшись мух, или отхлебнуть из чашки так, чтобы они не попали в рот. Насекомые были исключительно прожорливы: оводы жаждали крови, а мухи всего, что можно есть или пить.
И все же царь не поддавался. Апиру держали в гостевом доме как пленников. С его крыши они могли видеть Египет сквозь облако жужжащих, жалящих мучителей, никогда, однако, не приближавшихся к ним, никогда им не досаждавших. Их дом был раем по сравнению с загаженным Египтом.
Когда оводы уставали от бесконечных атак и насытившиеся мухи валились, слишком отяжелевшие, чтобы подняться в воздух, животные в полях начинали двигаться беспорядочно, с ржанием, блеянием и ревом. Они спотыкались и падали, пытались поначалу подняться, но потом, ослабевая даже для этого, лежали, тяжело дыша, высунув языки, почерневшие от болезни, и вскоре издыхали.
Ослы апиру прохлаждались в конюшне, не тронутые недугом, поразившим весь Египет. Нофрет спустилась посмотреть, уже готовая задержать дыхание от запаха смерти. Но там пахло просто конюшней, навозом и ослами, тростником, нарезанным им на подстилки, свежим сеном в кормушках. Она стояла, почесывая загривок ослика, который привез ее шатер с Синая, симпатичного серо-сизого создания с необыкновенно большими ушами хорошей формы. Осел косился на нее, пережевывая свой обед.
Нофрет позволила себе отдохнуть, прислонившись к его крепкому телу.
— Даже если предположить, — сказала она ему, что река стала кровавой из-за действия каких-то природных сил и Моше удалось получить известие об этом с юга и воспользоваться им в своих целях — даже если предположить такое и заключить, что все остальное — неизбежные последствия загрязнения реки, — все же мы не страдаем, когда остальной Египет гниет и умирает. Для царя это очевидно так же, как и для нас. Когда же он начнет действовать? Скоро ли он убьет нас?
— Царь нас не тронет, — раздался голос из-за ее спины.
Нофрет обернулась и увидела Иоханана. Он был один. Это ее немного удивило. Она ожидала, что с ним будет Иегошуа. Тогда ее муж и сын могли бы позлорадствовать, что они здесь вместе, после того как она так настойчиво пыталась разлучить их.
Нехорошо было так думать. Она постаралась изобразить спокойствие.
— Только не говори мне, что вас защищает Господь. Я это столько раз слышала, что уже тошно.
— Ладно, не буду. Я скажу, что царь попался в ловушку собственной гордыни. Приказав убить нас, он тем самым признает, что в бедствиях Египта виноваты мы.
— Разве это позор? Это же правда.
— Он утверждает, что у нашего пророка в запасе пара фокусов, не больше, и он делает только то, что может любой колдун.
— Если бы колдун поступил с Египтом так же, как поступил ваш бог, его казнили бы при возможно большем скоплении народа, чтобы другим неповадно было думать, будто они могут испугать царя своим искусством. Черным искусством, — добавила Нофрет. — Искусством, которое разрушает. Разве вашему богу не жаль Египта?
— Египет отвергает его, — сказал Иоханан.
— Царь Египта отказывается освободить целую армию очень нужных ему рабов. Должен ли страдать народ за упрямство своего царя?
— Царя Египта, — напомнил Иоханан.
Нофрет в изумлении взглянула на него.
— Я тебя совсем не знаю, — сказала она, помолчав.
— И никогда, похоже, не знала.
Он не отвел глаз. Нофрет тщетно искала в его взгляде жалость или хотя бы намек на нее. Но ее муж был таким же рабом своего бога, как и сам Моше. Все они были рабами. Все, кроме Нофрет.
— Я все равно не верю, хотя и была свидетельницей проявления его силы. Что он бог, я знаю; я чувствую его мощь. Но есть и другие боги. Он не один.
— Он превыше всех богов.
— Этого я не знаю Я не апиру. И если я выйду на улицу, меня заживо съедят оводы, а мой осел погибнет. Мне будет не лучше, чем любому из египтян.
— Тогда почему же ты не идешь?
— Боюсь…
— Ну, нет, — сказал он вполне искренне. — Трусость тебе несвойственна. Я думаю, ты все-таки веришь. Просто не хочешь признаваться.
— И твой бог этого не признает, разве не так? Он ведь ничего не прощает. Он хочет владеть всей душой человека, а не частью, оставшейся после других богов.
— Другие боги — ложь, порождение человеческого ума. Наш Бог истинный, он стоит над всеми богами.
— Это я уже слышала. А почему он до сих пор не совершил ничего такого, чего не смог бы другой бог?
— А почему никакой другой бог не попытался остановить его? — вкрадчиво спросил Иоханан.
Эти слова заставили ее замолчать. Но ответ нашелся быстро.
— Боги ни во что не вмешиваются. Они предоставляют всему идти своим чередом.
— Жрецы говорят иначе.
Нофрет покачала головой.
— Ты говоришь, что здесь вмешался твой бог. Царь говорит, что ваш пророк воспользовался стечением неудачных обстоятельств. Не знаю, что сказала бы я. Может быть, боги Египта согласны, что царя Египта стоит проучить?
— Довольно странно, что боги позволяют уничтожать их народ, потому что это отвечает их целям. Что ж, представим, что это так. Но наш бог все еще силен. Он по-прежнему совершает великие чудеса, чтобы сломить волю царя и заставить его освободить наш народ.
— Но царь непоколебим. Он не смягчится. Он говорит то же, что и я. Всех жрецов повесят прежде, чем это кончится, за то, что они допустили такое безобразие и не добились вмешательства своих богов.
— Некоторые уже умерли, другие молятся день и ночь, пытаясь отразить силы, которые они считают магическими.
— А разве это не магия?
— Магия — действия людей, желающих подчинить мир своей воле. А это могущественней, чем магия. Это работа бога.
— Но похоже на магию, — заметила Нофрет. — Все это может сделать колдун — или целая орда жрецов, взывающих к богу в храмах от Нубии до Дельты.
— Сейчас здесь всего один человек.
— Да, но прежде он был самим Египтом. А вдруг он и до сих пор остается им? И творит чудеса не потому, что его бог могущественней других, а потому, что он сам был богом?
Иоханан не хотел этого слышать. Его глаза сузились, он покачал головой.
— Все давно в прошлом. Он умер.
— Но Египет помнит его, — возразила Нофрет. — Что, если на самом деле царь борется не против племени рабов, а против другого царя? Здесь цари являются богами. Если прежний царь и бог жив и набирает силу в Египте, что ждет нового царя? Действительно ли он царь или только претендент на трон? — Теперь Иоханан даже не слушал ее: Нофрет был знаком этот замкнутый взгляд, эти сжатые челюсти. Но она должна была закончить свою мысль: — До сих пор он не сделал ничего такого, чего не может царь. Он наложил руку на ткань Египта, выдернул нить, и остальное расползлось само. Вот сила царя, Иоханан. Вот что может сделать человек, если он — сердце и душа Египта.
— Это может сделать наш бог, — тихо и с напряжением сказал Иоханан. — Ты называешь его беспощадным — и говоришь такое, что лишь у бога хватит величия простить.
— Я говорю о том, что вижу.
— Ты такая же упрямая, как царь!
Нофрет подняла брови.
— В самом деле? Который же?
Это его доконало. Он пошел прочь, не сказав больше ни слова. Нофрет обрадовалась — или попыталась обрадоваться. В глубине ее сердца было темно и холодно. Но тепла и света в нем не осталось с тех самых пор, как случилась ссора у горы Хореб.
62
Зараза рождает заразу. Испорченная вода, множество лягушек, оводов и мух, мор, напавший на скот, настолько отравили воздух и землю, что ни один человек не мог жить в чистоте и безопасности. Среди всей этой грязи и мертвых тел все густо покрылись болячками и сыпью: сначала те, кто должен был убирать трупы, затем их семьи, а потом и вельможи.
Все, кроме апиру. Зараза их не брала, они, как всегда, жили в чистоте и удобстве, и тела их оставались неповрежденными.
Это было настолько очевидно, что однажды утром к ним ворвались стражники, всех похватали и привели к царю.
Он сидел на троне в главном зале, словно роскошь могла победить многочисленные язвы, обезображивавшие его так же, как и остальных людей, стоявших вокруг него. Краска не скрывала болячек. Придворные обоего пола прятали лица за большими веерами из перьев и кутались в плотные одежды, более подходящие для пустыни, чем для двора Двух Царств.
Сам царь был одет в платье любимого им старинного фасона, вроде жреческого, с накидкой, закрывавшей плечи и руки. Но нечем было скрыть кисти, покрытые гнойными ранами, и лицо. Черные глаза гневно сверкали на бело-багровой маске. Его голова не выдерживала тяжести короны; на царе был лишь легкий головной убор со змеей-уреем надо лбом.
Все видели, как апиру вошли, не робея, и что их лица и руки не тронуты болезнью. Ропот, поднявшийся среди придворных, явно звучал гневно.
Царь говорил тихо и иногда невнятно: язык у него тоже болел.
— Нам сказали, — произнес он, — что твоих людей даже краем не задело ни одно из проклятий, наложенных на нас.
— Здесь не задело, — ответил Агарон, — и, я полагаю, в Пи-Рамзесе тоже.
— Так происходит повсюду, где есть ваши люди. Они живут в безопасности, их вода чиста, насекомые не трогают их. Их стада и отары по-прежнему процветают, а наши издыхают в мучениях.
— Ну что же, — сказал Моше, — надеюсь, это является доказательством гнева нашего бога за то, что Египет не позволяет нашему народу почтить его в священном месте.
— А не могли бы они делать это в городе, который строят? Я никогда не запрещал им воздавать богу любые почести.
— Но наш бог требует, чтобы они были свободны, ушли в пустыню и совершали обряды под открытым небом.
— А если мы разрешим им уйти, то можем ли быть уверены в том, что они вообще когда-нибудь вернутся?
На это Моше ничего не ответил.
Царь растянул свои кровоточащие губы над зубами, знавшими лучшие дни. Эту болезненную гримасу нельзя было назвать улыбкой.
— По-моему, ваш бог хочет вынудить нас отпустить самых лучших и сильных из наших рабов. Его проклятия сильны, этого у него не отнять, но они недостаточно сильны для того, чтобы поколебать мою волю и силу. Наши боги в конце концов одержат победу, как бывало всегда.
— Но какой ценой? Как далеко придется зайти моему богу, чтобы убедить тебя сдаться?
— Раньше ты говорил мне, что это твой бог делает меня таким упрямым, чтобы доказать свою силу. Если так, пусть доказывает дальше. Если нет, пусть продолжает испытывать нас до тех пор, пока не поднимутся в гневе наши боги.
— Берегитесь, — сказал Агарон, — чтобы гнев твоих богов не обратился против тебя. Египту из-за твоего сопротивления приходится туго.
— Это ваша вина, — ответил царь. — Вы заставили меня, и боги это знают. Они позаботятся, чтобы вы заплатили за все.
— Пока платит Египет, — заметил Моше. — И будет платить, пока ты не сдашься.
— Я, Гор, Великий Дом, царь и бог, Господин Двух Царств, никогда не уступлю таким, как вы.
По мнению Нофрет, самое скверное заключаюсь в том, что двор не обратился против царя, хотя его гордыня оказалась губительной для них Они все были горды до безумия и твердили, что Египет не сдастся на милость чужеземного бога. Апиру опять отослали, в их просьбе снова было отказано, их люди продолжали томиться в рабстве.
Ей хотелось заорать на упрямцев, трясти их, пока они не придут в чувство. Неужели так трудно освободить несколько сотен рабов, отправить их в пустыню и велеть никогда не возвращаться? Апиру не были ни великим народом, ни воинственным племенем, которое может вернуться и завоевать Египет, как цари-пастухи в прежние времена Они просто хотят бродить по пустыне, пасти свои стада и поклоняться своему богу.
Возможно, некоторые из них хотят большего. Молодые люди часто говорили о собственной стране, о царстве, о городах Апиру имели некоторые виды на Ханаан. Однако Египет был им не нужен. Они только хотели освободиться от него.
Но ее слова были бы бесполезными. Нофрет была чужестранкой и для апиру, и для египтян. Поэтому она держала свои мысли при себе, делая то, что полагалось делать в гостевом доме с тех пор, как исчезли слуги — по-видимому, ушли лечить свои болячки и проклинать людей, наславших на них эту напасть. Иногда она подумывала выйти пройтись. Стража, отведя их к царю, не вернулась на свои посты. Можно было идти куда вздумается.
Может быть, и стоило бы уйти, даже если придется пасть жертвой проклятия. Надо подумать, что она будет делать. Можно начать варить пиво, открыть лавочку и продавать его тем, кто останется в живых после того, как бог апиру перестанет уничтожать Египет.
Нофрет уже была готова к этому, когда решил прогуляться сам Моше. На сей раз он не пошел к царю, а вместе с Агароном отправился в город. Старейшины, усталые или трусливые, остались в гостевом доме, но большинство молодых пошли тоже, а с ними и Мириам с Нофрет. Она могла бы и не ходить, но, поскольку уже настроилась выйти, пожала плечами и присоединилась к остальным.
Люди, прежде готовые наброситься на апиру и разорвать их в клочья, теперь были так слабы, что лишь отшатывались в страхе. Некоторые приближались, моля об избавлении. Они были посмелее, или их так измучила болезнь, что им было уже все равно. Моше не задерживался перед ними, словно вообще не замечая. Только Нофрет отвечала то одному, то другому:
— Иди, сделай себе лекарство. Найди масло алоэ или мазь из него, и тебе станет легче.
Это было почти ничто, но люди хватали ее за руки и разражались слезами, нечленораздельно бормоча благодарности. Приходилось вырываться и бегом догонять остальных. Она несколько раз с подозрением осматривала свои руки — на одной из них остался синяк, когда кто-то схватил слишком сильно.
Моше шел, словно его вела невидимая рука, прямо к храму Пта. Оттуда далеко разносились пение жрецов, облака благовоний и блеяние жертвенных животных. Нофрет подумала, что убивать здоровых животных, еще оставшихся в живых, глупо. Боги не будут довольны этим, если только они намного глупее, чем она всегда считала.
В этом месте ощущалась магическая сила, под ногами гудело, кожу покалывало. Она давно не чувствовала такого — зло обрушившееся на Египет, задавило все. Зло прорастало из земли и из воздуха, неизбежное, как разложение трупа. Сила в храме Пта была чистой, ясной, отдельной от обычного хода вещей на земле.
Когда Моше приблизился к большим воротам храма, гул усилился. Пение зазвучало громче, словно от отчаяния. Моше шел прямо к цели, похоже, не замечая, какая мощь направлена против него. Там, где он находился, воздух оставался спокойным, там, где он шел, земля молчала, словно никакой магии рядом с ним не было или она не имела над ним силы.
Казалось, никто из апиру не сознает, что делает. Они безмолвно следовали за Моше, разглядывая храм. Он был обширней дворца и более величественный. Египет ничего не строил по простым человеческим меркам. Все было громадным, словно выстроенным богами.
Апиру сказали бы, что их богу не нужны такие усилия. Он велик сам по себе. Те, кто в него верил, не должны были бояться другого бога, другой силы, даже магической.
Моше остановился на крыльце храма. На просторном дворе собралась толпы: люди, пришедшие за ним так же слепо, как овцы следуют за своим пастухом. Он повернулся к ним, слегка опираясь на посох с бронзовой змеей. Лица несчастных, опухшие, покрытые язвами, должно быть, тронули даже его холодное сердце: лицо пророка помрачнело, глаза потемнели, и глубокая печаль была в них. Когда он заговорил, Агарон вторил ему, провозглашая его слова торжественным низким голосом.
— Народ Египта! — произнес пророк. — Вашего царя не переубедить. Он упорствует в своей гордыне, упивается своим упрямством. До сих пор мой бог мягко обходился с ним — и с вами, ею слугами. Теперь же он начинает гневаться.
Все молчали. Никто не умолял смилостивиться. Ни один человек даже не упомянул, что их страдания и до сих пор очень напоминали гнев божий. Люди онемели, зачарованные его словами. Слова эти были не особенно витиеваты, но в самой их простоте чувствовалась мощь.
— Мой бог начинает сердиться, — говорил Моше, — и теперь объявляет мне, что за великое безумие вашего царя он покарает Два Царства так, как до сих пор еще никогда не карал. Ищите убежища, люди Египта, со всеми вашими детьми и слугами, со стадами и отарами, пережившими мор. Проверьте, прочны ли крыши ваших домов, выдержат ли они бурю, которую нашлет мой бог.
Он помолчал, затем продолжал в абсолютной тишине:
— Вы знаете, что мой бог милостив. Он не отнимет жизнь ни у единого человека в Египте, если только этот человек проявит мудрость и послушается его предупреждения. — Моше возвысил голос, а за ним и Агарон, так, что эхо, казалось, отдавалось от небес: — Идите! Защитите себя! Смотрите, как идет мой Господин!
Пророк воздел к небу руки и посох. Люди вытянули шеи, обратив лица ввысь.
Небо Египта всегда неизменно: безоблачный свод днем, звездный свод ночью. Лишь иногда на нем появлялось облачко. Очень редко облаков бывало больше, чем синевы; и совсем настоящей редкостью был дождь.
Бури всегда приходят неожиданно и быстро. Та, что должна грянуть сейчас, шла быстрее, чем все, какие доводилось видеть Нофрет, даже в Великой Стране Хатти, где бури часты и ужасны. Тучи бурлили, как вода в котле, клыки молний раздирали синюю черноту.
— Идите же! — голос Моше сорвался на крик, Агарон вторил ему не менее пронзительно.
Люди засуетились, словно отара, окруженная волками. Наконец у кого-то хватило ума броситься вон с площади. Остальные потекли следом, как река.
Казалось, буря продолжалась чуть ли не полвека, хотя от начала до конца прошло не больше часа. Но этот час был длиннее многих лет. Все были оглушены, ошарашены одним только шумом, подавлены гневом своего бога.
Только Моше держался прямо и не выказывал страха. Но Нофрет заметила, что пророк намного бледнее обычного. Возможно, он даже сам не ожидал, что его бог может быть столь ужасен.
63
После бури наступила гробовая тишина. Нофрет вместе с остальными поднялась на крышу, которая выдержала натиск, получив только одну пробоину, когда камень величиной с человеческую голову разнес западный угол. Апиру щурились и моргали, глядя на мир, сияющий под солнцем, словно хрусталь.
Градины уже таяли, и на загаженную, избитую землю бежали потоки чистой воды. Стена туч умчалась вниз по реке, на север, по направлению к Дельте — к Пи-Рамзесу, как подумала Нофрет. Интересно, уцелеют ли тамошние апиру, если даже их пророку и его людям в Мемфисе так досталось? Несомненно, бог предупредит их и позаботится о том, чтобы все они оказались в убежище, когда разразится буря.
Мемфис был опустошен. Городские дома пострадали мало, но хижины земледельцев вдоль реки разнесло начисто. Все, кто был застигнут в полях, умерли или умирали. И весь урожай — лен в цвету, ячмень в колосьях — был выбит и уничтожен. Уцелела только пшеница, поскольку еще не проросла. В этом году в Египте будет очень мало льняного волокна, а хлеб и пиво придется делать только из запасов, отложенных на случай голода — и то, если амбары не разбило и их содержимое не порчено дождем, падавшим вместе с градом.
Задул пронизывающий ветер. Запахло, как всегда перед ливнем в пустыне: жаркий сухой запах, больше пыли, чем воды. Моше спокойно шагал под этим дождем, хотя и быстрее, чем прежде.
Путь во дворец показался очень долгим. Улицы кишели народом. Большинство не успели укрыться или были застигнуты слишком далеко от своих домов. Что еще хуже, среди них были маловеры. «Это всего лишь буря, — говорили они. — Обыкновенный дождь. В Азии он идет каждый день».
Как замечали некоторые, это было явным преувеличением. Но слишком многие заслушивались и мешали тем, кто слушать не хотел. А давка была не менее опасна, чем буря.
Моше не позволял никому остановить себя и никому не уступал дороги. Ворота дворца были распахнуты, стража отгоняла людей, стремившихся ворваться внутрь. Моше прошел через толпу, ведя за собой вереницу своих людей, в том числе и Нофрет, обуреваемую сомнениями. Ей не хватило решимости скрыться, пока было можно.
Даже в гостевом доме был ясно слышен шум ветра, становившийся все громче и громче, прерываемый раскатами грома. Если гнев божий имел голос, то это он и был: ветер, гром, треск молний.
Затем начался дождь и крупный град. На сей раз гнев божий не миновал и их дом. Возможно, бог так и задумал, а может быть, ему было слишком трудно миновать среди столь ужасной бури одну такую маленькую крышу. Шум стоял, как на поле брани, раздавался грохот и стук, на крышу обрушился дождь из камней величиной с кулак. Любой человек или животное, застигнутые на улице, непременно погибли бы, забитые этими камнями насмерть.
Даже апиру испугались непрерывного грохота и молча сбились в кучу в середине дома. Если под камнями проломится крыша, она упадет на верхний этаж. Вторая крыша, то есть потолок прямо над ними, была прочной, но они в страхе смотрели на нее и, чем дольше продолжалась буря, тем реже отводили от нее глаза.
Казалось, что солнце светит с издевкой, а небо снова стало голубым и безоблачным; после холода бури опять поднималась жара. Буря сделала лишь одно полезное дело для Египта: очистила землю, унеся прочь смердящие останки, так долго лежавшие на ней.
Это была всего лишь передышка. Царь оставался непреклонным. Его жрецы трудились еще больше, чтобы своей магией защититься от бога апиру. Нофрет могла бы сказать им, что они напрасно стараются. Как бы грандиозна ни была их сила, как бы ни простиралась она из конца в конец Мемфиса, как бы ни изгибалась над городом, словно купол из света, она не могла коснуться бога, который был превыше любой магии смертных. Магия не могла повредить пророку и его людям, не могла заставить их свернуть с пути.
Может быть, то, что Нофрет была хетткой, помогало ей понять, что такое магия, но не поддаваться ей. Ее кожа цепенела, ноги покалывало, когда они касались священной земли, но ум оставался незамутненным. Мысли ее были так же ясны, как и всегда, о чем бы она ни думала.
Ее мятежное настроение сменилось упорным недоверием. Нофрет не верила, потому что не знала, как верить. То, что она видела и чувствовала, затрагивало ее тело и ум, но не сердце. Безумец из пустыни пришел в Египет и отрицает его царя и его богов, а они ничего не предпринимают, пока он разрушает их землю с кровавой безжалостностью, на которую не способен ни один человек.
Со временем такой бог мог бы завоевать ее веру. Но Нофрет не могла любить его. Гораздо лучше те маленькие боги, которых апиру называют созданиями человеческого разума. Они могут быть пугающими, иногда совершенно непостижимыми, но в них есть какая-то человечность, до них можно дотронуться, они похожи на нее саму. Этот же, Один и Единый Истинный Бог, заявляющий, что нет никого превыше его, совершенно непонятен, о нем невозможно говорить, не то что потрогать.
Придя в свою комнату — если не было Мириам, — Нофрет выплетала из полос два амулета и сжимала их в руке. Они были всего лишь кусочками резного камня и стекла, холодными и гладкими. Но эти боги успокаивали ее.
Хорошо, что ей было за что держаться. Родня отдалилась от нее: и в Хатти, и в Синае, и здесь, в Египте. У Нофрет не было друзей, и уж конечно, не Мириам была ей подругой — она снова ушла в себя, слишком далеко, чтобы следовать за нею.
Воспоминания о граде постепенно бледнели, хотя они никогда не изгладятся из памяти тех, кто его пережил. Лен и ячмень были потеряны. Пшеница, однако, росла, и эти поля, покрытые нежной зеленью, крестьяне холили и лелеяли, как собственных детей.
Но царь не уступал. И тогда однажды утром, когда колосья уже достаточно выросли, чтобы ждать хорошего урожая, с юга пришла новая туча. Она приближалась, стремительная и темная, с жужжанием, напоминавшим жужжание мух, но мух, выросших до огромных размеров.
Египет, так жестоко обездоленный и еще не дождавшийся урожая, снова впал в отчаяние. Старики еще помнили о такой напасти, а молодым часто рассказывали об этой чуме, приходящей с юга.
Саранча летела густыми тучами, заслонившими солнце, огромными тучами, заполнившими небо. Она прилетела, села и пожрала все: и пшеницу в полях, и немногочисленные плоды на деревьях, уцелевшие от града, и листья, и даже ветки, достаточно нежные на ее вкус. Трупы скота, иссушенные солнцем, были обглоданы до чистых белых костей. Саранча съела все, что можно было съесть — чуть ли не одежду с живых людей, сожрала все до голой земли. Уцелело лишь то, что было спрятано за надежными стенами и запорами. Даже амбары, недостаточно хорошо починенные после града, стали ее добычей. Она не знала пощады, как бог или инструмент в его руке.
Под жужжание саранчи, под шум бесчисленных челюстей, смалывающих все подряд, в гостевой дом к апиру пришла служанка и спросила сестру пророка. Женщина была вся в болячках, дрожала от страха и едва могла говорить. Но она достаточно ясно сказала, что пришла от дочери фараона, и что сестра пророка, под которой подразумевалась Мириам, должна явиться без провожатых. С ней может пойти одна женщина, и не больше.
Апиру совсем не понравились эти слова, но Мириам взяла свое покрывало и собралась идти за служанкой. Нофрет молча отправилась следом. Несмотря на опасения мужчин, она не чувствовала подвоха. Царь держал в неволе весь народ Исроела, живущий в Египте. Больше рабов ему не требовалось, даже если они состояли в тесном родстве с пророком.
Служанка привела их туда, куда и ожидала Нофрет: во дворец, в котором раньше жили царицы, а теперь — царские дочери. Их ждала лишь одна из них, окруженная служанками. Нофрет видела ее на приемах у царя: это была старшая дочь, больше других похожая на царя.
С этим ей не повезло. Тело женщины носило избыток плоти достаточно грациозно, но лицо с тяжелыми скулами скорее подошло бы мужчине. Ее называли Нефер-Ра, Красота Ра: конечно, в честь бога, а не ее собственной миловидности.
Царевна не пыталась возместить то, чего ей не было дано, хотя красила лицо и носила парик, как подобает знатной женщине. На ней было льняное платье и украшения, соответствующие ее положению, но не в избытке. Она выглядела женщиной основательной и здравомыслящей.
Нефер-Ра приняла пришедших любезно, без страха и надменности. Она пригласила их сесть; предложила им вино и сладости. Мириам отказалась. Нофрет не хотелось ни есть, ни пить. Жужжание саранчи пробирало ее до костей. Больше ни для чего места уже не оставалось.
Царевна заговорила первой, поскольку остальные молчали. Она была прямолинейна, как и ее отец, даже резка, несмотря на изысканную вежливость.
— Я просила вас прийти сюда, чтобы поговорить с вами как женщина с женщиной, пока мужчины ссорятся. Мой отец, как вы понимаете, попался в ловушку своего положения, он вынужден делать то, что делает. Он не может пойти на попятную, иначе ему придется отказаться править Египтом.
— Он волен так думать, бесстрастно сказала Мириам.
— Он знает это, — ответила Нефер-Ра. — Его сердце оплакивает народ Египта — но как он может уступить?
— Очень просто. Отпустить наш народ. Забыть о нем. Посвятить себя восстановлению Двух Царств.
— Это не так легко.
Мириам подняла брови, но промолчала. Нефер-Ра налила в чашу вина и жадно выпила. Снова наполнив чашу, царевна стала пить потихоньку. Ее щеки окрасились румянцем. Она покачала головой.
— Вы не понимаете. Да и не можете понять. Это дано только царю или царской дочери. Царство живет силой царя. Вряд ли вы осознаете, что все эти смерти, зараза и напасти превратили его в ничто, надсмеялись над его царственной властью. Отец говорит, что вы добивались именно этого. Я с ним не согласна. Я думаю, вас волнует только то, что ваш народ порабощен. Вы хотите освободить его, не больше и не меньше. Но для этого вы пойдете на все.
Мириам все еще молчала. Когда Нефер-Ра обратилась к ней как к простолюдинке, дочери рабов, ее глаза сверкнули, но она была достаточно умна, чтобы не открывать истины. В этой жизни она была дитя пустыни, посторонняя для дворцов.
Нефер-Ра, по-видимому, не обескуражило ее молчание.
— Предположим, мне удалось бы объяснить отцу ваши намерения. Ты смогла бы снять проклятие?
— У меня нет такой силы. Ею владеет только мой отец.
Глаза Нефер-Ра расширились от удивления.
— Твой… — Она запнулась. — Мне сказали, что ты его сестра.
— У него нет сестры. Я его дочь. Похоже, что твой отец поручил тебе переговорить со мной. Мой отец не давал мне подобных поручений, я могу только передать ему послание. И ничего не могу обещать.
— И я не могу, — сказала Нефер-Ра со слабой улыбкой, — но иногда мне удастся повлиять на него. Надо что-то делать, ведь Египет страдает.
Трудно было сказать, действительно ли царевна так переживает из-за своего народа. По ее лицу и манерам невозможно было понять, способна ли она на столь тонкие чувства.
— Тогда в этом не больше смысла, чем в болтовне женщин у костра, пока мужчины держат совет в шатре, — заметила Мириам.
— Но женщины умеют убеждать своих мужчин, а мой отец прислушивается к моему мнению.
— А мой отец слушает бога.
Нефер-Ра наклонилась к ней.
— Твой отец просит, чтобы вашему народу разрешили пойти в пустыню и поклониться своему богу, ведь так? Мой отец отказывает вам, отчасти из гордости, отчасти из подозрительности. Может ли он быть уверен, что его рабы вернутся, воздав должное своему богу?
— Если мы дадим слово, — сказала Мириам, — то сдержим его.
Нефер-Ра кивнула.
— Я тебе верю. И надеюсь, что моего отца можно убедить — если только ваши люди согласятся пойти на одну маленькую уступку.
Мириам сидела неподвижно. Нофрет заметила, что ее взгляд стал настороженным, но лицо было, как всегда, невозмутимым. Она не хотела задавать неизбежного вопроса.
Нефер-Ра, не колеблясь, задала его вместо нее.
— Да, так какая же уступка? Небольшая. Это будет даже разумно, если иметь в виду разбойников, львов и шакалов в пустыне, песчаные бури.
Она помолчала. Мириам молча наблюдала за ней.
Царевна сказала, возможно, более поспешно, чем собиралась, и с большей решимостью:
— Не берите с собой детей. Разрешите им остаться в Пи-Рамзесе, пока старшие поклоняются богу. Они будут в безопасности, о них позаботятся, за ними присмотрят. Никто не станет угрожать им. И никто, — произнесла она решительно, как самое главное, — не заберет их. Они останутся на месте и будут ждать своих родных.
Спина Нофрет напряглась. В этом предложении не было ничего разумного. Сейчас прозвучали почти те же слова, которые говорила она, оставляя своих детей в Синае — те же слова, которые она бросила в лицо Иоханану, узнав, что их первенец отправляется с ними в Египет. Боль оказалась гораздо сильнее, чем она ожидала, острая мучительная тоска по Анне и Исхаку полоснула ее по сердцу. Нофрет словно вновь видела их лица, отважные, как подобает детям Исроела, но с глазами, полными слез.
Боль воспоминаний была так сильна, что некоторое время она ничего не видела и не слышала, пока не услышала голоса Мириам. Ей слишком хорошо был знаком этот негромкий и печальный голос:
— И ты думаешь, что мы оставим наших детей на вашу милость? Клянись чем угодно — мы ни за что не поверим вам. И никогда не оставим своих детей тем, кто уже продал лучших из них чужим людям.
Нефер-Ра потеряла дар речи. Так всегда случалось с людьми, когда Мириам сбрасывала маску своей поверхностной мягкости.
— У нас нет оснований доверять вам, — продолжала она. — У вас нет ни чести, ни совести. Вы забрали наших людей, которые служили царю, свободных людей, работавших за жалованье, и превратили их в рабов. Вы продали в рабство их детей. Теперь вы хотите, чтобы мы ушли, покинув тех детей, которые еще остались, чтобы они, как созревший плод, упали вам в руки.
Нефер-Ра была озадачена, но соображала быстро.
— Такие вещи может говорить лишь тот, кто сам готов нарушить данное слово. Вы хотите взять с собой детей, потому что не собираетесь возвращаться. Если вы уйдете в пустыню, Египет никогда больше не увидит вас.
Мириам выдержала ее взгляд. Теперь на ней не было маски, и она больше не притворялась. Пророчица апиру была величественна и царственно горда.
— Разве мы обязаны быть честными с теми, кто так бесчестно обошелся с нами?
— Если уж говорить о чести и долге, — заметила Нефер-Ра, — то, что тогда можно сказать о Египте, который вы лишили всего, о стране, жителям которой угрожает голод? Вы, апиру, были рабами, но мы никогда не морили вас голодом.
— Нет. Но вы секли нас, мучили нас, продавали наших детей. Вы принуждали строителей работать голыми руками, без инструментов, или заставляли делать эти инструменты, но не давали людям времени. Как они ни пытались удовлетворить надзирателей, их требования становились все жестче и жестче. Вы изо всех сил старались сломить наш народ. И все из мелкой мести — вы всегда помнили о тех временах, когда боги Египта подчинялись одному великому богу. Если бы наш народ поклонялся полудюжине лживых божков, он до сих пор был бы свободен, строил гробницы в Фивах и пас стада в Дельте. Его не согнали бы в Пи-Рамзес строить город для царя, который ненавидит и боится его.
Нефер-Ра медленно поднялась.
— Вы непреклонный народ, — сдержанно сказала она. — Вы слишком горды, если не сказать хуже. Именно за это и наказывает вас мой отец.
— Что ж, — ответила Мириам, — мы очень похожи на него.
На какое-то мгновение Нофрет показалось, что Нефер-Ра ударит Мириам. Но истинная женщина, даже так похожая на мужчину, как эта, не унизится до драки. Ее оружие — ее язык.
— Я вижу, ты ничем не лучше своего отца. Иди, порадуйся вместе с ним страданиям Египта. Возблагодари за жестокость своего ревнивого бога, который не потерпит никого выше себя.
— Ты тоже, — заметила Мириам, — подобна своему отцу. Освободив нас, вы избавили бы Египет от страданий. Эти бесконечные бедствия накликал на него твой отец своим упрямством.
Нофрет обнаружила, что давно уже сидит затаив дыхание, и медленно вздохнула. Обе женщины, теперешняя царевна и прежняя царица, стояли лицом к лицу, сверкая глазами.
Дело можно было поправить, только уступив, и уступив полностью. Цари и царицы все одинаковы.
И жены, и мужья. В мире всегда идет борьба. Даже боги сражаются между собой.
Мириам распрощалась с Нефер-Ра с исключительной любезностью. Это неотъемлемое свойство царей. Они приветливо беседуют с теми, кого хотели бы уничтожить, царственно обходительны с врагами и завершают битву выражениями всяческого почтения. Возможно, Нефер-Ра удивилась, где провидица апиру могла научиться таким вещам, но ничего не сказала.
Когда в Египте не осталось ни травинки, сильный ветер с запада унес саранчу, всю до единой, прямо в море, лежащее между Египтом и Синаем.
Но этот ветер был ужасен сам по себе, как рука бога. Вместе с саранчой он унес плодородную почву Египта, дар реки, сокровище Черной Земли. С ветром явилась и сама Красная Земля; песчаная буря из пустыни, сухая как пыль, оживляемая лишь молниями.
Черная Земли и Красная Земля вступили в сражение над рекой. Три дня солнце не могло пробиться через тучи земли и пыли. Свет шел только от молний, все остальное было тьмой. Ночь была лишь ненамного темнее дня, день же погружался в бурую муть, и лишь слабый намек на свет пробивался сквозь тучи.
Тогда царь, наконец, дрогнул. Возможно, его уговорила дочь, а может быть, ей и не понадобилось этого делать.
Рамзес все еще не мог смирить гордыню и не хотел идти к Моше сам, словно нищий под двери царя. Он снова приказал привести к нему пророка, в сопровождении стражи и старшего из слуг. Зал, ярко озаренный лампами, был тесно заполнен придворными. Они привели с собой собак, кошек с золотыми колечками в ушах, ручных обезьянок и газелей, птиц в клетках — всю свою живность, как будто город находился в осаде.
— Я согласен, — сказал царь пророку. — Я подчиняюсь вашему богу. Твой народ может уходить.
Молодые апиру радостно переглянулись. Они не боялись темноты, называли ее плащом Господа и смело расхаживали повсюду под покровом тьмы. Теперь они убедились в своей правоте: царь сдался. Их народ был свободен.
— Девять раз говорил твой бог, — продолжил царь. — Восемь раз я отверг его. Но больше не буду. Мое царство лежит в развалинах. По воле твоего бога нам грозит голод и смерть. Пусть будет так, как он желает. Пусть твой народ собирает свои вещи и уходит, уходит далеко и надолго. Пусть поклоняется своему богу как угодно и где угодно.
— Мой бог щедр, — сказал Моше, — и исключительно разумен.
— Разве у меня есть выбор? — спросил царь с горечью. — Иди. Моя лодка ждет, чтобы отвезти тебя в Пи-Рамзес. Когда ты доберешься туда, собирай своих людей и веди их прочь из Египта.
— Так мы и сделаем, — согласился Моше, но уходить не собирался, хотя его явно отпускали.
За него заговорила Мириам, а не Агарон, который выглядел таким же довольным, как молодые люди.
Она начала осторожно, безупречно вежливо, с чистым фиванским выговором:
— Твоя лодка, мой господин? Ты, наверное, имел в виду твои лодки. У нас ведь много вещей и вьючные животные.
— Ах, да, — сказал царь. — Видите ли, эти животные нам нужны. Ваш бог уничтожил большую часть наших стад. Почти не осталось быков, чтобы пахать, ослов, чтобы возить поклажу; коз и овец тоже очень мало. Боюсь, что мы должны оставить ваших животных себе и здесь, и в Пи-Рамзесе.
Мириам смотрела на него с удивлением, даже не взглянув на женщину, стоявшую среди его приближенных, — прямую, замкнутую в себе Нефер-Ра. Трудно было сказать, ее ли это мысль, или ее отца.
Мириам спокойно обратилась к царю, стараясь говорить убедительно:
— Мы должны забрать наши стада. Мы живем ими. Без них нам придется голодать.
— Но я полагаю, что ваш бог накормит вас.
— Он помогает нам только тогда, когда мы не в состоянии справиться сами, — объяснила Мириам. — Мы пастухи. И не можем жить без наших стад.
— И мы не можем. Поскольку нас больше, мы больше нуждаемся в них. Ваш народ может уходить — разве не этого вы добивались? Я даже не прошу, чтобы вы оставили детей, хотя так было бы безопасней для них. Но ваших животных — а только они избежали мора — придется оставить здесь. Наши дети голодают, госпожа. Без этих стад и отар они умрут.
— Они наши, — возразила Мириам. — Наш бог сохранил их для нас.
— Какие же вы упрямые! Неужели вы откажетесь от свободы для своего народа из-за нескольких коз и овец?
— Эти несколько коз и овец — жизнь моего народа, его опора в засушливых землях. Из их шерсти делаются наши шатры, наша одежда и плащи. Их молоком и мясом мы питаемся… Их мы приносим в жертву богу Исроела.
— Понятно. Вы не должны гневить вашего бога, вашего сурового и мстительного повелителя. Что ж, я оставлю вам по одной козе на семью и по одному ягненку для жертвоприношения. Остальной скот мы заберем себе. Ваш бог отнял то, что принадлежало нам. Взамен мы возьмем ваше.
— Мы не можем этого сделать, — вмешался Моше. — Господь сказал достаточно ясно. Мы должны уйти со всеми нашими вещами и живностью, с нашими стадами, со всем, что принадлежит нам. Ничто иное не удовлетворит его.
— Тогда вы глупцы, а бог ваш — настоящий скупердяй. Можете идти, я освобождаю вас. Но стада останутся здесь.
— Без наших стад мы уйти не можем. Господь запретил нам.
— Тогда оставайтесь! — взревел царь. — Оставайтесь и будьте прокляты!
64
Со всех предыдущих приемов Моше возвращался совершенно невозмутимый, окутанный влиянием своего бога, словно плащом. На сей раз он весь трясся — Нофрет не могла понять, от гнева или от ужаса. Он сел на пол в гостевом доме и зарыдал так, как рыдает человек, дошедший до предела своего терпения: без слез, разрывая себе сердце.
Пророк апиру, казалось, не замечал, что остальные волнуются и суетятся. Насколько могла видеть Нофрет, он ни с кем не говорил и не делал никаких движений, которые делают люди, советуясь с богом. Похоже, его речи были обращены к человеку, более старшему и мудрому, возможно, к отцу:
— О, Бог, мой бог, как долго ты еще будешь испытывать нас? Как долго еще должны страдать Два Царства? Когда же ты освободишь нас?
Ответа не последовало. Нофрет почувствовала, что бесконечно устала. Тьма прокралась в ее сердце и расположилась там надолго. Солнце никогда не засияет снова. Они все будут жить и умирать в темноте, и даже звезды не выйдут на небо, чтобы утешить их.
Нофрет очнулась от тяжелого, глубокого сна. Сначала она даже не поняла, что ее разбудило. Казалось, горела лампа, но удивительно ярко. Она села на кровати, моргая.
Свет солнца. Свет дня. Тьма ушла с неба.
Но не из ее сердца. Там было так же темно, как и прежде.
Нофрет встала, натянула одежду, попавшуюся под руку. Ее тело было словно чужим, тяжелым, неловким. Ей казалось, что она движется, как деревянная.
Выйдя из своей комнаты, Нофрет оказалась среди всеобщей суеты. Все посольство было тут в полном составе, все вещи были уложены, в том числе и ее узелок. Надо было совсем ослепнуть и оглохнуть, чтобы не заметить, что все собираются в дорогу.
Она хотела спросить, в чем дело, но перед ней возник Иегошуа с совершенно безумными белыми глазами.
— Пошли, — сказал он. — Пошли скорее.
Нофрет не нужно было особенно упираться, чтобы помешать сыну тащить ее за собой. Она была словно из дерева, из ливанского кедра.
— Скажи, что случилось? — заставила она себя произнести.
Он нетерпеливо замотал головой.
— Мама! Мы должны немедленно уходить. Так велит бог.
— Так велит Моше, — пояснил Иоханан, взваливая на плечо тюк. — Когда взошло солнце, царь снова призвал его к себе. Они кричали и ссорились. Нам приказано покинуть Мемфис или умереть.
— Но куда же…
— В Пи-Рамзес, — перебил ее Иегошуа. Его слова прозвучали, словно эхо: сын был так похож на отца, что с закрытыми глазами она не смогла бы различить даже их голоса. Иоханан был больше, а его борода темнее, гуще и длиннее. Надо не забыть об этом.
— Господь разгневан, — сказал Иоханан. — По-настоящему разгневан. Земля и земные создания страдали и умирали из-за царского упрямства. Но ни одного мужчины в Египте, ни одной женщины или ребенка до сих пор не коснулась карающая рука Господа.
— Но его милосердию пришел конец, — добавил Иегошуа. — Мама, проснись. Надо спешить. Когда падет гнев божий, мы должны быть в Пи-Рамзесе.
— У нас мало времени, — сказал Иоханан, поймав взгляд сына. — Но мы можем успеть. Пошли, любимая. Надо уходить, пока еще можно.
На реке их ожидала лодка, большая грузовая лодка, готовая везти их вещи и животных. У лодочников были лица апиру, хотя одеты они были в набедренные повязки — единственную подходящую для работы одежду под солнцем Египта. Нофрет подумала, что лодочников прислал бог, как и продовольствие, воду и защиту от царских стражников. Они наблюдали со стен домов и с берега, но не вмешивались.
К тому времени когда лодка отошла от берега, Нофрет уже полностью проснулась, хотя чувствовала себя как-то странно. Она сидела под полосатым полотняным навесом вместе со старейшинами, Моше и Мириам. Молодежь и Иоханан с Агароном поочередно сменяли лодочников. Нофрет не стала задавать ехидных вопросов, хотя и подумала, почему бы богу не послать им быстроходную лодку под парусами и команду гребцов. Правда, стройные быстрые суда не могут перевозить целые стада ослов.
Однако с помощью течения и единственного паруса они шли довольно быстро. Там, где берег был ровным, молодые люди выпрыгивали на сушу и тащили лодку на канатах. Наступающая ночь не остановила их, хотя двигались они медленнее, ориентируясь по звездам, сиянию фонарей и, как понимала Нофрет, по свету их бога, которого она единственная из всех видеть не могла.
Апиру говорили мало, произнося лишь молитвы. Их молчание было тревожным признаком, словно ласковость льва или отсутствие аппетита у крокодила. Это молчание тяготило ее.
А молчание Моше было вообще невыносимым. Его вдохновенные беседы с богом всегда были восторженными и окрыленными. В те давние времена, решив умереть для Египта, оставить свое царство и стать пророком в Синае, он шел к своей мнимой смерти с радостью.
Теперь радости в нем не было. Нофрет понимала, что он вот-вот выиграет битву за свободу своего народа. Но то, что для этого совершит бог, и то, что он уже совершил, наполняло его печалью.
Когда Тутанхамон был царем, Нофрет приходилось ездить по реке или по прибрежной дороге, добираясь из Мемфиса до зеленых краев Дельты. Она до сих пор помнила, как богата и красива была эта страна. Повсюду расстилались необозримые пастбища со стадами и отарами, зеленели поля ячменя и льна, роскошные сады и виноградники. Воздух был полон птиц, поды кишели рыбой.
Теперь все было опустошено: зелень пожрана, Черная Земля, ставшая пылью, унесена ветром. Огромные стада превратились в кучки белых костей на почерневших остатках полей, и лишь одинокие овцы грустно блеяли возле крестьянских хижин.
Это сделал бог апиру. Египет пал. Его народ ютился в деревнях, печально глядя на развалины былого благоденствия.
Взгляд пророка апиру тоже был печальным. Иногда Нофрет слышала, как он бормочет по-египетски: «О, моя страна! О, мой народ! Как низко вы пали!»
Она никогда не верила, что Моше любит Два Царства, которыми когда-то так скверно управлял. И все-таки он любил их — видимо, это было у него в крови.
У Нофрет не было особых причин любить Египет, но она тоже горевала. Цари и боги — это мор и зараза. Для всех было бы лучше, если ни тех, ни других не было бы никогда.
Когда лодка понеслась вниз по реке к Пи-Рамзесу, Моше заплакал. Его дочь казалась спокойной и ничего не говорила. Апиру угрюмо молчали.
Из всех них только Нофрет не знала, что погнало их в Пи-Рамзес. И не хотела спрашивать. Это было сродни трусости. Чем меньше она знает, чем позже узнает, тем лучше для спокойствия ее сердца.
Пи-Рамзес — дом Рамзеса, возлюбленного Амона, великого в победах — был одним из царских городов-хранилищ, городом складов и амбаров, сокровищниц и храмов. Он служил крепостью еще до того, как в него заточили апиру. Стоял Пи-Рамзес на берегу озера, называемого Море Тростника. У его стен протекал крайний восточный рукав главной реки Египта. Здесь начиналась дорога в Азию, здесь был край Египта, последняя зеленая земля между Дельтой и пустыней.
Город притаился, как каменный лев, среди густой зелени виноградников, не тронутых напастями, уничтожившими остальной Египет. От них веяло сладостью вина. Можно было даже представить себе, что это мирный город, если бы не запах холодного камня и железа — запах крови.
Нофрет навсегда запомнит Пи-Рамзес именно так — не по виду, а по этой смеси запахов вина и крови. Старой и свежей крови. Когда-то здесь правили цари-пастухи, захватчики, чьи имена давно позабыты. Теперь другое пастушеское племя, возможно, их дальние родственники, томилось здесь под игом Египта, порабощенное, вынужденное воздвигать царские сокровищницы, подчиняясь бичам надсмотрщиков.
Какой бы мирной и зеленой ни была земля, город казался таким же потерянным и несчастным, как все города в Египте. Египтяне, даже вооруженные стражники, опасались апиру. Их сородичи собрались в своем квартале вместе с козами и овцами, с детьми и всем имуществом.
У набережной стояли лодки, но в них никого не было. Горожане попрятались по домам. Стражники стояли на своих постах, но ни один из них не попытался остановить пришедших.
Войдя в город, Моше был уже почти спокоен. Посольству апиру с ослами и вьюками трудно было остаться незамеченным, но ни один человек не вышел посмотреть на них. Никто не встречал пришельцев на набережной, никто не собирался приветствовать их или, наоборот, выгонять.
В квартале апиру их ждали люди — испуганные, настолько прибитые к земле годами рабства, что уже забыли, как держаться прямо. Они ходили пригнувшись, глядя себе под ноги.
Но достаточно многие еще держали голову высоко. Гордость апиру способна посрамить и египетскую царственность. Они вышли к воротам, отделявшим их дома от египетских, и встали неровной линией между пришедшими и местными жителями, готовые защитить незнакомцев от их собственного народа — пораженные страхом, эти люди были способны на все.
Эфраим, который пришел в Мемфис из Пи-Рамзеса, настолько позабыл о своей робости среди дерзких молодых людей из Синая, что вышел вперед самого Моше, встал между пророком и горожанами и сказал стоявшему впереди всех:
— Шмуэль, что же ты медлишь? Впусти нас.
Шмуэль, старший среди этих людей, был, по-видимому, не старше Нофрет, худой и седой, измученный тяжелой работой, но все же, в отличие от многих, выглядел достаточно сильным. Он выпрямился, взглянул в лицо Моше и четко сказал:
— Ты, наверное, тот, о ком разнеслась молва по всей стране. Но я ничего о тебе не знаю, кроме того, что твой приход разгневал египтян.
— Они разгневались еще до его прихода, — с горечью произнес Эфраим. — Шмуэль, впусти нас. Господь ждет.
Шмуэль с виду казался упрямее самого царя. Нофрет подумала, что бог вполне может покарать апиру, стоящих на пути его пророка.
Она так и не узнала, способен ли Господь на такое. Прежде, чем Шмуэль успел ответить, Агарон вышел вперед и встал рядом с Эфраимом. Он всегда умел воспользоваться споим ростом и могучим сложением — и здесь, и при царском дворе. Его голос прозвучал негромко, мягко и так низко, что отдавался эхом в земле:
— Мы пришли, чтобы освободить вас.
— А что значит свобода? — поинтересовался Шмуэль. — Голодовка в пустыне?
— По милости бога, нет.
— Господь даст нам нашу собственную землю, — вмешался другой голос. Нофрет с изумлением узнала Иегошуа, стоящего плечом к плечу с Агароном. Когда он успел так вырасти? И голос у него скоро будет, как у деда, такой же красивый, выразительный, благодаря которому Агарон стал могущественным глашатаем пророка.
— Нам было обещано. Когда мы уйдем из Египта, у нас будет страна, земля, которая станет нашей. Ты увидишь ее. Ты будешь смотреть на нее вместе с остальными и радоваться.
— Если хоть один из нас доживет до этого, — проворчал Шмуэль.
— Мы доживем, — сказал Иегошуа. — А египтяне…
— Египтяне познают гнев божий, — наконец заговорил Моше, сразу освободившись от своего заикания.
— Идите к месту сбора, быстрее. У нас мало времени.
Каким бы застенчивым ни казался Моше, со слабым неуверенным голосом, лишенным внушительности, отличавшей Агарона, он мог подчинять себе людей, и вести их за собой, если хотел. Даже упрямый Шмуэль отступил перед ним.
Апиру собрались в единственном месте, способном вместить всех: на базарной площади, освобожденной от прилавков. Коз и овец разогнали по углам, а середина была свободна. Люди шли и шли, пока не заполнили всю площадь. Толпа оказалась гораздо больше, чем ожидала Нофрет. На площади собрались сотни людей, от глубоких старцев до грудных младенцев. Из них получилась бы огромная армия, если бы кто-то пожелал командовать ими и обучил их воевать.
Но сейчас в них не было ничего воинственного. Перед Моше стояли рабы, испуганные и дрожащие, слишком обуреваемые страхом, чтобы слушать его. Агарону пришлось возвысить голос, словно на поле битвы, чтобы они, наконец, перестали шушукаться.
И даже тогда не все могли услышать пророка. Агарон повторял его слова, придавая им твердость и силу.
— Бог гневается, — говорил Моше. — Он прислал нас в Египет, чтобы освободить вас, но царь Египта желает по-прежнему держать вас в неволе. Его страна разрушена, его народ голодает, но он упорствует. Им правит его гордыня. Он не уступит…
Голоса понемногу стихали. Моше продолжал:
— И теперь Господь дошел до предела своего терпения. Девять раз он показывай свою силу. Девять раз царь отворачивал лицо свое. Но от этого гнева божия, дети Исроела, — от этой кары даже Великому Дому Египта не укрыться.
Он помолчал. Толпа тоже молчала. Слушая простого пророка, они не перестали бы болтать, но упоминание о боге утихомирило даже детей.
Голова Моше клонилась под весом всего мира. Теперь он говорил медленно, одно за одним взвешивая слова:
— Господь сказал, и дети Исроела должны повиноваться каждому слову, произнесенному им. Слушай, мой народ. Слушай и запоминай.
Голос Агарона взлетел до небес, почти заглушая голос Моше. Едва слышен был и голос бога, глашатаями которого оба были.
— Это произойдет в первый месяц года, — говорили они. — Первый день прошел: день, когда Господь повелел мне встать перед царем и передать его последнее предупреждение. Когда придет десятый день, Господь велит вам найти в каждом хозяйстве хорошего ягненка: барашка, годовалого, не младше и не старше. Кормите этого ягненка. Освятите его. И на четвертый день после этого, как только начнет спускаться вечер, принесите его в жертву перед лицом своих сородичей. Пусть каждый из вас возьмет пучок иссопа; обмакните его в кровь ягненка и обмажьте дверные столбы и притолоки в каждом доме, где живет мужчина, женщина или ребенок апиру. Затем входите внутрь, дети мои, и ешьте ягненка, зажаренною целым, и чтобы ни одна кость не была сломана. Ешьте его с горькими травами и пресным хлебом. Ешьте его стоя, одетые в дорогу, с посохами в руках; но будьте внимательны, пусть никто из вас не выходит из дому до утра.
Слова Моше падали в полную тишину. Агарон эхом вторил ему:
— Ибо в полуночи я пройду по земле Египта. Я не трону домов, отмеченных кровью ягненка. Но каждый другой дом, каждая конюшня, каждый сарай и хлев узнают мощь моей руки. Смерть поразит их, дети мои, смерть первенцев, будь они вельможами или рабами, богачами во дворцах или животными в полях — и так вплоть до семьи самого царя, из-за чьей гордыни я насылаю это бедствие на землю и народ Египта.
Воцарилось абсолютное молчание. Никто не шевелился. Никто даже не дышал.
Моше поднял голову. Слезы бежали по его щекам.
— Но вас, дети мои, — сказал он, то есть его бог, — я пощажу. Когда настанет утро, возьмите остатки ягненка; сожгите все, до последнего кусочка. Тогда вы станете свободными; тогда вы сможете идти прочь из места вашего заточения. Сделайте так и запомните это навсегда.
65
— Хотелось бы мне верить, что он не пойдет на такое, — сказала Нофрет. — Хорошо бы, у него не хватило силы.
Вместе с остальным посольством она пришла в самый большой дом в квартале рабов, который, по иронии судьбы, принадлежал недоверчивому Шмуэлю. Она не слишком удивилась тому, что он оказался отцом Эфраима. Сила воли и целеустремленность были, по-видимому, отличительными признаками этой семьи. Менялась лишь форма выражения.
Шмуэль не выказывал особого удовольствия, но правила гостеприимства знал. И слышал голос своего бога. Сейчас даже Нофрет слышала его, хотя и была чужеземкой.
Его гостеприимная жена оказалась не такой суровой, как муж, и вовсе не расстроилась из-за того, что ей приходится принимать целую толпу пришельцев. Вместе со стайкой незамужних дочек она охотно приняла помощь и Нофрет и Мириам, заметив, что провидица такая же женщина, как и другие, и вполне сможет испечь хлеб на три дюжины гостей.
Именно к Мириам и обратилась Нофрет, когда они вдвоем замешивали ячменное тесто на воде. В него не следовало класть закваску, потому что ночью по этой земле должен был пройти бог, а хлеб должен быть испечен раньше. До них доносилось блеяние ягнят, согнанных вместе. На закате начнется жертвоприношение.
Мириам взглянула на нее.
— Ты будешь почитать нашего бога, если поверишь в него?
— Нет, — ответила Нофрет.
— А ты не опасаешься за своего первенца?
Задохнувшись, Нофрет рванулась с места, но тут же снова села, переводя дыхание.
— Мой первенец будет спать — если сможет — за дверьми, охраняемыми кровью. Ваш бог требовал только этого, а не настаивал на том, чтобы все, находящиеся в домах, были его преданными слугами.
Мириам пожала плечами. Она смешивала воду и муку, но осторожно, чтобы тесто не поднялось. Этот особенный запрет, наложенный самим богом, означал, как сказал Моше, что им отведено отчаянно мало времени.
Хлеб, испеченный без закваски, безвкусен. Но у них будет жареный ягненок, благоухающий травами. Женщины, ходившие собирать их, опасаясь египтян, но не местные жители, которые не избегали людей Господа, неплохо относились к ним. Некоторые приходили, предлагая в дорогу золото и серебро, дорогую посуду, украшения, ценности, бесполезные для кочевого народа. Моше не запрещал принимать эти дары. Нофрет думала, что египтяне стремились таким образом откупиться от проклятия бога. Но такая сила была только в крови ягненка, а египтяне не могли позволить себе такого выкупа.
Ее внимание привлекла суматоха у двери на улицу. Мимо пробегали люди, что-то неразборчиво бормоча. Но Нофрет, уловив лишь несколько слов, поняла, что сорвало их с места.
В Пи-Рамзес прибыл царь. Он приплыл на быстрой лодке, вместе со старшей дочерью. Следом шла армия. Она придет в город через день-два. И тогда убьют всех апиру.
Но еще не сейчас. В городе слишком мало солдат, они не рискнут напасть на них. Иоханан, предвидя неприятности, уже собрал всех людей, способных носить оружие. В результате сформировалась армия из нескольких сот сильных мужчин, поочередно стоящих на страже.
Количество имеющегося оружия несколько удивило Нофрет, знавшую, как трудно бывает вооружить даже немногих воинов. Должно быть, апиру прятали мечи в гладильных прессах и под полами домов, у них были луки для охоты и боевые стрелы, припасенные до поры до времени. При желании сейчас каждый из них мог найти себе копье, отобранное когда-то у солдата или хранившееся с давних пор.
Защитит ли их бог или собственные мечи, но в эту ночь они не понесут ущерба от царя Египта. Нофрет слышала голос Агарона, успокаивающего тех, кто готов был удариться в панику. Другой громкий голос в противоположной стороне квартала принадлежал то ли Иоханану, то ли Иегошуа: он разносился далеко, словно звук боевой трубы.
К тому времени, когда хлеб был приготовлен и отправлен в печь, солнце скрылось за городскими стенами. Небо было еще светлым, но на улицах царил полумрак; ночь быстро опускалась на дома апиру. Они все собрались там же, где Моше говорил им о пришествии бога. Теперь жрецы установили здесь алтари и приступили к жертвоприношению. Из каждого дома мужчина приносил по ягненку на заклание, жрец перерезал им горло и сливал кровь в чашу, которую держал сын или дочь хозяина. Затем ягненка уносили, чтобы освежевать и зажарить, а его кровью мазали двери для защиты от божьей кары.
В этом обряде была странная, мрачная радость. Запах крови и смерти, священный запах жертвы слегка опьянили жрецов, непривычных так много убивать Люди пели хвалу Господу, и их голоса перекрывали блеяние ягнят. Бог, как могло показаться, был весьма непредусмотрителен. Он не позаботился утихомирить жертвы, приведенные на заклание ближе к концу и испуганные видом и запахом тех, кого уже успели зарезать.
Среди жрецов были Агарон с Иохананом — в крови до локтей. Они закончили, когда уже стемнело, вымыли алтари, вымылись сами, произнесли молитвы, каких требовал бог, и вернулись в дом, где остановились.
Нофрет вернулась уже давно, с молодыми парнями, принесшими четырех ягнят, предназначенных для множества людей: для семьи Шмуэля, Агарона, Моше, Иоханана, всех их родичей, слуг и старейшин посольства. Мириам мазала двери кровью, вставая на цыпочки, чтобы дотянуться до притолоки. Красивый яркий цвет не темнел, высыхая, как обычная кровь. В этой части города все двери и притолоки были обрамлены кроваво-красным: ошибиться было невозможно.
Когда вернулись жрецы, в доме уже накрыли столы и приготовили все для пира. Хлеб — сухие твердые круги — был испечен; большую его часть отложили в дорогу, а остальное подали на стол, чтобы съесть в эту великую ночь.
Все лампы были зажжены, чтобы израсходовать масло, которое они не могли забрать с собой. Большая комната дома была ярко озарена, тьма изгнана. Здесь стоял аромат мяса, трав и пресного хлеба, звучали молитвы и восхваления богу.
В эту ночь не было ссор. Никто не спорил, никто не сомневался в том, что они делают. Страхи были изгнаны вместе с темнотой.
После мяса и вина кто-то запел. Вино из Пи-Рамзеса было сладким и крепким, оно сильно ударяло в голову после горечи неволи. Все много пили, снова и снова посылая чаши по кругу.
Апиру проводили ночь за вином и пением, будучи в безопасности за своими отмеченными кровью дверями. Никто не заговаривал ни о том, что происходит за стенами их домов, ни о смерти, ни о гневе бога. Они были защищены. Их охранял бог.
Нофрет пила наравне со всеми, но голова ее упрямо оставалась ясной. Она ела, чтобы утолить голод, но не больше. Холод в душе не исчезал, несмотря на все ее усилия.
Здесь она была в безопасности, как и все остальные. Но ее взгляд все время обращался на Иегошуа, словно он внезапно должен был замереть и упасть, сраженный, потому что его мать не почитает одного бога превыше остальных. И Иоханан был первенцем у своего отца. Он тоже может умереть.
Но муж и сын не боялись. Они сидели рядом среди мужчин и пили из одной чаши, так похожие друг на друга, что у нее слезы наворачивались на глаза.
Нофрет нашла предлог выйти. Кувшин скоро опустеет, а вино, как и масло, неудобно нести с собой далеко в пустыню. Но, вместо того, чтобы идти в комнату, где хранилось вино, она взяла лампу и поднялась на крышу.
Это было безумием. Моше, или его бог, наказал своим людям сидеть в домах, не выходя на ночной воздух, пока дух смерти не пронесется мимо.
Для Египта ночь была прохладной, почти холодной. Звезды были необыкновенно яркими. Безграничная тишина лежала над городом. Не светил ни один огонек, даже во дворце, где в эту ночь без сна лежал царь. Возможно, и он разгонял тьму вином и светом ламп, музыкой и пением.
А может быть, у бога не найдется сил выполнить свою угрозу? И царь явился сюда, чтобы освободить апиру?
Может быть… Нофрет цеплялась за все, что угодно, отрицая жестокую правду. По ночному Египту шла смерть. Она почти чувствовала касание ее крыльев, слышала звук ее шагов, легких и оглушающих.
На мгновение ей показалось, что звезды кто-то стер с неба: воцарилась полная тьма. Нофрет вздрогнула всем телом. Но смерть шла не за ней. Она была шестым ребенком своего отца, третьей из его дочерей. Если бы это происходило в Хатти — если только какой-нибудь хетт может быть таким же дураком, как царь Египта, — мертвым пал бы ее брат Пиассили.
Возможно, этот бог все-таки милостив. В противном случае, он изничтожил бы все живое в Египте, от мельчайшего до великого, а не только одного из каждого поколения, первого по рождению, старшего и главного по праву наследования.
Человека, шедшего за ней, она узнала по звуку шагов и по теплу тела, даже находясь на другой стороне крыши, и в ужасе закричала:
— Спускайся вниз! Здесь тебе смерть!
Иоханан подошел и встал рядом с ней, обратив лицо к небу. Звезды снова светились ясно, тень прошла, если она вообще была.
— Все уже кончилось. Мы все слышали, как идет смерть.
— Вы слишком увлеклись вином, чтобы слышать хоть что-нибудь.
— Бог сильнее вина… — Иоханан стоял рядом, почти касаясь ее, но не осмеливался положить руку на ее плечи.
Они не стояли так близко друг к другу с тех пор, как оставили Синай. Что-то в душе Нофрет пыталось сопротивляться, но она все же сдалась: обняла мужа за талию, легонько прислонилась к нему и почувствовала, что он не пытается отстраниться. Его рука легла на ее плечи. Она вздохнула.
— Если Иегошуа будет угрожать хоть какая-нибудь опасность, пока мы не вернемся в Синай, я никогда не прощу тебя.
— Наверное, это правильно.
— Вовсе не правильно, — возразила Нофрет и обняла мужа двумя руками, спрятав лицо у него на груди. Теперь она ничего не видела, даже звезд, но ей казалось, что ночь уже не так темна и не так ужасен шум крыльев смерти, реющих над всеми первенцами Египта.
Иоханан на руках снес ее с крыши в охраняемую тесноту дома. Все оставались в зале; там пели уже не гимны, но песни куда более интересного содержания. Спальни были пусты. Даже слуги причащались вина, отгоняя ночь и страхи.
Если даже бог Исроела и не одобрял того утешения, которое эти двое смогли найти в ночь его гнева, он не стал карать их.
— Бог велел нам быть плодовитыми, — сказал Иоханан где-то среди ночи, — и размножаться, и радоваться этому.
— Что-то я не помню особой радости, — заметила Нофрет, — когда этот закон был объявлен народу.
— Радость подразумевалась сама собой, — ответил он.
66
При первом свете утра апиру по одному осмелились выбраться на улицу, проходя через двери, кровь на которых, наконец, засохла и потемнела. В их квартале царила мертвая тишина, но с других улиц доносились плач и горестные крики.
Господь выполнил свое обещание. В каждом доме старший ребенок, первенец, лежал мертвым, сраженный рукой бога. Царь сидел на троне, прижимая к груди своего первого ребенка, любимую дочь Нефер-Ра. Он не выпускал ее из рук. Людей, ставших причиной ее смерти, рабов, так долго находившихся под его игом, он отослал прочь с воплем ярости.
— Убирайтесь! — закричал он Моше и тем нескольким, кто пришел с ним во дворец правителя ранним утром. — Убирайтесь и не возвращайтесь никогда!
Дети Исроела поймали его на слове. Послушные велению своего бога, они сожгли остатки пиршества, сложили все свое имущество, забрали стада и отары и вышли из Пи-Рамзеса. Ворота были открыты. Стражники умерли или бежали. Никто не сопровождал их, и толпы любопытных не мчались следом, чтобы посмотреть, куда они направляются. Ни у кого не было ни желания, ни досуга для этого. Каждый дом в Египте стал домом скорби.
Только апиру радовались. Они шли с песнями, гнали перед собой свои стада. Их было очень много, целый народ, освобожденный, наконец, из неволи.
Нофрет шла впереди с Мириам, Моше и Агароном и с остальными старейшинами из Синая. Несмотря на то, что египтяне пребывали в растерянности, Иоханан и Иегошуа собрали вооруженных людей и расположили их впереди, сзади и по сторонам — для охраны. Они вышли из города так, как путешествовали — их родичи по пустыне, готовые отразить нападение.
Апиру совсем недавно были рабами. Они понимали, что такое осторожность, и знали, что настороже быть полезно. Но большинство из них были непривычны к странствиям и не умели беречь силы и продовольствие. Нофрет видела, что многие чересчур щедро расходуют воду; слишком часто пьют, проливают на землю, как будто всегда можно сходить к ближайшему колодцу, чтобы пополнить запасы.
Этому надо положить конец прежде, чем они войдут в пустыню. Сейчас они еще находились и цивилизованной стране, на дороге через передовые посты Египта. Подвинуться в пустыню с таким количеством народа, с множеством детей и стариков без еды и питья невозможно.
Путь на восток, в Ханаан, был попроще, поскольку там находились города, а между ними — оазисы, и не требовалось пересекать ни озер, ни морей. Но тамошние жители вряд ли приветствовали бы приход целого народа, вооруженного племени, которое вполне можно принять за захватчиков. Поэтому апиру шли на юго-восток, по дороге в пустыню, ведущей к восточному побережью.
Так решил Моше. Ни один здравомыслящий человек не сделал бы такого, а тем более не пошел бы за тем, кто ведет людей этой дорогой. Но Моше был пророком их бога, утверждал, что им руководит Господь, и они покорно шли следом.
Огромное количество людей, мало приспособленных к странствиям в пустыне, двигалось гораздо медленнее, чем кочевники в Синае. К полудню они все еще видели зелень виноградников вокруг Пи-Рамзеса, но к закату добрались до края пустыни и взглянули вперед, на Красную Землю.
Здесь они встали лагерем. У кого-то еще оставались силы петь. Большинство людей устали, натерли ноги, дети хныкали, просили, чтобы их понесли на руках, но все были счастливы. Они были свободны!
В эту ночь устроили пляски у костров. Молодые были особенно жизнерадостны, и, если дать им немного отдохнуть, поесть и выпить, могли бы бодрствовать еще не одну ночь. Той ночью звезды светили ярко. Смерть не бродила во мраке. Им не нужно было другой защиты, кроме их сородичей, стоящих на страже с луками и копьями — без этого в пустыне нельзя.
Одни старейшины крепко спали, другие плясали вместе с молодежью. Но Моше, Агарон и Мириам, вместо того, чтобы праздновать, собрались на совет. Нофрет присоединилась к ним. Пришел Иоханан, а чуть позже и Иегошуа, доказав парням из Пи-Рамзеса, что может дважды прыгнуть через костер так же высоко, как и они. Он со смехом плюхнулся у ног матери.
Но его смех быстро угас. Старшие ели, запивая еду разведенным вином.
— Завтра, — говорил Иоханан, — этим людям придется начать учиться мудрости. Мы соберем все запасы пищи и воды и назначим кого-нибудь из мужчин ответственным за них.
— Пусть продуктами распоряжаются женщины, — вмешалась Мириам. — Ведь мы же готовим еду.
— Хорошо, — примирительно сказал Иоханан. — Но тогда пусть почтенные старейшины определят дневную порцию. Иначе могут возникнуть драки, а те, кто не сумел запастись, начнут голодать и страдать от жажды.
— У некоторых кончится вода уже завтра, — заметил Иегошуа. — Я видел, как один человек сегодня купался: вырыл яму в песке, застелил ее кожами и нежился, как фараон в бассейне.
— И никто его не остановил? — недоверчиво спросила Нофрет.
— Кому бы это пришло в голову? Люди смеялись и спрашивали, нельзя ли искупаться после него. Они не осознают, что здесь нельзя достать воду, когда вздумается.
Иегошуа, выросший среди кочевников Синая, не понимал таких людей, но пытался понять. Нофрет гордилась им.
— Им придется научиться жить иначе, — заметил Иоханан. — Они уже больше не горожане, а принадлежат пустыне и Предводителю.
Моше кивнул, глядя на огонь. Мириам, сидя рядом с ним, произнесла:
— Может быть, им не понадобится ничему учиться. Мы бежали из города, но не от царя.
— Господь низверг его, — сказал Иегошуа. — Он отпустил нас.
— Его низвергло горе, — возразила Мириам. — Гордыня снова одолеет его и пошлет в погоню за нами. Царь и прежде нас не любил, а теперь ненавидит и жаждет отомстить за смерть дочери.
— Его сын и наследник жив. Не станет же он…
К удивлению Иегошуа, Нофрет оборвала его и сказала неожиданно сердито:
— Если бы ты был девочкой, мой дорогой львенок, я бы не меньше горевала, потеряв тебя.
Сын явно смутился, но упрямство пересиливало. Он не отводил взгляда.
Нофрет продолжала:
— Раскрой же глаза, дитя! Он любил свою дочь и ценил ее: она была его главным советником. Да, у царя остался наследник, который получит трон, но ума у него маловато.
Иегошуа неохотно потупил взор.
— Понятно… Значит, ты думаешь, он будет гнаться за нами?
— Я знаю это, — сказала Нофрет, опередив ответ Мириам. — Царь собирается настигнуть нас у моря, раз уж мы выбрали именно этот путь.
— Дорога в Ханаан — дорога воинов, — заметил Иоханан. — Но мы не собираемся воевать, тем более сейчас, когда нас так много.
— И мы не боги и не духи, чтобы идти по морю как посуху, — добавила Нофрет.
— Бог поведет нас, — вымолвил Моше.
Даже Иоханан не поверил этому. Наступило молчание, в конце концов, нарушенное Иегошуа, который откликнулся на зов сверстников, танцующих и прыгающих через огонь у другого костра.
…Моше оплакивал Египет. Он, единственный из всех, плакал, когда апиру покидали Пи-Рамзес, плакал, когда они спускались по реке из Мемфиса. Его люди пели, торжествуя победу, а он горевал по умершим и по жестоко разоренному царству и не разделял их восторга.
В первую ночь в пустыне несколько старейшин из Синая пришли к нему, разгоряченные вином и весельем. У них возник новый план.
— Египет слаб, — говорили они, — а царь ушел из Мемфиса. Давай пойдем туда, захватим город и станем в нем править.
— В вас говорит вино, — сказала Мириам. — Пойдите проспитесь. Мы выступаем на рассвете.
Она находилась за пределами их круга, невидимая, неслышная и незаметная. И старейшины, не обращая внимания на ее слова, тесно обступили Моше, сидевшего у огня.
— Разве ты не хочешь снова стать царем? Мы сможем править, как когда-то цари-пастухи, причем намного лучше. В конце концов, наш царь по праву станет царем Египта.
— Мы уже давно объяснили вам, — терпеливо произнесла Мириам, — что умерший царь не может снова вернуться к жизни.
Но переубедить старейшин было невозможно.
— Веди нас в Мемфис, — настаивали они. — Кстати, не затем ли ты забираешь на юг вместо того, чтобы идти на восток? Давай повернем на запад. Пойдем в царский город.
Моше неожиданно поднялся, отстранил их и скрылся во мраке. Старейшины смотрели, разинув рты. Некоторые поднялись было, чтобы идти следом, но натолкнулись на серьезное препятствие: Иоханан и Агарон преградили им путь.
Чтобы стать старейшиной, не нужно обладать особенной смелостью, даже особенной мудростью, просто нужно, чтобы человеку повезло прожить дольше своих сверстников. У старейшин хватило храбрости пойти в Египет, но противостоять этим двум сильным мужчинам они не решились. Агарон и Иоханан грозно смотрели на них сверху вниз, и старейшины скромно удалились к своим кострам допивать вино и утешаться этим.
— Они когда-нибудь оставят его в покое? — спросила Нофрет у Мириам.
Та пожала плечами.
— Когда мы выйдем из Египта и окажемся подальше от искушения, они, скорей всего, позабудут свои глупости.
— По-твоему, это всего лишь глупости? А тебя такое искушение не одолевает? Ты бы могла снова стать царицей, если бы как следует постаралась.
На мгновение маска безразличия спала с лица Мириам. Нофрет прочла на нем страстное желание, боль воспоминаний, сожаление о том, что могло бы быть, но не случилось.
— Я не хочу стараться, — сказала она спокойно и убежденно.
— Правда?
Глаза Мириам сверкнули, но она сдержалась.
— В какой-то степени, мой друг. Я не хочу особенно стараться.
Упоминание о дружбе слегка озадачило Нофрет. Она никогда не считала себя и Мириам подругами; но как иначе их можно было назвать? Конечно, не госпожой и служанкой. Они необходимы друг другу. Они знали цену друг другу.
Они не откровенничали, как женщины апиру, но это им и не требовалось. Они были вместе с детства. Никто не знал Нофрет с таких давних пор, как Мириам, и Нофрет помнила ее с тех пор, как та была маленькой обнаженной царевной, третьей дочерью позабытого Эхнатона.
Они переглянулись в свете костра. Мириам слегка кивнула, повернулась и ушла и палатку, где жила вместе с отцом.
Нофрет не пошла за ней. Если Мириам надо выплакаться, она предпочтет сделать это в одиночестве. Нофрет было нелегко возвращаться в Египет, но для бывшей царицы и богини, ставшей лишь голосом, воздухом, это намного тяжелее.
Нофрет медленно обернулась, стоя на краю светового круга. Агарон и Иоханан снова сидели у огня, спокойно беседуя. Иегошуа танцевал среди молодежи, прыгал через костер и смеялся. Некоторые девушки из Пи-Рамзеса засматривались на него, хихикая и прикрываясь накидками.
Моше не было видно. Но Нофрет знала, где он. Пророк апиру шел по пустыне, окутанный силой своего бога, словно плащом. Духи ночи обходили его стороной. Порождения тьмы избегали его присутствия.
Вдруг она поняла, что видит и воспринимает вещи, невидимые простым человеческим глазом. Она всегда чувствовала присутствие богов и тайных сил; и видела чудеса магии так же ясно, как свет во тьме. Но сейчас к ней пришла новая ясность: больше знание, чем видение, больше сердцем, чем глазами. Значит, это не совсем тот дар, которым обладала Леа, и, по-видимому, обладает Мириам. Нофрет была не такой, как они. Но она ведь чужеземка, не родня апиру.
В прежние времена она отвергла бы этот дар, обратила бы против него всю силу своего врожденного упрямства. Но здесь, в Красной Земле, по дороге из Пи-Рамзеса, у нее не было сил воспротивиться. Она не могла сказать, как говорили апиру: «Желание Господа будет исполнено». Но могла склониться перед неизбежным.
Нофрет немного отошла от костров, но не затем, чтобы последовать за Моше. Она только вышла за пределы освещенного места. Здесь шум лагеря был тише. Она услышала крик шакала. Боги Египта находились рядом, наблюдая, но не поднимая руку на пришельцев с Синая.
Здесь ощущалось присутствие и того человека, который верил, что является и царем, и богом. Он еще находился в Пи-Рамзесе, но уже отдал приказ: утром его войско выступит в поход. Каждый воин оплакивал родича, друга или товарища по оружию — тех, кто были первыми сыновьями своих отцов.
Дочь царя наконец забрали в дом очищения. Рамзес оплакивал ее, запершись в своей спальне, без сна и в гневе. Гордыня, принесшая его царству столько бедствий, окрепла в нем с новой силой и овладела им, словно демон. Он не признавал ни голоса рассудка, ни законов логики. Бог апиру совершил убийство. Царь Египта отомстит людям, поклоняющимся этому богу. Он считал это справедливой карой, забывая о том, что, убив всех до единого, он лишит свою страну почти главного богатства — рабов.
Нофрет, потрясенная, с трудом пришла в себя. Ей казалось, что она упала в глубокий водоем и еле выплыла, едва не утонув. Прежде с ней ничего подобного не случалось. Ей были известны сказки и слухи об искусстве жрецов, рассказы о духах, которые идут, куда прикажет хозяин. Но на самом деле все это оказывалось гораздо проще, чем изображают жрецы.
Нофрет повернулась к свету и долго смотрела на звезды. Лагерь затих. Казалось, она созерцала свод небесный так долго, что он успел совершить полный круг.
Она глубоко вздохнула. По телу пробежала дрожь. Приблизившись к костру, она устроилась поближе, чтобы поскорее согреться.
Руки Иоханана легли ей на плечи. Тепло медленно окутывало ее.
Он не спрашивал, почему его жена так продрогла в теплую ночь, даже когда она сказала.
— Фараон собирается преследовать нас. Он страшно разъярен.
Иоханан кивнул, не удивившись, поскольку и Моше, и Мириам предсказывали то же самое. Когда он поднял ее на руки, она протестовала, но очень слабо. Он отнес ее в шатер и уложил в постель.
Там Нофрет, наконец, как следует согрелась и ненадолго даже почти забыла о том, что видела и предвидела.
67
Царь не смог настичь их ни в этот день, ни в следующий, ни даже через день. Он слишком долго медлил, прежде чем выйти с войском из Пи-Рамзеса. Его задержали государственные обязанности, траурные церемонии и другие дела. Но зато, выступив, наконец, в поход, он точно знал, куда направились апиру: за ними оставался след, широкий, словно главная река Египта.
Снявшись со стоянки, они являли собой еще более беспорядочную толпу, чем когда выходили из Пи-Рамзеса. После двух бурно проведенных ночей многие вообще едва переставляли ноги. Некоторых уже начинала мучить жажда, потому что они истратили весь свой запас воды. Когда люди поняли, что по дороге воды не будет и на ночлег тоже придется встать в безводном месте, поднялся ропот. Небольшая, быстро передвигающаяся группа успела бы дойти до оазиса, но не весь народ.
Самые упрямые вообще не желали покидать лагерь и настаивали на том, чтобы их оставили на месте. Если царь придет с погоней, в чем они сомневались, то, скорее всего, минует их. Казалось, они не понимали, что бог сделал невозможным их дальнейшее пребывание в Египте, и вернуться туда они не могут. Идти назад им было нельзя, только вперед.
Эти люди нуждались в кнуте надсмотрщика. Но надсмотрщиков здесь не было. Их молодые спутники и люди с Синая с мечами и копьями заставили упрямцев встать, подгоняли их, если они спотыкались, тащили тех, кто продолжал сопротивляться. И весь народ, желал он того или нет, вышел из лагеря в засушливые земли.
Накануне апиру шли в тумане вина и радости. Теперь люди пробуждались и начинали понимать, где находятся и как здесь оказались. Путь был нелегок.
Солнце пекло нещадно. Никто точно не знал, куда они направляются. Некоторые полагали, что в Синай, но для большинства Синай был сказкой или мечтой.
— Это пустыня, — говорили одни. — Там нет ничего, кроме песка и скал, насколько хватает глаз, а посередине высокая гора, где живет бог.
— Нет-нет, — возражали другие. — Это прекрасная страна, зеленая и богатая, где реки текут молоком и медом. Там наши стада будет жиреть, а отары множиться.
Они спорили на ходу до тех пор, пока у них не пересохли рты, и соглашались только в одном: здешняя земля слишком сурова и тут очень мало воды. Мечтавшие о зеленых пастбищах оглядывали Красную Землю и приходили в отчаяние. Те, кто предвидел лишь засушливые места и суровую жизнь, громко провозглашали, что это только начало.
— Мы будем блуждать в пустыне вечно, — говорили они. — Мы никогда больше не увидим зеленой травы и текущей воды.
— Увидите, когда мы дойдем до моря, — сказала Нофрет одной из таких.
— Конечно, — огрызнулась женщина. — Но хотела бы я знать, как мы будем пересекать его? Там нас ждут лодки? Или там есть мост?
Нофрет не знала, как ответить. Ответил Моше, но то же, что и всегда:
— Господь все устроит.
Народ, называвший себя Исроел, по имени предка, от которого, считалось, он происходил, был самым упрямым, склонным к препирательствам и непокладистым собранием людей, с каким когда-либо приходилось сталкиваться Нофрет. И все-таки они продолжали свой поход, даже сохраняй некое подобие порядка. Люди — не все, но на удивление многие — стали следить, сколько воды у них осталось, и более экономно расходовать продовольствие.
К вечеру они были готовы встать на отдых. Передовой отряд Иоханана — в большинстве его люди из Синая, лишь немногая часть которых охраняла тылы, — ушли вперед, чтобы найти место для лагеря. Когда остальные пришли на место, молодежь уже ждала их, готовая заняться грузом, провизией и водой. Люди начали ставить шатры и разводить костры. Потом им раздадут дневную порцию пищи и воды.
Многие нудно и громко ворчали, но ни у кого не было сил возмущаться открыто. Нофрет подозревала, что это может случиться позже, когда люди отдохнут и наберутся сил для нового тяжелого перехода. Сейчас они хмурились, некоторые даже плакали, но выполняли приказания.
Когда Иоханан, наконец, пришел к костру, усталый, растрепанный и угрюмый больше обычною, Нофрет сказала:
— Умно придумано. Навязывать им свою волю, когда они слишком утомлены, чтобы протестовать. Понятно, что, когда они отдохнут, возражать будет уже поздно. И, в конце концов, они привыкнут действовать как армия, а не как дамы на прогулке.
— Никогда они не станут армией, — ответил он мрачно. — Я согласился бы и на приличное кочевое племя.
Нофрет подала ему чашу, наполненную сильно разбавленным вином, потом жаркое из козлятины с хлебом и травами. Сначала он ел без аппетита, но быстро вошел во вкус.
Она кивнула.
— Старейшины снова на совете. Моше излагает новый закон. Он говорит, что лучше сейчас, чем слишком поздно. К тому времени как царь настигнет нас, мы должны обрести силу. Если же мы останемся просто толпой…
Иоханан, не дослушав, вскочил на ноги, вернее, попытался: от усталости его качало. Нофрет подхватила мужа и, когда он все же устремился вперед, попыталась задержать. Он сердито взглянул на нее.
— В чем дело? Я должен быть там.
— Отдохни. Они будут препираться до полуночи.
— Мне нужно быть там. Пойми, произойдет мятеж, если мы и дальше будем поступать с людьми так, как сегодня. До сих пор мы были вынуждены действовать, и действовать быстро, но в дальнейшем сами люди захотят участвовать во всех делах.
Нофрет не сумела остановить его; муж был намного сильнее ее. Она отпустила его, но и сама пошла следом, в середину лагеря, к самому большому костру, где собрались старейшины.
Сегодня попоек уже не было. В лагере было почти тихо. Многие уже спали, некоторые прямо на земле, даже не добравшись до постелей. Ближе к костру старейшин люди бодрствовали и прислушивались к разговорам.
Как и ожидала Нофрет, там шло препирательство, по большей части о том же, что и по дороге: зеленые пастбища против бесплодной пустыни. Старейшины из Синая, наконец, кажется, начали понимать, что они сделали, выведя из Египта многие сотни людей, нуждающихся в пище, крове и средствах к существованию. Их страна, хотя и с трудом, поддерживала живущих там. Теперь туда шел еще целый народ.
Моше ничего не говорил. И Мириам тоже молчала. Сначала Нофрет даже не увидела их, однако оба были там. Они сидели недалеко от костра, но в тени, отрешенные, не замечающие шума. Говорил Агарон:
— Господь подумал об этом. Ждите и наберитесь терпения. Сначала мы выберемся из Египта, а потом направимся в страну, которую он для нас приготовил.
— И где это? — поинтересовался один из старейшин. Нофрет был знаком этот голос и это лицо: Шмуэль из Пи-Рамзеса, такой же недоверчивый, как и всегда. — По-моему, лучше вернуться в Египет. Совершенно очевидно, что мы не сможем без помех покинуть его — нам придется выходить из страны с боем или переплывать море.
— Мы не можем вернуться, — возразил Агарон. — Господь сказал об этом достаточно ясно.
— Господь показал царю, насколько он силен. Но мы нужны царю, чтобы строить его город. Теперь он знает, что нас нельзя бить и морить голодом, что нельзя отнимать у нас детей. Давайте работать на него, как многие другие, за плату. Строителей лучше нас нет — иначе зачем бы ему так долго упираться и не отпускать нас?
— Царь был слишком горд, чтобы отпустить вас, — сказал Иоханан, проталкиваясь к отцу. — Эта же гордыня убьет вас, если вы попытаетесь вернуться. Он хочет, чтобы теперь вы все были мертвы и сгнили, за то, что бог сделал с ним и с его царством.
— Память царей коротка, — возразил Шмуэль. — А увековечение их славы требует, много времени и денег. Мы нужны фараону, и он это знает. Без нас он не успеет завершить строительство своего города за время, отведенное ему для жизни.
Иоханан взмахнул рукой.
— Ну что ж, идите! Возвращайтесь обратно. Царь в дне пути отсюда, с лучниками и колесницами. Ступайте и бросьтесь к его ногам. Так ему будет удобней отрубить ваши головы. С вас он и начнет мстить нам за первенцев Египта.
— Я всегда говорил, — произнес кто-то рядом с Нофрет, — что все зашло слишком далеко. Мор на землю и скот — это весьма неплохо, но убивать детей…
Остальное потонуло в шуме. Закричали все сразу: одни хотели вернуться, другие — идти вперед, некоторые по-прежнему желали захватить Мемфис и посадить там своего царя.
Оглушительный рев команды перекрыл все голоса, хотя и не утихомирил спорщиков. Со всех концов лагеря сбегались люди: одни уже были полностью одеты и вооружены, другие торопливо застегивались и тянули мечи из ножен. Новая команда Иоханана — и апиру построились в ряды, оттеснившие беспорядочную толпу. Впереди люди из Синая, за ними — из Пи-Рамзеса.
Нофрет очень захотелось спрятаться, но укрыться было негде. Она отступила в тень, поближе к Моше и Мириам, которые, казалось, не замечали ничего, кроме видений, возникавших и исчезавших перед их закрытыми глазами. Но то был остров в бурном потоке. В эту тень никто не заходил, все обходили своих пророков стороной, опасаясь помешать им.
Вскоре люди Иоханана восстановили порядок. Шмуэля почтительно, но твердо утихомирил собственный сын. Апиру свирепо сверкали глазами, переругивались, но скоро все стихло. Тех, кто уже перешел к рукопашной, растащили, несмотря на отчаянное сопротивление.
Иоханан оглядел их всех, подбоченясь, нахмурив брови.
— И это мудрейшие люди Исроела! Два дня на свободе — и уже развоевались. Неужели вы все позабыли, почему находитесь здесь, а не в безопасности под кнутами в царском городе-сокровищнице?
Многие потупили глаза, и ропот стих.
— Народ мой, — продолжал он почти нежно, словно выговаривая провинившемуся близнецу, которого стоило бы наказать, но он слишком любим. — О, мой народ, если мы хотим добраться до Синая, то должны быть сильными. А сила наша — в единстве. Мы не можем драться из-за каждой мелочи. Нам надо все решать вместе. Тогда Господь поведет нас прочь из Египта, в нашу собственную страну.
Раздалось несколько голосов. Иоханан сверкнул глазами на говоривших, и они замолкли.
— Впрочем, это, может быть, и не Синай. Но мы должны пройти через него, чтобы попасть туда. Мы не можем вернуться, не можем сдаться на милость египтян. Нет ее… Царь Египта идет за нами, мой народ, и он в гневе. Настигнув нас, он постарается уничтожить всех.
Поднялся стон, нет, вопль искреннего бессловесного ужаса. Голос Иоханана хлестнул, словно бич.
— Прекратите! Да, мы в опасности. Некоторым или всем нам угрожает гибель. Но мы люди Господа. Он выбрал нас. Он ведет нас. Пока мы сильны, он не позволит нам умереть от руки царя Египта.
— А если мы не сможем быть сильными? — снова встрял Шмуэль.
Вместо Иоханана ответил Эфраим:
— Придется. Ничего другого нам не остается.
— Предводитель, — вздохнул Шмуэль, отстранил сына и воздел руки к небу. — Тогда молись, мой народ. Молись, чтобы мы все не спятили и нас вели не безумцы!
Сначала несколько человек, потом еще несколько, потом почти все, окружавшие его, стали молиться, как молился он, потрясая поднятыми руками, громко обращаясь к богу. Поднялся отчаянный шум, лишенный всякого благозвучия, но все же в нем чувствовалась сила. Пусть это была сила отчаяния, но, тем не менее, сила.
Звук, раздавшийся совсем близко, изумил Нофрет до потери речи. Мириам смеялась. Тихонько, словно стараясь сдержаться, но смеялась.
Когда приступ смеха миновал, Мириам взглянула на Нофрет, все еще улыбаясь, чем повергла ее в еще большее изумление. В глазах Мириам блестели слезы, но это были слезы веселья.
— Что за люди? Ну кто еще будет так безоговорочно подчиняться богу, но при этом так орать?
— Мы, — ответила Нофрет.
Мириам снова засмеялась.
— Вот именно. Выходит, это нам в наказание? Мы находимся среди них, потому что только этого и заслуживаем?
— Я думаю, — сказала Нофрет помолчав, — что их бог прекрасно умеет выбирать момент и очень жесток.
— Нет. Это не жестокость. Это такой юмор. В юности я никогда не смеялась, ты же знаешь. Но теперь, начиная стареть, я буду смеяться или умру. Это он наложил на меня такое проклятие.
Нофрет присела возле Мириам. Моление продолжалось. Моше, сидевший рядом с дочерью, был неподвижен, словно камень. Он был в плену у своего бога, который не отпустит его до утра. А больше им двоим никто не мог помешать.
— Ты думаешь, нам предстоит умереть? — спросила Нофрет.
Мириам посмотрела на нее не без любопытства.
— А ты как думаешь?
— Не знаю. Но царь идет по нашим следам. Он настигнет нас, когда мы дойдем до моря. Нас много, но большинство — это женщины, дети и старики, которые уже не в силах сражаться. А у царя — колесницы и лучники. Он может уничтожить всех нас.
— Это он может. Во всяком случае, попытается. И ты не веришь, что бог спасет нас?
— А ты?
Ее собственный вопрос вернулся назад, и Мириам сгорбилась под его тяжестью.
— Раньше спасал. Надеюсь, что и теперь спасет.
— Я не могу наверняка сказать, что я знаю, — продолжала Нофрет, — и еще меньше понимаю, во что верю. Глядя вперед, я вижу воду и сухую землю, Синай и гору бога. Я вижу годы, Мириам. Годы в пустыне, в вечных скитаниях, без остановки. Нас будут постоянно преследовать, куда бы мы ни шли. Никто не захочет принять нас. Нас очень много; нам слишком многое нужно. Единственная надежда для нас — брать и брать, что придется и где удастся. Или умереть по эту сторону моря, в руках Великого Дома Египта.
— Смерть есть надежда? — Мириам задумалась. — Полагаю, что в какой-то степени это так. Возможно, что сухая земля, которую видишь ты и вижу я, — это страна мертвых. Говорят, что они блуждают вечно, если им не повезло быть похороненными в домах вечности. Для нас такого не будет. Наши кости будут лежать под открытым небом.
По-видимому, это пугало ее не так сильно, как прежде, когда она была египтянкой, воспитанной в убеждении о том, что тело должно сохраняться для того, чтобы душа могла жить. Теперь она была провидицей апиру, а для них тело не имело никакой ценности, раз уж душа покинула его. Они хоронили умершего, оплакивали и забывали.
И весь этот народ может погибнуть на берегу моря. Нофрет и прежде приходилось ходить по самой границе страны мертвых, но она видела многих, которые переходили эту границу и возвращались к живым. Сейчас было иначе. Здесь находился целый народ, целое племя, избавившееся от рабства только для того, чтобы оказаться в опасной близости от смерти.
А хочет ли Нофрет умереть с ними?
Она вообще не хочет умирать. Если же придется… Лучше здесь, чем одной среди чужих людей. Ее муж и сын умрут вместе с нею. Остальные ее дети, если того захочет бог, будут в безопасности, вне досягаемости египетского царя.
Могло быть и хуже. Она вздрогнула, вздохнула, поднялась на ноги. Мириам собиралась остаться здесь и молиться. Нофрет хотелось спать. Уже скоро — завтра или послезавтра — они выйдут к морю, а за ними придет царь Египта. Ей понадобится вся ее сила, чтобы сражаться или умереть.
68
На второй стоянке люди оставались долго. С согласия своих предводителей они спали до позднего утра. Когда все, наконец, встали, собрали лагерь и приготовились выступить, Агарон сказал им:
— За нами идет царь. У него колесницы; у нас стада и дети. Отсюда мы будем идти без остановки на ночь. Мы должны добраться до моря раньше него.
Сон ослабил их сопротивление, а страх сделал способными на усилия, от которых днем раньше они отказались бы. По очереди садясь верхом на вьючных животных, у которых груз был полегче, останавливаясь только для того, чтобы поесть, попить и чуть-чуть вздремнуть, они поспешно двигались в сторону моря.
Моше вел их, как и всегда. Иногда Нофрет казалось, что она видит перед ним проводника; днем нечто вроде облака или столба дыма; ночью это был огненный столп. Она бы сочла его плодом своего воображения, если бы не слышала, как другие постоянно говорят о нем, называя так, как называли своего бога; Адонай Элохену, Господь, Единственный.
Все было таким же странным, когда она в первый раз бежала из Египта. Тогда их было только четверо: Иоханан, Леа, ее госпожа и она сама. Теперь, как и в те времена, ей казалось, что они вышли из мира, где живут обычные люди, и находились в стране богов, а бог шел впереди них, указывая им дорогу.
Несмотря на перст Божий, путь оставался таким же трудным, солнце припекало не меньше, у камней были те же острые края. Сон урывками, ночные и дневные переходы заставили ее утратить всякое представление о том, где она находится и что делает. Нофрет просто шла. Страх гнал ее так же, как и остальных, но у нее было больше причин бояться: тьма перед глазами была полна крови и убийств. Ей передавались видения, возникавшие в мозгу царя: то, что он сделает с ними, когда догонит.
Торопясь в погоню, он все с большими подробностями воображал это. Теперь царь собирался убить только мужчин и тех женщин и мальчиков, которые будут сопротивляться. Остальных он заберет в Египет и снова сделает рабами. Они будут жить еще в худших условиях, чем прежде. Особенно царь желал захватить живым Моше, чтобы замучить его до смерти, но прежде убить на его глазах дочь, как была убита царевна, но не так быстро и милосердно.
Нофрет пыталась отмахнуться от этих видений, но глаза души закрыть нельзя. Во сне и наяву ее преследовали мысли царя, его ненависть и жажда мести.
Иногда она чувствовала облегчение — когда Иоханан шел рядом или мог побыть с ней пару часов, освободившись от своих основных забот — охраны лагеря и разведки. Только это придавало ей сил, чтобы идти дальше. Муж был неутомим, командуя вооруженными людьми, помогая выбирать места для стоянки. То ли Бог поддерживал его, то ли он просто был слишком упрям, чтобы признаться, насколько устал.
— Когда мы пересечем море, — говорил он, — я буду спать несколько дней подряд. Но не раньше.
— Ты же до сих пор не знаешь, как мы будем это делать.
— Я полагаюсь на Господа, — в который раз повторил он.
Когда мужа не было рядом, к удивлению Нофрет, к ней приходил Иегошуа. Войдя в первую пору возмужания, он с увлечением учился обращаться с оружием и уже имел постоянное место среди вооруженных людей. В этом походе, не будучи занятым ни в охране, ни на разведке, сын шел рядом с матерью. Он был не особенно разговорчивым. Эту молчаливость он унаследовал от нее: ни один апиру не умел молчать так долго и спокойно, как Иегошуа.
За время их путешествия он успел вырасти выше нее. И заметно выше. Иегошуа напоминал своего отца, когда Нофрет впервые увидела его: сплошные руки, ноги и углы. Наблюдая за сыном, она вспомнила цвет неба над Ахетатоном, запах его воздуха, скрип песка под ногами, когда она шла из города в селение строителей. Даже вспомнила ужасного козла, наводившего страх на всю деревню. Он уже давно превратился в прах, как и город Ахетатон.
Чем больше она уставала, тем чаще спотыкалась, но Иегошуа всегда оказывался рядом, чтобы поддержать ее. Наконец однажды она отмахнулась.
— По-твоему, я уже не могу ходить сама?
— По-моему, ты слишком устала, чтобы смотреть, куда наступаешь, — ответил он с нерушимым спокойствием, унаследованным от отца. — Или у тебя видения. У тебя же бывают видения? У Мириам такой же отрешенный вид, как и у тебя. Но на ногах она держится крепче.
— Мириам дольше училась совмещать одно с другим, — ответила Нофрет.
Иегошуа не стал спрашивать, что она видит. В этом он был истинным апиру: она не сумела бы так легко подавить свое любопытство. Апиру же просто знали, что это как-то связано с богом, и тут же успокаивались.
— Не хочу быть пророчицей, — сказала она. — Хотя в древние времена мечтала об этом — когда умерла Леа и оставила свое место Мириам. Но теперь мне хочется быть самой обычной женщиной.
— Ты никогда ею не будешь. Ты хеттская женщина, которая видит истину.
Нофрет так сильно замотала головой, что перед глазами все поплыло.
— Сейчас я не вижу ее. Но чувствую. Она во мне. Видит Мириам, как когда-то Леа. А я просто знаю некоторые вещи.
Крепкие руки сына поддерживали ее. Она взглянула в широко раскрытые карие глаза. Отцовские глаза. Свет, загоравшийся в них, ослеплял своей яркостью.
— Ведь и ты не такой, как другие, — сказала она и с гордостью, и с горечью. — Ты тоже можешь видеть. И тоже знаешь.
Иегошуа спокойно кивнул. Он всегда будет спокоен: ведь ее сын наполовину апиру. Все, исходящее от бога, не смущает их.
— Господь во мне, — сказал он. — Он выбрал меня.
Нофрет толкнула его плечом, но сын был словно камень, вросший в землю.
— Не слишком ли ты возгордился? Не слишком ли ты самодоволен и потому не видишь, что творится у тебя под носом?
Иегошуа залился краской и надулся, и она сразу вспомнила, что он еще совсем мальчик. Но во внезапной улыбке был весь Иегошуа.
— Ох, мама! Ты же знаешь, что со мной такого никогда не произойдет. Ты всегда будешь рядом и вовремя одернешь меня.
— Надеюсь, — серьезно сказала она. — Но помни это. Правда, может быть, тебе не придется долго помнить. Мы все можем умереть, когда царь направит против нас свое войско.
— Господь…
— Защитит нас, — закончила за него Нофрет. — Может быть, да, может быть, и нет. Я бы не стала особенно на него рассчитывать.
Иегошуа засмеялся, что вовсе не улучшило ее настроения.
— Ух, неверующая, — сказал он с насмешкой и с нежностью. Нофрет готова была стукнуть его, но он быстро убрался прочь.
Нофрет устала, у нее болели ноги, она обгорела на солнце, страх мучил ее, но на какое-то мгновение она почувствовала себя счастливой. И даже могла поверить, что они переживут все, дойдут до Синая, и она снова увидит остальных своих детей.
Было приятно брести в этом сне. Гораздо приятней, чем в пустыне, где в сиянии горизонта наконец открылся широкий синий простор моря.
Позади раздался крик, долгий и отчаянный вопль: «Египет! Пришел Египет!»
Идя в передних рядах, Нофрет не могла видеть ничего, кроме людской стены позади себя, но уже знала, что царь настиг их. Его войско находилось в поле зрения замыкающего отряда и быстро приближалось. Царь выбрал удобный момент. Колесницы могли двигаться гораздо быстрее, чем целый народ — идти пешком. Ему осталось только подождать, пока они не попадут в ловушку, пока море не окажется за их спинами, и приступать к убийству.
Нофрет никогда особенно не надеялась на милость Божью, какие бы видения ее ни посещали, но она была слишком упряма, чтобы отчаиваться, и продолжала идти, просто потому, что шли все остальные. Моше шел впереди, не обращая внимания на то, что на пологом спуске к берегу песок становится все глубже и глубже. Сквозь бормотание ветра среди камней слышалось дыхание волн. Этот звук ей не приходилось слышать с тех пор, как ее забрали из Митанни. Речная вода текла иначе: гладко, плавно, словно скользящая змея. Море же было похоже на непрерывно дышащего гигантского зверя.
Когда они спустились к морю, солнце уже село. Длинная колонна, пришедшая из пустыни, широко растеклась по берегу, подгоняемая войском, двигающимся следом.
Но апиру не были беззащитны. У них имелась своя армия: сотни сильных, выстроившихся в боевом порядке между ними и врагом. Прозвучал сигнал устраивать на ночь лагерь, и его сразу же окружили часовые, а в самой середине поместили детей и стада, их будущее богатство на Синае.
Царь не спешил завязывать сражение. Возможно, он понимал, что апиру, даже будучи защищены, не смогут уйти, разве только по воде. Он встал лагерем вдоль гребня холма, спускавшегося к морю, на расстоянии выстрела из лука. На севере и на юге тоже расположились лагеря поменьше, отрезая пути к бегству.
Спустилась темная пустынная ночь, а с ней и холод после дневной жары. В поисках топлива для костров апиру не могли далеко уйти, но на берегу было достаточно обломков. Костры врага окружали их полукольцом, сверкало оружие. В тишине ясно слышалось, как ржали кони.
В осажденном лагере пели песни, восхваляющие бога, песни победы, песни, защищающие от темноты. В лагере египтян царила тишина, нарушаемая лишь ржанием лошадей. Если бы не они, армия врага была бы совершенно молчаливой.
Апиру побеждали молчание шумом. Даже их животные в этот вечер были непривычно беспокойны, блеяли, ревели, стучали копытами. Дети играли, пронзительно крича. Плакали младенцы. Перекликались мужчины. И все пели, разгоняя ночную тишь, полагая, что чем громче они поют, тем лучше.
У Нофрет гудело в голове. Она забралась в шатер, зарылась под все свои одеяла, заткнула уши накидкой, но все равно слышала гвалт. И так будет продолжаться до утра.
А Иоханан всю ночь проведет на страже. Он позаботился о том, чтобы все остальные могли поспать хотя бы немного, но его эта мудрая мысль не касалась. Всю ночь он будет ходить от поста к посту.
Египтяне не станут утруждать себя ночной атакой, ведь цель до утра никуда не денется. Но если кто-нибудь сглупит или какой-нибудь горячей голове захочется поразмяться, тогда они могут попробовать совершить вылазку, пока апиру спят. Поэтому и стояли на часах люди Иоханана. К тому же не повредит продемонстрировать врагу свою бдительность и оружие.
Нофрет не могла заснуть одна. Было слишком холодно и снаружи, и в душе. Полежав немного, она поднялась, плотнее завернулась в плащ и вышла к свету костров.
Шум немного поутих. Людей убеждали ложиться спать. Этим занималась и Мириам. Нофрет бросила на нее взгляд, вздохнула и присоединила свой голос к общему хору.
— Идите, отдохните, поспите, если сможете. До утра далеко, вам надо набраться сил.
— Для чего? — спросила у нее одна из женщин. — Чтобы умереть?
— Если понадобится, то да, или чтобы избежать смерти, если того захочет бог.
— Смерти нам не избежать, — сказала другая женщина, мотнув подбородком в сторону огней, сиявших на гребне холма, словно ожерелье из драгоценных камней. — Если мы побежим, то бежать придется прямо на египетские копья.
— У нас тоже есть копья, — заметила Нофрет, — и мужчины, умеющие обращаться с ними. Положись на них и на бога. И ложись спать.
Стайка женщин и несколько мужчин вместе с Мириам долго уговаривали апиру отправиться по постелям. Они напомнили Нофрет матерей, урезонивающих капризных детей, которые, отчаянно зевая, все же не желают ложиться спать: те же самые уговоры, то же самое обхождение.
Мало-помалу лагерь успокоился. На краях его по-прежнему горели костры и тихонько напевали караульные. В середине же люди спали.
Даже Моше заснул в своем шатре. Мириам свернулась калачиком у входа. Она будет поддерживать огонь до утра.
Дочь пророка совсем не казалась сонной. Ее нельзя было назвать неутомимой, но, казалось, сон был не властен над нею. Нофрет села на песок, еще сохранивший дневное тепло, обхватила колени, ткнулась в них лбом и закрыла глаза, но ненадолго — пока Мириам не отправилась спать.
Открыв глаза, Нофрет обнаружила, что лежит в углублении в песке, а костер превратился в серый пепел над едва светящимися углями. Небо было серым, будто отражение в воде.
Волны вздыхали у берега. Воздух пах солью, словно слезы.
Нофрет медленно распрямила застывшие руки и ноги. Женщины уже встали — они разводили костры, ставили печься на угли хлеб. Она слышала сонное бормотание детей, плач младенца, оборвавшийся, когда мать дала ему грудь. Ее собственная грудь напряглась от воспоминания, хотя она уже многие годы не вскармливала детей.
Звезды гасли. На востоке небо над водой бледнело. Она видела линию холмов на том берегу: море здесь было узким, а пустыня Синая, с ее крутыми склонами и неожиданными долинами — близко. На той стороне Египет мог только угрожать им, но не побеждать.
На этой стороне войско царя проснулось и взялось за оружие, запрягая коней в колесницы, выстраивая ряды солдат против лагеря Исроела. Они вырисовывались как тени на фоне рассветного неба; холодно блестел металл, бронза и железо, откованные и наточенные для боя.
Теперь египтяне выжидали, отставив копья. Кони били копытами, но не двигались с места, пока не получили свободу ринуться галопом по длинному склону на лагерь, расположенный внизу. Тонкая цепочка вооруженных людей охраняла его. Они были неподвижны, как и царские воины, даже казались расслабленными. Иоханан учил молодых людей не расходовать силы на волнение, но отдыхать, когда только возможно, ожидая битвы с натренированным спокойствием. Это было охотничье умение, им обладала и Нофрет, прежде чем ее захватили и продали в рабство.
Немного такого умения осталось у нее и до сих пор. Она поискала его глубоко в себе и вытащила на свет. Этого оказалось достаточно, чтобы успокоить колотящееся сердце, замесить и испечь утренний хлеб, проверить запасы продовольствия и подать на завтрак хлеб, козий сыр и остатки сот с медом.
Иоханан сидел на корточках среди людей с луками и копьями, рисуя на песке планы сражений. Они не имели ничего общего с их безнадежной ловушкой. Это были настоящие сражения, где армии бились в открытом поле, осаждали города или богатыри сражались перед всем войском.
Нофрет проскользнула через кружок людей, присела рядом с мужем и положила завтрак поближе к нему. Он кончил говорить — это действительно был урок военного дела, а не план предстоящего сражения, — и предложил хлеба и сыра всем желающим. Ему самому не осталось бы ничего, если бы Нофрет не удержат его руку и свирепо не глянула на него.
— Ешь, — сказала она, — или ты умрешь от голода прежде, чем египтяне попадут в тебя стрелой.
Иоханан стал есть, но не раньше, чем она сама съела половину. Сидевшие вокруг улыбались: мальчишки, которых она знала еще с тех пор, как они цеплялись за материнские юбки. К вечеру эти мальчики могут оказаться мертвыми, с египетскими стрелами в сердце.
Шум в лагере заставил их вскочить. Вскоре примчался гонец, быстроногий паренек, пронзительно кричавший на бегу.
— Моше зовет вас на сход! Идите все — даже солдаты.
Иоханан поднялся. Некоторые молодые люди стали возражать:
— Но если мы уйдем, некому будет охранять народ.
— Мы и будем охранять народ, — сказал он. — Встанем вокруг собравшихся в середине лагеря.
Это было толково, они утихли и пошли все вместе, забрав оружие и свои вещи. Нофрет, идя следом, взглянула в сторону египетской армии. Царские воины озадаченно переглядывались, удивляясь, что заставило апиру покинуть посты и собраться в середине лагеря.
Середина была свободна — люди уже разбирали шатры и грузили их на мулов и ослов. Моше стоял там, где только что был его шатер, а рядом с ним Агарон. Здесь было небольшое возвышение; не холм, но достаточное, чтобы люди, находящиеся по краям толпы, тоже могли видеть своих глашатаев.
Агарон, по обыкновению, повторял слова Моше, и его сильный голос хорошо был слышен там, где стояла Нофрет. Позади нее были только край лагеря, полоса песка и царское войско.
Она могла бы почувствовать себя незащищенной, но, как ни странно, такого чувства у нее не было. Может быть, именно это ощущали апиру, знающие, что бог всегда стоит у них за спиной.
Сильный красивый голос проносился над нею, напоминая рокот прибоя.
— Сейчас мы соберемся, как всегда собирались по утрам: каждая семья на своем месте, каждый род в своем порядке. Не забудьте своих детей, не оставляйте никаких вещей; когда все будут готовы, мы выступим.
Должно быть, кто-то из стоявших впереди выкрикнул неизбежный вопрос.
— Куда? — эхом откликнулся Агарон, резко повернулся и вытянул руку. — Туда!
Все взгляды последовали за движением его руки. Там не на что было смотреть, кроме узкой полоски песка, за которой простиралось море, широкое и сияющее, голубое в свете утра. Стая птиц с криками носилась над водой. Это были чайки, серо-белые, словно облака или морская пена.
— Мы пойдем, — произнес Агарон, — и Господь укажет нам путь. Положитесь на бога и ничего не бойтесь.
69
Народ Исроела полагался на бога, как и всегда, тем более что больше им положиться было не на кого. Нофрет видела испуганные лица апиру, ловила их взгляды, обращенные на войско на холме и на море перед ними. Некоторые рыдали от ужаса. Но голос Агарона поднял всех, кто колебался. Моше и Мириам шли среди толпы, кому-то подавая руку, кого-то утешая…
Странно было смотреть на них и вспоминать, какими они когда-то были царственными, надменными, отчужденными. Они не утратили своей гордости, но теперь принадлежали к этому народу: ходили по той же земле, ели тот же хлеб, несли то же бремя, что и простые смертные. Среди апиру не было места божественной царственности. Божественность принадлежала только богу.
Сняться с лагеря — всегда дело долгое. В то утро они начали поздно, потому что боялись предстоящих испытаний, хотя и полагались на своего бога. Дети и животные были необычайно упрямы. Стоял уже почти полдень, когда все шатры были, наконец, разобраны и сложены, вьючные животные нагружены и отведены на места, стада и отары собраны, люди выстроены в походном порядке. Спины их были обращены к египтянам, лица к морю. Войско апиру отделяло последних из них от египетских колесниц.
Нофрет шла в задних рядах вместе с Иохананом и Иегошуа. Там было не место для женщины, но ее это не волновало. Ее мужчины тоже знали, что возражать не стоит. Она вела в поводу мула, нагруженного бурдюками с водой и запасным оружием, поскольку мужчины не могли бы одновременно сражаться и тащить копья, колчаны со стрелами, запасные тетивы Она была полезна, поскольку еще один воин мог сражаться, а не заниматься мулом. И находилась там, где и должна была находиться.
Царь выжидал. Он стоял на холме, возле своей сияющей золотом колесницы, с любопытством глядя вниз и пытаясь понять, что же собираются делать апиру.
Нофрет находилась далеко позади, а Моше впереди, на краю воды. Она не видела его, но глаза — ничто по сравнению с тем, особым зрением… Нофрет знала, что пророк апиру на песке, а волны подбегают и опадают прямо к его ногам.
В руке у него был посох. Позолота давно стерлась со змеи, венчающей его, обнажив бронзу. Кобра казалась живой, гибкой и блестящей.
Он поднял посох и вытянул его над водой. Может быть, пророк что-то и говорил, но слов не было слышно. Она только видела, что Моше стоит как вкопанный, а волны лижут край его одежды, разбегаясь далеко по песку.
Легкий ветерок, игравший волнами с утра, утих, когда солнце подошло к зениту. Теперь он поднялся снова. Утром ветерок был игрив, налетая со всех сторон, но сейчас стал спокойнее. Он явился с востока и дул над водой, ероша волны, играя с бородой Моше, раздувая край его промокшей одежды.
Пророк стоял так неподвижно, что казался вырезанным из камня. Даже посох его не дрогнул. Ветер усиливался и свежел. Нофрет, стоя далеко на берегу, почувствовала его дуновение на лице. Мул поднял голову, навострил уши; ноздри его раздувались, словно впитывая ветер.
Дул сильный восточный ветер, что не было редкостью в Египте или неожиданностью на берегу моря. Но его постоянство и неизменность направления были не так уж обыкновенны.
Нофрет не знала, прилетел ли с ветром бог. Возможно, ему это было не нужно. Вызывать ветер, как и многое другое, что делал Моше в Египте, умел любой достаточно способный колдун. Но чтобы усилить его до бури, нужна была сила, данная только царям или пророкам.
Царь Египта не предпринимал ничего, чтобы прекратить это, и ни один из жрецов, если они были в войске, не вышел вперед. Скорей всего, Рамзес не взял с собой жрецов, разгневанный их неспособностью защитить Два Царства от одного безымянного бога и его заикающегося глупого пророка.
Нофрет шла против ветра. Песок хлестал ее по щекам. Она плотнее закуталась в покрывало и заметила, что мужчины делают то же самое, но не выпускают из рук оружия и не сводят настороженных глаз с царского войска, уже почти не видного за тучей поднимающегося песка. Египтяне превратились в тени и исчезли за красно-бурой стеной.
Песок, кружащийся над ними, жалил неприкрытые части лица, но это было ничто по сравнению с тем, что творилось позади. Перед апиру же был только чистый воздух, брызги воды и шелест чуда.
Чудеса начались со странностей в приливе и отливе. Волны вздувались, поднимались и падали, отступая, снова набирали силу, снова вздувались, как и всегда с тех пор, как было создано море. Но ветер проносился над ними и, словно невидимая рука, прижимал их все ниже и ниже.
Нофрет подумала, что так бывает, когда ребенок, играя в мелкой воде, дует так сильно, что вода словно разделяется надвое. Но этим ребенком был бог, пославший ветер, чтобы разогнать воду. Он окутал свой народ облаком пыли и песка, защищая его в течение, долгих медленных часов. Возможно, он же и зачаровал их, потому что даже дети и животные были совершенно спокойны и ожидали дальнейшего развития событий с удивительным терпением.
Солнце медленно спускалось с высоты небес. Воды разделялись величественно и неторопливо. Все яснее становился путь: широкая полоса блестящего песка. С обеих сторон эту дорогу окружало море, стена синей воды, бывшая выше всех стен, когда-либо воздвигнутых человеком. Путь пролегал прямо от берега до берега.
Это непостижимое чудо было, возможно, еще более страшным, чем истребление всех первенцев Египта. В нем была нечеловеческая сила. Все происходящее было невозможным, невообразимым, ужасным и великолепным.
На середине дороги между стенами воды возникло сияние. Нофрет подумала, что там колонна или столб, прежде скрытый в морских глубинах, но в нем не было ничего земного и прочного. Это был огненный столп, становившийся ярче по мере того, как угасал день.
Моше стоял у начала дороги. Пророк опустил свой посох и вонзил его во влажный песок.
— Пошли, — сказал он Агарону, и голос его дрогнул от напряжения и усталости: — Пошли быстрее.
Агарон повел людей по дороге, которая недавно была дном моря. Большинство шли покорно, только шарахались от водяных стен. Апиру словно лишились разума от благоговения и ужаса. Напирающая толпа увлекала с собой и тех, кто опасался ступить на этот путь.
Апиру двигались в том же порядке, в каком вышли из Пи-Рамзеса. Шли они не так уж стремительно, но и ног не волочили. Песок под ногами был плотный, усеянный водорослями и раковинами. Кое-где на песке бились рыбы, и создания морских глубин съеживались от прикосновения человеческой ноги там, где она прежде никогда не ступала и ступить не могла.
Старейшины и предводители торопили своих людей. Моше и Мириам стояли молча, пока апиру проходили мимо них. Отец с дочерью не казались колдунами, занятыми своей тяжкой работой, но все же выглядели так, словно не до конца принадлежали этому миру. Взгляд Моше был так же наполнен богом, как в те времена, когда он царствовал в Ахетатоне. Тогда он поклонялся своему богу один, теперь же выступал от его лица перед целым народом.
Его бог не только говорил: он демонстрировал свою силу в знамениях и чудесах. Большинство из них обратилось против Египта. По мнению Нофрет, это была месть за тот, давний отказ признать одного бога выше всех прочих.
Ей повезло больше, чем Египту. Она была возлюбленной человека, почитавшего этого бога, матерью его детей, но по-прежнему не могла заставить себя почитать одного бога превыше всех, потому что была упряма и прекрасно знала это. Так она жила и, несомненно, такой же и умрет.
Но не в этот день, уже быстро переходивший в ночь. Апиру шли за своим предводителем, за высоким огнем, который видела даже она. Вооруженные люди оставались сзади до конца, пока последний человек не ступил на дорогу бога, шагая посуху по дну моря.
Когда все люди оказались на дороге, стражники двинулись следом. Уже совсем стемнело. Страх был смутным и оставался где-то далеко, но они натянули луки и держались начеку.
С наступлением ночи облако сзади начало редеть. Последние из апиру, двинувшись между водами, увидели позади блеск огней. Сначала Нофрет подумала, что это костры в лагере, но костры не двигаются и не качаются. Это горели факелы. Армия Египта устремилась за ними. Возможно, воины и опасались ступить на дорогу среди водяных стен, но мужества набрались быстро.
Нофрет ступила на дорогу через море последней. Это мог быть и Моше, но Иоханан без особых церемоний подхватил пророка и чуть ли не понес перед нею. Он почти бежал. Нофрет старалась не отставать. Ее муж слышал то же, что и она: рев боевой трубы.
Идти было трудно. Дорога была сухой, но ноги вязли в глубоком песке. Вскоре она стала задыхаться, но все же ускорила шаг, насколько могла. Позади заржал конь.
— Вперед! — раздался голос египтянина. — Хватайте их!
Нофрет поскользнулась, выпрямилась, опять споткнулась и чуть не упала. Столько ног истоптали и раскрошили песок, что он стал почти непроходимым. Она выдохнула то ли мольбу, то ли проклятие — она и сама не знала, что — и поспешила вперед.
Сильная рука подхватила ее. Прикосновение было таким знакомым, что она чуть не упала, ослабев от облегчения. Но Иоханан по-прежнему шел перед ней и тащил за собой Моше. Рука, поддерживавшая ее, была рукой Иегошуа.
Ее тело было охвачено черным сном. Как во сне, она стремилась вперед, не продвигаясь ни на шаг. Ее спина напряженно ожидала египетской стрелы.
Но стрел не было. Великое преимущество египтян перед апиру было в их колесницах, в быстрых конях, легких колесах. Но теперь кони вязли в песке так же, как ее ноги, а колеса застряли намертво.
Нофрет засмеялась бы, но у нее не хватило дыхания. Проклятия египтян были ужасны. Раздавались крики, лязг оружия, свист бичей — они тщетно пытались вытащить колесницы из вязких объятий песка. Неверные ноги Нофрет двигались все же быстрее, потому что она была легче, и ее поддерживал сын.
Довольно скоро египтяне сообразили, в чем дело, бросили колесницы и ринулись вперед пешком. Среди них не оказалось лучников: наверное, в такой темноте невозможно стрелять. Но у них были копья и мечи: Нофрет заметила блеск металла в свете факелов.
Внезапно ее ноги оторвались от земли. Иегошуа нес ее и покряхтывал от напряжения, но был слишком упрям, чтобы позволить матери идти. Прямо впереди нее Иоханан тащил Моше, а один из молодых людей — Эфраим; она узнала гриву непокорных волос, которые невозможно было пригладить — перекинул через плечо Мириам и пер напролом через пески, словно могучий бык.
В темноте, озаряемой лишь сиянием огненного столпа впереди и факелами позади, они двигались по дороге через море. Шум вод стал слышнее; или это кровь звенела в ушах Нофрет? Стала ли дорога уже? Сблизились ли стены? Она не могла понять.
Внезапно Иегошуа рванулся вверх, карабкаясь на крутой склон. Там он, наконец, поставил Нофрет на ноги, но продолжал увлекать ее за собой, бросившись бежать с новой силой. Люди с криками бежали впереди них. Некоторые пытались повернуться, приготовить оружие, чтобы биться с наседающим врагом. Но Иоханан и Моше, пришедший наконец в себя, гнали их вперед: Иоханан плоской стороной меча, Моше — своим посохом.
Пророк остановился так резко, что Нофрет чуть не налетела на него. Движением руки он послал ее, полубегущую, полулетящую, вслед за остальными апиру.
Чистейшее упрямство заставило ее остановиться. И что-то еще… Нофрет не сразу поняла, что. Ветер стих.
Сейчас она ясно видела Моше. Он представлялся ей серой, но четкой фигурой, с поднятым посохом в руках. За ним, в предрассветных сумерках, было рассеченное пополам море, дорога, пролегшая между расступившихся вод. Все войско Египта находилось на ней, и передние ряды уже собрались ступить на склон, круто поднимавшийся к восточному берегу.
Со звуком, напоминающим то ли вздох, то ли отдаленный рев воды, стены утратили свою твердость и упали. Две исполинские волны, столкнувшись, обрушились вниз, на головы египтян. Они стояли, онемевшие и недвижимые, не осознавая, что произошло, глядя вверх, на свою неминуемую гибель.
Лошади соображали лучше, чем их хозяева. Некоторые колесницы рванулись вперед, вынося из моря царя и его вельмож. Нофрет видела, как царские кони борются с песком, как возница пытается справиться со взбесившимися животными, но они мчались, не разбирая пути, неся за собой колесницу. С головы царя упал шлем, обнажив бритый череп. Вожжи были уже у него в руках — то ли возница выпал, то ли царь сам вытолкнул его, не доверяя его умению. Упряжка отчаянно неслась прочь от моря, наступающего, чтобы взять свое, неслась к дальнему берегу, к твердой земле Египта, которую он так безрассудно покинул.
Водяные стены сомкнулись над египетским войском. Послышались последние вопли людей и ржание коней. Но громче, гораздо громче, был рев воды.
70
Встало солнце, невозмутимое и бесконечно далекое. Поверхность моря была спокойна. От армии Египта не осталось ни мусора, ни обломков, вода забрала все: оружие и доспехи, коней и колесницы.
Вода забрала всех, кроме одного. Безжизненное тело лежало на мелководье, перекатываемое волнами. Шлема на нем не было, золоченые доспехи и украшения исчезли, но лица не узнать было нельзя. Великий Дом Египта, Властелин Двух Царств лежал мертвым у ног Моше.
Царь, который умер и жил в Синае, смотрел вниз, на царя, который умер и будет жить только в памяти. Моше встал на колени и заплакал.
— Мы были врагами, — сказал он. — Он отвергал моего Бога. И все же мы родня. Я знал — и он тоже знал, сколько весят короны.
Египетского царя уложили на вечный отдых как сумели, здесь же, на берегу моря, на западном побережье Синая. Египет придет за ним — так сказал Моше. Нофрет не сомневалась в его словах. Боги умеют присмотреть за своими людьми.
На это короткое время его положили под пирамиду из камней, завернув в тонкое полотно, принесенное из Египта детьми Исроела, умастив теми благовониями, какие у них были. Моше увенчал пирамиду шлемом-короной, упавшим с головы царя перед тем, как его поглотили воды. Возможно, корону принесло море, возможно, бог отдал ее в руки Моше. Нофрет больше не была уверена ни в чем, кроме того, что она жива, и в живых остались все мужчины, женщины и дети из тех, кто бежали из Египта, в то время как вся египетская армия была уничтожена.
— Не вся, — сказал Иоханан, когда они отошли, наконец, достаточно далеко от моря, встали на отдых в безопасном месте и забрались в свой шатер. — Даже не половина и не треть. Ты заметила, что наследника с ними не было? Он в безопасности в Мемфисе, и я готов спорить, что теперь он будет претендовать на отцовский трон.
— А он не может прийти за нами, узнав что его отец мертв?
— Не думаю. Я видел Сети: он показался мне разумным человеком. Ему предстоит многое сделать, чтобы восстановить все, что разрушил в Египте наш бог. Для всех будет лучше, если он забудет про нас.
— Так, как забывают египтяне? Никогда не вспомнив наши имена и о том, что мы вообще существуем?
Иоханан пожал плечами. Он снова собирался уходить, несмотря на страшную усталость, потому что оставлять людей без охраны было нельзя. Он надел чистую одежду, выстиранную в море, поглотившем врага, и сказал:
— Египтяне могут забыть нас, но Господь помнит.
Нофрет натянула платье, подошла к пологу входа, откинула его и выглянула наружу. Их шатер стоял на краю лагеря, и ее взору открылась пустыня Синая. Хотя солнце уже село, небо было еще полно света, окрашивающего землю в золотые и пурпурные тона.
Иоханан встал на колени рядом с ней. Она на мгновение прижалась к мужу: не для того, чтобы заманить обратно и постель, — просто его присутствие было ей приятно.
А люди пели. Песня началась еще когда они уходили от моря, оставив царя под его пирамидой, и продолжались с тех пор без перерыва.
Ничего не говоря, не задавая друг другу вопросов, они направились туда, откуда доносилось пение. В этом лагере шатры располагались по кругу, а в середине было свободное место. У огромного костра собрались танцоры, певцы, музыканты с арфами и тамбуринами.
Моше пел вместе со всеми. Голос у него был такой же слабый, как и всегда, но верный, и он не заикался. Пророк апиру, отложив посох и отбросив божественное величие, смеялся и пел, восславляя своего бога.
Странный некрасивый мужчина, которого прежде знала Нофрет, действительно умер. Этот человек был великим слугой Господа, посланцем бога к людям, принявшим его и считающим своим. Египет полностью ушел из него, как и он наконец покинул Египет.
Казалось, Моше вовсе не сожалеет о том, что потерял. Но он никогда не жалел о прошлом. Давным-давно он по своей воле ушел в Синай, а теперь возвращается туда, к себе домой. Его ждали жена, дети и народ, который он сделал своим.
У Нофрет сжалось горло. Ей тоже страстно хотелось увидеть своих детей. А что будет потом? Всю жизнь она кочевала с этим народом и будет кочевать снова, всегда и повсюду, куда бы ни повел их бог. Даже…
Нофрет отогнала от себя это предвидение. У нее будет время заглянуть в будущее, когда они отправятся в путь, когда народ, вышедший из Египта, покинет пустыню и двинется завоевывать города Ханаана.
Сейчас же они были просто странствующим племенем, только что сбросившим гнет неволи. Их радость захватила и ее.
А разве ей нечему радоваться? Рядом с ней был ее муж. Ее сын танцевал у костра. Младшие дети ждали свою мать в зеленой долине, куда ее скоро приведет дорога. Дважды она приходила в Египет, и дважды ей удавалось бежать. Третьего такого путешествия не будет. Теперь она окончательно освободилась от богов и власти Двух Царств.
Иоханан потянул ее к костру, к танцующим. Он не забыл, что должен стоять на страже, но дела могли еще немного подождать.
В свете костра танцоры подпрыгивали и кружились в мужском танце, танце охоты и войны. Иоханан бросился и ряды танцующих, оставив Нофрет одну, но не покинув ее. Она любила смотреть, как он танцует. Ее муж был красив всегда, но в танце просто великолепен.
В эту ночь он танцевал в честь побега из Египта, в честь могущественного и ужасного бога, в честь ликования людей, обретших свободу. Ни один мужчина не подпрыгивал выше него, никто не двигался с такой грацией.
Женщины искренне восхищались им. Нофрет почувствовала, что краснеет, словно девчонка, она, мать взрослого сына. Она поспешила унести свое смущение в сторонку, где было потемнее и потише.
Как она и предполагала, там кто-то был, но совсем не ожидала увидеть улыбку, согревшую лицо Мириам, осветившую его даже в этом сумраке.
Они сидели рядом, и им было хорошо вместе. Нофрет наслаждалась молчанием. Молчала и Мириам.
Чуть позже она произнесла:
— Я так странно себя чувствую.
Нофрет взглянула на нее. Мириам выглядела так же, как и всегда. Может быть, лицо стало светлее, не таким серьезным.
Она похожа на Моше! Свободная!
Так Нофрет и сказала. Мириам кивнула.
— Ты права. Так это и называется — свобода. Когда море расступилось, мое сердце тоже разорвалось пополам. Когда стены воды сошлись, оно стало совершенно другим. Египет ушел, Нофрет. Я по-прежнему вспоминаю его, но воспоминания эти смутны, как будто я смотрю сквозь глубокую воду.
— Это сделал бог.
— Ты простишь его за это?
Только Мириам могла задать такой вопрос. Но в нем не было горечи.
Нофрет покачала головой.
— За что же его прощать? Я знаю, что тебе хорошо. Я только что видела твою улыбку. Ты сможешь улыбнуться еще раз? Или это тебя слишком утомит?
Мириам засмеялась и резко умолкла, озадаченная.
— Что ты хотела…
— Ты смеялась, — напомнила Нофрет.
Мириам нахмурилась.
— Да, смеялась. Теперь я знаю, что это такое. Но…
— Но ты даже сейчас не ожидала, что способна на это. — Нофрет тоже улыбалась, улыбалась от всей души. — Может быть, нам придется сменить тебе имя? Не горькая, а сладкая. Или…
— Я была бы всем очень признательна, — промолвила Мириам, в полной мере вспомнив свое прежнее царственное величие, — если бы мое имя оставили в покое. Оно мне вполне подходит. Я не хочу его менять.
— Как угодно госпоже, — ответила Нофрет, склонив голову.
Мириам бросила на нее гневный взгляд. Нофрет рассмеялась. Да, она и правда изменилась: ее гнев превратился в удивление, а затем в веселье.
— Но я не твоя госпожа! — воскликнула она со смехом.
— От старых привычек избавиться трудно, — ответила Нофрет без всякого раскаяния.
— Между прочим, царицам тоже, — Мириам вскочила легко, словно девочка. — Смотри, настало время женского танца. Пойдем, станцуем вместе.
Нофрет словно приросла к своему месту.
— Я не танцую.
— Сегодня будешь. — Мириам тянула ее за руку. Подошел и Иоханан, сияющий, вспотевший и еще красивее, чем обычно. Он улыбался ей и тоже уговаривал рискнуть.
Пока танцевали мужчины, певцы отдыхали. Теперь песня зазвучала снова: чистые голоса женщин, низкие голоса мужчин.
— Люди, хлопайте в ладоши; возносите к богу крики радости!
Женщины двигались цепочкой, хлопая в ладоши и притопывая ногами; развевались юбки, накидки, длинные косы.
Мириам, схватив бубен, забила в него и влилась в толпу танцующих, подпевая своим звонким голосом:
— «Воспойте Господа, он одержал славную победу: Коня и всадника сбросил в море».— «В море», — вторили женщины.
Нофрет обычно не пела и не танцевала, но сейчас обнаружила, что делает и то, и другое. Жар поднимался в ее крови, светлый жар радости.
«Кто сравнится с тобой, Господь, среди богов?»Она чуть не остановилась, чуть не заспорила — она, чужестранка, хеттская женщина, не поклоняется только одному богу! Но танец был сильнее, а музыка слишком глубоко проникла в нее. И Нофрет, так и не разобравшись, желала она того или нет, растворилась в этой песне, как и все остальные.
Все они принадлежали Богу, все они его дети.
Даже Нофрет. Она может бороться с этим до самой смерти — или смириться. Или — и тут она улыбнулась широкой и хищной улыбкой — она может заставить бога отказаться от нее.
— Я не стану твоей, — говорила она, проносясь в танце вокруг костра. — Это ты будешь моим. Я буду служить тебе не как рабыня, мой господин, я буду служить тебе свободной.
И бог не сразил ее на месте. И не обратил против нее свой народ. Он был слишком высоко для этого. А может быть, ему понравилась ее дерзость.
Нофрет вылетела из рядов танцующих прямо в объятия мужа, разгоряченная и запыхавшаяся.
— Ты все еще здесь? — прошептала она.
— Все еще и всегда, — ответил он.
Это был ответ на все вопросы. Иоханан поднял ее на руки, заговорщически улыбаясь, искушая сделать перед всем народом что-то совершенно неприличное.
А почему бы и нет?
Нофрет прильнула к нему, жарко поцеловала и толкнула в темноту, прочь из светового круга.
А дети Исроела все пели, как пели с самого рассвета и будут петь еще целый день и ночь:
«Кто сравнится с тобой, Господь, среди богов? Кто сравнится с тобой, величественный в славе, ужасный в гневе, совершающий чудеса? Ты в милости своей повел вперед народ, освобожденный тобой: Ты в силе своей повел их в священную обитель».Иоханан тихонько подпевал, хотя был занят совсем другим, завершая песню, приветствуя новый восход:
«Господь будет царствовать во веки веков».Нофрет подавила вздох. Бог обладает душой Иоханана, и пусть. Но его сердце и тело принадлежат ей. И это ее вполне устраивает. Согревшись в объятиях мужа, невероятно усталая, бесконечно счастливая, она смотрела, как над холмами Синая восходит солнце.
Внимание!
Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.
После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.
Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.



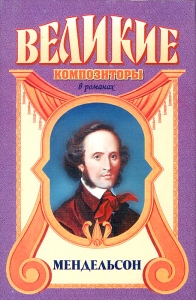
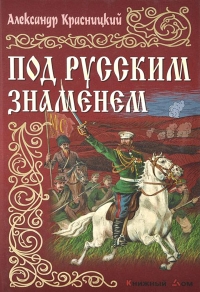
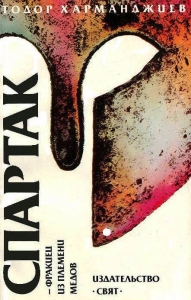
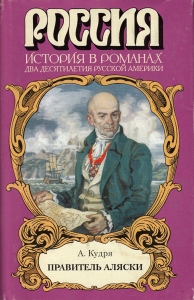
Комментарии к книге «Огненный столб», Джудит Тарр
Всего 0 комментариев