Пролог
Искупитель наш, Иисус Христос, пресвятая дева Мария, к вам обращаюсь с молитвой и надеждой. Укрепите дух мой, сберегите жену и сына. Скоро пробьет мой час, тяжко расставаться с белым светом, томит мысль о грехах. Уповаю на милосердие ваше, ибо обещано нам — обрати к свету истинной веры хотя бы одного язычника, открой ему врата небесные и воздастся тебе сторицей. Я же по милости твоей, Господь наш, Иисус Христос, тысячи тысяч темных душ осенил крестом. Склонились они перед величием твоим, обрели свет незримый…
В вашу честь основал я «Богатый город истинного креста», ныне называемый Веракрус, сокрушил кровавый Теночтитлан и на его месте заложил обитель правды и света, христианскую столицу Новой Испании город Мехико. Подобно девяти героям[1] покорил неисчислимое количество племен — наш государь, его католическое величество дон Карлос V, простер над ними свою царственную длань. Приходилось мне и с земными властями вступать в разлад. Есть за мной тяжкий грех — было дело, предал позорной смерти лицо духовного звания, но к вам, к Спасителю и матери его святой, всегда испытывал благоговение. Всегда и везде я бесстрашно шел вперед с крестом в одной руке и мечом в другой. Вашей славой осенил земли, до той поры нехоженные и немереные.
…Порыв благочестия угас, снова начало теснить грудь, опять напомнили о себе острые боли в затылке. Дон Эрнандо заворочался в кресле воспоминания о строптивом, горластом монахе, которого пришлось вздернуть в джунглях таинственной страны Гондуры, вконец испортили ему настроение. Дон Эрнандо Кортес притих, глянул в окно. Привычный вид открылся перед ним изобилие черепичных крыш, ступенями взбегающими к вершине пологого холма, к которой прилепились развалины древней арабской крепости. Чуть ближе обветшавшая сторожевая башня — на её куполе густо свили гнезда аисты… Кастильехо де ла Куэста, где на склоне лет он теперь обитал, селение захудалое, расположенное неподалеку от Севильи. Куда ему до величия и бьющей в глаза роскоши Теночтитлана, строгости Тласкалы, пышности Чолулы. Единственное, чем богаты эти места, так это небом.
Такого неба как над Испанией нигде больше не встретишь. Особенно обильно оно в родной Эстремадуре, где он когда-то появился на свет. Это недалеко отсюда — несколько дней пути на север. Удивительно, чем беднее земля, тем выше небесная чаша, тем пронзительнее голубизна. В джунглях небо почти всегда в дымке. Изредка в прогалах листвы и сплетения лиан мелькнет робкая отсыревшая синь. Местами зеленые сумерки сгущались так, что солдаты не видели куда ставят ноги. В горах Мексики небо низкое, упитанное, ненасытное. Под стать отвратительным идолам ацтеков, радостно взирающим на вырванные из разъятой груди свежие, ещё дымящиеся, человеческие сердца.
Я, Эрнандо Кортес, обрушил это богомерзкое небо. Теперь умираю… С трепетом жду конца. Все в жизни свет и тьма…
На расположенном напротив, зарешеченном балконе, среди обилия других комнатных цветов торчит из глиняного горшка толстый стебель диковинного растения, называемого «маис». Видно, жена, донна Хуана привезла из-за моря… Это растение теперь вошло в моду. Мясистые, начинающие желтеть листья, золотой початок, выглядывающий из темно-зеленой гущи — на нем уже отчетливо видна резьба зерен. Наверху венценосная метелка… Вспомнился государственный символ, с которым встретили меня в Теночтитлане — медный жезл в полтора человеческих роста, обвитый золотой змеей. Глаза — два крупных изумруда. Жезл был осенен искусно изготовленной метелкой из золота. Дозволено ли иноземному злаку украшать себя подобием королевской короны?
Я добился славы, её теперь у меня вдосталь. Но что значит слава без золота? Забытые строки в толстенных, замурованных в деревянные, обшитые кожей доски, исторических хрониках? Или пересуды простолюдинов на рынке? А может, крикливые обвинения епископа Бартоломе де Лас Касаса, чьи слова теперь повторяют завистники и трусы? Дошло до меня, что он позволил себе прилюдно обмолвиться насчет не всегда благородных способов, с помощью которых я приобрел свои богатства. Одному лишь Господу Богу известно, заявил он, сколько индейских жизней было загублено из-за этого золота; надо думать он призовет его за это к ответу.
Кого к ответу? Меня?! Первого капитан-генерала, алькальда города Веракрус, вице-губернатора Новой Испании? Маркиза Валле да Оахака?..
На лбу выступила испарина. Вновь острая боль отозвалась в голове. С трудом удалось унять расходившееся сердце — сил ещё хватало взять себя в руки, с усмешкой помянуть назадачливого епископа.
Славный старик, но дурак! Духовному лицу даже в силе — к его словам нынче внимательно прислушиваются при дворе — не к лицу позволять себе подобные дерзости, цепляться к каждому грешку, совершенному в далеких Индиях? Милость властей — штука ненадежная. Отец Бартоломе никак не желает понять, что жизнь прожить — не поле перейти, и если он, такой непримиримый к чужим грехам, такой строгий в исполнении заветов Господа, способен обходиться чечевичной похлебкой, это не значит, что другие тоже должны ежедневно поститься. Было дело, подобному благочестию и простоте он пытался научить меня на острове,[2] затем в Сантяго-де-Куба. Лас Касас сразу выделил меня среди «святой братии головорезов» — так он называл благородных идальго, в поисках приключений прибывавших в Новый Свет. Признаться, был момент, когда я поверил ему и согласился отвезти жалобу на противоправные действия и злоупотребления губернатора Кубы Диего Веласкеса де Леон.
Чем все закончилось?
Меня поймали, посадили под арест. Я бежал, потом снова был пойман, отправлен на корабль, следовавший на Эспаньолу, где заседал королевский суд. Там меня без раздумий как бунтаря и заговорщика приговорили бы к повешению. Угроза быть вздернутым — хороший урок для молодого человека. Общее дело не всегда бывает правым, я хорошо усвоил этот урок. Верно, в отместку за то, что я не позволил отдать себя на заклание королевским судьям Лас Касас и возненавидел меня… Принялся распускать слухи… Может, и справедливые, но все равно гнусные! Уже встретившись в Мексике, беседуя о прошлом, он на правах прежнего наставника напомнил мне о тысячах погибших индейцев, об одураченном Диего Веласкесе, о тех двух кораблях, что я захватил на пути в Мексику.
— Клянусь верой в Господа Бога, мне тогда приходилось действовать как настоящему корсару, — согласился я.
— Да внемлет ваш слух тому, что уста глаголют! — посетовал епископ.
— Верно, святой отец, qui non intrat per ostium, fur est et latro,[3] Однако следует иметь в виду, что мы, горстка христиан, сокрушили оплот язычества, — возразил я. — Разве это обстоятельство не дает нам надежду на спасение?
— Никто, маркиз, не ставит под сомнение вашу воинскую доблесть или искусство политика. Вопрос в другом — имеют ли эти подвиги отношение к Божьему суду? Уверяю вас, казнь невинного Куаутемока и францисканского монаха Хуана де Текто, странное исчезновение другого нашего брата, францисканца, Хуана де Айора — вот что будет брошено на чашу весов. Верю, тогда и вам самому станет ясно, чем вы пожертвовали ради земной славы.
— Вы слишком строги ко мне, падре. У меня не было выбора — последний император ацтеков Куаутемок замыслил измену. В том положении, в каком я оказался, у меня не было времени соблюдать формальности. Примите во внимание, что Совет по делам Индий признал мои действия правомочными…
— Вот об этом вы и порассуждайте на досуге, дон Эрнандо. Смею надеяться, что вы найдете достойные оправдания, убедительные доводы. Иначе вам будет трудно ладить с людьми…
Ты оказался неправ, старик! Насчет того, как ладить с людьми — в этом у тебя, моралиста и обличителя, куда больше трудностей, чем у меня. Я ссорюсь исключительно со слугами. Больше, к сожалению, не с кем… Sic transit gloria mundi.[4] Да, я вспоминаю, часто вспоминаю былое… Но оправданий не ищу! Мне не нужны веские доводы в свою защиту. Они наглядны! Еще лиценциат[5] Сауседо в Саламанке убеждал меня в том, что Бог создал человека как меру всех вещей. Глядя на бесконечность зримого мира, мы должны принять во внимание бесконечность приложимых к нему мер. Всех на одну колодку не натянешь. Звание честного, добросовестного служаки было не для меня. Тем более, что перед глазами долго стоял пример опытного Хуана де Грихальвы, командующего второй экспедиции, посланной к берегам Новой Испании..[6] Он мог совершить все, чего сумел добиться я. Однако дерзнуть не отважился… Решил в точности следовать инструкциям, данным ему губернатором Диего Веласкесом. Вспомним, как встретил Грихальву губернатор Веласкес? Он разжаловал его, оскорбил, отнял подаренные земли. Чем кончил Грихальва? Стрелой индейца, попавшей ему в горло!..
В том кровавом угаре, в чаду пожарищ, пылу сражений, на пороге новых горизонтов, которые мы, испанцы, распахнули с помощью меча и креста, вы, святой отец, прослыли другом индейцев, защитником дикарей и язычников. Это ваш удел! Я выбрал другое поприще — вернее, меня избрала судьба! Надеюсь, не для того, чтобы затем ввергнуть в ад? Я желаю, чтобы на моем надгробном камне было вырублено только одно слово — конкистадор!
В остальном да рассудит нас Бог!
Часть I
Глава 1
Корабли устремились к морю. В лунном свете расширявшаяся от устья реки, посверкивающая водная гладь просматривалась до горизонта. Захлопали и тут же серебристо засветились косые паруса на небольших каравеллах, заиграли на парусах кресты. На флагмане под бушпритом[7] установили блинд и прямой на фок-мачте — их вполне хватило. Под плеск речных струй флотилия вышла в широкую бухту, легла на мелкую волну. Между двумя мысами ясно обозначился просторный проход. Держи курс на середину — это и будет нужный курс! Кормчий Аламинос уже совсем было собрался погнать матросов на реи, ставить все паруса, как вдруг от капитан-генерала дона Эрнандо Кортеса прибежал посыльный с приказом бросать якоря. Аламинос бросился на переднюю надстройку, отыскал командующего, принялся доказывать, что ветер попутный, что к рассвету они уже будут далеко от Сантяго и губернатор Веласкес уже не сможет остановить их…
Дон Эрнандо невозмутимо выслушал бородатого, диковатого вида моряка и коротко ответил.
— Так надо! — потом после короткой паузы добавил он. — Будем ждать.
Аламинос только рукой махнул. Ждать, ждать!.. Сколько можно ждать? Всегда одно и то же — сначала лихорадочная суета, толпы возбужденных искателей приключений, собиравшихся возле глашатаев и вербовщиков, которые несколько дней ходили по городу, извещая жителей о наборе добровольцев в военную экспедицию в новые земли на западе; банкеты и турниры, посвященные предстоящему походу; поспешные сборы денег на закупку провианта и военных припасов; пьяные идальго, похваляющиеся на шпагах добыть славу и золото; шум и гам в лавках, где торгуют стеклянными бусами, зеркальцами, ножами, ножницами, металлическими пуговицами, ношеной одеждой, головными платками и прочей дребеденью, до которой так охочи индейцы. То вдруг всеобщее оцепенение — жители затаиваются, смолкают разговоры о предстоящем походе, жизнь в городе входит в привычное русло, никто больше не упоминает о горах золота, ждущих храбрецов на западе, где по слухам наконец-то найдено долгожданное Эльдорадо. Между тем припасы по-прежнему свозятся на закупленные корабли, своим ходом идет ремонт корпусов и починка парусного вооружения. Добровольцы собираются в таверне, угрюмо обмениваются последними новостями, бросают нетерпеливые взгляды в сторону гавани. Что слышно? Да ничего. Говорят, губернатор пожелал заменить командующего… Родственнички и прихлебатели нашептали — держись подальше от Кортеса. Теперь поставят в командиры какого-нибудь раззяву, вроде Грихальвы, или того хуже, заносчивого дурака. Все тогда сложим головы в новых землях. Кортес им, видите ли, не угоден! А нам он угоден!.. Толковый малый, и держится просто…
Вдруг как гром среди ясного неба — в полночь отплываем! Аламинос в сердцах покачал головой. Ремонт кораблей ещё не окончен, припасов маловато, и на тебе — на ночь глядя в море! Опять в городе суматоха, участники экспедиции мчатся в гавань. Томного, надушенного Кортеса не узнать — этот франт сам со своим дружком Пуэртокаррерой летит в мясную лавку и не торгуясь закупает весь товар. Все подчистую — свежатину, солонину, птицу, свиней по два песо за штуку. Мясник тоже забегал, никак не мог сосчитать общую сумму — пальцы дрожали. Все жаловался — чем же я завтра буду горожан кормить? Сумма вышла изрядная, однако Кортес глазом не моргнул — тут же написал долговую расписку. Лавочник помялся — расписка распиской, а как насчет залога? Кто знает, вернетесь ли вы, дон Эрнандо, из похода. Вернусь, заверил его Кортес и тут же снимает с себя массивную золотую цепь и кладет на прилавок. Говорят, последнее, что у него осталось… Наконец долгожданная команда — поднять якоря! Паруса ставить!.. Флотилия выходит в бухту — и на тебе! Вновь остановка. Поди разберись во всей этой кутерьме.
Аламинос подергал серьгу в ухе — это был его оберег, окропленный святой водой ещё в родной Севилье — выругался про себя, прошел вдоль борта. В городе по-прежнему было тихо. Редкие огоньки светились в крепости Кастильо-дель-Марро. В лунном свете унылыми горбами вставали местные горы, обнимавшие долину, где струилась река, на которой был возведен Сантяго. Вода ласково шлепалась о борт, трехмачтовое нао чуть покачивало на мелкой ровной волне… Кто бы объяснил, зачем на ночь глядя поднимать людей, давать команду на выход в море? Офицеры между собой перешептывались — мол, Диего Веласкес решил заменить капитан-генерала, вроде бы дон Эрнандо Кортес перестал внушать ему доверие. Говорят, шут губернатора вслух подсказал Веласкесу — смотри, папаша, как бы тебе не пришлось вновь отыскивать Кортеса с гончими. Как в тот раз, когда этот смутьян бежал из-под ареста… Если эта новость верна, тогда понятно, почему они снялись с якоря в такое неуместное время. Благо, ночь светла… Но в этом случае надо ставить паруса и держать курс на юго-запад, в сторону недавно открытых, обильных золотом земель, а не торчать на внешнем рейде в ожидании, когда Диего Веласкес соизволит проснуться и вернуть суда к причалам. Большинству участников похода — морякам поголовно, почти всем солдатам — всякая задержка, что нож в сердце. Многие в долгах, как в шелках. Уходя в дальний путь, надо было прикупить кое-что из военного снаряжения. Кому нужна новая кираса, кому запасная шпага или меч, кому шлем, налокотники, поножи. Обыкновенным бельишком следует запастись… А на какие деньги? Все под расписочку. И вообще, сколько можно сидеть без дела. Вон солдат Берналь Диас, земляк или родственник самого Веласкеса, с четырнадцатого года кукует на Кубе. Теперь уже ноябрь 1518-го… Успел побывать в двух экспедициях: Кордовы и Грихальвы, и все равно гол как сокол. В это время командующего менять — последнее дело. Офицеры, правда, не в восторге от этого «выскочки» Кортеса, сумевшего, как утверждают сторонники Веласкеса, с помощью королевского казначея Амадора де Лареса и секретаря Андреса де Дуэро окрутить губернатора и добиться патента на верховное руководство.
Кормчий закурил — занятие это было новое, необычное, однако многие из тех, кто первыми, с Кристобалем Колоном добрались до Вест-Индии, уже баловались этим местным зельем. Вдыхали дым через нос, как то делают индейцы… Голова приятно закружилась, мысли вернулись к назначению Кортеса.
Де Ларес — известный интриган. Двадцать лет прослужил дворецким у Великого капитана, знаменитого полководца Гонсало Фернандеса де Кордовы, который все эти годы сражался в Италии. Всем известно — тому, кто набрался итальянского духа, доверять нельзя. Вся Европа наслышана о злодействах Цезаря Борджиа, герцогов Сфорца, д'Эсте, а уж о коварстве Медичи и говорить не приходится…
Аламинос вздохнул — какое дело настоящему испанцу до шабашей иноземных властителей! Другое дело — странное поведение Кортеса, ведь под его командой идти в бой. Будет ли сопутствовать ему удача, хватит ли у него благоразумия довести дело до конца? Как с людишками будет обращаться, что для него человеческая кровь? Не водица ли? Никто из рядового да и офицерского состава не мог упрекнуть его в трусости, нечестности, отсутствии сметки — самого нужного на войне дара. Особенно, когда не знаешь, с какой пальмы мерзкий язычник пустит в тебя стрелу. В общем-то, Кортес, хотя и рядится в вельможу, но парень простой, веселый, за словом в карман не лезет. В чем он мастак — так это во обращении с холодным оружием. Так орудует шпагой, что и втроем его не возьмешь. Аламинос усмехнулся этого мало. Главное, чтобы благоразумия и осторожности хватало. В их деле это перво-наперво.
С полчаса ещё провел Эрнандо Кортес на переднем возвышении судна наблюдал за городскими огнями. В Сантяго было спокойно — видно, никто не решился разбудить Веласкеса, чтобы сообщить ему пренепреятнейшее известие Кортес снялся с якоря! Затаилась шептуны, лизоблюды, сгорают, наверное, от нетерпения… Наконец, когда на кораблях угомонились, капитан-генерал отправился в свою каюту.
Был ноябрь, начало «сухого», как его называют на Фернандине,[8] сезона, и все равно ночь была жаркая, душная и влажная. Мошкара тучей вилась вокруг тускло посвечивающего фонаря…
Он расположился за столом, снова просмотрел списки. Во всем был недостаток — не хватало солдат, пушек, съестных припасов, особенная нужда ощущалась в конях и хлебе. Кавалерия — хорошее подспорье в сражениях с туземцами, однако каждая лошадь в Вест-Индии буквально на вес золота. Десяток годных под седло скакунов — это его предел. Прикупить больше не на что. На эту экспедицию он потратил все, что имел. Все, что сумел заработать в колониях за пятнадцать лет. Сумма получилась изрядная — почти три тысячи кастельянос.[9] Оказалось, что этого мало, пришлось влезать в долги. Теперь пришел черед закладывать честь, а может, и саму жизнь… Диего Веласкес, стоит только ему задержать экспедицию, сумеет расправиться с ним. Что ж, теперь он, дон Эрнандо Кортес, готов все бросить на кон. Только не надо спешить, надо все трезво взвесить. Веласкес сам загнал себя в угол, выдав ему подписанный властями и монахами-иеронимитам на Эспаньоле патент. Просто так снять капитан-генерала он не властен. Нужен серьезный повод. Но это формальный подход к делу. Повод губернатор всегда найдет. Значит, задача состоит в том, чтобы как можно скорее выйти в море, и при этом не допустить, чтобы Веласкес успел отдать прямое распоряжение вернуться.
Кортес подошел к окну, распахнул его — в городе по-прежнему было тихо. Тьма внезапно сгустилась — по-видимому, луну накрыло облачко. Собственно, плевать ему на губернатора. Страшила оппозиция среди офицеров и возможная потеря командования. Веласкес всюду насовал своих людей. Чтобы приглядывали за строптивым «выскочкой»… Солдаты и матросы поддерживают его, для них любая задержка — повод к недовольству. Могут и взбунтоваться… Нет, бунт сейчас не поможет. Надо думать, думать… Отплывать нельзя — тем самым он даст козырь Веласкесу, который тут же обвинит его в измене. Необходимо получить, хотя бы формально, напутственное слово, а уж как он истолкует его — это его, Кортеса, дело!
Дон Эрнандо повеселел, полной грудью вздохнул любимый и всегда немного пугающий воздух моря. Особенно когда эта пахучая, манящая взвесь разбежится, ударит в паруса, начнет корежить воду, швырять корабль, как щепку. От этой жути ему, сухопутному парнишке, выросшему на сухой, выжженной солнцем тверди Эстремадуры, никогда не избавиться. И ладно ощущение опасности всегда волнует кровь. Риск, говорят, дело благородное. Скорее святое, тем более когда в бой идешь, осененный крестом, когда на карту поставлена честь и жизнь.
Между тем ночь уже заметно гасла. В крепости начали носить факелы пришло время смены караула. Полновесная тьма на востоке уже сменялась пепельно-сизой завесью, в которой одна за другой таяли гулкие, крупные, тропические звезды. Кортес глянул в противоположном направлении, куда сдувало густой мрак — в той стороне укрылась земля, где сокровища лежали грудами; где, по рассказам бывалых людей, дороги и мостовые были устланы золотом и серебром. От сердечной хвори, называемой алчностью, не было лучшего лекарства. Хвала Господу, он, Эрнандо Кортес, кажется, не страдает от этой болезни, но путь в ту землю, такой широкий, вольный, морской, был завален всяческими установлениями, условностями, обетами, приказами, распоряжениями. Этот бумажный вал мог и вознести, и низвергнуть, одолеть его можно только с помощью золота. А его нет. Золото ещё надо добыть, утвердить свое право на него, пустить в дело — тогда плевать ему на Веласкеса! Вот почему нельзя кликнуть Аламиноса и приказать ему поднимать якоря. Он уже не тот желторотый юнец, которого можно увлечь красивыми словами.
Два года он торил тропку в сторону запада, собирал сведения, пролизывал брешь в сердце губернатора, помирился с ним, чтобы угодить Веласкесу, женился на Каталине Хуарес. Все это время готовил сеть, с помощью которой можно было уловить птицу-удачу. Сколько разговоров у него было с сеньором Ларесом и секретарем губернатора Дуэро. Наконец поладили, и за солидный процент от всех доходов, которые принесет экспедиция, уважаемые чиновники убедили Веласкеса, что лучшей кандидатуры на пост капитан-генерала, чем Кортес, ему не найти.
…Когда королевский казначей, призванный отсчитывать королевскую пятину, напомнил губернатору о Кортесе, Веласкес задумался. Доводы Лареса заслуживали внимания. Вложив все свои деньги в организацию военной экспедиции, Кортес становился полностью зависим от властей Фернандины. Кроме того, в случае неудачи похода на него можно будет свалить все грехи. В случае успеха подкрепления он сможет получать только с острова. Пусть эти три сотни отъявленных мерзавцев дерут глотки за Кортеса — он и в воинском деле славен, и с боевыми товарищами честен, — придавить их особого труда не составит. Трезвый взгляд на вещи подсказывал, что с таким войском в незнакомой, чуждой стране долго не продержишься. Их дело создать форпост на побережье, потом разберемся. С другой стороны, у губернатора действительно не было под рукой более подходящего и толкового человек, чем Кортес. Родственники подсказывали отдать командование племяннику Бермудесу, так тот, ещё пороха не понюхав, заломил такую цену, что губернатор выругал его «дурными словами» и выгнал вон. Пятину доходов потребовал, дурак! Вровень с королем и губернатором захотел встать!..
Вся эта интрига до малейшей детали стала известна Кортесу. Сердце зашлось, когда Веласкес предложил ему возглавить поход, однако ни единым взглядом, ни вздохом, ни тенью улыбки не выдал себя дон Эрнандо. В глазах преданность и благодарность, на устах мед и обещания. Кортес ни словом не возразил, когда в состав экспедиции были включены люди Веласкеса — и все на офицерские должности! Охеда, его домоправитель Ордас. Даже бровью не повел, когда услышал имя Хуана Эскудеро, бывшего альгвасила.[10] Этот негодяй выследил его и схватил, когда Кортес вышел из церкви, в которой прятался после первого побега из-под ареста. Дон Эрнандо был на все согласен — на месте разберемся. Прежде всего надо отплыть. Уйти в море законно, с разрешения Веласкеса, иначе бунт, разлад в войске, гибель…
Время! Медлить нельзя! Кого взять с собой на берег? Один, конечно, Пуэртокаррера, верный друг, земляк, другой должен быть из стана сторонников губернатора. Кто именно? Здесь нельзя ошибиться.
Кортес вдохнул полной грудью — не удержался, ещё раз глянул в сторону запада. В той стороне маняще перемигивались звезды…
Кстати, чтобы не застали врасплох, в шлюпку надо взять арбалетчиков. Оружие следует держать заряженным. От Веласкеса всего можно ждать! На берег высаживаться нельзя… Кого же захватить с собой из стана губернатора? Охеда? Этот туповат, может продать. Кроме того, мы никогда не ладили друг с другом. Надо кого поумнее, чтобы сразу сообразил, что с Кортесом он при деле и скоро будет в чести, а в случае задержки тоже всего лишится.
Кто?
Диего де Ордас! Домоправитель у Веласкеса. У этого голова на плечах, он своего не упустит. До мошенничества тоже никогда не опускался. Ох, по самой кромочке приходится ступать, по самому лезвию. Плевать!..
Кортес окликнул слугу, приказал вызвать начальника караула. Тот появился немедленно, будто ждал. Вошел в каюту.
— Это ты, Диас? — спросил дон Эрнандо.
— Так точно, ваша милость.
— Говорят, ты грамотен?
— Помаленьку царапаю, сеньор Эрнандо.
— Это хорошо. Это может пригодиться… Прикажи спустить на воду большую шлюпку. Гребцов шесть человек, двоих арбалетчиков. Оружие зарядить! Погрузить малый фальконет с тремя… нет с пятью зарядами.
— Ясно, ваша милость.
— Синьоров Пуэртокарреру и Ордаса ко мне.
В этот момент на берегу вдруг замелькали факелы, со стороны крепости блеснуло пламя и через несколько мгновений в чуть проклюнувшихся сумерках громыхнул выстрел.
— Впрочем, займись шлюпкой. Немедленно на воду!
По сходному трапу, вслед за побежавшим по ступенькам Берналем Диасом, Кортес выбрался на палубу. Здесь уже было полно народу. Отдельно, двумя кучками, стояли офицеры. Та, где собрались люди губернатора, была заметно многочисленнее.
— Сеньоры Пуэртокаррера и Ордас, прошу следовать за мной, — приказал Кортес.
— Куда вы направляетесь? — выкрикнул Кристобаль де Охеда.
— За благословением, мой друг, за благословением, — усмехнулся Кортес.
Потом он обратился к лиценциату Ольмедо и патеру Диасу, которым было предписано сопровождать экспедицию и позаботиться о спасении индейцев.
— А вы, святые отцы, приступайте к обедне. Ветер попутный, не будем терять времени.
— Вы что, сеньор Кортес, — недоверчиво спросил Охеда, — всерьез рассчитываете получить добро на выход в море?
— Обязательно, мой друг, обязательно, — с той же усмешкой ответил Кортес и, натянув тонкие перчатки, принялся спускаться в шлюпку.
Гребцы работали слаженно, мощно. При каждом рывке мелкая волна дробью постукивала о днище.
Диего де Ордас время от времени бросал на Кортеса настороженные взгляды, ожидая от этого, сорвавшегося с цепи висельника — так между собой окрестили дона Эрнандо сторонники губернатора — самой невероятной выходки. Пуэртокаррера, молодой, излишне чернявый человек — у него даже брови срослись и вечно торчала щетина — сидел мрачный. Он поглаживал рукоять шпаги и угрюмо посматривал в сторону приближающегося берега, где в сумеречном полумраке уже просматривалась все прибывающая толпа.
Дон Эрнандо украдкой глянул на товарища. Алонсо пойдет за ним до конца. Он все поставил на карту, если понадобится, будет драться. Как раз этого нельзя допустить ни в коем случае. Нельзя также позволить Ордасу вмешаться в разговор с губернатором.
— Сеньор Ордас, — обратился к нему Кортес. — Вы собственно зачем подались в Вест-Индию? Я слышал, у вас есть связи при королевском дворе да и здесь вы в чести у его превосходительства губернатора. Зачем вы решились принять участие в таком рискованном предприятии как наша экспедиция?
— Связи связями, — буркнул Ордас, — но когда в кармане пусто, ничто не поможет.
Тут он опомнился — глупо было вступать в разговор с человеком, который уже фактически числится в преступниках, пусть даже формально он ещё не снят с должности. Между собой сторонники губернатора уже делились соображениями, кто займет место Кортеса. Особенно злорадствовал Охеда… По мнению Ордаса, это было глупо. Если рассудить здраво, то предстоящая задержка экспедиции, связанная со следствием — а этого не избежать, так как Кортес не такой простак, каким прикидывается — никому из них не в радость. У Кортеса на руках веские козыри. В качестве капитан-генерала он вправе отдавать какие угодно приказания, касающиеся экспедиции. Не все ладно у губернатора и на Кубе, на Эспаньоле недоброжелателей у него тоже хватает. Они вцепятся в Веласкеса мертвой хваткой. Итак, задержка!.. Звуки этого слова мертвящей тоской отзывались в сердцах многих сторонников Веласкеса, особенно тех, кто внес свой пай в организацию экспедиции. Опять ожидание, безденежье, судорожные попытки расплатиться с долгами… Губернатор ни суальдо не возместит… С другой стороны — Ордас был честен с собой — никому из местных, кроме Кортеса, не потянуть руководство такой экспедицией. Этот способен слишком много взять на себя. В таком рисковом деле это необходимейшее качество. Что случится, если командующим пришлют кого-нибудь со стороны. Ясно, что тот явится с многочисленной свитой. Тогда ему, Ордасу, не видать своей доли добычи, как своих ушей.
— Выходит, сеньор Ордас, — поинтересовался Кортес, — вы неравнодушны к золоту? Я тоже. Однако честь, слава для меня тоже не пустые звуки. Должен заметить, что эти награды никогда не достаются лентяям или людям с робким сердцем.
— В этом я всегда был согласен с вами, сеньор Кортес, — усмехнулся Ордас. — Но мне также известно, что такое присяга.
— Вот об этом я и веду речь. Надеюсь, вы согласны с тем, что находитесь в моем полном подчинении?
— Да, — выдавил Ордас, успевший прикусить язык на слове «пока».
— Вот я и приказываю вам сидеть и молчать.
— Но если это нанесет ущерб чести!..
— Всякие «если» потом, — прервал его Кортес, — а пока исполняйте приказ.
Ордас насупился, отвернулся, глянул в сторону берега.
Между тем заметно рассвело — ещё несколько мгновений и на востоке полыхнет солнечным светом. Наступит день… В этот момент на берегу появился губернатор — на коне въехал прямо в воду. Шпага нелепо торчит в сторону, весь он был какой-то взъерошенный. Толпа на пляже заметно прибывала, жители спешили посмотреть на невиданное зрелище. Бунт не бунт. И не мятеж… Что-то вроде торжественных проводов. Все вроде бы чинно, благородно. Разве что губернатор немного не в себе, и корабли, ещё с вечера занимавшие места в гавани, теперь покачиваются на рейде. Почему кругом факелы?
Ордас поежился…
Шлюпка тем временем приблизилась к берегу на арбалетный выстрел.
— Суши весла! — неожиданно приказал Кортес. — Ближе не подплывать!
Суденышко заколыхалось на мелкой волне, несколько раз клюнуло носом, перевалилось с борта на борт и начало медленно дрейфовать вдоль берега.
— Вот как вы уходите, сеньор Кортес! — первым закричал Диего Веласкес и почему-то принялся махать шляпой — видно, хотел подозвать строптивого подчиненного поближе. — Нечего сказать, учтивая манера прощаться, укоризненно добавил губернатор.
В этот момент в крепости громыхнуло орудие. Залп был холостой, так как не было слышно воя пущенного ядра, и ахнувшая, отхлынувшая от берега толпа тут же вновь приблизилась к кромке едва наметившегося прибоя.
Этот выстрел обескуражил и самого губернатора.
— К чему такая спешка, кум? — уже более миролюбиво крикнул Веласкес.
— Простите, ваша милость, время не терпит. Бывают обстоятельства, когда лучше сделать шаг, а потом уже подумать. Сим, господин губернатор, объявляю, что я верный ваш слуга и полон благодарности за то, что вы в столь ранний час соизволили прибыть и проводить нас в дальний путь.
Тут же Кортес понизил голос и, обернувшись к гребцам, распорядился.
— Весла на воду! Навались!.. Держать на флагман.
Потом он вновь повернулся к берегу и крикнул.
— Ваша милость имеет ещё какие-нибудь дополнительные приказания?
Матросы, до той секунды сидевшие с разинутыми ртами — никогда ранее им не доводилось видеть такое теплое прощание — сразу встрепенулись, приняли озабоченный вид и в лад, несколькими гребками развернув шлюпку, погнали её к большому кораблю.
— Что? — взорвался губернатор. — Проводить?! Дать дополнительные указания?!
— Ясно, ваше превосходительство, — в ответ крикнул Кортес. — Я буду точно следовать данным вами наставлениям.
На берегу местный священник машинально осенил удалявшееся суденышко крестным знамением.
— Святой отец! — закричал губернатор. — Вы-то что делаете? Кого благословляете?.. — он не договорил и вновь замахал шляпой.
В крепости опять раздался пушечный выстрел. Подобный салют Веласкес уже не мог вынести, тем более, что в толпе раздались приветственные возгласы.
Губернатор как-то сразу сник, молча развернул коня и шагом поехал в сторону своей резиденции.
Повеселевший Кортес повернулся к Ордасу и дружески подмигнул ему.
— Так на чем мы остановились, сеньор Ордас? На верности присяге, не так ли?..
Говорил он громко — так, чтобы слышали гребцы.
— Вы кому присягали, сеньор Ордас? — спросил Кортес.
— Его католическому величеству, королю Испании, дону Карлосу первому, — ответил Ордас, потом поджал губы и ядовито вымолвил. — Я вас, сеньор Кортес, насквозь вижу. И не надо насчет присяги. Неужели вы надеетесь, что его милость, губернатор Фернандины, оставит этот ваш поступок без последствий?
— В этом вы как раз и ошибаетесь, — усмехнулся Кортес. Теперь и Пуэртокаррера заулыбался. — Разве я совершил что-нибудь противозаконное? Вы же ясно видели и слышали, что его превосходительство, губернатор Кубы Диего Веласкес де Леон дал нам добро на выход в море, а падре осенил нашу флотилию крестным знамением. Я имею право расценивать слова губернатора, как пожелание удачи и доброе напутствие.
Кто-то из аркебузиров не удержал и громыхнул баском.
— Попутного нам ветра…
Тут засмеялись все гребцы, а юнец Андерс де Талья вскочил и замахал беретом. Радостный рев ответил ему с кораблей.
— Ребята, — обратился к гребцам Кортес. — Теперь вперед за золотом. За славой? Возражающие есть?
— Не-ет!! — в один голос закричали солдаты.
— Это просто наглость! — воскликнул Ордас.
— Ошибаетесь, сеньор Ордас. Наглость — удел трусов, а это дерзость. Только храбрые способны дерзать. Наглец всегда тушуется, встретив отпор, а смельчак готов ответить за свои слова. Послушайте, Диего, — после короткой паузы продолжил Кортес. — Я не буду в тонкостях разбирать, чем для вас лично могло бы грозить возвращение на берег. Тем более не хочу пугать следствием, на котором вас спросят, почему мы смолчали, если поняли слова Веласкеса как приказ вернуться на берег. Был такой приказ? — в упор спросил Кортес.
— Нет, — также глядя прямо ему в глаза, ответил Ордас.
— Значит, действуют прежние распоряжения?
— Да.
— Хвала Господу, разобрались.
— Но я не намерен лгать своим товарищам!.. Я…
— Я вас призываю лгать? — воскликнул Кортес. — Упаси Боже! Я за то, чтобы вы честно рассказали вашим — нет, нашим! — товарищам все, как было. Мы все теперь связаны одной целью, среди нас не должно быть ни наших, ни ваших. — Тут он опять немного помолчал, затем спросил. — Как вы считаете, будет губернатор доверять вам после этого происшествия?
Ордас промолчал. Ох, и бестия, этот Кортес. Кто же знал, чем обернется дело? Сам Веласкес растерялся, а уж он подавно был связан приказом молчать. Теперь этот выскочка задает риторические вопросы. Значит…
— Значит, пришло время забыть о том, что мы оставили за спиной. Кортес выпрямился, голос его покрепчал. — Пришел час взглянуть туда, — он ткнул пальцем в зыбкую тьму, ещё густеющую на западе. Там ещё притухали сумерки… Все невольно обернулись в ту сторону, в этот миг солнце встало у них за спиной. Полыхнуло так, что воды разом загорелись золотистым светом. Разом грянул хор птиц в мангровых зарослях на берегу.
— Пришел час глянуть вперед, — продолжил Кортес тем же звенящим голосом. — Там нас ждут сокровища, которые не снились царям древности. Там нас ждет слава и прощение грехов. Ребята, вы жаждете славы?
— Да! — заревели все разом.
— Вы жаждете золота?
— Да!! — ещё яростнее закричали гребцы.
На их вопль эхом ответил рев с кораблей.
— А вы, Ордас? — спросил дон Эрнандо.
— Да-а! Да-а! — не удержался Ордас.
Тут вскочил Пуэртокаррера, принялся махать оперенной шляпой. Был он в кирасе, простеньких доспехах. Как отметил про себя Кортес, кожаные ремни, придерживающие левый налокотник, совсем истерлись. Впрочем, на правом вообще одной завязки не хватало. Потом капитан-генерал вновь обратился к Ордасу.
— Вот и скажите нашим товарищам, что надо смотреть вперед и не надо оглядываться назад.
— Ох, и бестия вы, Кортес! — не удержался от улыбки Ордас. — Как это я вас раньше не разглядел. Сколько вы дров наломали!
— Кровь играла, — просто ответил дон Эрнандо. — Хотел все сразу, а так не бывает, — он на мгновение примолк, задумался. — Хотя, наверное, бывает. Но редко. Надо запастись терпением…
— Но ведь мы же плывем к дьяволу в пасть! — яростно воскликнул Ордас. — Как вы намереваетесь поступить? У вас, наверное, и плана кампании нет!
— Нет, — согласился Кортес. — Но у меня есть нечто более важное.
— Что же именно? — поинтересовался Ордас.
— Я знаю людей.
Глава 2
Мои сподвижники, принимавшие участие в походе на столицу ацтеков Теночтитлан — теперь их, говорят, осталось не более двух десятков человек а также королевские летописцы и чиновники из Совета по делам Индий полагают, что начало великого предприятия следует отнести к 1517 году, когда экспедиция Кордовы отправилась на запад и наткнулась на новую землю, которую теперь называют полуостровом Юкатан. Они ошибаются… Почин был положен в тот день, когда я, шестнадцатилетний юнец, прибыл на каникулы из Саламанкского университета и заявил родителям, что больше ноги моей не будет в этом богоугодном заведении.
Отец мой, Мартин Кортес де Монрой, был капитаном королевской армии. Он был храбрый вояка, однако в ту пору в Испании храбрых вояк расплодилось великое множество. В удел отцу достался небольшой кусок земли в Эстремадуре — это была большая удача, хотя этого сокровища едва хватало на то, чтобы прокормить семью. О том, чтобы с его помощью выбиться в люди, нельзя было и мечтать. Другое дело, доказывал отец, юридическое поприще. Теперь, с окончанием Реконкисты для ученого законника открываются куда более богатые возможности. Тут и маменька вступила в разговор, принялась уверять, каким хилым, готовым каждую минуту отдать душу Богу ребенком я родился. Мне ли мечтать о военной карьере?..
Я настоял на своем и пригрозил сбежать в Италию к полководцу Гонсало Фернандесу де Кордова, если меня заставят вернуться в Саламанку. Великий капитан в ту пору воевал Неаполитанское королевство, и я поклялся непременно записаться в наемники.
На жизнь я смотрел жадными глазами и верил, что свою дорогу следует прокладывать с помощью шпаги, тем более, что с годами я выправился, раздобрел, и теперь не хвалясь могу сказать, что мне даже в молодости не было равных в искусстве владения холодным оружием. В ту пору я был не чужд и возвышенных размышлений — по этим вопросам мы много спорили в университете с лиценциатом Сауседой, который, в конце концов, сумел убедить меня, что Господь Бог создал человека как меру всех вещей. При этом он предлагал разбить эту мысль на два тезиса. Первый — «Бог создал человека» полагался бесспорным. Второй же требовал доказательств, добыть которые можно было только, осуществив предначертанное тебе. То есть, добившись успеха в жизни… Не взирая ни на какие обстоятельства, ни на какие установления — одним словом, не считаясь ни с чем! Вот почему, уверял он, жить радостно. Вот зачем создан этот мир! Смысл в том, чтобы утолить жажду ощущений. Чем они обильнее, тем полнее слияние с Господом нашим, который глядя на человека, должен испытать удовлетворение, что созданное им прекрасно. Для достижения этой цели необходимо было овладеть всеми качествами благовоспитанного человека. Прежде всего следует красиво драться на шпагах, изящно ездить на лошади, изысканно танцевать, всегда приятно и вежливо говорить и даже изощренно ораторствовать, владеть музыкальными инструментами, никогда не быть искусственным, но всегда только простым и естественным, до мозга костей светским и в глубине души верующим.
Кое-что из этих новомодных, дошедших из Италии веяний, я принял, однако будучи трезво мыслящим молодым человеком — испанцем, наконец полагал, что все эти достоинства стоят изрядных денег, которые добыть мне, выходцу пусть даже из древнего и благородного, но обнищавшего рода, на родине не удастся. Слава ждала меня в заморских краях, куда толпами устремились мои соотечественники — от сопливых юнцов до убеленных сединами мужей. Все, кто умел ловко обращаться со шпагой, в чьих карманах свистел ветер, бросились в Новый Свет ловить птицу-удачу. Как я, воспитанный на рассказах о подвигах Сида Кампеадора или Эрнандо Переса де Пульгара, который с пятнадцатью рыцарями проник в набитую осажденными маврами Гранаду и прибил свой щит на воротах мечети, — мог усидеть на месте?
В конце концов отец записал меня в свой полк и по моей настойчивой просьбе дал рекомендательное письмо к командору Овандо, который в те поры собирал экспедицию в Вест-Индию. Я явился в Севилью, в полк, нанес визит сеньору Овандо, однако судьбе было угодно, чтобы к месту своей будущей славы я добрался, получив несколько хороших оплеух, которыми удача так щедро одаривает любителей приключений. Перед самой отправкой в Новый Свет меня угораздило свалиться со стены, которая преграждала мне доступ к даме сердца. Падение кончилось серьезным вывихом ноги, я слег в постель. Флотилия отправилась без меня. Отлежавшись, я едва не умер от тоски никакая страсть или какое-нибудь иное побочное обстоятельство не могло оправдать потерю драгоценного времени. Ведь мне в ту пору шел семнадцатый год!
На приглашение слуги пожаловать к ужину дон Эрнандо, оторвавшись от раздумий, ответил, чтобы ему накрыли здесь, у окна, за верхней гранью которого показалось солнце. День клонился к вечеру, было тихо. Мясистый, разросшийся — выше человеческого роста — маис бесстыдно покачивал королевским убором. Приказать, чтобы его срезали? Глупо. Тем более, что прислуга в последнее время страшно обленилась, придется десять раз повторять одно и то же. Никакого почтения к заслуженной старости. Им, местным, все равно кому служить. Все они проныры и пройдохи… То ли дело годы его молодости. В ту пору слуги носились, как ласточки, никому не надо было дважды повторять. Я уж не говорю о честности и добропорядочности. Ну их!..
Трудно мне пришлось в те дни. Хандру сумел переломить с помощью простенького рассуждения — сколько ни валяйся, а вставать придется. К тому же этак недолго и навыки в фехтовании потерять! После отплытия Овандо, я принялся усиленно упражняться во владении мечом и шпагой. С коня не слезал, наловчился мастерски орудовать копьем, преуспел также в мастерстве лазания по стенам и проникновения в спальни прекрасных дам. Во всех этих искусствах я добился заметных успехов.
Второй урок мне преподнес некий купец из Севильи Алонсо Кинтеро, на корабле которого в составе купеческого каравана я наконец отправился в Вест-Индию.
Все торговые суда и военные корабли были забиты подобными мне, охочими до славы и золота идальго, кабальеро, эскудеро,[11] а также простым людом. Кинтеро среди всей этой ватаги являлся редкостным по неуемности и невезучести экземпляром. Более неудачливого пройдоху я не встречал. Мозг его не знал отдыха, он постоянно пребывал в задумчивости, морщил лоб, без конца составлял планы, как половчее объегорить ближнего своего и тут же делился ими со мной, желая получить одобрение у такого важного молодого человека, каким я ему представлялся. В первый раз из него плеснуло отчаянной решимостью на Канарских островах, где он ночью, украдкой снялся с якоря и, желая первым добраться до Эспаньолы и повыгоднее продать свои товары, вышел в море. Уже к вечеру того же дня наш корабль попал в жесточайший шторм, лишился мачты, так что бедняге пришлось вернуться. Сердобольные товарищи согласились подождать, пока судно будет отремонтировано. Немного оправившись, он опять начал морщить лоб и с нескрываемой насмешкой посматривать на соседние каравеллы. Как-то ночью он вновь удрал от каравана, опять попал в бурю, потом мы долго не могли поймать попутный ветер, сбились с курса и попали на Эспаньолу, когда его товарищи уже успели распродать свои товары.
На острове я первым делом отправился в резиденцию губернатора. К сожалению, Овандо не оказалось на месте — он был в походе. Меня принял его секретарь, мы с ним мило поговорили. Он обещал, что землю мне выдадут без всякой проволочки. Как будто я стремился через океан, чтобы рыться в земле, как мужик! Я нуждался в золоте!..
Эти слова пришлись по вкусу секретарю, мы подружились. С приездом Овандо и место устроилось — меня назначили нотариусом в селение Асуа. Жизнь постепенно налаживалась, меня принимали в обществе. Не отказывался я принять участие и в экспедициях по захвату и усмирению индейцев. Солдаты наглядно объясняли им, что милость короля не может изливаться безвозмездно, следовательно следует хорошенько потрудиться на золотых рудниках и приисках, а также в энкомьендах,[12] к которым индейцы были приписаны. Уже тогда неоправданная суровость воспитательных мер, а порой и откровенная, бессмысленная жестокость претили мне.
Страсть к пролитию крови всегда выглядит отвратительно. Только разум способен обуздать этот грех. Однако среди всех видов мучительства наиболее кощунственно выглядят человеческие жертвоприношения, когда кровь начинают пускать для того, чтобы умилостивить мерзких языческих идолов. Подобные обряды были в особой чести у ацтеков. Мотекухсома однажды признался, что по случаю какого-то языческого праздника принес в жертву разом двенадцать тысяч человек!
…Сидение на Эспаньоле, затем на Кубе, не прошли для меня даром. Сначала я близко сошелся с вновь назначенным губернатором Кубы Диего Веласкесом, потом в следствие известных событий мы рассорились и помирились только, когда я согласился сделать предложение Каталине Хуане Маркайдо, старшей сестре которой оказывал особые знаки внимания сам Веласкес. Губернатору мало было управлять Фернандиной, он ещё желал царствовать, насаждать добродетельные взгляды, оказывать покровительство… Что ж, я пошел у него на поводу — занялся сельским хозяйством, первым принялся разводить на острове домашний скот, взялся за намыв золота, что тоже приносило изрядный доход. Вскоре Веласкес, вновь подобревший ко мне и без стеснения, прилюдно называвший меня «кумом», назначил меня комендантом Сантяго. Так я начал зарастать мхом, покрываться шелухой скуки.
Всех нас разбудил Фернандо Кордова, открывший на западе огромный остров, названный им Рика. В последствии выяснилось, что это полуостров, имя ему дали Юкатан. Кордову я знал лично — это был смелый рассудительный человек, всегда готовый ловить и резать индейцев. В плавание он отправился с целью отыскать на новых землях жаждущих работать на плантациях и рудниках дикарей. В случае, если у них не обнаружится такого желания, Кордова мог воспользоваться охотничьими собаками и солдатами.
Бурей корабли Кордовы были отнесены к желтым откосам Юкатана — там они впервые увидали посреди морской глади огромное здание. Оно имело форму квадрата и ступенями поднималось прямо из воды. На вершине пирамиды была устроена площадка, вся испачканная засохшей кровью. Там же помещался свирепый идол, в бока которого вгрызались какие-то жуткие хищные твари из камня. Рядом лежала толстая, свернувшаяся кольцами каменная змея, заглатывающая громадного зверя, видом напоминающего тигра.
Еще большее изумление у команды вызвал город, раскинувшийся напротив капища, на противоположном, пологом берегу пролива. Золота там оказалось мало и все низкопробное, однако в направление на полночь, по утверждениям местных касиков, лежала страна, где благородными металлами мостят дороги и устилают пешеходные дорожки.
Этого известия хватило, чтобы жители Сантяго обезумели. Первым потерял голову сам Диего Веласкес. Никто не обратил внимания на невразумительность сообщения. Что значит «на полночь»? Ясно, что на север, но сколько дней пути до этой волшебной страны. Как труден путь? Сильна ли она? Ответов не было — бедняга Кордова сразу по прибытию скончался от ран, полученных в стычке с индейцами.
В апреле 1517 года в море ушел Хуан де Грихальва. Этому повезло больше, однако ему не хватило дерзости довести дело до конца и, вернувшись на Кубу, он получил обидный нагоняй от Веласкеса, чье самодурство особенно выпукло проявилось в этом случае.
В те дни, когда Грихальва привез золота на тысячи дукатов, встал вопрос об организации новой экспедиции к берегам Эльдорадо. Мог ли я упустить такую возможность?
Глава 3
Все сомнения исчезли, когда в ясных предутренних сумерках, на пологом берегу Юкатана, в прогалах тумана, который после бурной штормовой ночи клочьями относило к земле, — открылся город, размерами и блеском превосходивший Севилью. Впереди по курсу уже отчетливо просматривались желтоватые известняковые откосы выступающего в море мыса, а по правую руку смутно вырисовывались очертания острова Косумель. Там был назначен сбор флотилии… Дон Эрнандо только мельком повел подзорной трубой в ту сторону, потом вновь навел оптический прибор на удивительный город.
Это обиталище ничем не походило на первобытные селения туземцев, в которых ему доводилось бывать на Кубе и Эспаньоле — следовательно ни о каких облавах, которые колонисты устраивали на индейцев на тех благословенных островах, и речи быть не может. Борьба предстояла трудная, не на жизнь, а на смерть. Пути назад не было — надежды на быстрое нахождения золота и плодородных земель, с помощью которых можно было бы откупиться от Диего Веласкеса, растворились бесследно. Кортес невольно оторвал глаз от окуляра, поморгал, глянул вверх — легкое облачко стремительно таяло в бирюзовом светлеющем небе. Не его ли птица-удача этот тончайший клочок тумана?
Вновь обратившись к пейзажу за кормой, наблюдая в подзорную трубу гигантские ступенчатые пирамиды — сама высокая вздымала к небу одиннадцать ярусов, по ним впору было шагать великанам, — он внезапно ощутил гулкую пустоту в душе. Страха не было, изумление приглушило его. До этого момента он не очень-то доверял рассказам господ офицеров и солдат, участников экспедиций Кордовы и Грихальвы, их немного наивным и пылким признаниям, что при виде подобных сооружений они потеряли дар речи. Признавались они в этом легко, даже весело, без тени страха. Кортес усмехнулся — такие это были люди, выросшие в борьбе с куда более могучим и ужасным противником, каким были мавры. Из века в век их прадеды, деды и отцы вели борьбы с неверными. Умение воевать было у них в крови, владение оружием было им в охотку. Смыслом их жизни было утверждение истинной веры — не крестом, так мечом, разницы не было. Тем более в этих заморских краях. Разумеется, они жаждали золота, мечтали грести его лопатами… Затаив дыхание, слушали рассказы бывалых, пронырливых людей, которые клялись и божились, что своими глазами видели улицы, устланные листами из золота, вот такие же пирамиды, сверху донизу облицованные кирпичами из серебра…
Золото было желанным — и обязательным! — добавком, особенно для тех, кто первыми распахнул дверь в Новый Свет. И все-таки брани с туземцами казались им скорее крестовыми походами, продолжением той священной войны, которую вели их предки, с магометанами, чем походами за добычей. Они поднимали оружие на язычников!.. Забота о душах индейцев открывала путь к собственному спасению. Обращение на путь истины хотя бы одного, погрязшего в язычестве, туземца могло списать великое множество собственных грехов.
Это мнение являлось общепринятым, его разделяло большинство здравомыслящих конкистадоров, исключая отъявленных бандитов и негодяев. Правда, попадались и такие, как патер Лас Касас, которые всерьез начинали задумываться над тем, что постыдно губить индейцев. Они точно такие же люди, как и племя кастильцев, и поэтому мало заботиться только об их вере. Их следует признать равными себе. Позаботиться об их нравственности, воспитании, образовании наконец. Поданные его величества, католического короля дона Карлоса по отношению к Спасителю нашему, Иисусу Христу не могут делиться на два разряда. Все мы обладаем равными правами перед Господом. Дон Эрнандо считал подобные настроения несвоевременными. В ту пору, когда они спорили с Лас Касасом на эту тему, Кортес был слишком беден, чтобы сметь думать по-своему, жить по-своему. Нищему на этой грешной земле не дано вкусить тех сокровищ, которые дарует разумным тварям жизнь. Все, что ему дозволено, это бесплатно вдыхать воздух, пользоваться на дармовщинку ключевой водой, ютиться в холодной лачуге — за все остальное надо платить. Тот, кто не владеет золотом, не вправе рассуждать о заоблачных высотах. Мирянину не дозволено читать Библию, тем более толковать её — на том держалась святая римская церковь.
…Каменные ограды вокруг пирамид сложены из гладко отесанных блоков. На ближайшей к морю стене заметны следы красок: охры, голубой, желтой, зеленой. На морском берегу, у самого края мангровых зарослей, были выставлены каменные стелы в три, а то и в четыре человеческих роста. Сверху донизу они были покрыты резьбой — на передней плоскости одной из них Кортес сумел разглядеть резные очертания человеческой фигуры. Алтари на вершинах пирамид были испещрены изображениями отвратительных змеиных голов, скалились какие-то жуткие рожи, невиданные, похожие на ужасных львов, звери совершали ритуальные шествия. В ожидании восхода по крутой лестнице на вершину одной из пирамид взбиралась процессия — солдаты рассказывают, что именно там они безжалостно режут свои жертвы…
Вот ещё от чего стало трепетно на душе — чем в предстоящем походе могло помочь ему знание человеческой натуры? И вообще, люди ли они? Судя по индейцу Мельчорехо, местному уроженцу, которого захватили в плен солдаты Грихальвы, должно быть, люди. По крайней мере, Мельчорехо кажется человеком. Только гадким каким-то, мелкотравчатым… Одним словом, поганка, а не человек. К тому же туп, как деревяшка — за все это время едва выучил несколько фраз на кастильском. Все ли туземцы здесь таковы? С какой стороны за них взяться? И покруче!.. В этом желании не было ничего личного, ничего корыстного — такова воля Господа. Он, дон Эрнандо, всего лишь его покорный исполнитель, и награду получит по заслугам. Как же иначе? Его долг честно и до конца следовать девизу, который написан на черном бархатном, расшитом золотом, с красным крестом, от которого отходят белые и голубые лучи, знамени. Его личном штандарте…
«Друзья, последуем за крестом — вера в это знамение доставит нам победу!»
Кормчий Аламинос, повеселевший после шторма, поднялся на кормовое возвышение, махнул рукой в сторону исчезающего в густеющей дымке города.
— Мы уже проплывали здесь с Грихальвой. Народ тогда выбежал на берег, начали размахивать черными полотнищами. Пристать, что ли, призывали?.. Не знаю… Только Грихальва приставать не решился. При таком свежаке отсюда до острова Косумель несколько часов хода. К полудню доберемся.
В этот момент с первыми солнечными лучами юнги на палубе грянули: «Благословен будь, свет дневной». Кортес сложил трубу и коротко распорядился.
— Поспешите, Аламинос, нам нельзя терять время.
* * *
Весь недолгий путь вдоль побережья Кубы, от Сантяго до Тринидада с заходом в Макаку, где Кортес приказал конфисковать запасы продовольствия в поместье, принадлежащем короне (он назвал это «королевским займом»), ему не давали покоя отрывочность и недостаток сведений о тех землях, куда они направлялись. Побережье Юкатана было обследовано только с южной, восточной и северной сторон. Аламинос, например, уверял, что Юкатан остров, однако никаких вразумительных доводов в защиту своего утверждения привести не мог. После сражения возле города Чампотона на северном побережье Юкатана Кордова вернулся на Кубу. В том бою он положил двадцать человек, более полусотни было ранено. Сам он уже на Кубе скончался от полученных ран.
Грихальва сумел подняться на несколько десятков лиг[13] дальше, до устья реки Табаско. Здесь, на Табаско, его встретили вполне дружественно. Золота, которым местные касики одарили испанцев и которое было получено в обмен, оказалось на двадцать тысяч кастельяно. Там же впервые, как утверждают участники похода, они услышали о стране «Culua» или «Mexico», откуда к туземцам поступал драгоценный металл. В той стране много курящихся гор, там обитают боги. Туземные, конечно. Кровожадные и ненасытные… Затем Грихальва отправился ещё дальше на север. Сначала местные индейцы повсюду были настроены миролюбиво, даже одарили его большими курами, которых испанцы называют «зобатыми»[14] затем вдруг впали в воинственный пыл. Произошло сражения, в котором был ранен сам капитан-ганерал и около шести десятков его людей. В дальнейшем дон Хуан де Грихальва уже не отваживался высаживаться на берег.
В чем причина поражений Кордовы и Грихальвы — вот над чем стоило поломать голову. Какой линии следовало придерживаться в этих краях? Эти вопросы не давали покоя дону Эрнандо. Было ясно, что решающее сражение теперь совершенно очевидно, что без него не обойтись — следует оттянуть на возможно более длительный срок. Трудность заключалась в другом — сумеет ли он удержаться на своем посту до этого решающего события? Нельзя допустить раскола в собственных рядах, необходимо напрочь искоренить корни возможного бунта. Но и с этим спешить нельзя! Прежде всего необходимо запастись как можно большим количеством провианта. Люди должны быть сыты — это первейшее условие! Тогда на них можно положиться, тогда только можно ожидать точного выполнения приказа, поддержания дисциплины на должном уровне. Как говорит Берналь Диас — когда брюхо сыто, половина горя с плеч. Эти ребята воевать умеют. Тот же Диас… Толковый парень, несмотря на то, что является дальним родственником или земляком Диего Веласкеса. Храбрый солдат, рассуждает здраво, мыслит просто и смело, к дисциплине приучен. Грамотен… Уверяет, что атаку нашей пехоты индейцы выдержать не в состоянии. Посоветовал отпустить всем бороды, для туземцев бородатые люди — ошеломляющая невидаль. Какого-то бога они им напоминают. Какого?.. Кто бы мог растолковать. Хохочет, когда рассказывает, что у дикарей при виде наших лошадей и огнестрельного оружия начинают поджилки трястись. Педро де Альварадо — или, как его прозвали в отряде, «красавчик» — предложил заранее пошить хлопчатобумажные кафтаны, которые вполне способны защитить воинов от стрел, которые собственно только и могут причинить вред нашим солдатам. Воевать в доспехах в тех местах жарковато.
Вообще, с набором людей в Тринидаде Кортесу повезло. Около сотни отчаянных храбрецов, участников похода Грихальвы, отдыхавшие в тех местах, записались в войско. Среди них были и благородные идальго — тот же Педро де Альварадо с братьями, Кристобаль де Олид, Алонсо Авила, Хуан Веласкес де Леон, родственник губернатора, Гонсало де Сандоваль…
Между тем губернатор Кубы никак не мог успокоиться. Он прислал в Тринидад старшему алькальду,[15] своему шурину Франсиско Вердуго приказ сместить Кортеса и задержать экспедицию до выяснения всех обстоятельств. Растерявшийся Вердуго, получив предписание, решил посоветоваться с Диего Ордасом, как наиболее близким к губернатору человеком. Тот, услышав о задержке и сообразив, чем это пахнет для него лично, помчался к Кортесу. Дон Эрнандо спокойно выслушал его и ничем не выдал радости — хвала Господу, губернатор, кажется, совсем потерял остатки разума, если упоминает о задержке! Капитан-генерал тут же собрал господ офицеров, на котором твердо заявил, что не намерен сдавать командование. Ни под каким видом! Тем более, что никакой вины за собой он не знает, разве что иногда дает некоторые поблажки подчиненным. В подтверждение своих слов он зачитал пункты наставлений, которые получил от губернатора. Все предписанное он исполнял в точности, действовал в рамках закона и обычая. Даже захват беспалубной бригантины торговца Хуана Седеньо, которые вез с Ямайки хлеб и сало на кубинские рудники, нельзя считать пиратством, так как вышеозначенный Седеньо вместе с экипажем после доверительного разговора с капитан-генералом испытал горячее желание принять участие в таком богоугодном деле, как их славный поход. Охеда язвительно заметил, что бедному торговцу, лишившемуся всего груза, ничего другого не оставалось, однако дон Эрнандо спокойно заявил, что в таком опасном, одобренном королевскими властями на Эспаньоле предприятии он не может допустить, чтобы его храбрые солдаты голодали.
Что касалось других параграфов, среди коих на первом месте значилась проверка слухов об испанцах, поданных короны, томящихся у туземцев в неволе, далее разведка и по возможности точное навигационное описание побережья к северу от Юкатана, налаживание связей с местным населением, сбор сведений о них, поиск проходов в Амазонку — страну населенную отважными женщинами-воительницами и богатую золотом, а также в неизведанный край «Mexico», где во всем данным расположено долгожданное Эльдорадо капитан-генерал подтвердил, что будет неукоснительно соблюдать все указанные пункты. Особенно те, где говорится о правомочности применения чрезвычайных мер для создания запаса вооружения и провианта.
Потом он вновь вернулся к вопросу о поблажках и послаблениях. Этот недостаток, объявил Кортес, глядя на Охеду, он постарается исправить в самое ближайшее время. Он сумеет поставить дисциплину на должную высоту. Власти и решительности у него достанет.
Поговорить с Вердуго, по общему мнению, следовало Диего де Ордасу. Он дружески побеседовал с Франсиско, сообщил, что ничего предосудительного в поступках капитан-генерала не заметил. Потом напомнил алкальду, как много недругов у Веласкеса на Кубе, особенно после того, как тот попробовал устроить передел репартимьенто. Недруги губернатора так и ждут, когда же Веласкес оступится, а в деле с Кортесом Диего, по-видимому, совсем потерял голову. Стоит только солдатам узнать о попытке сместить Кортеса, о предстоящей задержке экспедиции, они разнесут весь Тринидад к чертовой матери.
Вердуго со страха замахал на приятеля руками — он сам все понимает, но как об этом сообщить губернатору? Вот так и сообщить, посоветовал Ордас, при этом добавить, что для усмирения возможного бунта необходима военная сила, каковой у вас нет. Впрочем, как и у самого Веласкеса — большинство мужчин, владеющих оружием, записались в войско к Кортесу.
— Ох, Диего, Диего, — посетовал Вердуго, — должен признаться, я восхищаюсь доном Эрнандо. Это такой ловкач, каких свет не видывал. Слыхали, какую шутку он сыграл с городскими кузнецами? Кортес заказал им большую партию наконечников для пик и арбалетных стрел.
— В долг, конечно, — усмехнувшись спросил Ордас.
— Конечно, в долг, — вновь замахал руками Вердуго, — но не в этом дело. Кортес предложил им получить плату за свою работу знаете с кого? С индейцев! Что вы думаете — эти болваны все, как один, завербовались в его отряд. То же самое сотворили и корабельные плотники!.. Люди помешались на золоте, все желают поучаствовать в дележке добычи. Никакого золота ещё нет в помине, а они уже считают доходы. Как вам это нравится?
— Это ещё что, — отозвался Ордас. — Его дружок Пуэртокаррера приглядел у кого-то из местных прекрасную чалую кобылу, отличного боевика. Встретив хозяина в городе верхом на коне, он поделился с Кортесом своей мечтой. Тот, не долго думая, срезал со своего новенького, роскошного камзола галуны из золота и предложил их владельцу за скакуна. Плата была не велика, но они сторговались!.. Пуэртокаррера прискакал в гавань на этом скакуне, все солдаты и моряки сбежались поглазеть на коня…
— Я и говорю, люди с ума посходили. Ладно, всякая рвань, но мастеровые…
Диего де Ордас поиграл бровями.
— Пока ему отчаянно везет, в нашем деле это первейшее достоинство. К тому же разумен — хотя держит дистанцию, но сверх меры не заносится. Франсиско, если рассуждать здраво, следует согласиться, что он пока ни разу не споткнулся. Вот когда промахнется… Напиши губернатору, что мы не спускаем с него глаз.
История повторилась и в поселке Сан-Кристобаль на северном побережье Кубы. Ныне это местечко называется Гавана. Местный вице-губернатору, очарованный Кортесом, получив приказ арестовать Кортеса и доставить под конвоем в Сантяго, ответил, что захватить вождя среди преданной ему армии бессмысленное и опасное дело.
Здесь к экспедиции присоединились Диего де Сота (но не Рохас Богатый), Франсиско де Монтехо и Хуан де Нахара (который не Глухарь).
К началу февраля вся флотилия за исключением кораблей под командованием Диего де Ордаса и Педро де Альварадо, заранее посланных к побережью Юкатана, к острову Косумель, где была назначено место встречи, собрались у мыса Сан-Антонио. Здесь капитан-генерал обратился к войску с напутственной речью.
«…великая награда, — в заключение сказал он, — ждет вас. Но её можно приобрести только беспрестанными и упорными трудами. Только тяжкими усилиями свершаются замечательные деяния. Слава никогда не была уделом лентяев. Я сам работал неутомимо и отдал на это предприятие все, что у меня было — и все из любви к славе, потому что это — благороднейшая награда для человека. Если же кто из вас предпочитает славе звонкую монету, то и это достижимо. Будьте только верны мне, и я сделаю вас обладателями сокровищ, каких свет не видывал, какие и во снах не могут привидеться вашим соотечественникам.
Нас мало числом, но мы сильны духом. Если вы не дрогнете в бою, то будьте уверены — Всевышний, никогда доселе не оставлявший испанцев без помощи в боях с неверными, и теперь защитит вас. Наше дело — дело правое. Осененные крестом идете вы в сражение…»
Слушали его молча, с угрюмыми, словно окаменевшими лицами. Над океаном во всю ширь вставала заря. Лиценциат Диас и отец Ольмедо сразу после окончания речи командующего грянули «Te deum». Солдаты и матросы подхватили разом. Выражения лиц их не изменилось, только кое у кого по обветренным, загорелым щекам потекли слезы. Капли терялись в бородах, легкие полнились под напором свежего ветра, так отчаянно задувавшего с востока. Золотые, с красными полосами по краям, украшенные королевскими коронами флаги; белые, с изображениями орлов, красные, с крестами; яркие штандарты гулко захлопали на мачтах; затрепетали вымпелы. Матросы помчались по вантам — скоро широкие паруса наполнились ветром, вода обильно, с шумом потекла вдоль бортов.
Корабли взяли курс на запад…
* * *
Первым делом, добравшись до острова Косумель, Кортес выслушал доклады старших офицеров и капитанов кораблей о повреждениях, полученных во время шторма, о времени, потребном на ремонт. Невозмутимо принял известие, что малая каравелла под командой Франсиско Морлы, камердинера губернатора Диего Веласкеса, до сих пор не прибыла к назначенному месту сбора. Потом Педро де Альварадо шутя рассказал о совершенном им по вражеской территории рейде. Командующий помрачнел и напомнил — угоном людей и отнятием имущества дело мира утверждается худо. На что беспечный Альварадо воскликнул.
— Великое дело, кур захватили! К тому же я приказал взять только сорок штук и ни единой птицей больше. Поселок оказался брошенным… Ну, солдаты, конечно, обследовали хижины и языческие кумирни. Добычи — мизер! Какие-то, похожие на бумазейные, коврики, да несколько коробок с мелочью. Ничего серьезного…
— Людей в полон взяли? — также спокойно спросил капитан-генерал.
— Какие там люди! Туземная баба да два старика… — ответил Альварадо и вытер пот с лица.
Здесь под сенью пальм, в безветрии, уже ощущалась влажная томительная духота. Над верхушками палаток просматривалось ярчайшей бирюзы море, над которым едва заметными в дрожащем воздухе горбами, вставали холмы материка. Педро де Альварадо был высок, жилист, не лишен звериной грации. Волосы светлые, кудрявые, борода с рыжинкой, голубые глаза — он был очень хорош собой. Правда, беспечен не в меру, однако, к удивлению Кортеса, особой хвастливостью не отличался, хотя эти пороки, по мнению дона Эрнандо, обязаны были сочетаться. По свидетельству очевидцев, в бою Альварадо вел себя отважно и, главное, надежно. Приказы исполнял неукоснительно, себя не щадил. Вот разве что какая-то патологическая жестокость, с какой он обращался с индейцами, внушала сомнения в рыцарском строе мыслей этого любителя приключений. Причем срывался он внезапно. Ни с того, ни с сего вдруг впадал в неукротимый гнев и кровожадность — в такие минуты он был страшен. К тому же ещё не очень сведущ в дисциплине, раз позволил себе вопреки запрету совершить «рейд» по местным индейским селениям. С этим надо было кончать сразу и бесповоротно.
— Сеньор Альварадо, — тихим голосом приказал капитан-генерал, извольте распорядиться, чтобы все, что было унесено из селения, было немедленно собрано. Пленных привести сюда — надеюсь, никому не пришло в голову нанести ущерб женщине?
— Да что вы? — развел руками обескураженный Альварадо, почуявший неладное.
— Сами отправляйтесь на корабль под домашний арест. На двое суток… В следующий раз на вас будет произведен вычет в счет вашей доли добычи. Мы сюда явились не за ковриками и курами! Ступайте!..
Подобный нагоняй на славного офицера, ветерана похода Грихальвы, произвел неприятное впечатление. Тут ещё Кортес приказал подвергнуть телесному наказанию матроса, которого уличили не только в краже шматка сала у одного из солдат, но и в присвоении запеченной на углях трофейной курицы. Молодежь начала шушукаться, однако ветераны помалкивали. На все вопросы, возмущенные замечания новобранцев, они только пожимали плечами, как бы говоря — поживем-увидим. Однако туземные коврики, золотые безделушки из низкопробного золота, две старика и индейская баба были доставлены быстро и беспрекословно.
Вот когда Кортес не смог сдержать гнев — выругался длинно и витиевато. Он едва удержался, чтобы не пнуть ногой толмача Мельчорехо. И пнул бы, если бы не решил, что это нанесет ущерб его чести. Неудача с этим тупицей связывала его по рукам и ногам. Без языка, в чужой стране, среди чуждого народа, способного строить такие города — это была настоящая беда! Мельчорехо и старики-туземцы изъяснялись на одном языке, однако в изложении Мельчорехо понять, что лопотали трясущиеся от страха — оба в набедренных повязках с пропущенными вперед концами материи — индейцы можно было с трудом. В основном изъяснялись на языке жестов, таким способом дон Эрнандо и сам мог объясниться с пленниками. Кое-как удалось втолковать старикам, что бородатые люди хотят мира и желают поговорить с их вождем. Пусть старики и женщина возвращаются к своим и заберут все, что было по недоразумению взято в поселке. Кроме кур… Кортес с сожалением развел руками — кур уже не вернешь. Поздно… Как же объяснить? Он сказал, обращаясь к переводчику — скажи, что кур уже съели. Тот, постоянно заискивающе и жалко улыбавшийся, вдруг расцвел и принялся с грозным видом что-то объяснять местным жителям. Те принялись кивать, потом один из них робко взглянул на капитан-генерала и робко развел руками. Точь-в-точь, как Кортес. Тот вздохнул с облегчением — хвала Господу, договорились!
Также через пень колоду приходилось объясняться и с местными касиками, которые сначала по одиночке, потом группой — видно, собрались со всей округи — пришли в лагерь испанцев. Кортес между тем вызвал Берналя Диаса и приказал ему заняться с Мельчорехо кастильским. Серьезно заняться, чтобы можно было понять, что он там талдычит… Так вышло, что Берналь стал присутствовать и при беседах с касиками. После одной из них дон Эрнандо собрал ветеранов и спросил, как понять постоянно упоминаемое вождями в разговоре слово «кастилан»?
— Надо расспросить обо всем подробно. Завтра, как хотите, а надо выяснить — нет ли в здешних местах испанцев.
По утверждениям вождей, действительно по ту сторону пролива в неволе находятся бородатые люди, которые называют себя «кастилан». Их даже можно выкупить, они со своей стороны готовы послать пирогу на север, к мысу Каточе, откуда посуху можно добраться до сильномогучего царя тех мест, который дал приют испанцам. Дон Эрнандо тут же распорядился послать к этому мысу каравеллу под командованием Диего де Ордаса, которому предписывалось дождаться томящихся в рабстве соотечественников.
Между тем лагерь заметно обустроился, оброс подобием ограды, артиллерийскими позициями, кузней, столяркой, плотницкой, загоном для лошадей. В сопровождении небольшого отряда солдат и местных вождей дон Эрнандо приступил к обследованию острова. Особенно его интересовали языческие капища, представлявшие из себя ступенчатые пирамиды, которые ему довелось наблюдать на побережье Юкатана. Остров Косумель считался у местных индейцев, чем-то вроде святой земли, куда совершали паломничества не только обитатели Юкатана, но приплывали из более отдаленных мест. Например, оттуда — и Мельчорехо махнул в полуденную сторону и тут же испуганно добавил, что золото там вообще не водится. Там джунгли, болота, широкие реки… Потом он кое-как растолковал капитан-генералу, о чем говорили местные жрецы. Вот этот храм — Мельчорехо указал на самую высокую пирамиду — выстроен в честь великого бога Кукулькана. Это был славный вождь, который после смерти обернулся в «Пернатого змея». Чтобы оказать почести этому могучему господину, здесь и собрались люди. Ужасное суеверие, возмутился Кортес. Господь — один, поклоняться следует только животворящему кресту. Сокрушить, приказал он солдатам, мерзкое капище и немедленно! Патеры Ольмедо и Диас всполошились, начали призывать к благоразумию, пытались убедить командующего, что не следует рубить с плеча. Акт веры есть дело добровольное, результат просвещения. Что прежде надо начать с детишек. Крещение — это великое благодеяния для заблудших душ, великое таинство, и может состояться только с их полного согласия и готовности причаститься святой истине. Неразумное рвение не угодно Богу. Глупости, не согласился с ними Кортес, я сам им все объясню. Битый час он с помощью Мельчорехо пытался втолковать перепугавшимся сначала, а потом все более испытывающим интерес индейцам, что такое Пресвятая Троица, Отец и Сын и «Espiritu Santo» — «Святой дух». По его приказу из лагеря доставили изображение Богоматери с младенцем на руках. Индейцы толпами полезли к иконе. Каждый хотел потрогать её руками, Кортес между тем все вещал. Указывая на младенца, назвал его Спасителем, который претерпел за всех нас. И за вас тоже — он обвел рукой многочисленную толпу полуголых, восхищенно разглядывающих картинку людей. Тут же шустрые ребята из новобранцев взобрались на вершину пирамиды, преодолевая брезгливость — все вокруг было испачкано запекшейся человеческой кровью — скинули вырезанную из камня змею с крылышками. Кортес, падре Ольмедо и Диас осенили крестным знамением ахнувшую толпу. Кое-кто даже в страхе присел на землю, ожидая мгновенного и неотвратимого наказания, которому могучий Кукулькан подвергнет незваных пришельцев. Однако небо по-прежнему ласково посматривало на своих сыновей, солнечные лучи поигрывали в листве, ветерок совсем стих, и в наступившей тишине послышался топот. Толпа раздалась и к Кортесу подбежал вестовой.
— Ваша милость, ваша милость! — с несказанной радостью на лице выкрикнул он. — Каравелла сеньора Морлы вернулась!..
Дон Эрнандо перекрестился. Солдаты, на мгновение замершие, попадали на колени.
«Чудо! Великое чудо!» — шепоток побежал их рядам. Патер Ольмедо, возвестив хвалу Господу, объяснил, что пока рано говорить о чуде, скорее всего это благоприятное стечение обстоятельств, но в любом случае проявление безмерной милости Всевышнего, ибо ничто в мире не свершается помимо воли Господа Бога.
Индейцы с любопытством наблюдали эту сцену. Мельчорехо кое-как объяснил, что у «кастилан» большая радость. Эта женщина с ребенком на руках сотворила чудо и вернула им большую пирогу. Выходит, её милость сильнее, чем гнев грозного Кукулькана, спросил его один из вождей и искоса глянул на обломки оперенной змеи. Выходит так, развел руками Мельчорехо.
К вечеру на тщательно отмытой, расчищенной от мусора вершине пирамиды каменщики-индейцы возвели алтарь, перед ним установили изготовленный плотниками Алонсо Ианесом и Альваро Лопесом деревянный крест.
Чудо не чудо, рассудил наедине с собой Кортес, укладываясь спать и подводя итоги дня, а знамение налицо. Морла тоже молодец! С ним случилось самое страшное, что может случиться с кораблем в бурю. У них сорвало руль, и утром — бывает же такое! — они обнаружили его плавающим неподалеку от корабля!
* * *
Через два дня, так и не дождавшись известий о томящихся в неволе «кастилан», на Косумель вернулся Диего де Ордас. Подобное своеволие вызвало откровенное неудовольствие Кортеса — ведь тому было ясно сказано, что следует дождаться индейской пироги, которая была послана в те места с дарами для местных правителей и с предложением выкупить белых соплеменников. Однако делать было нечего, и утром следующего дня флотилия снялась с якорей и вышла в море. Взяли курс на север — так, чтобы обогнув мыс Каточе, выйти в места, где уже побывали Кордова и Грихальва, и двинуться дальше наполночь. Ушли недалеко — у одного из кораблей, груженых хлебом, открылась течь, так что пришлось вернуться к месту прежней стоянки и заняться ремонтом.
Утром следующего дня с выставленного на побережье поста прибежал посыльный и сообщил, что со стороны Юкатана к острову приближается лодка с семью индейцами на борту. Кортес приказал устроить засаду, и, когда туземцы сошли на берег, Андрес де Талья, молодой парнишка, примкнувший к экспедиции в Тринидаде, отрезал им путь к отступлению. Несколько индейцев со страху бросились к пироге, в этот момент один из туземцев крикнул им что-то по-своему, затем подошел к Андресу и с заметной натугой выкрикнул: «Бог, Святая Дева, Севилья!»
Испанцы остолбенели, а незнакомец вдруг обнял юношу и зарыдал навзрыд.
Всю группу привели в лагерь. Никто из испанцев, собравшихся возле шатра капитан-генерала, не мог определить, кто из гостей их соотечественник. Все они были полуголы, все держали весла на плечах. Острижены на обычный для туземцев манер — обрезалась только челка, остальная грива закидывалась назад либо связывалась пучком на затылке. Наконец, один из гостей вышел вперед, снял весло и, по индейскому обычаю, коснувшись ладонями сначала земли, потом лба, объявил, что его зовут Херонимо Агиляр.
…История его напоминала жуткую сказку. Родом он был из Эсихи — у него в отряде даже земляк нашелся. За море отправился с доном Кристобалем Колоном, сопровождал его в последнем четвертом путешествии… Обосновался в Дарьене, откуда в 1511 году под командой сеньора Вальдивии пошел в плавание на Гаити, в город Санто-Доминго. Вальдивия должен был дать отчет губернатору Эспаньолы о мятеже, разразившемся в Новой Андалузии, а также доставить двадцать тысяч золотых дукатов, которые в качестве королевской пятины должны были внести в казну.
Возле Ямайки их каравелла села на мель, ночью разразился шторм. Спаслось двадцать человек, включая женщин. Тринадцать дней лодку носило по морю, у них не было ни пищи, ни воды, и до того момента, когда они достигли берегов Юкатана, около половины моряков умерло.
Здесь они попали в плен к индейцам. В первый же день Вальдивию и ещё четверых его товарищей туземцы съели, оставшихся посадили в деревянную клетку.
Слава Всевышнему, той же ночью им удалось бежать. Долго скитались по джунглям — жуткое место, этот тропический лес, добавил, переведя дух Агиляр, просто наказание Господне, — пока не попали в плен к правителю города Шаман-Самы Ах Кин Куцу. Им повезло — этот Ах Кин Куц оказался смертельным врагом того жестокосердного касика, который расправился с их товарищами. Поэтому он сохранил им жизни, но сделал рабами. Работа была такая, что через год в живых их осталось только двое: он и Гонсало Гереро. Тот похитрее оказался, втерся в доверие к касику, теперь обзавелся семьей трое детишек у него — ходит в главных советниках у царя. Веру языческую принял…
Кое-кто из слушателей тоненько вскрикнул, другие принялись удивленно переглядываться.
— А я, — с трудом подбирая слова, коверкая звуки, продолжил Херонимо, — как только услышал про вас, дыхание затаил. Скоро к царю пришли индейцы, принесли дары… Ах Кин Куц — он, вообще-то, человек не злой — сказал, чтобы мы сами решали. Что тут было решать! Я был готов в ту же минуту мчаться на берег, нанять лодку. Если бы не Гереро… Я начал его уговаривать, грозить страшным судом за измену христианской вере. Тут в меня его баба вцепилась, принялась ругаться. Начала кричать, не будет её согласия. Потом взялась за Гереру — наплодил, мол, ребятишек, теперь бросить собираешься. Тот и сник, спаси Всевышний его душу.
Кортес щедро наградил доставивших Агиляра индейцев — от всей души отсыпал им стеклянных бусин, подарил по зеркальцу, просил передать своему властелину, что не имеет злых намерений и идет в их земли с миром, дабы открыть им великую истину и спасти их души. Говорил он все это торжественным тоном, сдвинув брови — Агиляр перевел все в точности. Индейцы заулыбались, закивали, начали бить поклоны, с тем и отправились домой. Тут же солдаты пристали к Агиляру с расспросами — много ли золота у этого самого Куца. Ответ их разочаровал — благородных металлов у здешних индейцев мало, золото худое, и где они его берут, он не знает.
Глава 4
Хуже беды, чем отсутствие золота, нельзя было выдумать. Кортес мог рассчитывать только на ветеранов — на тех, кто побывал в этих местах и мог убедить жадных до сокровищ новиков, что за золотом надо походить, поохотиться. Знать бы где они его прячут, вздыхали солдаты. Офицеры пока не позволяли себе дерзить, но случай с Ордасом, посмевшим пренебречь приказанием дождаться у мыса Каточе известий о пленных испанцах, наглядно показал Кортесу, каким хрупким и ненадежным было его положение. Людей Веласкеса в отряде хватало. Дон Эрнандо чувствовал, что все они внимательно следят за каждым его шагом. Спасти его могла только богатая добыча. Или выигранная битва… Вот когда его осенило прозрение — теперь было ясно, почему Кордова и Грихальва потерпели неудачу на самом пороге таинственной страны «Mexico». Они попали в заколдованный круг, когда угасающие надежды на призрачные сокровища, решили подкрепить бранью. Расчет, в общем, был верный, если бы не одно «но»… Сама по себе война мало что решает, тем более бесцельная, не приносящая выгоду. Знание Агиляра ограничивались пределами Юкатана, но на Юкатане не было золота! Оно было обнаружено по другую сторону этой выступающей в море земли. Только в устье реки Табаско Грихальве удалось получить в дар — а солдатам наменять — что-то существенное. Там испанцев и встретили приветливо, там можно собрать сведения об этом самом «Mexico»…
12 марта флотилия подошла к устью широкой реки — Аламинос сообщил, что это и есть Табаско.[16]
Приблизились к берегу ранним утром. Сквозь полосы тумана едва проглядывала широкая протока. По приказу дежурного офицера Гонсало де Сандоваля кто-то из вахты попробовал воду. Закричал: «Соленая!..» — и в этот момент сдвинутый порывами ветра туман обнажил справа от устья мангровые заросли, а впереди на пологом зеленом скате, сбегающем к реке, обнаружилась армия. Сандоваль, дежуривший на переднем возвышении флагманского нао, сначала не поверил своим глазам. Его поразило не то, что бы врагов было много — их, даже при мимолетном подсчете, было больше десятка тысяч! Удивление вызвал их боевой порядок. Они расположились на берегу правильными каре, квадраты были построены в шахматном порядке. Впереди каждого отряда командир с пышным плюмажем на голове. На холмах поодаль группа цветасто разодетых людей. Там же виднелись боевые штандарты — шесты, обвитые змеями, черные полотнища, что-то вроде головы хищника украшенного невиданными по роскоши перьями. По всей видимой акватории сновали пироги, набитые лучниками. За тридевять земель, в диком краю встретить хорошо организованное войско! Сандоваль даже сглотнул. Тут кто-то истошно завопил на палубе: «Индейцы! Индейцы!..» — и народ по сходным трапам валом повалил из трюмов наверх.
Несколько минут спустя на переднее возвышение поднялся капитан-генерал, другие офицеры… В полной тишине они разглядывали неприятеля, только Аламинос, не скрывая изумления, все повторял:
— Что они, с ума посходили? Совсем умишком тронулись?…
Офицеры привычно — пусть даже не совсем заметно — разделились на неравные группы. В одной из них собрались сторонники Веласкеса, в меньшей, сгрудившейся возле Кортеса, его надежные друзья. Большинство офицеров не примыкали ни к одному из этих лагерей и толпились возле борта. Скоро посыпались восклицания, начали обсуждать детали построения, кто-то побился об заклад, что это не все силы туземцев. Интересно, сколько бойцов они спрятали в засаду? Альварадо между тем объяснял, что вооружение у дикарей плевое — дубинки, дротики и луки. Только стрел и следует опасаться. Против них вполне годятся хлопчатобумажные кафтаны, наконечники у этих либо из зубов животных, либо каменные, либо представляют из себя обожженные деревяшки. Металлические доспехи укрывают надежно, но они довольно тяжелы, и в такую жару их таскать одно мучение… А в общем, опасаться нечего после первого же залпа из орудий, эти разбегутся.
— Так что, — неожиданно выкрикнул он, — ваша милость, пора в бой!
— В бой? — сердито повторил Кортес и неожиданно выругался. — Позвольте спросить, как вы этот залп произведете. С кораблей? Дистанция не позволяет. С мелко сидящих бригантин? Какой, позвольте узнать, от этого будет толк? И какой смысл нам воевать сейчас? Ради чего?
— Но индейцы не отойдут. И вся эта встреча мало похожа на свидание друзей после долгой разлуки, — подал голос Охеда.
— Вот именно, — согласился Кортес. — Необходимо попытаться уладить дело миром, — он помолчал, потом добавил. — В любом случае нам необходимо продвинуться в устье реки. Легкие корабли войдут в главную протоку, а вы, Авила, с сотней пехотинцев высадитесь за этим мысом, прорубитесь сквозь заросли и ударите по ним с тыла. Но только в том случае, если услышите залпы.
Через два часа три больших каравеллы и флагманский нао, чуть продвинувшись по стрежню вверх по реке, навели орудия на рой индейских пирог, которые жались к обоим берегам, а караван из шести беспалубных суденышек на веслах начал подниматься против течения, по широкой дуге приближаясь к берегу. В ту же минуты испанцев осыпал град стрел, однако Кортес запретил до особого распоряжения открывать ответный огонь. Жуткие вопли, барабанный бой, писк дудок и рев, издаваемый большими морскими раковинами, прокатился по окрестностям. Пехота индейцев придвинулась к берегу. Туземцы, большей частью в коротких плащах, накинутых на голое тело, босые, с кольцами, продетыми в носах или в мочках ушей, начали потрясать короткими копьями, грозить огромными деревянными булавами. Когда все суденышки по команде капитан-генерала все разом повернули к правому по ходу движения берегу, королевский нотариус, вместе с Кортесом и переводчиком Агиляром стоявший на носу одной из бригантин, тожественно объявил, что поданные его королевского величества, императора Священной римской империи Карла V явились в их край с мирными намерениями. Они верят в истинного Спасителя Иисуса Христа. Нотариус потребовал, чтобы им позволили беспрепятственно набрать воды, в случае отказа или проявления враждебности, вся вина падет на них. Все это, прикрытый щитом, прокричал Агиляр.
Местный воин из знатных вышел к урезу воды и медленно, веско ответил, что выше по течению много годной для питья воды, там они могут запастись ею вдосталь. Сходить на землю чужеземцам запрещается.
— Вода из реки при такой жаре, — рассудил Кортес, — сразу протухнет. Надо найти чистый источник, — и он махнул рукой.
Гребцы навалились на весла, корабли направились к берегу.
Туча стрел взлетела в воздух, следом ударили укрепленные на бортах фальконеты и аркебузы. Дым рассеялся, в следующее мгновение Гонсало де Сандоваль с удивлением обнаружил, что несколько поспешил с оценкой организованности вражеской армии. Индейцы, бросившись к реке, сразу смешали ряды. Стрелы стаями полетели в испанцев. Первый залп из огнестрельного оружия не произвел на врага большого впечатления — они как будто не поняли, что же это так громоподобно громыхнуло в ясном небе, да и потерь малые фальконеты и залпы аркебузиров почти не нанесли. Вот арбалетчики сработали хорошо — ни одна стрела не прошла мимо цели. Тут же выстрелили запасные аркебузы, арбалетчики помогли им, и, Кортес, переглянувшись с Сандовалем то ли на всякий случай, то ли обещая подмогу друг другу — с криком: «Крест святый!» — прыгнул в воду. Сандоваль за ним… Странная мысль неожиданно ударила в голову — не о помощи просил Кортес и не прощался!.. Он хотел сказать, что вот он случай, когда победу следует добыть собственными руками. Не надеясь ни на артиллерию, ни на лошадей, которых нельзя было пускать в битву — они застоялись во время перехода. Только враг и собственный меч! Это была смертельная игра, мелькнуло у Сандоваля. В виду подавляющей многочисленности врагов… И берег илистый, ступни сразу начало засасывать — вон Кортес тотчас башмак потерял — так обутый на одну ногу и выскочил на берег, при этом ловко уложил двоих индейцев, бросившихся к нему.
Какие рожи они строили! Визжали так, что уши закладывало, особенно когда их прокалываешь насквозь. Это оказалось куда более легким делом, чем можно было подумать. Все их фехтование заключалось в подпрыгивании на месте и попытках издали достать врага дротиком или дубиной. Только наиболее смелые бросались в ближний бой, но от них уворачиваться было несложно.
Сандоваль орудовал мечом как заведенный. Уход в сторону, нырок, удар кинжалом в спину и тут же, с плеча секущий удар по шее. Он не терял из виду капитан-генерала, слава о боевом искусстве которого была широка распространена по всей Вест-Индии. Прикрывая Кортеса сзади, Сандоваль диву давался, глядя, как капитан-генерал играючи обращается с холодным оружием. В этот момент индейская стрела нашла брешь в его доспехах. Жуткий укол он ощутил сразу — ударило в правое бедро. Сандоваль вырвал стрелу — кровь поначалу хлынула обильно. В следующее мгновение две стрелы попали в Кортеса. Одна впилась в левое плечо, другая скользнула по ноге. Шутки в сторону! В душе поднялась редко испытываемая злоба к этим недоумкам, которые в ответ на просьбу поделиться водой, встретили их дубинами. А может, вид крови разъярил его…
Испанцам уже удалось выбраться на берег. Они тут же сомкнули строй, пиками отодвинули врага, и на образовавшемся лужке по приказу Кортеса аркебузиры были выстроены в две линии. Первая должна была стрелять с колен, с низких, заранее приготовленных вилок. Позади них были собраны заряжающие. Кортес ещё на Кубе и на острове Косумель непрекращающимися тренировками довел скорость стрельбы до одного выстрела в две минуты. Немногочисленные мушкеты, которые им удалось закупить на Кубе, стреляли чаще, с их помощью сдерживали наседающего врага в промежутках. Общий залп производили разом из все видов огнестрельного оружия и арбалетов. Каждый раз индейцы несли ужасающий урон. Только теперь, когда они осознали, что грохот, клубы белого дыма, окутывавшего ряды бородатых людей, и смерть связаны между собой, в их рядах обнаружилось некоторое колебание. Сандоваль сразу отметил это визжать стали громче, а прыгать меньше.
Как только высадка десанта была закончена, испанцы сомкнутым строем двинулись вперед. Индейцы сразу отступили.
Кортес, заметив, что Сандоваль жадно присматривается к маневрам, совершаемым противником на поле сражения, одобрительно хлопнул его по плечу.
— Приглядывайся, приглядывайся, это на пользу… Что ж ты рану не прикажешь перевязать? — он тут же окликнул пару солдат. Сандоваль опустился на землю, не взирая на острую боль пощупал травку — трава как трава, ничего особенного… Между тем Кортес, стоявший возле него, нервно спросил:
— Где же Авила? Застрял он, что ли, в этих зарослях?..
И словно в ответ на его слова где-то справа послышалось громовое: «San-Yago y San-Pedro!» — и из зарослей развернутая в боевой порядок вышла сотня Авилы. На несколько мгновений ряды индейцев смешались, затем порядок восстановился и они неспешно отступили.
Все события того дня Гонсало де Сандоваль воспринимал смутно, хотя, сцепив зубы, и принял участие в торжественной церемонии объявления этой земли владением его католического величества короля дона Карлоса. В большом селении, — здесь, как и на Косумели, было много каменных домов — на главной площади росло старое, в несколько обхватов лиственное дерево. Капитан-генерал дон Эрнандо Кортес три раза ударил мечом по стволу и объявил этот край собственностью короны, о чем королевским нотариусом был составлен акт. Свидетелями являлись все присутствующие…
В сражении, состоявшемся на следующий день Сандоваль участия не принимал — он совсем ослаб, и Кортес посоветовал ему полежать. Гонсало выругался и ответил, что нахлебником никогда не был и не будет, так что все равно встанет в строй, пусть даже ему не посчастливилось получить под свою команду роту солдат. Кортес, до того времени почти не знакомый с Гонсало а ведь они были земляками — усмехнулся и предложил ему присмотреть за выгулом спущенных на берег лошадей. Те совсем застоялись и в бою их использовать было нельзя. Сандоваль согласился. Потом уже по слухам он узнал, что в тот день испанцам пришлось туго. Отряд Альварадо даже в засаду попал и, если бы не хладнокровие артиллеристов, которыми командовал старший канонир Меса, победа бы далась куда более дорогой ценой. Все равно двое убитых — это было печальное известие. А сколько положили туземцев, поинтересовался офицер.
— Кто их считал, — ответил Андрес де Талья. — Главное, что взяли троих пленных. Их сейчас дон Эрнандо допрашивает. Еще говорят, что сбежал переводчик Мельчорехо. Дон Эрнандо совершенно вышел из себя…
Сандоваль тут же заковылял к палатке капитан-генерала.
Любопытствующих собралось много — особенно тех, кто помнил первую доброжелательную встречу, которую устроили индейцы год назад.
Прежде всего Кортес сразу выделил среди пленных человека, который, как оказалось, принадлежал к знатному роду. Как дон Эрнандо смог определить его происхождение, Сандоваль так и не понял.
Причина такого заметного охлаждения к прибывшим из моря людям, по словам пленных, заключалась в том, что все соседние племена, узнав об обмене подарками с людьми Грихальвы, подняли их на смех. В трусости прямо не обвиняли, но позволяли себе посмеиваться над «простаками из Сеутлы» так называлось это место в устье реки Табаско. Упорство свое они объясняли тем, что бежавший Мельчорехо убеждал старейшин не прекращать наступление ни на минуту. Белых людей, головы которых обросли волосами и сверху, и снизу, мало. Они скоро утомятся и тогда их можно будет взять в плен и отправить… сами знаете, куда.
Кортес вскинул брови.
— Куда? — переспросил он.
— Он так выразился, — пожал плечами Агиляр. — Имел в виду направление, а может, намекал, что всех попавших в плен ждет жертвенный нож.
— Хорошенькое дельце! — возмутился Альварадо. Все остальные офицеры тоже разом насупились.
— Собака лает, ветер носит, — угрюмо выговорил Кортес. — Пусть их!.. Другое тревожит — это не переводи, — он обернулся к Агиляру. — Какое-то детское недомыслие со стороны отдельных солдат и офицеров. Кто отвечал за Мельчорехо? Наказать плетями! Я не желаю из-за подобных промахов лишаться жизни. Вот подлец! — немного удивленно добавил он. — Точно подметил — в бою нам ничего не страшно. Кроме усталости… Хорошо, теперь переводи.
Он принялся объяснять пленным, что люди из-за моря с головами обросшими и сверху и снизу, не имеют злых намерений. Они верят в Бога, единого и всемогущего, и желают распространить свет истинной веры по всем городам и весям. Индейцы сами виноваты в том, что не позволили им набрать воды. Вот почему кровопролитие, вот почему он, верховный касик войска «кастилан», вынужден взять под свою опеку эти земли и объявить их владениями великого вождя, живущего на западе…
— Кстати, — неожиданно прервал он свою речь, — поинтересуйся у них. Возможно, они уже подчиняются какому-нибудь владыке? Тогда мы могли бы обеспечить им надежную защиту.
После недолгого лопотания Агиляр ответил.
— Они заявляют, что их племя свободно, хотя, конечно, защита никогда не помешает… Только, — нахмурился Агиляр, — сказали так, что их можно понять двояко. Точный смысл заключается в том, что дани они в настоящий момент не платят. Я было попытался уточнить — не платят кому-то или вообще ни вблизи, ни вдали нет никого из владык, кто смог бы потребовать с них дань. Они на эту тему отказываются говорить!.. — возмущенно добавил Агиляр.
— Тогда надо попытаться развязать им языки с помощью огня, невозмутимо посоветовал Кристобаль де Охеда. — В первый раз, что ли…
— Ни в коем случае! — резко возразил Кортес. Потом, улыбнувшись пленным, ласково обратился к Охеде. — Сеньор, я предупреждаю вас в последний раз — всякая попытка вставлять мне в палки в колеса плохо для вас кончится. Заявляю официально — это ко всем относится, господа. С этого момента всякое неповиновение, всякое лукавство при исполнении приказа, всякие разговоры, подрывающие авторитет главнокомандующего будут пресекаться решительно и жестоко. Вплоть до вынесения смертных приговоров!
Все это он высказала в привычной светской манере, красиво жестикулируя руками. Наконец обратился к Агиляру.
— На чем я остановился? Ага, на защите… С этой минуты они свободны. Я надеюсь, что они вернутся к своим сородичам, не держа злобы на сердце. Мы пришли сюда установить мир. И мы его установим — последнее не переводи, предупредил он толмача.
Когда пленников увели, он поднялся — все тут же встали — и объявил.
— Господа, завтра в бой. Завтра мы должны им показать, что значит «кастилан», осененный крестом. Убивать как можно больше. Людские потери у противника должны быть устрашающими, я не имею намерения засиживаться в этой дыре и губить своих солдат в бессмысленной бойне. Сеньор Ордас, вам поручается командование пехотой. Постройте боевой порядок следующим образом — линия в два ряда, впереди новобранцы. Старший канонир Меса. Обеспечить наивозможно быстрый темп стрельбы. Палить только кучно, по большим человеческим массам. Кстати, как я слышал у вас, сеньор Альварадо и у вас, сеньор Авила одна лошадь на двоих? А вы, сеньор Монтехо, совсем безлошадный?.. Авила возьмет лошадь музыканта Ортиса — тот в седле как тюфяк держится. Монтехо позаимствует у рудокопа Гарсия. Завтра я лично поведу кавалерию в бой!
День битвы запомнился Берналю Диасу долгим изматывающим маршем по засеянным кукурузой, и залитым жидким илом полям. Грязь пудами прилипала к ногам, а каково было индейцам-носильщикам, которые на собственных плечах тащили орудия. Кто стволы, кто сборные деревянные станины… Тоже люди, вздохнул про себя Берналь, этих в случае чего первыми в жертву принесут…
Когда же войско выбралось на твердую почву, вид открывшейся вражеской армии произвел на всех гнетущее впечатление. Врагов, если прикинуть численность отдельных отрядов и сложить вместе, было по меньшей мере до полуста тысяч. На каждого испанца по две-три сотни. Пусть даже у страха глаза велики, однако куда ни бросишь взгляд, всюду стояли плотные ряды раскрашенных воинов. Андрес истерически похохатывал — где наша не пропадала, проломим им черепа, этим язычникам.
— Ага, проломишь, — отозвался кто-то. — Устанешь мечом махать.
— Подтянись! — приказал вконец измотанный переходом Ордас. Весь неблизкий путь он несколько раз добирался до хвоста колонны, где подгонял отстающих, потом вновь возвращался в голову. — Разговорчики отставить!
Один из ветеранов буркнул, что подобных строгостей он не замечал и в Италии при Великом капитане, а там войны были не чета этим. Его однако никто не поддержал — сил не было.
На сухом пригорке немного отдохнули, обсушились. Индейские вожди допустили промашку — это было ясно каждому опытному вояке. Нельзя было выпускать чужаков из грязи. Встать стеной и крушить дубинами. Что с них взять — дети природы. Только гадкие дети, очень капризные и жадные… Не желающие поделиться золотом.
Индейцы наконец побежали в атаку. Как всегда смешали строй. Пушки ещё не были готовы к стрельбе, однако и аркебузиры, и арбалетчики встретили врага дружным залпом. Туземцы в ответ ещё энергичней принялись обстреливать врага. Стрелы пластами стелились в воздухе, так что сразу после начала боя около семидесяти испанцев получили ранения.
Первый натиск сдержали. Тут Меса доложил Ордасу, что орудия готовы.
— Ну, так приступай, — ответил офицер.
Вот когда индейцы почувствовали всю силу tepustli или «громовых зверей», как они называли артиллерийские орудия. Опять же непонятно, прикинул Берналь — неужто они их за живые существа принимают? Кто их знает, недоумков, внезапно озлобился он. Сейчас, после первого залпа надо в атаку пойти — эти ублюдки удара сомкнутым строем не выдерживают, но Ордас почему-то медлит. Видно, ждет, когда конница вступит в дело. Этак можно беды дождаться…
Между тем орудийная стрельба вошла в свой привычный убийственный ритм. Залп, заряжание, дикие вопли в стане врага. Каждый раз, когда дым рассеивался, Берналь Диас с удивлением наблюдал, как индейцы начинали бросать в воздух землю и солому. Спустя несколько минут ещё залп — и вновь в толпе нападающих открывались широкие улицы, заваленные скошенными трупами. Аркебузиры тем временем нарезали переулочки.
Атаки волнами накатывались на боевые порядки испанцев. Туземцы бились храбро, их вожди успели сообразить, что наступать надо в перерывах между извержениями огня и дыма и осыпать, осыпать обороняющихся стрелами. Стрелы теперь летели с убийственной плотностью. Ветераны начали громко выкрикивать, что пора ударить по язычникам, стоять на месте губительно, однако Ордас, впервые участвовавший в подобном деле, никак не решался отдать приказ наступать.
Исход сражения решила кавалерия. При виде этих страшных четвероногих и двухголовых, закованных в сталь, чудовищ ряды противника заколебались. Над ними словно ураганный ветер пролетел — раскидал до того момента более-менее стройные ряды, повалил на землю индейские штандарты и стяги. Началась резня. Тут и Ордас осмелел, повел пехоту в атаку…
К вечеру все было кончено. Поле было усеяно трупами — не менее тысячи погибших, пленных пять человек. Из них два касика…
Сразу после приведения войска в порядок Кортес занялся пленными. Прежде всего вызвал врача и приказал ему перевязать индейцев. Те, поначалу с ужасом смотревшие на великого вождя людей «из-за моря», постепенно успокоились. Кортес не стал с ними долго разговаривать — тут же после перевязки приказал отправить их к противнику. Если возможно, передать с рук на руки. Он так и сказал Сандовалю:
— Напрасно не рискуй, но если эти встретят вас мирно, организуй достойную передачу пленных. Можешь даже честь отдать… Но только не рискуй.
— Считаете, пойдут на переговоры?
— У них нет выбора, как только перейти под нашу защиту. Иначе, насколько я понимаю людей, соседние племена вырежут их под корень.
В самом деле на следующее утро в лагерь испанцев явились полтора десятков рабов, принесли печеную рыбу, кур и лепешки. Старшего с ними не было, но через Агиляра они передали просьбу совета вождей разрешить захоронить мертвых. Дольше оставлять их в таком состоянии было нельзя, сладковатый запах уже ощутимо начал стелиться по земле, достиг испанского лагеря, разбитого на невысоком холме. Кортес дал согласие.
Так всегда бывает — замирение начинается с обмена взглядами. Похоронные команды туземцев занимались своим делом, солдаты, собравшиеся на краю поля, посматривали за ними. Наконец первый смельчак из туземцев, завидев покачивающиеся в руке диковинного бородатого человек стеклянные бусы, решился подойти поближе. Как всегда первый жест — это предъявление ладоней, свидетельство мирных намерений и отсутствия оружия. Затем попытка пощупать удивительные поблескивающие прозрачные камешки. Тут неожиданно откуда в руках заморского чужака появляется волшебная вещица, способная отобразить все, что было вокруг. Даже человеческое лицо — стоит в него заглянуть, и можно увидеть собственное отражение. Да такое ясное, словно ты сам с помощью колдовской силы оказываешься заточенным в этой плоской круглой пластинке и со страхом и изумлением выглядываешь оттуда. Ох, как хочется потрогать!.. Тут и соплеменники, привлеченные ярким солнечным зайчиком, подходят ближе… Так начинается торг…
К вечеру в лагере испанцев появился гонец и передал предложение устроить перемирие. На следующий день назначили встречу вождей. Кортес принялся деятельно готовиться к предстоящим переговорам. Первым делом доставленные с Кубы индейцы-носильщики — число их сокращалось с ужасающей быстротой — перетащили поближе к шатру капитан-генерала большую кулеврину.
— Я так понял, они считают орудия живыми существами, — усмехнувшись, объяснил дон Эрнандо Сандовалю. — Вот мы их и познакомим поближе.
— Можно и лошадь использовать, — посоветовал Гонсало. — Индейцы коня и всадника на спине тоже полагают единым созданием. Этаким невиданным чудовищем…
Они рассмеялись.
— А жеребец у музыканта Ортиса страсть какой горячий, — с улыбкой добавил Сандоваль.
— А кобыла у Седеньо настоящая лошадиная красавица, — в тон ему ответил дон Эрнандо.
Они залились ещё пуще…
Глава 5
Шутка удалась на славу.
…Индейские вожди долго торговались по поводу каждой курицы, которых они были обязаны доставить в лагерь. Спорили из-за каждой лепешки… Дон Эрнандо совершенно вышел из себя и, пригласив гостей выйти из шатра, указал на заряженное орудие, затем, ткнув пальцем в подводимого издали коня музыканта Ортиса, решительно заявил, что, если они не найдут общего языка, то он не сможет удержать этих страшных, находящихся у него в услужение чудовищ. Ваши боги жаждут крови, сказал Кортес, эти существа тоже питаются ею. Они дики и необузданны, и если мы не договоримся, могут впасть в безумство. Тогда, предупредил Кортес, держитесь…
В этот момент пушка выстрелила, а жеребец, которого вели мимо кустов, где была спрятана кобыла Седеньо, впал в любовный раж, встал на дыбы и заржал так пронзительно, что касики в страхе поприседали.
Дальше все пошло как по маслу.
…Дон Эрнандо лежал под балдахином, изучал резьбу на деревянных столбах из красного дерева — сон не брал его. Да и как заснешь, если память вновь оказалась во власти тех самых радостных, неповторимых, наполненных бесшабашной, без тени сомнений, удалью, дней, которые выпали ему в самом начале похода. Он даже явственно ощутил запах джунглей, к которому ощутимо примешивался трупный дух. Помнил аромат первой индейской красавицы, которую выбрал среди двадцати невольниц — местные вожди привели их в лагерь в дар «большому вождю, пришедшему из-за моря». Как оказалось, он ошибся и пренебрег той, с которой потом надолго связал свою жизнь, которой, если признаться, был во многом обязан своими победами.
Он сразу приметил её в толпе перепуганных женщин, кучкой сидевших возле его шатра. Сразу, в общем-то, не понял, зачем индейские касики для проведения таких важных переговоров захватили с собой столько женщин. Ах, это подарок… Дон Эрнандо на мгновение прикинул — может, лучше отказаться от подобных щедрот? Что это за войско, в котором офицеры таскают за собой баб, потом опомнился — так было и так будет. Стоит ему только заикнуться о неприятии такого щедрого дара, офицеры никогда не простят ему подобный поступок. По крайней мере, Альварадо возненавидит его до конца жизни. Индейцы, возможно, тоже.
Он сразу поймал на себе её взгляд — она глядела на него дерзко. Очень красивая, верхняя губка чуть вздернута, глаза черные, с едва заметной раскосинкой, отчего она казалась особенно желанной — этакая томная, жаждущая ласок красавица. Но главное, чем поразила его эта черноволосая высокая женщина — при приближении испанцев она единственная встала — так это удивительной, девичьей свежестью. Где она копилась, эта чистота и манящая страстность, он не мог сказать. То ли в припухлых, как у ребенка, губках, то ли приманивала тонкостью стана, то ли прерывистое дыхание выдавало её. В первое мгновение дон Эрнандо обомлел, однако виду не показал, осадил себя. Присмотревшись, убедился, что эта женщина видала виды. Тем более из рабынь… А вот Пуэртокаррера, с которым он осматривал пленниц, не удержался и ахнул. Затрепетал даже… Вымолвил: «Hermosa como diosa!»[17] Вот и хорошо, скорбно решил капитан-генерал, пусть полакомится… Мне в ту пору надобно было держать себя в узде.
Никогда — ни раньше, ни позже — он не ощущал такой полноты жизни, какую испытывал в ту пору. Все тогда было в охотку — и радость, и горе, и страх, и надежды. И эту женщину отдал легко, разве что тайно немного взгрустнул. Вскоре груда дел совсем заслонили образ этой Малинче, как её называли местные. Ох, грехи мои тяжкие, уж сколько лет прошло, а он до сих так и не научился выговаривать эти странные ацтекские имена!.. Крестили её Мариной. В дальнейшем им доводилось встречаться только во время переговоров, когда он пользовался её услугами в качестве переводчицы… До того самого дня, когда, индейская женщина, ловко обманув часовых, пробралась в его шатер и призналась, что хранит великую тайну, но откроет её только наедине и ночью. И чтобы Алонсо ни о чем не знал.
Кто бы мог предположить, что её тайна оказалась ответом на все те тайны, что обступали его, дона Эрнандо, в чужом краю!..
Кто смеет утверждать, что у прославившихся — исторических! — людей не может быть друзей, что они всегда готовы пожертвовать любовью, дружбой, любой другой человеческой привязанностью ради достижения великой цели. Как утверждает мой духовник и летописец Гомара, это им даже ставится в заслугу, однако никто не желает понять, что такое, если и случается, то никак не по вине знаменитого человека. Исключительно в силу обстоятельств, когда приходится жертвовать не только друзьями, но собственной жизнью или — что ещё страшнее — душевным спокойствием. А то и спасением души!.. Слава Богу, я не могу упрекнуть себя в подобной измене, и даже если мне приходилось поступать вопреки велениям сердца, то в подобных случаях я всегда соизмерял средство и цель. Более того испрашивал разрешения у Господа… Только когда в душе рождалась совершенная уверенность, что сумею исхлопотать у небесной силы отпущение грехов, я решался преступить человеческие законы.
От любви тоже не отрекаюсь… Но у нас с Мариной был скорее союз, чем бурная, неутолимая страсть. Мог ли я в ту пору позволить себе что-либо другое? Эта женщина обустроила мой быт, слуги у неё ходили по струнке, но если признаться честно, я до сих пор вспоминаю нашу связь с каким-то послеощущением ужаса, тайного, неизъяснимого. Нет, она была верна мне, я был её единственной защитой в том бурном водовороте, который так стремительно закружил нас, но всякий раз, выслушивая в постели новости из её уст, я тщательно взвешивал каждое слово, процеживал его через долгие размышления, прикидывал, что же именно хотела сказать эта женщина, на что намекала. Это было утомительное занятие, но иначе поступить я просто не мог. Если откровенно, тогда слушайте — конечно, Гомаре я об этом и не заикнусь! — в области политической игры Диего Веласкес в сравнении со мной был не более, чем котенок. Вот примерно в такой же пропорции по части махинаций и интриг соотносились я и Малинче. Здесь в Испании об этом мало кому известно — разве что ветеранам, да все они сидят по своим имениям в колониях, как, например, Берналь Диас. Возможно, Монтехо догадывался об этом. Этот так называемый покоритель Юкатана оказался не так прост, как я полагал, и сумел выторговать у короля патент на завоевание этих паршивых джунглей. Просто из-под носа эти земли увел!
О чем это я? Ах да, о Марине! О красавице с глазами лани, храбростью и жестокостью ягуара и умом древнегреческого мудреца. Ее сердце буквально извергало коварство. Долго я не мог понять, почему туземцы обращались ко мне исключительно Малинцин. Оказывается, это переводится, как «господин или хозяин Малинче». Ничего с ними нельзя было поделать! Мое родовое имя для них ничего не значило! Вот «владелец рабыни Малинче» — это другое дело. Говорят, у французов есть поговорка — ищите женщину. Это несерьезно по-моему, по большей части женщины управляют миром! Ну, хватит об этом!.. Я её надежно пристроил, она получила патент на дворянское звание, сын наш в чести, он — commendator ордена Святого Иакова[18] и в настоящее время является губернатором города Веракрус. Дочери от других туземных жен тоже хорошо пристроены, все вышли замуж за приличных людей…
Вот каверза судьбы — брак моей старшей законной дочери с доном Альво Пересом Осорио, сыном маркиза д'Асторга так и не состоялся, хотя я давал в приданное сто тысяч дукатов и множество других драгоценностей. Мне отказали! Обидно!.. Постыдно!.. Королевский двор — это сборище пауков, мерзких интриганов… Эрнандо, не выражайся красиво, постарайся заснуть. Пусть мне приснится океан, пологий берег, поросший мангром, холмистая равнина, устремляющаяся на запад. Паруса кораблей с огромными крестами… Наконец, тот день, когда мы впервые увидали снеговую вершину Орисабы, открывшуюся нам с утра. Это было замечательное зрелище! Пуэртокаррера, купающийся в страсти, пропел тогда старинную рыцарскую балладу о подвигах Роланда. Там были строки — «Вот она, богатая страна…» Помнится, я ответил в том смысле, что если Всевышний наделит нас счастьем, которым одарил Роланда, то с вашей — обратился я к Алонсо — и других рыцарей помощью не миновать нам словить птицу-удачу. Я объяснил Алонсо, что все наше предприятие держится на случае, поэтому мы обязаны быть предусмотрительны во всем. Чтобы стать непревзойденными умельцами в ремесле авантюреро, надо всегда оказываться прозорливее соперника. Знать его досконально… Как раз этого мне тогда не хватало.
В ту пору я даже предположить не мог, какая чудовищная сила вот уже два столетия копилась на этих берегах. В чьи руки она попала… Судя по жесточайшему упорству, какое проявили в устье Табаско местные вожди, впереди нас могли ожидали куда более серьезные испытания. Меня не обманули их уклончивые ссылки на неведомых «соседей», которые осыпали их градом насмешек. Скорее всего угрозы тоже были… Что же это за «сосед», который заставил их вывести в поле все, что у них было под рукой, биться не на жизнь, а на смерть? Почему такой страх перед горсткой неведомых пришельцев, всего-навсего попросивших разрешения наполнить бочки питьевой водой? Встреча Грихальвы, дары, поднесенные ему, доказывали, что это были мирные, готовые торговать индейцы. Откуда же тогда такая ярость, которую они выказали при появлении наших кораблей?
В ясный день мы брели вслепую. Вершина Орисабы, гигантским шлемом возвышавшаяся над неровной стеной гор, неотрывно напоминала, что ждет нас на западе. Все, что я мог — это подыскать подходящую бухту, в которой можно будет надежно схоронить корабли и в случае удачи в первых сражениях попытаться заложить надежный форпост. Опираясь на него, мы смогли бы начать постепенное продвижение вглубь этой необъятной земли, так мало похожей на те Индии, о которых мечтал Кристобаль Колон.
Этот план был всем хорош, кроме одного незначительного обстоятельства — он был невыполним. Стоило мне хотя бы на короткое время выпустить инициативу из рук, Диего Веласкес тут же сместил бы меня. У него были длинные руки, в моем войске находилось немало его тайных сторонников. Кроме того, ничто так не способствует разложению солдат, как вынужденное бездействие и отсутствие реальной добычи, которую можно было бы пощупать руками. Кто бы мог подумать, что черноволосая красивая женщина, переводившая вместе с Агиляром речи, которыми мы обменялись с местными касиками, — знает ответы на большинство из этих вопросов. Она так и заявила в ту ночь, когда проскользнула ко мне в палатку. Пуэртокаррера в те дни в составе экспедиции Альварадо был послан на поиски съестного. Прими меня к себе, сказала она, и я научу тебя, как победить Мотекухсому. Ни больше, ни меньше!.. В ту пору, в середине лета я находился в безвыходном положении как говорится, на краю гибели, поэтому даже не улыбнулся, не выказал неудовольствия подобной неучтивостью, только спросил — соображает ли она, что говорит? Она промолчала. Она ждала ответа. Что-то смутное, непрошеное бродило у меня в голове в тот момент — как она за такой короткий срок сумела научиться объясняться на кастильском? Смела, если отважилась явиться ко мне в ночное время… Часовые вполне могли пристрелить её. Кстати, их следует обязательно наказать за халатность!.. Вот какие мысли в первые минуты встречи донимали меня. И ещё — я уже тогда страстно возжелал её. Как раз с этим желанием мне было справиться довольно легко, ибо в ту пору я наложил на себя трудный подвиг умеренности. Потом прикинул — она рискует жизнью, это придает её словам правдивость. Я не стал касаться вопроса, как поступит с ней Алонсо, когда узнает о таком вызывающем визите. Я даже не упомянул о том, что в этом случае я потеряю друга и приобрету могущественного врага, ведь синьор Пуэртокаррера, этот восторженный, взрослеющий на глазах, чернявый до неприличия юнец являлся племянником графа Медельина, весьма влиятельного при испанском дворе. В его владениях мой отец Мартин де Кортес Монрой имел поместье. Я словом не обмолвился о назревающем среди моих людей бунте, удайся который, и её жертва сразу оказалась бы напрасной, потому что среди окружавших меня господ офицеров я не видел никого, кто был способен заменить меня на посту капитан-генерала. Разве что Монтехо… Опять этот Монтехо!
Я спросил, что она имеет сообщить мне.
Она ответила, что её слова исцеляющим снадобьем лягут на те тревоги, которые жгли меня изнутри. Она знает, кто такие ацтеки. Она знает, кто такой Мотекухсома. Она знает, почему он не присылает армию, чтобы сбросить вас в море. «Я знаю, — добавила она, — в какой стороне лежит Теночтитлан, и как туда добраться. Я знаю, где спрятано сердце Теночтитлана и сколько нужно стрел, чтобы поразить дикого кота, гремучую змею и могучего орла, которые охраняют его».
Тут она сделала паузу и, прижав левую руку к груди — маленькой, но острой и вызывающей прилив страсти, с сосками, глядящими в разные стороны, — добавила что-то по-своему, на языке науа… Клянусь Господом, словно обет давала!.. Потом перевела. «Я знаю, — заявила эта женщина, — чего больше всего на свете боится Мотекухсома».
«Чего же?» — спросил я.
«Прими меня к себе», — повторила она свою просьбу.
Нежный аромат цветущей розы исходил от нее, волосы были заплетены в косы и заколоты на затылке, сбоку был воткнут напоминающий об утренней заре цветок…
«Я не могу ссориться с Алонсо», — признался я.
«Не ссорься, — ответила Малинче, — отошли его за море с дарами, который прислал тебе Мотекухсома».
«Хороший совет, — кивнул я, — об этом стоит подумать».
«Подумай и возьми меня к себе», — сказала она и выскользнула из палатки.
Тут меня словно кольнуло, я поспешил следом, что бы не дай Бог, часовой не пальнул в нее, в эту птицу, совершающую свой полет по ночам. И наказывать их нельзя — пусть эта встреча останется тайной. Успел вовремя, часовой уже совсем было всполошился, заслышав шорох. Я отвлек его внимание…
Потом полночи не спал, отправился проверять посты. Возле одной из палаток задержался, невольно прислушался к разговору этого юнца Андреса и обстоятельного Берналя. Рассуждали они о богатстве…
Сначала, как водится перемыли косточки офицерам, нашему королевскому нотариусу, Диего де Годою, который, оказывается, «жрать горазд». Обсудили местоположение лагеря — местность нездоровая, вокруг болота, дышать тяжело. В полдень по прибрежным дюнам ходить невозможно — ноги испечешь. Затем перешли к обсуждению даров, которые доставили в лагерь посланцы местного «императора», как называли Мотекухсому солдаты… Если таковы дары, то сколько же золота у него в подвалах хранится. Сошлись на том, что очень много — не пересчитать, ни взвесить, на что молоденький Андрес мечтательно заметил, что им бы только добраться до него, а уж они, испанцы, пересчитают.
— Получу свою долю, куплю каравеллу, займусь извозом. Как Седеньо, у которого кобыла на загляденье. Выгодное это дельце — товары по островам развозить.
— Да, — согласился Берналь Диас, — лошадь у него хорошая. Только таскаться по морям — рискованное дело. Лучше получить землю, прикупить индейцев… Седеньо — везунчик, к его рукам всякая монета липнет. Считай, он самый богатый среди нас — у него корабль, лошадь, даже негр есть. Кобыла — целое состояние, да и негры на Кубе в большой цене. Эти не то, что индейцы — работники, что надо. На них воду можно возить…
— Да, — воодушевленно откликнулся Андрес, — Неграми торговать выгодное дельце…
Помнится, в ту ночь я решил, что на Берналя Диаса можно положиться, однако эти события — визит Марины, разговор часовых — случились позже, а в тот день, 21 апреля, в Великий Четверг, в виду пологого песчаного берега, открывшегося нам напротив острова Сан-Хуан-Улоа, в тот самый момент, когда я приказал бросать якоря, самым захватывающим событием были две пироги, направившиеся к нам со стороны берега.
Уже по поведению посланцев — их благородной осанке, невозмутимому выражению лиц, по особой, присущей только вельможам лукавой вежливости — я догадался, они те, кого мы ищем. Они были цивилизованы — этим все сказано. Самый выжный и пышно разодетый из них первым делом, без всякой опаски, поинтересовался, кто из нас tlacatecutli, то есть «верховный вождь»? Я шагнул вперед, легким кивком приветствовал их — в этот момент и нашелся ответ на смутное беспокойство, на некоторую неясность, которое вызвало у меня слово «цивилизованы». Что бы оно значило? Как объяснить то неясное ощущение чего-то знакомого, много раз виданного, которое я ощутил при встрече с посланцами Мотекухсомы? А вот как — они являлись чиновниками! От них буквально разило запахом канцелярских крыс. Значит, у местного «тлакатекутли» есть свой круг исполнителей, должностных лиц, чернильных душ, которые верой и правдой служат ему за вознаграждение, а не только по традиции, по праву рождения или во имя долга.
Вели они себя как ровня. Я сразу решил — пусть так и будет! Посланцы заявили, что прибыли от повелителя и владетеля благодатной страны Анауак и множества других земель и краев, великого и могучего Мотекухсомы. (Именно так звали его — я выучил это имя по буквам, так как недостойно искажать имя императора. Это потом наши ребята, а также королевские писцы переделали его имя сначала в Мотекусуму, потом в Монтесуму.) Беседа, началась с вопроса, кто мы, откуда прибыли к границам могущественной державы «Астека», потом, не дожидаясь ответа, спросили, есть ли у нас в чем-либо нужда? Они готовы в меру своих сил восполнить то, в чем мы испытываем недостаток.
И правда, на следующий день на берег пришли множество индейцев, которые доставили съестные припасы. То-то мы попировали после долгого плавания!.. Особенно вкусны были сливы — я таких дотоле никогда не едал. К тому времени мы уже успели выгрузить артиллерию и установить орудия на позиции. Возвели также алтарь, где отцы Хуан Диас и Ольмедо отслужили мессу. Понастроили бараков из ветвей и пальмовых листьев, в которых можно было укрыться от жары. Место с первого взгляда мне не понравилось — климат был нездоровый, но прельщала своими удобствами бухта и открытость пространств. Все проходы между тинистыми болотами можно было перекрыть артиллерийским огнем.
На Пасху… Верно ли я называю дату? Не ошибся ли?.. Пусть Гомара сверится с записями. Кажется, в последнее воскресение апреля, в святой день, явился к нам в лагерь местный, как объяснила нам Марина, губернатор ацтеков Теутлиле. Этого принесли в паланкине. Был он в коротком плаще, застегнутом на одном плече — в застежке посверкивал крупный изумруд. Грудь обнажена, на ней висело золотое ожерелье. На голове убор из роскошных птичьих перьев, необыкновенно мягких и пышных…
После обмена приветствиями я объяснил, что мы — христиане, поданные величайшего монарха в мире. По его велению мы явились в этот край, о котором наш государь так много слышал. Посему он желает подружиться с Мотекухсомой. Вот зачем мы здесь. Я, дон Эрнандо Кортес, имею сообщить великому повелителю, тлакатекутли Мотекухсоме многое, что ему понравится. Но для этого ему мне надо знать, где проживает ваш господин, чтобы лично приветствовать его и передать послание от своего государя.
Ответил Теутлиле довольно высокомерно.
— Ты только что прибыл в нашу страну и правильнее было бы не требовать встречи с нашим повелителем, а рассказать о себе и принять подарки. Затем ты можешь передать мне свои пожелания. Лицезреть наше солнце, могучего вождя Мотекухсому — великая честь, и за несколько дней её трудно заслужить, — он сделал паузу, потом добавил. — Называй нашего вождя «тлатоани», что значит «говорящий от имени племени». Такова его воля!
Увидев разложенные перед нами подарки, глаза у Альварадо разгорелись. У других офицеров тоже, мерзавец Охеда даже сглотнул слюну. Золотые вещи были массивны, отлиты из металла высокой пробы. Кроме того, невольники положили к нашим ногам двадцать штук белоснежной бумазеи, плащи из очаровательных птичьих перьев. Теутлиле ещё указал, что распорядился снабдить нас съестными припасами.
Мы же со своей стороны передали в дар местному владыке прекрасный стеклянный, граненый, украшенный самоцветами кубок флорентийской работы, парадное кресло (правда, с немного ободранными ножками), несколько кусков маркезита,[19] завернутых в надушенные платки, нитку стеклянных бриллиантов, кармазинную шапку с золотой медалью, на которой был изображен Святой Георгий, поражающий змея.
По поводу кресла я, кажется, заметил, что владетельный сеньор Мотекухсома пусть воссядет на него во время нашей встречи. Желательно, чтобы она состоялась пораньше… Да, именно так я и выразился — Гомара, если надо будет, добавит что-нибудь историческое…
В этот момент мое внимание привлек Сандоваль, указавший на многочисленных рисовальщиков, которые буквально заполонили наш стан. Они срисовывали все, что попадалось им на глаза — меня, моих офицеров, солдат, лошадей, донью Марину и Агиляра, наших собак, орудия, ядра, оружие, корабли в бухте… И так ловко у них это получалось! Сходство было удивительным…
Нам нечего было скрывать, мы пришли с миром… Хорошая фраза, надо запомнить… Мы пришли с миром, в поисках золота. Все наши солдаты давным-давно были пересчитаны. Корабли тоже… Однако просто так отпускать послов я не хотел и по приказу орудия на позициях дали залп, конница налетела на ацтеков. Всадники замахали мечами — те едва на песок на попадали, а Теутлиле побледнел так, как может побледнеть смуглый, обожженный на солнце эстремадурский пастух при виде чуда. Теутлиле стал белее рыжих немцев… Это было впечатляющее представление. Потом перед ним промаршировало две роты. Посол, придя в себя, равнодушно наблюдал за строевыми эволюциями, пока его внимание не привлек один из наших солдат, шагающий в позолоченной испанской каске. По его просьбе я подозвал солдата, велел снять каску и дать индейцу полюбоваться на эту невидаль. Марина объяснила, что подобный шлем очень похож на боевой убор их бога войны Huitzilopuchtli. Агиляр с помощью Марины и Берналя Диаса записали имя этого идола, потом только я смог выговорить его. Он назывался Уицилопочтли.
— В таком случае, — сказал я, — если этот боевой шлем пришелся вам по душе, я передаю его вам в надежде, что он вернется к нам полный золотого песка.
К моему удивлению Теутлиле появился с ответом уже через неделю. Как объяснила Марина, в этом не было ничего странного — особые гонцы доставляют свежую морскую рыбу к столу Мотекухсомы за полтора дня.
Дары, присланные тлатоани Анауака, поражали воображение. Онемели все от капитан-генерала до старика-инвалида Хуана Торреса. Моряки посыпались с кораблей в лодки и те, словно птицы, ломая накатывающиеся на пляж волны, помчались к берегу. Потрясение было так велико, что шумная вдали, крикливая толпа, собравшись у разложенных даров, вмиг онемела. Теутлиле едва смог скрыть насмешливую улыбку, потом коснулся ладонями песка, приложив их ко лбу и объявил, что его государь и повелитель Мотекухсома доволен подарками, посланными ему его могучим братом, который проживает за морем и рад был бы повидаться с таким его благородным военноначальником, каким является Малинцин, однако нехватка времени и государственные дела не позволяют ему лично встретиться с мной.
Я со своей стороны, сумев скрыть неподдельную радость при виде столь щедрых даров, ответил в том смысле, что мой монарх будет гневаться, если пройдя из дальних стран столько морей ради одной заботы познакомиться с благородным Мотекухсомой, мне не будет позволено лично увидеться с ним и передать ему королевское послание. Теутлиле ответил, что готов передать послание могущественного государя «из-за моря», однако я возразил и прибавил, что обязан сделать это только при личном свидании.
Между тем мои люди не сводили глаз с присланных сокровищ. Прежде всего впечатляло своими размерами огромное, с тележное колесо, блюдо из золота. На нем было изображено солнце, рассылающее свои лучи по всему белу свету, и в промежутках между лучами сплошь шли искусно отлитые картинки. Весом это блюдо потянуло на двадцать тысяч золотых песо. Рядом лежало ещё более великое и массивное блюдо из серебра с изображением луны и тоже с неисчислимым множеством великолепных рисунков. Был возвращен и солдатский шлем, доверху засыпанный золотым песком, которого оказалось на три тысячи песо. Прибавьте сюда двадцать искусно изготовленных из золота уточек, а также фигурки собак, фазанов, местных тигров, о которых рассказывала нам Марина — их называют ягуарами — обезьян. Десять ожерелий с подвесками из драгоценных камней — очень тонкой работы. Дюжина стрел и большой, тоже из золота, лук. Просто загляденье!.. Два жезла в человеческий рост, фигурки оленей, полые внутри… Наконец, головные уборы, опахала и веера из перьев чудесной птицы «кецаль». Эта царская птица — большая редкость в здешних местах. Говорят, она подобна фениксу и, сгорая в огне, тут же возрождается… Сказки, наверное… Все помню, назубок запомнил весь список… Что там список — все эти сокровища до сих пор стоят перед глазами, поблескивают в солнечном свете, блистают, слепят, возвышают… Не знаю, как ещё сказать. Там ещё было тридцать кип тканей из хлопка и множество других вещей.
Такие дни запоминаются на всю жизнь. Кто бы мог подумать — я выиграл! На расстоянии! Заочно!.. С кучкой недостаточно верных мне, готовых на все авантюреро!.. У меня хватило выдержки отвести взгляд в сторону и внимательно вглядеться в лица подчиненных мне людей, чтобы по выражениям их черт, по алчно блещущим глазам, по подрагиванию рук определить, кто чего стоит. На кого можно будет положиться в дальнейшем, кто способен идти дальше, вперед. Выше, черт побери!.. Нас ждало небывалое будущее. Я всматривался в их лица и старался понять, кто способен штурмовать небо. Их было немного — все старые друзья-товарищи: Пуэртокаррера, Педро де Альварадо с братьями, Кристобаль де Олид, сеньоры Авила, Хуан де Эскаланте, Франсиско де Луго…
И все равно, они видели перед собой только золото — я же редчайший, понятный только для посвященных знак судьбы, способный перевернуть судьбу. Блеск металла не ослепил, не лишил меня разума. Я не надеялся на понимание, но все же мне было захватывающе интересно — неужели никто из них не догадывался, что означала эта груда золота?
Я словил только один осмысленный взор — вернее, прищур в тон легкой усмешке, с которой она посматривала на окружающих. Мне никогда не забыть она тут же, как только наши взгляды встретились, опустила голову и уже искоса, нелепо вывернув шею, глянула в мою сторону. Тут же зарделась. У меня не было сомнений — она все поняла. Ей, единственной, оказался понятен тайный язык этих предметов. В молчании золота, в изгибах складок плащей из перьев, в брошенных к моим ногам жезлах, в безжизненных позах разложенных, отлитых из металла животных ясно читалось — Мотекухсома проиграл свое первое и решающее сражение. Он проявил колебание. Не меч встретил нас, но дань! Это был первый откуп, которым слабый хотел задобрить сильного. Он сам, великий, могущественный, ужасный, кичливо недоступный Мотекухсома, сам того не сознавая, признал себя слабейшей стороной. Или осознавая?.. Но этого не могло быть! Чем я и мои солдаты могли напугать его, что он даже не решился вежливо, но энергично выпроводить нас со своей земли? Вот ещё одна тайна… Она змеей свернулась на этой груде золота и коварно-ласково посматривала на в мою сторону. Невольно я бросил вопрошающий взгляд в сторону Марины. Она чуть отрицательно качнула головой и вновь легкая победная усмешка тронула её губы. Выходит, эти дары значили только то, что они значили? Но в этом случае — я знал человеческую породу — сробевший в первый момент уже никогда не сможет преодолеть пагубный страх. Нерешительность как ржа будет разъедать душу. За этими дарами могут последовать охлаждение, внезапная вспышка ярости, желание побряцать оружием, однако я сильно сомневался, что Мотекухсома отважится на решительный шаг. Он будет выжидать, он даст нам время. Он оставит нас в покое, ибо что нам соглядатаи — пусть смотрят, как мы будем засевать поле и ждать всходов. Более того, Теутлиле по указу «императора» оставил в нашем лагере некоего вельможу Питальпитока, в ведение которого поступило снабжение нашего лагеря продовольствием.
Мы тоже одарили великого Мотекухсому — вручили послу три рубашки голландского полотна, стеклянных бус немеряно-несчитано, всякой мелочи, цена которой на рынке в Севилье едва ли будет десять дукатов.
Вечером того же дня в собрании офицеров Педро Альварадо громогласно заявил, что хватит терять время, пора двигаться на Теночтитлан и пошуровать в кладовых у этого самого Монтесумы. Педро упорно выговаривал его имя таким странным манером. Эта идея вызывала горячий спор. Я сам после получения даров склонялся к мысли, что поход в глубь страны следует совершить как можно быстрее. Хоть завтра! Если бы я был уверен в своем войске!.. Ордас, Хуан де Леон, этот мерзавец Эскудеро принялись доказывать, что подобное решение является прямым вызовом его милости губернатору Кубы Диего Веласкесу. Как бесило меня это ежедневное, по поводу и без, когда грубоватое, когда восторженное упоминание этого имени! Я выждал, успокоился, потом обратился к стоявшей рядом Марине с вопросом — возможно ли в нынешних условиях выступить в поход на Теночтитлан. Она ответила тихо, в напряженной, мгновенно установившейся тишине. Все замерли!
— Нет, ещё не пришло время сбора урожая… — и опустила голову.
Пуэртокаррера изумленно глянул на нее, потом перевел взгляд на меня…
Глава 6
Посланец с юга, с одной из застав, расставленных вдоль морского побережья, добрался до Теночтитлана в первые дни месяца «уэн тосотли», что означало «долгий пост».
Месяц был посвящен богу Сентеотлу и древней покровительнице молодой кукурузы Чикомекоатл — им на этой священной неделе следовало приносить жертвы. Так оно и должно быть, прикинул гонец, теперь, когда на полях встала молодая кукуруза, земля должна любовно вскормить побеги, а для этого надо хорошенько поклониться могучему Сентеотлу. Затем зеленя следует вдосталь напоить дождем, а для этого придется задобрить Тлалока и всю его семейку, а также многочисленный род богинь кукурузы. И для всех церемоний требуются жертвы — людишек собирают по всем покоренным городам. Не плохо бы, прикинул гонец, по случаю такого неудачного года, всех этих ужасающих знамений, что случились в последнее время, устроить хорошую победоносную войну… Хотя бы против этих пришельцев, с вестью о новом появлении которых, о том, что они все-таки двинулись на север, он спешил в столицу. Тут его сердце сжалось от ужаса, словно холодная грязная рука жреца, вспоровшая ему брюхо, добралась и до этого священного комочка плоти. Он едва не вскрикнул… Хвала богам, успел опомниться — орать на дамбе, с юга ведущей в Теночтитлан, пугать крестьян, с утра пораньше копавшихся на своих, плавающих по водам озера Тескоко чинампам[20] — не дело. Этак можно угодить в руки надзирающих за порядком. Те могут обвинить в нарушении общественного порядка, доставить на сторожевой двор, и тогда весть, ради которой он на своих двоих, почти бегом, мчался ко дворцу будет доставлена с опозданием. Это ещё более тяжкое преступление, чем вопли на дамбе, после чего ему точно не миновать жертвенного ножа.
Так что там насчет чужеземцев? Его мысли вновь метнулись к огромным, свободно бороздящими широкую морскую гладь холмам, чьи вершины осеняли белоснежные, вздувшиеся под напором ветра, прямоугольные флаги. Зрелище было невиданное, вгоняющее в оцепенение. Прибавьте к этому сообщение о недавней битве, случившейся в устье Табаско, во время которой бородатые люди, заселившиеся эти движущиеся по волнам горы, наголову разгромили орду этих диких варваров; приложите сюда рассказы о чудовищных порождениях бога войны Уицилопочтли — существах четырехногих и двухголовых, о божественных змеях, изрыгающих грохот, дым и огонь, и в голове сама собой родится трезвенькая мысль. Ну их, этих чужеземцев! Непонятно, кем они посланы. Они там, на заставе, долго спорили и как опытные воины пришли к единодушному выводу — пощупать бородатых, конечно, следует. Если они люди и смертны, то следует захватить их в плен и принести в жертву богу ветра, ибо они безбоязненно святотатствуют. В Сеутле, например, выбросили из теокали[21] изображения Кецалькоатля или по-ихнему Кукулькана. Если же они боги или посланцы богов и не ведают смерти, то надо им поклониться, принести дары, попытаться выяснить, зачем они появились в благословенной стране Мехико. В любом случае без большого количества жертв не обойдешься. Иначе как умилостивить богов?..
Был ранний час, и над обширной горной долиной, приютившей столицу и множество других больших городов, над безразмерной гладью озера Тескоко, трепетало низкое, окрашенное бирюзой небо. Уже посверкивали и розовели в солнечных лучах снеговые шапки Попокатепетля и Иштаксиуатля — их отблеск подкрашивал нижние края маленьких тучек, которые любят висеть над вулканами. Ниже вырисовывалась густая свинцовая завесь сплошных облаков, в той стороне — на востоке — было мрачно, уныло. Здесь же, среди синеющих, отдохнувших за ночь озерных вод, в виду светлых оголовков-храмов, воздвигнутых на вершинах ступенчатых пирамид, среди десятков пирог, стремящихся в город с товарами и съестными припасами, верениц носильщиков, шлепающих босыми ногами по каменным плитам — было поспокойней.
Крошечные зеленые островки постепенно собирались в подобие пригородов, изрезанных каналами — это были те же чинампы, только с помощью корней деревьев, уже вросших в илистое дно. Они намертво вставали вровень с соседями. За геометрической нарезкой кварталов следили особые чиновники. Здесь уже можно было заметить тростниковые крыши крестьянских хижин. Скоро убогие жилища сменили строения, стены которых были сложены из адобов.[22] Наконец дамба незаметно перешла в улицу, ограниченную с обеих сторон более нарядными домами — их стены были побелены или натерты толченой пемзой тускло-красного цвета.
Гонец прибавил шаг — до цели было совсем близко. Еще несколько кварталов, соединявшихся переброшенными через каналы мостами, и он очутился на центральной площади Теночтитлана, ещё полупустой в этот ранний час. Редкие группки жрецов в темных одеяниях — волосы их были испачканы запекшейся кровью, уши изувечены во время церемоний — бродили по площади. Разжигали кадильницы, украшали гирляндами из цветов головы гигантских змей, которые снизу ограничивали балюстраду крутой лестницы, ведущей на верх пирамиды. Там, в лучах явившегося солнца серебристо посверкивали два храма. Справа от пирамиды возвышались стены, за которыми располагались покои правителя Анауака — «страны у вод» — Мотекухсомы Шойокоцина[23] Посланцу долго объясняли на заставе, как обойти дворец, в какие двери следует постучаться. Он немного запаздывал и по этому на сердце было неспокойно, однако служитель в высоком головном уборе из перьев, принявший послание правителя Куахтлы, не обратил на запыхавшегося и изо всех сил скрывавшегося тяжкие вдохи воина никакого внимания. Просмотрел послание и коротко бросил.
— Жди! — потом уже у порога двери ведущей в следующую комнату, за которой чуть просматривался внутренний дворик, добавил. — Снаружи…
Приказ был понятен. Гонец вышел на площадь, сел на корточки у стены, дожевал оставшийся кусок кукурузной лепешки. Позволил себе встать и добраться до источника с ключевой водой, которая хлестала через прорубь в глиняной трубе. Попил, вернулся на прежнее место, вновь присел на корточки — так и замер у стены.
Тени укорачивались на глазах, раскалялись каменные плиты, которыми был выложен пол на главной площади Теночтитлана. Солнечный свет густел, плотно ложился на стены дворца, покрытые каменной резьбой плоскости пирамид, на жертвенник, расположенный у спуска к каналу; на громадную стойку для черепов, разложенных там в строгом, по годам, месяцам и дням порядке. Воздух, пропитанный ароматом курящейся в кадильницах драгоценной камеди, пахучим дымком костров, уже заметно подрагивал, обнаруживал свою весомость и изначальную животворящую силу. Мир плыл перед глазами, терял реальность. Храмы Уицилопочтли и Тлалока, воздвигнутые на вершине пирамиды, казалось, отринули основание и воспарили в воздух. Еще мгновение, и волей небесных правителей они займут свое место на вершине Попокатепетля, раздадутся вширь и ввысь. Великие боги выйдут к жертвенному камню, что лежал между двумя храмами, глянут вниз, на раскалившуюся от зноя земля, на снующих на ней людишек… Что возвестят они в этот момент? Чем порадуют? Или выкажут гнев?..
В колеблющемся воздухе обрели живость, затрепетали таинственные символы священных календарей, выбитые на округлых каменных плитах, стоймя расставленных по периметру площади. — шел «Первый день тростника» тринадцатый год с начала эры науа. Возле одной из плит, уложенных горизонтально, толпилась группа торговцев, каждый из которых размахивал длинным шестом с прикрепленным к нему ковшом с дымящимися благовониями. Видно, собрались в дальние края за товаром, вот и решили принести в жертву раба. Что-то они поскупились, выбрали какого-то немощного, худющего… Раб стоял, опустив голову, на его лице запеклась маска крайней усталости. А ведь отдохнуть после жертвоприношения, после того, как вырванное его сердце будет сожжено на священном огне, ему не придется. Четыре дня рабу придется добираться до царства мертвых, называемом Миктлан. Хватит ли у него сил пройти между двух гор, избежать нападения змеи и исполинского аллигатора, пересечь восемь пустынь, переправиться через широкую реку?.. Ох, не хватит! Но купцам до этого нет никакого дела — им лишь бы насытить Якатекутли, владыку указанного пути, чтобы тот обеспечил им безопасность в пути и выгодный обмен, а на повелителя царства мертвых Митлантекутли им плевать.
Ох, люди-человеки!.. Совсем от жадности головы потеряли.
Солнце перевалило за полдень, погрузилось в страну, где обитали женщины, погибшие во время родов. Это была почетная смерть — ведь они должны были одарить племя новыми воинами и теперь отдыхали в благодатном вечернем краю.
— Заходи! — чей-то голос оторвал гонца от созерцания.
Он послушно встал — в глазах поплыли радужные круги, члены пронзила острая боль — переступил через порог, прищурился. Тот же чиновник указал на дверь, ведущую в следующую комнату.
— Туда. Там накормят. Ты должен вымыться, тебя надушат, приведут голову в порядок, постригут… — чиновник внимательнее присмотрелся к посланцу с юга. Мелковат, жилист, сухопар, ребра торчат — если приглядеться, видно, как булькает сердце. Длинные волосы склеились в сосульки, покрылись пылью. По обнаженному смуглому телу тоже сплошь грязевые разводы. Из следопытов, по-видимому… Из отрядов охранения… Кто такого в боевой ряд поставит!.. Ходит плохо, долго, не умеет ждать. Прежде, чем ступить, несколько мгновений приходил в себя — это никуда не годится. Хотя что с них взять, с южан. Тоже удовольствие — заниматься этим грязным скотом. Служитель вздохнул, задумался — если бы не важность сведений, которые он доставил с границы, стал бы он возиться с этим…
— Тебя позовут. Ты сам видел горы, шествующие по морю?
— Да, господин. Я следил за ними.
— Хорошо, ступай.
Кому послеполуденный отдых, а кому головомойка.
С гонцом особенно не церемонились. После помывки кинули новую набедренную повязку и сандалии из сплетенных волокон агавы, кое-как надушили и приказали: «Ждать!» В девятом часу дня, ближе к закату, неожиданно прибежали два молодых дюжих воина, молча схватили гонца под мышки и поволокли через внутренний дворик в ворота. Следующий двор просторный, с фонтаном и клумбами — был уставлен по периметру клетками, где в вечерней тишине нежились змеи. Было их здесь не перечесть! Завидев людей, некоторые из них подняли головы, зашипели. Скороход от страха и неожиданности невольно поджал ноги, но воины как будто не заметили тяжести живого тела. Далее в новый двор — здесь по клеткам были рассажены всякие звери. В ближайшей дрыхнул, свернувшись клубочком, дикий кот. Наконец притащили в какую-то скудно обставленную комнату, и, постоянно понукая быстрее, быстрее! — велели скинуть сандалии, накинуть скромный плащ из пальмовых листьев, предупредили, чтобы не смел поднимать голову, потом втолкнули в следующую комнату. Здесь его подхватили другие сильные руки, пригнули голову… Гонец совсем обмяк, и, когда его отпустили, рухнул ниц. У стены в таких же плащах и набедренных повязках, склонив головы, стояли люди. Двое, нет, трое… Это были важные господа, пусть даже держались они скромно — глаз у скорохода был наметанный. Впереди возвышалась ширма из перьев — вся её ширь представляла из себя необыкновенно яркую картину, изображавшая победу взмывающего в воздух орла. В когтях царственная птица держала дикую мексиканскую кошку.
У посланника перехватило дыхание — за ширмой сам великий Мотекухсома… Зачем его пригласили? Что он, невзрачный, маленький человечек, знает такого, чего не было в послании правителя Куахтлы?
В этот момент из-за ширмы донесся тихий невнятный голос. Сверху кто-то — по-видимому, домоправитель тлатоани — возвестил.
— Подойди ближе.
Гонец тут же на четвереньках, не поднимая головы, поспешил вперед.
— Стой!
Он замер, затаил дыхание. Впереди что-то едва слышно зашуршало…
— Подними голову.
Вот этого скороход боялся более всего. Вдруг что-нибудь не понравится повелителю. Может, голову неправильно расчесал или тот сочтет, что взгляд у скорохода дерзкий. О дальнейшем он даже не смел задумываться.
— Подними голову.
Гонец осторожно глянул перед собой. В двух шагах от него, на возвышении, на низком широком ложе сидел великий Мотекухсома. Был он светлолик, на подбородке редкие длинные волосы. Это знак родства с богами, с великим Кецалькоатлем! Недаром про нынешнего правителя слава идет, что он весьма сведущ в тайных знаниях и люб богам.
Прищурившись, правитель терпеливо наблюдал за присланным с юга человеком, словно понимал, что тому надо дать время освоиться, прийти в себя — не каждый день простому воину доводилось лицезреть «того, кто общается с богами», и сам наполовину бог. Мысли человека, стоявшего перед ним на четвереньках, были понятны Мотекухсоме Шокойоцину. Ясным представлялось и будущее этого скорохода. Пройдут годы, он отслужит свой срок, получит право без меры глотать пульке.[24] Худо тогда придется его внукам. Налакавшись пульке до двух сотен кроликов, в который раз он будет рассказывать им о встрече с самим правителем. Те не будут знать, куда спрятаться от пьяного деда. Мотекухсома усмехнулся… Пусть рассказывает!
Между тем гонец перевел дух, ребра чуть заметно расширились и опали.
— Расскажи, что ты видел на морском берегу? — спросил Мотекухсома. Голос у него был тихий, окончания правитель сглатывал, так что приходилось внимательно прислушиваться к словам.
— Господин наш и повелитель, прости мою смелость. Я прибыл из Миктлана Куахтлы. Мне и тем, кто приписан к пограничной заставе, было поручено следить за морским побережьем. Я бродил по берегу и вдруг увидел нечто, напоминающее не то гору, не то большой холм, шевеливший морскую гладь и не пристающий к суше. За первой горой двигалась другая… Всего их было десяток и ещё одна. Подобного мне не приходилось видеть, — гонец сделал небольшую паузу, сглотнул слюну, потом добавил. — Нам поручено охранять побережье, и я сразу поспешил к правителю Куахтлы. С той поры мы пребываем в тревоге.
— Похожи ли эти горы на большие лодки?
— Да, государь, я бы и назвал их пирогами, если бы не огромные куски полотна, натянутые на древесные стволы. Их надувает ветер, и потому они стремительно скользят по морю.
— Почему ты решил, что с помощью этих кусков материи пироги приходят в движение?
— Потому, государь, что, когда наступает тишь и полотнища опадают, пироги останавливаются. С них бросают камни на веревках и они замирают, как привязанные, несмотря на прилив и отлив.
— Пользуются ли бородатые люди веслами?
— Да, великий… Я сам наблюдал, как с маленькой пироги, над которой был натянут кусок материи, напоминающий платок о трех углах, спустили весла, и она направилась к берегу.
— Когда это случилось?
— Как только стих ветер, государь.
— С какой целью?
— Набрать пресной воды, повелитель.
— Видел ли ты четырехногих и двухголовых чудовищ, принимавших участие в сражении при Табаско?
— Нет, мой повелитель. Я только слышал о них.
— Что ещё ты можешь рассказать о пришельцах?
— Более ничего, государь. Я бдительно следил…
— Верю. Ступай…
Когда скорохода вывели из зала, наступила тишина. Мотекухсома выпрямился — так и застыл в неестественной позе. Люди у стены замерли. Наступила тишина.
— Свершилось! — наконец подал голос тлатоани. — Они пришли. Завтра волей богов объявляю заседание Государственного совета.
Потом он подозвал советника.
— Ты все записал? — спросил он и, не дожидаясь ответа, продолжил. Допросите гонца, пусть он расскажет все, что знает. Вплоть до самых мелких подробностей… К завтрашнему совещанию все бумаги должны быть готовы и прежде всего полный отчет о появлении чужеземцев в наших краях и дальних землях.
Должно быть, это действительно захватывающее зрелище — двигающиеся по морю горы. Вот что непонятно — чужеземцы разрушили храм могучего Кецалькоатля в Сеутле, и все равно бог ветра Ээкатл покорно наполняет стремительной силой их корабли. Вот в чем заключена тайна, ведь Ээкатл всего лишь воплощение необоримого Кецалькоатля. Что позволяет пришельцам так легко добиваться победы в сражениях? Где разводят они этих невиданных, пышущих злобой, дымом, огнем и грохотом зверей? Откуда прибыли они, и что ждет теперь правителя страны у вод и все племя непобедимых теночков?[25] Если рассуждать здраво, то восток — именно с той стороны появились пришельцы — это край изобилия. Там правят повелитель дождя Тлалок и владыка туч Мишкоатл. Они суровы, но справедливы к людям. Если не пожалеть для них человеческой крови, то милость их становится безгранична… Так, так…
…Мотекухсома, закинув руки за голову, лежал на широком ложе. Рядом лежала наложница — полная, мягкая, с маленькой грудью, крепкой, как два початка кукурузы. Он любил проводить с ней зимние ночи. Женщина, бывало, потела, но все равно она так вкусно, до одури аппетитно, пахла. Была послушна и ненавязчива — случалось, иной раз понимала, о чем он толковал по ночам. О-о, иногда ему выпадали странные, наполненные неясным томлением, завораживающие тайным смыслом ночи. Тогда он прозревал и видел себя у подножия небесных чертогов великого Уицилопочтли, или в облачном храме Тлалока, а то попадал в объятия самого Кецалькоатля. Случалось — и эти минуты были самыми жуткими и завораживающими — оставался один на один с богом «курящегося зеркала» — непостижимым и всесильным Тескатлипокой.
Повелитель много размышлял о божественных сущностях, их способности изливать на землю, в самую гущу хлопотливых, озабоченных бытием людей свет мудрости и знаний. Об одном из таких полночных откровений он всегда вспоминал с трепетом, даже писцам заикнуться об этом не решался.
Если продолжить мысль легендарного мудреца Несауалкойотля,[26] бывшего когда-то, в другую эпоху, правителем Тескоко, то неизбежно придешь к выводу, что и бог войны, непобедимый Уицилопочтли, и не знающий границ Кецалькоатль, и громоподобный Тлалок всего лишь воплощения единой, неподвластной разумению силы, владеющей миром. Все божьи существа лишь проявления её изобильной, животворящей сущности. Имя бога по существу одно.
Тескатлипока!.. Владыка «курящегося зеркала».
Это был ошарашивающий вывод. Выходило, что и чужеземцы не более, чем порождение того же таинственного владетеля мира, и их жажда золота только алчность, а поклонение деревяшке, сколоченной в форме креста — то же воспевание Тескатлипоки или как они его там называют…
Женщина не спала — ей, когда бодрствует тлатоани, не положено было спать. Нельзя в то же время мешать боговдохновенным раздумьям Мотекухсомы. Неожиданно правитель услышал тихие всхлипы. Этого ещё не доставало! Он легонько ткнул женщину в бок — та сразу же повернулась к нему, запричитала громче, зашептала жарко.
— Во дворце только и говорит о завтрашнем совете. Что же теперь будет? Чужеземцы придут сюда? Обратят нас в рабство? Принесут в жертву? Убей их! Убей их сразу!.. Пусть их сердцами насытятся боги. Спроси у гадальщиков…
Тут же она поняла, что ляпнула запретное, в страхе прикрыла рот пухленькой ладошкой, выжидающе глянула на Мотекухсому. Щека у того дернулась, он коротко и тихо выдохнул.
— Вон!
Женщина моментально метнулась к порогу, там накинула на себя хлопчатобумажную накидку, прикрыла голову и выскочила за дверь.
Тик не отпускал Мотекухсому. Вот оно наказание за крамольные мысли!
И сердце вновь, как в тот день, когда он проиграл правителю Тескоко Несауалпилли последнюю, пятую, партию священной игры в мяч, — ухнуло в бездну.
Гадальщики! Прорицатели, властитель мертвых их раздери! Послушать их, так его, Мотекухсомы, песенка уже спета! Одни говорят одно, другие вещают другое — кому верить? Базарным фокусникам? Шарлатанам? Для них любой пустяк — повод для запугивания людей. Только боги могут дать ответ, что означают все эти знамения, так нелепо обрушившиеся на подвластную ему страну. Причем ответ может быть дан только ему, Мотекухсоме! Лично!..
Вот какие знамения не давали ему покоя.
Прежде всего в течение года за озером изредка в полночь вздымался в небо огненный столб. Затем были разрушены два храма — один внезапным пожаром, другой — молнией, не сопровождаемой громом. Однажды в полдень в небе явилось хвостатое чудовище, а на востоке по ночам загоралось неведомое сияние. Десять лет назад на озере Тескоко внезапно поднялось сильное волнение, а совсем недавно в Теночтитлане раздался истошный женский вопль: «Дети мои, — кричала безумная, — мы погибли! Погибли-и-и мы-ы!..»
Тлатоани обратился к гадальщикам. Их ответ был вполне благоприятен для него, однако правитель Тескоко принялся доказывать, что живущие в Теночтитлане прорицатели ошибаются. А его, из Тескоко, видите ли, безгрешны! Вот что они разглядели в ближайшем будущем — небывалые бедствия ждут Мехико. Ему, великому Мотекухсому Шокойоцину, тоже несдобровать.
Безумцы! Они посмели угрожать самому тлатоани племени теночков, боевой клич которых способен поколебать землю, привести в трепет сотни племен, населяющих просторы среднего края и все четыре области горизонтального мира.
Спор предводители союза трех городов решили разрешить посредством священной игры в мяч. В первых двух партиях Мотекухсома по милости богов наголову разгромил соперника, однако в трех последующих периодах он уступил.
Это, конечно, был дурной знак, но Мотекухсоме удалось задобрить богов. Он принес в жертву несколько сотен человек. Было видение, что повелители неба приняли жертвы и, насытившись, решили отвратить печальный жребий.
И все равно покоя не было! Следом провалилось новое вторжение в непокорную Тласкалу.[27] Пришлось вернуться к прежней политике, проводимой дедом Мотекухсомы, непобедимым Ашайякатлом, его братьями Тисоком и Ауциотлом. Суть её сводилась к организации полной блокады Тласкалы, попыткой с помощью голода и хозяйственного разорения поставить непокорных горцев на колени. Собственно, других поражений Мотекухсома не знал. По всей стране было тихо, редкие местные мятежи улаживались с помощью стоявших там на постое отрядов ацтеков. Если бросить на весы сделанное — он покорил Семпоалу, прошел по всему восточному побережью почти до самого устья Табаско, затем совершил несколько успешных походов на юго-запад — то общий итог будет явно в его пользу. Но что значил этот подсчет по сравнению с волей богов, которым дано в одночасье опрокинуть всякие надежды, всякий триумф, любое пророчество.
Так пусть они ответят!
Он поднялся с ложа, кликнул постельничьих, приказал послать гонцов и призвать двух главных жрецов — Кецалькоатля Тотек-тламакаски и Кецалькоатля Тлалок-тламакаски. Только тихо, предупредил он слугу. Если что-то станет известно в городе или при дворе, он будет безжалостен. Понятно? Помощник домоправителя, средних лет, хорошо сложенный человек из благородного семейства, правившего одним из двадцати родов, входящих в племя непобедимых теночков, был явно напуган последовавшим приказанием. Он даже посмел возразить.
— Повелитель, в такой час?.. Когда землей владеют духи ночи? Когда никто, как бы свят он не был, не может чувствовать себя в безопасности?..
Мотекухсома прищурившись долго смотрел на слугу, потом наконец подал голос.
— Хорошо. Подними отделение[28] охраны, только сам выбери людей. Если кто-нибудь из них проговорится, ты первый лишишься сердца. Предупреди жрецов, — так же сквозь зубы добавил тлатоани, — я собираюсь взойти на вершину пирамиды и встретить рассвет в храме Уицилопочтли. Никаких факелов, процессий — только я и они.
Лестница была настолько крута и длинна, что волей-неволей правителю Теночтитлана и обоим сопровождающим его высохшим, похожим на мумии, седовласым жрецам, пришлось сделать несколько остановок. На одной из них Мотекухсома припомнил, что в молодости, когда он был служкой при храме бога войны и воплощенного солнца Уицилопочтли, ему хватало дыхания и сил с одного раза, без спешки, одолеть лестницу, по которой боги спускались с небес на землю.
Воспользовавшись моментом, один из жрецов, являвший собой земную ипостась великого Тлалока — был он в набедренной повязке, на голове убор из птичьих перьев, — позволил себе первым спросить государя.
— Повелитель, мне доложили, что некий ремесленник из Чолулы соорудил из двух спилов дерева что-то подобное детской игрушке и теперь возит на ней ноши груза. Как поступить с этим человеком?
— Тележка катится по земле, не так ли? — спросил повелитель и тут же, не дожидаясь ответа, распорядился. — Святотатца, посмевшего приспособить священный символ солнца для грязной, недостойной работы, лишить сердца в ближайшее чествование молодого воина Уицилопочтли. Оскорбляющий достоинство светила предмет сжечь! Только тихо, в каком-нибудь отдаленном храме, без привлечения излишнего шума. Ни к чему…
Наконец они выбрались к полыхающему в ночи священному огню. Яркие отблески ложились на оштукатуренные стены обоих храмов, на гранитный камень с углублением и канавками по бокам, на каменные плиты. В свете огня небо на вершине казалось особенно мрачным и непроглядным. Мотекухсома направился в тень, оба главных жреца последовали за ним.
— Предупредите охраняющих огонь, чтобы ни слова о сегодняшнем нашем восхождении.
Когда приказание был исполнено, он продолжил.
— Молитесь, святые отцы! Молитесь денно и нощно… Пусть живущие над облаками дадут ответ — кто они, пришельцы? Дети и слуги великого Кецалькоатля или дерзкие пополокас,[29] которые явились, чтобы низвергнуть наше племя и уничтожить богов, которым мы поклоняемся. Этот вопрос должен быть решен раз и навсегда! — Мотекухсома рубанул рукой ночной воздух. — Как вписывается их появление в мировой порядок, должное исполнение и существование которого поддерживаем мы, ацтеки! Молитесь неустанно, ждите знамения… Я буду ждать ваш ответ.
— Великий государь! — воскликнул главный жрец бога войны. — Они варвары и никакими другими существами быть не могут. Вспомните, кого увел на восток великий вождь Се Акатль Топильцин-Кецалькоатль! Народ строителей-тольтеков. Они говорили на нашем языке, разделяли наш взгляд на мир. Это же недопустимое и кощунственное упрощение приписывать этим чужеземцам родство с Кецалькоатлем только потому, что у них на щеках и подбородке растут волосы!.. По сведениям разведчиков-купцов они смертны, у них красная кровь, ею вполне могут питаться боги. Кроме того, свидетели утверждают, что в Сеутле они низвергли изображение самого божественного «пернатого змея» Кецалькоатля. Это дикие, жаждущие золота люди…
— Но почему они так охочи именно до золота? Неужели им неизвестно, что серебро куда дороже? Они не понимают великой ценности нефрита? Это что тупость или неразвитость? Да, они сокрушили святилище Кецалькоатля, но сам Ээатл наполняет силой полотнища на их пирогах. Они ведут себя непочтительно по отношению к могучему Уицилопочтли, и в то же время сумели развести страшных зверей, одни их которых пышут огнем, другие четырехноги и о двух головы. Их горсточка, но они сокрушили тридцати двухтысячное войско людей из Сеутлы. Конечно, всем известно, какие они вояки, но у чужеземцев всего двое убитых! Я не могу бросить свою армию в бой, не будучи уверенным, что мы имеем дело именно с людьми, которые чужды нашим богам. Армия — это решающая сила, с её помощью мы держим в страхе всю землю от моря и до моря. Я не имею права на поражение, иначе все эти трусливые шакалы, которых мы сокрушили, вновь поднимут голову. Но это дела земные, вам не следует задумываться об этом…
— Великий государь, — откликнулся верховный жрец, воплощавший на земле бога дождей Тлалока, — вспомни, чему учил я тебя, когда ты был служкой при этом храме. Не надо приписывать божественную ипостась произошедшему от женщины. Никто не знает, откуда они пришли, но они люди. Обыкновенные человеки, возомнившие, что могут безнаказанно посягнуть на непобедимого Кецалькоатля и Уицилопочтли. Боги копят гнев, ты должен стать их бичом. Сбрось их в море, а кровью пленных насыть наших небесных властителей…
— Ага, сбрось! — воскликнул Мотекухсома. — Придут другие. Я не могу постоянно держать большой отряд на побережье. У нас не так много воинов, как хотелось бы… Всего сто двадцать тысяч, и все они при деле.
— Другие не явятся! — убежденно и страстно заговорил второй жрец. Несведущая чернь болтает, что они якобы явились из-за моря, но ведь известно, что за морем земли нет. Там только вода, плавно переходящая в небосвод. Мне ли объяснять тебе, великому и мудрому, устройство мира?.. Скорее всего это шайка разбойников, изгнанных из родных мест. И пришли они не с востока, а с юга, из страны зла. Из областей, подвластных богу весны Шипе. Вот и надо к следующему празднику весны содрать с их военноначальника кожу и принести его в жертву.
— Я бы не стал так опрометчиво лезть на рожон, — возразил жрец Тлалока. — В таких делах спешка опасна. Наша цель — сохранить мировой порядок, чтобы демоны ночи не посмели даже прикоснуться к сияющему диску солнца, чтобы солнце и луна не встретились в битве. Чтобы эти мрачные звезды, — он обвел рукой небосвод, — никогда не посмели вторгнуться в область дня. Такова воля богов, таков наш ответ.
Между тем звезды, густо высыпавшие на низкий, как бы облокотившийся на вершины вулканов Попокатепетля и Иштаксиуатль небесный купол, действительно мрачно, с какой-то угрюмой подозрительностью наблюдали за стоявшими на вершине пирамиды людьми. Ночь была безлунная и все равно светлая. Близился рассвет, за сереющими очертаниями великих гор уже начинала пробиваться узкая бирюзовая полоска. Светлело… Вселенная — животворящая, пронизанная солнечными лучами, одаривающая людей теплом, светом, кукурузой, перцем, мудростью и прочими дарами великого Кецалькоатля — возрождалась на глазах. Этот ясный, благостно устроенный мир и должны были защищать ацтеки. Это был их удел — так учили древние, об этом так часто напоминали им боги. Тьме отводилось девять часов священных суток, после чего она должна быть изгнана из обитаемых земель…
Скоро все тринадцать небес обозначились над головой Мотекухсомы и сопровождавших его жрецов. Каждое из них было по разному окрашено — сначала розово-алый ярус-мир, где совершали свой ежедневный и ежегодный путь луна, солнце, а также вечерняя звезда — любимица Кецалькоатля, затем травянисто-багряное обиталище великих богов. Еще выше и западнее располагалась синеватая мгла — место, где правила животворящая двойственность, воплощенная в Подателе жизни и Хранителе вселенной.
Бежали мгновения. Заметно притухали костры, горевшие на других пирамидах Теночтитлана. Вдали очертились берега Тескоко, прямо на севере уже были видны строения соседнего города, расположенного на этом же острове Тлателолко.
Государь ждал восхода, ждал знамения, которое дало бы ответ, как поступить. Наконец солнечный диск ослепительно брызнул лучами и уже через несколько мгновений начал привычно карабкаться к вершине небосвода. Золотое око Уицилопочтли равнодушно оглядывало землю…
Два мнения столкнулись на Государственном совете. Наиболее непримирим был Куитлауак, родной брат тлатоани, правитель Истапалапана — города расположенного на южном берегу Тескоко неподалеку от Теночтитлана. К Истапалапану была протянута одна из дамб, которые связывали столицу империи с окружающим миром. Он упорно и вызывающе настаивал на том, чтобы волей совета вождей союзных племен все вооруженные силы должны быть брошены против пополокас.
— Призываю сделать все возможное и невозможное, чтобы вырвать с корнем сорное семя, невесть откуда занесенное к нашим берегам!
Мотекухсома, раздраженный нарушением церемониала — брат подал голос ранее оглашения советником исторической справки и сводки последних сведений, которые поступили в канцелярию тлатоани от скорохода с юга осадил того взглядом.
Наступила тишина, теперь никто не смел рта открыть, пока не позволит правитель Теночтитлана. Мотекухсома умел держать паузу, любил это делать. Он и храмовой школе обычно отвечал после долгой задержки. Если кто-то из учителей-жрецов начинал выказывать нетерпение, он сосредотачивал на нем тяжелый неподвижный взгляд. «Власть, — как-то поделился с ним правитель Тисок, его двоюродный дед, — не любит суеты, криков, неисполняемых угроз. Бояться должны не речей, а взгляда». Дедушка был прав — подданные действительно даже вздоха его боялись. Правда, правил он недолго, его отравили через шесть лет после того, как выбрали тлатоани.
— Даже в такой напряженный момент, не стоит забывать о приличиях, кротким тихим голосом напомнил Мотекухсома. Он сидел на царственном ложе на голове золотой венец, в мочках ушей драгоценные серьги из нефрита. Сначала послушаем советника. Он ознакомит присутствующих с существом дела.
Советник — человек средних лет очень приятной наружности с огромным кольцом из золота, продетым в правую ноздрю, шагнул вперед и принялся излагать сведения, которые аккуратно собирались властями Мехико и касались появления в их краях неведомых чужеземцев, избороздивших восточное море на больших, движимых силой ветра лодках. Первое упоминание о бородатых, светловолосых людях, повелевающих исполинскими пирогами, породой страшных, огнедышащих, извергающих дым и грохот чудовищ, а теперь, как оказалось, и какими-то двухголовыми существами, пришло в Теночтитлан от высадившихся дикарей, суденышко которых сильным ураганом отнесло к берегам Мехико.
В последние два года их огромные, как горы, лодки дважды осматривали побережье страны майя, пытались высадиться в Чампотоне, но были отброшены с большими потерями. Есть свидетельства, подтверждающие, что они пролили на поле боя свою кровь. Она красного цвета и съедобна для богов. Теперь они появились в пределах Анауака. Люди, живущие на реке Табаско, в Сеутле, были предупреждены о недопустимости каких-либо контактов с пришельцами. На первый взгляд, они так и поступили и отказали тем в пресной воде и кукурузной лепешке, однако после трех сражений они мало того, что признали власть какого-то неизвестного восточного владыки, но и позволили разрушить храм могучего Кецалькоатля, что доказывает…
Советник позволил себе сделать паузу и, набрав полные легкие воздуха, звенящим и торжественным голосом добавил.
— Что доказывает безосновательность утверждений, что они ведут свой род от того, кто ушел за море.
Наступила тишина. Мотекухсома с явным нетерпением ждал возгласа или какого-либо другого непочтительного жеста со стороны правителя Истапалапана, однако Куитлауак сумел взять себя в руки и, несмотря на душившее его негодование, дождался приглашения начать обмен мнениями. Он первым взял слово.
— Хочу сразу заметить, что вопрос о происхождении чужеземцев не может считаться главным. Хотя бы в этот момент… С кем мы имеем дело, следует выяснить на поле битвы. Конечно, не следует бездумно бросаться в бой, однако люди, посмевшие нарушить границы Анауака, заставившие отложиться тех, из Сеутлы, являются врагами. По форме и по сути… В какие бы одежды они не рядились…
— По-видимому, уважаемый правитель Истапалапана, — язвительно начал молодой Какамацин, правитель Тескоко и любимец Мотекухсомы, — полагает, что с помощью боевой дубины можно решить все, даже самые запутанные проблемы. По-видимому, уважаемый правитель Истапалапана не обратил внимания на то обстоятельство, что пришельцы всегда, во всех случаях называют себя посланцами некоего неведомого владыки. Это может означать только одно — они не являются кучкой разбойников или изгнанным из своих пределов племенем. Значит, начиная войну, мы сразу бросаем вызов восточному государю. Хочу добавить, могучему государю, который вслед за этим отрядом непременно пошлет следующий. На какой же путь нас толкает уважаемый правитель Истапалапана? Теночтитлан и Тескоко как две главные военные силы в нашем союзе окажутся втянутыми в длительную, с непредсказуемым исходом войну. Даже в случае нашей победы, а я не сомневаюсь в ней, мы будем вынуждены постоянно держать на побережье большое войско. А чем, позвольте спросить, кормить его? Запасов, хранящихся в Семпоале, мало, тем более, что в верности этих новых подданных я сильно сомневаюсь…
— Хорошо, — прервал его Мотекухсома, — что же ты предлагаешь?
— В чем состоит наша главная задача? Я полагаю, мы должны выиграть время, чтобы поближе познакомиться с чужеземцами, выведать, на что они способны, и в то же время не допустить высадки на побережье их новых отрядов. Следовательно, необходимо встретить их уважительно, с лаской, как почетных гостей. Проводить в столицу, поселить здесь… Я не знаю более удобного места, где наши воины смогли бы быстро и без особых хлопот разделаться с ними. Насколько мне известно, их метающие огонь звери и эти двухголовые существа особенно опасны в поле во время сосредоточенной массированной атаки боевого ряда. Здесь же мы можем легко блокировать их. Конечно, следует подобрать подходящий квартал для их расселения. Мы не должны препятствовать их связям с неведомым владыкой — по крайней мере, в этом случае мы обезопасим себя от появления новых отрядов.
— Уважаемый правитель Тескоко, — ответил вдруг погрустневший вождь Куитлауак, — намекая, что от решительного столкновения с противником, выиграют исключительно малые города — что очень мне обидно! — забывает, что чужеземцы тоже получат возможность приглядеться к нам. Он не учитывает, что направляясь в Теночтитлан, они смогут составить полное представление о нашей мощи и о наших — да простит меня великий Мотекухсома! — слабостях. Уважаемый вождь Какамацин утверждает, что необходимо выиграть время. Согласен! Но ведь точно такая же задача стоит и перед этими варварами!.. Однако в этом состязании у них есть немаловажное преимущество — скоро наступит пора сбора урожая, и нам будет очень трудно собрать войско. Они же малочисленны и, следовательно, подвижны. Еще два месяца, и у них будут развязаны руки! Учитывает ли уважаемый правитель Тескоко вот ещё какой момент — именно теперь все ждут, что мы начнем собирать армию. Затяжка с мобилизацией расхолодит воинов, они могут посчитать, что большой опасности нет. Армию с таким настроем нельзя вести в бой!
— И все-таки, — наконец подал голос Мотекухсома, — правитель Истапалапана не ответил на главный вопрос: что случится, если мы потерпим поражение в первой же решающей битве. Он полагает, что в этом случае у чужеземцев не будут развязаны руки?
Это замечание пришлось не в бровь, а в глаз. Куитлауак замолчал, сжал губы. Действительно в случае принятия предложенного им плана, первое же поражение может означать крах всего замысла. На вторую битву ацтекам просто не хватит продовольствия.
— Но и встречать с почетом тех, кто осмелился посягнуть на наши священные права над племенами, живущими в устье Табаско, тоже не дело…
— Конечно, — согласился Мотекухсома. — В этом смысле прав Какамацин, утверждающий, что нам не следует все ставить на одно-единственное сражение. Прав он и в том, что обе наши стороны заинтересованы в выигрыше времени. Конечно, пускать чужаков в столицу — это не выход из положения, но и бросаться в бой сломя голову тоже не стоит. Нам следует убедительно продемонстрировать иноверцам нашу мощь. Но не на поле брани!.. И прежде всего выведать все, что возможно об этих ужасных существах и больших лодках, способных улавливать ветер. Повелеваю, отправить посольство на побережье и завязать переговоры с целью выяснения, что ищут в наших землях варвары.
Сразу после возвращения советника Теутлиле, с богатыми дарами отправленного на побережье, он был призван к Мотекухсоме в зал заседаний. Здесь же были расставлены и подарки присланные вождем чужестранцев. Все они были тщательно осмотрены местными колдунами, проверены на наличие злых чар, окурены ароматными благовониями. Поодаль на низких столиках лежали свитки с рисунками, изображавшими Кортеса и его людей, корабли, пушки, коней, Малинче, Агиляра и многое другое, что с удивительной меткостью запечатлели ацтекские художники.
Теутлиле между тем докладывал.
— …они называют себя испанцами. Мы дали им дары из золота, дары из перьев птицы «кецаль». Когда мы дали им все это, они возрадовались. На лицах их засияло счастье. Словно обезьяны хватали они золото, раскачивались от удовольствия. Оно преобразило их лица и озарило ярким светом их сердца. Вот она, истина — с неизъяснимой жадностью чужеземцы стремятся к золоту. Сколько ни давай, им все мало. Уже брюхи раздулись, глаза повылезали, а они все насыщаются и насыщаются. Как собаки…
Мотекухсома в пол-уха слушал посла. Он жадно разглядывал стеклянные бусы, какое-то не первой свежести кресло, в котором, как утверждает Теутлиле, он, великий тлатоани и любимец богов, должен встретить вождя чужеземцев — на этом настаивал их предводитель, в услужении у которого есть девка-рабыня Малинче. Кто такая? Почему свободно изъясняется на языке пришельцев? Теутлиле утверждает, что эти… «кастилан» получили девку в дар на реке Табаско. Необходимо срочно отыскать все сведения об этой Малинче, отметил про себя тлатоани. Он ощупал странные наряды из полотна — сбоку, к груди и спине, были пришиты мешки для рук. Зачем?.. Подержал в руках странный головной убор с медальоном на передней части. На нем был изображен некий воин, взгромоздившийся на нелепое четырехногое существо и пронзающий дротиком крылатую змею.
Крылатая, значит, в перьях? Необходимо срочно прояснить это обстоятельство. Пусть его золотых дел мастера тщательно изучат изображение… Он отошел к возвышению, некоторое время молчал, потом обратился к Теутлиле.
— Ты утверждаешь, что предводитель этих пополокас везет мне грамоту от своего владыки?
— Да, государь.
— Они полагают, что все эти дары достойны, чтобы вручить их мне?
— Да, повелитель.
Мотекухсома боялся поверить в такую нежданно-негаданно свалившуюся удачу. Любому ясно, что ценность присланных подарков не идет ни в какое сравнение с теми богатейшим набором предметов, которые отвез на побережье Теутлиле. Полезность и стоимость присланных даров были просто мизерны, а значит!.. Тлатоани Теночтитлана на мгновение затаил дыхание — значит, в такой же степени различается и их мощь! Какой смысл заводить отношения с неведомым восточным владыкой, у которого даже благородные поданные, даже послы, везущие грамоты, — нищие и жадные варвары! И ни одного знака, никакого намека на то, что они как-то связаны с Кецалькоатлем!
Надо же — пронзенная дротиком священная змея!..
Глава 7
Не знаю, догадывался ли Алонсо Пуэртокаррера о том, чего добивалась донна Марина? Какую цель преследовала она, пытаясь перебраться в мой шатер? По крайней мере, мы никогда — ни на побережье, ни здесь, в Испании — не заговаривали с ним на эту тему. Кое-какие наблюдения и обстоятельства склоняют меня к мысли, что она во всем призналась ему. Марина была способна на это, на пути к цели она была способна сокрушить любую преграду. В её силах было убедить Алонсо, что в его собственных интересах разрешить ей перейти под мое покровительство. Конечно, соблюдая приличия… Может, потому он так безропотно согласился отправиться за море, когда в середине июня общий сбор участвовавших в походе солдат принял решение отвезти положенную королю пятину и дары, собранные солдатами нашему королю дону Карлосу. Как Марине удалось убедить его — не могу взять в толк, ведь Алонсо был не по годам смел и дерзок. Правда, случалось, ему не хватало хладнокровия. Он бежал в Новый Свет, спасаясь от королевского суда, который желал призвать его к ответу за похищение чужой жены. С тех пор с помощью его дяди, графа Медельина, дело уладилось.
Какие она нашла слова, чем поступилась, что обещала взамен — не знаю. Эта тайна до сих пор мучает меня. Известно лишь, что с той поры, как я вернулся в Испанию, Алонсо не очень-то стремится навещать мой дом. Я щедро одарил его, он принял подарки молча, поблагодарил скупо, вид у него был какой-то вялый. На родине он потерял весь пыл, энергическую восторженность и веру в удачу, которые так помогали ему в суровых испытаниях на Кубе и в Мексике. Он отошел от дел, заперся в имении, живет на доходы с земли. Не в пример этому змею Монтехо, который-таки высидел долгожданный патент на завоевание Юкатана.
Что ни говори, Алонсо был настоящий друг. Не то, что Диего Ордас, Хуан Веласкес де Леон или Эскобар. Сколько мне пришлось повозиться с ними, чтобы они поняли, где лежит их выгода. Золота, конечно, не пожалел…
На чьей же стороне оказалась правда? Что случилось со всеми любимчиками Веласкеса, когда после получения известия об утверждении меня алькальдом города Веракрус, губернатора Кубы хватил удар. Где теперь Панфило де Нарваэс, отличавшийся необыкновенно представительной фигурой, зычным голосом и куриными мозгами? Горе-начальник, его никогда не интересовало, чем и как питаются солдаты. Он сгинул где-то на севере… А мои соратники? Каждый из них теперь прославлен на весь мир. Педро Альварадо заслужил славу завоевателя Гватемалы. Сандоваль ходил с походами на юго-запад, в земли миштеков и сапотеков. Даже этот Монтехо… И Диего Ордас тоже хорошо пристроен — он получил богатые поместья в Оахаке, потом совершил экспедицию за золотом на Ориноко, а ведь был день, когда мне пришлось заковать его в кандалы. И ещё двух негодяев — Эскобара и бывшего альгвасила Сантяго Эскудеро, который когда-то выследил меня, сбежавшего из-под ареста и прятавшегося в церкви.
Волнения в лагеря начались в середине июня, сразу после того, как нас окончательно покинул Теутлиле. Индейцы продолжали приносить в лагерь на побережье пищу, однако хлебные наши запасы, даже попорченные червями, совсем кончились. Тучи москитов донимали людей днем и ночью, стоянка была окружена тинистыми болотами, испарения которых, усиленные палящим зноем, производили разительную malaria, в последствие более пагубную для европейцев, чем все прибрежные ураганы. Желчные горячки безжалостно губили людей… За короткий срок мы потеряли тридцать пять человек. По лагерю пошли разговоры — хватит, навоевались, напутешествовались! Разделить по справедливости все, полученное от Мотекухсомы — и дело с концом. Подзуживали те, кто обладал собственностью на Кубе — таких, правда, было немного, но они были крикливы и настырны и каждый раз ссылались на Веласкеса. Это не по приказу, то вопреки предписаниям…
Мятеж зрел на глазах.
Глупцы, они не понимали, что загоняли меня в угол!
…Солнечный лучик пробился сквозь щель между занавесками. Слуга топтался у порога — ждал, когда проснется господин. Дон Эрнандо долго лежал молча, прислушивался к болям в теле — старые раны все время давали о себе знать. Тут ещё начала донимать лихорадка. Уж не с той ли поры, когда они в окружении тропических болот и смрадных, кишащих змеями джунглей приступили к строительству города Веракрус? Все может быть…
Кортес потянулся на постели, спросил:
— Что, Педро, денек сегодня ясный?
— Хороший денек, ваша милость, на радость людям. Солнышко чистое, ветра нет…
Слуга раздвинул занавески, помог сеньору сесть. Был Педро стар, худощав, лицо доброе, простецкое донельзя, глазки приветливые — так и примечают, где что плохо лежит.
— Что в доме? — поинтересовался дон Эрнандо.
— Все по-прежнему. Тихо, благостно… Донна Хуана изволили котят посмотреть — ейная кошка ночью окотилась.
— Да, заботы, заботы… Кукурузу срезали, что в кадке растет, я вчера приказывал?
— Кто ж его, ваша милость, срежет. Я передал приказ вашей милости домоправителю, так ему дела нет, что такой чудесный цветок желтеет на глазах. Нет, чтобы новый посадить…
Сеньор замер на кровати, безвольно повесил руки, дождался, когда слуга оденет его, потом коротко буркнул.
— Ступай. Завтрак сюда, в спальню. Шторы на окнах раздвинь. Ко мне никого не пускать, только падре Гомару.
— Слушаюсь, ваша милость.
Отзвенели колокола в церкви, ранний утренний шум не спеша заполнил комнату. Действительно было хорошо. Свежо, сухо…
До сих пор меня не оставляет уверенность, что зачинателем смуты был этот Кристобаль де Охеда, с которым мы поцапались ещё на Кубе. Это был завистник до мозга костей, совсем не дурак, но злоба, распиравшая его, застила глаза. Сколько раз я пытался пойти с ним на мировую, он всегда охотно пожимал мне руку, но я-то чувствовал, что он только и ждет удобного случая, чтобы всадить мне нож в спину. В конце мая Охеда, по-видимому, решил, что такой момент наступил.
Тупица, он никак не мог сообразить, с кем имеет дело. Замысел сторонников губернатора Веласкеса лежал на поверхности. Они не оставляли попыток лишить меня свободы выбора. Стоило мне пойти на поводу у кучки крикунов, поделить добычу прямо на побережье и затем отправиться на Кубу, как сразу после прибытия Веласкес непременно посадил бы меня под арест за ущемление прав короля и лишения его, губернатора, собственной доли. Поводов у него было достаточно, а не хватило бы — использовал доносы, писать которые у него было много охотников. Если отложить раздел до возвращения в Сантяго, губернатор тут же отобрал бы всю добычу, и никто из участников экспедиции и мелкого суэльдо не получил. Я и мои сторонники были в долгах, как в шелках, кредиторы сразу обратились бы в суд, и песенка моя была бы спета.
Так что о возвращении и речи не было. Сидеть у моря и ждать погоды тоже нельзя. Мои авантюреро были храбрые ребята, но простачки, и, в конце концов, могли пойти на поводу у кучки горлопанов. Что ж, если дело шло к мятежу, то я должен был взять организацию бунта в свои руки. Решение простое, изящное — оно сразу понравилось мне своей прозорливостью и действенностью. За дело взялись верные друзья — Пуэртокаррера, Сандоваль, Альварадо с братьями, Кристобаль де Олид, Авила, Хуан де Эскаланте, Франсиско де Луго.
За ночь они успели поговорить с верными людьми — прежде всего с канонирами, арбалетчиками и ветеранами.
Много лет спустя Берналь Диас рассказывал, как на посту к нему подошли Пуэртокаррера, Эскаланте и Франсиско де Луга.
Назвали пароль, приблизились, завели разговор.
— Послушайте, сеньор Берналь, есть у нас до вашей персоны дело.
Он, помнится, даже опешил — сразу у трех офицеров надобность к нему обнаружилась. Не многовато ли? Но как только Эскаланте объяснил, в чем суть, Берналь Диас тотчас смекнул, что к чему.
— Вы, наверное, слыхали, о чем болтают в лагере всякие трусливые душонки — мол, хватит, навоевались, пора домой, на Кубу. Так вот, сеньор Берналь, послушайте, что я вам скажу. Стоит нам только бросить якорь в гавани Сантяго, все мы окажемся разорены. Веласкес загребет себе все денежки, как было и раньше. Вспомните, вы сами участвуете в третьей экспедиции, все до ниточки на них потратили, все равно в карманах пусто. Ничего там, кроме долговых расписок нет… Вернуться сейчас немыслимо.
— С этим, уважаемые сеньоры, я согласен. Многие — считайте, почти все — так думают, но что мы сможем поделать, если последует приказ возвращаться.
— Пусть возвращаются те, у кого жила тонка, а мы должны потребовать от капитан-генерала основания здесь колонии, в которой мы сами будем хозяева и подчиняться будем только его величеству королю Испании. Ему и платить пятину. Напрямую!..
— Значит, сеньор Веласкес с носом останется?
— И с дулей…
— А что потом, сеньоры?
— Потом, Берналь, скрывать не буду — поход, — Эскаланте махнул рукой в сторону запада.
— Трудненько придется, — вздохнул Берналь.
— Трудненько, — согласился Пуэртокаррера, — но с таким начальником как дон Эрнандо не пропадешь. Так что решайте, сеньор Диас!
Что тут было решать, продолжил рассказ ветеран. Пойди они на попятную, вернись в Сантяго, его родственничек ни одной монетки из рук своих загребущих не выпустит. Всех сразу обыщут — и конец! Надоело в обносках, с голодным брюхом бродить. За тем ли он на новые земли подался, чтобы сеньору Веласкесу богатства увеличивать? Пора было и о себе подумать. Берналь так и разъяснил Андресу и ещё кое-каким верным ребятам. Однако сторонники губернатора успели что-то пронюхать, и утром, когда солнце встало высоко, они с криками, бранью и угрозами подступили к моей палатке. Солдаты один за другим начали подтягиваться к распалившимся крикунам. Сначала помалкивали, но как только я, выслушав депутацию, согласился отдать приказ грузиться на корабли, первым не выдержал Берналь. Какая-такая депутация? Кто её выбирал? Люди дохнут? Где это вы видали войну без жертв. И кто дохнет, тоже надо разобраться. Говорили им — не пейте воду из болота, а они как присосутся не оторвешь.
Тут его вытолкнули вперед — давай, Берналь, заткни им глотки, недоноскам, хозяйчикам этим!
С чем возвращаться, спросил он толпу? Тут даже самые отчаянные крикуны затихли, только Эскудеро-сумасшедший все никак не мог успокоиться. Хватит добычи на всех, кричал он, каждый с тугим кошельком в Сантяго вернется…
— В лапы к Веласкесу, — добавил Андерс.
Тут все разом озлились. У Берналя Диаса от ярости рот перекосило.
— Ради чего терпели? Зачем столько мук приняли? Зачем на Табаско своими жизнями рисковали? За какой-то поганый кошелек? Это теперь, когда за этими горами, — он указал на Орисабу, — золота видимо-невидимо.
В этот момент Эскудеро попытался что-то возразить, но пушкари — Меса, левантиец Арбенго и Хуан Каталонец с подручными скрутили его. Тот сразу примолк. Берналь же с воодушевлением продолжил.
— Взять его, конечно, трудно — кто спорит. Но попробовать можно. И капитан-генерал наш пока промашек не давал. Разве что сегодня, когда поддался на крики этих неразумных, потерявших головы от первых трудностей ребят. Нам, братья, терять нечего, кроме своих жизней, но лучше умереть за дело Христово и с пользой для себя, чем гнить в нищете. Прав я, прав?..
Все войско заревело.
— Прав!
— Тогда поразмыслить надо, что необходимо предпринять, чтобы все шло своим порядком, как Господь нам предписывает и король наш, доблестный дон Карлос велит. Он над нами господин, и другого никто из нас знать не хочет. У него и надо милости и подмоги просить. Вот и выходит, что без основания колонии не обойдешься. Город нам надо заложить, и все права городские, которые король даровал, использовать. Избрать совет — рехидоров, алькальда…
В этот момент Пуэртокаррера предложил мою, Кортеса, кандидатуру на пост главы городского совета.
Вот когда пробил мой час. Я хорошо запомнил тот ясный ветреный день. Солнечный свет с каждой минутой набирал силу, однако зноя не было — в то утро берег хорошо продувало с моря. Отчаянно пахло соленой влагой и ещё в воздухе распространялись какие-то странные, дурманящие припахи. Флаги и вымпелы резво трепетали на мачтах стоявших на якоре кораблей…
Я коротко объяснил солдатам, что быть одновременно капитан-генералом и алькальдом нового города не имею права, и если они настаивают, я готов сложить полномочия главнокомандующего и только потом быть избранным на должность алькальда.
Громоподобный рев сочли единодушным одобрением. Тогда я поставил ещё одно условие — пятая часть всякой добычи, за вычетом доли короля, должна идти мне. Солдатам ничего не оставалось, как одобрить и это мое требование. Решение оформили соответствующим протоколом и королевский нотариус Диего де Годой составил особый акт об основании города Villa rica de la vera cruz.[30]
Устройство колонии, основание города, которые по существу освобождали меня от всякой официальной опеки со стороны губернатора Кубы Диего Веласкеса, вовсе не являлись моей главной целью. О том же я совсем недавно, как на духу, сказал и патеру Гомаре, который с такой охотой взялся за написание истории завоевания Мексики. Куда больше меня в ту пору занимала тревога по поводу возможного разлада в наших рядах, тем более, что сторонники губернатора тут же начали протестовать. Они заявляли, что я как капитан-генерал без разрешения Веласкеса не имею права основывать новые колонии. Результаты выборов в городской совет они тоже отвергали — мол, голосование походило не по форме и вопреки законным установлениям на этот счет. Пусть даже так, но я не имел никакого намерения допустить, чтобы семена неповиновения и бунта вновь дали всходы. Исходя из этих обстоятельств я приказал заковать в кандалы Ордаса, Эскобара и Эскудеро как зачинщиков смуты. Если с последними двумя я знал, как поступить, то Ордас и, конечно, Хуан де Леон были очень мне нужны. Это были храбрые, разумные офицеры. Особенно Ордас, который пусть даже с огрехами, но весьма толково, с большой выдержкой командовал нашей пехотой в битве при Табаско.
Разговоры в лагере на время утихли и после успокоения в начале июля я отрядил большой отряд под командованием Педро де Альварадо на поиски продовольствия. Постарался включить в него побольше смутьянов. Монтехо к тому моменту успел на двух кораблях обследовать побережье к северу от лагеря. О тех землях он говорил с восхищением — там и воздух был чище, и климат прохладней, и вода слаще. В отряд Альварадо был зачислен и Алонсо. Уже ночью того же дня Марина явилась ко мне. После короткого разговора я отослал её обратно и весь следующий день прикидывал, как поступить с туземной женщиной. Мне не хотелось совершать ничего безрассудного, а только то, что в результате обдумывания можно счесть наилучшим. Следует напомнить, что за неделю до бунта, к нам в лагерь явились пятеро дикого вида индейцев. У всех были прободаны нижние губы и туда вставлены пластины и кольца из золота. У возглавлявшего эту компанию касика широкое золотое кольцо было украшено крупными изумрудами. Появились они тайком, держались настороженно. Ни Агиляр, ни Марина не понимали их языка, пока не выяснилось, что двое из индейцев знакомы с языком ацтеков. Первым делом они принялись оправдываться за то, что не смогли посетить наш лагерь раньше, так как боялись «culhua». Явились они из расположенной поблизости области Семпоалы. Страна их совсем недавно была покорена войском ацтеков, вот они и пришли посмотреть на людей, бросивших вызов всевластью Мехико. Ничего больше у них выудить не удалось. Тут подоспели вышеописанные события, связанные с основанием города Веракрус, и между дел я попросил Пуэртокарреру, чтобы тот приказал своей индеанке поговорить с послами — пусть женщина дознается, с чем они прибыли в лагерь. Теперь после тайного разговора с Малинче в шатре я решил устроить что-то вроде военного совета, на котором она должна была доложить, что ей удалось выяснить, а мы обсудить создавшееся положение.
Вечером в моем шатре собрались старшие офицеры. Ордаса и Эскобара привели в кандалах. Они держались надменно, но когда немного смущенный Хуан де Леон объявил им, что здесь собрался военный совет, оба заключенных озадаченно глянули в мою сторону. Они, видимо, решили, что здесь их ждет суд.
Я подтвердил слова Леона и предложил им занять места.
— Что-то новенькое в регламенте проведения военных советов, усмехнулся Ордас. — Опять вы, дон Эрнандо, задумали какую-то каверзу?
— Я никого не намерен удерживать силой. Если желаете, можете покинуть шатер и отправиться на корабль кормить москитов. Я со своей стороны безусловно считаю вас обоих членами совета, посему ваше присутствие считаю обязательным. Что же насчет оков… Если вы даете слово на время забыть прежние распри и не поднимать не относящиеся к повестке дня вопросы, то на это время кандалы можно снять. Кузнец только ждет распоряжения срезать заклепки. Это для него плевое дело…
Ордас и Эскобар переглянулись, Леон во все глаза смотрел на них, только змеиная душонка Охеда криво усмехался. Во всей этой истории он сумел остаться в стороне, хотя я догадывался, кто главный заводила. Все остальные офицеры помалкивали, старались не смотреть на заключенных. Наконец Эскобар хриплым голосом спросил:
— Есть что-нибудь новенькое от Монтесумы?
— Нет, — ответил я. — Появились новые сведения, которые требует немедленного и подробного обсуждения.
— Хорошо, расковывайте, — согласился Эскобар.
Ордас тоже кивнул.
Все в палатке вздохнули с облегчением.
Пока кузнец занимался своим делом, я предложил Берналю Диасу пригласить в шатер Марину. Она появилась, когда все расселись по местам. Днем я успел переговорить с ней, и теперь она знала свою партию назубок.
Правитель Семпоалы послал своих людей к месту нашей высадки, чтобы составить впечатление и разведать, так ли мы сильны, как утверждали слухи, разнесшиеся по побережью после сражения в устье Табаско. Сама страна, в которой столицей почитается Семпоала, называется Тотонукапан. Край этот невелик, что-то около тридцати поселений… Всего несколько лет назад по этим местам огнем и мечом прошел брат Мотекухсомы Куитлауак. Тотонукопан попал в зависимость от народов долины Мехико. Дань очень тяжела, особенно унизительно тягло на людей, которых согласно священного календаря необходимо посылать в Теночтитлан на заклание.
— И сколько же требуют эти разбойники? — перебил женщину Хуан Веласкес де Леон.
— Почти сотню человек в год… — тихо ответила Марина. — Это не считая кукурузы, других съестных припасов, а также обязательных поставок свежей рыбы к столу тлатоани, золота и участия в войнах.
Наступила тишина.
— Есть какие-нибудь известия от отряда Альварадо, отправленного добывать пропитание? — спросил Ордас.
— Они ищут в западном направлении, при этом особый отряд разведывает дорогу на Семпоалу, — ответил я. — Как вы все понимаете, здесь больше нельзя оставаться со всей армией. Необходимо выделить отряд для начала строительства города и охраны кораблей, а нам всем подаваться в более здоровые места. К тому же пора искать подходы к Теночтитлану. Если гора не идет к Магомету, Магомет идет к горе.
— А если это ловушка, и касик Семпоалы действует по уговору со своим сеньором? — воскликнул Ордас.
— Вот! — заявил я. — Вот тот главный вопрос, который мы должны решить. Сеньора Марина…
Я первый назвал эту индейскую женщину сеньорой. Никто не возразил, никто не усмехнулся, не бросил косой, презрительный взгляд на эту дикарку. Для меня подобная деликатность была очень удивительна. Видно, действительно в этой женщине было что-то от железа.
— Сеньора Марина, — повторил я, — утверждает, что камня они за пазухой не держат, но и надеяться на нас не смеют. Она предлагает каким-то образом убедить их в наших мирных намерениях, взять под защиту и объявить эти земли владениями короля. Для этого им следует пообещать, что в течение нескольких лет — мы с сеньором Годоем уже обсуждали этот вопрос — с них не будут брать налоги.
Королевский нотариус, помнится, важно кивнул. Он был интересный человек, этот Годой — всегда держал язык за зубами и только, случалось, одобрительно кивал. Мы с ним, в конце концов, сработались. Он уехал из Мексики далеко не нищим человеком.
— Я считаю, что этот план хорош во всех отношениях, — добавил я. — При одном только условии. Если мы будем сохранять бдительность и дисциплину, если наши ряды будут едины. Как вы считаете, Ордас, это разумные в боевых условиях требования?
Тот ничего не ответил. Ордас погрузился в размышления, старался не смотреть в мою сторону, но я был уверен, что у него нет выбора.
— Хорошо, — неожиданно сказал он, — я буду откровенен до конца. Я готов примириться с этими нелепыми и незаконными выборами, раз уж такова воля солдат. Но, Кортес, я помню, вы хвалились своим знанием людей! Почему же вы так легко доверяете… этой женщине?
— Вы сами спросите её, — посоветовал я, — почему она взяла на себя такую трудную и неблагодарную роль. Почему идет против собственного народа?
Наступила тишина, все буквально замерли… Что-то смутное, чему и слов мы в ту пору найти не могли, рождалось в палатке. Боевое братство, стремление к великим свершениям, вера в то, что мы все вместе способны одолеть любые трудности?.. Не знаю… Но забыть то состояние до сих пор не могу. Ордас медлил, взоры присутствующих обратились на него. Никто не мог объяснить, только все сердцем почувствовали, что от того, что он сейчас скажет, решается, быть нам всем в одной упряжке, в одном строю штурмовать небо, или мы как прежде будем держаться каждый сам по себе, на особицу, только по необходимости сбиваясь в стаи. Кто-то из своры Веласкеса бросится на корабли. Другие, и я в том числе, останемся здесь, но уже без надежды одолеть Мотекухсому. Будем строить и оборонять город…
Ордас открыл было рот и тут же закрыл его, потом нервно отер пот со лба — вечер выдался душный, никакого намека на ветерок. Нас всех окуривало дымком, дававшим хоть какое-то спасение от мошкары. Наконец он решительно сказал:
— Сеньора Марина…
Разом спало оцепенение. Все радостно загалдели. Де Леон залился смехом, даже вечно угрюмый Монтехо просветлел… Я так понимаю, что приняв в свой круг эту индейскую женщину, назвав её госпожой, мы все тем самым связали себя круговой порукой. Теперь любое оскорбление индеанки могло быть воспринято как оскорбление каждого из нас, присутствовавших в тот день на совете. Каждый из нас как бы негласно — по крайней мере, на время похода признал её ровней. Это было бы неудивительно для урожденной донны, но по отношению к туземке подобный жест являл новое состояние, в которое перешел весь офицерский состав моего войска. В том числе и те, кто был в это время в походе. Это было настолько возвышающее и ясное чувство братской любви, что даже Ордас не сразу продолжил.
Наконец он повторил.
— Сеньора Марина, вы же родом из этих краев. Вы же сама из ацтеков!.. Почему вы так упрямо идете против своего народа. Я вас ни в чем не подозреваю, но мне и всем присутствующим хотелось бы узнать о вас побольше. Раз уж так вышло, что вы являетесь нашей переводчицей и более того, считаете возможным давать советы опытным в военном деле людям, мы должны быть уверены, что все это делается по совести?
— Сеньор Ордас ошибается, полагая что я из ацтеков, — ответила Малинче. Она подняла голову и глянула прямо в глаза Диего. — Я из другого племени, хотя мы все говорим на одном языке. Теночки — вот как правильно называются ацтеки. Они сами нарекли себя выходцами из неизвестно где расположенной страны Астека. Пришли они к озеру Тескоко четыре эры назад,[31] поселились там и долгое время находились под властью другого сильного племени кулуа. В одной из битв теночкам повезло — они взяли в плен три десятка врагов из племени шочимилко, отрезали им уши и предъявили их владыке Кулуакана Кошкошу. В ответ обрадованный Кошкош выполнил их просьбу и согласился выдать за вождя теночков свою дочь. Дело было весной и перед свадьбой, чтобы умилостивить богиню Тоси, теночки содрали с невесты кожу, главный жрец натянул её на себя и в таком виде встретил пожаловавшего на свадьбу отца несчастной девушки. Месть Кошкоша была жестока, он приказал своим воинам истребить теночков всех до единого. Только малой их части удалось бежать на остров, где они через какое-то время построили два города — Теночтитлан и Тлателолько. С той поры каждый бандит в долине Мехико, в Оахаке, в Пуэбло знал, где может найти укрытие. Все, кого изгоняли из родных племен, находили пристанище в Теночтитлане.
Ядовитое семя дало всходы, и две эры назад теночки, объединившись с Тескоко и Тлакопаном, сокрушили самый сильный город на озере Аскапоцалко. Плоды победы в основном достались теночкам и в образовавшемся союзе трех племен, трех городов они взяли верх. Теперь военная добыча и пленные делятся так — по две пятых получают Теночтитлан и Тескоко и одну пятую Тлакопан. С той поры теночки, прозвавшие себя ацтеками, возомнили, что на плечи их народа возложена священная обязанность хранить и беречь порядок, существующий в мире…
Мой отец, сеньор Ордас, был правителем небольшого, но древнего племени. Родилась я богатстве, отец очень любил меня. Детей у моих родителей больше не было, поэтому мне решили дать достойное образование, на чем особенно настаивал мой дедушка. По происхождению я вполне могла рассчитывать стать второй женой правителя Теночтитлана. Но счастье так мимолетно… Когда мне исполнилось десять лет, отец мой умер. Мать скоро вновь вышла замуж и родила мальчика. Теперь я никому не была нужна наоборот, только мешала. Чтобы не было споров о престолонаследии, мать посадила меня в темную комнату и держала там около двух недель. Потом объявила людям, что я умерла. Вместо меня похоронили какую-то умершую девочку, а меня продали в рабство купцам из Хиканалко с условием, что они продадут меня как можно дальше от родных мест. Так я попала в Сеутлу. Теперь мой отчим верой и правдой служит Мотекухсоме и тот принял его, преступника, с почестями. Сеутла свободна до той поры, пока владыка Теночтитлана не обратит на неё свой взгляд. Там уже побывали купцы из Мехико. Они вели себя, как хозяева. Один из них заметил, что я вполне подхожу для жертвы, которую следует принести богине Тоси. И ликом, и фигурой… В следующий приезд он обязательно купит меня для торжественной церемонии. Я, сеньор Ордас, не хочу, чтобы с меня живой содрали кожу. Тем более теперь, когда свет истины засиял передо мной, и я услышала животворящее слово Спасителя нашего, Иисуса Христа. Я царского рода, сеньор Ордас, так что ваше обращение ко мне правомочно, тем более, что теперь мы все братья и сестры. Обретя истину и надежду на спасение, я обрела уверенность, что пролитию крови и прочим злодеяниям теночков больше не будет места на земле. Поверьте, я много думала об этом, советовалась с падре Ольмедо и сеньором лиценциатом Диасом. Покаялась в жажде мести. Они помогли мне освободиться от этого греха, однако дьявольские козни теночков должны разрушены. Погрязшие в дьявольском грехе пролития крови обязаны быть наказаны. Езус Мария, разве не в том и ваш священный долг, сеньор Ордас?
Тот не ответил.
Никто ей не ответил. Поверьте, в ту минуту каждый из нас желал только одного — добраться до проклятого Теночтитлана и сокрушить это обиталище дьявола. Никто из нас даже не вспомнил о золоте. Кроме меня… Я задержал в своей палатке Ордаса и мы с ни поговорили по душам. Сошлись на сотне кастельянос, которые я тут же отсчитал ему с условием, что он больше не будет мутить воду. Эскобар обошелся мне куда дешевле, а вот Хуану де Леону Веласкесу, в виду знатности фамилии пришлось приплатить. Они оказались людьми слова и храбро сражались до самого конца, причем не раз в битвах, наблюдая за ними, я замечал то выражение на их лицах, с каким они слушали рассказ донны Марины. На лицах всех других офицеров — да и солдат — тоже.
Глава 8
В начале июня Кортес с войском выступил из лагеря. Шли походным строем, впереди боевое охранение, по бокам цепь дозорных. Скоро местность начала обсыхать, исчезли болота, воздух очистился от ядовитых испарений, тогда весь букет чудных запахов тропического леса обрушился на солдат. Роты шагали по проторенной отрядом Альварадо дороге, по обе стороны которой стояли вековые деревья, от корней до верхушек украшенные фестонами вьюна, винограда с вишневого цвета гроздьями, всевозможными павиликами и лианами. Заросли колючих алоэ перемежались с шиповником, жимолостью и розовыми кустами. Чуть в сторону от дороги чаща сгущалась — там царили густые зеленые сумерки, а здесь, на свету, в глазах рябило от обилия попугаев. Каких только расцветок здесь не попадалось! Рои крупных, размашисто взмахивающих крылами бабочек кружили между деревьями. Пение птиц и словами не описать!.. Те, кому довелось побывать в джунглях Дарьена, утверждали, что так сладко заливаются обыкновенные дрозды, а между ними, случается, попадаются птахи замечательной раскраски. Настоящие кардиналы!.. Спустя несколько часов передовой дозор добрался до широкой реки, через которую во время предыдущей экспедиции сеньор Педро так и не решился переправиться. С высокого берега открывался вид на райские заречные места — там джунгли были пореже, побольше открытых пространств. Вдали была заметна нарезка полей, кто-то поглазастей усмотрел в той стороне пальмовые крыши индейских хижин. После короткого совещания дон Эрнандо приказал переправляться через реку. Глашатай ещё раз объявил солдатам, чтобы никаких обид и притеснений местному населению не чинить, грабежей не допускать, за мародерство смертная казнь. Люди поворчали и тут же принялись валить деревья, вязать плоты. Берналь Диас вплавь переправился через реку, потом так и маршировал мокрый, освежившийся. С передовым охранением он вошел в первую деревню.
Жителей здесь не было. В домах все брошено. Берналь в одной из хижин нашел местные книги. Непонятные цветные знаки нарисованы на здешней бумаге и сложена она была, как у них в Кастилии складывают штуки сукна гармошкой.
То же повторилось и во второй деревне, и в следующей по счету. До ночевки войско успело миновать пять брошенных поселений. Никаких особых происшествий не было, разве что солдат Зурита был пойман на воровстве и по приказу дона Эрнандо вздернут на ближайшем суку. Пройдохе повезло скакавший мимо Педро де Альварадо перерубил мечом веревку, и Зурита с выпученными глазами свалился под ноги своих товарищей, которым было поручено исполнить приговор. Как потом дон Педро объяснялся с Кортесом, в ротах так и не прознали, но все сошло с рук. Правда, после этого случая никому и в голову не приходило стащить что-нибудь из этих жалких хижин, тем более, что особые команды в присутствии королевского нотариуса реквизировали съестные припасы, о чем каждый раз составлялся особый акт. Ребят в тот вечер накормили до отвала — в первый раз за много дней. На сытый желудок и разговоры пошли веселее, только Зурита помалкивал и все щупал след на шее. Его похлопывали по плечам, советовали — не вешай нос, все там будем. Потом у костров запели… В такой замечательный вечер не хотелось верить в худое. Впервые в ночи почти не было слышно сдавленных вздохов, криков во сне, горячечного бреда. Все спали одетыми и обутыми, с оружием под рукой. Воздух был свеж и прохладен, земля суха и необыкновенно щедра на тепло. О такой постели можно было только мечтать…
На следующее утро конный дозор наткнулся на хорошо натоптанную проселочную дорогу. Идти стало совсем легко, уже не так тяготил вес оружия, доспехов и необходимых припасов. Неожиданно спереди полетела команда: «Стой!» Роты — в каждой было от трех до четырех десятков человек — по команде замерли. Солдаты стояли, опираясь на пики. Тут по колонне полетела какая-то удивительная весть: «Ананасы! Ананасы несут!..» Люди тянули шеи, выглядывали из-за плеч товарищей — что за ананасы? Зачем? Кому несут? Из строя выйти не решались. Тут объявили привал и ситуация разъяснилась войско на подходе к большому поселению встретила делегация туземцев. Двенадцать касиков — все как на подбор темнолицых, с золотыми кольцами в губах и ноздрях, а также толпа простых людишек с дарами. Больше всего они приволокли ананасов. В войске мало кому не доводилось отведать этот замечательный фрукт. Растет как капуста, на грядках, но сладкий, слов нет!
Сам город Семпоала открылся к полудню. Сначала вдали встали дымы, потом меж ветвей открылись сами пирамиды с разведенными на верхних площадках кострами. Таких в войске ещё не видывали. Пирамиды, которые встречались им на Юкатане и в Сеутле, были куда ниже, а эти настоящие горы. Затем в солнечных лучах ослепляюще засверкали стены домов. У солдат из передовой роты сердца замерли. Тут ещё конный дозорный, уже успевший побывать в городе, подскакал к колонне и бросил клич: «Эльдорадо! Истинно говорю — Эльдорадо!.. Стены и мостовые из серебра!..» Потом ребята долго смеялись над незадачливым охотником за сокровищами — принял побелку за серебро. И все равно, входившие в город испанцы изумленно вертели головами — улицы были полны народа, стены домов высокие, по-видимому, каменные, оштукатурены и побелены. Строения были в основном одноэтажные, исключая храмовые постройки и несколько богато расписанных и украшенных узорами сооружений, где над стенами местами возвышались вторые, а то и третьи ярусы. Кое-где глазам испанцев открывались странные ограниченные двумя высокими стенами площадки. В стены были вделаны большие каменные кольца, чем-то напоминающие серьги… По словам сеньоры Марины, эти площадки предназначались для ритуальной игры в мяч. Шар из застывшего сока дерева «гевея», был тяжел и в то же время упруг. Любой частью тела, исключая руки, его надо было забросить в кольцо противника.
Войско разместили в одном из таких обширных дворцов, состоявших из отдельных строений, каждое из которых имело в центре маленький внутренний дворик либо с фонтаном, либо с клумбами, на которых было высажен розы и множество неизвестных пахучих цветов. Каждому солдату досталось по ананасу и жареной курице. Перекусили на сворую руку — офицеры никому не давали ни минуты отдыха. Прежде всего были выставлены усиленные караулы, канониры с помощью присланных местным касиком индейцев без промедления принялись обустраивать артиллерийские позиции. Аркебузирам, мушкетерам и арбалетчикам были назначены участки обороны — там их и разместили на постой. Ордас с Сандовалем до вечера составляли боевое расписание — какой роте какой участок стены защищать. К ночи люди совсем валились с ног, и все равно тревожное ожидание не оставляло солдат. Все ждали возвращения Кортеса, сеньоры Марины и других офицеров, отправившихся во дворец местного царя. Их сопровождал почетный эскорт, в состав которого из-за представительности фигуры попал и Берналь Диас.
Кортес со свитой появился в воротах уже в поздних сумерках. И разом, как вздох облегчения, побежало по дворам, по комнатам — порядок, братцы, дон Эрнандо любезничает с сеньорой Мариной, Альварадо с Хуаном де Леоном без конца гогочут, даже Монтехо, видать, в хорошем настроении. Этого мрачного типа, откровенно говоря, в войске побаивались. Служака был до мозга костей… Резал индейцев, как цыплят. В этом смысле и испанскому солдату спуска не было. Тут и Диас подоспел — с ходу объявил окружившим его ребятам.
— Порядок, братцы, мы — союзники! Жрать будем от пуза, об этом дон Эрнандо в первую очередь договорился.
— Ну, а?.. — спросил кто-то после того, как стихли возгласы восторга.
— Приказа не было, но в город, мне думается, выпускать будут. На базар и вообще… погулять. Но только по обоюдному согласию. За всякие обиды местным вешать обещался безжалостно.
— Ну, так?.. — настойчиво повторил тот же голос.
— Нет, мало, и все низкопробное. Однако наменять можно.
— Вот это другое дело. А то вешать, вешать…
— Ладно, испугался. Ты, главное, нос не вешай, — сказал Берналь. — А мы свое возьмем. Касика здешнего видел — ну, разъелся. Чисто боров! И вот такой, — Берналь раздвинул большой и указательный пальцы, — браслет через нижнюю губу просунут. Обещал выделить нам четыре сотни носильщиков, когда будем возвращаться.
— А когда будем возвращаться?
— Думаю скоро. Дон Эрнандо желает как можно скорее возвести в Веракрусе форт и церковь. Иначе, говорит, что это за город!
Это известие разочаровало солдат.
— Опять в это пекло!
— Что б ему провалиться…
— С другой стороны, к кораблям поближе.
— Что, на Кубу спешишь?
— Нет, но все-таки на душе спокойней, когда рядом с кораблями…
Тайное соглашение с правителем Семпоалы предусматривало, что его страна переходит под защиту испанского монарха, однако, чтобы не раздражать Мотекухсому, все формальности были отложены на более позднее время. С точки зрения Кортеса, уже сам факт пребывания и дружеская встреча, которую ему оказали власти Семпоалы, должны были подтолкнуть правителя Анауака к более решительным действиям. Любой другой европейский государь непременно и без промедления принял бы решительные военные меры против своего неверного вассала и безрассудных чужеземцев, осмелившихся с такой легкостью разгуливать с войском по его стране. Вот почему, имея в виду ответные действия государя ацтеков, дон Эрнандо решил как можно быстрее увести свой отряд на прежнее место и, заручившись помощью местных индейцев, приступить наконец к созданию опорного форпоста на территории Мексики.
Менее всего Кортесу хотелось в этот момент вступать в прямое столкновение с Мотекухсомой. Совет Марины был разумен — во время сбора урожая собрать армию для правителя Мехико дело почти невыполнимое. Следовательно решительное столкновение с ацтеками или, при наличие благоприятных обстоятельств, поход на Теночтитлан, в любом случае необходимо было отложить до августа-сентября. Однако все эти расчеты рухнули в тот самый день, когда, поддавшись на уговоры правителя Семпоалы, человека необыкновенной толщины и соответствующего коварства, Кортес решил заодно покорить враждебный Семпоале город Киаутлан. С другой стороны, задержку можно было расценить и как знак судьбы, которая до сей поры не отказывала испанцам в покровительстве.
Киаутлан располагался на высокой скале и, по мнению офицеров, был первым поселением, имевшим хотя бы кое-какие следы фортификационных работ. Ворота в городище были проделаны в земляном валу, с трех сторон небрежно очищенный от кустов скалистый склон. Стен не было. Причину подобного пренебрежения защитными сооружениями испанцы долго не могли понять. Только после разговора с правителем Семпоалы и многочисленных рассказов Малинче картина стала проясняться.
Войны на территории Мексики велись по особым, вытекающим из местных условий, правилам. Удивительным казалось, что индейцы, проживавшие на этих обширных территориях, сумевшие построить большие города, умело работающие с драгоценными металлами, обладавшие хотя бы и дикой, но все же письменностью, — не знали колеса, не использовали вместительных повозок. Возможно, потому, что здесь никогда не было тягловых животных, а без них вряд ли могла возникнуть потребность в транспортных средствах для перевозки грузов. Не было у них и представления о весе и весовой шкале. Деньгами служили зерна какого-то экзотического дерева «какао», напоминавшие бобы; мерой для золотого песка служили особым образом срезанные тростинки одинаковой длины. С другой стороны, они были искусны в обработке земли и ткачестве. Изделия из глины у них просто загляденье!.. Касик Семпоалы подробно растолковал, что во время войны главной заботой полководца являлась забота о том, как прокормить армию. Каждый воин брал с собой в поход определенную «ношу», съестных припасов ему хватало только на несколько дней, в течение которых необходимо было вступить в решающую битву и разгромить противника. Вот почему ацтеки особенно тщательно прокладывали маршруты своих походов и шли вперед, только тщательно изучив местность. Чем сильнее они становились, тем чаще воевать старались руками местных царьков, присылая для подмоги небольшой, сформированный из отборных воинов корпус. Причина была понятна — отсутствие транспортных средств не позволяло брать с собой в поход обоз. Следовательно ни о каких запасах продовольствия и речи быть не могло. Нет тягловых животных, нельзя использовать стенобитные и другие орудия. Города занимались исключительно в результате решительного сражения. Побежденные соглашались уплачивать дань съестными припасами и людьми, на большее победитель не претендовал. Во внутренние дела не вмешивался… Бой начинался и заканчивался как повелось исстари — две орды сходились в рукопашной, верх одерживал тот, кто обращал противника в бегство. О строе, боевой линии, каре, оборонительной линии, правитель Семпоалы никогда не слыхал. Тем более о коннице и артиллерийских орудиях.
Альварадо во время беседы позволил себе вольности в отношении подобных вояк. Касик, по-видимому, понял смысл и надулся, потом обидчиво добавил, что «сын солнца» (так индейцы окрестили симпатичного и светловолосого, в рыжинку, Альварадо) ошибается, если полагает, что с ацтеков легко одолеть. Они отважны и умелы в бою. Макуагатль[32] в их руках — страшное оружие. Их полководцы никогда не теряют присутствия духа, хорошо владеют самыми разнообразными тактическими уловками — могут заманить и обойти неприятеля. Самое главное, ацтеки многочисленны и воинственны. Сражение для них — радость, привычный, вдохновляющий на подвиги обряд. Погибшие в бою попадают на небеса. Хвала Господу, Малинче сумела сгладила неловкость, перевела разговор на Теночтитлан.
— О-о, — оживился касик, — это великий город на воде. Со всех сторон его окружает озеро Тескоко. Жителей, там как звезд на небе… Три дамбы соединяют Теночтитлан с побережьем. Одна ведет на полдень, в сторону лагун Шочимилко и Чалко. Там расположены богатые города: Истапалапан, Мишкик, Чалко, Тетелько, Шочимилко, Койакан. В каждом из них живет по многу тысяч жителей. Другая дамба ведет на заход и соединяет Теночтитлан со своим союзником, Тлакопаном. Третья плотина направлена наполночь и выходит прямо к Топеяку. Тоже многонаселенный город.
Испанцы переглянулись. Даже Альварадо помрачнел.
— Сколько жителей в самом Теночтитлане? — неожиданно спросил он.
— Знающие люди утверждают, что в городе шестьдесят тысяч домов. Три сотни тысяч наберется, — ответил касик, потом продолжил. — На севере расположены лагуны Халкотан и Сумпанго. Есть там и большие города, такие, как Тенаюка и Куаутитлан, а также в нескольких лигах от озера город богов Теотиуакан.
— Что значит «город богов»? — удивился Пуэртокаррера.
— Он был выстроен великим древним племенем строителей-тольтеков для повелителей неба, которые время от времени спускаются на землю. Там для них устроены храмы. Никто из смертных никогда не жил в этом городе. Все народы Мехико в назанченный срок собираются там для восхваления богов.
Марина в этот момент многозначительно глянула на Кортеса, как бы напоминая о первой тайной встрече и секрете, который она хранит.
— Смогут ли ваши писцы, — спросил дон Эрнандо у касика, — начертить подробный план, на котором был бы указан наикратчайший путь, по которому можно добраться до долины Анауака?
— Они постараются, повелитель, — касик склонил голову. — Самый короткий путь ведет через Тласкалу, — после короткой паузы добавил он. Сколько раз ацтеки пытались сокрушить горцев, засевших в тех местах, ничего не получилось. Сам Мотекухсома со всей армией недавно ходил на них — и опять без толку. Тласкала как кость в горле у ацтеков. Они обложили их со всех сторон, перекрыли все дороги. Питаются тласкальцы в основном мясом и кукурузой. У них нет соли. С одеждой плохо и «чоколада», приготовливаемого из зерен какао, нет. Не понимаю, как они могут без него обходиться? — удивленно колыхнул мясистыми плечами касик Семпоалы.
— Большая ли армия у Тласкалы? — спросил до того угрюмо молчавший Монтехо.
— Их четыре рода, и они могут выставить на поле несколько десятков тысяч человек.
— Тласкала, Тласкала… — задумчиво произнес Кортес.
Поздно вечером, уже готовясь отойти ко сну, дон Эрнандо ещё раз припомнил беглый взгляд Марины, который она метнула в его сторону при упоминании о городе богов… как его там? И не выговоришь. Тео… какой-то кан. Завтра надо посадить Берналя Диаса за стол, и пусть сеньора Марина продиктует ему все эти названия, а тот запишет их латинскими буквами. Он на мгновение задумался — мысль о том, что придет срок, и все здесь будет называться по-другому, по-человечески — например, Веракрус, Монтеррей, Гвадалахара, — придало ему хорошее настроение.
…Поход на Киаутлан почти не отложился в памяти. Запомнилось только, что и это поселение встретило нас пустыми улицами — население попряталось в джунглях — и обилием жаровен, которые пропитали жаркий воздух ароматным дымком. Не успело боевое охранение войти в поселение, как колонну догнали носилки с перепуганным правителем Семпоалы и несколькими его приближенными советниками, которые сообщили, что в их город пришли посланцы из Теночтитлана. Очень грозные на вид, выразившие неудовольствие по поводу благожелательной встречи чужеземцев. Их заявления о неизбежном наказании, которое обрушится на Семпоалу, требование выдать двадцать человек для жертвоприношений и тяжкий штраф — его следовало выплатить немедленно привели тучного вождя в состояние прострации. Он даже не умолял Кортеса о помощи, просто смотрел на него жалобными глазами и тяжко вздыхал. Так и просидел, грузный, бессловесный, в носилках до самой Семпоалы.
Вот что ещё удержалось в памяти — в тот день мы впервые поскандалили с Алонсо. Прямо в пути, не откладывая разговор до прибытия в Семпоалу, мне требовалось посоветоваться с Мариной, однако она следовала в паланкине, который волокли слуги-индейцы, принадлежащие Пуэртокаррере. Второму человеку там было не поместиться. В тот момент я напомнил дону Алонсо о моем пожелание как можно быстрее обучить эту женщину верховой езде. Тот ничего не ответил, и только через некоторое время, сжав губы, ответил, что Малинче подарена ему и он сам решит, чему следует её учить и чему нет.
— Правильно, Алонсо, — усмехнулся я. — Сейчас самое время лишить войско единственного переводчика.
— И советника? — не удержался он от язвительного тона.
— И советника, — кивнул я. — У нас нет другого толмача. От Агиляра теперь никакого толка, он за этот срок едва освоил несколько фраз на языке ацтеков, а ведь ему было приказано — учи, учи их речь. Хватит болтовни посади Малинче на кобылу впереди себя, мне необходимо срочно обсудить с ней создавшееся положение.
С какой тоской посмотрел на меня Алонсо! Я не отвел взгляд — глянул ему прямо в глаза. Он отвернулся, поскакал к носилкам…
Собственно советоваться с Мариной мне было не о чем, я уже решил, как мне следует поступить. Мотекухсома и на этот раз решил отделаться посольством. Я был не против. Кинем кости, тлатоани! Люблю азартные игры. Женщина была нужна мне для уяснения кое-каких деталей — насколько важные лица входят в его состав? Что означают подобные требования? Кроме того, пора было поставить Пуэртокарреру на место. Меня не интересовало, чем они занимаются по ночам, но я не мог позволить ему забыть, что эта рабыня наше общее сокровище. Всякие препоны раздражали меня, особенно такие глупые, что легли между нами. Этот узел пора было рвать, однако я не мог позволить себе наживать врагов.
В тот же день мы вернулись в Семпоалу. Посланцы Мотекухсомы старались не обращать на нас внимания. В сопровождение рабов совершали прогулки по городу. Волосы них были зачесаны наверх — этаким пучком, в который был вставлены живые цветы. В руках они держали палки с крючками и букетики, которые то и дело подносили к носу. Мало того, каждого из них сопровождал раб, который окуривал господина ароматными благовониями.
Жирный касик затрясся от страха, когда я предложил схватить этих наглецов. Марина что-то долго, сдвинув брови, переводила ему — верно, от себя пару ласковых слов добавила… Наконец согласие было получено, и вечером отряд местных воинов взял послов под арест. Их, каждого по отдельности, привязали к столбам, которые были выставлены на главной площади, как раз напротив дворца, где мы размещались.
Весь город сбежался посмотреть на невиданное зрелище. Тотонаки осторожно подходили к столбам, со страхом поглядывали на унижение ацтеков те однако даже в подобном состоянии держались с достоинством, — потом то там, здесь начали раздаваться крики, что нечего ждать. Пусть их немедленно принесут в жертву великому Ташиму! Этот идол по представлениям туземцев повелевал бурями. Пришлось нашим солдатам отогнать толпу. С приходом ночи жители разошлись. В городе установилась тишина.
После завтрака донна Хуана принесла в кабинет мужа новорожденных, слепых котят. Их было четверо, все полосатые… Они жалобно пищали, тыкались в стенки изящной коробочки. Кошка, задрав хвост, крутилась возле ног хозяйки, тянулась к детенышам, настойчиво мяукала.
Дон Эрнандо долго смотрел на котят, потом, приставив указательный палец к виску, глядя в окно, задумчиво сказал:
— Помню в Мексике, во время похода на Теночтитлан, мы попали в места, где росли так называемые «органос». Дьявольские растения… Колючие и мясистые… Теперь их окрестили «кактусами». Так вот, на одном таком кактусе — огромном, в три человеческих роста — сидел местный дикий кот. Орал на всю округу… Зачем и как он забрался на верхушку — понять не могу. Тот кот был очень похож на твою любимицу, только раза в два крупнее.
Он помолчал, потом добавил.
— Удивительные места… Ты согласна со мной, дорогая? — спросил он жену.
— Необыкновенные, — согласилась жена. — Если бы не дневная жара и полночный холод. Если бы не сушь и эти грязные индейцы. Кстати, падре Гомара прислал весточку — он заглянет под вечер.
Дон Эрнандо кивнул. Жена унесла котят.
Сказать по правде, все было не совсем так. Идею насчет освобождения ацтекских послов подкинула мне эта индейская принцесса, но об этом никто и никогда не узнает. Гомара напишет то, что я ему скажу. История не любит множественного числа. Герой может быть только один — все остальные соратники. Мне незачем, да и не с кем делить славу завоевателя Мексики. Свершения эпохи всегда находят воплощение в единственной персоне, чья жизнь уже через несколько поколений становится примером, образцом и мерилом любому другому крупному государственному деянию. Когда приходит срок отлить памятник, детали стираются, оценки бронзовеют, масштаб мельчает, тем более, что главный свидетель — сама сеньора Марина — вряд ли кому расскажет, что произошла на самом деле в ту непроглядную июльскую ночь в растревоженном туземном городе, населенном робкими тотонаками. Она — умная женщина и понимает, что всякая её претензия на строчку в летописи веков будет сочтена нелепым домыслом и очень повредит её сыну.
Помалкивать будет и Алонсо Пуэртокаррера, с которым мы так отчаянно разругались в моих апартаментах? После возвращения в Испанию он замкнулся в себе, вряд ли «исторические» вопросы волнуют его теперь. Кто еще? Берналь Диас? Он в тот час, в ожидание приказа, находился в соседней комнате… Да, он грамотен и, возможно, решится изложить перипетии нашего славного похода, но я уверен, что и его повествование окажется ещё одним блестящим героическим одеянием, в которое будут укутаны завоевавшие Мексику ветераны и первый среди них — Эрнандо Кортес. Легенды не терпят мелких склок, грязного белья, злобным душонкам там не место. Берналь — человек простой, особым честолюбием не страдающий, прошедший со мной от начала и до конца, знающий цену мимолетному слову и добротно исполненному делу.
Каждому — свое! Кристобалю Колону — открытие обеих Индий, Магеллану кругосветный переход, мне — покорение Мексики. Берналю Диасу — пост рехидора в каком-то захолустном городишке в Новом Свете, Марине дворянство и заботы о сыне, кошке — новорожденные котята…
В ту ночь мы крупно повздорили с Алонсо Пуэртокаррерой. Он выбрал неудачный момент для ссоры — все уже было готово к исполнению задуманного. Берналь подобрал надежных ребят, все они были с ног до головы закутаны в черные плащи. Тотонаки попрятались по домам, тишина тогда в Семпоале стояла глухая, тревожная. Только в нашем лагере еше шумели: кто-то до сих пор голосил под треньканье гитары какую-то задиристую солдатскую песню.
Алонсо ворвался ко мне в комнату — кстати, в индейских домах не бывает дверей, разве что занавески из пальмовых циновок, — и сразу принялся упрекать меня в коварстве, недопустимом безрассудстве, потере осторожности и трусливом уклонении от опасностей. Во всем сразу — и прежде всего в том, что я пошел на поводу у этой «чертовки», «змеи», «коварнейшего существа в мире»!..
— Ах, чтоб тебя! — в сердцах выговорил я. — Алонсо, это единственный разумный способ привести к покорности местного царя и сохранить статус кво. Мы всего-навсего подергаем Мотекухсому за хвост, и как только он зарычит, бросим ему кость. Кроме того, я не имею привычки обсуждать с подчиненными уже принятое решение. Только ради тебя… Мне необходимо чем-то занять солдат. Чем дольше помалкивает правитель Анауака, тем сильнее сумасбродные идеи насчет возвращения на Кубу овладевают солдатами. Неужели ты полагаешь, что сведения об силе и могуществе ацтеков, которые сообщил нам касик, не дойдут до ушей наших ребят? Согласись — подобные известия уверенности не прибавляют. Я вынужден постоянно дергать тигра за усы. Еще два месяца… Женщина предложила разумное решение. По-твоему, я должен отказаться от него? Кстати, ты привел ее? Нам сегодня предстоит трудная ночка. Ты тоже можешь присутствовать при переговорах…
Он оскорбился, но не показал вида. Я понимал его — Алонсо попал в трудное положение. Кем он являлся в тот момент? Охранником у своей собственной наложницы? Оскорбительная роль выпала ему в этой смертельно опасной комедии. Каково благородному сеньору, храни его Господь, быть пажом у туземной женщины. Но в любом случае он уже не мог и не должен был считать себя её господином, потому что местные индейцы уже называли Малинцином меня. Чем дальше, тем больше он терял на неё всякие права. Думаю, к тому моменту Малинче стала отказывать ему в плотских утехах. И он, испанский идальго, родственник одного из влиятельнейших людей в Испании, не смел настаивать. Алонсо не желал применять силу — он был воспитанный человек. Но всему же есть предел!
Меня не в чем было обвинить, мои требования были логичны и законны. Более того, в моих требованиях, он чувствовал это — не было ничего личного. Я умел скрывать свои чувства. Всего лишь воля обстоятельств, голый расчет, в силу которого он вынужден был исполнять роль телохранителя своей собственной наложницы, которая откровенно не любила его. Испытывал ли он страсть? Не знаю. Меня это никогда не интересовало. Я ничем не мог помочь ему. Даже если бы очень захотел!.. Когда на карту поставлена жизнь многих людей и честь государства, я смел не обращать на всякие подобные буколические тонкости — и это было справедливо! Мы — и я, и Алонсо — были так воспитаны. С таким же настроем выходили на бой с маврами наши отцы и деды.
Что я мог сказать ему? Ничего, кроме правды, и даже в этом случае нас не могли рассудить шпаги.
— Она мне нужна, — я поднялся со стула. — Больше ждать нельзя, ночи сейчас коротки. Приготовь лошадей, Алонсо, ты отвезешь их до дальних постов, оттуда они пойдут пешком. Действуй, как договорились, заверни их так, чтобы они ни одним глазком не смогли разглядеть, как их везут. Пусть сочтут, что их перенесли по воздуху. С Богом, Алонсо!
Он ни слова не говоря вышел из комнаты, я вслед за ним. Берналь сидел, закутавшись в плащ, напротив него, покрыв голову длинной темной накидкой, сеньора Марина.
— Берналь, твои молодцы готовы?
— Так точно, ваша милость.
— Приступайте.
Они вышли во внутренний двор и исчезли в темноте. Свет факелов был слаб и редок.
Спустя четверть часа они привели в мою комнату двух ацтекских послов. Они тоже были завернуты в плащи. Когда их освободили, передо мной предстали двое полуголых, сравнительно молодых человека. Держались они достойно, однако ужас в их глазах, промелькнувший в тот момент, когда я в парадном, вишневого цвета, бархатном камзоле, в черном берете с пером, туфлях с золотыми пряжками, предстал перед ними, они скрыть не сумели. Прежде всего я выговорил Берналю за то, что тот не освободил всех благородных посланцев великого и могущественного Мотекухсомы. Марина именно так перевела мою речь. В свое оправдание Берналь заметил, что кто-то спугнул их…
Я укоризненно покачал головой.
— Ах, чтоб вас…
Потом вновь обратился к ацтекам.
— Позвольте выразить вам сочувствие и сожаление, что мои люди не сумели освободить заодно и ваших товарищей. Это пренепреятнейшее происшествие, этот допущенный в отношение вас произвол, возмутили нас до глубины сердца, однако мы не смеем вмешиваться в дела, находящиеся в ведении местного касика. Но и закрывать глаза на несправедливость тоже не в обычае испанцев. Вы свободны, господа! Более того, можете передать вашему повелителю, что мы не допустим никакого ущерба его чести и чести, присланных им благородных вельмож. Ведь вы вельможи, не так ли?.. Поинтересуйся, — обратился я к Марине, — знатны ли они, имеют ли доступ к государю напрямую?
Та что-то залопотала по-местному. Пленники, сразу приняли гордый вид и подтвердили, что они из родовитых семейств и обладают счастьем лицезреть своего повелителя.
— Вот и хорошо. Передайте вашему государю, что мы испытываем к нему величайшее почтение и желаем услужить ему в любом благородном предприятии. «Услужить» не переводи… Скажи «помочь». Много чести… И приложим все силы, чтобы освободить и вернуть ему в целости и сохранности других посланников, а также наградить их… Нет, насчет даров не переводи… Не за что их награждать. Скажи вот ещё что. Прискорбно нам, что ваше величество отказывается принять нас в своем величественном граде Теночтитлане правильно я назвал?
Марина кивнула.
— Его холодность, — продолжил я, — удручает наши сердца и наносит ущерб нашему великому повелителю, который ждет нас за морем. Все, больше не переводи. Берналь, пошли человека узнать готовы ли лошади?
Через некоторое время тот доложил.
— Все в порядке. Можно ехать.
— Вас довезут до реки, дальше вы сможете отыскать путь? — обратился я к послам.
Те энергично закивали, принялись благодарить.
— В путь! — сказал я и предложил им пройти вперед. — В целях предосторожности мы вынуждены получше укрыть и даже связать. Вы полетите по воздуху. Ну, ты сама, — предложил я Марине, — объясни им, что к чему.
Женщина принялась что-то объяснять им — откровенное недоверие появилось на их лицах. Тогда Марина принялась жестикулировать — показала на небо, на меня, сделала строгое лицо. Послы безропотно повиновались — и когда их вновь заворачивали в плащи, когда связывали, когда укладывали на особые носилки между лошадьми, вели себя тихо, как мыши. Видно, обещанное путешествие в поднебесье вконец доконало их. Пуэртокаррера тихонько свистнул, махнул рукой, и конный дозор рысью поскакал к реке.
На следующий день мне пришлось высказать толстому касику все свое неудовольствие по поводу таинственного бегства двух из пяти ацтекских посланников. Этот тучный, коварный индеец не нашел ничего лучше, как вновь впасть в прострацию. Он опрокинулся на ложе, закатил глаза и принялся повторять, что теперь надо ждать армию Мотекухсомы. На этот раз они здесь камня на камне не оставят. Всем им теперь не миновать жертвенного ножа. Тут ещё донна Марина подбавила жару. Лицо её приняло жесткое выражение, глаза наполнились гневом, она упрекнула правителя в медлительности и робости. Давным-давно надо было поискать надежную защиту на стороне. Есть управа и на Мотекухсому. Почему касик такого знаменитого в здешних краях народа тотонаков до сих пор не проявил желания перейти под власть могучих пришельцев, чей повелитель за морем владеет всем миром. Войско его неисчислимо, милосердие безгранично. Он готов всем сердцем принять под свою защиту новых подданных. Так что же царь медлит? Надо выйти на площадь, объявить народу, что больше не о чем тревожиться — сам великий господин, чернобородый и могучий, будет теперь защищать их. Круг замкнулся, наступил час возвращения…
Трудно описать, что после подобных слов случилось с этими детьми природы. Они в момент преобразились. В тот же час было назначено торжественное шествие и принятие населением присяги на верность королю и императору Священной римской империи, его величеству дону Карлу V.
Город, с утра вымерший, сменивший вчерашнее бурное ликование на сегодняшний траур и ожидание всевозможных бед, вновь ожил. Люди толпами, семьями повалил на центральную площадь. Когда же королевский нотариус объявил, что в виду больших услуг, который народ Тотонукопана оказал испанской короне, местные жители освобождаются от дани, а донна Марина перевела эту новость, — радости туземцев не было предела.
Наши солдаты промаршировали строем, затем два раза пальнули кулеврины.
Местные жители то и дело называли наших солдат «teules», что на их языке означало «боги». Сердце у меня загорелось. Больно было смотреть на эти залитые кровью, языческие кумирни. Я уже совсем собрался потребовать от касика и его окружения, от всего тотонакского народа признания вящей славы Господа нашего, Иисуса Христа, но оба священника, падре Ольмедо и лиценциат Хуан Диас, буквально повисли у меня на руках, начали уговаривать подождать. Слово Христово, твердили они, распространяется лаской и милосердием, но не мечом.
С трудом я согласился отложить крещение язычников. Потом прежние хлопоты с головой захватили меня.
Нас ждал Веракрус — первое испанское поселение на этом дальнем берегу.
Глава 9
Работали дружно. Заложили фундамент церкви, бастионов. Наши каменщики принялись возводить стены божьего дома. Десятки индейцев, присланных царем тотонаков, трудились над возведением стен будущей крепости, сотни занимались осушением болот. Я сам, помнится, с охотой таскал камни, копал ямы под фундаменты. Никто из нас не брезговал черной работой.
Ацтекских послов мы взяли с собой. Из Семпоалы вывели в кандалах, в дороге оковы сняли, поместили на кораблях. Марина с моего согласия часто навещала их — рассказывала всякие сказки-небылицы. Сама в свою очередь жаловалась на свою несчастную судьбу, делала намеки на то, что не прочь сослужить добрую службу великому повелителю Мотекухсоме.
Между тем до нас доходили вести, что Мотекухсома объявил, что пребывает «в гневе» на непокорных тотонаков, однако, когда первые двое послов добрались до Теночтитлана, неожиданно сменил гнев на милость и прислал к нам в лагерь гонца с благодарностью за освобождение его людей. Тем самым я все больше и больше укреплялся в мысли, что поход на Теночтитлан — дело не такое уж безрассудное, если с толком за него взяться. Прежде всего, необходимо было раз и навсегда искоренить крамолу в собственных рядах, разрубить запутавшийся узел с Алонсо и добраться наконец до тайны, которая хранила Марина.
В таких хлопотах проходили дни. Скоро в Веракрусе появилось новое посольство от Мотекухсомы, в состав которого входили пять человек, из них два его племянника. Как объяснили мне Марина и старейшины из Семпоалы, это была великая честь. Одних подарков они привезли на две тысячи песо, да ещё прекрасные ткани и драгоценные камни.
Мир был восстановлен — это было очень кстати, тем более, что касик Семпоалы тоже именно в этот момент проявил свое коварство. В середине июля — кажется, так, — из страны тотонаков пришло сообщение, что на них напали соседи из Синпансинко. Посланник в беседе намекнул, что здесь не обошлось без козней Мехико. Я поднял войско и с помощью проводников в несколько дней по кратчайшей дороге достиг границ Синпансинко. Роты вошли в ближайшее селение. Над джунглями местами уже встали высокие столбы дыма — это воины Семпоалы принялись жечь деревни врага.
Селение казалось пустым, по всем улицам были расставлены жаровни с курящимися благовониями. У последних хижин нас поджидала делегация старейшин. После коротких переговоров выяснилось, что жители Синпансинко и не думали нападать на тотонаков. Касик Семпоалы решил воспользоваться моментом и захватить спорные земли, а если удастся то и всю территорию Синпансинко. Марина с нескрываемым возмущением поведала мне эту историю и решительно заявила, что грабежи и насилия необходимо срочно остановить, чтобы не давать Мотекухсоме шанс обвинить нас во вмешательстве во внутренние дела его государства. К тому же своими руками создавать себе врагов в тылу было явно неразумно. Солдаты были посланы, чтобы утихомирить тотонаков и по возможности вернуть все, захваченное. Скоро в нашем расположении появился касик Семпоалы и, как ни в чем не бывало, принялся оправдываться тем, что его подданные ввели его в заблуждение. Сам он по своей воле никогда бы не начал войну. Я поймал его на слове и между двумя областями были заключен вечный мир. Обе эти страны в тот же день я объявил владениями испанской короны.
В Семпоале, куда наше войско пришло на отдых, жители встретили нас с ещё большим восторгом. Касик к многочисленным дарам, которыми он хотел ублажить «кастилан», присовокупил восемь девушек из местных благородных семейств, которых мы должны были взять в жены.
Дары я принял с радостью, но прежде, чем играть свадьбы, невест следовало окрестить, так как не подобает благородным идальго жить с язычницами. Неплохо бы и всему тотонакскому народу осознать, в чем истина и кому следует служить. Сначала разговор был мирный, но, почувствовав сопротивление касика, местной знати и жрецов, которые принялись уверять, что без богов и жертвоприношений им никак нельзя, что боги наделяют их светом, урожаем, миром, — я решил во что бы то ни стало переломить их упрямство. Уговоры на них не подействовали, тогда я кликнул охотников из числа солдат. Касик, внезапно побелев лицом, начал созывать своих воинов. При этом все ещё пытался уговорить меня, умолял не губить идолов, не позорить Семпоалы, иначе погибнем и мы, и они.
Я призвал небо в свидетели, обвинил туземцев в поклонении ложным кумирам. Вмиг пять десятков наших солдат взбежали на вершину пирамиды и скинули поганых идолов. Страшны они были лицом и уродливы телом. Иные размером с годовалого телка, другие с человека, а были и такие, что не больше собаки.
Вой и плач наполнил воздух. Местные жрецы молились по-своему, в воздухе засвистели стрелы. В то же мгновение я приказал схватить касика, жрецов и множество людишек из знатных. Марина, воззвав к небесам, указала на разбитые обломки и вопросила местных — где же обещанная месть? Где наказание? Не будет его, ибо эти боги ложные, а касику она между делом напомнила, что сделает с ним и его народом Мотекухсома, если «кастилан» откажут ему в помощи.
Кое-как удалось успокоить народ. Жрецы с плачем и молитвами сожгли останки идолов, а на верху пирамиды был возведен алтарь и воздвигнут святой крест. Первыми привели в истинную веру подаренных нам девушек. Самую красивую, крещенную донной Франсиской, я отдал в жены Алонсо Пуэртокаррере. Мне же досталась дочь самого касика, донна Катилина, безобразная лицом и количеством жира превосходившая отца.
Жаль, что я не мог отказаться…
Между тем губернатор Кубы Диего Веласкес не оставлял попыток наложить лапу на все, чего мне удалось добиться за такое короткое время. Еще в Семпоале я узнал, что в Веракрус прибыл корабль с Кубы, который привез известие о том, что Веласкес стал наместником с правом основывать новые города. Все это сразу подняло дух его сторонников. Верные мне офицеры — в первую очередь Алонсо, Гонсало де Сандоваль, Альварадо, Хуан де Эскаланте стали призывать к немедленному выступлению в поход на Теночтитлан. Иначе, говорили они, войско выйдет из-под контроля. Признаки брожения были у всех на глазах, среди нижних чинов усиливаются настроения в пользу возвращения на Кубу.
К сожалению, они, кроме разве что сеньоры Марины, не понимали всей деликатности создавшегося положения. Собственно мне было плевать на любые угрозы и предписания Веласкеса, но он имел влиятельных покровителей в Испании. Прежде всего это председатель королевского совета по делам обеих Индий, архиепископ севильский Фонсека. Вот почему, задумываясь о последствиях победоносного похода на столицу Мехико, я отчетливо сознавал, что цена всем нашим успехам — грош, если мы заранее не позаботимся о поддержке более могущественных покровителей. Поражение я даже не брал в расчет — при таком исходе со мной было бы покончено раз и навсегда, и я лучше принял бы смерть в бою, чем вернулся на Кубу. Кто в подобной ситуации мог дать мне карт бланш на любые действия, как бы неблагородно, на первый взгляд, они не смотрелись. Хотя бы задним числом… Только его величество король испанский дон Карлос V! К нему и следовало обратиться напрямую. Были у меня и достойные кандидатуры на роль посланников. Это прежде всего Алонсо и Франсиско де Монтехо. Оба были люди достойные, из знатных фамилий, у них были надежные связи при дворце.
Однако судьба распорядилась иначе. Спустя неделю после возвращения из Семпоалы в лагере открылся заговор. Как я и предполагал, зачинщиком оказался Эскудеро, рассудивший, что рано или поздно я разделаюсь с ним. Клянусь именем Господа, у меня и в мыслях не было ничего подобного, но разве человека, погрязшего в грехах, убедишь в безмерном милосердии Божьем, в возможность добрососедства с тем, кого ты когда-то предал!.. Я всегда искренне прощал своим врагам — поверьте, это не пустые слова, но те преступления, которые грозили общему делу, должны были пресекаться в корне.
Что надумали негодяи? Захватить судно и тайком бежать на Кубу! Мои люди едва успели снять с приготовленного корабля снасти, компас и руль. Утром дело открылось, злоумышленники были схвачены и я, скрепя сердце, подписал смертный приговор для двух главарей Педро Эскудеро и Хуана Карменьо. Кормчий Гонсало де Умбра был лишен ноги по щиколотку, остальные заговорщики получили каждый по двести розог.
Кончался июль. Приближалась пора сбора урожая… В те дни у меня дня часа свободного не выпадало. Прежде всего на общей сходке было решено известить нашего короля о том, что дело со строительством Веракруса успешно движется. Уже построены церковь, арсенал, рынок, заложены фундаменты первых домов для переселенцев. Все в письме, составленном нотариусом Годоем было прописано до самых мелких подробностей, кое-какие, на мой взгляд, были лишними. Далее я взял слово и предложил к королевской пятине, которую должны были доставить в Испанию благородные господа Алонсо де Пуэртокаррера и Франсиско де Монтехо, не плохо бы к этой законной доле добавить наш общий добровольный дар. Тем самым мы, первые колонисты, показали бы непоколебимую верность короне и святому кресту, а также решимость довести дело до конца. Говорил я долго, здраво и, по-видимому, убедительно, если слова мои наполнили этих храбрых людей возвышенным чувством любви и преданности к нашему монарху. Даже инвалид, старик Эредиа из Бискайи, чье лицо было изрыто оспой, борода всклочена, одна нога короче другой, принес и положил в общий котел сережку из низкопробного золота, вмененную у туземцев. Этого инвалида я оставил смотрителем при алтаре в Семпоале.
Теперь сокровищ хватало, чтобы загрузить добрую каравеллу. 26 июля, с наказом ни в коем случае не заходить на Кубу, корабль отправился в путь. В тот же день донна Марина перебралась в мое жилище. Не знаю простилась ли она с Алонсо — тот собрал все свои пожитки и часть добычи, а также полученную в Семпоале индейскую «жену» и заранее погрузил их на корабль. Марину с утра Берналь Диас отвел ко мне домой. Шла она, с головы до ног укутавшись в бархатное покрывало. Уже на месте разместившись в предназначенной для неё комнате, сразу поставила на место донну Катилину объяснила, что по своему происхождению та обязана прислуживать ей за столом и помогать в купальне. Слуги, не зная, как себя вести с донной Мариной, словно мыши шушукались весь день.
Я проводил Алонсо на корабль — он даже немного растерялся, когда услышал, что я очень сожалею об его отъезде, и если он желает остаться, пусть только скажет слово. Потом добавил, что разделяющее нас обстоятельство всегда готов решить к нашему обоюдному согласию. Он слабо улыбнулся — видно, вспомнил прежнее свое восторженное отношение — обнял меня и пообещал по прибытию в Испанию сделать все, что в его силах, чтобы со стороны Диего Веласкеса нам больше не ставили препон. А насчет обстоятельств… Он был уклончив и сказал, что ни о чем не о жалеет, разве только о том, что лучше бы ему ослепнуть в тот миг, когда он встретил «это обстоятельство» и безрассудно поддался страсти. Оно с самого начала было предназначено мне, и он ни капельки не завидует. Скорее скорбит… Однако верит, что я с ней справлюсь. У тебя, Эрнандо, добавил он, хватит сил. Потому что это не женщина, а дьявол! Уродилась ли она такой или такой её сделали скверные люди, только в её душе нет ничего, кроме жажды мщения и власти. Только ты в состоянии накинуть узду на эту тварь.
Ужин у нас получился странный. За столом я один вкушал еду — она прислуживала. Когда я пригласил её сесть за стол, Малинче отказалась и шепнула, что знает свое место. Придет срок, и она сядет рядом, тем более в компании господ офицеров. Но сегодня не тот день. Она желает быть мне верной женой…
— Это невозможно! — уверил я её. — Я женат.
— Тогда верной рабыней, — ни мало не смутившись, добавила она. — И не потому что желаю, чтобы восторжествовала справедливость и я смогла бы вернутся в родные края не девкой и не жертвой, а правительницей. Нет, сеньор Эрнандо, я не верю, что ваше святое воинство сможет одолеть армию Мотекухсомы, однако убеждена — попробовать стоит. У меня все равно другого пути нет. Даже предав вас, к чему меня упорно склоняли ацтекские послы, я не получу заслуженную награду и, как предательница, осквернившая местных богов, буду рано или поздно предана в жертву. Хорошенькое дело — погибнуть не покаявшись, не получив прощение грехов.
— Да, это страшное наказание, — после долгого молчания согласился я.
Ее слова озадачили меня — неужели она решила с первой же минуты взять надо мной верх?
— Нет, сеньор Эрнандо, — неожиданно продолжила она, — у меня и в мыслях ничего подобного не было. Признаваясь в том, что я не верю в победу, я имела в виду всего лишь явный расклад сил. Не думайте, сеньор, что я пытаюсь напугать вас Мотекухсомой — он как раз делает все, чтобы лишиться власти. Понимаете, сеньор Кортес, он из счастливчиков. Из тех, кто, как вы выражаетесь, рождаются в сорочке. Такие люди только в привычных обстоятельствах хороши, а стоит событиям пойти вкривь и вкось, они тут же выпускают руль из рук, с досужими молитвами обращаются к Богу, ждут знамений… Верят, будто святая сила исполнит за них предназначенное им на роду. Говоря о едва ли достижимой победе, я имею в виду неукротимую волю ацтеков, их воинственный дух, которые, дай Господь, проснулся бы как можно позже. Вот та главная тайна, позволившая им овладеть всем миром. Я молюсь, чтобы Мотекухсома ещё долго правил этим племенем убийц, ибо его поступки лишают их силы. Мы должны смотреть правде в глаза, господин, разве не так?
— Безусловно, — опять я был вынужден согласиться с этой чертовкой и, порядочно рассердившись, хотел было оборвать этот поток красноречия. В этот момент я вдруг с ужасом догадался, что она только этого и ждет. Она очень рассчитывает, что я прикажу ей поменьше говорить, потом навалюсь на неё в кровати, потом испытаю некоторые угрызения совести (поверьте, я способен испытывать раскаяние). И постепенно, шаг за шагом, она одолеет меня в трудном сражении между мужчиной и женщиной. Это вечная история, кому быть головой, а кому шеей, способной повернуть голову в любую сторону. Теперь я начал понимать, какое ошеломляющее впечатление произвела на Алонсо эта женщина, в какое ошарашивающее положение она его поставила. Конечно, её можно было ударить и, может, действительно следовало хорошенько вздуть все-таки она не натуральная донна, но в том-то и заключалась линия её поведения. Сегодня хозяин поколотил, а завтра будет вынужден прийти и спросить у неё совета. Естественно, такое положение не может долго продолжаться, и либо её начинали колотить всерьез, либо попадали под её изящную, розовую пяточку. Только неразумный человек, враг самому себе, мог поднять на неё руку. Антитеза была впору только тонкому, способному увидеть последствия своих поступков человеку, поэтому я решил прямо с этой минуты, не прерывая, выслушивать её речи, тогда они скоро сами по себе укоротятся. Я обязан вести себя как любящий муж — что в общем, было совсем не трудно. Тем более теперь, когда она то и дело касалась меня своими маленькими грудями. Она ошеломляюще пахла, кожа её была смугла, в волосах была приколота густо-багряная роза — не иначе мавританская принцесса из волшебной сказки, вещающая о политике, о соотношении сил, о необходимости обязательно попасть в Тласкалу, потому что без союзников нам не обойтись.
«Нам, — невольно отметил я про себя. — Мне и ей!»
— Вы меня совсем не слушаете, сеньор? — спросила Марина.
— Да, — согласился я, — сегодня выдался трудный денек.
Она разложила постель, стащила сапоги. Омыла ноги прохладной водой, помогла раздеться…
Это было в первый и последний раз — после той ночи она повела себя как настоящая госпожа, однако в спесь, надменность и наглость фаворитки не впала. Она была очень умна, донна Марина…
О местных богах она заговорила под утро. Помню, мне тогда совсем не хотелось спать. В теле, в мыслях ощущалась необыкновенная легкость. Я до сих пор благодарен судьбе за то, что в таком опасном, кровавом предприятии, как завоевание одного из самых могущественных государств на земле, мне то и дело попадались люди, слушать которых было одно удовольствие. Каждый из них стоил полка королевской гвардии, а эта индеанка вполне могла заменить Государственный совет. Даже коварство её отзванивало каким-то наивным детским бесстыдством — она, как бы играя, сплетала лиану интриги. Ей все было страшно интересно: и какова она, Великанша Хиральда,[33] и что представляют из себя Быки Гисандо,[34] кто такой Александр Македонский, Юлий Цезарь и что за язык такой — латынь? Что это за заведение такое — университет? Похож на их храмовые школы? В свою очередь изумлялся я — неужели у ацтеков тоже были школы? Конечно, в каждом городе, удивлялась Марина. Все ей казалось странным — оказывается, золото можно взвешивать, а не считать количество мер, и вообще, всякая вещь имеет свой вес и её можно взвесить и сравнить с другой. Открытием для неё была азбука — её тайны она так до конца и не освоила. Кое-как по необходимости наловчилась ставить две буквы «D» и «M» — так и подписывалась в документах. Но больше всего её интересовали другие страны. Город Париж привел её в восторг. Но это было потом, а в ту ночь, насытившись любовью, она вдруг заплакала у меня на груди.
Это было так неожиданно. Я даже сел в постели. Прикинул — может, слуг позвать? Вдруг она рассмеялась — признаться, до той поры я никогда не слыхал её смеха. Улыбку видеть доводилось, но чтобы она залилась как колокольчик. Счастливо, безмятежно, словно от порыва ветерка. Помню, тогда меня кольнула ревность — неужели и с Алонсо она также похохатывала? Марина внезапно посерьезнела и склонив голову, призналась.
— Никогда бы не подумала, что мужчина может быть не отвратителен…
Я невольно привлек её к себе — вот, значит, в чем заключалась причина её безудержной болтовни, попытка втянуть в обсуждение ненужных в такую пору серьезных вопросов. Как же она боялась меня, эта женщина, сразу из принцесс попавшая в рабыни и в отличие от сказочных царевен, так и не сумевшая сохранить девственность, прошедшая через столько рук, озлобившаяся, так и не сумевшая привыкнуть к насилию, которым только и занимались с ней мужчины, умная не по судьбе, грамотная, чувственная и чувствительная, как цветок; не впавшая в грех жажды удовольствий от постыдно частого использования её тела.
Выходит, я был у неё первый? Это была грустная мысль. Я только на мгновение представил, что испытывал Алонсо, когда она механически работала под ним, потом учила, как добиться должности коменданта города Веракрус — и все говорила, говорила, говорила… С ошибками, спотыкаясь, переспрашивая, хватаясь за чужой язык, как за соломинку. Этот стебелек не подвел её значит, она из той же породы, что и я. Мы никогда не сдаемся и упрямо, как слепые щенки, лезем из коробки наружу. Пытаемся познать мир, подмять его под себя. На худой конец устроиться в нем поудобнее… Для этого приходится толкать локтями, работать шпагой и языком, пинать ногами, уметь заранее почуять опасность… Мы были одной крови — она и я.
На исходе первой ночи Малинче рассказала первую сказку, в которой повествовалось о зачинателе всех богов, прародителе дня и ночи, земли и моря, верха и низа Тлоке Науке, «Владыке близкого соседства».
…Да, я занимался богохульством, впадал в грех язычества. Если бы святая инквизиция пронюхала, о чем мы беседовали с Мариной по ночам, не миновать бы мне жестокого наказания. Но об этом никто не узнает — за все время пребывания в Испании я словом не обмолвился о тех древних чудищах, об их именах, которые сообщила мне индейская наложница Малинче. Этот грех давным-давно отпущен мне духовным наставником, падре Гомарой. То, что я время от времени вспоминаю о них, так это только радуясь силе Господа, позволившему мне сокрушить языческие твердыни. Не думаю, что без этих сведений, в которые также были посвящены отцы Ольмедо и Хуан Диас, нам удалось бы осилить Теночтитлан.
Сам Тлоке Науке, невидимый, как ночь, и неощутимый, как ветер, своими ипостасями имел Тонакатекутли — владыку всего сущего, и Тонакасуатл владычицу нашей жизни, а также властителя двойственности или Ометекутли. Патер Ольмедо заметил по поводу подобного описания Тлоке, что оно недалеко стоит от христианского понимания Бога-отца, Бога-сына и Святого духа. Если, конечно, мы правильно поняли Малинче… Правда, сущее виделось индейцами не как единое и неделимое детище Творца, но как поле битвы двух грандиозных начал. Все в окружающем мире обладало своей противоположностью: верх лежал повыше низа, день сменял ночь…
— Четыре сына было у «Отца богов», «Матери богов», все они сливались в одном — в могучем Тескатлипоке, божестве «курящегося зеркала».
Был красный Тескатлипока, владел он западом и принял имя Шипе или Камашитли. Этот Тескатлипока нынче покровительствует Тласкале.
Был синий, по имени Уицилопочтли, владетель юга, повелитель ацтеков.
Был белый, названный Кецалькоатль, что переводится как «Пернатый змей», чьей землей был определен восток.
Был черный бог — его до сих пор зовут Тескатлипока, хозяин севера, враг Уицилопочтли.
Теперь послушай о том, что было на земле в давние времена.
Четыре эпохи было на земле, четыре раза погибал мир.
Первой эпохе было имя «Науи Оселотль», что значит «Четыре оцелота». В ней явил себя в небе могучий Тескатлипока. В конце её оцелоты или дикие коты истребили племя гигантов-кеноме и населявших тогда землю людей.
Имя второй эпохи было «Науи Ээкатл», что значит «Четыре ветра». В это время солнцем стал светлый Кецалькоатль или, как его ещё называют, Уэмак. Страшные ураганы принесли гибель этому миру. Люди в ту пору выродились в обезьян.
Третьим солнцем стал обильный Тлалок, а время его стали называть «Науи Киауитл» или по-вашему «Четыре дождя». Этот мир погиб в исполинском пожаре, погубившем землю.
В четвертую эпоху солнцем стала богиня Чалчиуитликуэ. Этот мир получил имя «Науи Атл» или «Четыре воды». Завершилась она всемирным потопом, а люди оказались превращенными в рыб.
Пятая эпоха — нынешняя, солнцем в ней стал Тонатиу, воплощение Уицилопочтли. Именуется она «Четыре движения».
На следующую ночь, испросив позволения продолжать, Малинцин начала так:
— Теперь, о, повелитель, послушай сказ о двух великих богах. Их рождении и славных деяниях, изменивших мир, приведших ацтеков или теночков к власти, а древнее племя тольтеков или иначе строителей, низвергло в прах забвения. Я уже позволила себе поделиться этой тайной с падре Ольмедо и отцом Хуаном, однако им не удалось проникнуть в смысл сказанного мной. Так что, дон Эрнандо, слушай внимательно. Не закрывай глаза, борись с усталостью и сном. И любовные утехи не возместят того, что ты упустишь в моем рассказе.
Имя могучего Уицилопочтли можно перевести так — «колдун-колибри». В таком образе он и предстал перед старейшинами теночков, когда те отправились на поиски лучшей доли из любимой страны своей, называемой «краем семи пещер». Шли они долго, пока однажды в горах, в каменной нише, не нашли маленькую птичку, разноцветную и обладающую человеческим голосом, которая возвестила им, что путь их скоро будет окончен, и место, где они заметят орла, терзающего змею, будет их землей обетованной. Там они восславятся, там построят город, равного которому не будет на земле.
Эта птичка — самая маленькая в наших низменных лесах, величиной с ноготок — была самим Уицилопочтли.
Мать его, богиня Коатликуэ или, по-вашему, «Змеиное платье», обитала на Змеиной горе. Матерью она была четырем сотням звезд, именуемых Уицнауа или Боги юга, а также воплощению луны Койалшауки. По-кастильски Койалшауки переводится как «Та, чье лицо разрисовано гремучими змеями»..[35] Однажды Коатликуэ прибирала в своем храме, и вдруг на неё упал шар из прекрасных птичьих перьев, тончайщих как свет. Собрала она волшебные перья, положила их себе за пазуху, а когда закончила уборку, обнаружила, что перья исчезли. Догадалась богиня, что зачала ребенка.
Дети Коатликуэ, заметив, что мать беременна, вспомнили древнее пророчество, что не будет им славы и власти, если мать их родит невиданное дитя. Все разом подступили к ней, но маленький Уицилопочтли, находясь в материнском чреве, успокоил Коатликуэ. Когда же пришел срок рожать, все Уицнауа во главе с «Той, чье лицо разрисовано гремучими змеями» напали на мать, но в этот момент крошечный Уицилопочтли появился на свет. Он уже был облачен в доспехи и вооружен огромным мечом. Младший сын защитил мать, а сестру свою — богиню Луны, и братьев-звезды обезглавил. Но по ночам враги Уицилопочтли оживают, строятся на небе в боевой порядок, и каждое утро Тонатиу приходится вновь выходить на бой. Для этого надо много сил. Пищей Уицилопочтли служит человеческая кровь — вот и льют её ацтеки обильно, часто и повсеместно.
Другой сказ последует теперь — о мудром повелителе ветров, чьей любимицей является Вечерняя звезда[36] и о древнем народе тольтеков, канувшем в небытие.
Есть бог Кецалькоатль — «Пернатый змей» — исполненный безграничной мудрости. Он дал начало и облик тому миру, в котором мы живем. Он указал путь, с помощью которого люди могут взойти на небеса — это размышления и принесение жертв. Землю он положил в середину мира и окружил её безбрежными водами, которые удаляясь от середины в конце концов сливаются с небом…
— Ну, это уже слишком, — перебил я её. — Не буду спорить с тем, что земля плоская, хотя некоторые утверждают, что она кругла как ядро, но чтобы воды сами по себе перешли в небо?..
Марина хитро прищурилась и спросила:
— Из каких же источников возникают дожди, которые сыплются нам на головы? Как иначе могут хлынуть ливни, если воды и небо отделены друг от друга? Где же в там, — она указала на потолок, — хранятся влага?
Я призадумался — действительно, каким же образом вода из рек, озер и морей попадает на небо, чтобы пролиться дождем. Хотя из морей она вверх не поступает — дождевые капли пресные… Все равно не понятно.
Между тем Марина продолжила.
— Пришел срок, и на землю пришел человек, который назвал себя Кецалькоатлем. Тольтеки не сразу поверили ему, однако, когда он научил их сеять кукурузу, резать камень, возводить дома, плавить металлы, обжигать глину, они склонились перед ним. Это была счастливая пора — тольтеки ни в чем не испытывали нужды, среди них не было несчастных и бедных. «Они говорили, — индеанка принялась заунывно декламировать, — что кукурузные початки были такой же длины и толщины, как пестики каменных ступок для зерна. Они говорили, что у них произрастал хлопок, на корню имевший различные цвета: красный, желтый, розовый, белый, пурпурный и зеленый. Эти цвета он имел сам по себе. Так он произрастал из земли. Никто его не красил».
Этот великий волшебник и мудрец много времени уделял «мотеотиа», что значит размышления. Он искал бога и учил всех тольтеков, что есть единый и вездесущий и все, что мы видим, лишь смена его обликов…
Тут я не выдержал.
— Этому тебя патер Ольмедо научил? Или лиценциат Диас, этот трусливый заговорщик? Теми же словами мне объясняли сущность Всевышнего в Саламанке!
— Нет, Эрнандо, никто меня не учил. Вот послушай гимн, который читал в нашем доме в Коацкуалько приходящий жрец. В нашем краю не очень жаловали Уицилопочтли за его ненасытную жесткость. Мы верили и ждали возвращения Кецалькоатля, которого иначе называют Уэмаком.
У них[37] был лишь один бог, и они считали его единственным. они взывали к нему, они молили его; Его имя было Кецалькоатль. Верховный хранитель их бога, его жрец его имя тоже было Кецалькоатль… Он говорил им, он проповедовал им: «Один этот бог, его имя — Кецалькоатль. Ничего не требует он, кроме змей, кроме бабочек, чтобы ты приносил ему, чтобы ты жертвовал ему».[38]Так учил воплотившийся в мудреца бог. Жил он в Туле, предавался «мотеотиа». Однажды в священный город явились колдуны. Страшными темными силами повелевали они. Колдуны пытались убедить Кецалькоатля, что боги питаются кровью и без жертв им никак нельзя. Однако мудрец очень любил свой народ и воспротивился колдунам.
Те замыслили недоброе. Ничего не могли они поделать с Кецалькоатлем, тогда решили обесчестить его. Долго уговаривали они великого жреца выпить опьяняющее зелье, наконец искатель бога, всю жизнь проживший в целомудрии и воздержании, согласился. Чем больше он пил колдовской сок, тем сильнее жажда мучила его. Скоро он забылся, а проклятые колдуны привели к нему принцессу Кецальпетатль. Великий жрец уединился с ней. Колдуны же, почуяв брешь в святой силе, защищавшей город Тулу, обратили на жителей всевозможные беды.
Поутру очнувшийся Кецалькоатль почувствовал великую скорбь. Он решил удалиться на восток в область света…
В этот момент Малинцин замолчала, подняла указательный палец и добавила.
— Этот слово можно перевести как «удалился», а можно и как «возвратился». Дошел он до побережья и здесь — так утверждают знающие люди — обратился в огромный пылающий костер. Другие же говорят, что он не вспыхнул, а на чудесном плоту, сооруженном из змей, отправился за море.
Теперь послушай гимн, ради исполнения которого, я так долго рассказывала тебе предания:
Так говорили старцы в древние времена: «Воистину все тот же Кецалькоатль живет и ныне, и поныне он не умер; он придет, чтобы властвовать».[39]— Ты хочешь сказать… удивился я. — Раз мы появились с востока, то…
— Да, повелитель мой! — глаза её горели, на лице обнажилось вдохновение.
Все, что подспудно вызревало в душе, чем жила эта женщина в трудную пору, на что надеялась, — теперь ясно читалось в её очах.
— Все, кто говорит на языке науа, — продолжила она, — и даже те, кто живет на самом юге, во влажных лесах и называют себя майя, — верят, что придет срок, и Кецалькоатль вернется и будет править нашими землями. Тогда вновь начнутся благословенные времена. Каждому достанется кукурузная лепешка, не будет больше литься кровь, а в дар богам, как и завещал Кецалькоатль, будут приносить бабочек и змей!
Я не знал, что сказать. Индеанка же молча соскочила с кровати, удалилась из комнаты. Вернулась быстро, легкими шагами подошла к кровати я невольно сел. Она поклонилась и положила к моим ногам спящую, сложившую огромные крылья местную бабочку.
У меня дыхание перехватило. «Боже милосердный! — молча возопил я. Прости новообращенной великий грех сотворения кумира!.. Пожалей ее! Пожалей меня, не дай впасть в гордыню!.. Этот дар, принесенный ею, в твою честь…»
Наконец я взял себя в руки.
— Встань, — обратился я к коленопреклоненной женщине. — И больше никогда так не делай.
— Не буду, — неожиданно легко согласилась она. — Я знаю истину. Я знаю, кто ты…
— Замолчи! — воскликнул я. — Не навлекай на себя гнев небес. За такие слова гореть тебе в аду. А то и где-нибудь поближе…
Она улыбнулась.
— Я знаю, кто ты — этого мне вполне достаточно. Я буду помогать тебе, и все грехи отпадут, как шелуха. Мы будем лить кровь во славу Божию. Мы упьемся ею — черной, настоянной на яде гремучей змеи, — кровью ацтеков. Для этого ты и послан сюда. Смотри, чтобы рука твоя не дрогнула, чтобы не поддался ты ощущению ложного превосходства над врагом. Наше племя всегда жило по заветам тольтеков. До той поры, пока в наш город не пожаловал дед Мотекухсомы Ашайякатл, не увлек пленных, которых потом принесли в жертву жадному до крови Уицилопочтли.
Я отер пот со лба. Теперь я как никогда, до самых печенок понял Пуэртокарреру. Всего в этой женщине было вдосталь — и красоты, и дьявольщины, и святой — ангельской! — веры в торжество справедливости, и коварства. С унынием я осознал, что мне не дано, как Пуэртокаррере, сбежать в Испанию. Ясно, что везти туда сеньору Марину было сущим безумием! Даже если он был без ума от её прелестей, а он не был без ума — я теперь напрочь был уверен в этом, — сущим безумием было бы самому доставить её прямо в руки святой инквизиции. Рядом со мной лежала женщина, которую я с большой опаской назвал бы человеком. Скорее она из этих… своих богинь «в змеиных платьях, звенящих, как колокольчики». Мало было оседлать её в постели, следовало каждое мгновение быть чуточку умнее её, дальновиднее, щедрее, жестче, коварнее… То есть не быть самим собой? Уже не служить «мерой всех вещей»?
В этот миг меня озарило — как раз наоборот! Стать самим собой, надеяться только на самого себя, не верить ни в какие байки, рассказанные этой принцессой. Да и не в какие байки вообще не верить!.. Действовать смело, решительно, без колебаний. Казнить и миловать без всякого колебания, по мере необходимости. Чтобы ни одна мерзкая пасть больше не произнесла в моем присутствии имя ненавистного Веласкеса, немедленно уничтожить корабли! Отрезать всякие пути к отступлению. Держать курс на Теночтитлан. Первым дело арестовать Мотекухсому — тогда дело пойдет…
Помню в благодарность я набросился на сеньору Марину — терзал её долго, как душе угодно, как учили в гаремах у мавров — пока она не разъярилась, не начала кричать… Ее крики были подобны рыку, какие издает самка дикого кота. Потом она не отпускала меня… С первыми лучами солнца я уже был на ногах и во исполнение задуманного отправился в Семпоалу. Донна Марина решительно воспротивилась поездке в паланкине и взгромоздилась на коня. Ей подобрали самую спокойную кобылу, хотя совсем смирных у нас не было, и она молча тряслась весь путь до индейского города. Сопровождавший нас Гонсало де Сандоваль, глядя на нас, тоже помалкивал. Всю необходимую подготовку в лагере он уже провел.
Глава 10
— Deo gratias,[40] — сказал падре Гомара, входя в мой кабинет. — Как чувствуете себя, дон Эрнандо?
— Сегодня сносно. Разве что под вечер сердце разбушевалось.
— Есть что вспомнить, сеньор Кортес, есть что вспомнить. Деяния ваши останутся в веках, как светоч и пример для каждого благонравного христианина.
— Ах, чтоб вас, падре! Оставьте этот тон. «Деяния», «для каждого христианина», да ещё «благонравного»!.. К чему это между старыми друзьями? Задачу свою вижу не в том, чтобы служить примером, а в том, чтобы добросовестно воссоздать историю покорения Мексики. Не желая выпячивать собственную роль в этом предприятии, все-таки хочу заметить, что мы имели дело с силой, не имеющей себе равных в Новом Свете. Братьям Писарро, Бальбоа, тому же Монтехо далеко до тех славных дел, которыми я прославил святую веру и его величество короля. Хотелось бы, чтобы именно в таком духе будущие поколения читали о нашем походе на Теночтитлан. Началом его можно считать уничтожение кораблей. На эту меру я пошел вынужденно, так как за почти годичный срок пребывания в теплых морях деревянная обшивка износилась до такой степени, что мореплавание на этих посудинах стало представлять серьезную угрозу для людей. Поработал и жук-древоточец. Поверьте, падре, это был трудный выбор… Либо вернуться на благословенные берега Кубы под сень рассудительного губернатора Диего де Веласкеса. Посоветоваться с этим достойным человеком, поговорить с ним по душам… Жаль, что он невзлюбил меня — по-видимому, поверил наветам злых людей, которые мечтали поссорить нас…
О чем это я? Да-а… Вернуться на Кубу в лапы… Нет-нет, под сень… ну, и так далее насчет Веласкеса. Это место, падре, вы постарайтесь изложить особенно изысканным стилем.
Либо потопить корабли и остаться один на один с жестокосердным, исполненным коварства Мотекухсомой, которому наше пребывание в его владениях было как кость в горле. На что мы, горстка храбрецов, могли надеяться в этом чужедальнем краю, среди орд язычников и пожирателей человеческой плоти? Только на бесконечную милость Господа нашего Иисуса Христа и Девы Марии, на крепкие руки, на наше оружие, закаленное в боях с неверными. Вот, примерно, в таком духе, падре… Конечно, желательно убрать излишнюю напыщенность и неуместные риторические обороты, но в целом мне нравится. Это то, что нужно Испании. И пожалуйста, побольше о моем милосердии, а то оно как бы остается в тени других доблестей, какими наградила меня природа.
Гомара от души рассмеялся.
— Вы всегда умели привести меня в хорошее настроение, сеньор Эрнандо. Как бы не донимали вас болезни, вы не устаете шутить. Причем, очень тонко… А стиль! Каков стиль!.. «На что мы, горстка храбрецов, могли надеяться в этом чужедальнем краю, среди орд язычников и пожирателей человеческой плоти?» Прекрасно! Вам самому следует изложить историю завоевания Мексики.
— Ну, падре, хватили! Я старый, больной человек. Жить осталось совсем немного. На этот раз я не шучу, святой отец. Поэтому мне всегда приятно видеть вас, моего летописца. Рад, что мои шутки для вас не пустой звук. Не то, что в кругу придворных, где каждая собака считала своим долгом укусить победителя Мотекухсомы. Желаете, я расскажу анекдот, который приключился со мной в Мадриде. Какой-то наглый, приближенный к трону рифмоплет поинтересовался — правда ли, что во время обучения в университете я пробовал свои силы в стихосложении. Я подтвердил справедливость этих слов. Этот негодяй решил посмеяться надо мной в присутствие дам — спросил, что не по причине ли их непригодности я подался в конкистадоры?
Дон Эрнандо на мгновение примолк, потом улыбнулся.
— Знаете, что я ответил, падре? «Уверяю вас, сеньор стихотворец, будущий летописец непременно найдет в моих стихах некоторые достоинства. Догадываетесь почему? Потому что их написал Кортес!» Ладно, хватит об этом. На чем мы остановились?
— К вам пришли кормчие и заявили, что необходимо срочно принять решительные меры. Еще неделя-другая, и на этих гробах нельзя будет выйти в море.
— Так точно. Делать было нечего — я поставил этот вопрос на обсуждение общего схода. Конечно, верные мне офицеры и солдаты уговаривали собравшихся, что куда полезнее для спасения их душ принять участие в подготавливаемом походе на Теночтитлан, ибо тысячи язычников ждут-не дождутся… Нет, не надо, напишите просто «ждут, когда придет к ним свет истины». Однако в войске нашлись отдельные лица, для которых собственный живот, их скудное хозяйство, оставленные на Кубе оказались дороже богоугодного дела. Мнения разделились. Отказ от возвращения на остров означал немедленное уничтожение флота. Тем самым обрывалась последняя ниточка, связывающая нас с родиной. Нелегко было простым солдатам пойти на такую жертву. Многие настаивали, что раз нет выхода, надо отплывать. Я, падре, поверите ли, произнес тогда блестящую речь! За словами, как вам известно, я в карман не лезу, но в тот жаркий день мне удалось превзойти самого себя. Нужно учесть, что и офицерский состав высказался за уничтожение кораблей. Против были в основном моряки и кое-кто их тех, кто сочувствовал наказанным заговорщикам. Вслух они не осмеливались высказать заветные мысли, но тайком будоражили команды кораблей. В своей речи я напомнил честным морякам о тех обстоятельствах, которые заставили нас заложить город. Разъяснил причины, по каким мы должны дерзнуть идти маршем на Теночтитлан. Всем, кто поддался на уговоры смутьянов и требовал возвращения, я напомнил, что ожидает их на Кубе. Пришедшие в негодность корабли починить не удастся — значит, в любом случае их спишут на берег и им вновь придется пытать счастья. Зачем же так далеко ходить? Почему нельзя попробовать здесь? Это удобнее, тем более, что теперь мы не будем блуждать в неведении, а двинемся именно за тем, за чем явились в эту землю.
Насчет кораблей, заявил я, дело обстоит ещё проще. Они принадлежат мне. Я купил их на свои деньги, поэтому своей собственностью могу распоряжаться как мне заблагорассудится. Но мне бы не хотелось выступать здесь как хозяин. Все мы — соратники, все в одном котле, и уничтожение кораблей касается меня также, как и любого солдата. Ведь я же не пытаюсь улизнуть и бросить их здесь без командиров, запасов продовольствия, без надежды на спасение. Я готов в равной мере разделить со всеми тяготы будущего похода. Так я поступал всегда: и при строительстве Веракруса, и в сражении на реке Табаско. Кто может упрекнуть меня, что я увиливал от той тяжелой доли, которая выпала каждому из нас?
Они утихомирились, и все равно я чувствовал, что решение необходимо принять немедленно. На «потом» оставлять его было нельзя. В конце концов я согласился сохранить столько кораблей, сколько будет желающих вернуться на Кубу. Одного судна, сказал я, надеюсь, хватит. На том и порешили.
На следующий день с кораблей начали снимать паруса и снасти, все металлические детали. Одним словом, все, что могло пригодиться в последствии, свозилось на берег, складировалось… Этим занимался назначенный комендант крепости Веракрус Хуан де Эскаланте, мой верный друг и товарищ. Я ту пору принимал в местной кузне особые наконечники для пик с секущими боковыми лезвиями. Пики эти в длину были в два человеческих роста и, как я заметил, являлись очень хорошим подспорьем против неорганизованных туземных масс. Этот частокол индейцам трудно одолеть. Пока они прыгают возле них, канониры и аркебузиры успевают перезарядить стволы.
Наконец все было готово. Желающих вернуться, как я и рассчитывал, не нашлось, и в первые дни августа, корабли загнали на мель. Самый большой нао посадили на рифы. Его остов ещё долго торчал на акватории. Лишь зимние штормы окончательно погубили его…
Так закончился первый этап нашего предприятия.
Часть II
Глава 1
«Я, Берналь Диас дель Кастильо, рехидор города Сантяго в Гватемале, взялся за перо, чтобы правдиво и честно рассказать, как была открыта и завоевана Новая Испания, как воевали мы столицу Мексики, оплот язычества, как покорили многие другие города вплоть до полного замирения страны, — во славу животворящего креста и государя нашего…»
Старик замер, потом откинулся в кресле и долго сидел, глядя в узкое окно. В комнате было влажно и жарко, густая завесь пальмовых листьев на дворе была покрыта крупными каплями — только что над славным Куаутемалланом, что по-ацтекски означало «скованный орел», прошла гроза. Теперь сизая, с черной сердцевиной, туча висела над лесистыми горами, венком обнимавшими город.
Совсем недавно в поселение колонистов, основанное на месте древней ацтекской крепости, пришел королевский указ, в котором город был поименован пышно и звонко: «La Muy Noble y Muy Leal Ciudad de Santiago de los Caballeros de Goathemala», что означало «Весьма благородный и весьма верный город Святого Якова рыцарей Гоатемальских». За несколько лет это место оказалось застроенным прекрасными зданиями, величественными соборами, переполненным охочими до сокровищ авантюристами. Сюда потоками стекалось золото, серебро и другие благородные металлы из вновь открытых рудников Перу, везли бирюзу из Мексики, изумруды из Колумбии, кораллы и жемчуг с берегов Тихого океана.
На фоне этого великолепия усадьба старого Берналя Диаса выглядела скромно — беленый оштукатуренный двухэтажный дом (из-за угрозы землетрясений выше в этих местах не строили), тут же под окнами рощица апельсиновых деревьев, далее поля, засеянные кукурузой и агавой…
Старик вновь взялся за перо.
«Не старые басни, не деяния римлян, что случились семьсот лет назад, но события, так сказать, вчерашнего дня предлагаю я, точно указывая, как, где и когда все произошло…»
На кончике пера иссякли чернила. Диас снова выпрямился, поднес к глазам написанное.
Нелепо получалось — ещё не приступил к рассказу, а уже похваляется передать все «правдиво и честно». Так можно объясняться по поводу исполненного, в противном случае его писаниям будет такая же грошовая цена, как и сказкам Гомары. Тот в начале тоже клялся писать одну только правду, а что получилось? Прежнее негодование охватило старого солдата. Припомнились написанные капелланом страницы, вызвавшие возмущение у всех живущих поблизости ветеранов, сподвижников Кортеса.
Вот что сообщает этот святоша о той страшной битве, которая случилась в устье реки Табаско. Первым якобы на поле сражения прискакал не Франсиско де Морла на своем сером в яблоках коне, а сам апостол-хранитель святой Яков и принялся поражать язычников копьем!
Каково!..
Конечно, все их победы исходили от Христа, иначе им не несдобровать, ведь брось каждый из врагов хотя бы горсть земли, войско дона Эрнандо было бы похоронено под высоким холмом.
Кто спорит — Божье милосердие каждый раз поддерживало их, и нет ничего удивительного, что в тот трудный час в подмогу был послан сам апостол Яков. Возможно, что он, Берналь Диас, великий грешник, не сподобился увидеть святого и различил лишь Франсиско де Морлу. Но почему никто другой из участников битвы не приметил этого? Неужели при виде чуда они поленились бы построить на этом месте церковь святого Якова? Неужели посмели бы навлечь на себя его немилость?.. Но дело было не так. Не они плохие христиане, а Гомара — дрянной писака!..
Все россказни этого человека о наших зверствах — сущий вздор! С индейцами они, ветераны, всегда ладили! Помнится в Новой Испании возле одного из этих храмов-пирамид он посадил зернышки апельсинов. Через много лет довелось ему побывать в тех местах — и что же? Туземцы бережно ухаживали за ростками. Из них повырастали добрые деревца. Некоторые из них он пересадил в свое имение здесь, в Гватемале. Они хорошо прижились, дали поросль…
Зачем приглаживать да причесывать? Зачем все валить на головы простых солдат, которые якобы вопреки приказам давали волю своим «низменным страстям»? К чему обманывать людей? Где здесь «правдивость и честность»?
Старый солдат с трудом поднялся, подошел к окну. В поместье утихал дневной шум, в последний раз скрипнули ворота. Небо очистилось от туч, первая звездочка вспыхнула на небосводе. В тропиках темнеет быстро, надо бы свечу зажечь, однако старик не мог отвести взор от меркнущей бирюзы, повисшей над горами. В той стороне лежала Новая Испания, там прошла его молодость, туда утягивала память.
Что Гомара! Один из многих, кто только понаслышке знал о трудах и заботах, о той бездне, которую осилили они, храбрые вояки, поверившие Кортесу, шагнувшие за ним в ад!
Они были простыми солдатами, не без грехов, но и не без доблестей, и правда вместе с честностью заключаются в том, что они не дрогнули, не повернули назад, как настаивали прихвостни Веласкеса и другие мелкие душонки, у которых была лишь одна мысль — хапнуть золотишку и стремглав на Кубу! Они не ангелы и нечего рядить их в блистающие небесной голубизной одежды. Сеньор Кортес тоже из таких, у кого жила крепка. Старик призадумался… Может, был из таких?.. Неужели так и сказал, как записано у Гомары, — по причине ветхости и непригодности корабли пришлось посадить на мель? Не такие уж ветхие они были… Он, Берналь Диас, знает правду, через него капитан-генерал сносился с верными кормчими. Подсказал им, чтобы те подали голос и заявили о невозможности плавать на подобной рухляди.
…Дон Эрнандо имел с ним долгую тайную беседу. Настаивал, что необходимо подговорить штурманов обратиться к нему, капитан-генералу, с просьбой обследовать корабли. Тогда, говорил, дело завертится… И с солдатами необходимо побеседовать, подготовить их… Признаться, когда он услышал насчет кораблей, сердце у Берналя дрогнуло. Своими руками лишить себя последней надежды на спасение?!
Дон Эрнандо усмехнулся, потом спросил:
— Что, страшно?
— Да уж… — только и смог вымолвить Диас.
— Послушай, Берналь, я хотя бы раз позволил себе обмануть солдат? Уклонялся от общих тягот? Совершил что-нибудь постыдное, пытаясь спасти свою шкуру? Тебе ли объяснять, что у меня у самого сердце кровью обливается, когда я думаю об уничтожении кораблей, но разум подсказывает другого пути нет! Я должен пресечь любую возможность бунта в войске. Я не могу допустить, чтобы с марша часть отряда отправилась назад в Веракрус и отплыла на Кубу. У нас нет выбора: либо на Теночтитлан вслед за птицей-удачей, либо прямиком в лапы к Веласкесу. Тому только дай палец, он всю руку отхватит. Не о себе пекусь — я свой выбор сделал, — но о каждом из вас.
— Не проще ли приказать потопить корабли, и дело с концом?
— Ни в коем случае! Нельзя вносить разлад в наши ряды. Нельзя дать повод для упреков, будто я насильно погнал людей в поход.
Что хочешь, то и думай! Берналь Диас догадывался об истинной причине, по которой сеньор Эрнандо не хотел брать на себя ответственность за гибель флота. В этом случае придет час, и кредиторы потребуют оплатить стоимость судов, а с золотом Кортесу расставаться очень не хотелось. Куда было податься? Пути назад не было — в этом командующий был прав. Всем была известна судьба подвергшегося незаслуженной опале сеньора Грихальвы, которого губернатор Кубы лишил должности и послал в Никарагуа на верную гибель. Дон Эрнандо не в пример другим благородным идальго понимал солдата, умел ладить с войском. Очень заботился о провианте, это действительно самое трудное дело. Мечом размахивать — большого ума не надо, но добыть хлеб вот испытание для командира. Удача в ту пору Кортесу не изменяла — был он рассудителен, напрасно на рожон не лез. В храбрости не откажешь… Что касается будущих претензий заимодавцев — его ли, простого солдата, это дело? Зачем об этом писать? Со временем стало ясно, не погуби мы корабли, не видать нам Теночтитлана как своих ушей, не получить ему это имение… Хотя не богат, но без куска хлеба не сидит. Жаль ребят, которые погибли. Сколько их было!.. Стоит ли тревожить их вечный покой всякими побочными темными делишками?
Правду и честность не следует ущемлять, но и хаять своих товарищей, с которыми прошел огонь и воду, — не намерен. Великие свершения по писанному не делаются. Вот об этом и надо сообщить всем достопочтенным людям — только о том, что сам видел, сам испытал, в чем твердо уверен!
Гомара утверждает, что 16 августа мы оставили Семпоалу и двинулись в поход. Спорить не буду. Точно, что в середине августа, но день выпал из памяти. Шли с величайшей осторожностью, с зажженными фитилями. С боевым охранением и конными пикетами… Индейские носильщики или, как их называли, таманы, волокли пушки, ядра, боевые припасы.
Шли грозно, без шалостей и задержек, которые то и дело случаются у нерадивых военноначальников, и в первый же день добрались до городка Халапы, потом миновали грозную крепость Сокочима — везде донна Марина и кое-как освоивший язык науа Агиляр излагали символ веры. Солдаты водружали крест, и войско отправлялось дальше.
В преддверии гор встречали нас радостно, снабжали продуктами. Эти места совсем недавно были завоеваны Мотекусумой, так что мы до самого Хокотлана нужды не знали. В горах намерзлись, наголодались — надеялись, что в этом городе отдохнем, отведаем горячего. Не тут-то было! Здешняя земля была давним владением Мотекусумы, и местный касик, вначале благоволивший к нам, на следующий день заметно охладел к гостям. Не иначе козни ацтекского владыки сделали свое дело, ведь на всем пути сюда мы и курочки у местных жителей не тронули.
Вождь Хокотлана по требованию Кортеса рассказал нам о великой столице Теночтитлане. Лежит он посередке озера, на обширном острове, и приблизиться к нему можно только по трем дамбам, но и те прерываются съемными мостами. В самом городе тоже множество каналов, и каждый дом, каждая улица могут быть легко превращены в крепости.
Слушали мы эти рассказы и дивились. Но странно — не страх они нам внушали, а великую жажду вопреки всяким укреплениям и съемным мостам поскорее испытать свое счастье. Таков уж испанский солдат — нет для него ничего невозможного, ведь на деле Мексика оказалась куда грознее этих рассказов!
Другое поразило до смерти! Вот где я ужаса натерпелся!.. До сих пор перед глазами стоит большой храм на рукотворном, облицованным местным камнем холме, а на дворе вокруг него пирамиды человеческих черепов. Числом их было не менее ста тысяч! Знаю, что эта цифра означает, но сам считал, в том клянусь. А по другую сторону высились горы костей. Трое жрецов — все в черном, заляпанные кровью — соблюдали это место. Да ещё вокруг пирамид был устроен частокол, а на кольях тоже черепа.
Сколько раз мне потом доводилось видеть подобные картины! В конце концов, пообвык, притерпелся. Осенишь себя крестным знамением и пройдешь мимо, но в тот первый раз буквально опешил!
Из Хокотлана было два пути: один на город Холулу, другой вел в горную страну Тласкалу, вечно враждовавшую с ацтеками, хотя, как объяснила донна Марина, ацтеки и тласкальцы из одного корня происходят, разговаривают на одном языке. Семпоальские касики, которые шли с нами, предупредили, что в Холуле стоит большой гарнизон и жители верой и правдой служат правителю Мехико.
Капитан-генерал решил двигаться в сторону Тласкалы…
Вот что запомнилось на пороге горной долины, куда привела нас дорога стена из камней, скрепленная с помощью извести и асфальта. Высокая, в два, а то и в три человеческих роста. Крепкая… И ворота были устроены толково. Стена раздавалась двумя полукружьями, передним и задним — в них и были устроены проходы, замыкавшимися тяжелыми деревянными створками. Внутри образовывался замкнутый мешок, служивший ловушкой для нападавших. Мы шли и только головами крутили… Удивительно, настоящая крепость, а никто не охраняет. С индейцами всегда так. Вроде бы толковые, рассудительные люди, а иной раз — совсем как дети. Их малышня коляски катает, а взрослые мужики колеса, как черта, пугаются. Говорят, нельзя осквернять священный символ солнца. Что же это за чудесный символ, если он твоими собственными руками сделан? Что в нем такого божественного?.. Какой-то старик-индеец сказал в ответ — вы же вырезанному из дерева кресту поклоняетесь… Сравнил животворящий крест и обод со спицами!..
Прошли ворота — день помню клонился к вечеру. Когда все войско вышло на землю Тласкалы, впереди показались тридцать вооруженных индейцев. На головах напоминающие орлиные головы шлемы, тела обнажены, лишь на бедрах повязки, в руках дубины и дротики. Как оказалось, это были воины из племени отоми, союзники тласкальцев. Они являлись чем-то вроде пограничной стражи…
Передовой конный пикет направился к ним с предложением мира, но те и не думали вступать в переговоры. Размахивая дубинами и потрясая копьями с каменными наконечниками, индейцы первыми бросились на всадников. Дрались свирепо, ранили двух коней. Тогда наши озлобились — принялись рубить их, как капусту. Пятерых сразу уложили, остальные бросились наутек. Всадники начали преследование, в ту же минуту из засады выскочило до трех тысяч индейцев. Мы приняли их на пики…
Кортес начал поторапливать пушкарей. Роты по заведенному порядку образовали каре, аркебузиры выстроились в две шеренги — первая стреляла с колена, с низких подпорок, вторая стоя. Дрались жестоко… Индейцы как обычно сначала не разобрались, отчего у них после каждого удара грома и вспышек огня такой страшный урон в рядах. Когда же додумались, то с ещё большей яростью начали бросаться в атаку. Наваливались беспорядочной толпой и, когда мы насаживали передних на упертые в землю копья, следующие за ними начинали дико завывать и подпрыгивать на месте, потому, наверное, что не могли нас достать. Вот когда очень пригодились наши доспехи — в чем индейцы ловкачи, так это в стрельбе из луков и в обращении с пращей. Только скинь шлем или каску, чтобы утереть пот, вмиг в висок угодят. Когда же атака захлебывалась и индейцы откатывали назад, в дело вступала кавалерия. Вырывалась на простор и давай поражать их мечами и копьями.
Лишь к вечеру туземцы угомонились. Уже заметно смеркалось, когда мы добрались до ручья и сожгли брошенную жителями деревню. Здесь и решили остановиться лагерем. У нас было много пострадавших. За неимением масла их раны смазывали жиром, вытопленным из убитого туземца. На ночь поели щенят, которые в изобилии шныряли возле брошенного поселения. Жители убегая забрали с собой всю живность, но собаки с потомством к вечеру вернулись на пепелище. Голодными на ночь мы не остались, тяготило только отсутствие соли. Говорят, в этой земле уже сто лет не видели подобной приправы. Видит Бог, это тяжкое наказание…
Так началась неделя затяжных, тяжких боев. Худо нам пришлось, врагов было несметное множество. На следующий день войско попало в каменную теснину, где засевшие на кручах враги встретили нас градом стрел и камней. Только к полудню нам удалось вырваться на широкую равнину, ограниченную цепью невысоких холмов.
Море копий предстало перед нами. Ширь его, слитая из бесчисленного множества медных наконечников, грозно и плавно колыхалась. Повыше их, впереди каждого боевого ряда поблескивали воинские значки, а над ними кораблями реяли знамена. Пересчесть невозможно!.. Самое широкое, с белой цаплей, сидящей на скале, осеняло центр тласкальской армии. Позади войска, на макушке холма величаво полоскался на ветру украшенный самоцветами и серебряной вязью золотой орел с распахнутыми крыльями, нашитый на огромное черное полотнище.
Что было, то было!
Сердца у нас дрогнули, при виде такого грозного и могучего противника. Мы застыли в нерешительности, однако сеньор Кортес, не теряя ни минуты, громогласно объявил диспозицию. Получив приказ, сразу заорали командиры, забегали роты, пушкари начали разворачивать орудия, арбалетчики торопливо принялись крутить ручки машинок, натягивающих тетиву. Выстраиваясь в боевой порядок, мы продолжали неотрывно наблюдать за неприятелем.
Тела простых воинов были пестро раскрашены бело-желтыми полосами. На головах касиков возвышались расписные шлемы, напоминавшие головы орлов, змей, диких котов, над шлемами колыхались яркие плюмажи, сделанные из птичьих перьев. Мы таких и не видывали!.. Грудь и пояс командиров прикрывали хлопчатобумажные стеганные куртки, на ногах сапоги или кожаные сандалии. На плечах расшитые птичьими перьями короткие плащи. Многие держали в руках деревянные или тростниковые щиты…
При виде нашего войска гулко зарокотали вражеские барабаны, завыли медные трубы, морские раковины издали леденящий кровь рев. Острия копий неожиданно дрогнули, древки опустились вниз, и спустя мгновение эта гигантская ощетинившаяся человеческая масса хлынула в нашу сторону.
Дон Эрнандо, насколько мне помнится, в те дни сильно страдал от лихорадки, однако бился отважно. Головы не терял, ходил между рядами, успокаивал солдат, когда же требовала обстановка, садился на коня и мчался в атаку. Тактика была несложная — близко врага не подпускать, избегать рукопашной, биться только в строю, причем командирам было предписано строго следить, чтобы никто из наших не оставался один на один с неприятелем. Задача простая — уничтожить как можно больше живой силы противника, и поскольку лучше артиллерии и арбалетов никакое оружие с этим справиться не могло, в обязанности пехоты и кавалерии входило обеспечить запас времени, потребный для заряжания пушек, аркебуз и мушкетов. Вот так и действовали: залп — индейцы отбегают, в дело вступает конница и сопровождавшие нас тотонакские воины. В то время, как канониры срочно забивают в стволы заряды, подправляют прицел, мы, пехота, добиваем уцелевших. Вновь туземцы идут в атаку. Залп — и все повторяется сначала. Всадникам капитан-генерал приказал действовать исключительно копьями, причем острие непременно направлять прямо в лица индейцев. Мечи применять запретил — заявил, что нельзя допускать этих бестий к скакунам.
Индейцы дрались отчаянно, были сильны и отважны. На моих глазах туземец-богатырь с одного удара отсек голову коню, и все равно с нами они ничего поделать не могли. Само их множество было нам спасением, так как лишь небольшая часть нападавших могла принимать участие в атаке, остальные только размахивали оружием и дико вопили, свистели, шипели, улюлюкали, швыряли в нас песком. Донна Марина в привычной для ацтеков женской одежде узкой юбке и тунике без рукавов, на шее, как у придворной дамы, широкий гофрированный воротник — ходила меж рядов, подбадривала, оробевших, потрясала святым крестом. Индейцы из Семпоалы слушались её, как дети — она подымала боевой дух, призывала к стойкости. В разгар боя тотонакский вождь воскликнул, что впереди видит только смерть. Донна Марина также громко ответила:
— Христос с нами, он проведет нас к победе!
В тот день, помню, мы впервые встретились с регулярным тласкальским войском. Неприятеля было около десятка тысяч, вел их в бой сын старейшины рода Тикатл Шикотенкатль — все это мы узнали в последствии, после того, как закончилась битва.
В чем сеньор Кортес был последователен — так это решительности и милосердии. В бою врагам никакой пощады, но как только сражение стихало и индейцы отступали, он лично одаривал пленных цветным бисером, самых важных отпускал к тласкальцам с предложением мира. Так из раза в раз. Тласкальцы отмалчивались.
…Звезды густо высыпали на небосводе. Ночь выдалась безлунная и все равно светлая, тихая, святая. Как и тогда, в начале сентября девятнадцатого года! Старик Берналь был уже в постели, но никак не мог заснуть растревожили воспоминания. Почти полвека минуло с той поры, когда в лагере стал известен ответ Шикотенкатля. Пришел он с посланниками и донна Марина уже в густых сумерках перевела его войску. Каждое слово выговаривала звонко, отчетливо — по телу от звуков её голоса мурашки бегали.
«Пусть непрошеные гости только сунутся во владения моего отца. Там и помиримся, но лишь тогда, когда насытимся их мясом, а богов своих почтим кровью их сердец».
Патерам Ольмедо и Диасу после этих слов сразу подвалило работы — всю ночь они не спали, исповедывали ребят. На утро все мы поголовно помылись, переоделись в чистое. Так помирать спокойней!.. Отстояли обедню… Ах, как слаженно пели — Господь Бог, должно быть, услышал нашу молитву. Ради Спасителя нашего Иисуса Христа и Матери его божьей шли мы в бой.
Страшная была сеча. Индейцы несчетное число раз шли на нас в атаку. Ломились сквозь наши ряды, пытались прорваться к пушкам. Видно, сообразили, что по одиночке нас взять куда легче, чем в сомкнутом строю, Однако вояки они оказались бездарные, потому что в бою одного запала мало — нужно ещё и умение, и сколько ни прыгай вокруг нас, сколько не грози обсидиановыми мечами, сколько ни кидайся землей, нас этим не проймешь. Тех же, кто прорывался во внутрь нашего боевого порядка, добивали мечами.
Что теперь по прошествии времени могу я сказать?! Без милости Божьей, без поддержки святых апостолов не видать бы нам победы в тех боях. Были у тласкальцев и у ацтеков истинно разумные, дальновидные военноначальники. Тот же Шикотенкатль, например… Или последний правитель Анауака, отважный Куаутемок. Когда сеньор Кортес вздернул его в джунглях Гватемалы, те из наших, кто ещё не потерял совесть, долго его оплакивали… Истинных добродетелей был человек. Не следовало дону Эрнандо губить свою душу подобным злодеянием, но я ему не судья… Я к тому, что и Шикотенкатль, и Куаутемок сразу сообразили, в чем наша слабость. Сил у нас было маловато! Сколько можно было сдерживать атаки индейцев. В тот день, 5 сентября, во время битвы мы стойко держались до полдня, и вдруг — о, чудо! — у тласкальцев что-то обломилось. Часть войска, стоявшая против нашего правого фланга, неожиданно прекратила атаки и начала отходить. Скоро эти отряды совсем скрылись за холмами. Разрисованные бело-желтыми полосами воины Шикотенкатля тоже умерили пыл и спустя несколько минут совсем прекратили атаки и скрылись из вида.
Погиб у нас в том сражении один человек. Я был ранен — стрела угодила в бедро, камень пущенный из пращи попал в голову.
…Старик пощупал вмятину на черепе, оставшуюся после той битвы, устроился поудобнее и наконец задремал.
* * *
Кортес терялся в догадках — чем объяснить такое непоколебимое упрямство тласкальцев, никак не желавших идти на мировую? Первое посольство с просьбой разрешить войску чужестранцев пройти по территории Тласкалы в сторону Теночтитлана, с предложением дружбы и взаимопомощи, состоящее из благородных вельмож из Семпоалы, было задержано в столице. Ходили слухи, что горцы уже принесли их в жертву своему покровителю, богу весеннего сева Шипе.
Малинче, собиравшая в тот вечер, после тяжелой битвы, ужин, многословно и терпеливо объясняла дону Эрнандо, что Шипе или Камаштли божество великое, очень почитаемое всеми племенами науа. Особенно теночками и тласкальцами…
— Каждый год «Владыка в ободранной коже» — так называют его мои сородичи — приносит себя в жертву, чтобы густо взошел маис, пышно цвели бобы и перцы, чтобы священный напиток октли, который квасят из сока агавы, был сладок и опьяняющ, — тараторила женщина. — Во время праздника главный жрец напяливает на себя кожу, содранную с живого человека, так что у него оказывается четыре руки и две пары губ, и начинает плясать ритуальный танец в его честь…
Кортес, тупо изучавший лежавшую перед ним кукурузную лепешку, не выдержал, легко прихлопнул ладонью по раскладному походному столу.
— Хватит! Дай поесть спокойно!.. Сколько можно твердить о подобных мерзостях!
Он в сердцах отбросил в сторону золотой кубок, наполненный местным, непривычным, но удивительно вкусным питьем, называемым «чоколад». Кубок звякнул, подпрыгнул, опрокинулся, густая коричневатая масса расползлась по полу. Готовилась она из каких-то, растертых в муку зерен с добавлением ванили и других пряностей, взбивалась в пену и сама таяла во рту. Напиток сразу пришелся дону Эрнандо по вкусу, однако в тот вечер, после припадка желчной горячки, которая вот уже вторую неделю донимала его, он смотреть не мог на еду. Каждое слово Марины, то и дело упоминавшей о злобных местных идолах, для ублажения которых язычники сдирали кожу с живых людей, вызывало приступ злобы и отвращения.
Малинче заметно оробела, молча подняла кубок. Наступило тягостное молчание. Наконец дон Эрнандо пристукнул ладонью по раскладному походному столу.
— Лучше посоветуй, что теперь делать? Куда идти? Сколько впереди ещё сражений?! Еще неделя таких боев, и моих ребят можно будет брать голыми руками. У нас двенадцать человек пластом лежат, люди вконец вымотались. Зачем эти недоумки атакуют с такой яростью?
— И я о том же, — ещё ласковей заговорила индеанка. Она подошла к Кортесу, робко погладила его по голове, потом прижала её к обнаженной груди. — Тласкальцы тоже на последнем издыхании. Они в отчаянии. Не знают, что делать. С одной стороны, ты нарушил границу их владений, а это вполне достаточный повод для священной войны, то есть, для полного истребления врага. С другой, твои намерения ясны и понятны — ты просишь мира и разрешения пройти через их землю. К тому же обладаешь такой силой, что теперь тласкальцам остается только размышлять — неужели правы те, кто утверждает, что вы «боги»?
— Это все твои домыслы, — устало ответил Кортес, — а мне нужен разумный и исполнимый совет, что следует предпринять, чтобы прекратить эту бойню. Может, и в самом деле вернуться в Веракрус, как поговаривают в войске. Знаешь, какая на сей день самая популярная шутка? «Ну что, брат, вперед на Теночтитлан?» Ничего, кроме смеха, этот призыв теперь не вызывает. Учти, горького смеха…
— Ни в коем случае! — резко ответила Марина. — Необходимо проявить терпение! Сражаться и ждать! О, могучий, я знаю, ты сможешь одолеть минуты слабости. Поверь, все подсказывает, что терпеть осталось недолго. Надо внимательнее присматриваться к противнику, прислушиваться, что говорят пленные…
— Ты что, учить меня вздумала? — усмехнулся капитан-генерал.
— Спаси меня Бог, ни в коем случае! Я пытаюсь обратить твое внимание на те приметы, которые сегодня бросились мне в глаза. Прежде всего, о, могучий, надеюсь, ты заметил, что Шикотенкатль в нынешнем бою остался один. Его напарник, вождь другого племени, ушел с поля битвы. Представь себе, что сеньор Ордас или сеньор Альварадо без твоего приказания оставили доверенные им позиции. Как бы ты поступил в этом случае?
— Предал бы их суду, — буркнул дон Эрнандо. — Я понимаю, что ты хочешь сказать. Я согласен, что оставивший поле боя вождь находится в равном чине с Шикотенкатлем…
— Более того, он имел право уйти! — горячо заговорила Марина. Глаза её лихорадочно вспыхнула. Она вновь впала в тот провидческий транс, который в начале так пугал дона Эрнандо. В такие минуты он начинал особенно внимательно прислушиваться к ней.
— Шикотенкатль, — продолжила она, — действовал на свой страх и риск. Выходит, он не имел прямого приказа уничтожить пришельцев. Значит, четверо старейшин, стоящих во главе Тласкалы, не могут прийти к единому мнению и заняли выжидательную позицию. Однако теперь они все больше склоняются к тому, чтобы принять твои условия. Это подтверждает, что четверо семпоальских послов, которых мы послали в Тласкалу и которых хотели принести в жертву Шипе, выпущены из клеток. Пленники, посланные тобой с предложением мира, начали возвращаться в наш лагерь с ответами. Пусть даже самыми грозными… Когда явно обнаружилось, что ты не являешься союзником, тем более орудием Мотекухсомы, им нет никакого смысла губить свою армию в сражениях с пополокас. Шикотенкатль молод, упрям, мы крепко наподдали ему в последних боях, но он тоже не глуп и понимает, что всякое усердие хорошо в меру. Конечно, он сразу не отступится и до перелома ещё далеко… Дон Эрнандо, открою тебе тайну. Я имела беседы со всеми тласкальцами, попавшими в наши руки. Которых ты в последствии отпустил… С каждым разговаривала один на один… Кому жаловалось, что мне тяжко в плену, кого прямо пугала божьим гневом, который падет на головы горцев, если они не прекратят войну. Среди них оказались разумные люди, охочие до некоей приправы, которую они уже не едали более двух эпох. Они обещали вернуться и поведать, что творится в стане тласкальцев.
— Ну, и кто-нибудь вернулся? — невольно усмехнулся Кортес. Коварство этой женщины было неподражаемо. Грех собственного предательства она, что ли, смывает?
— Да, — тихо ответила он, — самый мудрый. Тот, кто сразу донес о нашем разговоре отцу Шикотенкатля, старейшине рода Тикатл. Его тоже зовут Шикотенкатль. Тот позволил лазутчику вернуться и объяснить чужеземцам, что тласкальцы ждут решения богов.
— Давай его сюда! — встрепенулся Кортес. — Его надо чем-то наградить за верность слову.
Женщина протянула ему маленький мешочек.
— Что это? — спросил Корте и, не дожидаясь ответа, распустил узел, попробовал белый порошок. Это была обыкновенная соль.
Он удивленно глянул на нее.
— Лучшая награда для тласкальца, — подсказала Малинче. — Я буду называть его «посланец».
Она вышла из походной палатки и через несколько минут вернулась с низкорослым, худеньким индейцем, укутанным в короткий, до колен плащ. На ногах у него были массивные кожаные сандалии на толстой подошве. Под плащом одежды не было, разве что набедренная повязка прикрывала низ живота.
— Спроси его, как он оказался в плену? Получил ли подарки? Я не люблю иметь дело с трусами, — сказал Кортес.
После короткого обмена репликами женщина перевела.
— Он из лучников. Подарки получил. Трусом никогда не был — две его стрелы попали точно в цель…
Кортес с недоумением посмотрел на индейца — тот гордо вскинул голову.
— Чем хвалится в моем присутствии!.. — покачал головой капитан-генерал, — Что б его!.. Ладно, объясни ему вкратце наши требования, пусть он доложит их своим старейшинам.
Марина кивнула и грозно выпрямилась. Теперь её слова звучали резко, отрывисто, угрожающе. Туземец побледнел. Когда же индеанка, сдвинув брови, продемонстрировала ему икону Богоматери с младенцем на руках, тот сначала отшатнулся, потом с детским любопытством взял картинку в руки и принялся разглядывать её. На лице у него появилось неописуемое удивление. Потом туземец выпрямился и кивнул.
— Ну, что? — нетерпеливо подал голос Кортес.
— Он все передаст в точности. Он склоняется перед величием святой Марии и верит, что мы не имеем намерения стереть народ Тласкалы с лица земли.
— Скажи, чтобы этого не случилось, он должен очень постараться. У него есть семья?
— Да, жена и двое малышей.
— Если они ему дороги, пусть поспособствует великому делу освобождения Тласкалы от поползновений гадкого и жестокого Мотекухсомы. Потом расспроси, что за совет богов они там у себя устроили?
После короткого разговора Марина сказала:
— Высший совет Тласкалы собрал всех жрецов, магов, кудесников, прорицателей, чтобы люди, угодные небесам, вынесли решение — кем являются испанцы. Те принесли жертвы, вопросили богов. Ответ явился с наступлением утра: пришельцы не являются «богами», они — люди, но сила их идет от солнца.
Кортес задумался, потом пожал плечами. Встал, прошелся по шатру, неожиданно остановился напротив индейца, выставил в его сторону указательный палец и зловеще произнес.
— Значит, говоришь, наша сила от солнца? Значит, с наступлением ночи мы беззащитны, и после захода твои дружки собираются напасть на нас? Глупейшее суеверие!..
Туземец неожиданно часто заморгал и не в силах вынести яростный взгляд Кортеса, отвел глаза в сторону.
— Хорошо, — энергично сказал капитан-генерал. — Мы и ночью устроим этим хорошую взбучку. Это не переводи! Поблагодари его, отдай соль. Скажи, что в следующий раз жду его с более благоприятными вестями.
Щепотка соли, которая Марина взяла из мешка, произвела на тласкальца ошеломляющее впечатление. Тот, ещё пытаясь сохранить независимый вид, вдруг принялся судорожно глотать. Кадык непроизвольно задергался, на глазах навернулись слезы, по рукам пробежала мелкая дрожь. Он сжал их в кулаки, потом отступил на шаг, коснулся пальцами земли и приложил их ко лбу.
Когда он покинул палатку, Кортес задумчиво спросил:
— Значит, наша сила от солнца? — и не дожидаясь ответа, продолжил. — А солнце встает на востоке. Куда ушел Кецалькоатль? Тоже в сторону восхода… через море. А теперь решил вернуться, и мы его посланники, так, что ли, донна Марина?
Женщина склонилась перед ним, замерла.
Капитан-генерал выглянул из шатра, приказал позвать патера Ольмедо. И немедленно!..
Священник появился через несколько минут.
— Падре, — спросил дон Эрнандо, — слыхали ли вы местные легенды об ушедшем на восток боге по имени Кецалькоатль или по-кастильски «Пернатый змей»?
— Да, ваша милость. На эту тему мы много беседовали с уважаемой донной Мариной.
— Как вы считаете, не пора ли этому богу вернуться в родные края и озарить своих почитателей светом новой истины?
— Нет, ваша милость, не считаю, — ответил священник. — Я долго размышлял по этому поводу, советовался с уважаемым фра Хуаном. Подобное истолкование древней сказки поверхностно, если не сказать лживо. Хотя, с другой стороны, здесь, в краю ацтеков, вокруг загадки! Непонятно, откуда в этих местах вообще появились люди… Для меня ясно одно — это не Индия, о которой так долго твердил Колон. Это какая-то неизвестная земля. То ли огромный остров, то ли целый континент, расположенный между Европой и Азией. Но если мы до сих пор не слыхали о нем, то значит, что между нами нет сухопутной связи. Тогда каким образом здесь появились люди? — священник на мгновение задумался, потом, как бы обращаясь к самому себе, спросил: Что за племя явилось на эти земли, чтобы превратить их в подобие райского сада? В какие времена?.. Древние греки, римляне, чьи деяния прославлены в веках? Какая-то ветвь вестготов, наших предков?.. Или, может, мавры когда-то сумели переплыть океан и добрались до этих дальних земель? Или одно из колен израилевых забрело сюда? Иначе невозможно объяснить, как местным дикарям удалось построить такие величественные города, прекрасные дороги, насадить сады, засеять поля маисом, вкус которого обворожителен. Кто надоумил их воздвигнуть пирамиды, схожие с теми, что стоят в пустыне возле славной реки Нил? Я внимательно присматривался к местным идолам знаете ли вы, уважаемый сеньор Кортес, что символом этого «Пернатого змея» является крест. Вам это ни о чем не говорит?
— Святой отец, я человек практичный, и подобные тонкости меня мало интересуют. С другой стороны, я твердо уверен, что одной лишь голой военной силой мне никогда не удастся привести этот край к покорности, насадить здесь святую Христову веру. История меня волнует постольку, поскольку из неё можно извлечь конкретную пользу. Советы донны Марины разумны, понятны и, главное, выполнимы, поэтому я к ним прислушиваюсь. Чем может помочь мне знание о происхождении этого народа, о причинах его возвышения? Поймите меня правильно, я ни в коем случае не отвергаю ценности этих сведений. Но для наилучшего выполнения моей миссии мне куда более важно найти слабинку в неприятельских рядах. В Саламанкском университете я слышал о исполинском коне, которого безрассудные троянцы сами приволокли в свой город. Не мог бы этот Кецалькоатль послужить нам подобным конем? Что скажет по этому поводу святая римская церковь?
— Грех проливать кровь невинных младенцев. Погрязшие во тьме язычества должны быть просвещены, и чем короче их путь к истине, тем лучше, однако добиваться их покорности с помощью лжи, нелепых выдумок — это великий грех!
Все замолчали. Потрескивал на столе огарок свечи, копоть заметно очертила огонек. Наконец Кортес нарушил тишину.
— Что-то мы все не о том рассуждаем, святой отец. Не в том правда, что мы собрались бездумно губить язычников, навязывать им лживые сказки, а в том, что мы сами стоим на краю гибели, и по мне, любой совет, способный облегчить участь христианских душ, вверенных моему и вашему попечению, будет хорош.
— Многие, сеньор Кортес, начинали ссылаться на то, что были вынуждены грешить. Что из двух зол они были вынуждены выбрать меньшее.
— Выходит, я должен допустить торжество языческих идолищ, во славу которых будут вырваны наши сердца? Так, что ли?.. Только не надо мне объяснять, что следовало раньше сохранять благоразумие, что и теперь не поздно вернуться на Кубу под сень благородного Веласкеса. Зачем нам, верным соратникам, лицемерить друг перед другом, святой отец? Поздно! Неужели нам не хватит отваги прямо взглянуть в лицо смертельной опасности и воскликнуть — что сделано, то сделано, и нет нашей вины в том, что мы хотели разбогатеть, что не желаем делиться с кровопийцей Веласкесом добычей, что положились на милосердие Господа нашего Иисуса Христа. Что мы, наконец, рискнули дерзнуть!.. Неужели святая церковь сочтет грехом наше стремление распространять по миру его учение?
Последние слова дон Эрнандо выдохнул прямо в лицо Ольмедо. Худое изможденное лицо священника осталось неподвижным. Ни одна жилочка на нем не дрогнула… Донна Марина пристроилась в углу — сидела на ногах, соединенных вместе и согнутых в коленях, маленькие ручки лежали на бедрах.
— Трудный выбор предложила мне ваша милость, — сказал священник и неожиданно вскинул брови. — С другой стороны, мой сан позволяет толковать Библию…
— Какое отношение Кецалькоатль имеет к Библии? — удивился Кортес.
— Прямое, дон Эрнандо, прямое… Следует учесть, что под именем Кецалькоатль, судя по рассказам донны Марины и местных жрецов, выступают две ипостаси. Одна — воплощение стихии ветра. Этакий местный Борей.[41] Кстати его тоже изображали крылатым, длинноволосым и бородатым… Другая — древний вождь, провозвестник новых истин, враг человеческих жертвоприношений, научивший людей сеять кукурузу, обрабатывать металлы. Как раз последний и отправился на восток с обещанием вернуться. Вопрос — откуда он пришел в эту землю? Если признать, что нынешние индейцы — потомки утерянных колен израилевых и что в незапамятные времена сам святой апостол Фома, который, как сказано в Евангелии, удалился на запад проповедовать учение Спасителя, то нынешнее население следует признать язычниками вдвойне. Когда-то им посчастливилось услышать слово Христово, но с годами они извратили его смысл и скатились до самых богомерзких кровавых обрядов.
Вновь наступила тишина. Кортес долго сидел, как статуя.
— Но великий Кецалькоатль родился на этой земле, он не явился со стороны восхода, — робко подала голос Малинче. — Он только ушел в том направлении…
— То-то и оно, — согласно кивнул священник. — Это не более, чем домысел…
— Молчите! — воскликнул Кортес. — Это то, что надо!.. Вы очень умны, святой отец, а грех извращенного толкования святых писаний я возьму на себя. Теперь получается, что приводя местное население к кресту, мы всего лишь восстанавливаем историческую справедливость. Потрясающе!.. Если Мотекухсома спросит меня, почему мы уничтожаем языческие храмы, я отвечу, что во всем виноваты они сами. Зачем вы отказались следовать заветам святого апостола Фомы, которого называете Пернатым змеем. Святой отец я верю, что так и было! Иначе и быть не могло!..
Падре Ольмедо криво усмехнулся.
— О, могучий! — воскликнула Малинче. — Значит, ты посланец тех, кто написал эти великие книги? — и она поклонилась Кортесу.
Щека у Ольмедо дернулась.
— Донна Марина! Нельзя всуе поминать боговдохновенные писания, нельзя приписывать божественную ипостась потомку Адама и Евы. Я же объяснял вам.
Женщина торопливо закивала.
— Я знаю, святой отец, я знаю…
По щекам у неё обильно полились слезы.
Глава 2
Сразу после ночной атаки, которую испанцы отбили с чудовищными потерями для нападавших, наступило затишье. Утром в лагерь явились индейцы, посланные самим Шикотенкатлем, объявили о перемирии и попросили разрешения убрать пленных. Кортес милостиво принял их, долго беседовал с важным сановником — донна Марина сразу высмотрела его в толпе простых воинов, убеждал того, что нет и не было у него и у его войска другой цели, как только подружиться с храбрым народом тласкальским, сообщить им небывалые новости об источнике их мудрости, славном Кецалькоатле Уэмаке, который и им, пришедшим с востока, не чужд. Более того, он и есть их повелитель!..
При этом Кортес выпучил глаза, а сидевший напротив тласкальский касик даже отшатнулся. Стоит ли, успокоившись спросил дон Эрнандо, храброму Шикотенкатлю так долго испытывать терпение богов. Их громовые божества, их четырехногие и двухголовые чудища теряют терпение. Тут тласкальский посланник холодно заметил, что четырехногие, о двух головах чудища тоже смертны, чему свидетельство гибель одного из них. Могучий воин одним ударом снес ему голову с помощью обсидианового меча, а гром небесный опасен только для большого скопления бойцов, так что храбрый Шикотенкатль уже учел это обстоятельство.
Теперь несколько опешил Кортес, однако постарался не показать смущения. Положение спасла донна Марина, напустившаяся на невежду, посмевшего в присутствии самого посланца Кецалькоатля оскорбить верных его слуг — четырехногих чудовищ и небесные громы, которые посланы сюда из-за моря, чтобы навести порядок и достойно встретить явление самого великого бога. Теперь касику пришла очередь оробеть. Святотатство всегда и везде считалось самым тяжким преступлением. Одним словом, продолжила женщина, великий вождь Малинцин ждет представительную делегацию, с которой можно было бы договориться о многих важных вещах, касающихся пребывания чужеземцев на территории Тласкалы, а также о её дальнейшей судьбе.
— Мы готовы все простить… — сурово заявила она, глядя прямо в глаза собеседнику.
Тот не мог отвести взора от её широкого гофрированного воротника.
— Мы готовы все простить, — зловеще повторила Малинче. — Даже убийство нашего друга-коня! Мы готовы простить строптивость Шикотенкатля, нерешительность высшего совета четырех, но всякому терпению приходит конец. Гнев великой богини, — она продемонстрировала ему образ святой Матери божьей, — будет ужасен. Она милостива к храбрым, но не любит упрямых и глупых. Она не любит тех, кому гордыня вскружила голову, кто потерял разум.
Сказанное произвело впечатление на посланца Шикотенкатля. Последний довод сразил его окончательно. Уже на прощание Кортес указал в ту сторону, откуда пришли испанцы и сказал:
— Взгляните туда. Там пять деревень. В них вернулись жители. Они доверяют нам и жаждут перейти под руку великого восточного владыки. Так что не тяните время.
Действительно, в тот день выставленные дозоры впервые не заметили вокруг ничего подозрительного. Нигде не было видно шныряющих индейских лазутчиков, за недалекими холмами тоже было тихо. В той стороне спокойно летали птицы. Окрестности вокруг лагеря заполнили мирные туземцы. Они пришли торговать и меняться. Так продолжалось до вечера. На следующий день, когда напряжение спало, в шатер главнокомандующего явилась представительная делегация от солдат, аркебузиров и арбалетчиков. Из офицеров присутствовал только сеньор Охеда.
* * *
Дон Эрнандо первым вышел из палатки, жестом приказал людям сесть. Сам устроился на барабане. Сначала сбежалось много желающих послушать, о чем делегаты будут толковать с капитан-генералом, потом один за другим солдаты начали расходиться. Сил не было выслушивать их долгий спор — я в ту пору совсем валился с ног от усталости. Хотелось выспаться, просто полежать, не думая о будущем, об опасностях. Не бросаться по приказу командира роты в ту или иную сторону, оставить в покое меч — его как раз надо было отдраить и поточить… Вся рукоятка в спекшейся крови… Однако, как только я направился к своей палатке, сеньор Кортес тут же окликнул меня.
— Берналь, подожди, послушай. Разговор у нас серьезный. Потом я дам тебе время отдохнуть.
Тут же он послал Андреса собрать ещё с десяток наиболее уважаемых бойцов. Обязательно пушкаря Месу, и от моряков тоже кто-нибудь должен присутствовать. Так что набралось нас вместе с делегатами десятка полтора.
Первым начал Кортес.
— Надеюсь, всем присутствующим известно, о чем пойдет речь? Нет?.. О возвращении на Кубу. Я рад, что вы, избранные от войска люди, запросто пришли ко мне и попросили выслушать вас как соратников и боевых друзей. Слушаю, ребята.
Первым начал Седеньо, хозяин каравеллы — единственной, которая осталась на плаву после потопления кораблей. За эти полгода он заметно спал с лица, загорел, глаза его яростно поблескивали.
— Сеньор Кортес, все мы знаем вас как рассудительного и храброго идальго. С каждым вы едали из одной миски, никто в войске не смеет упрекнуть вас в небрежении к солдату или отсутствии здравого смысла. Неужели рассудок изменил вам на этот раз? Мы славно бились все эти несколько месяцев, совершили такое, что никому из нас и в самом приятном сне не снилось, и золотишка набрали вполне достаточно. И об этих землях много узнали. Познакомились с тласкальцами в бою… Неужели гордыня настолько ослепила вас, что вы не видите, что эти ни в чем не похожи на тот сброд, который мы успешно громили и на Юкатане, и на реке Табаско. Дело не в том, что они храбро лезут на пики. Беда в другом — они с каждым разом жмут все настойчивее, и как раз туда, где нам труднее всего. Страдания нестерпимы. Здоровых среди нас не осталось, все имеют ранения, кто по два, а кто и по три раза. Нет на свете вьючного животного, которое могло бы перенести все эти муки. Те, по крайней мере, отдыхают ночью, а мы трудимся и день, и ночь. Что касается завоевания Мексики, то мысль об этом — чистое безумие. Только брякни что-нибудь насчет Теночтитлана, все начинают смеяться. Если какая-то Тласкала встретила нас подобным образом, что будет, когда мы столкнемся со всей армией Монтесумы. Ребята хотят знать, куда и зачем мы идем, сеньор Кортес? Не пора ли опомниться?.. Пока перемирие, можно вернуться в Веракрус. Конечно, флот уничтожен, но теперь это дело прошлое, однако остался один корабль. Его можно послать на Кубу за подмогой. А когда прибудут подкрепления, продовольствие и боевые припасы, поход можно будет начать снова.
Большинство присутствующих глухими возгласами поддержали его.
Признаться, мне тоже стало не по себе при упоминании об армии Мотекусумы. Если, как сказала донна Марина, тласкальцы в силах выставить на поле брани до шести десятков тысяч воинов, то соединенное войско ацтеков исчислялось в сто двадцать тысяч человек. Причем, в боевых качествах, в отваге и дерзости ацтеки ни в чем не уступали тласкальцам, а по вооружению заметно превосходили их. Были у них какие-то «атл-атлы» — дощечки, с помощью которых можно было метать дротики на большое расстояние. Сила удара была такова, что даже каменное острие запросто пронзало живого человека в хлопчатобумажном панцире. Тут я задумался — достаточно ли надежны наши кирасы и шлемы? Сражаться с такой ордой лоб в лоб — безумие! Неужели сам Кортес этого не понимает?
Он поднял руку, призывая нас к спокойствию.
— Рад, что наконец у нас нашлось время поговорить по душам. В твоих словах, Седеньо, много правды. В них, если откровенно, все правда. Вот только по поводу выхода из создавшегося положения можно поспорить. Да, страдания велики, они страшнее мук, которые испытывали древние греки и римляне, но настолько же велика будет и ваша слава. Я сам порой немало удивляюсь, глядя, как горсть кастильцев сражается с врагами.
Собравшиеся облегченно вздохнули — кто знал, как воспримет капитан-генерал недовольство солдат. Память о повешенных Эскудеро и Карменьо ещё была жива.
— Мог бы также напомнить, о чем предупреждал перед отплытием с Кубы. «Великая награда ждет вас. Но приобрести её можно только беспрестанными и упорными трудами. Только тяжкими усилиями свершаются замечательные деяния. Слава никогда не была уделом лентяев». Было такое, Седеньо? Было, Рохас? — обратился он к сидящим напротив него солдатам.
Те молча кивнули.
— Вот ещё о чем я мог бы сказать вам… Как ты верно выразился, Седеньо, напасти и меня не обошли стороной, тем не менее я всегда старался достойно исполнять свой долг. Можете ли вы припомнить случай, чтобы я уклонился от опасности, пошел на попятную… Не было такого, правильно, Рохас?
Грузный, в кожаном колете, с кинжалом за поясом, рваных штанах, с бородой-лопатой, солдат опять, ни слова не говоря, кивнул.
— Если, ребята, мы собрались, чтобы здраво рассудить, что делать и куда идти, то я позволю себе обратить ваше внимание, что до сегодняшнего дня никто не сомневался в моем здравомыслии. Были между нами споры, были разногласия… Была и кровь, потому что война не детская забава, которую захотел начал, захотел бросил. Тут уж коли выхватил меч, рубись до победы. Вот и давайте подумаем, как нам быть? Как я понял, вы пришли с предложением вернуться в Веракрус, там отдохнуть, подождать помощи от короля? Так, что ли?..
Сразу в толпе раздались возгласы.
— Да уж хватит! Навоевались!.. Пора и честь знать… Что ж, все на рожон и на рожон, этак всю рожу исцарапаешь…
Кортес поднял руку.
— Нельзя в Веракрус. Нам только вперед можно, — тихо, даже ласково выговорил дон Эрнандо.
Выкрики сразу стихли. Наступила зловещая тишина.
— Вот так, ребята. Стоит нам только показать пятки, как тласкальцы сочтут, что мы струсили, и навалятся всем войском. Я много раз обдумывал такой поворот событий. Уверен, и на этот раз мы их сомнем, но как только оставим Тласкалу, в ту же минуту на нас нападет Мотекухсома. Вот какая диспозиция — двадцатитысячный корпус ацтеков стоит возле Холулы. Большое войско группируется неподалеку от Чолулы. Это в двух дневных переходах от нашего маршрута. Причем двигаться они будут по своей местности, от поселения к поселению — значит, и снабжать их будут вдоволь. Не то, что нас. Вот когда мы попадем в полосу непрерывных боев, из которой нам живыми уже не выбраться. До Веракруса не доберемся. В горах они устроят засады. Тотонаки и прочие прибрежные племена, чтобы только добиться прощения у Мотекухсомы, вмиг повернут свои копья против нас. Так что это путь в никуда. Другое дело, Теночтитлан…
Все присутствующие невольно разом захохотали. Громыхнули так, что птицы снялись с ближайших деревьев и закружили в небе. Смеялись долго, от души… Кортес тоже начал вытирать слезы от приступов нестерпимого смеха. Я даже на землю сел. Стоило кому-нибудь в толпе повторить: «Теночтитлан», как новый взрыв хохота сотрясал округу. К нам поспешили удивленные солдаты — так и собрались кучкой, не понимая, отчего так весело ржут их товарищи, когда вроде бы и смеяться нечему. Начали подтягиваться и местные торговцы. Эти разглядывали нас, разинув рты.
Наконец дон Эрнандо, в последний раз промокнув глаза батистовым платочком, продолжил.
— Я и говорю — другое дело, Теночтитлан. Тласкальцы больше не нападут на нас, они уже ищут мира. Тоже самое будет и ацтеками. Они не посмеют выйти против нас на бой.
— Почему же не посмеют? — удивился Седеньо. — Что их может напугать?
— Крест святой и правда, которую мы несем с собой!
— Конечно, — завертел головой Седеньо, — животворящий крест — великая сила, однако…
— Никаких однако, ребята! У нас нет выбора — только вперед. Я обещаю вам, что не тронусь с этого места, пока не заключу мир с Тласкалой. Это будет хороший мир, крепкая опора на будущее. Седеньо, Рохас, Берналь, Кристобаль…
Он назвал ещё с десяток имен, сейчас уже всех не упомню, и на сутки освободил нас от всех воинских повинностей.
С тем и разошлись. Смех смехом, однако неуступчивость Кортеса вызвала глухое раздражение среди солдат, особенно среди тех, кто владел какой-либо собственностью на Кубе. С другой стороны, тому, кто участвовал в подобных экспедициях, было ясно, что капитан-генерал прав. Возвращение смерти подобно. Стоит только индейцам почувствовать слабинку в наших рядах, смятение в наших душах — наша песенка будет спета. Они задавят нас числом. Однако и столица ацтеков внушала не меньший ужас. Никак у меня, например, не умещалось в голове, почему Мотекусума медлит? Как он до сих пор терпит наше присутствие на своей земле. Крепко шибанули нас мавры в родной Испании, но ведь никто добровольно не шел им в полон! Те, кто склонил головы перед нехристями, кто перешел в чужую веру, так и были названы ренегаты! Кто их поймет, индейцев, чего они ждали?
Вот уже полвека прошло, а меня до сих пор мучает эта загадка. То встречали нас с цветами и гирляндами, «богами» называли, то вдруг озлобились, бросились воевать, но было поздно.
* * *
После этой встречи Кортес до вечера не мог найти себе места. Укрылся в палатке, объявил, чтобы его не тревожили. Донна Марина на свой страх и риск прошла в шатер, приблизилась к кровати.
Дон Эрнандо не спал — лежал на спине, закинув руки за голову, и бездумно смотрел вверх.
— Что тебе? — тихо спросил он, заметив женщину.
— Могучий, в лагере измена, — шепотом сказала она.
— Какая это измена! — повысил голос Кортес и сел на кровати. — Пока только болтовня. Еще пара сражений, вот тогда начнется измена.
— Я не о том, — по-прежнему шепотом продолжила индеанка. — Люди, торгующие в лагере, лазутчики. Они посланы Шикотенкатлем. Один из них признался мне.
Кортес не ответил. Некоторое время он сидел, подперев голову ладонью, потом неожиданно спросил:
— Неужели собирается напасть вновь? Вот неуемный!.. Что ж, придется укоротить ему руки. Всякий, кто посягает на достоинство и величие Кецалькоатля, достоин сурового наказания. Чтобы другим не повадно было… И этим, и тем… Тот, кто признался тебе, успел разболтать о разговоре?
— Нет, повелитель. Он под надежной охраной Агиляра и дона Альварадо. Я попросила их стеречь лазутчика.
— Значит, другие в полном неведении, что мы раскрыли их заговор?
— Да, повелитель. Они искусно маскируются под торговцев…
Кортес вышел из шатра, подозвал посыльного.
— Начальника караула ко мне…
Через несколько минут все индейцы, находившиеся в лагере, были схвачены и доставлены к шатру главнокомандующего. Приговор был вынесен тут же, без всякого разбирательства — индейцам зрелого возраста рубили кисти рук, детям и старикам большие или указательные пальцы. Тот, разговорчивый, был тайно заколот в ближайшем овраге.
Окровавленные, стонущие и подвывающие люди вереницей направились в сторону высоких, обрывистых холмов, откуда испанцы ждали нападения Шикотенкатля. Изуродованные руки несли на уровне груди, поддерживали их здоровыми конечностями. Последнего юный Андрес проводил пинком — тот был совсем мальчик и не мог сдержать слез. Они так и лились на окровавленную левую культю. Всего лазутчиков насчитали три десятка…
— Что теперь? — спросил Кортес.
Он сидел на барабане у входа в шатер. Малинче стояла рядом, всматривалась вдаль — в той стороне, как утверждали пленные, лежал главный город Тласкалы.
— Ждать! — коротко ответила она. — Шикотенкатль должен в конце концов одуматься.
Капитан-генерал усмехнулся.
— Ждать так ждать. Что ещё нам остается… В конце концов дождемся бунта. Солдат можно ублажить золотом, дать возможность пограбить, но и на это я не могу пойти. Как хранить добычу? У меня в обрез людей, я никого не могу выделить для охраны. Нести с собой? У нас не хватает носильщиков для переноски боеприпасов. Если же солдат набьет свою суму золотишком, какой из него тогда боец! Сейчас само множество врагов заставляет их сбиваться в кучу, а стоит им добраться до сокровищ, они озвереют, начнут жрать друг друга, как пауки. Так что и грабеж я нынче не могу допустить. Будем ждать…
Всю ночь он терзал индеанку, словно пытался надолго насытиться женским телом. Все-то ему было мало. Они слова за всю ночь друг другу не сказали, разве что Малинче тихонько подвывала и постанывала. И так до самого утра, когда их разбудил топот сапожищ, раздавшийся возле палатки. Потом неясно долетели глухие голоса — женщина так и не сумела разобрать скороговорку, но дон Эрнандо мгновенно вскочил с кровати, накинул длинный до пят халат и выскочил на воздух.
— Повтори! — закричал он с порога.
— Послы, ваша милость, — радостно возвестил солдат.
— Откуда? Из Тласкалы?
— Нет, ваша милость. Из Теночтитлана!..
Глава 3
Их было пятеро. Все холенные, надменные, с золотыми кольцами в ноздрях, на плечах — роскошные плащи из птичьих перьев. У двоих смазанные жиром, длинные, черные волосы были собраны на макушке в пучок, в которые были воткнуты алые розы. Трое сопровождавших перетянули распущенные гривы узкими кожаными полосками, спускавшимися на лоб. Смотрели дерзко, однако дары принесли богатые.
Кортес окинул мимолетным взглядом изделия из золота, штуки материи, самоцветы и плащи из птичьих перьев. Их количество заметно превышало подарки, что были посланы на побережье в последний раз. Значит, мириться приехали, решил дон Эрнандо.
Речь послы завели долгую, все больше о великодушии и мудрости Мотекухсомы, предупреждавшего Малинцина, что дорога вглубь страны трудна и опасна. Кортес слушал внимательно, время от времени посматривал на донну Марину, с бесстрастным лицом переводившую изысканные обороты, которыми так ловко сыпали посланцы тлатоани.
Наконец он не выдержал и попросил переводчицу узнать — готов ли великий Мотекухсома принять его в Теночтитлане. Ему, Кортесу есть что сообщить славному повелителю ацтеков. Большая радость ждет все народы, населяющие эти земли, к ней надо подготовиться. Вспомнить о том, кто ушел на восток…
Послы с невозмутимыми лицами выслушали слова капитан-генерала, и вновь начали толковать о трудностях и непреодолимых преградах, которые ждут «храбрых чужеземцев» на пути в столицу Мексики. Они уже убедились в злобе и ненависти тласкальцев, которую эти дикие люди питают ко всем, кто осмеливается пересечь их границы. Они посланы, чтобы помочь заблудшим…
В конце концов Кортесу удалось выяснить, что суть их предложений сводится к установлению некоего статус-кво: испанцы возвращаются на побережье, где получают статус «гостей тлатоани».
Главнокомандующий поблагодарил послов и на этом прервал аудиенцию. Весь день он был заметно весел. За обедом даже позволил Малинче усесться к нему на колени. Сам обнял женщину, вдохнул манящий аромат её тела, поцеловал в шею. Она прижалась к нему, затаила дыхание, ожидая продолжения, однако дон Эрнандо ослабил объятия. Тогда индеанка шепнула ему на ухо.
— Могучий, один из посланцев предложил мне встретиться наедине. Он сообщил, что злодеи — мои отчим и мать — понесли заслуженное наказание…
— Ты удовлетворена?
— Я уже забыла о прежних обидах… Он также предложил мне вернуться в Теночтитлан, где мне будут возданы великие почести. Правда, вернуться не сразу, а после посещения Чолулы.
— Это большой город, что лежит на пути в Теночтитлан? Вечный враг тласкальцев?
— Да, любимый.
— Что же ты решила?
— Отец, когда я была маленькая, учил меня: «Не верь ласковым словам повелителя ацтеков. Властолюбие его безгранично, слова пусты, а дружба вероломна».
— И тебе уже никогда не стать его любимой женой?
— Не знаю. Из Мотекухсомы, оказывается, можно вить веревки. В мужчинах мне это ненавистно. Мое сердце отдано тебе, любимый. Жизнь моя — поясок на твоей одежде, перышко, которое украшает твое бархатный берет, золотая застежка на одной из твоих туфель.
— А другая застежка — это дона Катилина? Дочь семпоальского касика?..
— Нет, — улыбнулась Малинче, — она не более, чем пыль под ногами.
Кортес довольно рассмеялся.
— Велика милость господня. Интересно, как бы сложилась твоя судьба, если бы твой отец не умер, и тебя отвезли в гарем Мотекухсомы и ты стала его любимой женой?
— Испанцы уже давно бы гнили в земле…
Дон Эрнандо поперхнулся, закашлял, погрустнел. Потом согласился.
— Да. Возможно…
Наступила тишина. Малинче осторожно слезла с колен, села рядом на краешек стула, подперла подбородок ладонью и глянула на дона Эрнандо. Взгляд у того остановился — он словно заглянул в какую-то недоступную даль. Это зрелище, по-видимому, всерьез заинтересовало его.
— Пришли бы другие. Тот же Панфило де Нарваэс… Нас уже ничто не сможет остановить. Мехико все равно будет сметен с лица земли.
— Нет, любимый. Это можешь совершить только ты. Даже без меня — я не обманываюсь на свой счет. Я принесла тебе дары, потому что увидала осеняющий тебя небесный свет. Другие? Кто? Я внимательно приглядывалась к твоим офицерам — нет среди них такого, кто смог бы дождаться того момента, когда Мотекухсома склонится перед величием их оружия. И там, на островах и на твоей родине, все больше таких, как Альварадо и Ордас, как Охеда и Эскаланте, как Ордас и де Леон.
— А Монтехо? — недобро усмехнувшись, спросил Кортес.
— Монтехо смог бы… Если бы над его головой вспыхнул небесный свет, она на мгновение умолкла, потом сказала: — Я знаю, о чем ты хочешь спросить. Каким образом ацтеки смогли бы отбиться от пополокас?
Кортес ничего не ответил.
— Это трудно, но возможно. Мотекухсоме не хватает времени. Он привык, что ход событий всегда был подвластен ему. То есть, богам, чьим глашатаем на земле он является. Он всерьез уверовал в это, полагая, что свет небесный вспыхивает только над головами сильных мира сего. Нет, могучий, перст судьбы непредсказуем. Если рассматривать нынешнюю ситуацию, Мотекухсоме прежде всего следует договориться с Тласкалой за твой счет. В любом случае он не должен выпускать тебя отсюда. Для этого у него есть все, что нужно. Поступить можно было бы так — прислать чужеземцам запрет на выход из Тласкалы в сторону столицы. Как только ты нарушаешь его, тебя тут же объявляют врагом и стягивают войска к Чолуле. Конечно, если рассматривать вопрос шире, лучше всего было уничтожить наше войско на побережье, но в той ситуации, я согласна с Мотекухсомой, — это было очень рискованное предприятие. Тем более, что он не имеет права потерпеть явное поражение… Ведь он же проводник воли богов! Хотя я, будь моя воля, сумела бы подтолкнуть его на этот шаг. Двадцати тысяч воинов было бы достаточно, чтобы терзать испанцев и днем, и ночью. В конце концов, тебя непременно сбросили бы в море. Следом я непременно послала посольство на Кубу, а то и в Испанию. Я сумела бы договориться с Веласкесом… Необходимо тянуть время, пока воины не овладеют железным оружием, пока не научатся скакать на конях, пока тайно купленные пушки не будут доставлены в Теночтитлан. Вот и выходит, что только ты оказался настолько прозорлив, что не взирая ни на какие препятствия рвешься в столицу. Мотекухсома смят, раздавлен, он ждет совета богов. Он даже не догадывается, что ответа не будет, ибо Христос решил покарать этот край за жестокость и кровопролития. Тлатоани никогда не сможет отказаться от лживых кумиров, ведь в детстве и юности он трудился служкой при храме кровавого Уицилопочтли. Подметал ступени…
Кортес слушал её с угрюмым видом, по-прежнему глядел в неведомую даль. Наконец откликнулся.
— Это какая-то невиданная форма лести. Обволакивать человека правдой!.. Восхвалять присущие ему качества. Удивительно, такие признания тоже могут разнежить даже разумного человека. Его заносит на такие высоты, что дух захватывает… Однако ты не права — Мотекухсома не так прост, как тебе кажется. Да, он потрясен, но далеко не раздавлен. Я согласен, что он не выставит сильный заслон, чтобы не допустить нашего выхода из Тласкалы. По-видимому, грубая сила не его метод. Воевать в открытую он с нами не будет, если советники не заставят его. Но, как я имел честь убедиться, никто и ничто не может заставить Мотекухсому поступать против своей воли. Никто и не пытается… Это понятно — кто осмелится советовать живому богу. Тем не менее я уверен, что он готовит нам западню. Где, когда — не знаю, но он ни как человек, ни как повелитель, не может не рискнуть. Он обязательно даст нам генеральное сражение. Вот этого я страшусь и жду более всего на свете. Мы должны не просто победить, а сокрушить его. Разбить на голову!.. Навсегда подавить волю к сопроивлению!.. Если он стремится сохранить свое царство, он не может пускать нас далее Чолулы, иначе окончательно утратит престиж, и его империя развалится как карточный домик. — Кортес неожиданно замер, взгляд его остекленел. — Чолула, Чолула!.. — задумчиво выговорил он.
— Ничего не бойся, любимый! — Малинче порывисто бросилась к нему, уселась на колени, принялась страстно целовать. — Смело ступай вперед! Вот увидишь, я и есть твоя птица-удача. Я спасу и сохраню тебя. Ты слышишь крики в лагере. Я знаю, что это! Чудо!.. К нам явились долгожданные посланцы Тласкалы!..
Он обнял её, прикоснулся ладонями к обворожительному женскому личику, легонько поцеловал.
— Они подождут, — тихо и, чуть заикаясь, сказал Кортес. — Я приму их позже!
Он поднял индеанку на руки и отнес в спальню, потом бегом вернулся ко входу в шатер, выглянул оттуда и рявкнул.
— Не тревожить меня! Никого и близко не подпускать к палатке!..
…Сердце зашлось от подобного воспоминания. Любовь Малинче была горяча, руки теплы и мягки. Мы провозились с ней в палатке до полудня, после чего я был готов встретиться с послами Тласкалы.
Их провели в шатер мимо посланцев Мотекухсомы. Стоило ацтекам увидеть на знамени прибывших золотого, распростершего крылья орла, лица у них вмиг вытянулись. Я встретил тласкальцев в полном парадном облачении — панцирь, налокотники, наколенники, в одной руке шлем с забралом в виде длинного, вытянутого вперед клюва, на плечах роскошный кровавого цвета плащ, застегнутый на одном плече. Броню надел, потому что у меня в ту пору не осталось приличных штанов, да и камзолы поизносились так, что смотреть стыдно.
Теперь у меня подобного добра полны сундуки, одних полотняных голландских рубашек несчетное количество дюжин, но этот поганый стебель маиса до сих пор торчит из кадки. На глазах желтеет, скукоживается, а я не могу докричаться, чтобы кто-нибудь из слуг срезал его. Если им уж так понравился этот злак, пусть посадят новое зернышко.
Ответа нет!
Жена занята котятами, по поводу которых я вынужден ежедневно выражать горячий восторг…
Что там насчет маиса? Ага, вспомнил кукурузные лепешки! Однако мне куда больше пришелся по вкусу замечательный мексиканский перец чилли. Блюда, приправленные этими стручками — это нечто обжигающее, возвышенное, необыкновенно ароматное. Теперь лекари запретили мне и думать об такой пище. Мне о многом теперь запретили думать. О былом величии, например.
Вот ещё исторический анекдот.
Когда король решил осуществить военную экспедицию в Алжир, нанятый мной корабль во время бури пошел ко дну. Я нижайше обратился к его величеству с просьбой о вспомоществовании. Ответа долго не было. Наконец друзья посоветовали прибыть в Мадрид и попросить личную аудиенцию. В аудиенции тоже было отказано. Тогда я дождался приезда монарха во дворец, и когда он вышел из кареты, встал у него на пути.
— Кто вы, сеньор? — фальшиво изумился дон Карлос.
— Я тот, кто подарил вашему величеству огромную страну, превышающую размерами все его владения.
Он ничего не ответил и прошел мимо.
Время, что ты творишь с человеком! Убывая минута за минутой, ты не смеешь коснуться памяти. Ее бы тоже следовало урезать год за годом…
Была пора, когда я мог плевать на послов Тласкалы — государства, способного выставить на поле боя шестьдесят тысяч воинов. Я занимался любовью с иноземной женщиной, слаще которой не было ничего в мире. Даже радость обладания едой, приправленной перцем чили, не может сравниться с этой благодатью. В этом потоке страсти было что-то божественное, подобное раскатам грома…
Послам Тласкалы было отказано в аудиенции. Малинче выглянула в щелку, долго изучала посольство — тласкальцы, рассевшись на земле в сотне шагов от моего шатра, терпеливо дожидались приказа подойти, — потом пальчиком подозвала меня и шепотом предупредила.
— Какая-то мелочь. Судя по нарядам даже не сыновья и не племянники старейшин.
Когда послы покорно оставили лагерь, она посоветовала дождаться приезда тех, кто на самом деле владел Тласкалой. Это уже будет наверняка.
Они явились через день, трое из четырех. Сам великий Шикотенкатль по причине возраста и слепоты не смог прибыть в наш лагерь. С ним мне довелось встретиться через несколько дней во время торжественной встречи нашего войска в столице Тласкалы, расположенной на реке Загуаль.
Что особенно запомнилось из тех дней — дневная жара, а ночью дикий холод; мудрость старика Шикотенкатля, с которым мы быстро нашли общий язык — договорились за счет Чолулы, которая всегда была лакомым куском для тласкальцев; индейские девицы, полученные в дар от республики. Их крестили и распределили следующим образом: донна Луиза, дочь Шикотенкатля досталась Альварадо, которого уже в ту пору индейцы называли Тонатиу, что означает «солнышко». Этот рыжеволосый весельчак буквально поразил простодушных туземцев. Знали бы они, как он пускал на Кубе кровь их соотечественникам. Донна Эльвира была передана Хуану Веласкесу де Леону, остальных невест прибрали к рукам Олид, Сандоваль и Авила.
Лагерь наш был разбит на широком дворе вокруг пирамиды в честь ужасного Шипе. Первым делом, наши солдаты разбили клетки, в которых держали людей, предназначенных для жертвоприношений. Были там и женщины, и старики, и дети, и взрослые мужчины, попавшие в рабство. Несчастные с той поры ни на шаг не отходили от своих спасителей, так и жались к ногам. И в поход с нами отправились… К Берналю, помню прицепилась молоденькая индеанка — готовила ему, стирала, таскала его скарб… Многих спасенных солдаты прогнали прочь, что с ними стало после того, как армия ушла из Тласкалы, не знаю.
Старейшины упрекнули меня, что я не даю послабления своим людям. Каждую ночь выставляю усиленные караулы, несколько лошадей держали под седлами, а дежурный из помощников аркебузиров должен был постоянно следить, чтобы на территории лагеря не гас костер. В наших рядах тоже нашлись желающие сытно поесть и сладко поспать в ущерб должностным обязанностям. Своих я быстро осадил, а правителям Тласкалы объяснил, что дисциплина как любовная симпатия. Ее не может быть много или мало — она или есть, или её нет. Дисциплина не может зависеть от обстоятельств, от времени суток, от друзей и врагов. Только в этом случае войско всегда будет готово к бою. Эти объяснения молодой Шикотенкатль, до той поры все ещё дичившийся меня, встретил восторженными словами. Он вскочил, указал на меня и горячо принялся упрекать своих военноначальников. Марина объяснила, что молодой касик ставит меня в пример.
Явилось к нам посольство и от брата правителя Тескоко Иштлилшочитла. Они так и не смогли поделить отцовский трон. Спор их решил Мотекухсома, отдавший власть своему племяннику Какамацину, а Иштлилшочитлу, человеку чужому для тлатоани Мехико, была выделена северная окраина Тескоко. Люди там нищие, земля бесплодна…
Наконец вернулись уехавшие в Теночтитлан посланцы Мотекухсомы. Теперь тлатоани сам приглашал чужеземцев в столицу. В тайной беседе глава делегации долго убеждал меня не верить ни единому слову тласкальцев. «Речи их лживы, жесткость беспредельна, а дружба вероломна».
Веселое было время! Скоро мы дождались делегацию из священного города Чолулы, который лежал как раз на нашем пути в Теночтитлан. Явились какие-то низшие чиновники — их тут же отослали обратно с призывом к городским властям одуматься, изъявить покорность и выказать почтение, иначе, добавил я, их будут считать мятежниками.
Подействовало!
Глава 4
Кончался «месяц веников» — очпанистли.[42] В честь богини спелого кукурузного зерна в Теночтитлане уже была принесена в жертву молодая женщина. Прошел привычный для этого времени года смотр воинов и раздача наград. Окончились маневры, были разыграны шуточные сражения между «кавалерами» орденов Орла и Оцелота, а между тем боги по-прежнему хранили молчание.
Ни вещего сна, ни очевидного знамения, ни ясного ответа — что делать? Почему наглые чужеземцы так свободно топчут землю Мехико? Как им удалось смирить дикий нрав тласкальцев, как они смогли одолеть их? Даже сделать своими союзниками! Никому из правителей Мехико это было не под силу. Мотекухсома терялся в догадках. Он сам дважды ходил на ослушников и оба раза терпел поражения. Потерял в боях любимого сына… В те дни тлатоани внял голосу свыше и, положившись на время и на Уицилопочтли, отступил от Тласкалы.
Последние месяцы во время праздничных и ритуальных церемоний правитель Теночтитлана постоянно испытывал раздражение. Все получалось как-то небрежно, без души и ощущения неземного восторга от возможности по общаться с богами — то жрец обронит ритуальный нож, то в момент почитания и пения хвалебных песен в честь богини спелой кукурузы Тоси вдруг хлынул проливной дождь. Это в разгар уборки урожая!.. Складывалось впечатление, что и на небесах, на всех его ярусах, занимаемых небожителями, творилась неразбериха. К своим обязанностям они тоже начали относиться спустя рукава. Не раз его посещала кощунственная догадка — не опустел ли этот голубой, исполненный величия купол? Как могли великие, сотворившие твердь и хлябь, кукурузную лепешку и дурманящий октли, покинуть отведенные им Тонакатекутли[43] покои и оставить его, Мотекухсому, хранителя видимого мира, в одиночестве? Лицом к лицу с этими необузданными, непредсказуемыми варварами.
Дело дошло до анекдота! Они возомнили себя потомками и последователями Кецалькоатля!.. Того, кто когда-то именовался Топильцин. Это был государь народа строителей-тольтеков. В результате дворцового заговора Топильцин был лишен власти и вместе со своими последователями ушел в сторону восхода. Там исчез… Вполне возможно, что этот исторический человек и в самом деле покинул родную землю и отправился за море. Более того, он, Мотекухсома Младший, не станет отрицать, что пришельцы могут являться его потомками. Однако утверждать, что Топильцин, оказывается, обладал божественной ипостасью, пристало только невежественным низам, верящим в любую чепуху. Здравомыслящим и образованным людям просто не к лицу распускать слухи, будто вождь тольтеков под именем некоего «Фомы» пришел в Мехико с востока, где и начал проповедовать учение креста, женщины с ребенком и распятого раба.
Это же бред! Наглый обман!..
И боги терпят!
Вот же книги, хроники, которые хранятся в его личной библиотеке. В них все сказано, мудрые предки подробно записали, где, когда, в какой земле родился Топильцин-Кецалькоатль. В священном городе Туле… Вот все его деяния — он сделал много доброго для людей. Но какое отношение этот человек имеет к божественной сущности самого ветра, к силе урагана, святым тайнам, которые доверены жрецам. К самому грозному Кецалькоатлю Уэмаку?..
Никакого!
Бог воплотился в вожде тольтеков? Где об этом сказано? Ни в одной рукописи и слова о подобном событии нет…
Тлатоани на мгновение оторвал взгляд от манускрипта, посмотрел на встрепенувшееся пламя факела, при свете которого он до рези в глазах вглядывался в древние страницы, повествующие о том, что было издавна, год за годом. Записи были сделаны ещё до того, как племя теночков появилось на берегах Тескоко и после долгой борьбы сумело, наконец, установить порядок, обеспечивающий сохранность мира. Смена дня и ночи, правильное чередование месяцев и лет, своевременный приход весны и сезона дождей, появление звезд, а также священной звезды Пернатого змея,[44] точное хождение по небосводу Солнца и Луны — вот за что он, Мотекухсома, был теперь ответствен перед богами. Поддержание мирового распорядка — источника существования вселенной, вменялось ему в обязанность. Это было трудно, но почетно… Подобная тяжесть была по силам только ему, Мотекухсоме. С ранних лет боги испытывали к нему благосклонность.
Неужели теперь он лишен их милости?! За что? Так быть не может, это противоестественно. Это грозит гибелью всему живому на земле. Любого, кто осмелится нарушить заложенное изначала мировое устройство, ждет неминуемая гибель — это же проще простого! Тогда, согласно совершенно ясным на этот счет пророчествам, нагрянет потоп, громы и молнии сокрушат твердь. В конце концов погибнут не только люди науа, но и сами чужеземцы! Как это согласовать — появление так называемых потомков Кецалькоатля и гибель вселенной? Это невозможно понять или совместить. От подобной мысли сразу становилось зябко, страшно, кровь — священная жидкость, пища богов, — стыла в жилах.
…За тростниковой завесью мелькнул силуэт нижнего советника. Тлатоани взял себя в руки, приказал.
— Докладывай.
Чиновник, склонившись, не глядя на повелителя, коротко ответил.
— Гонец из Чолулы. Новые вести.
Мотекухсома вздрогнул. Ничего хорошего он не ждал, на гнев богов, способных испепелить этих варваров, уже не надеялся. В то же время нельзя было давать послабления окружавшим его слугам. Во дворце вопреки всему должен сохраняться порядок, соблюдаться приличия.
Ох, как трудно было сдерживать ярость и досаду, не повышая голос, требовать соблюдения благочиния и покорности, когда руки сами собой начинали подрагивать. Что там еще? Пополокас договорились с Тласкалой? Идут по дороге на Чолулу?
— Гонца после дневного принятия пищи доставить в зал для приемов. На вечер созвать совет. Сейчас приготовить свежую одежду.
Система приемов и доступа во дворец тлатоани были окончательно разработаны ещё в эпоху царствования отца Мотекухсомы Ашайякатла и всегда строго соблюдались. Никто не смел переступить порог государственного дома, не выждав положенный срок. Разве что члены совета и ближайшие родственники тлатоани обычно проходили без задержки, да и то, согласно традиции, на мгновение замирали перед главными, распахнутыми в дневное время воротами. Те, кто попроще, высиживали часами. В последние месяцы Мотекухсома распорядился, чтобы скороходов приравняли к средним чиновникам, которым полагалось не менее часа ожидать доступа во дворец. За это время сообщение заносилось в особый манускрипт, изучалось. Специальный советник заучивал его наизусть, кроме того, ему полагалось знать ответы на любые, касавшиеся существа дела, вопросы. Но и в этом ритуале великий тлатоани вынужден был пойти на уступки. Прежде Мотекухсома ни с кем из чиновников, тем более со слугами, запросто не разговаривал. Отдавал приказы, выслушивал донесения, которые должны были излагаться кратко, в нескольких словах. Разве могло божество, живущее в земном дворце, вступать в беседу с мелкими людишками? Кто они в сравнении с ним? Церемониал общения с живым богом разрабатывался лично Мотекухсомой, внедрялся неукоснительно, долгие годы. В первые же месяцы после избрания его главой союза трех городов из дворца были удалены все, кто не имел благородных предков. Каждый должен был знать свое место. Крестьянин — сеять и собирать урожай, купец — торговать и доставлять в Теночтитлан секретные сведения, воин — сражаться, советник — следить за слугами и давать советы, государь — хранить порядок. В начале своего правления Мотекухсома взялся за мздоимцев и нарушителей закона среди судейских. Теперь решения в судах выносятся быстро, по существу и в пользу справедливости. Потом приструнил благородных. К лицу ли представителю самой известной фамилии являться во дворец в роскошных одеждах? Прежде, чем предстать пред светлыми очами тлатоани, смири гордыню, разуйся, накинь простенький плащ и запомни, что ни в коем случае нельзя бросать взгляды на живое солнце!
Как было приятно видеть плоды просвещения подданных. Скоро в государстве вновь с благоговением начали относиться к установленному богами порядку.
Теперь Мотекухсома сердцем чувствовал — все устройство повседневной жизни висело на волоске. Чужеземцам было ясно сказано — не сметь являться в Теночтитлан! И что же — они уже на пороге. Покровители Мехико Уицилопочтли и Тлалок позволили одарить их богатствами — пришельцам этого оказалось мало. Они хотят забрать все! Вот где таится движущая сила их поступков. Но это же глупо! Это же прямой путь к всемирной катастрофе!..
После омовения и переодевания в свежие одежды, что он регулярно проделывал четыре раза в день, Мотекухсома направился в дворцовый зверинец покормить любимого оцелота. Тот в последнее время начал вести себя совершенно недопустимо, и его пришлось посадить в клетку.
Большой, полутора метровой длины, полосатый кот, завидев хозяина, истошно заорал. Начал ластиться к прутьям. Свежее мясо уже лежало в стоявшей рядом с клеткой глиняном горшке. Кот с ходу проглотил первый, брошенный ему кусок, при этом жутко заурчал. Тлатоани глянул в горшок решил выбрать любимцу что-нибудь повкуснее. Так, мясо, мясо — ага, вот детская ручонка, отрубленная до локтя. По-видимому, останки принесенного в жертву малыша.
На, ешь, негодник!
Не поворачиваясь к слуге, Тлатоани приказал.
— К вечеру выпустить из клетки.
Тут же невольно загадал про себя — если кот явится сегодня в спальню, свернется на постели в ногах, значит, все будет хорошо. Маленьким котенком, потом и взрослым самцом, он неизменно приходил к повелителю и охранял его сон. В последние дни почему-то позволяет себе шастать где-то по ночам. Нарушает дисциплину. Приходится спать с какой-нибудь наложницей.
Обида было глупой, какой-то детской. Если бы все невзгоды и нарушения дворцового устава были связаны только с поведением молодого оцелота, взращенного собственными руками!..
Что ж, чолульский касик, как ему было предписано, пригласил Малинцина в свой город. Удивляло другое — в случае неповиновения чужеземный вождь грозил объявить чолульцев мятежниками! Как это понять? С каких это пор Чолула входит в состав державы чужеземного повелителя? И никто не спросил, что думает по этому поводу сам Мотекухсома. Чудовищное разгильдяйство! Оно никому не может быть спущено с рук.
На вечернем заседании совета сразу разгорелся спор. Первым повысил голос правитель Истапалапана, родной брат тлатоани, благородный Куитлауак. Сразу начал доказывать, что пришельцев нельзя выпускать из Тласкалы. Их следует бить в горных проходах.
— Бить неустанно! И днем, и ночью! — Куитлауак решительно рубанул воздух ребром ладони. — Молодой Шикотенкатль уже доказал, что этих варваров можно и нужно добыть. Никакие они не посланцы Кецалькоатля. Наши жертвенные камни давно плачут по их сердцам. Уицилопочтли жаждет отведать крови четырехногих и этих, изрыгающих гром и молнии чудовищ.
Мотекухсома холодно глянул на брата.
— Как ты себе это представляешь? Наше войско строится в боевой порядок и раз за разом атакует варваров?
Повелитель Истапалапана кивнул.
— Точно так. На смену погибшим или уставшим придут новые бойцы.
— Ты считал, сколько потребуется таких смен? Сколько готовить припасов? Откуда снимать войска? Какими провинциями жертвовать? У тебя есть ответы на эти вопросы?
Куитлауак притих.
— Трудно отказать Шикотенкатлю, — продолжил тлатоани, — в храбрости и решительности, а его воинам в отваге. Они наглядно показали, что в поле Малинцина не взять. Тем более теперь, когда с ними до двух тысяч этих тласкальских собак и отряд тотонакских предателей. Ты внимательно разглядывал рисунки битвы? Тогда должен был заметить, что пришельцы действуют в строю, отлично исполняют команды, удерживают врага на расстоянии длинными дротиками, затем насылают громы и молнии и опять сдерживают напор. В это время четырехногие чудища терзают отступающих, мешают их ряды. Ты знаешь, как бороться с этой тактикой? Догадался, чем занимаются в эти моменты огнедышащие змеи?
Куитлауак не ответил, тогда тлатоани продолжил.
— Я внимательно присмотрелся к рисункам. В этот момент они кормят зверей какими-то мешками и затем суют им в пасти тяжелые шары.
— Какая разница, чем кормят этих чудовищ! — наконец не выдержал Куитлауак. — Мы возьмем их храбростью, исступлением!..
— Э-э, храбрость, — усмехнулся Мотекухсома. — Стоит мне последовать твоему совету, и я лишусь армии. Что потом делать с мятежниками в Пуэбло и Оахаке? Все покорившиеся Мехико псы тут же поднимут головы. Хорошо, если мы победим, тогда Уицилопочтли не оставит нас своими милостями. А вдруг мы потерпим поражение? Имеем ли мы право на поражение? Ты об этом задумывался? Ты хочешь, чтобы небеса обрушились, а воды затопили земную твердь?
Куитлауак побледнел.
— О, могучий! — воскликнул Какамацин, правитель Тескоко. — Я ещё раз призываю прислушаться к моему совету. Пусть Малинцин вступит в Теночтитлан. Здесь, в городе, рядом с водой, мы стесним его и раздавим.
— Ага, и погубим половину столицы, — усмехнулся Мотекухсома, потом продолжил. Голос его окреп, зазвенел. — В твоих словах, Какамацин, есть доля истины, но вся она, единая и неделимая, хранится здесь. — Тлатоани указал на свое сердце. — Мы обрушимся на Малинцина, имея на своей стороне трех союзников. Прежде всего — это трезвый расчет и благоразумие. Да, их следует заманить на городские улицы, в этом Какамацин прав. В городе они вытянутся в длинную колонну, которую легко разрезать и отделить одну часть от другой. Их громовые звери не смогут разить в тот момент, когда их тащат носильщики. Четырехногим в тесноте тоже будет трудно развернуться. Второе внезапность. Мы должны ошеломить чужаков. И третье — нам помогут боги и прежде всего сам великий Кецалькоатль, чьим именем так кощунственно прикрываются варвары. Он обрушит на них свой гнев. И не в Теночтитлане, а в посвященной ему Чолуле. Вы меня поняли? В Чолуле! Там свершится справедливость, там явит свой гнев могучий Тескатлипока. Там, наконец, будет восстановлен мировой порядок.
Глава 5
Нищих и паломников в Чолуле была пропасть! Подаяние просили на каждом шагу. Совсем как у нас в Испании. И уродства, болячки, язвы также выставляли напоказ. Город издавна почитался священным на всей мексиканской земле. Покровительствовал ему сам Кецалькоатль Уэмак, который, как объяснил мне сеньор Кортес, являлся никем иным, как святым апостолом Фомой, давным-давно явившимся в эти края, чтобы проповедовать слово божье.
Эка новость! Подобных сказок я и в Испании наслушался, посему писать об этом не буду, потому что толком не знаю и судить не могу, бродил ли здесь, среди кактусов, святой апостол? Что-то не верится, чтобы его занесло так далеко. Также, как и колена Израилевы. Хотя, пути праведников неисповедимы. Говорят, что святой Андрей добрался до земли скифов и московитов, где много пострадал за правду.
Одним словом, чего не знаю, того не знаю. Спешу рассказать, что видел собственными глазами в этом огромном городе, расположенном на равнине в шести лигах от Тласкалы и в двадцати от Мехико.
Прежде всего живут здесь люди трудолюбивые, каждый клочок земли ухожен и прибран. Что растет? Высокий маис, хлопок, сочное алоэ, чили или ацтекский перец. Кактусы тоже выращивают, только какие-то особые — на них кормятся букашки, из которых варят алую краску. Леса там замечательные, густые, сосновые. Истинная благодать идти по такому лесу!.. Мексиканка, что прицепилась ко мне, говорит, что ранее в лесах водились огромные звери с рогами. Теперь их всех перебили охотники из благородных… Имя этой женщины нормальный человек выговорить не в состоянии. Ноч-тли-шо-читл — что в переводе, как объяснила мне донна Марина, означает «цветок кактуса». Так Цветком её и зову. Ей бы до дому добраться — родина её в Истапалапане, на озере Тескоко. Как попала в Тласкалу, не рассказывает.
Идет, кряхтит, тащит амуницию. Крепенькая… Теперь у нас, почитай, у каждого слуги завелись. Кто пристал из тех, кого готовились съесть храбрые тласкальцы, кто ещё раньше прибился, кого ребята силком принудили. Таких, конечно, большинство… С другой стороны, солдату без ухода на марше мука. Цветок ничего была, справная… Эх, жаль писать об этом нельзя. Почему? Да потому что сеньор Кортес глазом на этих приблудших косил. Запрещать не запрещал, но иной раз кривился…
В те поры народ вздохнул спокойней. Все складывалось, как он обещал. Замирились мы и с Мотекусумой, и с тласкальцами. Кончились бои, погода стояла великолепная, а ведь уже сезон дождей начался — видно, берегла нас милость божья. Народ на марше уже к землице начал присматриваться — где, какой кусок попросить. Мне, например, окрестности Чолулы понравились, но обосноваться здесь я бы не хотел. Место открытое, самое подходящее для сражений. Мирные деньки скоро кончатся, это каждый из нас понимал. Вот почему недовольство, почему ропот — топаем, топаем, все без добычи. Пока все золото сеньор Кортес в свои сундуки складывает. Ради чего терпим столько невзгод, мучаемся день и ночь, копьями обороняемся? Тласкала страна нищая, у них даже соли нет. Разве что самоцветы. Я там, помнится, пару больших изумрудов выменял. Цветок мне их в полу стеганной хлопчатобумажной куртки зашила.
Об этом тоже писать не с руки. Интересно, где теперь Цветок? Выжила ли во всей этой кутерьме? Не нашел я её потом с Истапалапане. Говорят, подалась к родственникам на север. И сына маленького с собой увела. Я в ту пору как раз вернулся из Испании, куда отправился с сеньором Кортесом. Молод был, простоват… Не по мне оказалась столичная жизнь, все время на побегушках. Дон Эрнандо позаботился о ветеранах, но жизнь в Новом Свете показалось мне милее. Тем более, что Цветок в Истапалапане живет… К тому же, оказывается, у неё сынок родился. По всему выходит, мой. Пойти за ней на север? Куда?.. Разбросала нас война, теперь концы не пришьешь. Вот и отправился в Гватемалу. Помню, не выдержал, снова поехал в Мексику. Надеялся — разыщу свою мексиканку… Даже следа не нашел… Вот привез сюда, на перешеек, апельсиновые деревья. Посадил, прижились… Что ж, живу неплохо, имение есть, кукурузу сажаю, а душа все на север просится. На озеро Тескоко… Или куда подальше, где теперь Цветок живет. У неё поди уже своя семья. Если не пристукнули её и сына братья-христиане, которые вороньем слетелись на завоеванные земли. Прав был Кристобаль Колон, когда говорил: «Я первый распахнул дверь в Новый Свет, да вошли в неё другие». То же самое может сказать и сеньор Кортес, мир праху его.
Я с ними согласен…
Первые дни в Чолуле была тишь да благодать. Мы бродили по городу, взобрались на вершину самой большой, невиданной доселе пирамиды. Она была под стать окружавшим долину холмам. С её вершины открывался чудесный вид на городские кварталы, на ближние хребты, на две курящиеся горы. Один из сопровождавших нас жрецов объяснил — слева Попокатепетль, «курящийся холм», справа, севернее, Иштаксиуатль, «белая женщина».
Оба языческих попа были примерно одного, среднего, возраста, один, правда, немного постарше. Наряжены в заляпанные засохшей кровью черные одежды. Уши у них были изорваны, волосы напоминали конскую гриву. Они никогда не стриглись, проводили дни в молениях, дежурствах на вершине, где должны были следить, чтобы костер не угас, и в истязаниях плоти. У них, у ацтеков, такой обычай — себе они тоже безжалостно кровь пускали. Проделают дырку в мочке и начинает через неё веревку протаскивать. Туда-сюда, туда-сюда… Конечно, и людей резать приходилось. Один нам даже обсидиановый нож продемонстрировал — полукруглые лезвия с обеих сторон, ручка по середине. Предложил показать на ком-нибудь из нас, как с этим ножом управляться. Все поежились, посмеялись, жрец тоже, только молодой Андрес взъерепенился — как ты посмел, мы посланники Кецалькоатля!.. Когда Агиляр перевел жрецу, тот ничего не сказал, только усмехнулся в ответ.
Чолула — город великий! Сравнить его можно только со сказочным Багдадом, столицей магометан. Видеть Багдад мне никогда не доводилось, однако в рыцарских романах его очень красочно описывают. Жители в Чолуле носят такие же плащи, что и наши мавры. Издали очень похоже. Сам Кецалькоатль — это огромный идол, пернатый змей, вырезанный из камня, с митрой на голове, темным лицом, поверх которой развевались огненного цвета перья. На шее золотое ожерелье, серьги из мозаичной бирюзы. В одной руке скипетр, усыпанный драгоценными камнями, в другой — расписной щит. Как объяснил жрец, с его помощью идол управляет ветрами.
Меня в ту пору приставили к донне Марине, я не должен был отходить от неё ни на шаг.
«Донна Марина… досталась Алонсо Эрнандесу Пуэртокаррере, славному знатному воину. Когда же впоследствии он отбыл в Испанию, сам Кортес взял её к себе, их сын, дон Мартин Кортес, был потом губернатором в Веракрусе. Но и до этого Кортес всюду брал её с собой в качестве удивительной переводчицы. Была она нам верным товарищем во всех войнах и походах, настоящим божьим подарком в нашем тяжелом деле. Многое нам удалось совершить только при её помощи. Понятно, что она имела громадное влияние по всей Новой Испании, и с индейцами могла делать, что хотела».
В Чолуле наша Малинче завела тесную дружбу с некоей благородной старой индеанкой, муж которой занимал важную должность в городском управлении. Старший сынок служил в чолульском ополчении, а младший был холост. Вот вдова и надумала выдать донну Марину за этого туземца. Та для виду согласилась и посетила дом старухи, где та похвалилась ей своим богатством, потом тайком предупредила, что оставаться с чужеземцами опасно. Их дни сочтены.
При мне донна Марина сообщила эту новость сеньору Кортесу. Тот явно повеселел, заявил, что теперь «у него развязаны руки», «чему быть, того не миновать», и приказал переводчице пригласить старуху в гости. Пусть, мол, полюбуется на те наряды и украшения, которые донна Марина принесет с собой в приданное… А заодно пусть переводчица хорошенько расспросит её, что замышляют чолульцы и кто подталкивает их на коварные поступки.
* * *
…Боже милостивый! Они наконец срезали засохший стебель маиса. Что творится в моем доме — не прошло и трех дней, как мое распоряжение оказалось исполненным. Рад сообщить, что котята развиваются прекрасно, день и ночь сосут мать. Донна Хуана испытывает истинное удовлетворение, которое мне бы следовало разделить с ней. Однако меня почему-то не очень радует обжорство котят и обнажившаяся земля в глиняном горшке. Что это за котята! Мелочь пузатая!.. То ли дело любимый кот Мотекухсомы — огромный, отъевшийся, шерсть гладкая, шкура удивительной, золотисто-коричневой раскраски.
За стрельчатым окном кончается тихий, сентябрьский день. Осень в этом году выдалась на радость, только на сердце по-прежнему печаль. Все с годами мельчает в этом мире, и в небытие мы уходим, озабоченные ничтожными размышлениями о наследстве, о неискупленных грехах. У каждого теплится надежда на спасение. Мне ли бояться Божьего суда? В надежном месте, у капеллана Гомары, хранится целая пачка купленных индульгенций. Я давным-давно подписал негласный договор с небом. Все равно грусть не отпускает. Я вспоминаю о тех днях, когда жизнь казалась мне безмерной, наполненной божественным смыслом…
Это было в Чолуле.
Все в те дни мне было в радость. Ощущение неизбежной, дарованной небесами победы, возможность осуществления заветной, пусть самой бредовой мечты. Впечатление было такое, словно удача поджидала меня за каждым углом. Все, что только в качестве большой милости, я мог просить у неба, свершалось само по себе. Все вдохновляло, призывало к действию. Даже великое злодейство, совершенное в этом священном для туземцев месте.
Судьба Чолулы была решена ещё во время переговоров со старым Шикотенкатлем. В качестве непременного условия перехода под власть испанской короны старейшина потребовал этот город. Замысел слепого тласкальца был ясен — Чолула богата, здесь огромные запасы всевозможных товаров, особенно соли. Кроме того, захват священного города означал конец блокады и перехват важнейшего торгового пути, который связывал Теночтитлан с побережьем. У меня и в мыслях не было дарить новым союзником то, что с успехом могло пригодиться нам самим. Однако без разграбления Чолулы никак нельзя было обойтись. Именно разграбления, повального, жестокого, на которое следовало отвести не менее дня. Пусть и мои солдаты попользуются чужим добром. Очень важно было дать последний урок Мотекухсоме. Пусть он наконец воочию убедится, что бывает с теми, кто пытается противопоставить себя христианской силе.
Но при всем том я не мог отдать приказ бить, резать и жечь все живое, что попадется под руку. Подобные действия могли быть вызваны исключительно возмездием.
За что?..
За что угодно. Пусть то будет битва. Пусть наконец ацтеки выведут свои войска в поле. Тогда Чолула как спелый плод упадет к моим ногам. Но лучше всего наказать горожан за организацию заговора против тех, кто послан самим Кецалькоатлем. В этом случае судьба ацтекской державы была бы окончательно решена, и я мог бы обращаться с Мотекухсомой как с нерадивым подданным, медлящим обогатить меня и моих людей золотом, серебром и другими сокровищами. Если разгром Чолулы останется безнаказанным — а Марина уверила меня, что так и будет, — правители других городов быстро смекнут, кто на самом деле правит в Мехико.
Слух о готовящемся заговоре пробежал сразу, как только в город, спустя три дня после нашего прибытия, явились послы Мотекухсомы. С того момента стала ограниченной доставка продуктов. Никто из местных правителей уже не появлялся в нашем лагере. Тотонаки, бродя по городу, обнаружили, что многие улицы в центре начали перегораживать завалами, на плоских крышах ближайших домов ни с того ни с сего обнаружились кучи годных для метания камней. На перекрестках рыли ямы, на дно которых вбивали колья остриями вверх. Особую тревогу вызвало сообщение тласкальцев. Они не были допущены в город и размещались в лиге от Чолулы. Их лазутчики сообщили, что в отдаленном квартале были принесены в жертву дети. Причем, в большом количестве… На все мои запросы насчет продовольствия местный касик отвечал, что в Чолуле кончился весь запас маиса.
На душе стало тревожно, однако, поверите ли, я в те дни вовсе не испытывал страха. Прежде всего я вызвал послов Мотекухсомы, которые пришли с нами из Тласкалы. Те, сославшись на незнание, не могли ответить ничего вразумительного. При этом вели себя нагло — заявили, что великий Мотекухсома тоже не желает видеть нас в столице. Нечем, видите ли, нас кормить, при этом послы настаивали, чтобы я немедленно дал ответ.
Вот отчего радость, вот отчего светлые воспоминания… Я не вспылил, проявил благоразумие, попросил время для подготовки к долгому пути. Послам ничего не оставалось, как согласиться. Затем я пригласил в наш лагерь вождя Чолулы, чтобы обсудить необходимые меры для нашего безопасного выхода из города. Тот, сославшись на болезнь, не явился.
Как не возрадоваться, как не помолиться Деве Марии и Спасителю нашему Иисусу Христу! Местный касик сам сунул голову в петлю. По наущению ли Мотекухсомы, сам ли он решил проявить инициативу, в ту пору это было неважно. Урок чолульцам должен быть впечатляющ, нагляден, кровав.
Больше всего меня в те дни интересовали подробности организации заговора. Защитные меры можно было принять только сообразуясь с этим.
* * *
Насколько я, Берналь Диас дель Кастильо, помню, все началось с того, что дон Эрнандо приказал верным людям изъять из ближайшего храма парочку жрецов и доставить их в наш лагерь. Я, присутствующий при разговоре, предложил пригласить тех двух местных попов, с которыми мы взбирались на великую пирамиду. Кортес согласился и предупредил, что дело должно быть обтяпано тихо.
Сказано — сделано. Когда эти два молодчика предстали перед Кортесом, тот первым делом успокоил вконец перетрусивших шаманов, затем попросил их доставить его послание местному касику. Когда тот в сопровождении небольшой свиты явился, дон Эрнандо и этому сумел заговорить зубы, да так, что уже через полчаса они вместе с донной Мариной весело посмеивались над оробевшим касиком. Лицо у того было бледное, видно, туземец был готов ко всему. Потом ничего, тоже начал скалить зубы и охотно дал согласие выделить две тысячи таманов — по-нашему, носильщиков — которые помогут тащить наши припасы. Кроме того, дон Эрнандо пригласил касика со всеми выдающимися людьми Чолулы принять участие в церемонии прощания. На том и сошлись.
Спустя несколько часов Кортес вновь приказал доставить к нему тех же жрецов, и когда те прибыли, за них всерьез взялась донна Марина. Она недоумевала — что случилось с чолульцами, ранее такими гостеприимными, а теперь вдруг охладевшими к друзьям. Испанцы, добавила она, не враги Чолуле, а друзья и союзники. Враг их прячется в другом месте, они сами знают где. Им, должно быть, рассказывали, какую бойню учинили здесь войска ацтеков во время восстания, которое подняли чолульцы. Жрецы помялись, потом самый молодой признался, что действительно понять Мотекухсому трудно. Он уже несколько раз менял решения — то приказывал встретить чужеземцев с почестями, то грозил наказать город за выражение покорности неведомому заморскому владыке, то сообщал о своем прощении. А ныне вдруг прислал к Чолуле двадцатитысячное войско, которое расположилось в окрестностях, в получасе ходьбы от лагеря пришельцев.
— Я слышала, что в городе раздают оружие, — глядя прямо в глаза жрецу, спросила донна Марина. — Говорят, что из Теночтитлана прислан позолоченный барабан, который будет подарен храму Кецалькоатля. За какие заслуги? Более того, утверждают, что скоро в Мехико будут совершенны невиданные доселе жертвоприношения, и двадцать пленников будут посвящены богам здесь, в Чолуле.
Она сделала паузу, потом предупредила.
— Не лгите. Не к лицу лицам вашего звания оскорблять небеса гнусным враньем. Кецалькоатль, чьими слугами вы являетесь, не допустит, чтобы пострадали его посланцы. Гнев падет на головы тех, кто исполнен коварства и в чьих сердцах кипит злоба.
— Насчет жертвоприношений мы ничего не знаем, — наконец ответил старший жрец, — а барабан действительно прислан. Он хранится у правителя Чолулы.
С тем их и выпустили из нашего расположения. Дон Эрнандо, выслушав доклад донны Марины, остался недоволен.
— Все это я уже слышал. Вопрос в другом — как и когда они собираются напасть? То ли пойдут на штурм храмового двора, то ли собираются атаковать, когда мы начнем выходить из города. Я слышал, у твоей старухи старший сын служит в ополчении, а муж — начальник квартала? Попробуй заманить её сюда вместе с сыном.
Я сопровождал донну Марину до дома старухи, затем проводил женщин и младшего сына в наш лагерь. Здесь индеанка во всем созналась. План заговорщиков был таков: утречком таманы сойдутся у нас на дворе, прибудут и городские касики, Когда мы вытянемся в колонну, наше войско будет перерезано в нескольких местах, после чего начнется разгром. Эта новость вызвала явное неудовольствие дона Эрнандо. Он признался донне Марине, что как раз подобного развития событий опасался более всего.
Та сделала недоуменное лицо. Кортес объяснил.
— Они раскусили нашу тактику. Теперь нам ни в коем случае нельзя доводить дело до решительного сражения. Бить только дипломатическими приемами, давить на разум тлатоани, не давать ему ни минуты покоя. Урок, полученный им в Чолуле, должен научить его хорошим манерам. Урок жестокий, наглядный…
В тот же вечер была созвана войсковая сходка, на которой был одобрен план Кортеса. Все горели желанием отомстить за измену. «Если спустим на этот раз, — заявил кто-то из пушкарей, — потом нам несдобровать. Да и город чертовски богат!.. — добавил он. — Сколько можно воевать без толку, слушать сказки».
С ним все согласились.
Как только завтрашняя диспозиция была расписана, дон Эрнандо отправил к тласкальцам гонца с предписанием немедленно, после получения условленного сигнала, идти в город на подмогу. Затем он, прихватив с собой донну Марину и меня как её сопровождающего, посетил ацтекских послов, пребывающих в нашем расположении. С этими разговаривал строго, без всяких там «ваших милостей» и «господ». Прежде всего сообщил, что какие-то злодеи, сославшись на приказ, исходивший от послов, замышляют коварство и измену. Он, конечно, не верит, что посланцы великого Мотекухсомы способны на такую низость, но опасность нападения велика, и посему он просит послов прекратить всякие сношения с горожанами и остаться в лагере, где они будут надежно защищены от всяких неожиданностей. Завтра они отправятся в Мехико, и им придется послужить проводниками на этом трудном пути.
Послы изумились, принялись уверять Кортеса в своем глубочайшем почтении и верности… Он их и слушать не стал — сразу ушел, а у порога поставил стражу.
Утром в несколько храмовых дворов, которые мы занимали, привалила великая толпа индейцев. Все ребята здоровые, мускулистые, у многих резанные шрамы на теле… Объявили, что собираются послужить нам носильщиками. Всего их оказалось более двух тысяч, с ними явились и местные вожди. Эти не могли скрыть радость и открыто насмехались над нами.
Туземцы пришли рано, в утренних сумерках, однако застали нас уже готовыми к работе. Караул у главных ворот отнимал оружие у всякого, входящего на территорию лагеря. Сам дон Эрнандо расположился в глубине самого обширного двора. Был он верхом, рядом конная охрана. Увидев, что два наших знакомых жреца тоже явились и встали у ворот, он приказал мне немедленно выпроводить их, чтобы потом его не обвинили в неблагодарности. Я им так с помощью Агиляра и заявил, что сегодня в их услугах не нуждаются и пусть они отправляются домой.
Когда последние таманы вошли во двор, Кортес во главе конных офицеров подъехал к правителю города и сопровождавшей его свите и изложил всю измену. Напомнил о предательских приготовлениях, о позолоченном барабане, о кощунственной попытке поднять руку на посланцев самого Кецалькоатля, которые явились в Чолулу, святой для него город, с мирными намерениями и жаждой справедливости. Чем же встретили его жители, называющие себя верными приверженцами его заповедей? Пернатый змей учил их — не убий, не преступай клятвы, люби ближнего своего, они же изменили заповедям…
Он много чего говорил. Агиляр бойко переводил. Индейцы бледнели на глазах, потом принялись жарко оправдываться, что к нарушению данного слова и законов гостеприимства их принудили послы грозного Мотекухсомы, приказа которого они не смели ослушаться. Пусть вина падет на тех, кто задолго до этого дня таил в сердце коварный умысел…
Кортес не стал их слушать и заявил, что по испанским законам они подлежат смерти. Этим сейчас займутся его солдаты… Он махнул рукой, раздался выстрел из аркебузы, и бойня началась.
Мы рубили их около двух часов, намахались вдосталь. Кровь текла ручьями. Гора трупов высилась посередине двора. Тех, кто бросался на стены, доставали аркебузиры и стрелки из самострелов. Никто не спасся, разве только те, кто успел забиться под рассеченные останки своих собратьев. Потом мы принялись за тех, кто пытался штурмовать наши ворота со стороны города. Первым же залпом пушек вся толпа была сметена с прилегающей площади, и мы с обнаженными мечами в руках вышли в улицы. В этот момент дикий вой, донесшийся с западных кварталов Чолулы, подсказал, что на его улицы вступили тласкальцы.
Город запылал сразу в нескольких местах. Огонь взялся яростно, жар было таков, что доски перекрытий сгорали в считанные мгновения. Когда дом рушился, в небо взлетал столб огня. Куда не бросишь взгляд, повсюду вспыхивали такие столбы.
Я оказался в числе тех, кто под командой Ордаса загнал остатки чолульского ополчения и множество жителей на самую большую храмовую пирамиду. Высотой она будет повыше севильской башни с Хиральдой… До храма сооруженного на верхней площадке сто двадцать ступеней, каждая из них в треть человеческого роста. И узкая!.. Индейцы срывались со ступеней, попадали на наши копья, мы не успевали их стряхивать. Некоторые из туземцев принялись выворачивать камни из подножия. Потом уже нам рассказали, что в округе существовало поверье, что стоит вытащить камни из пирамиды и наступит конец света. Оттуда хлынут небесные воды и затопят белый свет. Таково будет наказание за дерзость. Тоже удивительная байка, я и в Испании таких наслушался, господи, прости. Вывернули они камни — оттуда ни капли влаги, только пыль поднялась столбом. Туземцы так и застыли с выпученными глазами, о всяком сопротивлении забыли. Мы тоже опустили копья, не пристало рубить очумевших. Потом индейцы начали сдаваться, правда, таких было не много, врать не буду. Большинство же бросилось в огонь, с женами, детьми…
Между тем город пылал уже со всех концов — нам сверху хорошо было видно. Жутко завывали тласкальцы… В полдень к Кортесу наконец пробились оставшиеся городские вожди и начальники кварталов. Они умоляли не губить город. Дон Эрнандо внял их увещеваниям и обещал сменить гнев на милость. Своих-то офицеры взнуздали легко. Ударили барабаны, заиграли ротные трубы и пищалки, и хочешь-не хочешь, а становись в строй. Теперь шутить с доном Эрнандо никто желания не испытывал. Беда была с тласкальцами, эти совсем озверели, никого не щадили, забирали из домов все подчистую. Людишек, кого щадили, вязали веревками и гнали за город в полон. Горцев только Педро де Альварадо сумел приструнить. Слово Тонатиу было для них закон. Его они очень побаивались.
Полон тласкальцы отпустили, однако все, что попало в их мешки, нельзя было вернуть никакими силами. Вечером Кортес собрал всех оставшихся в живых местных касиков и распорядился, чтобы в пятидневный срок жители вернулись к своим жилищам, чтобы непременно заработали местные рынки, потом спросил, кто по местному обычаю должен наследовать правителю Чолулы. Старейшины ответили, что по закону вождем становится брат погибшего. Так тому и быть, приказал Кортес, чем очень расположил к себе местное население.
…Это хорошая фраза — так и следует продиктовать её писцу. Сердце у старого Диаса захолонуло. Перед глазами встали огненные шары, там и здесь, взлетавшие над улицами, объятая пламенем вершина гигантской пирамиды, где в своем святилище погибал языческий идол. Андрес было сунулся, чтобы похватать самоцветы, но тут же выскочил наружу. Так все и пропало. В ушах чувствительно стоял ужасный рев тласкальцев, вопли мирных жителей. Сам он тоже весь был в крови. То брызнет струя из разрубаемого тела, то по лезвию меча струйка скатится…
До лагеря, после успокоения тласкальцев, он добрел уже в ранних сумерках. Вошел во двор и сразу учуял тончайший сладковатый запах, начинавший распространяться по двору. Местные индейцы уже приступили к уборке исковерканных трупов. В боковом проходе стояла дона Марина, которую весь день, по приказу дона Эрнандо, вместе со старухой и её сыном прятали на дальнем дворе. Взгляд у переводчицы остановился, глаза расширились. Она смотрела на гору трупов. Я тоже глянул в ту сторону.
На земляном полу, на сложенных вместе, согнутых в коленях ногах сидела старуха и беззвучно рыдала. В руках у неё была голова старого индейца, а другая голова, лежала рядом. Должно быть, старший сын её тоже попал в переделку. Рядом на корточках сидел младший сын — единственное, что осталось у женщины.
Что тут поделаешь — война. Кому она мать родна?
Потом слышал, что дон Эрнандо потребовал назначить этого индейца начальником квартала, который находился под началом его отца.
Глава 6
8 августа 1519 года войско Эрнандо Кортеса вошло в Теночтитлан. По календарю ацтеков это случилось в месяц Кечальи, на восьмой день Эхекатл, в год, называемый «Первый день Тростника» эры науа. Последнюю ночь испанцы провели в Истапалапане, чудесном городе-саде, расположенном на перешейке, отделявшим царственное озеро Тескоко от лагуны Чалко. Владел им брат тлатоани, храбрый Куитлауак, незваных гостей он встретил в предместье, был ласков, приветлив, оценивающим взглядом окинул нашу донну Марину и пригласил чужаков пройти на отведенные им квартиры.
Дворец, в котором разместили войско Кортеса задами выходил на озеро. Ширь его посверкивала в солнечных лучах — дни по-прежнему стояли золотые. Истапалапан славился в долине Мехико своими садами. Помещенные в одном из царских дворцов солдаты были поражены обилием плодовых деревьев, их разнообразием, непомерным урожаем, на который в тот год не поскупилась мать-природа. Словно спешила насытить людишек самыми изысканными фруктами. Уже на следующий год все здесь было сожжено, искалечено, земля почернела от горя.
Свободные от несения караульной службы солдаты ходили по дорожкам и, глядя на невиданные деревья, ахали. Садовники щедро угощали их, сами тоже под шумок лакомились вволю — все эти дары были предназначены к столу повелителя и были подсчитаны ещё в пору созревания. Берналь Диас напоследок нагрузил мешок и согласия главнокомандующего вынес его за пределы дворца, где ждала Цветок. Прощание было коротким. Женщина, сидевшая на коленях, завидев бородатого, высокого испанца тут же вскочила, замерла и с тревогой глянула на хозяина. Родственников она уже нашла, теперь собралась совсем уходить. Она бы никогда не решилась покинуть Берналя, если бы тот сам не настоял. Ночью, после ласки, объяснил, что рядом с солдатами делать ей нечего, и так шлюх вокруг них расплодилось. А она из хорошей семьи, жалко будет, если пропадет. Потом помолчал и добавил.
— Я тебя не неволю. Хочешь оставайся, только поверь мне, долго эта тишь да гладь не продержится. Конечно, если решишь остаться, я другого слугу найму, мужика… Будет таскать мои пожитки, а ты будешь присматривать. Так как, пойдешь к родственникам?
Женщина судорожно кивнула и прижалась к нему. Берналь протяжно вздохнул.
— Как знаешь, может, оно и верно. У родного брата полегче будет. Золотишко у тебя есть, вот тебе ещё один драгоценный камень… Как вы его называете? Чалчивитл?..[45] Бери, бери, я себе ещё добуду. Мы пока здесь гарнизон свой не оставляем, так что ты подожди. Как только встретишь кого из испанцев, весточку подай.
…Он проводил её до угла стены, окружавшей храмовые постройки, где расположились станом испанцы, здесь придержал, положив руку на плечо, потом сказал:
— Ступай. Только смотри, больше в клетку не попадайся, а то зарежут тебя на жертвенном камне.
Цветок кое-как разобрала его недолгую речь и внезапно зарыдала, схватила Берналя за руку — обнять не решилась, да он на глазах караула, наблюдающего за ними со стены, и не позволил бы. Вцепилась изо всех сил, плакала и легонько сжимала его мозолистые, ухватистые, дрогнувшие пальцы.
Берналь отвел её подальше от чужих глаз. Она вприпрыжку бежала за ним — расточка в ней было всего ничего. Скрывшись за углом какого-то строения, он принялся терпеливо втолковывать Цветку.
— Если родственники будут обижать, меня найди. Я из этого язычника дух вышибу. Хорошо, что успел тебя окрестить, легче будет. Молитву не забыла?
Женщина неотрывно, не мигая смотревшая на Берналя, отрицательно покачала головой, потом вытерла глаза, тяжело вздохнула и показала крестик, висевший на веревочке.
— Пойдешь, значит? — грустно спросил солдат.
Та кивнула.
— Ну, иди.
Берналь повернулся и направился к воротам. Ступал грузно… У ворот обернулся. Цветок вышла из-за угла — за плечами мешок с фруктами, в руках матерчатая сумка, одета была в узкую, до пят, серую юбку, выше туника без рукавов, расшитая скромно, под стать её положению.
Берналь не выдержал, махнул рукой — уходи. Цветок покорно повернулась и семенящими шажками двинулась в сторону главной площади, где возвышались теокали.
До вечера Диас чистил каску, кирасу и налокотники. Об одежде беспокоиться нечего, за ней следила Цветок, так что где надо зашито, прорехи заштопаны. Сапоги пока в хорошем состоянии. Донна Марина, прогуливавшаяся в саду, спросила:
— Отпустил Ночтлишочитл?
Солдат молча кивнул.
Донна Марина долго молчала, потом поинтересовалась:
— Что, в победу не верите, сеньор Диас?
— Эх, донна Марина, мы уже в такую даль забрались, столько всего натворили, что теперь не о победе думать надо, а том, как довести дело до конца. Иначе растянут нас на жертвенных камнях и прощай белый свет. Я о будущем не задумываюсь — это ваше с сеньором Кортесом дело. Допустите промах — всем нам крышка, объегорите Мотекухсому — тогда и нам удача привалит. Наше дело мечом работать да пикой осаживать, с этой задачей мы как-нибудь справимся. Вот вы справьтесь со своей. Смотрю я на вас и ни капельки страха у вас на лице не замечаю. Неужели вы так бесстрашная?
— Я свое, сеньор Диас, уже отбоялась. Как вспомню, что завтра нам предстоит встреча с самим тлатоани, не могу отделаться от изумления. Неужели мне доведется с живым божеством увидеться — мой отец часто мечтал о том, как я буду представлена ко двору… Только какой он небожитель! После Чолулы прислал сеньору Кортесу послание, в котором укорял нас в том, что мы не дали ещё более жестокий урок этим изменникам. Дерьмо он, а не воплощение Тескатлипоки! Сеньор Кортес тут же разослал копии его ответа по всем соседним городам. Пусть знают, что их ждет под властью Мотекухсомы. А насчет женщины, сеньор Диас, не беспокойтесь — есть у меня верные люди. Они проследят, чтобы брат вел себе смирно и домашних своих одергивал, если кому-то будет не по нраву возвращение Ночтлишочитл. И план у нас есть. Будьте уверены, сеньор Диас, дайте нам только добраться до этого язычника, мы сразу возьмем его в оборот. Когда он и его знатнейшие советники окажутся в наших руках, ацтеки смирят гордыню.
На следующий день войско было поднято с восходом солнца. Через два часа колонна выступила из Истапалапана. Сначала шли по перешейку, отделявшему большое озеро от лагуны Чалко, затем добрались до широкой, выступающей над водой на высоту трех четвертей человеческого роста дамбы. Здесь по команде перестроились. Вперед на коне выехал сеньор Кортес, за ним, тоже верхом, группа офицеров, в первых рядах которой скакали Педро де Альварадо, Ордас, Сандоваль, Диего Веласкес де Леон, лейтенант Кристобаль де Олид. Следом с войсковым флагом шел знаменосец. Какие только фигуры он не выписывал нашим стягом — крутил его, то вздымал, то опускал. Полотнище трепетало, гулко хлопало… Потом опять конница в ряд, за ними поротно двигалась пехота — впереди несли номерные значки; за пехотой артиллерия, потом носильщики и замыкали колонну корпус тласкальцев и других приставших к нам воинов. Эти постоянно озирались, как звери. Было видно, что им не по себе. Было отчего! Испанцы тоже беспрестанно вертели головами.
Вся дамба была усыпана встречающими. Более пестро и богато одетой толпы солдатам до этого дня встречать не приходилось, хотя под приветственные возгласы и в Тласкалу, и в Чолулу приходилось вступать. Сотни лодок с обеих сторон теснились возле дамбы — сколько там было народу, невозможно пересчитать! И все с цветами… Это было море цветов, собранных в букеты, сплетенных в венки, в гирлянды, которыми местные жители украшали проходивших по дамбе бородатых, одетых в поблескивающее железо людей. Где-то нестройно били барабаны, ревели трубы и морские раковины. Гул человеческих голосов покрывал озеро. Скоро в этом шуме отчетливо прорезалась рассыпчатая дробь испанских барабанов. Взревела сигнальная труба — солдаты тут же подтянулись, спрямили ряды и шеренги, взяли ногу. Дамба задрожала от мерного топота сапог, скоро эта музыка войны напрочь забила вопли ацтекских труб и раковин, заглушила бой храмовых барабанов. Толпа притихла, глядя на ровные ряды пришедших из-за моря воинов. По слухам это были посланцы самого Кецалькоатля, возмущенного несправедливостью и ложным толкованием его учения. Вот он и напустил на них этих бородатых людей.
Так они шли с полчаса, пока Кортес не заметил впереди стену высотой в три человеческих роста. Укрепление напоминало кронверк — по бокам две выступающие на поверхностью воды, высокие башни, посредине зубчатые ворота. Они были распахнуты. Мощное сооружение!.. Дон Эрнандо перекинулся взглядами с Сандовалем, Альварадо и Ордасом. Диего Веласкес де Леон даже присвистнул…
Офицеры проехали ворота — впереди ровными рядами стояло несколько сотен ослепительно разряженных людей. Султаны из перьев чудесной птицы кецаль — алые, изумрудно-зеленые, небесно-голубые — колыхались у них над головами. Необыкновенное разнообразие плащей из птичьих перьев поражало воображение. Повсюду поблескивали золотые украшения — браслеты, массивные цепи, обручи на шеях, кольца, продетые в мочках ушей и ноздрях. Все это великолепие было усыпано грудами драгоценных камней, жемчужными ожерельями, а повыше голов, уже совсем близко, вставали огромные, как холмы, пирамиды. Ступени были покрыты замысловатой резьбой, то там, то здесь на ярусах выступали огромные змеиные головы. Городские кварталы осенялись частыми, блистающей белизны башнями. Воды озера по каналам свободно вливались за городскую черту. Справа, на возвышении топорщилась темно-зеленая шерстка могучих кипарисов. Конь под доном Эрнандо неожиданно заплясал — сказка о легендарном Эльдорадо оживала на глазах. Донна Марина, ехавшая рядом с ним, что-то прошептала.
— Громче, — тихо приказал Кортес, склонившись к переводчице.
— Что громче?
— Повтори, что ты сказала.
— Это стихи…
— Вот и повтори стихи.
Женщина задумалась, потом складно, по-испански, выговорила.
Образовывая нефритовые круги, раскинулся город, Излучающий свет, словно перо кецаля — это Мехико…Толпа вождей, стоявшая по обеим краям дамбы, тянулась до самых городских кварталов. Как только офицеры миновали арку входных ворот и вступили на одну из главных улиц Теночтитлана, толпа раздалась вширь, вдали показалась торжественная процессия. Впереди выступали три важных сановника с золотыми жезлами в руках, за ними, покачиваясь на ходу, плыли посверкивающие золотом носилки, накрытые балдахином из птичьих перьев, меж которыми ярко поблескивали драгоценные камни и проглядывало серебряное шитье подзора. Их несли богато наряженные касики. Все придворные были босы, они двигались неспешными шагами, опустив глаза.
Кортес кивнул и чуть придержал коня, колонна тоже сбавила шаг. Наконец, шагов за пятьдесят, носилки замерли, качнувшись опустились на расстеленную прямо на земле материю.
Дон Эрнандо поднял руку — колонна остановилась. Как только стих бой барабанов, он слез с коня, его примеру последовали все офицеры. Сандоваль помог спуститься донне Марине. Кортес расставил руки для объятий и не спеша зашагал в сторону носилок, откуда уже успел выбраться высокий, худощавый, с заметно более светлой кожей, чем у сопровождающих его вельмож, человек. Было ему лет сорок. На ногах мягкие сандалии, ремешки которых, украшенные жемчугом и самоцветами, обнимали узкие голени. Талию опоясывал широкий пояс, плечи прикрыты просторным коротким плащом. Концы его были покрыты серебряным шитьем, два из них были собраны в узел вокруг шеи. Голова непокрыта, лишь несколько зеленых перьев кецаля осеняли его. Удивительной для индейца была редкая бородка, покрывавшая его подбородок.
Сам Кортес был в тонких, ношенных чулках, коротких, надутых пузырями штаниках, нарядном колете, на плечи наброшена алая короткая накидка. На портупее слева крепилась шпага. На ногах — туфли с золотыми пряжками, голову покрывал бархатный берет с длинным павлиньим пером.
Несколько мгновений они стояли, глядя друг на друга. Первым, широко улыбнувшись, двинулся сеньор Кортес. Тлатоани тоже сделал шаг вперед, слуги тут же принялись расстилать перед ним материю — ноги земного небожителя не должны были касаться земли.
Вот они встретились!
— Приветствую вас, — чуть улыбнувшись, сказал правитель Мехико.
— Как изволите здравствовать? — в ответ спросил сеньор Кортес.
Он достал из приготовленного, надушенного мускусом платка ожерелье из цветного венецианского стекла и надел на шею Мотекухсоме, попытался обнять, однако стоявшие рядом вельможи не позволили — никто не смеет касаться священной особы…
Затем тлатоани лично проводил гостей в отведенные им покои. Улицы Теночтитлана, крыши домов, лодки, что скопились на многочисленных каналах, были забиты народом. В самом городе высоких зданий не было. Глухими стенами жилые дворы и усадьбы выходили на улицы, которые представляли из себя подобие венецианских водотоков с узкими пешеходными проходами по одной из сторон. Часто вода занимала всю ширину улицы — по этим водным путям в город доставлялось все необходимое и подвозилось к каждому дому. Всюду были переброшены нарядные мосты. Стены домов были беленые, кое-где в глаза бросались тусклые, красновато-коричневые пятна — в этих местах стены натирали толченой пемзой.
Наконец главный проспект уперся в центральную площадь столицы где возвышалась необъятная пирамида, на вершине которой были воздвигнуты храмы Уицилопочтли и Тлалоку. С обеих сторон этой ступенчатой горы были расположены дворцы самого Мотекухсомы и его отца, великого Ашайякатла, который и был выделен испанцам для постоя.
Здесь Мотекухсома надел на шею Кортесу удивительной работы золотую цепь. Каждое звено представляло из себя массивного краба, воспроизведенного с таким изяществом и мастерством, что, казалось, у них клешни шевелятся.
В главном внутреннем дворе, когда вся колонна испанцев, обоз с носильщиками и сопровождающие их тласкальцы вошла в ворота дворца и разместилась по помещениям, внутренним дворикам, хозяйственным пристройкам, садам — так, что никому не было тесно, — тлатоани обвел рукой и сказал:
— Малинцин! Пусть ты и твои братья чувствуют себя здесь, как дома. Желаю хорошо отдохнуть.
С этими словами владыка Мехико направился к носилкам. Офицеры встревоженно глянули на Кортеса. Педро де Альварадо взялся за рукоять шпаги. Дон Эрнандо обменялся взглядами с Мариной. Та отрицательно покачала головой. Потом тихо шепнула Кортесу и приблизившимся Альварадо, Сандовалю и Ордасу.
— Опасно. В городе много вооруженной стражи. Кроме того, нет Куитлауака и правителя Тескоко Какамацина. Пригласи Мотекухсому посетить нас ближе к вечеру. Добавь, что для вас великая честь лицезреть живое солнце. Тогда…
Кортес приблизился к носилкам, церемонно поклонился и попросил великого тлатоани посетить их лагерь, чтобы они могли насладиться беседой с таким выдающимся государем. Тот выразил согласие.
Сразу после того, как Мотекухсома покинул расположение, Кортес занялся устройством лагеря, организацией обороны и гарнизонной службы. Этим он всегда занимался лично. Подобрал позиции для артиллерии, взгрел командира тласкальцев и союзных индейцев за мародерство, приказал вернуть все, что те уже успели отыскать в комнатах полупустого дворца и прибрать к рукам. Так закрутился, что едва не опоздал к встрече прибывшего тлатоани. Тот явился после сиесты, с вооруженной охраной, и небольшой свитой придворных. Услышав это известие, Кортес вопросительно посмотрел на Марину. Та, переводя приветствия правителя Теночтитлана, вставила между словами, что следует подождать с выполнением задуманного. Личико её было накрашено, она благоухала, как роза и по-прежнему не смела смотреть на тлатоани. Также вела себя и в тот момент, когда переводила на науатль речи Кортеса.
Дон Эрнандо с ласковой улыбкой выслушал её предупреждение и, изящно поклонившись Мотекухсоме, заявил:
— Что за бред? Почему нельзя прямо сейчас? А этому скажи что-нибудь вроде «для меня великая честь» и ещё — «примите уверения в моем искреннем почтении к вашей мудрости»…
Донна Марина перевела.
Тлатоани вежливо улыбнулся и коротко поблагодарил сеньора Кортеса, однако Малинче развернула его ответ в целую речь.
— Дон Эрнандо, здесь нет никого из главных военноначальников ацтеков. Нет и Куитлауака, брата повелителя, и его племянника Какамацина. Верный человек только что передал мне — Куитлауак обмолвился, что не полезет в петлю. Ему достаточно урока в Чолуле. Кроме того, мне стало известно, что гарнизон, размещенный в Тлакопане, получил солидное подкрепление. Сеньор Альварадо, позвольте напомнить вам, что следует улыбаться. Улыбайтесь, господа офицеры, улыбайтесь!.. Дон Диего де Веласкес, поклонитесь повелителю. Он хоть и язычник, но все же король.
Испанские офицеры сразу подобрели. Принялись отвешивать поклоны.
Кортес заметил.
— Мы не можем ждать. Мы сидим на бочке с порохом!
Донна Марина сделала легкий полупоклон в сторону предводителя испанцев и повернулась к тлатоани. Глаза держала опущенными долу. На этот раз она позволила себе сделать несколько изящных жестов.
Мотекухсома благосклонно выслушал её и заговорил вновь.
— Он спрашивает, как велико море, которое им пришлось одолеть? Каков из себя великий восточный владыка, который послал их сюда? Бородат ли он?
Кортес выслушал её и вновь ласково улыбнулся:
— Наша страна располагается более чем в двух месяцах пути от Мехико. Называется она Испанией. Государь наш владеет всем миром, в его владениях никогда не заходит солнце. Он бородат, если так угодно его милости. Так что же будем делать?
— Он спрашивает, какие причины заставили испанцев прибыть в Теночтитлан? Обрати внимание на сановников — они так и ждут какого-нибудь подвоха. В случае чего сразу поднимут тревогу.
— Скажи ему, что в такой долгий и полный опасностей путь мы отправились, чтобы лично лицезреть столь прославленного монарха, как он. Кроме того, мы имеем намерение объявить ему истинную веру, которой и они, ацтеки, когда-то были не чужды. Но если мы захватим его в заложники, язычники вряд ли посмеют начать военные действия.
Мотекухсома, выслушав ту часть ответа, которая предназначалась для его ушей, пожевал губами и что-то промолвил. Донна Марина перевела.
— Не твои ли, Малинцин, соотечественники были те белые люди, которые в прошлом году высаживались на восточных берегах нашего государства? Он имеет подробный отчет о действиях испанцев со дня их прибытия в Табаско. Действовать можно только в том случае, если он сам прикажет им сложить оружие.
— Да, это тоже были наши люди, только очень низкого звания. Они не заслуживают внимания такого могучего монарха, как вы.
— Он любопытствует насчет сана своих гостей. Приходитесь ли вы родней своему государю?
— Все мы, здесь присутствующие, из благородных фамилий и родня друг другу. Мы — подданные великого нашего монарха Карла V, который особо благоволит к нам и держит на особом счету. Ладно, отложим пленение до более удобного случая.
Услышав последние слова Кортеса, испанские офицеры почувствовали себя свободнее. Теперь беседа пошла оживленнее.
— Великий Мотекухсома интересуется — правда ли, что испанцы умеют управлять ветром?
— Да. Наши мореходы научились ставить паруса, которые улавливают малейшее дуновение. С Божьей помощью наши корабли теперь способны одолевать океанские просторы… Если вашей милости будет угодно, наши люди могут построить здесь в Теночтитлане несколько бригантин. Тогда ваша милость сможет в полной мере оценить преимущества и ни с чем не сравнимое удовольствие ходить по воде под парусом.
Лицо Мотекухсомы просветлело. Спала маска вежливой отчужденности, в глазах исчез настороженный блеск. Вообще, обстановка в парадном зале как-то сразу разрядилась. Что-то человеческое, не связанное с государственными делами, с опасливым недоверием друг к другу, появилось в их отношениях. Уместными оказались и подарки, которые щедрой рукой принялся раздавать Мотекухсома. Комплектов хлопчатобумажных нарядов, которые через открытые ворота начали заносить специально приготовленные таманы, хватило бы не только на испанское войско, но и на всех союзников. Все, кто находился при беседе, получили золотые цепи и другие украшения. Берналь Диас потом долго разглядывал удивительно тонкую работу, с которой были отлиты звенья доставшегося ему подарка.
С наступлением сумерек тлатоани покинул дворец Ашайякатла. Кортес, отдав соответствующие распоряжения, взобрался на стену, откуда с башни центральных ворот наблюдал, как процессия направилась к дворцу Мотекухсомы. Прохожих на улицах было много. Люди прогуливались, кое-кто спешил закончить дневные дела. Многие располагались на крышах своих домов. На вершинах пирамид и в храмовых дворах время от времени гулко били священные барабаны. Горели костры… Город погружался в ночь, странно-обычную после такого удивительного дня, на редкость тихую, теплую, звездную…
Дон Эрнандо взмахнул рукой. В то же мгновения вся испанская артиллерия произвела холостой залп. Ужас пал на громом пораженный город. Люди на главной пощади замерли, потом бросились врассыпную.
Глава 7
Это решение было трудным, но неизбежным. Взяв в заложники Мотекухсому и его ближайшее окружение, мы тем самым ставили точку в долгом и многотрудном походе. При благоприятном исходе дело оставалось бы за малым внушить правителю мысль о необходимости спасения своей души и привести владыку Мехико в христианскую веру. Этот план мы ещё на пути в Теночтитлан детально обсудили в своем кругу. Нашелся и повод — во время нашего пребывания в Чолуле индейцы на побережье совершили нападение на город Веракрус. В результате умер от ран комендант крепости Эскаланте и ещё несколько наших людей. Один человек попал в плен, его отрубленную голову доставили Мотекухсоме. Голова была столь велика и бородата, что этот князек не посмел отправить её в хранилище черепов и приказал похоронить в земле.
Сразу после прибытия в столицу я взял инициативу на себя. Сеньоры сподвижники, донна Марина упорно настаивали на том, чтобы сразу после прибытия во дворец отца Мотекухсомы, пленить его. Я был единственный, кто не потерял голову в тот необыкновенный, сказочный день. Чутье и на этот раз не подвело меня. Просто так взять и задержать великого тлатоани означало немедленный бунт, нападение на дворец, в котором мы ещё не успели обосноваться, наладить оборону. Тем самым нам пришлось бы воевать в невыгодных для нас условиях. Мне удалось доказать, что в этом вопросе нельзя действовать безоглядно, под действием минутных настроений. Согласен, возможно, я в какой-то степени поддался на их уговоры и немного поспешил с пленением Мотекухсомы, однако меня тоже надо понять — цель, к которой мы так долго стремились, была в пределах досягаемости. Я пришел к выводу, что в этих условиях можно упростить подход к сложившейся тогда в Мехико ситуации. Мне пришлось долго объяснять падре Гомаре, что вряд ли в исторической хронике, которую он так добросовестно составлял, надо упоминать о подобном несогласии в наших рядах, о мелких промашках, которые обнаружились во время выполнения давно разработанного плана. Я ему долго объяснял, что задержание Мотекухсомы никак нельзя считать пленом. В кандалы он был закован неделю спустя, когда я вновь попал в безнадежную, немыслимую ситуацию. Судьба в который раз не оставляла мне выбора. Вот почему я особенно настаивал, чтобы в своем труде падре Гомара писал только правду, одну только правду, но правду обобщенную, лишенную налета сиюминутности, случайности.
Дон Эрнандо откинулся в кресле, зашелся от кашля, долго смотрел, как солнечная тень медленно брела по внутреннему дворику, куда выходили окна его кабинета. Вот прозрачные сумерки накрыли завесь плюща на стене, потом подступили к зарешеченным окнам, где на балконной полке были выставлены горшки с кактусами, которые донна Хуана привезла с собой из Мексики. Чем понравились ей эти колючие, неуклюжие создания? Там, в Новой Испании, этой пакости видимо-невидимо, разнообразие форм неисчислимо. Их высаживают вместо заборов, с помощью «органос» указывают границы владений, алоэ вырастает до высоты двух человеческих ростов и листья у него мясистые, похожие на изогнутые сабли. Вот ещё дьявольское создание, называемое «опунция». Это настоящие деревья, только вместе нежной (как я позволил себе выразиться в одном из стихотворений) и навевающей прохладу листвы, на ветках растут плотные, покрытые колючками лепешки. Мясистые, неприятные на вид…
Тень поглотила большую часть открытого пространства — накинула мантилью на стены, аркатуру, плиты на полу. Краски успокоились, поблекли, и в то же время пространство приобрело необходимую гармонию. Как бы единый, приглушенный световой фон…
К чему лукавить — Мотекухсома был глуп и труслив, он сам угодил в мои лапы! Вина наша в том — так, по крайней мере, утверждает мой давний недоброжелатель, епископ Лас Касас, — что мы коварно воспользовались его простодушием и доверчивостью и с помощью грубой силы захватили его. Он любит сильные, контрастирующие с общепринятой точкой зрения заявления. Однако в данном случае двор и общее мнение безусловно на моей стороне. Встать на точку зрения Лас Касаса — и не мне одному гореть в геенне огненной. Как на духу — я был самым милостивым из всех известных мне конкистадоров, и без ложной скромности могу утверждать, самым разумным и дальновидным. Но я тоже человек. Всего лишь человек, не более того… В тот решительный момент, в первый день нашего пребывания в Теночтитлане, меня пронзила мысль, что на этот раз я ввязался в игру, в которой правила были установлены не мною. Не мне их и пересматривать… Я попал в жернова истории — эти два вращающиеся, перамалывающие человеческие тела камня навязчиво являлись перед моим умственным взором. Наступил момент, когда каждый мой шаг будет оцениваться не губернатором Кубы Диего Веласкесом, не моими ребятами, которым казалось, что они наконец дорвались до золота, а куда более высокими инстанциями — двором в Толедо, а то и папским престолом в Риме. Мне не хотелось заранее ссориться с ними, тем более, что именно там находился великий рассадник интриг, там было место обитания сильных мира сего. Неоправданный, наглый захват Мотекухсомы сразу ставил меня в опасное положение покусителя на особу королевской крови, ведь Мотекухсома являлся полновластным и законным монархом в своей стране. Мне было известно, как чувствительно относятся в Европе к посягательствам на королевскую кровь и честь. Стоило мне здесь, в далеком Теночтитлане, допустить малейший промах, и доброжелатели раздули бы этот проступок до размеров тягчайшего преступления. Мне навсегда был бы закрыт путь для возвращения в Испанию. Донне Марине этого было не понять, вот она и настаивала на немедленном захвате Мотекухсомы. Также, как, впрочем, и другие офицеры, исключая разве что Хуана Веласкеса де Леона. В любом случае мне нужен был повод и сознаюсь — изрядная доля дерзости и жестокости, чтобы решиться на такой поступок.
Юлий Цезарь как-то сказал, что воспоминания о жестокости — это плохая подпора в старости. Этому принципу я старался следовать всегда, и если кто-то смеет упрекать меня в зверствах, коварстве, забвении христианского милосердия, я ему отвечу, нельзя требовать от кого бы то ни было, а ещё менее от человека, воспитанного для железного ремесла войны, чтобы он был впереди своего времени в отношении человеколюбивых идей. Потомкам следует довольствоваться тем, если он в неблагоприятных для филантропических опытов обстоятельствах, не стал ниже идей своего века!
Завоевание Мексики никогда не было для меня самоцелью и после походов в неизведанные земли, в результате чего мною была открыта Калифорния и много других удивительных стран, я обратился к его величеству с обоснованием проекта сооружения водного пути, секущего перешеек, связывающий Новую Испанию и Новую Андалузию. После захвата Мексики все казалось возможным! Мне удалось увлечь ею нашего короля. Я выделил изрядную сумму, чтобы мой двоюродный брат Альваро де Сааведра Серон разработал по его приказу подробный план создания канала, каковой, как оказалось, можно было устроить в четырех местах. Одно из направлений вело через перешеек Теуантепек, второе — по озеру Никарагуа, третье через Панамский перешеек в том месте, где Бальбоа увидел Великое южное море, и наконец через залив Сан-Мигель и одну из рек Дарьена.
В 1529 году план был положен на стол его величества императора Священной римской империи Карла V. Шло время — дона Карлоса сменил на троне Филипп II. Он и наложил окончательный приговор: «Что Бог соединил, человек да не разъединяет!» На том дело и угасло. Также, впрочем, рассуждал и Мотекухсома, когда ему доложили, что мы выступили в поход на Теночтитлан: «Подобная дерзость не угодна богам!» — заявил он.
Стоило мне послушать Лас Касаса, дрогнуть на миг, и благородный губернатор Кубы Веласкес давным-давно вздернул бы меня на виселице. А Лас Касас твердит одно и то же — «поведение, недостойное рыцаря», «коварный интриган», «жестокий поработитель»… Сам, кстати, дабы облегчить участь обожаемых им индейцев предложил ввозить негров из Африки и использовать их на тяжелых работах. При этом призывающий к милосердию епископ утверждал, что негры мало чем отличается от скотины. Они в четыре раза выносливее, нежели обожаемые им краснокожие.
Следующий день, помнится, я потратил на посещение рынка в Тлателелько — городе, соседствующем с Теночтитланом, — затем взошел на вершину их главной кумирни, но об этом пусть расскажет кто-нибудь другой. Интересно, неужели никто, кроме Гомары, не отважится поведать о наших славных деяниях? В ближайшем окружения я не вижу такого человека. Все мои офицеры были неграмотны или едва умели читать и писать, кроме Веласкеса де Леона, но он погиб во время отступления из Теночтитлана в ту злополучную ночь… Разве что Берналь Диас? Бог с ним, пусть упражняется, мне скрывать нечего. С чистой совестью я иду на твой суд, Спаситель. Тебе отмщение…
Катастрофа и в то же время великая радость, явление чуда и тяжкая изнуряющая забота обрушились на меня третьего дня, когда, вытребовав разрешение на устройство часовни в пределах дворца Ашайякатла, я приказал солдатам подобрать место для устройства алтаря и воздвижения животворящего креста. Уже через полчаса ко мне прибежал взволнованный Андрес и молоденький паж Ортегилья. С порога принялись вопить: «Ваша милость, ваша милость, сеньор Кортес! Клад, уйма золота! Его столько, что и в самом счастливом сне не привидится!..»
Помню, я ещё чертыхнулся, не поверил, однако добравшись до стены в одной из комнат, где в углу открылась мрачная, едва сдобренная отсветами факелов дыра, затаил дыхание. Андрес, глотая слова, принялся объяснять, что старому Гонсало показалось подозрительным пятно свежей штукатурки, которая заметно выделялась на стене. Он и ковырнул чуток… Вы только гляньте!..
Я взял факел и в сопровождении Авилы, Ордаса и Берналя Диаса пролез через узкое отверстие. Внутри можно было выпрямиться. Я поднял факел над головой…
Тусклый свет разлился по помещению, ответом ему послужил нестерпимый желтоватый отблеск, который заполнил все помещение. Золото лежало повсюду уложенное в груды, в бруски, самородки. Кое-где стопками были собраны раскатанные золотые листы. На полках вдоль стен выставлены изделия: всевозможные сосуды, изображения животных и птиц. Особенно много было золотых уточек… Цепи — тончайшие, с украшенными самоцветами звеньями, а то подлиннее и потолще якорных, — были свернуты в бухты. Нагрудники, подвески всевозможных видов, шлемы, напоминающие клювы орла, пасти тигров, жезлы, изображающие стебли кукурузы, золотые стрелы дюжинами, богато украшенные жемчугом и драгоценными камнями гребни, жертвенные ножи, ожерелья, маски, тоже усыпанные самоцветами — всего не перечесть.
Несколько минут мы стояли, не в силах ни слова сказать, ни пошевелиться. Обилие золота отшибло всякую способность соображать. Казалось, все сокровища мира были собраны здесь, в этом обширном зале с низким потолком. Оглянувшись, я увидел в проеме перекошенное от изумления лицо Педро де Альварадо. Глаза у него были выпучены. Наконец я пришел в себя и, когда все выбрались из сокровищницы, приказал немедленно заделать проход, да так, чтобы никому и в голову не могло прийти, что кто-то чужой посмел вскрыть его. При этом дал волю чувствам, был резок, раздражителен уже во внутреннем дворе, при свете дня мне открылась зловещая угроза, которая таилась в этом кладе.
Менее всего я страшился, что Мотекухсома узнает, что мы до добрались до сокровищницы его отца. В тот момент наибольшую опасность представляли мои соотечественники, та таинственная сила, которая тотчас овладевает белым человеком, стоит ему хотя бы на мгновение увидеть блеск золота. Эта масса драгоценного металла могла кого угодно свести с ума. Здесь часовые не помогут… Чего можно было ждать от этой находки? Крутого падения дисциплины. Очень скоро солдатами овладеет жажда потратить награбленное и наворованное, начнется игра. Картишки, как оказалось потом, они нарисовали в один миг. Единственный путь заставить войско подчиняться — это по справедливости разделить доставшиеся нам сокровища, но сделать это можно было только с согласия законного владельца, иначе, позволив хотя бы в отношении язычников перейти грань дозволенного, будь уверен, в конце концов, также поступят с тобой.
Уже вечером, оставшись наедине с Мариной, я долго не мог заснуть. Судьба словно задалась целью беспрестанно подгонять меня кнутом к какой-то неведомой, пусть даже и манящей, но все же вызывающей ужас, цели. Проводником на этом пути выступала удача, которая в последнее время только и делала, что улыбалась мне. Я снова попал в замкнутый круг. Сидя на вулкане, в чужом, не скрывающем своего недоброжелательства городе, на куче золота, о которой теперь наверняка судачат у каждого костра, в каждом укромном уголке, я был просто вынужден захватить в плен Мотекухсому. Вить веревки из этого индейца не составит труда — он сам подсказал, как следует с ним поступать. Я верил, что подобный шаг будет последним в долгом походе, и с приручением Мотекухсомы, обращении его к лику Иисуса Христа и Девы Марии, мы наконец получим всю полноту власти над этой обильной, богатой золотом и серебром страной.
Меня поддержала Марина и все собравшиеся на тайное совещание офицеры, которым я приказал собраться в моей комнате. Правителя Мехико мы решили захватить хитростью.
* * *
На следующий день, после общевойсковой сходки, которая приняла решение взять индейского монарха в заложники, Марина отправилась во дворец Мотекухсомы и договорилась об аудиенции, которая была назначена на полдень. К тому времени все наше войско подготовилось к последнему, как мне казалось, акту этой затянувшейся, превышающее человеческие силы, драмы. Роты были построены во дворе, в жерла пушек забиты заряды. Наиболее сильные и умелые в ближнем бою солдаты группами стали собираться во дворце Мотекухсомы. Все были в латах, при оружии. Со мной отправились Альварадо, Сандоваль, Луга, Веласкес де Леон, Авила и ещё с десяток воинов, которые должны были занять позиции на всем пути следования от покоев местного императора до ворот дворца.
Встретил нас правитель ласково, после короткого приветствия предложил нам в жены своих дочерей, которых у него было изрядное количество. Я вежливо отказался — объявил, что согласно нашему закону у нас может быть только одна супруга. В этот момент мне подали тайный знак, что ребята заняли намеченные места.
— Что с тобой, Малинцин, отчего ты вдруг посуровел? Какая неприятность омрачила твое чело? — сразу насторожился Мотекухсома.
— Великий государь, — начал я, — мне только что сообщили, что вопреки дружеским чувствам, которое мы испытываем к вам, вопреки всем заверениям в мирных намерениях, ацтекские воины напали на город Веракрус. Погиб наш доблестный друг, комендант города, сеньор Эскаланте и ещё несколько испанцев. Нападение было совершенно в тот момент, когда мы получили с мексиканской стороны предложения покончить дело миром.
Неподдельный страх появился на лице правителя. Я не дал ему возможности оправдаться и ещё более грозным тоном продолжил.
— Подобное злодеяние не должно остаться без самого тщательного расследования, а до той поры, пока истина не обнаружится, пока не станет окончательно ясно, по чьему приказу была пролита кровь, я прошу вас пройти с нами в покои вашего славного отца Ашайякатла. Так будет спокойнее и удобнее для вас и для нас.
Мотекухсома побледнел, как смерть. Лицо его исказила страшная гримаса. Он воскликнул.
— Слыхано ли, чтобы великий государь, подобный мне, добровольно покинул собственный дворец и по собственной воле отдался в плен чужеземцам! Я согласен, что причины стычки на побережье должны быть расследованы. Вот мой перстень, предъявителю которого должен повиноваться всякий, кто живет в Мехико и на принадлежащих ему территориях. Я немедленно пошлю гонца с предписанием, чтобы вождь виновный в нападении на побережье, немедленно прибыл в столицу, где мы добросовестно изучим все обстоятельства этого злодеяния. Однако, Малинцин, мне кажется, ты преступаешь обязательный для всякого гостя закон гостеприимства и пытаешься навязать мне, полновластному хозяину этой страны, свою волю.
Наступил решающий момент. Теперь отступать было поздно — или здесь в самом сердце Теночтитлана прольется наша кровь, или этот туземный вождь подчинится нашим справедливым требованиям.
— Ни о каком плене или любом другом стеснении ваших прав и речи не может идти. Мы всего-навсего настаиваем, чтобы вы сменили место пребывания и по-прежнему полновластно и без всякого нажима руководили своей страной. Мы были вынуждены пойти на этот шаг исключительно в целях вашей и нашей безопасности, чтобы никакие посторонние обстоятельства или злые люди не смогли помешать отправлению правосудия, к которому вы, великий государь, имеете такую большую склонность. Нам известно, что в начале вашего правления вы навели порядок в судопроизводстве, после чего ваша страна стала небывало процветать. Поэтому мы вполне полагаемся на ваш суд, который должен определить истинных виновников случившегося. Кроме того, эти изменники-чолульцы настаивали, что именно от ваших послов получили приказ жестоко расправиться с нами.
Мотекухсома долго молчал, мы обступили его. Сановники, пораженные прозвучавшими в зале для приемов речами, начали было скапливаться у выхода. Намерения у них были явно недобрые, однако Берналь, стоявший у выхода из зала, обнажил меч и отогнал индейцев.
Мотекухсома вскочил, однако тут же сел на прежнее место.
— Даже если бы я согласился последовать за вами, мои подданные никогда не простят вам такое унижение.
— Стоит вам, государь, проявить добрую волю и объявить, что вы совершаете это шаг по собственной воле, в интересах государства, и они покорятся. Ведь, как нам известно, не бывало такого в стране ацтеков, чтобы кто-то осмелился перечить воле тлатоани.
Так мы долго препирались. Мотекухсома предлагал отдать в заложники своих сыновей и дочерей, однако я стоял на своем. Наконец Веласкес де Леон не выдержал, выхватил наполовину шпагу и тут же опять с шумом вогнал её в ножны.
— Какой смысл тратить слова на этого варвара! Отступать поздно. Схватим его, а если будет сопротивляться, вонзим шпаги в его сердце.
Губы у Мотекухсомы дрогнули. Он обратился к донне Марине с просьбой перевести, что сказал этот представительный, богато одетый чужземец.
Марина кротким голосом объяснила повелителю, что пополокас не желают отступать от своих требований, и если он не последует за ним, то в них сейчас проснется дух бога войны. Тогда они впадут в неистовство и ацтеки осиротеют. Зачем лишать единственной надежды свой народ, добавила он. Еще страшнее, что подходит час, когда просыпаются чудовища грома и молний, чей голос жители Теночтитлана слышали вчера вечером. Они требуют жертв и утихомирить их можно только исполнив волю Малинцина. Что в этом преступного или недостойного, если великий Мотекухсома по собственной воле перейдет в покои своего отца, могучего Ашайякатла. В его положении ничего не изменится, он по-прежнему будет окружен домашними, весь строй его жизни, ежедневные утехи, любимые жены и наложницы будут приходить к нему по его первому же требованию, и, самое важное, порядок в мире, который столько лет так успешно поддерживал великий Мотекухсома, останется прежним. Если же он проявит строптивость, то это будет знак богам, что они ошиблись в нем. Они отвернутся от него, тогда нельзя даже представить, что случится со вселенной, с круговоротом дня и ночи, с блеском могучего солнца Тонатиу, воплощения Уицилопочтли. Если он считает подобный поступок унижением, он ошибается. Это испытание, которому желают подвергнуть его небожители перед великой наградой, которая ждет его. Сейчас они всего лишь наблюдают. Боги замерли…
Мотекухсома опустил голову и пробормотал, что он согласен.
Эта женщина, которая столько лет мечтала об этой минуте, которая жила несбыточной надеждой увидеть сломленного, погибающего от справедливого воздаяния ацтека, ни голосом, ни взглядом не выдала своих чувств. Так же кротко, не поднимая глаз на дона Эрнандо, она объявила, что великий государь вполне удовлетворен этими объяснениями и в интересах вселенной, страны и народа согласен сменить ставку и перейти на жительство в дом своего отца.
Советники и слуги, находившиеся в зале — их, несколько человек, держали под охраной два наших солдата, — застыли как истуканы. Они собственными ушами слышали, как тлатоани пошел на поводу у грубых и заносчивых чужеземцев. Он внял доводам нарядной, красивой змеи в женском обличии!.. Это Мотекухсома, ходивший с победоносными походами до самого побережья, окончательно подмявший под себя Тескоко, который никогда и нигде не позволял ронять свое достоинство разговорами с низшими по рангу людишками?!
Изумление охватило дворцовую стражу и сотни людей, которые толпами стекались на площадь, чтобы защитить честь и достоинство своего владыки, когда дворцовый глашатай срывающимся голосом объявил о перемене места пребывания живого солнца. Теперь оно будет светить во дворце своего отца… Обращенные к народу слова Мотекухсомы вызвали всеобщее смятение. Тлатоани подтвердил все сказанное глашатаем и добавил, что никто не волен ослушаться богов, чьим воплощением он является. «Радуйтесь, ацтеки! — провозгласил он. — Солнце по-прежнему будет вставать на востоке и скрываться на западе. Дни будут светлы, а ночи темны. Маис — набирать силу, полнить отборным зерном початки, а всемогущий Тлалок поливать землю благодатным дождем».
Без всяких помех мы добрались до дворца Ашайякатла. Еще не до конца уверовав в успех, прошли через ворота, которые тут же захлопнулись за нами. Только теперь смогли перевести дух. Я подал знак пушкарям. Вновь громовые раскаты холостых залпов потрясли округу, однако на этот раз лишь мимолетное шевеление пробежала по рядам собравшихся на площади горожан. Они ещё долго стояли перед воротами, немые, озадаченные, расходиться начали только в ранних сумерках.
Глава 8
Приглашенный писец долго разглядывал исчерканные страницы, потом покачал головой и признался.
— Простите, сеньор Диас, не могу разобрать. Лучше продиктуйте, что вы здесь вчера накарябали.
Берналь вздохнул, поднес к подслеповатым глазам протянутый ему лист бумаги. Первое предложение прочитал с трудом, по буквам, далее уже не глядел на бумагу. В памяти сами собой встали события, случившиеся после пленения Мотекусумы.
Он принялся диктовать.
«Весь свой обиход он перевел к нам — всех слуг и жен; по-прежнему продолжались его ежедневные купания, неизменно при сем присутствовали двадцать важнейших сановников и военноначальников; по-прежнему ему привозили дань из самых отдаленных провинций. Государственные дела тоже шли прежним порядком, не исключая судебных разбирательств, которые он осуществлял с двумя мудрыми старцами. Приговор объявлял в немногих веских словах. Даже церемониал, и тот не изменился: ищущие аудиенции проходили не через главные ворота, а в боковую калитку с обязательным там ожиданием. Там же просители переодевались в простую чистую одежду, снимали обувь, приближались с положенными словами и поклонами, потупя глаза, как того требовал этикет. Мотекусума и вида не подавал, что плен его огорчает…»
Писец на мгновение оторвал взгляд от бумаги и недоверчиво посмотрел на ветерана.
— Простите, сеньор Диас, но ваш рассказ сродни сказке. Такой могущественный государь вдруг стал кроток как овечка? Могло ли быть такое?..
— Знаешь, Хосе, стар я, чтобы выдумывать. Единственным утешением мне служат воспоминания о героических делах прежних лет. Все, как будто вчера произошло… Размышляю я и о похищении индейского монарха, о заключении его в оковы, казни его приближенных — все эти события, как живые, стоят перед глазами. Думаю о наших подвигах и все больше убеждаюсь, что не мы сами исполнили их, нами руководило провидение Всевышнего! Много здесь пищи для размышлений, в этом я согласен. Для сомнений тоже… Однако что было, то было. Я стараюсь изложить правдивую историю, и если она похожа на сказку, в этом нет моей вины. Кое о чем я умалчиваю, но это только в том случае, когда события касаются лично меня или когда я не знаю всей подноготной. Ведь я был простой солдат — из надежных, близких к капитан-генералу, но это совсем не значит, что мне было доступно все, что касалось планов и тайных замыслов дона Эрнандо. Об этом лучше было бы порасспросить донну Марину, но и она соврет, не дорого возьмет. Как тот же Гомара! Как он Кортеса расписывает — просто орел! Храбрейший и достойнейший кабальеро!.. Кортес тоже был себе на уме, всякое беззаконие творил, прикрывшись солдатским мнением, а королевский нотариус все его делишки оформлял как решение общего схода. Все равно я ему не судья. Я не из тех неблагодарных тварей, которые так и норовят укусить господина, стоит тому впасть в немилость. Не будь Кортеса, гнить бы нашим костям где-нибудь в кучах языческих жертв. У испанского короля не было бы Мексики. Это уж поверь мне — всем другим нашим идальго ацтеки быстро бы рога обломали, и неизвестно, чья бы взяла. Сам рассуди, как бы ты поступил, достанься на твою долю такая удача, сам государь огромной страны оказался бы в твоих руках?
— Прежде всего я убедил бы его — а то и заставил — креститься! — воскликнул взволнованный Хосе, молодой парень из аудиенсии. — Затем запретил все эти богомерзкие жертвоприношения, раздал бы награду все, кто участвовал в походе. Что еще, проверил бы отчетность по сборам налогов. Я даже не знаю — дел бы сразу навалилось невпроворот.
— Эх ты, глупая голова, также и мы рассуждали. Сразу потребовали дележки клада Ашайякатла и выдачи всякого иного довольствия. Кортес вмиг приструнил крикунов. Заявил, что этот клад — чужая собственность и все мы только гости в этом дворце, так что, будьте любезны, братцы, оказывать всяческое почтение хозяину и хозяевам. Каждое утро дон Эрнандо и высшие наши капитаны — обыкновенно Альварадо, Веласкес де Леон, Диего Ордас навещали Мотекусуму. Ты пиши, пиши… Осведомлялись о здоровье, о желаниях повелителя. Все это время мы были так услужливы и почтительны, что сам пленный монарх как-то заметил, что «плен — не беда, тем более что боги допустили это». Кортес строго наказывал за любое пренебрежительное слово, брошенное в укор нашему пленнику. Однажды Педро Лопес, стоя на страже возле его опочивальни, позволил себе во весь голос заявить разводящему: «Хотел бы я, чтобы это язычник, этот сукин сын, скорее околел. Из-за него доброму христианину выспаться не дают!» Мотекусума, видно, догадался, о чем идет речь и на следующий день пожаловался дону Эрнандо. Тот так разошелся, что приказал повесить беднягу Лопеса. Пришлось посылать делегацию к капитан-генералу… Еле-еле отговорили — Лопесу всыпали плетей. Вообще, Кортес был спокойный, выдержанный человек, любил пошутить. Когда рассердится, скажет только: «Чума бы вас разобрала…» Добавит: «Вот негодники!..» и на этом все дело кончалось. Но уж если рассвирепеет, то держись. Решений своих почти никогда не менял, а если от чего отказывался, то с умыслом — чтобы ему в ножки поклонились. Так и с Лопесом… Видишь, мы его всем войском попросили, в следующий раз он нас попросит…
— Ох, и бестия был этот Кортес! — воскликнул писец.
— Не без того, — кивнул Берналь. — Но ведь ты пойми, наши жизни висели на волоске. Случись что с Мотекусумой или сам он наберись отваги и прикажи ацтекам взбунтоваться, от нас бы только мокрое место осталось. Чтобы с головой в омут, на это любой дурак может решиться… А вот ты сумей все хорошенько обдумать и удачу подманить. Тут уж не до фанаберией… Почему Мотекусума смирился? Судить не берусь. Наверное, воля Божья, иначе не могу объяснить, почему такой могучий государь выдал на суд Кортеса своих военноначальников, обвиненных в нападении на Веракрус. С ними не церемонились, приговорили к смерти и на следующий день сожгли на площади перед дворцом. Семнадцать человек. Народу собралось… Все смотрели и помалкивали, сразу вся страна замирилась. Самого же Мотекусуму на время казни заточили в кандалы. Тот сперва начал возмущаться, затем покорился, затих и стал, как шелковый.
Покончив с казнью, Кортес лично снял с него оковы, принялся уверять, что по-прежнему любит его, как родного брата, и обещал покорить в его пользу ещё больше земель, нежели у него раньше было. Говорил, что Мотекусума может свободно посещать любой из своих дворцов, ежели ему этого захочется.
Выслушал Мотекусума эти слова и слезы потекли у него из глаз — отлично он понимал цену подобных обещаний и все же поблагодарил Кортеса за его доброту. Потом донна Марина попросила меня удалиться…
Что ещё могу сказать. Мотекусума был щедр — каждого солдата успел наградить. Мне, например, за верную службу досталась золотая цепь. Еще он подарил мне одну из своих жен. Патер Ольмедо окрестил её донной Франциской. Глянешь на нее, сразу видно, что благородного происхождения…
— Где же она теперь? — заинтересовался писец.
— Э-э, парень, в той круговерти, что завертелась в Теночтитлане месяц спустя не то, что жену, голову можно было потерять.
Старик примолк и долго смотрел в окно. Там, в пальмовой завеси покрикивала попугаиха — видно, чья-то, не дождавшаяся отпевания душа вселилась в неё и теперь мается, льнет к его дому. Он давно уже приметил эту пеструю птицу, подсыпал ей орешков. Пусть полакомится. Кто знает…
— И великодушие не было чуждо индейскому монарху, — неожиданно добавил он. — Когда кто-то из наших солдат украл какую-то безделушку из сокровищницы его отца, он заявил, что дарит нам этот клад с условием, что мы справедливо разделим его. То-то мы обрадовались! Заверили повелителя, что за справедливостью дело не станет…
* * *
Как только Берналь Диас оставил покои, в которых жил повелитель ацтеков, Мотекухсома укоряюще глянул на испанца.
— Какое следующее унижение ты приготовил для меня, Малинцин? Поверь, как человек я готов ко всему. Угроза смерти не страшит меня. Я вижу тебя насквозь, чужеземец. Теперь ты потребуешь от меня покорности и признания власти своего владыки, потом заставишь отказаться от своих богов и признать ваших, милосердных до такой степени, что они позволяют верующим заживо жечь людей. В чем тогда разница между вашими и нашими богами? Только в том, что наши не лицемерят, не взывают к справедливости, к всепрощению. Да, наши боги страшны для врагов, требовательны к отправлению обрядов, не знают пощады к предателям, но никто и никогда из наших небесных повелителей не объявлял жертве, что её лишают жизни во имя её же спасения. Немного у меня теперь осталось радостей. Я жду знамения, страдаю за свой народ, вот почему не выхожу из этого дворца, так как это послужит сигналом к началу резни, и в любом случае — победим мы или потерпим поражения — государство ацтеков будет уничтожено.
Кортес ответил не сразу, сначала прошелся по залу, потом только приблизился к возвышению, на котором располагался тлатоани, и сказал:
— Ваша милость, благодарю за откровенность. Что я могу ответить? В ваших словах много правды. Все правда!.. Кроме кощунственных замечаний, касающихся Иисуса Христа и святой Девы Марии, но я прощаю вам эти необдуманные упреки, так как понимаю, что свет истины пока вам не доступен… Однако оставим высокие материи — нам ли судить о божественной сущности! Согласно нашему учению мирянину не дозволено толковать вопросы, относящиеся к основам веры. У нас говорят: богу — богово, а кесарю кесарево. Давайте обратимся к нашим земным делам…
— Какое святотатство! — воскликнул Мотекухсома. — Замолчи, насылающий хулу на богов!.. Разве не на небесах решается, кому отдать власть в Мехико, а кого ввергнуть в прах? Как можно отделять одно от другого? — он с удивлением глянул на женщину-переводчицу.
На этот раз та не опустила глаза и ответила сама.
— Пополокас считают, что их бог надеется на человека и любит его. Христос верит, что люди сами способны найти истину, постоять за себя. Они должны бороться за то, чтобы душа наша — вторая сущность — после смерти попала в чудесный сад, где будет испытывать вечное блаженство, а не томиться в гнусной стране Миктлане, куда попадают все, кроме воинов и беременных женщин, вынашивающих в своем чреве тех же воинов. За что им такая честь, повелитель? Что хорошего ваши воины сделали для всех племен, населяющих четыре части света?
— Помолчи, женщина, — поморщился Мотекухсома. — Ты бредишь? Тебя не страшит гнев богов? Тебя первой следует принести в жертву Тлалоку, ибо из-за таких, как ты погибнет мир, обрушится небо и воды затопят землю.
— Все это я уже слышала. В Чолуле обманутые жрецами люди тоже начали выворачивать камни в основании храма Кецалькоатля. И что же? Только пыль столбом.
Кортес встревоженно переводил взгляд с Малинче на Мотекухсому, потом резко прикрикнул.
— Чтоб вас, а ну, замолчать! — когда донна Марина повернулась к нему и неуклюже сделала реверанс, он добавил. — О чем вы говорили?
— О земных делах, ваша милость. О том, что клада отца светлейшего владыки Мехико далеко не достаточно, чтобы утолить нашу жажду золота.
— Вот именно. Добавь, чтобы он распорядился, чтобы золото доставили со всей страны. И пусть не скупятся!..
Войсковой раздел золота Ашайякатла едва не кончился открытым бунтом. Солдаты, получив приказ выносить сокровища, тут же приволокли из обоза давным-давно припасенные гири — ацтекам понятие веса было незнакомо — и с нескрываемым лихорадочным блеском в глазах, в присутствии королевского нотариуса принялись взвешивать драгоценные изделия. Тут же их переливали в бруски. В плавильню шло все подряд: изящно изготовленные уточки, фигурки ягуаров, орлов, койотов, колибри, нагрудные пластины, металлические части шлемов. Рубили на части жезлы, изображающие стебли кукурузы, ломали массивные браслеты, изумительной работы нагрудные пластины… Где можно было, выковыривали драгоценные камни. Глазки священных птиц колибри не поддавались — их так и бросали в тигель.
Общий вес сокровищ оказался равным 162000 песо[46] Солдаты не могли найти себе места. Затаив дыхание, следили за каждым взвешиванием, переговаривались тихо, ожидая раздачи, время от времени сплевывали на каменные плиты. На долю каждого, добравшегося до Теночтитлана, приходилась умопомрачительная сумма примерно по полтыщи песо на брата. В Испании такие деньги мало кому снились!
Сход собрался сам собой. Без долгих разговоров постановили — золото делить немедленно, на глазах у войска.
Тут во дворе появился Кортес. Шел он во главе офицеров, лица у всех были суровы и озабочены. Прежде всего капитан-генерал приказал солдатам построиться. Люди неохотно, собравшись поротно, замерли вдоль стен. Заметив в одном из рядов покинувшего пост бойца, Кортес тут же приказал выдать ему полсотни плетей. Тот завыл от отчаяния, однако кто-то из более опытных товарищей шепнул ему — не ори, а то доли лишат. Тот сразу повеселел, охотно зашагал в караулку.
— Ребята, — спросил капитан-генерал, — я выполнил свое обещание, которое дал в тот день, когда мы подняли якоря и отправились в плавание к Юкатану?
Общий восторженный рев был ему ответом.
— Почему же вы не выполняете своих? Вы обещали хранить мне верность и смело следовать за своим командиром, сражаться храбро, безропотно сносить лишения. Тогда по делам вашим будет награда. Славу вы уже заслужили. Теперь золото — вот оно перед вами.
Он указал на солидный штабель золотых слитков. Солдаты заревели ещё громче.
— Я слышал, кто-то неразумный предлагает поделить все поровну. Но так поступают разбойники, а мы, как вы знаете, находимся на службе у его католического величества, короля нашего дон Карлоса. Будет ли справедливым лишить его причитающейся доли?
«Об чем говорить! — закричали в строю. — «Король и есть король, он наш защитник!»
— Далее я хотел бы напомнить о заключенном с вами договоре, по которому моя доля тоже составляет пятую часть всех доходов. Был такой уговор?
В рядах несколько смешались, там уже менее охотно закричали: «Был! Как не быть!»
— Теперь вспомните, кто вложил собственные средства в снаряжение экспедиции, кто отдал приказ отправиться в плавание. Я веду речь о губернаторе Кубы, его милости Диего Веласкесе. Когда вы записывались в войск, вы что, не знали об этом?
Теперь войско совсем примолкло. Во дворе наступила угрюмая, напряженная тишина.
— Четвертый пай, опять же согласно уговора, должен быть отдан пушкарям, арбалетчикам, аркебузирам и гарнизону Веракруса. Об этом тоже был разговор. Правильно я говорю, — обратился Кортес к королевскому нотариусу.
Тот подтвердил его слова.
— Так что, ребята, ваша доля — пятая часть всего золота. Вот её вы вправе делить по своему усмотрению. Поровну так поровну…
Солнце палило нещадно — был полдень. Во дворце Ашайякатла царила удивительная, нестерпимая тишина. Горожане, до сих пор с тревогой и некоторой досадой, приглядывающиеся к высоким стенам, за которыми разместились вызывающие неприязнь шумные, крикливые пополокас, с недоумение поглядывали в ту сторону. Многие ацтеки выбрались на крыши домов, на рынке как-то сразу спала торговля, жрецы высыпали на ступени храмовых пирамид. Во дворце словно все вымерли. Горожанам хотелось верить в подобное чудо, но чужестранцы были изворотливы, коварны, непобедимы. Голоса подвластных им чудовищ напоминали гром и заливистый боевой клич…
Между тем солдатская братия медленно приходила в себя. Многие ещё удивленно помаргивали, когда кто-то громко и изумленно спросил:
— Это что, выходит по сто песо на брата?
Следом тишина треснула. Единый, немыслимой силы вопль вырвался из сотен глоток. Жрецов словно ветром сдуло со ступеней пирамид, мужчины бросились за оружием, ближайший рынок мгновенно опустел. Рев повторился, потом перешел в громкий, нестройный гул.
Солдаты подступили к самом Кортесу, начали орать — за что страдали? За что столько мук приняли? За эти жалкие сто песо?! Да они по заемным распискам, по закладным уже больше должны. Что на эти деньги купишь? Несколько рабов? А землицу, инвентарь, а семена для посадки, лес для постройки? Это что, издевательство? По сто песо!.. Подавись ты сам, живоглот, этой подачкой!..
Кричали долго. Кортес терпеливо слушал, потом, когда шум немного стих, громко объявил.
— Вы во всем правы, ребята! Эта сумма ничтожна и унизительна!..
Тут все радостно загалдели — вот, сам же понимает, а тогда чего ж? Чего, чего! Тут, брат, дело хитрое. Помолчите, вы, простачки, дайте капитан-генералу сказать.
— Что и говорить — насмешка, а не деньги. — Кортес поднял руку, голоса мгновенно стихли. — Но кто сказал вам, что это все, чем я собираюсь расплатиться со своими храбрыми воинами. Если, конечно, кто-то вот сейчас, здесь, в сердце Теночтитлана, собирается уйти в отставку, то я готов щедро отблагодарить его, и пусть он ступает за ворота дворца. Селится где ему угодно, сеет кукурузу, лес закупает, семена… Есть желающие вот так сразу поселиться среди туземцев? Вижу, подобных дураков среди вас нет. Наш поход ещё не кончен. Никто вас, ребята, от присяги не освобождал. Сами видите положение не простое, но добились мы немалого. Это золото, эти сто песо только начало. Мы всего как год, как вышли из Сантяго, за это время я хотя бы раз обманул вас? Обманул?..
«Чего не было, того не было! — закричали в толпе. — Мы верим вам, сеньор Кортес!»
— Вот я и говорю, эта сотня песо не более, чем премия, первый шажок к богатству и процветанию. И, главное, к спокойствию, которое мы должны установить на этой земле. Есть в Мехико золото? Есть, я вас спрашиваю?
«Что есть, то есть! Золотишка здесь хватает, это точно!..»
— Кто из вас, наученный горьким опытом, скажет, что взять его просто? Надеюсь, среди вас, храбрецов, нет таких недоумков? Взять золото надо и можно, только спешить нельзя. Император Мотекухсома уже отдал приказ, чтобы со всех концов страны в наш лагерь начали доставлять золото и прочие припасы, как продовольственные, так и одежду, утварь. Одним все, что нужно для обзаведения…
Несколько голосов нестройно грянули «ура», и тут же затихли. Основная масса солдат помалкивала. Верить они верили, но каждый из них прекрасно сознавал, что окончательная дележка, если она даже и случится, вполне может пройти без них. Вон с какой злобой ацтеки на часовых поглядывают. Того и гляди исподтишка стрелу пустят или камень из пращи метнут. Когда лишишься головы, то и сокровища, о которых так сладко пел Кортес, не потребуются. С другой стороны, в сражении можно уцелеть, а взбунтоваться сейчас — верная гибель. Кортес никому не спустит попытку устроить мятеж.
Когда в конце концов королевский нотариус подвел итог, оказалось, что более сотни солдат отказались от своей доли. Кое-кто заявил — пусть дон Эрнандо подавится этим золотом.
— Вот и хорошо, сеньор, занесите этот металл в мою долю. Я не подавлюсь.
Вечером, уже разоблачившись для сна, он сел на кровать и неожиданно задумался. Ну и денек выдался! Мотекухсома начал проявлять строптивость, солдаты едва не подняли бунт… Только успевай поворачиваться. Однако в частой смене воспоминаний не хватало какой-то мелочи, сопряженной с той острой тревогой, которую он вдруг почувствовал сегодня. Что-то крайне озаботило его — какая-то пронзающая насквозь угроза, по сравнению с которой все остальные заботы казались детскими играми. Он потер лоб, глянул на уже оголившуюся, накидывающую на себя ночную рубашку индеанку, и вздрогнул.
О чем она так долго разговаривала утром с Мотекухсомой? Вот какая загадка все это время подспудно не давала ему покоя. Малинче решила переметнуться на другую сторону? Вот эта даже в первозданном виде нарядная женщина? Кортес залюбовался — все в ней являлось украшением: и маленькая грудь, и руки — особенно руки! — нежные, словно без косточек; и округлый мелкий живот, так аппетитно оттянутый к поросшему уголку. И смуглая, с золотистым оттенком кожа, мягкая до такой степени, что, казалось, сама льнула к рукам.
Дон Эрнадо вздохнул — не надо терять головы. Пути назад у неё нет. О чем же тогда они беседовали? Она позволила себе маленькую женскую месть, решила унизить владыку?
— О чем сегодня ты разговаривал с Мотекухсомой? — спросил он, когда Малинче залезла под покрывало и свернулась клубочком.
— Он спросил, почему я служу вам? Неужели не боюсь гнева богов?
— Что ты ответила?
— Я не успела. Ты, милый, приказал нам замолчать.
— Хорошо, что бы ответила ему? Что не боишься?..
Малинче потерлась щекой о его руку, задумчиво глянула в низкий, деревянный, покрытый искусной резьбой потолок. Все те же головы змей составляли основу орнамента. Они вплетались в геометрические фигуры. На центральном плафоне была вырезана маска Тлалока, повелителя дождя.
— Очень боюсь… — наконец вымолвила индеанка.
— Поэтому и стараешься при каждом удобном случае унизить его?
— Ах, милый, ты ошибаешься, если считаешь, что я живу местью и воспоминаниями. Иногда прошлое мне кажется чужим сном — я не могу поверить, что все это когда-то случилось со мной. Мне порой бывает жаль правителя ему не дано узреть свет истины. Для этого надо много страдать, испытать жуткий страх, ожидание, что вот придут купцы из Теночтитлана и поволокут на свое капище, где умелый жрец ловко вырвет твое сердце. Не надейся, Мотекухсома никогда не признает учение Христа, не поклонится Деве Марии. У него нет выбора. Он просто не в состоянии обмануть своих богов. На это его не хватит. Это очень важно понять… И тебе тоже. Сначала я никак не могла поверить, почему ваши боги позволяют человеку поступать как угодно, даже вопреки их установлениям. Патер Ольмедо разъяснил, что каждый волен действовать так, как ему заблагорассудится — отмщение ждет его на небесах. Двуногая тварь даже может грешить!.. В этом так трудно разобраться. Только со временем, приглядывая за тобой, за другими испанцами, я догадалась, что вы способны поступать так, как не велено! Это было потрясающее открытие!..
Она перевернулась на спину, игриво изогнулась — под тонким, хлопчатобумажные покрывалом заманчиво очертился изгиб её бедра. Протянула к Кортесу руки, однако тот машинально отвел их в сторону.
— Продолжай! — повелительно сказал он.
— Тебе интересно, любимый? — удивилась индеанка.
— Да.
Женщина сразу села в постели, подобрала колени, обхватила их руками. Лицо её внезапно посуровело.
— Когда я учила кастильский язык, мне никак не давалось несколько слов, означающих «обманывать», «вводить в заблуждение», «дурачить», а также «врать», «лгать». Я никак не могла понять, что означает слово» ложь», когда кто-то сознательно говорит неправду. Как это, удивлялась я, сознательно говорить неправду? Это значит поступать вопреки повелениям богов? Да кто ж осмелится на такое!.. Любому моему соотечественнику понятно, что такое хитрость, находчивость — на войне без них нельзя обойтись. Боги приветствуют подобные качества… Кстати, известно ли тебе, почему мои собраться за редчайшим исключением не воюют в темное время суток? Потому что в это время небожители отдыхают и не могут следить за развитием военных действий. Тот, кто вопреки установленному порядку, не имея знамения или какого-либо другого свидетельства воли богов, посмеет напасть на противника после захода солнца, должен быть наказан. Люди, как полагают наши старейшины, всего лишь исполнители решений небесного суда, неотвратимого и скорого. Знаешь, как здесь, в Мехико, на всем пространстве от большой воды на восходе до большой воды на заходе начинаются войны?
Например, тройственный союз решил подчинить себе какие-то земли или город. Первым делом туда направляются три посольство. Первое — из Тночтитлана, возглавляемое какахноуцином. Он передает требования присоединение к тройственному союзу, разрешение их купцам свободно посещать эту территорию. Следующее условие — противоположная сторона обязуется поместить в своем главном храме изображение Уицилопочтли и, наконец, согласие присылать «добровольные дары». Тут же вручался список даров. Если неприятель отказывался, то глава посольства вручал местному верховному вождю щиты и копья — «чтобы вы не могли сказать, будто мы напали на вас, когда вам нечем было защищаться».
По прошествии месяца, то есть двадцати, дней прибывало новое посольство, теперь из Тескоко во главе с ачкуацином. Если и на этот раз следовал отказ, то ещё через месяц третье посольство из Тлакопана. Если им тоже не удавалось договориться, то начиналась война. Большей частью все решалось в одном решительном сражении. Вести долгую маневренную войну невозможно из-за отстутствия обоза. Боевые действия заканчивались в тот момент, когда нападавшие захватывали главный храм неприятеля. Это означало, что «справедливость восстановлена», и Уицилопочтли одержал победу на вражескими богами. Теперь побежденные отправляли посольство в Теночтитлан. Они «признавали свою вину» и просили установить над ними опеку. За «охрану» они готовы были присыласть столько-то «даров». Начинался торг, однако самым ценным военным трофеем считались пленные — их приносили в жертву.
В этом, по мысли ацтеков, сказывается великий порядок, который объединяет все живое и мертвое в единое целое. В этом источник животворящей силы. Место человека исполнять записанное предками. Они получили свои откровения от богов. На моей памяти не было случая, чтобы человека, предназначенного в жертву богам, пришлось бы тащить к жертвенному камню силой. Такова воля неба — этим все сказано. Дедушка с гордостью рассказывал мне, что давным-давно некий вождь тласкальцев по имени Тлауиколе, попавший в плен к ацтекам, был назначен в жертву Шипе. Это великая честь, её удостаиваются только славные воины. Обреченному вручают тупое или деревянное оружие, чтобы он мог сразиться с храбрейшими из ацтековов. Тлауиколе защищался так успешно, что никто из нападавших не смог одолеть его. Ацтекский правитель прервал обряд и предложил чужому вождю свободу и высокую должность в его армии. Тот согласился принять участие только в одном походе, после чего заявил, что готов лечь на жертвенный камень. Боги жаждут полакомиться моим храбрым сердцем, сказал он, пусть так и случится.
Кстати, если тебе случится попасть в руки ацтеков, тебя тоже ждет подобная участь. Они сохранят тебе жизнь до месяца «тлакашипеуалистли», что означает «сдирание мяса с человеческих костей».
Дон Эрнандо невольно поежился, а женщина между тем продолжила.
— Так повелось издавна, так жили наши предки, живем мы. Это всегда казалось справедливым… Нужно очень много перестрадать, чтобы усомниться в подобном порядке вещей. Понимаешь, я не хотела, чтобы с меня живой сняли кожу… Меня всю жизнь убеждали — ты должна испытывать радость оттого, что твоей плотью насытятся боги. Но я её не испытывала. Я боялась, я тряслась от ужаса, наконец решила, что это несправедливо. Почему все несчастья сыплются на мою голову? Кто в этом виноват? Спасением было слово Христа. Патер Ольмедо объяснил, что человеческие жертвоприношения — страшный грех, они противны природе человека. Однако эта истина не сразу открылась мне — я не могла понять, зачем богам оказывать помощь людям, хранить мировой порядок, если те не будут питать их кровью жертв? В ту пору я буквально места себе не могла найти, жила чувством мести и любви к тебе. Я сразу почувствовала твою истинную сущность, пусть даже ты и смертен. Ты был способен разрушить Теночтитлан, и я должна помочь тебе. Но жажда мести не лучшее состояние души, так объяснил мне патер Ольмедо. Он был прав. Однако испанцы тоже оказались жестоки. За кусок золота они готовы на все. Ты исключение среди своих соотечественников, и стоит тому же Педро де Альварадо добраться до моего родного Паинале, он там камня на камне не оставит.
Голос Малинче дрогнул, глаза расширились. Она указала рукой на выход.
— Свет Христова учения настиг меня ночью… Дева Мария пришла ко мне во сне после бойни в Чолуле. Кровавая слеза стекала у неё по щеке… Я разрыдалась, бросилась на колени. Санта Мария приблизилась, погладила меня по волосам и вдруг заговорила. Ясно так выразилась на науатль… Понимаешь? На моем родном языке: «Уймись, дочка. Я прощаю вину твою в погибели тысяч заблудших душ. Все вы дети мои, за всех страдал Христос, но ни за кого он не в силах принять решение. Он может подсказать, направить, указать путь, но заставить поступать по совести — нет. И не надейся!.. Каждый волен действовать по замыслу своему, по хотению, по страсти. Каждый волен грешить и каяться. Ему отмщение, он воздаст».
Индеанка неуклюже сползла на пол, встала на колени и принялась взахлеб молиться. Она часто осеняла себя крестным знамением. Латынь в её устах звучала неправильно, с ошибками в ударениях и падежах — дон Эрнандо оторопело отмечал все погрешности. Видно, выучила «Отче наш» на слух — эта мыслишка ещё успела скользнуть в его сознании, затем, подчиняясь неодолимому влечению, он встал рядом с ней, глянул на крест в углу комнаты и, склонив голову, в такт с голосом невенчанной жены забормотал: «…да святится имя твое, да приедет царство твое… Амен».
Утром за завтраком дон Эрнандо, не глядя на Малинче, неожиданно спросил.
— Значит, считаешь, что мне не удастся обратить Мотекухсому в христианство.
— Нет, милый. Он, конечно, мелкая душонка, но все же не мразь. Все-таки он — государь, он — ацтек. Если бы его можно было оставить в покое, он, возможно, когда-нибудь уверовал бы в Христа, но в нынешних плачевных обстоятельствах вряд ли.
— Это мы ещё посмотрим, — задумчиво ответил дон Эрнандо.
* * *
С того дня золото потекло к нам сначала по каплям, в виде подарков частных лиц, затем ручейками как подношения от различных городов верховному владыке Мотекухсоме, вступившему, как утверждала официальная точка зрения двора тлатоани, в непростые и долгие переговоры с послами великого заморского владыки. Затем золото обрушилось лавиной, сдержать которую было невозможно… Его количество производило ошеломляющее впечатление, но я добился своего, удержал людей от разрушительного безумия, которое охватывает цивилизованного человека при виде золота.
Во дворце не оказалось подходящего помещения, чтобы складывать поступающие сокровища — я приказал складировать его в одном из внутренних дворов — там, где присылаемые изделия переливали в бруски. На дворе неуклонно росли три штабеля, скоро они превысили высоту человеческого роста. Люди привыкли к ним, и пост возле этих груд считался самым утомительным. Во дворе днем и ночью горела плавильная печь.
Занялись мы и строительством бригантин, способных ходить по озеру Тескоко. Парусное вооружение и необходимые железные части были доставлены из Веракруса, где комендантом после гибели Эскаланте был назначен Гонсало де Сандоваль. Вот в ком я нашел верного друга и помощника. Был Гонсало человек видный — представительная фигура, белокурые, ниспадающие на плечи волосы, борода, завившаяся золотыми колечками… Он был храбр и разумен и что очень важно — осторожен. Однако в нужный момент умел и решительность проявить. Появившись в Веракрусе, он сразу навел порядок среди гарнизона, в котором после нападения ацтеков, начались панические настроения. Первым делом Гонсало возвел виселицу и гауптвахту, затем объявил о раздаче служащим в Веракрусе причитающейся им доли, после чего смутьяны унялись.
Мотекухсома, всю зиму и начало весны пребывавший в меланхолической задумчивости, сразу повеселел, когда первая бригантина, вскинув парус, прекрасной птицей ходко прошлась по озеру Тескоко. Множество народу высыпало на берега, гребцы на шустрых индейских пирогах при виде нашего корабля открывали рты и выпускали из рук весла. Кое-кто, набравшись храбрости, пытался соревноваться с нашей красавицей в скорости. Сил у них хватало на какие-нибудь полчаса, затем лодки заметно отставали, и индейцы начинали грозно вопить и потрясать кулаками.
Жрецов, пытавшихся было объявить строительство кораблей, противным воле богов, унял сам Мотекухсома. Приглашение посетить спущенную на воду бригантину он вначале принял недоверчиво, потом обрадовался, как ребенок, и во время прогулки по озеру неотрывно стоял на баке. Заглядывался на вздувшиеся паруса, на пенистые волны, расходившиеся от бортов. Через неделю правитель приказал устроить охоту на противоположном берегу Тескоко, куда решил отправиться на бригантине. Охота выдалась удачная. Все было организовано, как в лучших охотничьих угодьях какого-нибудь европейского монарха. Егеря и загонщики были в одноцветных мундирчиках, охотники тоже были разодеты на славу. Берналь рассказывал, что соколы в местных сосновых лесах просто на удивление — крупные, ловкие, быстрые. Один из охранявших Мотекухсому солдат, указывая на сидевшего на вершине сосны хищника, в присутствие повелителя обмолвился, что у него на родине за такого сокола гору золота не пожалеют. Только сначала надо научить его приносить сбитую на лету дичь. Император заинтересовался — неужели за морем есть мастера, которые могут сокола приручить? Еще и дичь бить на лету и приносить её хозяину? Солдат возьми и брякни — был бы сокол, а уж он знает, как с ним поступить. Будет как шелковый, сам на руку садиться станет. Хотя бы вот тот, который на сосне сидит. Чтобы вы думали! Мотекухсома сказал что-то по-своему, и его егеря уже через два дня приволокли эту птицу во дворец Ашайякатла.
Я не поверил, переспросил — ту самую птицу? Диас подтвердил — точно так. Удивительная страна, где люди готовы выполнить любое, даже самое невыполнимое приказание повелителя.
Особенно досаждал нашим ребятам императорский кот, был он не чета нашим зверюшкам — огромный, злобный, крикливый. В марте никому из назначенных в ночные караулы покоя не давал. Вопил в садах Мотекухсомы так, что на полгорода было слышно.
Если бы все наши беды ограничивались криками оцелота, я бы день и ночь молил Деву Марию за ниспосланную удачу. К сожалению, обстановка в городе и стране накалялась. Заговор Какамацина, правителя Тескоко нам удалось предотвратить, сам Мотекухсома приказал вязать дерзкого племянника — теперь мы с тлатоани плыли в одной лодчонке. Сохранение спокойствия в стране было нашей главной заботой, тем более, что посланные мною по указаниям Мотекухсомы экспедиции действительно обнаружили золотоносные руды. Нашли они и реки, где даже недолгая промывка песка дала отличные результаты. Золота в Мехико было вдосталь, но ещё больше наши рудознатцы обнаружили серебра, однако ясно, что взять все эти богатства можно только в мирной стране. За компанию с Какамацином я посадил на цепь и всех остальных, живущих в Теночтитлане племянников тлатоани, даже брата его Куитлауака. Все равно брожение в городе не утихало. Я постоянно твердил повелителю — у меня есть точные сведения, что в город начинаю прибывать воинские отряды. Вот, например, его племянник Куаутемок явился в Теночтитлан. С какой целью? Далее такое не может быть терпимым. Жрецы по-прежнему продолжают совершать человеческие жертвоприношения, посему я прошу разрешения водрузить над городом святой крест и на вершине самого большого теокали построить часовню в честь Иисуса Христа и Девы Марии.
Мотекухсома был так напуган, что мне не составило большого труда принудить его дать соответствующие распоряжения. Вообще, после той охоты он больше не выказывал желания выходить из дворца. Даже прогулки под парусом его не прельщали. Целыми днями пребывал в меланхолии, государственные дела справлял вяло, поток посетителей резко ограничил, начал жаловаться на здоровье. Я откровенно поговорил с ним, намекнул, что если он надумал добровольно уйти из жизни, то пусть вспомнит о богах, которые возложили на него обязанность хранить и беречь Мехико. В стране следует начать проводить реформы, с этим он, надеюсь, не будет спорить? Тот слабо кивнул. Пора, продолжил я, решить вопрос о том, куда дальше двигаться державе ацтеков — к свету или она все глубже и глубже будет погружаться в трясину язычества. Целый мир теперь открылся перед его народом и войти в него надо так, чтобы другие нации признали его величие. Можно ли этого добиться без крещения страны? Без признания величия могущественного монарха испанского, владеющего всеми частями света.
Мотекухсома холодно слушал меня, потом ответил, что величие ацтеков было достигнуто их собственными усилиями, под руководством своих вождей. Познакомившись с тобой, Малинцин, продолжил он, я готов признать, что ваш повелитель — могучий государь, раз у него в услужение есть такие подданные, как ты, однако будет ли честь ему, Мотекухсоме, если он изменит богам, которые издавна хранили ацтеков и передаст страну под власть иноземного правителя?
Пришлось с помощью Марины обрисовать ему ужасные картины ада, которые ждут не только его, но и его людей, если он будет продолжать упорствовать в грехе. Он было дрогнул, потом опять затаился. Что ж, со временем можно образумить любого язычника…
Мы, невзирая на вопли жрецов и собравшуюся, явно испытывавшую недобрые намерения толпу, выкинули Тлалока из его капища, отмыли стены пол и потолок — пахло в этом языческом храме как на бойне в Кастилии — и поставили у входа большой деревянный крест. Соорудили алтарь, украсили его цветами. Все закончилось очень удачно.
Спустя несколько дней после этого события Мотекухсома неожиданно повеселел, заинтересовался своими женами, позволил посадить в клетку кота. Как-то я застал его за разглядыванием картинок, присланных с побережья. На них были нарисованы корабли под парусами, белые люди, пушки, кони.
Заметив меня, он вздрогнул, словно я застал его за неприличным занятием, и торопливо сказал:
— Наверное, Малинцин, тебе уже известно, что неподалеку от вашего города высадилось много новых чужеземцев. Они уже разместились в Семпоале.
Первое, что я почувствовал — это несказанное облегчение. Наконец-то пришла подмога, но уже в следующее мгновение ужасное ощущение беды пронзило меня. Если это подкрепления, то прибыть они могут только с Кубы. Значит их послал Диего Веласкес. Первым делом они арестуют меня и всех моих сподвижников, и все это золото, ради которого мы столько страдали, достанется этим ублюдкам?
Уже к вечеру от Сандоваля прибыл гонец, подтвердивший тревожное известие. На побережье высадился Панфило де Нарваэс с более, чем тысячным войском. Он имеет приказ арестовать бунтовщика и смутьяна Кортеса. Нарваэс послал делегацию, чтобы принудить к покорности коменданта Веракруса, однако тот скрутил всех посланцев во главе со священником. Теперь их несут сюда в Теночтитлан. Сандоваль рассудил, что капитан-генералу лучше все узнать из первоисточника.
Глава 9
Доставленные в Теночтитлан патер Гевара, нотариус Вергара и сопровождавшие их солдаты долго не могли прийти в себя от изумления. С побережья, на спинах могучих таманов прямо в столицу великого государства, в объятия соотечественников — это действительно может кого угодно лишить дара речи. Уже само путешествие — мощеные дороги, мосты, сказочные города, обилие жителей — настолько сильно повлияло на решительность патера, что он уже не настаивал на немедленном аресте Кортеса. Когда же он и его люди увидали горы золота, высившиеся во дворе, их едва удар не хватил. После этого со святым отцом и нотариусом уже было куда легче договориться, тем более, что пара золотых цепей вообще склонили этих людей на его сторону. Тогда дон Эрнандо задал вопрос: что предпочтительнее — устроить междоусобную войну на глазах язычников и потерять все, что верные слуги короля тяжкими трудами добыли в Мехико, или попытаться договориться с Нарваэсом о разделе страны. Пусть каждый осваивает доставшуюся ему часть…
Патер воскликнул, что он со всей радостью принимает второе предложение и попытается уговорить Панфило решить дело миром, только боюсь, добавил он, что Нарваэс не тот человек, который склонен к согласию.
Кортес тоже был наслышан об этом истукане. Роста Нарваэс был двухметрового, бас такой силы, что, казалось, он исходил не из человеческого горла, а из глубокой пещеры. Наружности приятной, широкоплеч, лицо продолговатое, борода рыжая. Был богат, но снискал репутацию скупца, некоторые утверждали, что умен, но, как говорится, без царя в голове. Легкомыслие его вошло в поговорку. Горе-начальник, менее всего заботившийся о солдатском провианте.
Удивительно, но даже после того, как патер сообщил, что они приплыли на восемнадцати каравеллах, у Нарваэса восемьдесят всадников и столько же аркебузиров, сто пятьдесят арбалетчиков и около семисот человек пехоты, дон Эрнандо даже дуновения робости не испытал. Людей, конечно, у него было маловато, и, чтобы отправиться в военную экспедицию, их придется делить, однако на его стороне были другие весомые преимущества. Прежде всего опыт, который был накоплен в прошлогодней кампании, и горы золота. Так что, по мнению Кортеса, их силы можно было считать уравновешенными. Следовательно, все дело за удачей, а эта капризная птица пока не покидала его. Он решил написать Нарваэсу. В послании дон Эрнандо почтительно согласился назвать его своим начальником. Если, конечно, он предъявит королевские полномочия… Если нет, то Кортес готов признать его сподвижником и разделить с ним плоды завоевания.
Куда более грозной казалась дону Эрнандо перспектива потери контроля над Мотекухсомой. С собой в поход брать повелителя немыслимо — это дело они, испанцы, должны были решить между собой. Оставлять в Теночтитлане, на пороховой бочке тоже несподручно. Положим, запугать его он сумеет объяснит, что пришлые пополокас церемониться с его подданными не будут и начнут жечь и уничтожать все, что встретят на пути. Беда в том, что у Кортеса под рукой не было человека, на попечение которого он мог бы оставить Мотекухсому. Сандоваль был далеко, он стойко оборонял Веракрус. Диего Ордас, Веласкес де Леон?.. Они были нужны мне в походе против Нарваэса, тем более, что де Леон приходился близким родственником губернатору Кубы, и его слово будет очень веским доводом в пользу дона Эрнандо. Педро де Альварадо? Умишком недалек, не в меру жесток, жаден до золота… Как исполнитель хорош, но дай ему самостоятельность, он таких дров наломает!.. С другой стороны, он единственный пользуется нескрываемым авторитетом у индейцев. Если кого-то из чужеземцев можно, хотя бы в шутку, признать «богом», то, конечно, Альварадо. За ним по Теночтитлану народ толпами ходит. Не могут наглядеться на его золотую шевелюру и улыбающееся лицу. Надо же, Тонатиу, то есть, «Солнышком» прозвали!.. За последнее время он, правда, набрался опыта. Должен справиться. Марина ему поможет.
Кортес отправил к Нарваэсу свою делегацию, которую возглавил патер Ольмедо. Священника даже этот солдафон обидеть, тем более посадить под арест, не решится. Патера сверх меры нагрузили золотом. Сам Кортес с сотней солдат отправился следом.
Шли ходко. Нарваэс ещё не успел вволю попировать в Семпоале, как они уже подошли к пограничной реке, где встали лагерем и стали ждать результатов переговоров.
Первые же известия, дошедшие до Кортеса, подтвердили самые худшие опасения. Нарваэс первым делом забрал всех невест, которых местный касик передал нам в жены. Вел себя нагло, не соблюдал ни приличий, ни местных традиций. Тогда у дона Эрнандо впервые мелькнула крамольная мысль — кто же придет на смену Нарваэсу, если его, Кортеса, сменит это грубое животное. На мгновение ему стало жаль Мехико…
* * *
— Что же ты не пишешь? — спросил Диас.
Писец мечтательно смотрел в стену, взгляд его остекленел, кончик гусиного перышка чуть подрагивал в руке.
— Должно быть Теночтитлан был самым удивительным городом на земле? — задумчиво спросил он. — Прекрасней Гватемалы или Севильи…
Старик не ответил. Так они сидели некоторое время в тишине, погруженный один в воспоминания, другой в мечты. Наконец ветеран вздохнул.
— С перевала, неподалеку от Чолулы, мы впервые увидели его. Город открылся во всей красе. И вся округа… Дамбы, сады, плавающие огороды. Никто из нас слова вымолвить не мог. Вода в Тескоко была чистейшего бирюзового тона. Поверх этой шири парили огромные ступенчатые пирамиды, блистающие белизной башни, кварталы домов. Вокруг, по всему береговому оружью тоже были видны города. Башни, пирамиды, дома… Каждое сооружение в Мехико было сдобрено мозаикой. Возле храмовых лестниц, ведущих наверх, высились резные каменные глыбы — то в виде головы змеи, то ягуара… Чудеса там были рассыпаны на каждом шагу. Как-то мне досталась вырезанная из нефрита головка молодой женщины размером с грецкий орех. Продавец объяснил, что это изображение покровительницы кукурузы. Спустя некоторое время в Теночтитлане мне попалось огромное, в два твоих роста, изваяние головы той же богини, сделанное из крепкого черного камня. Я не поверил глазам — оба изваяния совпадали во всем, в самой малюсенькой детали. Знаешь, в чем волшебство? Нефритовая головка была такая свеженькая, так похожа на Цветок…
— На что похожа? — спросил Хосе. — На какой цветок?
— Это я так, к слову, — поперхнулся Берналь. — Я хотел сказать, личико было миленькое, приветливое, а эта глыба улыбалась совсем по-другому грозно и снисходительно, смотрела куда-то вдаль. Сразу видно, богиня… А ведь все в точности сходилось, до последнего завитка. Довелось мне видеть в Теночтитлане и священный для всех ацтеков камень, называемый ими «календарь»… Что-то мы с тобой, Хосе, отвлеклись. Пиши!
Молодой человек — был он плечист, светловолос — встрепенулся, взгляд его осмыслился. Он обмакнул кончик пера в чернила.
Берналь принялся диктовать…
С великим высокомерием принял Нарваэс послание дона Эрнандо. Прочитал при всех, тотчас посыпались недостойные шутки. Особенно отличился некий Сальватьерро, болтун и трус, несмотря на то, что здоровяк был хоть куда. В угоду Нарваэсу он договорился до чертиков — нечего толковать с изменниками, не стоит читать их писем, взять их всех и перебить. Сам он лично обязался поймать Кортеса и отрезать ему уши.
Но вот прибыл Гевара со своими людьми. Его обстоятельное сообщение было иного рода: Кортес — герой, верный слуга нашего императора; государство Мотекусумы велико и столь обильно всякими припасами и дарами, что всем здесь достанет места, тем более, что Кортес готов добровольно подчиниться. Не этого ждал Нарваэс и вмиг охладел к своим послам. Совершенно другое впечатление произвел рассказ Гевары на товарищей Нарваэса. Жадно вслушивались они в речь священника, красочно рисующего богатства и привольную жизнь Кортесова войска. Поверить не могли, что каждый солдат у того играет в карты на чистое золото. Оно там, на плавильном дворе, кучами лежит. Много чего наговорил Гевара и его спутники. Тут ещё вскоре прибывший в Семпоалу патер Ольмедо подбавил жару, особенно разогрели офицеров и солдат розданные им подарки от Кортеса. Все в один голос начали поговаривать, что нам не драться надо, не за ушами охотиться, а помириться и мирком приступить к дележке добычи.
Не смолчал и королевский аудитор Лука Васкес де Аилон, прибывший вместе с Нарваэсом. Особенно красноречив он стал после получения личного письма от Кортеса и золотого его поклона. Аудитор открыто заговорил о вопиющей несправедливости — идти войной против таких заслуженных людей, как мы. Надо сказать, что слова его падали на подготовленную почву, тем более, что Панфило ни с кем не поделился подарками, полученными от Мотекусумы и других индейских касиков.
Нарваэс заметил растущее недовольство среди офицеров и солдат и подстрекаемый лизоблюдами отважился арестовать аудитора и выслать его на Кубу. Впрочем, Аилон сумел убедить капитана корабля доставить его в Сан-Доминго, где королевский суд энергично вступился за аудитора.
Неистовство Нарваэса ему не мало повредило. Родные и знакомые Васкеса, опасаясь расправы, бросили своего начальника и перешли к Сандовалю. Тот, понятно, встретил их с распростертыми объятиями.
Берналь Диас замолчал — решил перевести дух, потом добрался до окна, глянул на небо.
День угасал, знакомый попугай сидел между лапчатых пальмовых ветвей. Одним глазом, вздернув крепкий черный клюв, птица наблюдала за стариком. Тот порывисто вздохнул.
— На сегодня хватит, — неожиданно объявил он. — Приходи завтра. Если бессонница покоя не даст, сам что-нибудь накарябаю.
Хосе, ни слова не говоря, сунул в пенал перо, сложил бумагу и вышел из комнаты.
Птица вспорхнула, среди пальмовой завеси алым камешком мелькнула её грудка. Вот она забила крыльями и села на подоконник. Замерла, скосила на старика глаз. Тот взволновался, но вида не подал, замер в кресле на колесиках. Когда птаха успокоилась и начала ловко похрустывать кукурузными зернами, Берналь запричитал.
— Цветок хороший, кактус хороший… Где наш сынок, Ночтлишочитл? Где наш сын?..
Тот майский вечер, когда они сообща, всем сходом, постановили выступить против Нарваэса, запомнился тем, что утром он получил первую за последние шесть месяцев весточку от Шочитл. Гонец, прибывший с побережья, после посещения штаба, отозвал его в сторону и сообщил.
— Встретил твою индеанку. Она меня на дамбе поджидала. Уже совсем стемнело. Иду, и вдруг меня окликают по-кастильски — сеньор солдат… Я даже оробел, потом слышу ещё раз — сеньор солдат. Я спустился к воде, пригляделся — в лодке твоя баба. Попросила передать, что успела прижиться, приняли её хорошо, возится с племянниками. Берналь, она, кажется, беременная… Теперь слушай самое главное — очень эта индеанка за тебя беспокоится. У них, в Истапалапане ходят слухи, что скоро всех чужеземцев под корень изведут. Берналь, твоя баба врать не будет, я её помню — ладная такая, выносливая…
Диас кивнул, отошел, затем, немного поразмышляв, направился к главнокомандующему. Сообщил о предупреждении.
— Знаю, Берналь, — ответил Кортес. — Не ты один об этом предупреждаешь. В город продолжают стягиваться регулярные отряды. Мотекухсома совсем от рук отбился. Целыми днями дичится, помалкивает, мрачный стал. Часами о чем-то со жрецами шушукается. А тут на шею этот Нарваэс. Как хочешь, так и вертись. Придется действовать, как советовал Цезарь.
— Прийти, взглянуть и победить?..
— Точно. Очень хочется проверить, как это у него получилось? Затем спешно возвращаться в Теночтитлан. Ребята должны осознать, что сейчас как раз тот случай, когда решается судьба кампании. У Нарваэса много пушек, пороха, в достатке всадников, арбалетчиков и пехоты. Если всю эту силу привести в Теночтитлан, можно будет с Мотекухсомой по-другому поговорить. Берналь, предупреди ребят, чтобы каждый взял побольше золота. Цепей, браслетов, нагрудных пластин…
Слышишь, птица, Кортес всех видел насквозь и обо всем думал вовремя, К счастью, он командовал такими же, под стать ему, зоркими и рассудительными людьми. Всегда в его распоряжении были не только крепкие руки, но и умные головы. Хочешь, ещё кукурузных зернышек подсыплю? Или орешков?..
Старик пошевелился и попугай, лениво взмахнув крыльями, блеснув красной грудкой, аккуратно спланировал на невысокую пальму. Там и затерялся среди резных, обвисших в безветрии листьев.
Налегке, без обоза, женщин и слуг, двинулись мы на Чолулу, оттуда послали гонцов в Тласкалу, чтобы те выставили в подмогу четыре тысячи бойцов. Ответ старого Шикотенкатля был таков: если дело идет о борьбе с индейцами, они готовы дать любое количество воинов; если против таких же teules, как мы, то есть, против пушек, лошадей и самострелов, пусть Малинцин не прогневается, но помощи они не окажут. Зато съестных припасов будет сколько потребуется.
Помню, дон Эрнандо, получив ответ, только улыбнулся. «И на том спасибо», — сказал он и приказал выступать.
Вперед мы продвигались с величайшей осторожностью, вскоре передовой дозор наткнулся на некоего Алонсо де Мата, назвавшегося королевским секретарем. Вместе с ним находились ещё четыре человека, которые должны были служить Мата свидетелями. Испуг их был не мал, к Кортесу они приблизились с униженными поклонами, однако наш командир, услышав звучный титул, тут же сошел с коня. Алонсо Мата вмиг осмелел и приступил было к чтению каких-то грамот.
Кортес сразу прервал его вопросом — правда ли, что он господин королевский секретарь? Тот ответил утвердительно, тогда капитан-генерал велел представить свои полномочия. Если таковых нет, то ему и незачем трудиться, причем бумаги должны быть не копии, а подлинники за подписью государя и снабжены всеми другими канцелярскими принадлежностями.
Мата сразу замялся, тут и мы всем войском — а стало нас после соединения в Чолуле с отрядом Веласкеса де Леона чуть более двух с половиной сотен — подоспели. Конных бойцов среди нас не было, немногие имели аркебузу или самострел, с латами и шлемами тоже было трудно, все в хлопчатобумажных, изорванных донельзя колетах, однако то, что согласно тайному указанию Кортеса было надето поверх этого тряпья, повергло секретаря и его спутников в немоту. Как раз солнце в тот момент вышло из-за туч. Заблистали золотые цепи, заиграли самоцветы на удивительной работы нагрудниках, браслетах. Кое-кто натянул на голову деревянные, украшенные золотом шлемы — перья птицы кецаль мы тогда по глупости обрывали. Кто знал, что в здешних краях это небывалая ценность. Впрочем, как и камень нефрит, который индейцы ценили намного дороже золота. Не было в наших рядах человека, который бы с ног до головы не был увешан изделиями из золота. Всю эту тяжесть мы, по приказу главнокомандующего тащили на своих плечах! Однако зрелище, должен сказать, было потрясающее, и не было с той минуты у Кортеса более верного союзника в стане врага, чем Мата.
После короткого перехода добрались мы до реки, отделявшей нас от владений тотонаков. Здесь, на левом берегу, и расположились лагерем. В ту пору пришла моя очередь идти в боевое охранение — вот когда я, расположившись под чистым, набитом звездами небом, наедине с джунглями — в глубине леса кто-то зловеще охал и рокотал — вспомнил о том, что Цветок, оказывается, уже полна. Стало мне грустно, жалко туземную женщину, но чем я мог помочь ей в ту пору, когда моя жизнь висела на волоске? Хорошо быть героем рыцарского романа, которых я вдосталь начитался на родине — этот способен сокрушить любое препятствие, а что я? Куда мне идти? Звезды не мигая смотрели на меня, наверное, ждали ответа. Что я мог сказать им? Взять Цветок к себе? Разве это выход? Да и не очень-то мне этого хотелось — молод был, глуп. Иногда спрашивал себя — что тебе эта индеанка? Вот закончим кампанию, этого добра у меня будет навалом! Любую выбирай! Тогда я жил, дальше завтрашнего дня нос не высовывал. Что толку прикидывать, если завтра в бой. У меня в ту пору шлема приличного не было. Старую каску вконец размолотили тласкальцы во время последних сражений, а когда пошли на приступ храма в Чолуле и там пришлось добивать раненых, она куда-то запропастилась. С тех пор я себя голым в бою чувствовал.
Какая была легкая грусть-тоска! Вот времечко — ананас! Молод был, горяч, в сражениях никогда последним не был, рвался в бой. Верил, война все спишет. Нарублюсь вволю, наработаюсь пикой, поднакоплю деньжат — заживу, как Бог на душу положит. Буду делать все, что заблагорассудится. Соскучусь по Цветку, отыщу её и ребенка, решу с этой стервой, донной Франциской жить — пожалуйста! Интересно было взглянуть на мальчонку — я почему-то до сих пор уверен, что у нас мальчонка. Каков он? Смуглый, наверное, весь в мать, но ведь и беленькое в нем должно же что-то быть? К рассвету решил — замирим страну, продам, к дьяволу, эту донну Франциску. Охотники на неё найдутся. Как же, жена самого Мотекусумы! Разыщу Шочитл — имя обязательно выучу получу землицу, приобрету инвентарь, местных ребят, и заживем мы на всем готовом. В Испанию не вернусь. Ну её, эту Испанию!.. Что там, медом намазано? Какая я родня Веласкесам? Седьмая вода на киселе. Здесь вроде бы уже привык. В Мехико хорошо, здесь кактусы, маиса навалом. Проживем!..
Несколько дней мы осторожно, в утренние и вечерние часы, продвигались к Семпоале. Послы — патер Ольмедо, Андрес де Дуэро, секретарь Веласкеса, прибывший вместе с Нарваэсом, старый друг дона Эрнандо, — так и сновали из лагеря в лагерь, пока не стало окончательно ясно, что среди подчиненных Нарваэса совсем немного таких, которые желали бы драться с нами не на жизнь, а на смерть. Более того, наши посланцы сумели так повести дело, что дон Панфило с целью устрашить Кортеса, решил устроить парад, во время которого все его боевые средства были точно подсчитаны.
Наконец мы разбили лагерь в часе ходьбы от города. Разделял нас какой-то ручей. К вечеру стало известно, что Нарваэс формально объявил нам войну.
Старик Берналь, не в силах избавиться от волнующих, нагоняющих бессонницу дум, поднялся зажег свечу, сел за стол. Потом не выдержал, обмакнул перо в чернильницу, принялся корябать.
«…это мы узнали от одного дезертира, вернее, посыльного Дуэро, который сговорился с Кортесом извещать его таким образом о всех планах дона Панфило. Оказалось, что Нарваэс вывел свое войско из лагеря и занял укрепленный лагерь в предместье. Однако ближе к ночи хлынул такой ливень, что этот полководец и все его люди, непривычные к таким передрягам, скоро потеряли весь свой пыл. Порешили вернуться в город, выдвинув по направлению к ручью, откуда нас ждали, сорок человек конницы для наблюдения за дорогами.
Мы же расставили надежную охрану, отдохнули немного, Потом Кортес, сидя на коне, держал перед нами речь — сильную и длинную. Его всегда было приятно послушать, а в ту ночь особенно. В который раз он напомнил, что речь идет о жизни или смерти. Нам отступать некуда. Кончить свои дни на виселице? Это после стольких мук?.. Чего мы только не претерпели — голод, холод, постоянное недосыпание, отчаянные битвы. «И вот точно бешеный пес, бросается на нас какой-то Панфило Нарваэс, называет нас изменниками и злодеями, бунтует индейцев и самого Мотекусуму, осмеливается заключать в оковы аудитора нашего короля, наконец объявляет нам войну, словно неверным маврам! Ранее мы только защищались, теперь мы должны наступать, иначе Нарваэс и нас самих, и наше дело ошельмует. Если не одолеем его, мы быстро, на основании его слов, из верных слуг и славных покорителей превратимся в грабителей и опустошителей. Теперь нам надо защитить не только нашу жизнь, но и нашу честь! Будем же единодушны, крепки и нерушимы!»
Старик не выдержал, выпустил перо из рук, вытер выступившие слезы. В тот час Кортес произнес слова, запомнившиеся на всю жизнь:
«На войне мудрость и осмотрительность значат не менее, нежели самая буйная доблесть».
План, в общем, был прост и бесхитростен — прежде всего следовало захватить пушки, потом броситься на штурм главного храма, на высотах которого разместился сам Нарваэс. Сандовалю как приставу Веракруса было приказано арестовать его. Тому, кто первым пробьется к Нарваэсу и попытается схватить его Кортес обещал три тысячи песо, второму — две тысячи, третьему — тысячу. Лозунгом нам служил призыв: «Espiritu santo!».[47]
…Который раз мне приходит на ум — почему Кортес в ту ночь ни разу не обмолвился о связях и дружбе, установившимися со многими из войска Нарваэса? Думаю, что в этом особенно ярко сказался талант полководца: обстоятельства требовали всей нашей храбрости, и он не хотел нас охлаждать посторонними надеждами.
Мы отчаянно сражались в ту ночь. Сразу, как только забили барабаны, заиграли пищалки, мы выступили вперед. Никогда не забуду, как переправлялись через ручей, раздувшийся от дождей — ни зги не видно, ноги то и дело обрываются, тяжелая ноша мешает и тянет в воду. Но раздумывать некогда. С величайшей резвостью бросились мы на пушки — враг успел выстрелить только из четырех орудий. Три ядра просвистели над головами, четвертое, увы, угодило в цель и уложило трех наших товарищей.
Не менее удачлив оказался Сандоваль. Скоро он загнал Панфило Нарваэса на вершину пирамиды, там кто-то нанес ему страшный удар пикой в лицо, выколол глаз. Тот сдался.
К утру все было кончено. В конце концов Ордас и Олид склонили к сдаче и сорок человек конницы, которых в тот момент не было в городе. Разоружив весь корпус Нарваэса, Кортес отрядил Франциско де Лугу к берегу, где стоял флот, чтобы тот привел его к покорности и проследил, чтобы ни один корабль не снялся с якоря и не вышел в море, держа курс на Кубу.
Так и случилось. Капитаны и кормчие с большой охотой присягнули на верность Кортесу. До них уже дошли слухи о небывалых победах дона Эрнандо. Особенно убедительными доводами были богатые подарки, которые раздал Луга. К своему удивлению он узнал, что моряки до сих пор за всю службу не получили от Нарваэса и медного грошика.
Однако радость моих товарищей была недолгой. Вечером следующего дня Кортес велел освободить наших прежних противников, как офицеров, так и солдат за исключением Нарваэса и Сальватьерро, которого во время штурма прохватила медвежья болезнь. Как он с таким слабым желудком собирался отрезать уши дону Эрнандо, ума не приложу! Но вернемся к пленным. Подобное милосердие ещё куда ни шло, если бы капитан-генерал не приказал вернуть им все снаряжение, взятое в бою. Недовольство было немалое, ведь многие из наших уже успели обзавестись за их счет — кто лошадкой, кто отличным клинком, кто доспехами или иной ценной вещью и никому не было охоты расставаться с этим. Мы указывали капитан-генералу, что это законная добыча, ведь Нарваэс формально объявил нам войну. Но Кортес остался непреклонным. Скрепя сердце мы вынуждены были повиноваться. Мне пришлось расстаться с конем при полном снаряжении, с двумя шпагами, тремя кинжалами и прекрасным щитом…
Против подобного решения выступил также Алонсо де Авила, заслуженный вояка, никогда не скрывавший свое мнение. Вместе с патером Ольмедо они серьезно возражали против подобной меры. Они указывали, что напрасно дон Эрнандо разыгрывает из себя Александра Македонского, который, как известно, после побед честь и добычу отдавал побежденным, а не своим соратникам. Ведь и на сей раз все подарки и подношения индейцев, прибывших поздравить нас с победой, были распределены не между нашими офицерами, а между командирским составом Нарваэса. Это не дело, это раздражает, ибо такие поступки припахивают черной неблагодарностью.
Кортес ответил, что вовсе не претендует на лавры Александра Македонского, и готов отдать нам все, что имеет, но в настоящий момент иначе поступить нельзя, так как прежних врагов следует расположить к себе подарками и обещаниями, ведь их во много раз больше нас. Что, если они взбунтуются? Тем не менее Алонсо Авила не унимался, В конце концов Кортес отрезал:
— Кто не желает повиноваться, должен уйти! Испанские матери рождают много детей, и каждый испанский мальчонка — будущий солдат.
— Странное дело! — горячо возразил Авила. — Со временем из этих мальчишек почему-то получаются одни только генералы. Порой труднее достать солдат для генералов, чем генералов для солдат!
С тех пор между ними пробежала черная кошка, и Кортес при удобном случае отослал от себя Авилу — направил его в Испанию для вручения императору гардероба и сокровищ Мотекусумы, что, как известно, закончилось бедой. Корабль был атакован и захвачен французским корсаром Жаном Флорином.
Несколько дней мы отдыхали в Семпоале. Планы у Кортеса были широкие. Он намеревался послать одну экспедицию под командованием Хуана Веласкеса де Леона на завоевание страны Пануко, другую под началом Диего де Ордаса на реку Гуакасуалко, однако в самом начале июня в Семпоалу прибыли два тласкальца. За ними следом письмо Альварадо. Известие были потрясающее.
Теночтитлан восстал!
Глава 10
Струна лопнула. Кортес не мог скрыть негодование — с таким трудом усмиренная страна внезапно взбунтовалась. Был утерян контроль над всеми городами, лежавшими на пути в Теночтитлан, кроме Тласкалы. Никто, правда, не осмеливался оказать вооруженное сопротивление так неожиданно укрупнившемуся испанскому войску, спешащему в столицу на выручку Альварадо, но каково было дону Эрнандо видеть перед собой пустые улицы и площади. Его гордость была задета. Он похвалялся перед вновь обретенными подчиненными, что население будет встречать вас криками ликования, подношением многочисленных и богатых даров.
Не было ни толп народа, ни цветов, ни гирлянд, ни жирных, откормленных кур, ни фруктов и овощей. При приближении войска жители прятались и поселения казались вымершими. Каждая мера кукурузного зерна выдавалась с многочисленными проволочками, местные касики все поголовно сказывались больными и на время прохождения колонны исчезали из городов. В эти непростые дни Кортес столкнулся с новой серьезной проблемой — солдаты и офицеры, прибывшие с Нарваэсом, скорее напоминали банду отъявленных головорезов, чем регулярное войско. С большим трудом, с помощью плетей и других дисциплинарных взысканий Кортесу удалось удержать новобранцев от мародерства и грабежей. В такой сложной обстановке всякое насилие, всякая стычка с местными индейцами были смерти подобны, поэтому он не жалел солдат и после коротких привалов и недолгого ночного отдыха гнал и гнал их вперед. С ветеранами было проще — этим не надо было объяснять, что такое толпы озверевших индейских воинов, которые штурмовали дворец Ашайякатла. Последние сообщения, полученные в Тласкале, звучали более обнадеживающе. Или зловеще… Как посмотреть. После победы над Нарваэсом Мехико затаилось. По сведениям тласкальских лазутчиков, ацтеки прекратили штурм дворца, однако отряд Альварадо был взят в плотное кольцо блокады. Полностью прекратился подвоз продовольствия и доставка воды. Хвала Господу, что на территории дворцового комплекса один из солдат дона Педро обнаружил источник чистой и свежей воды. Находку сочли подлинным чудом, дон Эрнандо был склонен разделить это мнение, так как вода в озере Тескоко солоноватая и непригодная для питья. И вдруг на низком болотистом острове, на котором был выстроен Теночтитлан, забил родник!..
Известие об источнике стало единственным сообщением, которому можно было безусловно доверять. Все остальные новости противоречили друг другу, разобраться в них было попросту невозможно. Альварадо в своем послании ссылался на мифический заговор, который он, по примеру дона Эрнандо, решил предотвратить изрядным кровопусканием. Следом к Кортесу явились четверо ацтекских вельмож и со слезами на глазах просили строго наказать жестокого Тонатиу, который посмел устроить бойню в день самого главного праздника дня восхваления Уицилопочтли. Скоро в лагере появился гонец от Мотекухсомы, принесший устное сообщение, в котором тлатоани решительно открещивался от всякой связи с мятежниками, тем более от пособничества им.
Все они лукавили, и, даже объединив все сообщения, он никак не мог составить верную картину начавшегося бунта. Наконец дон Эрнандо — уж совсем неожиданно — получил письмо от донны Марины из Тлакопана, куда за день до того, как Кортес собрался выступить против Нарваэса, испанцы отправили всех женщин. Письмо было написано на испанском языке, с грубыми ошибками удивительно, как эта женщина сумела отыскать среди охранявших солдат грамотного человек? Воистину для неё не существовало преград!
Донна Марина писала, что ситуация сложилась критическая и единственной мерой, которая могла бы облегчить положение осажденных, явилось немедленное прибытие дона Эрнандо в Теночтитлан. Затем в письме, как гром с ясного небо, следовала фраза: «Как раз этого делать нельзя, потому что в этом случае все испанское войско окажется в окружении и так удачно начатое дело закончится крахом. Все мы гибнем из-за глупости и жадности Альварадо, который вполне оправдывает нашу ацтекскую пословицу. Вот как её можно перевести — велика фигура да дура. Я могу только надеяться на строгий и беспристрастный суд, которому ты подвергнешь это наше «солнышко»…
«Твой «сподвижник» и «ученик» Альварадо, — далее писала она, — решил воспользоваться твоим примером и преподнести ацтекам урок покорности в духе той меры, на которую мы были вынуждены пойти в Чолуле. Зачем? Какая в том была необходимость, если сами ацтеки почтительно просили у него разрешения провести воскурения в честь бога Уицилопочтли, которые они ежегодно устраивают на площади перед главным храмом. Альварадо разрешил, однако потребовал, чтобы все представители благородных семейств явились на площадь безоружными. Также он решительно запретил всякие человеческие жертвоприношения.
Кто спорит, меры были разумными, однако в тот момент, когда несколько сотен молодых, богато одетых мужчин под звуки труб и удары священного барабана принялись водить ритуальный хоровод, испанцы, затесавшиеся в их ряды, пустили в ход шпаги и кинжалы. Один из свидетелей, добравшийся до Тлакопана, рассказал, что кровь текла ручьями, словно вода в сильный ливень.
Солдаты срывали с трупов золотые украшения. Одним словом, началось то, что может быть названо двумя словами — повальный грабеж! После этого Альварадо смеет утверждать, что предотвратил заговор? Это в тот момент, когда император этой страны был у нас в руках?!»
Далее в письме были такие строки:
«Милый, я верю, у тебя хватит мужества бросить нас на произвол судьбы. Мы будем сражать до последнего, меня они никогда не положат на жертвенный камень. Никто из этих мерзких идолопоклонников не прикоснется к моей коже, которую ты так любил гладить. Это несказанное наслаждение быть с тобой. Я всегда буду вспоминать тебя и проклинать потерявшего разум Альварадо».
* * *
Если бы я только мог!.. Если бы нашел хотя бы малейшую возможность, я бы вздернул Педро да Альварадо на ближайшем суку. Своими собственными руками!.. Не помогло бы ему и наглое отрицание своей вины, чем он занялся сразу, как только наше войско наконец вошло в ворота дворца Ашайякатла. После разговора с Альварадо у меня на душе осталось тягостное впечатление. Этот бандит ещё смел утверждать, что он спас наше дело, что только благодаря его бдительности они до сих пор находятся в относительной безопасности.
Что с ним поделаешь! Альварадо глуп и заносчив, однако ему хватило сообразительности понять, что единственными спасением для него является пусть даже ничем не подтвержденная версия заговора — в день поклонения богу войны Уицилопочтли ацтеки решили захватить испанцев и принести в жертву своему мерзкому чудищу, чье капище находилось на вершине самого большого теокали рядом с алтарем Господа нашего, Иисуса Христа.
Я видел его насквозь. Я ждал, хватит ли у него благородства признаться в преступлении. Он даже глазом не моргнул — знал, что я никогда не решусь отдать его под суд. Как же я мог тронуть его, благородного идальго, моего сподвижника, любимца войска. Мне никогда не простят, если я посмею обвинить испанского дворянина в смерти индейцев.
— Что б тебя!.. — выругался я, потом добавил. — Ты поступил скверно. Изменил долгу. Твое поведение подобно поведению сумасшедшего.
Тот как ни в чем не бывало подкрутил свои усики. Правда, рука у него немного подрагивала…
Ах, разве я был против суровых мер в отношении с этими детьми природы, но всякий раз следовало видеть главную цель. Я стремился замирить страну, ибо во время войны, хаоса и разрушений, невозможно собирать налоги, нельзя привести к христовой вере этих несчастных, погрязших в грехе язычества. Кто сможет оспорить, что трудясь на плантациях, в шахтах, в мастерских ацтеки принесли бы куда больше пользы испанской короне, чем бунтуя и свирепея от крови.
В первые же часы после прибытия во дворец я приказал доставить из Тлакопана наших женщин. В тот момент мне был крайне необходим совет Малинче. На кого ещё я мог опереться в тот трудный момент. На Мотекухсому? Я видеть не мог этого двурушника, и, как мои офицеры ни уговаривали встретиться ним, какие доводы не приводили — напоминали, что мы всем обязаны императору, он наш единственный козырь, — я не мог пересилить отвращение, которое испытывал к этому человеку, возомнившему себя живым солнцем, решившим обрести покой на небесах. На земле, ему, поганому язычнику, было неуютно. Дело дошло до того, что Мотекухсома сам попросил меня об аудиенции. Я отказал…
Первым делом взобрался на одну из башен, возвышавшуюся над главными воротами дворца. Передо мной открылся вымерший Теночтитлан — город-сад, красивейший из всех виденных мною в Мехико. Теперь столица обезлюдела и — в ясный летний полдень! — здесь было мрачно, как в могиле. Пусто было на азотеях — плоских крышах, на которых, как мне хорошо запомнилось, прогуливались ацтека, а по вечерам собирались целыми семьями и пили «чоколад». Ни единой души на рынках и ступенях храмов, только по-прежнему полыхали костры на вершинах пирамид да со стороны располагавшегося рядом с дворцом главного теокали, где по соседству с демоном Уицилопочтли был водружен крест и алтарь Иисуса Христа, доносились вгоняющие в тоску гулкие, низкие удары исполинского бубна. В него начали бить, когда мы несколько часов назад, со стороны истапалапанской дамбы вступили в Теночтитлан. Даже солнце, с любопытством наблюдающее за прохождением нашей армии по главной улице, замерло, заслышав эти колдовские басистые звуки. Скоро им ответили с других пирамид. Это была музыка смерти, адский колокольный звон, который мог родиться только во владениях дьявола. Помнится, я приказал бить в наши боевые барабаны, рассыпать по пустым улицам лихую воинскую дробь. Затрубили трубы, заиграли пищалки и флейты, под звуки которых испанцы ходят в атаку и как-то веселее стало на душе. Теперь, стоя на башне, эти гнетущие, равномерные удары вновь вызвали прилив гнева.
Я едва сдержался, чтобы не отдать приказ о штурме большого теокали. Тут подоспел Авила и обратился ко мне с просьбой поговорить с Мотекухсомой, попытаться уладить дело миром. На любых условиях, многозначительно добавил он.
— На каких именно? — заинтересовался я. Неужели офицерское собрание согласилось предать Альварадо суду? Эта мера безусловно могла помочь охладить страсти. Что еще? Возвращение награбленных во время «воску рений» Уицилопочтли ценностей? Тоже полезно. Только я зря надеялся на разум своих товарищей. Авила предложил невозможное.
— Мы обязуемся уйти из Теночтитлана и отправиться на кораблях эскадры Нарваэса на Кубу…
Я сжал челюсти. Значит, Альварадо они решили пожалеть. Они решили сдать меня.
— Ну, а золото? — тихо спросил я.
— Им тоже можно пожертвовать, — он отвел глаза в сторону. — Когда мы снова вернемся в Мехико, оно будет нашим.
Я долго молчал, прислушивался к гулким ударам священного барабана. Под эти звуки хорошо думалось… Сразу явились картины радостной встречи на Кубе, скорый суд, которому подвергнет меня Веласкес, эшафот, на котором я начну проклинать себя за глупое благородство, за бессмысленную жертву, потому что я был уверен, что люди губернатора обдерут каждого участника нашей экспедиции до последнего гроша. Небо помертвело над головой. Синь покрылась темнотой — в ней я усмотрел, сердцем почувствовал, ответ, который следовало дать верному другу Авиле. Каждый умирает в одиночку. Пусть я положу все войско в этом проклятом Теночтитлане, но никогда отсюда не уйду. Смерть на жертвенном камне показалась мне куда более легкой и желанной, чем постыдное возвращение на Кубу. Ни единым движением я не выдал своих тайных мыслей, однако уверен — и до сих пор уверен! — Авила все понял. Он наклонил голову, глянул в сторону большого теокали, где по-прежнему ухал гигантский бубен, однако теперь эта музыка не показалась мне мучительной. Я слился с ней, смог уловить в ней некую зловещую прелесть…
— Сеньор Алонсо, ваши предложения — это результат обсуждения сложившейся ситуации в офицерском кругу?
— Нет, — глухо ответил он, — так полагают господа, прибывшие с Нарваэсом.
— А что полагают наши товарищи, с которыми мы прошли все эти долгие версты до Теночтитлана?
— Они считают, что надо держаться до последнего. Альварадо добавил, что на корабль его затащат только с веревкой на шее.
— Каково ваше мнение, сеньор Авила.
— Я разделяю слова Альварадо…
— Тогда какого черта!.. — не выдержал я. — Зачем вы решили выступить ходатаем у шайки трусов и подлецов, не желающих понюхать пороху?
— Я дал слово, — угрюмо откликнулся Авила. — Вернее, они поймали меня на слове. Когда мы обсуждали различные пути спасения, я согласился сообщить вам все возможные варианты.
— Чтоб тебе лопнуть, Алонсо! Твоя честность граничит с глупостью. Ты начал не с того конца. Так разумные люди не поступают. Теперь, правда, уже поздно рассуждать об этом. А насчет Мотекухсомы?.. К черту этого Мотекухсому, раз он не в силах открыть рынки и обеспечить доставку припасов. Какой смысл церемониться с этой собакой! Не он ли вел тайные переговоры с Нарваэсом. А теперь хочет уморить нас голодом! Нет, я буду вести переговоры с другим человеком. С Куитлауаком. С этим, надеюсь, мы договоримся…
Мы быстро нашли общий язык с двоюродным братом тлатоани и самым вероятным наследником его престола. Куитлауак обещал убедить ацтеков выпустить Кортеса из города. Я в свою очередь обязался сразу направиться в Веракрус, там погрузиться на корабли и покинуть Мехико. Главное было сохранить артиллерию и конницу. Выбравшись из западни, мы бы первым делом направились в Тласкалу и война бы продолжилась. Глуповатый, воинственный Куитлауак вел себя смирно. Был он изрядно напуган, не стеснялся клясться в верности испанскому повелителю. Насчет золота было принято соломоново решение — испанцы могут взять его столько, сколько каждый человек в состоянии унести на себе.
Выпустив Куитлауака за ворота, Кортес радостно потер руки. Небо над головой начинало обретать свой естественный, ликующий, голубиный цвет. Однако испытания, выпавшие на долю испанцев в тот день, не закончились. Где-то после полудня, когда стихли удары священного барабана, в городе неожиданно возникла какая-то суета и дежурные на стенах донесли, что на улицах появились первые жители. Затем со стороны тлакопанской дороги послышались лязгающие звуки, крики, вопли, наконец залп аркебуз, и через несколько минут к воротам дворца добрался израненный кастилец и закричал, что на кортеж, который должен был доставить женщин из Тлакопана напали ацтеки.
Первой мыслью, родившейся в голове Кортеса, была мысль о Малинче. Ее потеря была бы нестерпима. Он сам, собрав достаточно количество солдат, бросился в сторону западной дамбы. Нападавших индейцев они легко смели в боковые улочки и каналы. Наконец конвой вошел на территорию дворца.
До самого вечера, пока дон Эрнандо рассказывал донне Марине о событиях последних дней, она хранила молчание и только искоса, с затаенным изумлением посматривала на капитан-генерала. Только ночью, когда они остались вдвоем в отведенных для главнокомандующего покоя, она неожиданно резко оттолкнула руки дона Эрнандо и заявила, что не узнает его. Потом принялась истово креститься на подвешенное в углу распятие, взывать к Деве Марии, просить её вразумить человек, который под влиянием гнева и гордыни совсем потерял голову.
В последнее время её набожность очень удивляла Кортеса. Индеанка по-прежнему была мила, ласкова, однако прежняя наивность и восхищение, с которыми она когда-то смотрела на него, остались в прошлом. Теперь это была зрелая женщина, она все больше и больше старалась походить на знатных испанских дам. С этой целью сдружилась с патером Ольмедо. Узнав, что среди людей Нарваэса, которых Кортес привел с побережья, находилось пятерок испанок, она успела поговорить с ними и определила молоденькую женщину в свои камеристки. Другую наняла в качестве швеи. Платить им за услуги она попросила Кортеса. «Ведь ты не откажешь, милый?..» — улыбаясь спросила она.
Что творилось, размышлял Кортес, ожидая донну Марину. Она не позволила ему присутствовать в своей комнате, где готовилась ко сну. В такое время она решила окружить себя нелепыми условностями? Туземная женщина возомнила себя придворной дамой? Он неожиданно почувствовал, что за эти несколько дней похода и пребывания в восставшем Теночтитлане окружающие его люди, прежде такие близкие, почти родные, вдруг резко удалились от него, замкнулись в своих заботах. Словно бы не было смертельной опасности, угрожавшей всем им. Словно уже почувствов себя хозяевами в этих новоиспеченных пределах, они теперь обиделись на Кортеса за крушение внезапно осуществившихся надежд. Как дети! Капризные жадные дети!..
Малинче появилась неожиданно. В длинной ночной рубашке, наглухо затянутой возле горла… Задула свечи, легла на кровать, вытянула руки по швам. Кортес, постепенно привыкая ко тьме, все с возрастающим изумлением смотрел на нее. Это что, первый из преподанных опытной служанкой уроков? Этак дело дойдет и до строжайшего соблюдения поста и прочих запретов, на которые была так щедра святая мать-церковь.
Между тем в полумраке комнаты, едва сдобренном малюсенькой лампадкой, горевшей перед образом Девы Марии, обозначились черты лица Малинче. Она, лежа на своей кровати, в упор, не мигая, смотрела на Кортеса. Тот даже поежился. Наконец индеанка произнесла.
— Иди ко мне, милый, я открою тебе тайну…
Голосок её был все также свеж и притягателен, дон Эрнандо перебрался к ней, попытался обнять. Та осторожно отвела его руку.
— Гнев и несбывшиеся надежды, Малинцин, ведут в царство мертвых. Нельзя позволять себе поддаваться разочарованию — так учил меня дедушка. Наши жизни висят на волоске, угроза куда серьезнее, чем можно было ожидать. Разве можно в такой момент терять голову?
Кортес резко сел.
— И ты туда же!
— Милый, я хочу жить. Быть с тобой. Поэтому я не стану лгать. Я открою тебе правду. Восстал не Теночтитлан. Восстала вся страна. Со всех сторон в столицу идут отряды воинов. Ацтеки не утеряли власти над провинциями и покоренными землями. Мы не можем тешиться надеждами на возможность серьезных переговоров. Жрецы в Тенаюке принесли жертвы. Ответ богов — час пробил.
— Я не понимаю… Ведь мы обо всем договорились с Куитлауаком.
— Нет, милый, как ни прискорбно тебе сообщать, но двоюродный брат Мотекухсомы обвел тебя вокруг пальца. Его ни в коем случае нельзя было выпускать из дворца. Теперь его провозгласят тлатоани. Он храбр, разумен, а теперь доказал, что способен противостоять тебе и в политической игре. Это беда, это тяжелый удар.
— Негодяй! — только и смог вымолвить Кортес.
— Так говорят все, кто, поддавшись лжи, неожиданно обнаруживает истину.
— Но, по твоим словам, этого не может быть. Двух живых солнц не бывает. При живом тлатоани никто не смеет даже задуматься о выборе другого правителя.
— Оказывается, можно. Это ацтеки, милый…
— Не называй меня милым!
— Не буду, милый, но ты опять вне себя от гнева. Тебе надо успокоиться, познать женщину. Иди сюда…
Потом индеанка объяснила, почему поступок Альварадо нанес непоправимый ущерб их делу. Ацтеки воспряли, теперь их нелегко будет остановить, тем более, что явно не вовремя Кортес затеял водружение креста на главном теокали. Придется испанцам испытать на себе гнев богов. Что остается? Силу надо противопоставить силе.
Кортес с легкостью признался.
— Нам нечего им противопоставить. Как только закончатся запасы пороха, нам крышка.
Всего несколько часов назад он бы никогда не признался в этом. Никогда бы не сказал об этом вслух.
— Нам необходимо немедленно покинуть Теночтитлан и крепко осесть в Тласкале.
— Это исключено. Я не могу жертвовать всем, чего добился. Теночтитлан мой козырь не только в борьбе с ацтеками, но и с губернатором Веласкесом. Вне его мы только банда — по крайней мере, так он провозглашает в своих заявлениях. Ты же знаешь, от Монтехо и Пуэртокарреры нет никаких вестей. Если бы я имел поддержку королевского двора, у меня были бы развязаны руки. В этом случае я бы немедленно покинул столицу. Как взять его, я знаю. Нельзя быть уверенными и в преданности Тласкалы. Если Куитлауак, как ты говоришь, обвел меня вокруг пальца, он непременно должен договориться с Тласкалой за наш счет.
— Это так, но у тебя остается ещё один важный козырь.
— Мотекухсома?
— Да. Зачем надо было обижать его. Неблагодарность, как утверждает патер Ольмедо, самый страшный грех, который может совершить христианин. Разве ты не боишься, что божья удача отвернется от тебя?
Они долго молчали. Кортес гладил её по волосам, длинным, жестким, так и льнущим к ладони, прикидывал так и эдак, потом наконец упрямо сказал:
— Я не могу покинуть Теночтитлан.
Глава 11
Добравшись до воспоминаний о том утре 15 июня 1520 года, когда впервые их лагерь подвергся неслыханному по ожесточению штурму регулярных отрядов ацтеков, Берналь Диас невольно затаил дыхание. Мочи говорить не было картины былого надвинулись на него, обступили жуткие подробности нападение. Сердце замерло как и тот момент, когда нарочный, в утренних сумерках посланный Кортесом с посланием в Веракрус, тут же, весь израненный, вернулся и объявил:
— Выбраться из города нет никакой возможности. Мосты подняты, враг скоро грянет на нас.
Пока занимали места по боевому расписанию, пока запалили фитили, натянули дуги арбалетов, совсем рассвело. Солнце, выкатившееся из-за дальних гор, оседлало вершину большой пирамиды, потом некоторое время выглядывало из-за стен храма Уицилопочтли, наконец вознеслось над христианской часовенкой. В городе стояла гулкая неестественная тишина…
Глухой, неясный ропот пришел с южной стороны озера. Потом забурлило в кварталах, обращенных к Тлакопану. Скоро и в направление Тлателолько побежал шумок.
— Так начинается пожар в лесу, — объяснил старик Берналь отложившему перо Хосе.
Писец сидел, чуть приоткрыв рот, и, затаив дыхание, слушал ветерана.
— …Треск, шорох, потом гул. Набатом ударил священный барабан на вершине главного теокали. Звук у него был низкий, жуткий, на другом конце озера его было слышно. Вдруг разом занялось — такой рев поднялся в городе, что только держись. Они пошли на нас волнами со всех сторон. Я держал позицию у главных ворот, десять человек у меня было под началом. Смотрим, по всем улицам и проходам в нашу сторону движутся отряды воинов. Или толпы… В тот день они ещё толпами бросались. Лица у всех мрачные, разрисованные. Редко кто в коротком плаще, большинстве в набедренных повязках. Только знатные в хлопчатобумажных панцирях с нашитыми металлическими пластинами. У этих в руках были макуагатли — ацтекские мечи. Большинство было вооружено копьями и дубинами… В умелых руках это тоже было знатное оружие.
Под распущенными знаменами индейцы толпой вывалились на площадь перед дворцом, в тот же момент выстроились в цепи, засвистали на все лады. Завыли раковины, заверещали какие-то пиликали. На плоских крышах домов, на террасах прилегающих пирамид внезапно появились массы лучников и пращников. В следующую секунду туча стрел затмила небо. Цепи пехоты, насвиставшись, бросились на штурм дворца…
Стрелы и камни частым ливнем забарабанили по латам Берналя. Следом ударила артиллерия, дробной россыпью прокатился залп аркебуз. Когда дым рассеялся, стало видно, что первые линии нападавших были буквально сметены. Трупы лежали в нескольких десятках шагов от стен. Ацтеки тогда впервые ощутили на себе силу огнестрельного оружия. Ряды их смешались, однако уже через несколько минут, снова выстроившись в цепи, они вновь пошли на штурм. Новый залп разметал и эти отряды, но теперь они валили валом, неостановимо бежали вперед, пытались взобраться на низкие стены, хотя бы в одном месте прорвать линию обороны.
Залп следовал за залпом. Берналь скоро ощутил привычный ритм сражения — руки работали слаженно. Прикрываясь щитом, он без конца разил появляющиеся на бруствером головы, украшенные либо пучком перьев, либо красной лентой со подвешенными кистями. Их число свидетельствовало, в скольких единоборствах одержал верх их обладатель. Случалось на стену пытался влезть и разодетый под стать орлу или ягуару, с устрашающим шлемом на голове воин. Эти были из гвардии. Из особых рыцарских, как объяснила донна Марина, орденов. Оказывается и такие существовали в Мехико… Вот с этими действительно приходилось возиться. Зевать было нельзя, или страшный удар макуагатля мог напрочь смять стальную каску. Однако со стальными клинками и этим храбрецам было справиться не под силу. Удар, выпад — острие насквозь пронзает бронзовое тело. Индеец валится со стены… Тут же режущий удар по рукам следующего, пытающегося взобраться на гребень стены индейца. Стрелы то и дело звякали по панцирю и шлему. Кровь хлестала во все стороны, вал трупов лежал перед стеной, мешая целиться пушкарям. В такие минуты в дело вступала кавалерия. Водил её в бой сам дон Эрнандо. Счетверенными рядами они буквально выжимали ряды нападавших в улочки и здесь начиналась бойня. Их рубили десятками, сталкивали в каналы, где их добивали арбалетчики. Между тем пехота растаскивала трупы, освобождая сектора обстрела.
— К полудню ожесточение достигло крайнего предела, — продолжил Берналь. — Индейцы сражались так, что небу стало жарко. Себя не щадили. Первый страх перед огнедышащими демонами — так они называли орудия — у них прошел. Теперь они вот на что решались. Подбирались к самым амбразурам и пытались достать прислугу с помощью копий. Во время конных атак бросались в ноги коням и спутывали их своими телами. Другие прыгали с крыш и сталкивали всадников в воду. Там их уже поджидали каноэ. Мы тоже озверели… Тласкальцев они резали на наших же глазах. Тут же приносили в жертву. Жрецы так и сновали в их рядах. Но самым страшным оружием у ацтеков были атл-атлы. Это такие деревянные дощечки, с помощью которых они метали дротики, да с такой силой, что стоило медному или кремневому острию попасть в щель между латами, и никакой хлопчатобумажный панцирь уже не мог помочь. Сила удара была такова, что запросто валила с коня всадника. Метали они их очень ловко и метко.
Так продолжалось до полудня, потом ацтеки сменили тактику. Стали штурмовать дворец в одном месте. Стены и башни дворца были выстроены без всякого учета фортификации, которая требует, чтобы каждый участок защищаемого пространства должен простреливаться по крайней мере с двух, а то и трех сторон. С подобным расчетом и должны возводиться защитные сооружения. Здесь же индейцы скоро нашли место, которое было недоступно обстрелу пушек и попытались завалить стену. Хвала Господу, она выдержала.
После полудня ацтеки начали обстреливать дворец зажигательными стрелами… Ты хотя бы представляешь, каков из себя был этот дворец? — неожиданно спросил старик.
Хосе отрицательно покачал головой.
— Дворец отца Мотекусумы представлял из себя обширное каменное здание, выстроенное в один этаж. Кое-где над первым ярусом возвышались надстройки и целые башни. Вокруг главного здания неправильной формы с фасада была устроена обширная площадь. С тылов — многочисленные подсобные постройки и внутренние дворики, которых было немало и в главном здании. У ацтеков не было ни дверей, ни окон. Дверные проемы занавешивались циновками или богато украшенными занавесками. Комнаты освещались дневным светом из двориков, поэтому они строили помещения не более, чем в две комнаты шириной. Гореть во дворце было чему, однако мы с огнем справились, а вот те постройки, что располагались на задах, уберечь не смогли.
Так мы сражались до ночи. В темноте тоже большей частью бодрствовали, ожидая приступа. В тот день я впервые видел растерянность на лице Кортеса. Об этом не пиши. Просто никто из нас не мог понять, в чем причина такого ожесточения.
Перед рассветом все наше войско стояло, готовое к бою. Причем уже во время предрассветного развода индейцы начали обстреливать нас стрелами. Они забили все ярусы пирамиды большого теокали, который возвышался над нашим дворцом. Покоя от них не было… Утро в тот день выдалось пасмурное, со стороны озера хлопьями натянуло туман — так он и завис слоями над городом. Только с первыми лучами солнца белесая влага начала таять, открывать даль.
Та картина, что что предстала перед нашими глазами, даже у самых стойких бойцов вызвала душевный трепет. Войско ацтеков за ночь стало намного гуще, чем прежде. Богаче костюмы командиров, целые отряды теперь были одеты в хлопчатобумажные панцири и шлемы, изображавшие кошачьи морды и орлиные головы. Выстроены они были ровно, вся их армия делилась на большие отряды, которые кое-кто из наших, воевавших в Италии и во Франции, назвал батальонами. Каждый отряд со своим особым штандартом. Выше и виднее других развевался главный боевой стяг Мехико — орел, сидящий на кактусе и терзающий змею. Между рядов сновали жрецы — они кривлялись и били в бубны. Воины хранили молчание. Запомнились, знаешь ли, их лица — пустые, сосредоточенные. Эти самые страшные… Эти не вопят, не воют, идут в атаку молча. До самого последнего мгновения… Потом уже в нескольких шагах от врага вдруг резкий вскрик, бросок, удар копьем. Вот уж когда мне пришлось попрыгать…
Старик неожиданно замолчал, на лице его появилось угрюмое, задумчивое выражение.
Хосе тоже замер… Он сидел за столом, одной рукой подпирал голову и, слушая старика, смотрел в окно. Удивительно, как много общего у него было с доном Эрнандо. Родом Хосе тоже из Эстремадуры, учился в Саламанке, по причине смерти отца пришлось бросить университет. Дядя, брат жены, узнав о несчастье и о том, что сестре с ребенком не на что жить, вызвал их сюда, в Гватемалу. Отличие только в том, что отец Хосе относился к сословию эскудеро — самому низшему дворянству. Слушая старого Берналя, молодой парень неожиданно ощутил злобу и раздражение. Он уже который год сидит в этом паршивом городишке, а какой-то проходимец Франсиско Писарро, незаконнорожденный ублюдок, в это время штурмует сказочную страну Перу. Говорят, родная мать от него отказалась, в детстве Франсиско пришлось пасти свиней. И вот как высоко взлетел! Сокрушил государство инков. Тоже многолюдная страна. Воинственный народ… Но ацтеки!.. Его воображение было поражено картинами, которые рисовал старый Берналь. Они были подобны древним римлянам…
Попугай уселся на подоконник, скосил глаз на молодого здоровенного парня. Тот было цыкнул на птицу, однако старый Берналь осадил писца.
— Не тронь… Пиши. В тот день они действовали куда организованнее, чем вчера. Скоро так плотно обложили всю ограду, что дону Эрнандо требовалось срочно предпринять что-нибудь, чтобы ослабить их порыв. Кортес был умелый полководец — так и пиши. Я бы сказал — великий, но кое-кто в Испании будет очень недоволен, если я перестану скупиться слова. Тогда мои записки никогда не увидят свет, и бал будет праздновать стряпня этого лжеца Гомары. Но если честно, такого командира я больше никогда не встречал. Он не терял головы в самой трудной обстановке. Ругался чаще всего по-детски. Скажет: «Ах, чтоб вас…» — на это все и кончится. Но когда надо, вешал и рубил без жалости.
Попугай внимательно слушал ветерана — даже забыл про насыпанные на подоконник кукурузные зерна.
Берналь Диас теперь словно к нему обращался.
— Как иначе? Война — дело жестокое, нервное. В тот день он вновь вовремя устроил вылазку, однако встретил со стороны ацтеков такой отпор, что, казалось, ещё немного, и наша оборона будет смята. Этот ацтекский вождь все вроде бы предусмотрел — стоило нам углубиться в главный проспект, который вел к Истапалапану, как мы скоро наткнулись на крепкую баррикаду из бревен и земли. Тут же с флангов, из боковых проулков и каналов, нас атаковали свежие отряды воинов. Вот здесь, на ровной площадке мы им показали, что такое испанец, когда его возьмет за живое. Да и Кортес оказался на высоте — ни секунды растерянности, колебаний. Короткая команда, мы выстроили две боевые линии, опоясались копьями, скольких мы там накрошили, я даже примерно сказать не могу… Ты об этом не пиши. Тут же подтянули пушки и вмиг разнесли эту баррикаду. К сожалению, время было упущено, разделить атакующих на две части не сумели. Тогда принялись жечь дома. Занимались они хорошо, но сам город был построен на воде, и всякое сооружение там было окружено каналами, так что ацтеки быстро тушили огонь.
Пришлось нам возвращаться во дворец. В боковой улочке дон Эрнандо обнаружил, что два индейца, повиснув на ногах коня, задержали сеньора Дуэро, бывшего секретаря губернатора Веласкеса, друга Кортеса. Еще один спрыгнул на испанца с крыши и тот с диким воплем свалился с лошади. Тут на него навалилась целая толпа туземцев и поволокла к лодке. Незавидная участь ждала Дуэро, однако дон Эрнандо, не раздумывая, врезался в толпу, освободил товарища, помог ему взобраться на коня — ацтеки их тоже приносили в жертву богам. Только так им удалось спастись.
* * *
После полудня бой затих. Предводитель ацтеков Куитлауак отвел войска он мог быть доволен сегодняшним сражением. Впервые индейцы показали пополокас, что в их лице те столкнулись с равной им силой, умеющей и жаждущей воевать. Атаки ацтеков приобрели необходимую стройность. Боевые действия теперь направлялись опытной рукой осторожного и опытного военноначальника. Куитлауак постоянно менял направления атак, нападения следовали в самых неожиданных местах по всему периметру дворца. Новый главнокомандующий приказал сразу во многих местах начать подкопы. Более того, в рядах своей армии ему удалось добиться прекращения всяких разговоров о возвращении Кецалькоатля. Чужеземцы, утверждал он, такие же люди, как и они, жители Мехико. Эта, вслух высказанная мысль была в ту пору настоящим откровением. Куитлауаку было очень важно внушить ацтекам, что война, до сей поры представлявшая из себя священный обряд, посвященный богам, и происходившая под их наблюдением и покровительством, теперь превратилась в борьбу не на жизнь, а на смерть, где ставкой уже были сами боги. Он доказывал, что такой войны они никогда не вели, поэтому вправе применять любые военные хитрости, коварство и жестокость должны считаться необходимым условием победы. Им следует заманивать и изводить противника, утомлять его до изнеможения, но прежде всего овладеть оружием чужеземцев. В нем нет ничего поганого, твердил Куитлауак. Его поддержали все молодые военноначальники, присутствовавшие на военном совете, однако главное требование, которое он высказал, оба главных жреца Теночтитлана отвергли сразу и безоговорочно.
Куитлауак долго доказывал, что с практической точки зрения приносить в жертву всех захваченных в плен врагов — бессмысленное, приносящее только вред занятие.
— В этом случае, — доказывал он, — враг будет сражаться до конца. С подобным подходом мы никогда не сможем использовать политические методы для достижения победы. Воюя по-старому, мы будем постоянно терять союзников. Им, после признания власти заморского владыки, уже невозможно будет вернуться под нашу руку, ибо они знают, что их ждет. Нам, как дыхание Кецалькоатля, необходим союз с Тласкалой. Это был бы очень уместный шаг, если бы мы вернули их пленных, как залог будущего союза и искренности наших намерений. Тогда и у нашего союзника, молодого Шикотенкатля, появится веский довод, с помощью которого он смог бы убедить старейшин отказаться от помощи Малинцину.
Жрецы доброжелательно выслушали его. Никто из стариков не вспылил, не обрушился на святотатца, посмевшего покуситься на самое главное, что было у ацтека — на веру, что в каждой войне проявляется божественный промысел, что ведется она не на земле, а на небе, и долг каждого ацтека содействовать победе Уицилопочтли. Всякое вооруженное столкновение укрепляло мировое равновесие, оно производилось в честь богов, по их желанию и повелению. Люди, двуногие твари, не более, чем исполнители их воли. Война доставляет пищу богам, они вкушают сердца храбрейших, с удовольствием принюхиваются в ароматному запаху крови.
Все это они объяснили молодому Куитлауаку и другим, поддержавшим его военноначальникам, среди которых особой статью выделялся двоюродный племянник Мотекухсомы Куаутемок. Именно он решительно и страстно выступил в поддержку Куитлауака.
Жрецы ненавязчиво осадили его.
— Ты молод, — сказал главный жрец Кецалькоатль Тотек-тламакаски, потом он обратился к главнокомандующему. — Поступить подобным образом, значит, вконец рассориться с нашим покровителем Уицилопочтли. На что мы можем рассчитывать, если наши боги напрочь отвернутся от нас?
— На храбрость наших рук, на боевой опыт, на историю и традиции. На разум, наконец! — воскликнул Куаутемок.
— Это слишком хлипкая опора, — ответил жрец.
— По крайней мере одним тласкальцем можно пожертвовать? — спросил Куаутемок. — Хотя бы одного-единственного испанца можно оставить в живых?
Жрец вопросительно глянул на молодого вождя.
— Нам очень необходимы свои глаза и уши в стане чужеземцев. Мы должны заранее знать о каждом их шаге. Среди пленных всегда найдется человек, готовый на все ради сохранения жизни.
— Тем самым мы насмерть оскорбим Уицилопочтли. Сохранение жизни жертвенному пленнику — это даже не коварство, не военная хитрость. Это глупость!.. Позволить, чтобы бог-колибри усомнился в чистоте наших намерений?.. Нет, на это мы не имеем права пойти.
* * *
До самой полночи к Мотекухсоме один за другим шли гости. Первым навестил его патер Ольмедо. На этот раз он не стал склонять тлатоани к принятию христианства, обосновывая необходимость подобного поступка рассказами из священного писания и картинами ада, который ждет упорствующего в грехе язычника. Патер Ольмедо был разумный человек и давным-давно подружился с Мотекухсомой. Ему нравился этот заблудший правитель с безыскусными и наивными представлениями о власти, божественной благодати, которой он якобы помазан, о каре небесной, ожидающей всякого, кто изменит своим богам. Священник старался поддержать его в трудные минуты. Конечно, не без надежды на принятие христианства, но сам с собой Ольмедо не желал лукавить. Поступить так Мотекухсома способен только из трусости, из постыдного желания сохранить жизнь. Такие люди никогда не способны вызвать симпатию. В упорстве тлатоани было более благородства, чем в лукавом принятии чужой веры.
На этот раз патер сразу признался, что положение отчаянное, и если правитель не хочет видеть свой город окончательно разрушенным, он должен усмирить своих подданных. Найти компромисс… Об этом его просит и Кортес.
— Никаких дел с Малинцином у меня больше быть не может, — отрезал Мотекухсома. — Слышать о нем не желаю! Я хочу умереть — в этом я, надеюсь, волен? Я не могу видеть, до какого унижения готовность служить ему довела меня.
Следом с той же просьбой к Мотекухсома обратился явившийся засвидетельствовать ему свое почтение Кристобаль де Олид. Ответ был тот же. Тогда Ольмедо и Олид вдвоем принялись уговаривать правителя. Тот не пожелал менять решение. Наконец аудиенцию попросила донна Марина — слуга так и представил её, и удивленный Мотекухсома решил посмотреть на рабыню, которая решила, что может считать себя ровней самым знатным фамилиям кастилан.
Марина не стала тратить времени на любезности — повела речь жестко, коротко. Объяснила, что её не интересует погибающий город. Горе и месть ацтеков касаются её только в той степени, в какой они угрожают её бессмертной душе. Она не желает погибать на жертвенном камне. Боялась этого в детском возрасте, пугалась и позже, когда её с веревкою на шее привели в Сеутлу. Тряслась от страха и в ту пору, когда попалась на глаза купцу из столицы, который обрадовал её новостью, что она по всем статьям подходит для священной жертвы Шипе Тотеку. Ее должны были доставить в Теночтитлан, где бравые ацтекские жрецы ловко бы сняли с неё кожу, напялили на себя, ещё дымящуюся от крови, и принялись танцевать, вымаливая у Шипе богатый урожай.
Мотекухсома помрачнел.
— Это не нами придумано. Это воля богов.
— А владетель Тескоко Несауалкойотль утверждал, человеческие жертвы противны богам. Они создали людей себе на радость…
— Это страшная ересь! — глухо сказал Мотекухсома.
— С точки зрения бывшего жреца Уицилопочтли — да. Но для последователя Несауалкойотля вера в разум Кецалькоатля, его доброту и любовь, как воплощение вселенской любви — это верная дорога к свету. К пониманию величия Иисуса Христа, Господа нашего, пославшего когда-то в наши края своего верного апостола Фому.
— Послушай, женщина, — усталым голосом отозвался тлатоани. — Подобные сказки я уже много раз слышал из уст жреца Ольмедо. С ним я позволил себе поспорить, но спорить с рабыней!.. Первое время, глядя на тебя, я жалел, что боги так неразумно распорядились твоей судьбой. Твое место было в моем доме, я бы прислушивался к твоим советам. Но теперь я пою хвалу Тескатлипоке, что твои ноги миновали порог моего жилища, что запах твоей кожи не коснулся моих ноздрей. Наблюдая за тобой, я осознал безмерную, неподвластную человеческому разуму мудрость, скопившуюся на небесах — белые люди называют эту силу судьбой. Не даром наши боги с такой тщательностью оберегали Мехико от твоих лукавых речей. Они забросили тебя на юг, в страну майя. Там, среди мрачных болот, в толпе колдунов и святотатцев, твое место. Я вижу тебя насквозь. Увидел я и твое будущее. Белые люди скоро начнут чураться тебя. Ты останешься одна, будешь молить о прощении, в котором тебе откажет твой бог, а потомки ацтеков станут называть твоим именем всякого, кто предаст свой народ.
— Не сомневаюсь, — ответила Малинче, — но я верю, что до ссудного дня мне удастся вымолить прощение у Девы Марии, а суд дрянных, жестоких, темных людишек мне не страшен. Пусть называют как угодно, лишь бы помнили. Так вот, чтобы все шло своим чередом, ты, великий правитель ацтеков, сын победоносного Ашайякатла, внук доблестного Мотекухсомы I, прозванного «Гневным», завтра обратишься к своему народу с требованием сложить оружие.
Мотекухсома улыбнулся.
— Этого никогда не будет. Ты плохо меня знаешь, женщина.
— Я хорошо знаю тебя, великий владыка. Если бы я, когда мне было тринадцать лет, переступила порог твоего дома, сейчас ты уже забыл бы о Малинцине и был бы готов отразить нашествие белых пополокас со стороны Восточного моря. Но ты ничего этого не сделал, а Малинцин выполнил все, что обещал, поэтому я с радостью служу ему и его народу. Завтра ты взойдешь на стену и обратишься к своему народу с требованием сложить оружие.
Мотекухсома не ответил, потянулся за золотым колокольчиком, с помощью которого он вызывал слуг, однако позвонить не успел. Марина тихо добавила.
— Иначе тебя крестят насильно. На вершине большого теокали… И все жители Теночтитлана увидят тебя преклонившим колени перед алтарем.
Ни единая жилочка не дрогнула на лице правителя. Он осторожно положил колокольчик, потом спросил:
— И Малинцин согласится погубить душу, ради того, чтобы спасти свою жизнь?
— Этот грех я беру на себя.
— Тогда я ничего не понимаю, — развел руками Мотекухсома. — До каких же степеней надо дойти, чтобы одновременно клясться в верности и любви к богу и прикрывать его именем худшие из пороков — неблагодарность и трусость?
— Ответ на этот вопрос лежит перед тобой, — донна Марина презрительно усмехнулась и обвела рукой помещение. — Здесь, под охраной пополокас, ты смеешь упрекать меня в пороках, о существовании которых ты даже не догадывался? Которые ощутил в своей душе всего несколько месяцев назад? Ты же был безгрешен, являл собой солнце — за это надо расплачиваться, повелитель. Час пробил!.. Либо твой народ увидит тебя целующим крест потом мы отпустим тебя к твоим соплеменникам; либо ты обратишься к ним с требованием сложить оружие.
На следующее утро, когда солнце уже высоко встало в небе, во время одной из атак ацтеков, за стеной, которую обороняли испанцы, вдруг ударили барабаны, завыли трубы. Стихли залпы орудий, выстрелы из аркебуз. Спустя мгновение индейские воины, штурмовавшие левую оконечность дворца, опустили копья. Скопившиеся на азотеях и террасах храмов жители прекратили стрельбу из луков и пращей…
За бруствером внезапно показался султан из пышных перьев кецаля. Набор цветов мог принадлежать только одному человеку на свете и вправлены перья могли быть только в священную корону, которую носил правитель Теночтитлана. Точно! Через несколько мгновение стрелки, засевшие на большой пирамиде различили меж зубцов плащ-тильматль — на солнце посверкивала огромная брошь-застежка, украшенная чальчивитлем. По мере того, как тлатоани продвигался вдоль стены, бой стихал. Толпы индейцев бросились к стенам. Испанцы окончательно прекратили огонь. Скоро перед главными воротами, у подножия башни собралась огромная толпа ацтеков. Наконец на верхней площадке появился государственный жезл Мехико — стебель кукурузы с золотистой метелкой, обвитый змеей, затем по бокам встали испанские солдаты — все со щитами в горящих на свету латах. Спустя несколько мгновений к самому краю площадки вышел сам Мотекухсома, живой бог, воплощение дарующего жизнь солнца.
На площади наступила мертвая тишина! Стихли звуки боевых раковин, на вершине большого теокали прекратили быть в священный бубен. Кое-кто из индейцев пал ниц, другие преклонили колени. Мотекухсома, увидев прежнее выражение покорности, воспрял духом, поднял руки. Кортес переглянулся с Мариной — к сожалению, в дальних рядах воины остались стоять.
— Зачем я вижу свой народ с оружием в руках? — спросил повелитель. Зачем вы выступили против дворца, в котором жил мой отец? Вы решили, что оратор, от вашего имени разговаривающий с богами, попал в плен и вы бросились освободить меня? Если бы так оно и было, ваши действия можно было бы признать справедливыми. Однако вы обманываетесь! Я не пленник!.. Чужеземцы мои гости. Я остаюсь с ними по своей воле и могу оставить дворец моего отца, когда захочу. Не для того ли вы пришли сюда, чтобы прогнать их из города? В этом тоже нет нужды. Они уйдут, если вы очистите им дорогу. Положите оружие. Повинуйтесь, ибо под мою руку вы были отданы великим Уицилопочтли. Белые люди — мои друзья…
В этом месте сердце у донны Марины дрогнуло. Тлатоани допустил роковую ошибку — он назвал чужеземцев друзьями. Ужас охватил женщину. Она вдруг воочию ощутила, как руки жреца коснулись её левой груди, оттянули округлость в сторону, следом лезвие жертвенного ножа погрузилось в тело… Видение было настолько реальным, что она едва не вскрикнула.
Между тем Мотекухсома все ещё был в упоении от вида массы людей, как и прежде повинующихся ему.
— Они скоро уйдут, и в Теночтитлане вновь воцарится спокойствие…
В этот момент на задах площади возник ропот, неясный, бурливый. Побежал к дворцовым воротам… Ближе к башне, на которой с поднятыми руками стоял Мотекухсома, шум начал крепнуть, в нем стали прорезываться отдельные голоса, выкрики. Марина принялась торопливо переводить их Кортесу.
— Недостойный ацтек. Женщина. Трус… Предатель. Белые люди оскопили тебя… — смуглые щеки женщины заметно порозовели, она вскинула брови, однако продолжала перевод. — Это уже совсем гнусность. Опять предатель. Трус.
— Хватит! — неожиданно оборвал её дон Эрнандо.
В воздухе раздался звон отпущенной тетивы, затем посвист… Мотекухсома жалобно вскрикнул. Стрела угодила в бедро, тут же пущенный из пращи увесистый булыжник поразил его в висок. Правитель упал, испанские солдаты прикрыли его щитом, а люди на площади продолжали бесноваться.
«Трус!» «Предатель!» «Баба!» — неслось со всех сторон. Воины потрясали копьями, лучники и пращники на азотеях словно обезумели и принялись стрелять с такой скоростью, что Кортес приказал образумить их выстрелами из орудий. Однако артиллерийский залп уже не мог остановить разбушевавшуюся армию. Они, не дожидаясь команды, яростно пошли на приступ.
Глава 12
— Если кто-нибудь скажет тебе, — сказал Берналь Диас, — или ты вычитаешь у писаки Гомары, что индейцы, запустив камнем и стрелой в своего повелителя, чуть не обмерли от страха и тут же разбежались и площадь опустела «в мгновение ока», не верь подобному вранью. Нашим спасением было то, что они не успели подготовить атаку и бросились вперед по зову сердца. Мотекусуму сразу отнесли в его покои. Что с ним случилось потом — не знаю. Дня через два нам объявили, что он скончался. Рана в висок оказалась смертельна. Мне что-то не верится в это — скорее всего, повелитель умер от горя. Так бывает… У Нарваэса служил некий храбрый офицер, гордец и чистюля. Когда он выступил за мир с Кортесом, Панфило велел заковать его в кандалы. От подобного оскорбления и ущерба его чести офицер в четыре дня скончался.
Берналь Диас с трудом поднялся, потопал к окну. Что-то сегодня попугаихи не видно. Он ей свежего зерна подсыпал. С руки уже начала клевать, а теперь её нет… Не поворачиваясь, он громко предупредил.
— Это не записывай. Толмач Франсиско де Агиляр по секрету признался, что дон Эрнадо вместе с Альварадо закололи его шпагами. Ударили разом в нижнюю часть живота, он и отдал Богу душу. Тоже не верится. Хитер был Кортес и так запросто с Мотекусумой не расстался бы. Тот был законный правитель… Донна Марина так и сказала: «Креста на тебе, Берналь нет. Что ж, выходит, мы последние звери, чтобы собственноручно убить человека, который сделал нам так много добра и который ещё пригодился бы впоследствии. Сердце не выдержало, — объяснила она. — Слишком много на него сразу навалилось, оно и лопнуло. Видно, на этом настояли боги». Почему бы мне ей не верить? Тем более, что во время отступления из Теночтитлана я своими глазами видел пленных — сына и двух дочерей Мотекусумы, его племянников. Всех их Кортес хотел вывести за пределы столицы, чтобы потом, крестив, посадить князьками по покоренным городкам. С другой стороны, чего только на свете не бывает. Так что о том, чего не знаю, писать не стоит.
Однако этот вопрос долго не давал ему покоя. Он и позавтракал с задумчивым, сохранившим недоумение лицом. Угостил и Хосе. Тот по бедности и молодости был очень жаден до еды.
— Со всевозможными почестями мы предали индейцам труп Мотекусумы… Несли его индейские сановники, но это уже случилось после штурма большого теокали. Вот схватка была так схватка!.. Кортес решил очистить ярусы пирамиды от лучников и пращников. Они нам все время покоя не давали. Чтобы добиться успеха, мы построили три деревянные башни, закрытые кожей. Было в них два этажа. Внутри сидели аркебузиры и арбалетчики… Были устроены и сходни, чтобы выскакивать на азотеи и там бить врага. Вот что ещё насчет Мотекусумы… Знаю точно — он так и не крестился перед смертью.
Он на мгновение замолчал, уже совсем было хотел добавить, что и отречения в пользу испанского короля, которому Мотекусума якобы завещал все свои земли, тоже не было — и в этом вопросе туземный правитель проявил необыкновенное упрямство, — однако вовремя спохватился. Кортес в одном из своих писем его величеству дону Карлосу V, красиво расписал, как Мотекусума собрал Государственный совет, как со слезами на глазах объявил, что, заботясь о народе ацтеков и всех других племен, подвластным тройственному союзу, он решил просить великого заморского государя принять их под свою могучую руку. Дон Эрнандо как-то предупредил Берналя, что если тому в старости вдруг захочется побаловаться пером, то пусть он помнит, что высшие государственные интересы испанского королевства должны остаться в неприкосновенности. Иначе…
Берналю тогда было все равно, подписывал ли правитель Теночтитлана акт отречения в пользу Карла или нет. Его ли это было дело? Но теперь с годами он с печалью подумал, что с ним станется, если чиновники из совета по делам обеих Индий ознакомятся с его записками. Ладно, если просто сожгут эти страницы… А если передадут в руки святой инквизиции?…
Он повздыхал, перекинулся взглядами с севшей на подоконник попугаихой, потом принялся диктовать, «как было на самом деле»:
— Перед самой своей смертью Мотекусума вдруг опечалился судьбой своего народа, брошенного в пучину войны, и по совету Кортеса собрал Государственный совет, на котором решил передать власть в Мехико его величеству, королю испанскому…
* * *
Прежде всего штурм большого теокали был необходим по военным соображениям. С захвата этой господствующей высоты Кортес рассчитывал начать вытеснение индейцев из города. План по мнению ближайших офицеров казался вполне выполнимым, если бы не подавляющее численное превосходство ацтеков. Не в силах противодействовать прибывающим подкреплениям, дон Эрнандо решил захватить пирамиду и святилище Уицилопочтли и тем самым сломить их боевой дух. Четвертый день велись беспрерывние схватки, ожесточение достигло предела. Подобного напряжения испанцы долго выдержать не могли.
Первая три атаки, которые возглавил камергер капитан-генерала Эскобар провалились. Тогда пришло решение построить штурмовые башни, которые с успехом можно было использовать против воинов, засевших на возвышениях.
Дело в том, высота ступенчатой пирамиды составляла около шестидесяти метров в современной мере. Она состояла из пяти ярусов. Главная лестница, ведущая наверх, начиналась возле одного из углов этого грандиозного сооружения. Поднявшись на первый уровень следовало обойти пирамиду по террасе и продолжить восхождение у другого угла. Каждый участок лестницы был строго ориентирован на ту или иную часть света. Таким образом, чтобы добраться до верхней площадки, где располагалось капище, необходимо было обойти пирамиду по кругу. Высота каждого уступа составляла более двенадцати метров. Никаких ограждений не существовало. Лестничные ступеньки узки, высоки и круто уходили в небо. Лучшей позиции для обороняющихся придумать было трудно. Вершина пирамиды представляла из себя ничем не огороженную плоскость, выложенную плитами. На ней располагался гигантский жертвенный камень, исполинский бубен и два святилища, в одном из которых был устроен христианский алтарь. Крест с началом восстания был скинут ацтеками, что случилось с портретом богородицы и предметами богослужения, никто не знал.
Храмовым двором, который был окружен «стеной змей»,[48] испанцы овладели без особого труда. Неудачи начались, когда им удалось добраться до главной лестницы. Ацтеки встали стеной. Вот когда понадобились штурмовые башни. Индейцы не ожидали подобной хитрости, и солдаты во главе с Кортесом без помех выскочили на узкую площадку второго яруса, где завязался кровопролитный рукопашный бой. На близком расстоянии особенно резко проявлялось преимущество испанцев во владении оружием. Что могли противопоставить ацтеки длинному стальному мечу, латам, закрывающим жизненно важные части тела, и умению воевать! Их погнали по ритуальной дороге. Артиллерийские орудия, задрав стволы до предела, сметали индейцев с уступа. Дело вроде бы пошло на лад, но уже на третьей ступени произошла заминка. В узости, на высоте, от огнестрельного оружия уже не было никакого прока. Аркебузиры не успевали заряжать ружья, стволы пушек были задраны до предела. Наступающий порыв испанцев ослаб, тем более, что против них сражались в большинстве своем рыцари орденов Орла и Оцелота в разукрашенных, похожих на звериные морды шлемах, в матерчатых панцирях с металлическими нагрудниками. Почти все поголовно были вооружены макуагатлями. Для защиты храма Уицилопочтли была собрана элита ацтекской армии — это было видно и по штандартам, и по большому количеству красных повязок, которыми наиболее храбрые воины украсили лбы. Сверху наступающих буквально заливали потоками стрел, заваливали камнями и пылающими жердями. Если бы не длинные тяжелые копья, которыми испанцы сталкивали противников с уступа, вряд ли они смогли бы добраться до вершины. Так и двигались шаг за шагом — сначала по террасе, затем выталкивали индейцев с лестницы, ведущей на следующий ярус.
Кортес бился в первых рядах атакующих. Щит его был привязан к левой, раненой руке. Вместе с ним шли Альварадо, Сандоваль, Ордас и другие офицеры. Они собственно и составляли ударную группу, которая после напора копейщиков бросалась на расстроивших ряды ацтеков.
Дон Эрнандо первым ступил на верхнюю площадку. Здесь их уже ждали… Кортес едва успел перевести дух, окинуть взглядом задымленную панораму великого города. В следующее мгновение ацтеки бросились в атаку. Сражения на улицах Теночтитлана, по периметру дворца Ашайякатла и внутри двора прекратились. Все внимание было приковано к схватке, которая с небывалой яростью вспыхнула на вершине большого теокали.
Первую волну атакующих индейцев Кортес с товарищами приняли на мечи. Тут подоспели солдаты с копьями и принялись теснить врага к двум зданиям, стоявшим у дальней кромки. Ожесточение достигло предела, ведь никто из противников не мог живым покинуть площадку. Побежденным было невозможно оставить поле боя — по краям площадки их ждали двенадцатиметровые откосы, куда то и дело срывались тела. Два могучих ацтека, улучив момент, с обеих сторон вцепились в Кортеса и поволокли его к краю уступа. В последнем яростном рывке ему удалось освободиться от захвата и сразить одного из воинов. Затем мечом он добил другого… Взмахнул руками, и если бы не помощь Гонсало Сандоваля, лететь бы ему вниз с огромной высоты.
Еще одно усилие, ещё несколько шагов — и последние защитники святилища Уицилопочтли оказались отброшенными от жертвенного камня. В последнем напоре их десятками сбрасывали с крутого откоса. Альварадо со зверской ухмылкой всадил меч в ритуальный бубен. Натянутая на исполинский каменный обод кожа тут же со звоном лопнула. Дно барабана полукружьем лежало на деревянных стояках, сдвинуть с места не удалось, тогда испанские солдаты выволокли из святилища изображение ацтекского бога войны и скинули его с края площадки. Следом полетели мелкие дьявольские отродья, скульптуры, жертвенные ножи, предметы культа…
Жуткий, тысячеголосый вопль раздался снизу, затем — разом! — мертвая тишина. Бой стих, все застыли в ожидании.
Отряд испанцев во главе с Кортесом спустился вниз — испанцы потеряли полсотни человек, все, оставшиеся в живых, были изранены. Их латы и шиты были залиты кровью. Полон составили два жреца.
Индейцы, заполнившие площадь перед дворцом, расступились, свободно пропустили отряд дона Эрнандо. Когда чужеземцы скрылись за воротами, Кортес приказал играть в трубы, бить в барабаны. На главную башню был послан солдат, который принялся размахивать личным знаменем главнокомандующего. Это был знак к началу переговоров.
Действительно ацтекские батальоны не спеша, повинуясь приказам, оставили площадь, однако прошло не менее двух часов прежде, чем дозорный доложил, что в сторону дворца движется процессия.
— Все в перьях! — возбужденно доложил он, поднявшемуся на башню Кортесу. — Идут как на параде. Впереди этот… брат Монтесумы.
Капитан-генерал даже не глянул на говорливого, явно оробевшего солдата. Упершись кулаками в каменные зубцы — каждый из них с внешней стороны был украшен изображением оскалившегося ягуара, — он долго следил за приближавшейся делегацией, потом бросил через плечо.
— Поторопи донну Марину.
Малинче словно ждала напоминания и тут же легко вспорхнула на выложенную каменными плитами площадку. Следом за ней поднялись Альварадо, Авила и Ордас.
Тем временем Куитлауак в сопровождении увешанных перьями сказочной птицы кецаль, одетых в короткие воинские плащи ацтекских вождей и нескольких старейшин размеренным шагом приблизился к башне и вопросительно глянул на Малинцина. Тот поднял руку, потом неожиданно опустил её — был Кортес в латах — поверхность покрытого искусной гравировкой мателла была забрызгана кровью. На плечи накинута алая, короткая, подрезанная полукругом накидка. Шлем его, округлый сверху, напоминал голову чудовищной птицы с длинным, чуть загнутым вверх клювом, лежал рядом, на каменном зубце. Перья с него были срублены во время штурма большого теокали.
В этот момент Кортес заговорил. Сказал пару фраз, затем послышался звонкий мелодичный голосок индейской женщины.
— Сеньор Кортес, или по-вашему Малинцин, спрашивает — теперь вы убедились в бесполезности сопротивления? Небо на нашей стороне — ваши боги попраны, алтари разрушены, дома сожжены. Телами ваших воинов устлана каждая улица в Теночтитлане, — она замолчала.
Кортес ждал, как отзовутся на её слова ацтекские вожди.
Те стояли, как каменные, лица их оставались спокойны.
— Вы сами, своим неповиновением, навлекли на себя подобные бедствия. Но ради любви к вам вашего государя, с которым вы поступили так недостойно, я готов простить вас, если вы сложите оружие и вернетесь к покорности. В противном случае я превращу город в груду развалин и не оставлю здесь ни единой живой души. Некому будет оплакать вашу участь.
Индейцы выслушали её, поцокали языками, покивали, словно отдавая должное словам чужеземца. Наконец вперед выступил старик с непокрытой головой, набедренной повязке и накидкой, наброшенной на плечи. Такие плащи имел каждый крестьянин, работавший на чинампах. Голос его был не по возрасту звонок.
— Это правда, Малинцин, что ты разрушил наши храмы, низвергнул изображения богов и погубил множество народа. Без сомнения, многие ещё погибнут под ударами твоих воинов, но мы считаем это не карой, которой ты кичишься, а злодеянием. За это ты будешь наказан. Каждый из нас будет испытывать удовлетворение, если на тысячу погубленных тобой ацтеков, мы будем убивать одного белого воина. Взгляни на улицы нашего города, на крыши домов. Брось взгляд в сторону озера. Везде наши воины. Наше число растет, твоих же солдат становится все меньше и меньше. Вы погибнете не от наших макуагатлей, вас доконает голод. Скоро вы будете в наших руках. Мосты уничтожены, вы не сможете вырваться из города. Боги, наконец, предали вас в наши руки. Уицилопочтли долго взывал к отмщению, оплакивал свои жертвы. Теперь священные камни готовы, ножи наточены, дикие звери во дворце ревут, алкая трупов ваших и хлевы ожидают лукавых предателей из Тласкалы для откормления их к празднику. Жаль, что вас останется слишком мало, чтобы боги смогли вволю утолить жажду.
В следующее мгновение повсюду — на крышах домов, на улицах, боковых проходах, каналах — встали индейские воины. Большая их толпа шествовала по первому уступу теокали. Вот они добрались до очередного отрезка главной лестницы и начали взбираться по ступеням. Все выше и выше…
Вожди и старейшины одновременно повернулись и не спеша направились к выходу с площади.
— Может, пальнуть им вслед из орудия? — предложил Альварадо.
— Голову не теряй, — сквозь зубы отозвался Кортес, потом помолчал и добавил. — Берналя, Андреса, пушкаря Месу ко мне. И чтобы от самопальщиков кто-то был. Будем собирать сход.
Весть о том, что мосты на дамбах разрушены, погребальным звоном отозвалась в душах испанцев. Лагерь сразу затих, до самых сумерек во дворце копилась гнетущая, недобрая тишина. Перешептывались по углам, но редко требовалось время, чтобы окончательно осознать, что этот мрачный, ощетинившийся пирамидами город совсем скоро станет их могилой. Сильные и опытные солдаты лелеяли надежду. Пообвыкнув, побывав в переделках, они усвоили нехитрую, вечную истину. — какой смысл загадывать? Для этого командиры есть. Кортес с его удачей пока их не подводил. Пронесет и на этот раз. А если не пронесет — так тому и быть, живым в руки этих потрошителей даваться не стоит. Но таких в лагере было меньшинство. Войско, разбухшее за счет новобранцев Нарваэса, начало глухо ворчать. То там, то здесь начали вспыхивать громкие перебранки. В первое время находились люди, которые пытались одернуть крикунов, потом и осторожные осмелели, скоро в комнатах дворца заговорили во весь голос. Разве мы за тем пришли сюда, чтобы подохнуть в этом вонючем Теночтитлане? Вот радость подарить свое сердце эти поганым идолам! Кому такое в голову могло прийти? Мы шли за золотом, но не за смертью! Их обманули, заманили в ловушку. Кто обманул? Кортес! Какой Кортес?.. Подать сюда Кортеса!.. Потом, когда кто-то истошно завопил, что пора разобраться с этим Кортесом, полыхнуло со всех сторон. Рев взбунтовавшихся солдат выкатился на царский двор.
Дон Эрнандо во главе своих офицеров уже находился здесь. Вдоль стены были выстроены ветераны. Толпа навалилась на них, потом отпрянула — оттуда понеслись грозные, оскорбительные выкрики. Наконец шум начал стихать, ротные командиры торопливо принялись строить своих людей. Когда люди на площади угрюмо замолчали, Кортес шагнул вперед.
— Вот он я, ребята! Значит, нашли виноватого… Это что, бунт? Мятеж в военное время? Так, что ли, вас понимать? — он помолчал, прошелся вдоль строя. Вглядывался в озлобленные, перекошенные бородатые лица. Холодок пробежал у Кортеса по спине.
— Разговор, — неожиданно громко объявил он, — у нас будет короткий, так что можно расслабиться. Молчать!.. — неожиданно взорвался он, когда один из солдат вдруг рванулся к нему. — Я что сказал — разговор короткий… Вы собственно на чем настаиваете? Чтоб мы как можно скорее убрались отсюда?
Тут заорали все — уже с облегчением, желая высказать все накипевшее. На черта им этот Теночтитлан, если на Кубе каждый из них оставил землицу, рабов, доходный промысел. Зачем гибнуть за здорово живешь? Насчет золота? Золото давай, только в могиле оно кому понадобится…
— Вот и я о том же — мертвому золото ни к чему! — громко заявил Кортес. — Тогда, выходит, надо крепко подумать, как нам выбираться из этой дыры. Когда все орут, думать можно?! — неожиданно взъярился капитан-генерал, обращаясь к группе наиболее рьяных, зверского вида крикунов. Те сразу осадили назад. Однако Кортес тут же выволок вперед заводилу — силенок у дона Эрнандо хватало.
Перед строем солдат тотчас сник. Замерли все, кто находился на площади. Подобная выволочка была слишком хорошо известна в испанской армии — выхватят, кто попался под руку, королевский секретарий подмахнет приговор и вот милок уже в петле болтается. С бунтовщиками в военное время разговор короткий.
Кортес между тем встряхнул бедолагу.
— Держись мужчиной. Выше голову. Значит, говоришь, желаешь выбраться из этого адского места.
Солдат кивнул.
— Как? — продолжал расспрашивать Кортес.
Тот изумленно уставился на капитан-генерала.
— Я спрашиваю, как нам утроить прорыв? Днем? Ночью? В какую сторону двинуться? На Тлакопан или в сторону Истапалапана? Ну, отвечай, чтоб тебя…
Солдат изумленно таращился на капитан-генерала. Такого он не встречал, чтобы благородный кабальеро спрашивал совет у него, простого цыгана, сбежавшего в Новый Свет, спасаясь от королевского суда. И вроде всерьез спрашивает, смотрит прямо в глаза. Солдат повертел головой, помялся, потом глухо сказал:
— Откуда мне знать. Это ваше дело, капитанское…
— Вот именно, — кивнул Кортес. — Тогда зачем глотки драть? Разве в таком шуме что-нибудь решишь.
На площади уже несколько минут стояла выжидающая тишина. Кортес уже совсем вольно обратился к войску.
— Вы, ребята, во всем правы. Кроме одного. Виновного не там ищете. Я выполнил, то что обещал — теперь вы все с золотом. Так?
— Так! — радостно заорали в строю. Цыган, оказавшийся возле главнокомандующего, смекнув, что на этот раз вешать его не будут, решил польстить сеньору.
— Мы ж не о том толкуем, кто виноват, — сказал он. — А о том, как сподручнее уволочь его из этого проклятого места.
— Встань в строй, — приказал Кортес.
Солдат охотно повиновался, тогда главнокомандующий продолжил.
— Вот и я том же. Надо решить, в каком направлении двигаться…
— Не без того. Как же без рассуждения, все надо по уму… — заговорили в строю.
— Раз по уму, то прежде всего надо договориться, чтобы больше такого безобразия, как нынче вечером, не было. Доведет вас бунт до добра? Доведет?..
— Не доведет — это уж как пить дать! Куда уж тут довести… Если каждый сам за себя, никому жертвенного ножа не миновать.
— Вот так-то, — заключил Кортес. — Слушай боевой приказ — завтра будем прорываться на сушу. Всем разойтись, офицерам остаться.
Ночью Кортес дрогнувшим голосом признался Марине, что по собственной воле, он бы никогда не покинул Теночтитлан.
— Полюбилось мне это место, только название ему следует придумать иное… Когда мы накрепко сядем здесь, я назову его Мехико. Это будет великий город, краше нынешнего во сто крат. На месте большой пирамиды построю собор. Самый большой не только в Новой Испании, но и во всех вновь открытых землях. Нарядней его не будет. — Он помолчал, потом, обращаясь к самому себе, спросил. — Уйдем мы отсюда, и кем я стану? Никем! А ведь здесь я стал всем.
Он порывисто вздохнул.
Марина лежала тихо, затаив дыхание.
— Я понимаю, — горестно продолжил Кортес. — Я понимаю, что дальнейшее пребывание здесь гибельно, и ради надежды, пусть даже призрачной, можно многим пожертвовать. Можно сдать город, который уже считал своим, отказаться от сокровищ. От власти… Что в итоге? Немилость короля, неизбежный судебный процесс, который мне без денег никогда не выиграть. Бежать, значит, лишиться всех плодов завоевания. Какой жалкий конец так счастливо начавшемуся предприятию!..
— Крепись, милый, — тихо отозвалась Марина. — Ты всегда выбирал трудные решения. Ты же сам сказал, оставаться здесь значит обречь себя на гибель. Но если мы вырвемся!.. Мы обязательно вырвемся, и в твоих руках вновь появится сила…
Последнее слово она прошептала — видно, боялась вымолвить его вслух.
— Теперь спи, — добавила она. — Тебе надо хорошо отдохнуть.
Глава 13
Вечером, после окончания назначенного часа, Берналь Диас предупредил писца.
— Хосе, завтра можешь не приходить. Рассказ о «ночи печали» я попытаюсь изложить сам. Как получится… Потом мы с тобой перепишем все набело. Вслух вспоминать о той страшной бойне не могу. Прости, сынок. Я сначала сам с собой все перелопачу.
Когда молодой человек ушел, старик до самых сумерек бродил по дому. Был самый разгар влажного сезона. Над городом сутками висели низкие, набухшие дождями облака, в доме было сыро, зябко. Дали занавесила туманная пелена, накрыла вершины вулканов. Солнце перед заходом блеснуло на мгновение и вновь погрузилось в густую сизую пелену. Над землей сгустилась изморось — точь-в-точь как тогда в Теночтитлане… С утра, когда они решились на прорыв, было ясно, день выдался солнечный, прохладный все-таки Мехико лежал высоко в горах. Глядя на ясное небо, каждый из них почувствовал прилив сил. Яростно бросились они на врага, прорвались до самой западной дамбы, заваливая по ходу наступления городские каналы. Мосты над ними ацтеки разрушили загодя — видно, догадались, в какую сторону решили двигаться чужеземцы. Залпами орудий сметали баррикады. Последняя из оставшихся штурмовых башен, толкаемая тласкальцами, с трудом продвигалась по узкой сухопутной части улицы — аркебузиры и арбалетчики уничтожали стрелков, засевших на азотеях. К полудню добрались до городских ворот. Сразу за каменной аркой, встроенной в две невысокие башни, в дамбе открылся широкий, не менее, чем в двадцать шагов, разрыв. Там плескала мелкая озерная волна. Повсюду слева и справа теснились индейские каноэ. Стрелки, находившиеся в них, принялись осыпать передовой отряд конницы градом увесистых камней. Скоро положение испанцев, сгрудившихся вдоль западной дороги, стало невыносимым, только с помощью конных атак им удавалось сдерживать напор индейцев, пытавшихся перерезать колонну.
Наконец Кортес отдал приказ отступать. Добравшись до дворца Ашайякатла, после короткого отдыха в одном из помещений собрался военный совет. На нем было решено прорываться на сушу в ночное время — иного выхода у них не было.
До самого вечера плотники строили разборный мост, для его переноски и охраны было выделено четыреста тласкальских воинов и сто пятьдесят испанцев. Мне было приказано доставить к командующему одного из пленных жрецов. Кортес не пожалел для него времени, старался убедить, что лучшего способа закончить эту бойню, как разойтись с миром, он не знает. В обмен на все золото, которое было собрано во дворце Ашайякатла, дон Эрнандо настаивал на свободном выходе из города. Он давал обязательство, что в последующем испанцы погрузятся на корабли и покинут Мехико.
Тем временем была составлена диспозиция. Она выглядела следующим образом: впереди шел отряд под командованием Гонсало Сандоваля, Луго, Ордаса и Андреса Тапиа, следом обоз с сокровищами, женщины и пленные, который должны были прикрывать всадники под началом самого Кортеса, а также Авилы и Кристобаля Олида, арьергард был поручен Хуану Веласкесу де Леону и Альварадо. Им были переданы солдаты Нарваэса и около тысячи тласкальцев. Его, Берналя Диаса с тридцатью испанцами и тремя сотнями союзников из Тласкалы приставили охранять донну Марину и донну Луизу. Перетаскивать орудия были наряжены двести пятьдесят тласкальцев и полсотни человек прислуги.
Как только Кортесу доложили, что мост готов, он приказал собрать все золото и другие драгоценности в большой царский зал, где присяжные от казны Алонсо Авила и Гонсало Мехия отделили королевскую долю, о чем был составлен акт, который скрепил своей печатью государственный серкретарий Петр Эрнандес. Для переноски сокровищ было выделено восемь раненых лошадей и восемьдесят тласкальцев.
Пятину, состоящую из золотых брусков и листов нагрузили в кожаные сумы, и все равно золота в зале оставалось ещё столько, что там пройти было невозможно.
Кортес приказал собрать всех, свободных от нарядов солдат. Дон Эрнандо распорядился.
— Пусть каждый возьмет, сколько хочет, — потом, после короткой паузы добавил, — только смотрите, не переусердствуйте. Помните: темной ночью ехать налегке — вернее доехать… — больше он ничего не смог выговорить, только рукой махнул и вышел из зала.
Помнится, у Берналя сердце дрогнуло, когда он увидел, как обезумевшие люди стали рассовывать золото по карманам, навешивать на себя золотые цепи, десятками напяливать браслеты. На руки, на ноги… Разумный совет никогда человеку не впрок. Он едва успел схватить за руку молодого Талью, когда тот выбрался из общей кучи.
— Постой, парень. Не спеши. Куда столько набрал, — попытался урезонить он своего боевого товарища.
Тот, сверкнув глазами, вырвал руку и коротко отрезал.
— Поди ты со своими советами! Когда ещё такая возможность представиться. На всю жизнь наберу, — он провел ребром ладони по горлу.
…Эта картина так ясно предстала перед глазами старого Берналя, что сердце сжалось.
Других он уже не пытался удерживать. Свою долю Диас уже давным-давно приметил и отложил — никому в голову не пришло покуситься на эти вещи. Он на всю жизнь запомнил два массивных серебряных нагрудника — каждый фунтов на десять, какие-то, замысловатой работы серьги, ещё висюльки. Талья не удержался от смеха.
— Совсем ты, Берналь, из ума выжил! Зачем брать серебро, когда золота здесь, как в сокровищнице Великого Турки!
Диас пожал плечами, достал кинжал и, пристроившись в уголке, принялся выковыривать из отобранных вещей драгоценные камни. Наковырял достаточно четыре изумруда были с кулачок младенца, прекрасно отшлифованные, чистейшей воды. К этому добавил ещё какую-то мелочь. Когда осмотрел кучку, нашел, что поскромничал и не в силах совладать с собой прихватил ещё пару удивительной красоты цепей. Одну, со звеньями в виде ряда шествующих ягуаров, до сих пор запомнил. Где она теперь, эта цепь? Там же, где и Талья. Покоится где-то на дне озера Тескоко. Уже и косточки его, должно быть, сгнили.
К полуночи наконец удалось восстановить порядок и патер Ольмедо совершил молебствие. Дело их ожидало трудное, а, по мнению Берналя, вовсе безнадежное. Удивительно, но именно эта мысль о непреодолимых трудностях и придавала ему силу.
Старик отложил перо, прислушался к шуму дождя за окном. Поливало часто, глухо, уныло — в ту ночь тоже без конца шел дождь, правда, послабее, чем нынче.
К чему лукавить — в ту пору ему было трудно поверить в саму возможность гибели. То есть, он вполне осознавал, что такое возможно, но сердце чуяло — твой час, Берналь, ещё не пробил! Эта уверенность действовала возбуждающе. Не он один был такой, также бодро и молчаливо вели себя те, кто совершил первый марш на Теночтитлан. Они, в отличие от солдат, приплывших вместе с Нарваэсом, почти не разговаривали, место в строю заняли по первому приказанию. В арьергарде же похохатывали, вели себя вольно, вслух делились планами, как лучше распорядиться прикарманенным золотишком. Его обилие ещё долго веселило людей. Так, с шуточками, и вышли из крепости. В городских кварталах заранее пошарила разведка тласкальцев, сняла часовых, и голова колонны без труда, не поднимая шума, достигла городских ворот. Стало ясно, что этой ночью ацтеки никак не ожидали прорыва.
У ворот, возле первой бреши, произошла заминка. Кортес шепотом приказал офицеру, ответственному за установку моста, ускорить работу. В этот момент раздался испуганный вопль, затем закричали, засвистели воины, охранявшие противоположную сторону пролома.
Ночь ожила мгновенно — изобильно и ярко вспыхнули костры на вершинах городских пирамид, жрецы затрубили в раковины и вдобавок, словно лишая прорывавшихся испанцев последней надежды, громко заухал священный бубен на большом теокали. В тот миг Берналь успел изумиться — когда же они, черти, успели починить его. Видно, правду рассказывала донна Марина, что это уханье способно разбудить самого Уицилопочтли.
Берналь Диас обвел взглядом подслеповатый, зарешеченный сеткой дождя небосвод. Отсветы костров высветили лохматые, жуткие космы, которыми тучи едва не задевали вершины пирамид. Тут же вопли, раздавшиеся со всех сторон, оторвали его от созерцания разгневанного, беременного мщением неба.
Крики, стоны, вопли, лязг оружия, истошный собачий лай вперемежку с лошадиным ржанием наполнили ожившую темноту. По всей длине колонны посыпались частые арбузные выстрелы. Наконец раздался залп орудий. Просвистевшее ядро смело индейцев с противоположной стороны пролома. Сразу подсобили фальконеты, осыпавшие ядрами уйму мелких лодчонок, устремившихся в разрыв дамбы и окруживших место прорыва с двух сторон.
…Старик запахнул теплый, подбитый ватой колет, поежился. Озноб пробежал по телу — точь-в-точь, как и в «noche triste»,[49] когда при моментальных взблесках орудийных залпов он обнаружил, что число врагов неисчислимо.
Диас перевел дыхание, усилием воли взял себя в руки и, сдерживая расходившееся сердце, начал аккуратно выводить.
«…с озера поднялся туман. Только мы наладили наш переносной мост, как в одно мгновение все озеро покрылось лодками, а впереди нас столпилась такая масса врагов, что наш передовой отряд как бы увяз, и мы не могли продвигаться дальше. Тут случилось еще, что два коня поскользнулись на мокрых бревнах, упали, и мост перевернулся. Поднялась такая суматоха».
Ацтеки, как муравьи, облепили его, и сколько их не поражали, испанцам никак не удавалось вновь овладеть мостом. Если бы не пушки, вряд ли они отстояли бы эту последнюю соломинку, на которой держались их жизни. Между тем бревна наконец закрепили, и солдаты во главе с Сандовалем бросились на врага. Не останавливаясь, работая копьями, не оставляя раненых, поражая ацтеков, сидевших в лодках, они добрались до второго разрыва. Здесь поспешившие за ними артиллеристы сноровисто установили орудия и открыли убийственный огонь по растерявшими от такого напора индейцам. Те подались назад, а солдаты принялись добивать мечами и копьями туземцев, пытавшихся влезть на дамбу.
— Мост! Мост давайте! — понеслось по колонне. Сандоваль посылал гонца за гонцом в сторону арьергарда. Наконец сам Кортес отправился в хвост колонны.
Печальное зрелище открылось ему — под тяжестью людей, лошадей, перетаскиваемых орудий бревна настолько глубоко увязли в размокшем грунте, что вытащить их оттуда не было никакой возможности. Кортес, пришедший в ярость, требовал удвоить, утроить усилия. Сам же направил скакуна в голову колонны.
Как только среди солдат распространилась весть о неудаче с мостом, началась паника. Сдержать её было невозможно! Сам дон Эрнандо в компании с Сандовалем и другими офицерами авангарда направили коней в воду и попытались вплавь преодолеть пролом. По счастью чуть в стороне от торчащих из воды острых кольев кто-то из всадников нащупал что-то похожее на брод. Следом за ним на противоположный край дамбы выскочили и другие конники. Тут же в воду стали бросаться пехотинцы…
Берналь Диас задумался, глянул в темное окно. Трудно сказать наверняка, но, по его мнению, ацтеки только и ждали этого момента. Для них сражение на воде было подобно пиршеству. О такой войне они молили своих богов. Здесь чужеземцы были беспомощны, здесь не спасали ни умение воевать строем, ни стальные мечи и копья, ни мечущее гром и молнии оружие, и если отряд Сандоваля, состоявший из опытных бойцов под прикрытием артиллерии сумел переправиться почти полностью, а затем оттеснить индейцев, засевших на дамбе, то напиравший сзади арьергард, окончательно расстроив ряды, был обречен на истребление.
В воздухе беспрерывно раздавались бесчисленные крики о помощи, вопли поражаемых макуагатлями и копьями людей. Индейцы бросались на насыпь, хватали одного, другого, третьего испанца и скатывались с ними в воду. Здесь вязали, затаскивали в лодку и отвозили в город. Те же, кто был без меры перегружен золотом, падая с дамбы, непременно тонул.
…Левая свеча на трех рожковом подсвечнике выгорела окончательно. Берналь оторвался от воспоминания, послюнявил пальцы и притушил огарок, потом отрешенно отправился в кладовую. Также бездумно оплавил свече донышко, поджег фитилек и наколол на штырь.
Чуть посветлевшая, вязкая от взбаламученной грязи поверхность озера вновь предстала перед его взором. Привиделась донна Марина с истошным визгом пытавшаяся направить свою лошадь в эту маслянистую влажную жуть; он сам, уставший до предела, схвативший лошадь под уздцы и мощно потащивший животное в воду. Лошадь отчаянно заржала, наконец раздвинула грудью беспорядочную, крупную зыбь, обильно плескавшуюся на земляной откос дамбы. Берналь покрепче ухватился левой рукой за луку седла и поплыл рядом. Время от времени под тяжестью панциря и шлема погружался в воду, но тут же касался дна и, оттолкнувшись, выскакивал на поверхность. Если бы они оказались в крайнем ряде спасающихся людей, вряд ли им удалось избежать плена. Помнится, он долго таким образом дрыгал ногами, пока неожиданно не коснулся илистого дна носком сапога, затем ему удалось встать на всю ступню. В то же мгновение уханье большого бубна долетели до него и далее он побрел, подчиняясь ритмичным, громовым ударам. Противоположный край пролома уже был совсем рядом, возле него сгрудились лодки. С одной из них в него ударили копьем — попали в панцирь. Донна Марина пронзительно и тоненько заголосила, он прикрикнул на нее: «Заткнись!..» Но было поздно — индейцы уловили женский голос, взывающий к милости Кецалькоатля, Иисуса Христа, Девы Марии, и бросились к ним. Двоих из них он успел продырявить, потом, увернувшись от копья, бросил седельную луку и взял меч обеими руками. Бросившегося на него индейца сразил ещё на лету. Внезапно из воды выскочил ещё один туземец. Видно, знатный — запомнилось кольцо, которое было продето у него в ноздре. Вот, приметившись по этому кольцу, направив лезвие чуть ниже, он с оттяжкой и рубанул. Голова, срезанная толедским клинком, скатилась в воду, несколько раз качнулась на поверхности и, перевернувшись кольцом вниз, ушла на дно. Следом погрузилось тело… Острастка оказалась убедительная, и лодки отпрянули он них. Тут из-за спины опять раскатисто громыхнуло. Ядро шлепнулось о поверхность воды, часто заскакало и врезалось в переднюю лодку. Всех индейцев — их было человек пять-шесть — накрыло сразу. Он повернулся к донне Марине — глаза у неё расширились до таких пределов, что Берналь невольно вскрикнул. Ведьма она и есть ведьма!.. Лошадь вдруг дернулась и вытащила женщину на край дамбы, он выбрался следом за ней. Здесь перевел дух — и снова в бой. Рубился, помнится, в такт с ударами священного барабана. Так и ухал с плеча… вел лошадь под уздцы и крушил мечом эту обезумевшую нечисть…
Там ему впервые довелось столкнутся с индейцем, приладившим испанский меч к копью. Он ткнул им в его сторону, угодил под металлическую юбку. Хорошо, что копье было на излете, а то проткнул бы его до самого позвоночника. Бил снизу, из лодки… Берналь ухватился за древко и с силой дернул. Ацтек вывалился из лодки прямо ему под ноги. Плюхнулся в раскисшую землю. Тут ему и конец пришел.
Старик отбросил перо — кляксы редкой, убывающей по величине цепочкой побежали по бумаге. Картины дикой резни, вопли донны Марины, удары бубна, предупреждающие оклики товарищей: «Слева, Берналь! Бей!..» — и тут же вгоняющие в ужас крики умирающих, захватываемых в плен товарищей, — одолели его. Руки мелко задрожали, сердце заухало в груди.
Как обо всем расскажешь? Какие найдешь слова, что можно сказать о крови, светлыми разводами расходящейся по поверхности озера? Вода в близких сумерках приобрела зловещий угольный цвет. Каждый кто побывал в бою, навидался подобного досыта. Тем же, кому не довелось, описывать бесполезно. Через это надо пройти, поцеловаться со смертью. Она с каждым лобызается по отдельности, каждого по-своему жалует в сахарные уста. В бою только и вертишься, по-звериному хитришь, стараешься избежать этого поцелуя.
Наконец он справился с сердцем, аккуратно обмакнул гусиное перо в чернильницу, выточенную из оникса, и принялся писать.
«Конечно, никто не думал о диспозиции, столь тщательно разработанной! Да и недалек умишком был бы тот, кто при таких обстоятельствах не помыслил о собственном спасении. Сам Кортес и другие офицеры нисколько не отличались от других: в карьер неслись они по уцелевшим мосткам, строясь как можно скорее выбраться на сушу… Не пригодились нам ни аркебузы, ни арбалеты, ибо они отсырели в воде, к тому же темнота не допускала прицела. Согласованных действий не могло быть, и если мы не разбрелись окончательно, то лишь потому что все одинаково неслись к одной цели, имея в распоряжении одну-единственную дорогу.
И все же мы продвигались! Трудно сказать, что сталось бы с нами, если бы все произошло не ночью, а при свете дня! Не спасся бы ни один человек! Впрочем, и в ночную пору было ужасно: то тут, то там мексиканцы овладевали кем-нибудь из наших и волокли его в храм на зарез…
На сушу мы выбрались возле Тлакопана. Здесь, кроме передового отряда и спасшихся из других частей войска, мы по голосам различили и самого Сандоваля, и Олида, и Морлу — они требовали от Кортеса, чтобы все немедленно вернулись на помощь отставшим, особенно застрявшим у злополучного моста. «Иначе, — настаивали они, — все там полягут». Редко, кто пробивался до нас, да и то в полумертвом состоянии.
Кортес спорил, доказывал, что вернуться — всем погибнуть, потом, однако, плюнул, отобрал немногих, более-менее здоровых и повернул обратно».
Берналь на мгновение задумался и вычеркнул последнюю фразу. В этой спасательной вылазке он участия не принимал. Потом ему рассказали, что отбили немногих. Нашли Альварадо, с ним семерых испанцев и восемь тласкальцев. Все были изранены так, что у белых кровь сочилась по латам и штаникам, а индейцы руками зажимали раны. Дальше пробиться, предупредили они, нельзя… Кортес попытался было организовать атаку, но ряды индейцев на дамбе уплотнились так, что прорваться к своим не было никакой возможности.
Альварадо, рассказывая об участи, постигшей арьергард, рыдал навзрыд. Погибла почти вся конница, сам Хуан Веласкес де Леон и вся его пехота полегли на дамбе. Вслед за Альварадо пробились восемь десятков человек. Сам дон Педро утверждал, что перемахнул через пролом с помощью копья. Разбежался, оперся древком о дно и прыгнул…
Ему, Берналю Диасу, неоднократно приходилось сражаться подле этого моста, который и сейчас называется Salto de Alvarado. Он может уверить, что там немыслимо перемахнуть подобным образом.
* * *
Тусклый рассвет обнажил страшную картину гибели войска. Бой на дамбе все ещё продолжался. По-прежнему басил на вершине пирамиды священный бубен. Над городом и озером клочьями лежал туман, из глубины его доносился непрестанный не умолкающий гул, сквозь который изредка прорывались отдельные крики, звон металла. Не было слышно ни единого выстрела — ни орудийного, ни аркебузного… Кортес некоторое время не отрываясь смотрел в ту сторону. Крепился… Потом не выдержал, присел на поваленный ствол кипариса. Крупные слезы хлынули по щекам. Однако горевать времени не было. Тем, кто добрался до суши, тоже пришлось не сладко. Скоро на помощь атакующим нас со стороны плотины подоспела подмога из Тлакопана. Особой резвости и ожесточения они не проявляли, однако с наступлением дня, разглядев сколько нас осталось, они непременно воспрянули бы духом. Стеснили бы наше движение и могли дать время главным силам ацтеков добраться и до тех, кто обрел спасение на берегу.
Потери наши были ужасны — в строю осталось чуть больше четырех сотен человек, два десятка лошадей, дюжина арбалетчиков и семеро аркебузиров. Запасы пороха почти истощились, а тот, что остался, окончательно промок. Тетивы у самострелов отсырели. Люди Нарваэса погибли почти все — слишком нагрузились они проклятым золотом. От тласкальского отряда осталось несколько десятков воинов. Погибли все пленные, включая сына и двух дочерей Мотекусумы. Как нам стало известно в последствии, около сотни испанцев сумели прорваться в Теночтитлан, где засели в одном из храмов. Трое суток они отбивали атаки ацтеков, потом, обезумев от голода, сдались. Все они, как, впрочем, и захваченные ранее, были принесены в жертву Уицилопочтли. Также, как и наши женщины, среди которых было пять испанок. В живых остались только донна Марина и донна Луиза, дочь старого Шикотенкатля, одного из вождей Тласкалы.
Тласкала! Горная страна!.. В той стороне теперь лежала наша «страна обетованная», там нас ждало спасение. Туда мы и держали путь…
Часть III
Глава 1
В середине сентября в моей усадьбе в Кастильехо де ла Куэста созрели удивительные плоды томатотль. Их привезла из-за моря моя супруга донна Хуана. Каждый год семена высаживали в деревянные ящики, поливали, они давали обильную поросль, которую потом рассаживали по горшкам — это была редкая диковинка в наших краях. Крупные, густо-красные плоды вызывали оторопь и восхищение у всякого, кто появлялся в доме. Не было в округе благородного кабальеро, который пропустил бы подобное зрелище, однако, уверяю вас, во всей Испании вряд ли найдется смельчак, безрассудный до такой степени, чтобы съесть это «чертово яблоко». Что там съесть — слуги прикоснуться к ним боятся. Верят, это самое ядовитое растение на свете и одним таким помидором — стоит покрошить его в пищу — можно отправить на тот свет весь городок.
Таков человек! Не помогло и то, что я на глазах у прислуги, разрезав особенно крупный плод на мелкие части, сдобрив его сольцой, полив сметаной, невозмутимо слопал мясистую мякоть. С того дня в глазах простолюдинов я несомненно прослыл незаурядным, «историческим», человеком, первым во всей Андалузии решившимся отведать помидор. На это мог быть способен только чародей, поэтому злоупотреблять помидорами я не решился — отчасти от того, что не испытываю склонности к подобным экзотическим блюдам, отчасти из-за опасения поставить в неловкое положение своего капеллана Гомару, которому пришлось бы донести в святую инквизицию, что его патрон имеет склонность к необычной, смущающей души добрых христиан пище. Конечно, мне плевать и на досужие суеверие толпы и на братьев-францисканцев. Они всего-навсего пожурили бы меня — в отношении титулованных сеньоров руки у них коротки, однако потом местные монахи замучили бы визитами и просьбами о пожертвовании — на этот счет святые отцы в нашей Испании большие мастера. Если вцепятся, потом не оторвешь.
Служанка, которой было поручено выносить на дневной свет эти растения, каждый раз заметно пугалась. Следить за её испуганным лицом было очень увлекательно. Покачивающие плоды приводили её в ужас. Как-то один из них, совсем перезрелый, оторвался от стебелька, скатился по её платью на пол и там развалился, обнажив свое помидорное, жирное, пересыпанное семечками нутро. То-то было шума и слез!.. Эту деревенщину едва удар не хватил. Пришлось заменить её ладной, толстоногой, похожей на бочонок с вином служанкой. Эта решила сразу припугнуть ядовитое растение — прочитала молитву и что-то осторожно сунула в землю. Какой-нибудь амулет, должно быть…
Котята заметно подросли, прозрели, начали время от времени навещать мой кабинет. Один из них был настоящий красавчик — белый с рыжей шапочкой и попонкой. Глаза зеленые… Совсем, как у толстушки донны Луизы. Этой женщине досталось более всего во время нашего бегства из Теночтитлана.
Грозная опасность, нависшая на остатком войска, гнала нас вперед. Куда? В ту пору я сам не мог дать толковый ответ на этот вопрос. Уверял других, что в Тласкалу, но сам не очень-то верил в неизменность дружеских чувств её старейшин. Ненависть молодого Шикотенкатля тоже не была для меня тайной. Стоило ацтекам в тот критический момент договориться с тласкальцами — и наша песенка была бы спета.
Наше отступление на север, в обход озер Халкотан и Сумпанго, скорее походило на нескончаемый, то разгорающийся, то затухающий бой, чем на планомерное отступление. Уцелевшие тласкальцы указали нам направление на Тласкалу и с тонким умением повели нас по мало проходимым и заброшенным дорогам. Мы шли с поспешностью, на какую только были способны. Посередине брели тяжелораненые, часть их была кулями навьючена на раненых лошадей. Там же двигались и обе уцелевшие индеанки. Колонну охраняли боеспособные солдаты, конечно же, все до единого тоже покалеченные. Два десятка уцелевших всадников охраняли колонну то с фланга, то с тыла. К вечеру того же дня мы наткнулись на высокую и крепкую пирамиду, окруженную невысокой каменной оградой, где смогли наконец остановиться, развести огонь и наскоро перевязать раны.
На этом месте впоследствии был построен храм Марии-спасительницы, слава его прогремела по всей Мексике. Правда, в ту ночь нам и в храмовом дворике пришлось туго: еды никакой, перевязочного материала нет — бинтами служили наши собственные грязные лохмотья. У многих раны воспалились, а промыть их не было никакой возможности.
Сказать, что в те дни я не мог найти себе места от отчаяния, было бы неверно. Действительно, в ту пору сон почти не брал меня, потому что нестерпимо болела раненая голова. Ночами я отправился проверять караулы, потом подолгу сидел у костра. Не давало покоя тупое ожесточение. О разгроме старался не вспоминать — будущее также мерещилось в таком черном свете, что я старался вовсе не думать о нем. Сидел, подбрасывал хворост в огонь, пока не проваливался в дрему. Стоило мне пошевелиться, и сразу голову словно раскалывало на две половинки. Донна Луиза смачивала рану настоем каких-то трав. К утру становилось легче… Однажды заполночь ко мне пришла Марина, пристроилась рядом, обняла… Долго сидели молча — ночь выдалась замечательная. Теплая, сухая… Потом разговорились. Я выложил ей свои сомнения насчет Тласкалы.
— Такого быть не может, — ответила он. — Горцы никогда не помирятся с ацтеками. Тем более теперь, когда мы вырвались из Теночтитлана.
Слушал я её в пол-уха. Ход мыслей этой женщины был мне не совсем понятен. Ей всегда удавалось ловко вывернуть наизнанку любую, самую ясную ситуацию. После ужасного разгрома на дамбе, усмехнулся я, после потери всей артиллерии, вряд ли мы можем представлять серьезную угрозу для Куитлауака, который уже доказал свои способность верно оценивать обстановку и использовать именно ту тактику, которая и позволила ему добиться успеха. Эта женщина в ответ только беззаботно засмеялась. Как всегда её смех был мелодичен, успокаивающ… Я удивленно глянул в её сторону. Последние испытания скатились с нее, как с гуся вода. Ее стальной воле, выносливости мог позавидовать любой солдат в нашем войске. Она пожала плечиками и сказала, что по поступающим к ней сведениям наибольшее впечатление на тласкальских старейшин произвел не наше бегство, не потеря «громовых чудовищ», а сам факт крупнейшей неудачи ацтеков в этой войне. То есть, эта баба всерьез утверждала, что само наше появление в Тласкале в составе пяти сотен бойцов будет сочтено величайшим подвигом и победой испанского оружия!
Каково!..
Она всерьез утверждала, что прорыв в Тласкалу является не только возможностью спастись, но и первым шагом к окончательной победе над врагом. Если, конечно, нам удастся прорваться…
— После разговора с пленными, — объяснила она, — стало ясно, что никто из более-менее сильных данников Теночтитлана не прислал послов с изъявлениями покорности. С поздравлениями — да! Но никто не заикнулся о возобновлении дани. Даже в Чолуле затаились. Более того, со всех сторон доходят слухи о бесчинствах отрядов ацтеков, о грабежах и самовольных захватах людей. Так что, по мнению тласкальцев, ситуация вернулась ко времени сбора прошлогоднего урожая.
Дело в том, с точки зрения тласкальцев, сапотеков, мишкиков, тотонаков, уастеков, чиапанеков, всех племен науа — данников Теночтитлана, прочих подвластных ацтекам земель, — никто из нас не должен быть вырваться из этого островного города. Этого требовал Уицилопочтли! Это было необходимым и важнейшим условием сохранения господства ацтеков над всей Новой Испанией. С богом войны нельзя договориться — вот, мол, какая-то часть пополокас пусть уходит, а оставшихся мы принесем тебе в жертву. Если мы смогли вырвать у смерти более полтысячи солдат — это говорит о том, что наши боги действительно сильны и непобедимы. Вот в чем суть. Вспомни, со сколькими людьми ты высадился на эту землю? Это ядро, в основном, и сохранилось. Значит, все только начинается — так рассудили все, кто попал под железную пяту ацтеков. Главное для них — Малинцин жив, и это обесценивает все, чего ацтеки добились в «ночь печали». Если бы тебе дали в руки игрушечное оружие и ты погиб бы в ритуальном сражении во славу бога плодородия Шире, все они тут же бросились бы под сень Теночтитлана. Опять же, кроме тласкальцев. Эти сразу бы начали готовиться к войне.
— По моим сведениям, — добавила она, — Куитлауак ничего не может поделать со своими жрецами. И с войском, конечно… Как его племянник Куаутемок не доказывает, что нас надо немедленно перехватить, всех переловить, пока мы не добрались до Тласкалы, жрецы отвечают, что гораздо важнее сначала оказать честь богам, устроить богатые жертвоприношения, оповестить всех, что Уицилопочтли наказал пополокас, а потом уже окончательно разделаться с бандой чужеземцев. Они готовят посольство в Тласкалу, которое должно убедить горцев, что их бог войны оказался сильнее и могущественнее бога белых. Если те спросят послов — почему всесильный Уицилопочтли допустил, чтобы Малинцин с самой боеспособной частью вырвался из окружения, они ответят, что Уицилопочтли, Тлалок и другие небожители пока насытились. Когда же они вновь потребуют крови, они, ацтеки, переловят чужеземцев и приволокут их на жертвенные камни.
— Подобным образом рассуждал и Мотекухсома, — сказал я.
— Конечно! Вождям ацтеков сейчас наиболее важным кажутся обильные жертвоприношения, количеством которых они хотят убедить данников в своей силе и неизменном покровительстве богов, чем менее важная и, на их взгляд, легко выполнимая задача окончательного уничтожения чужеземцев. Пока погубить нас они поручили своим колдунам. Дело в том, что впереди нас ждет древний город Теотиуакан. Это жуткое, безлюдное место. Там ацтекские колдуны и готовят нам какую-то пакость. Морок нашлют или постараются нагнать на нас бурю. Вот ещё откуда можно ждать беды — за Теотиуаканом лежат земли Тескоко, второго по важности города тройственного союза. С той стороны тоже следует ждать засаду.
Я недоверчиво глянул на нее.
— Как ты можешь знать об этом?
Марина неотрывно смотрела на огонь, за те минуты, что я наблюдал за ней ни разу не моргнула. Бешеные язычки пламени отражались в её глазах. Я невольно отвел взгляд в сторону.
— Сегодня вечером, после захода солнца в наш лагерь пробрались два верных мне человека, которые со времен первого похода на Теночтитлан приносят очень важные известия. Их освободили из деревянных клеток в Чолуле, они — маги и прорицатели. Умеют гадать на веревках…
— Они свободно прошли через линию часовых?
— Не наказывай своих людей, милый. Эти маги способны проходить сквозь стены.
— Они требуют награду?
— Да.
— Что значит «гадать на веревках»?
— У них есть несколько связок длинных шнурков на манер тех, на которых наши женщины носят ключи. Прорицатели особым образом бросают их и потом изучают переплетения. Если веревки оказываются спутанными в определенном порядке, это означает смерть. Если же какой-нибудь конец отделится от остальных, они утверждают, что это знак жизни.
— А ну-ка, давай их сюда, своих колдунов.
— Прости, господин, но они не выйдут к костру, — очень тихо, почти шепотом, ответила Марина.
Из песни слова не выкинешь — я долго колебался прежде, чем спросил, не могут ли они кинуть веревки на меня и мое войско?
— Нет, господин, — прежним голосом ответила женщина. — В нашем положении веревки не помогут. Нам надо вызвать дух брата-близнеца Кецалькоатля, «бога-чудовища» Шолотла и попросить его о помощи. Возможно, он предскажет и наше будущее.
— Ну, так зачем дело стало? — нетерпеливо я спросил я.
— Шолотл обитает в этих краях, а здесь так безлюдно. Демон жаждет «чалчиуатл»…
— Это что за дьявольская пакость?
— Это не пакость. Это священный эликсир жизни, который содержится в человеческой крови.
Знал бы патер Гомара, в какой грех ей удалось втравить меня! Я позволил этим колдунам наложить чары на волшебный город богов Теотиуакан, чтобы темная сила, которая спит в этом гигантском погребальнике, не встала бы против нас черной, непроницаемой стеной.
Боже милосердный!.. Прости грехи рабу своему, ведь не ради собственной корысти я дал разрешенье совершить дьявольский обряд, но ради торжества лика твоего в этом диком краю, где когда-то посмели посмеяться над твоим апостолом. Вина моя велика, но разве не искупают её мои великие тяготы и страдания, которые мне довелось претерпеть в Мексике. Не о себе я думал, когда наш измученный отряд добрался наконец до этого жуткого Теотиуакана. Более страшного места я не встречал в тех землях. После пребывания в этом заброшенном городе страшные джунгли страны Гондуры кажутся райскими кущами. Боже праведный, учти, что обо всем знал и патер Ольмедо, а это был истинно святой человек. Он словом не обмолвился насчет запрета колдунам совершить свой шабаш на окраине Теотиуакана. Сам всю ночь не смыкал глаз, молился в походной часовенке. Господи, не могли мы обойти стороной этот проклятый город. Сил не было лазать по горам!.. Единственная ровная дорога проходила неподалеку от этих дьявольских пирамид. Врагов здесь не было — индейцы за лигу обходили безлюдный город. А нам требовался отдых! Я все взял на себя, рискнул спасением души. Неужели, Боже, ты осудишь меня за это?
Дон Эрнандо замер в своем кресле и не мигая, выпучив глаза, смотрел в окно. Юная, широкая в кости служанка осторожно, что-то пришептывая про себя, шурша юбками, вынесла во внутренний дворик высокое, в пару футов высотой растение, на котором нахально и спело красовались «чертовы яблоки». Поставила на солнце, направилась за следующим горшком… Следующее растение было мельче, и плоды на нем зрели величиной с детский кулачок…
Первая ночь в окрестностях Теотиуакана выдалась лунная. Небо было чисто, поэтому, может быть, к утру заметно похолодало. К рассвету со стороны Тескоко и невысоких округлых гор, окружавших широкую округлую долину, где был построен священный город, стало натягивать туман. Но как-то робко, тонкими слоями. Эту немощь Марина поставила себе в заслугу. Колдуны всю ночь жгли в калильнях какие-то травы — дух от них шел ароматнейший, от этого запаха очень хотелось есть, — резали себе руки и капали на огонь свою кровь. Гадали на дырявом металлическом зеркале — посматривая на его поверхность, наблюдали за луной, лопотали что-то по-своему… Ну их, слуг дьявола! Я отослал их подальше от лагеря, к самому подножию пирамиды Луны. Сам вместе с Берналем встал на часах, чтобы кто-нибудь случайно не набрел на магов. Вот была бы паника!..
Томили они нас до самого рассвета, однако ничего чудесного не случилось! Не с твоей ли помощью, Господи, адские силы не смогли распахнуть врата в преисподнюю, которые по преданиям индейцев, находились в этом городе?
Как утверждает Марина, Теотиуакан был построен как место обитания небожителей, когда те спускаются на землю. Само название свидетельствует об этом. Оно так и переводится — «место обитания богов», хотя я никакой особенной жути в его окрестностях не обнаружил. Повсюду заросли опунций, среди которых возвышаются гигантские земляные холмы. Вокруг каменные завалы. Один из колдунов утверждает, что когда-то здесь содрогнулась земля, и некоторые храмы, а также ограды, рухнули.
Цитадель, где должен был состояться ритуальный обряд, была расположена чуть поодаль от пирамид и выглядела куда более зловещей, чем эти рукотворные горы. Она напоминала заброшенный военный плац, со всех сторон обнесенный валом. В северном углу находился храм этого дьявольского Кецалькоатля. Господи, вот где сердце у меня дрогнуло! Пирамида здесь сохранилась в своем первозданном виде. Куда не глянешь, на каждом ярусе огромные, выползающие на свет змеи. Десятки, сотни змей!.. Пасти разинуты, за каждой головой какая-то адская одиннадцатиугольная звезда, напоминающая воротник. Глаза черные, вырезанные из обсидиана и отполированные с такой тщательностью, что глянешь на них и увидишь себя в дьявольском обличьи.
После окончания обряда Марина принялась уговаривать меня как можно скорее покинуть Теотиуакан. Маги вымолили безопасный путь до Отумбы большего они добиться не смогли.
Я задумался, потом долго осматривал окрестности. Перед нами на востоке лежала горная гряда, где по сведениям тласкальских разведчиков тескокцы выставили большой заградительный отряд. Что-то около пяти тысяч… Вступать с ними в бой было сущим безумием, ещё один день отдыха был нужен нам, как воздух. Место здесь было тихое, здоровое, правда, мало воды… Насколько мне было известно, тескокцы были способны выставить армию в тридцать тысяч человек. По словам Марины и её лазутчиков, жители Тескоко не очень-то жаждут класть головы за Теночтитлан, тем более теперь, когда мне удалось вырваться из столицы. Значит, все должно решить первое сражение. Если мы победим, путь на Тласкалу будет открыт.
Однако вид гигантских пирамид Солнца и Луны, унылый облик этого места и мне внушал порядочный страх. Без сомнения, темная сила копилась здесь и как бы во время отдыха нам не оказаться во власти демонов. Хватит ли патеру Ольмедо сил отогнать дьявольское наваждение? Что мне оставалось делать? Я вынужден был пойти на риск — приказал позвать двух жилистых, худущих, как скелеты, индейцев и предложил им поработать ещё одну ночь. Пусть продолжат воскурения и молитвы… Колдуны и Марина решительно отказались. Я принялся было настаивать, но те буквально помертвели от страха. Пришлось прикрикнуть на них, а донну Марину потаскать за косы. Потом вызвал из лагеря Берналя Диаса и предупредил — если они будут упрямиться, этот храбрый солдат не раздумывая снесет им головы. Стоит мне только пальцем пошевелить!
Они заявили, что Шолотл требует «чалчиуатл». Иначе он разгневается и тогда всем нам будет худо.
— Делайте, что хотите, — предупредил я их, — только чтобы ночь прошла спокойно.
Весь этот разговор совершался в тайне, неподалеку от лагеря. В моем положении я не мог пренебрегать ни единой возможностью обеспечить людям нормальный отдых.
Те что-то возбужденно залопотали, Марина долго слушала их, отрицательно качала головой, потом вытерев заплаканное лицо, призналась.
— Они говорят, кровь жертвы — это очень мало. Шолотл будет недоволен.
— Чего же он ещё требует? Золота?..
— Нет, — с трудом выговорила Марина. — Магам нужна твоя кровь.
Она тут же испуганно прижала руки к груди и торопливо добавила.
— Всего одну каплю. На лезвие твоего ножа.
Я остолбенел.
— Иначе, ты их хоть казни, они не берутся!..
Ни слова не говоря, я попросил патера Ольмедо и лиценциата Диаса молиться всю ночь. Пусть тоже отгоняют злых духов. Осветят воду и обрызгают окрестности лагеря… Мера небесполезная, когда речь идет о милости богов. Берналь Диас после долгих колебаний, вздохов, поминаний имени Девы Марии и Иисуса Христа, наконец согласился сопутствовать мне. Вечером мы оба исповедовались, причастились. Святые отцы осенили нас крестным знамением и мы наконец направились в сторону храма Кецалькоатля. Я вел Марину за руку, на груди она спрятала изображение Пресвятой Богородицы. У ворот нас ожидали два колдуна с обнаженными торсами, в оперенных юбочках, с браслетами на ногах. Тяжелый венец из птичьих перьев был надет на голову одного из них, у другого за повязанную посередине лба ленту был воткнуто перо какой-то местной птицы. Здесь с наступлением сумерек с распятием в одной руке и мечом в другой мы заняли позицию неподалеку от входа в этот языческий «монастырь».
— Идите, — я указал им пальцем в сторону оскалившейся змеиными пастями ступенчатой пирамиды Кецалькоатля. Они замялись.
— Черт с вами, — выдохнул я. — Берите!
Я вытащил кинжал и протянул его главному магу ручкой вперед. Тот осторожно взял оружие. Взял меня за левую кисть, сделал небольшой надрез на запястье. Кровь, темная, густая, брызнула на лезвие. Колдун торжественно, обеими руками взял кинжал и направился вглубь двор. Скоро они пропали во мраке.
Индеанка медленно приблизилась, прижалась ко мне. Крупная дрожь сотрясала её тело. Я хотел успокоить женщину, но, признаться, у меня самого руки дрожали.
Когда колдуны вошли в раж и окутанные дымом принялись бить в бубны и голосить на всю округу, я увел её и Берналя. Навстречу нам два невысоких крепких тласкальца протащили щуплого молоденького индейца. Лицо его было совершенно спокойно и невозмутимо. Бедняга уже вообще ничего не видел взгляд у него остеклянился, он уже вел беседу с богом…
На утро мы с Берналем Диасом не сговариваясь решили, что пусть случившееся этой ночью, останется между нами. Я объяснил, что глупо рассчитать на объективность человеческого суда, пусть нами займется Спаситель. Ему решать нашу судьбу.
На следующий день ещё до полудня мы добрались до горной гряды, и с вершины перевала нам открылось поджидавшее нас войско индейцев. Стройными рядами они запирали дорогу, ведущую в Тласкалу. Свежие, возбужденные, уверенные в том, что без громовых зверей они возьмут нас голыми руками.
Я построил войско самым широким фронтом, с флангов наш отряд защищала конница. Перед боем я предупредил ребят — мечом не рубить, а только колоть. Всадникам было предписано держаться кучно и метить острием копья исключительно в лицо врагу. Прежде всего убивать командиров. Местность вокруг была исключительно удобна для действий кавалерии — поле было ровным как стол, ни ухаба, ни овражка, ни ямочки!.. Глядя на все эти удобства, меня так и подмывало съерничать что-нибудь по поводу Шолотла — гляди-ка, как языческий демон постарался! Но все это была нервная дрожь, тихая истерика. Каждый из нас понимал, что положение безнадежно. У нас не было выбора, как только погибнуть в бою — ложиться на жертвенный камень никому не хотелось. Я старался отогнать эту пагубную мысль, потом неожиданно — уже перед самым началом битвы — неожиданно рассмеялся. Почему пагубную? Я прислушался к голосу сердца — оно подсказывало, что ни мне, ни большинству моих товарищей не суждено здесь лечь костьми. Мы были предназначены для лучших дел! Я так и сказал солдатам. Что думал, то и выговорил в эту последнюю перед атакой минуту. Мы первыми двинулись на врага.
Несколько раз прошлись по покатой низине. Скольких индейцев положили, сказать не могу — трупы их были раскиданы повсюду. Тескокцы, опешившие сначала, теперь постепенно приходили в себя и, потеряв множество народа, наконец избрали правильную тактику. Они решили загонять нас, обессилить, потом уже навалиться со всех сторон. Мыслили верно, но очень долго — дали мне время оценить обстановку, найти решение. Оно оказалось совсем простым. В одну из редких пауз я собрал всю конницу и, указав на пышно разодетого, с огромным плюмажем из кецальевых перьев на голове командующего индейским войском, стоявшего во главе целой группы знатных индейцев, приказал:
— Берем их!
Мы, разогнав лошадей, насквозь прорезали ряды туземцев. В нескольких десятков шагов я нацелился копьем в лицо вождя — тот и ахнуть не успел, как я опрокинул его на землю. Лейтенант Хуан де Саламанка, соскочив с коня тут же добил его мечом. Делом одного мгновения было подхватить богато вышитый индейский штандарт и на глазах у всего вражеского войска сломать его.
Ряды тескокцев дрогнули. Они побежали…
Дело под Отумбой обернулось для меня тяжким испытанием. Бог не оставил без кары мое ночное прегрешение и, даровав нам великую победу, тем не менее позволил какому-то нехристю ещё раз ударить копьем в мою голову. Рана оказалась тяжелой, был пробит череп, страшная боль не давала мне покоя. В течение полдневного марша, во время которого мы пересекли границу Тласкалы, и при встрече со старейшинами этой земли, которые выказали нерушимую верность, и по пути в столицу, где на дорогах нас вновь встречали толпы ликующих жителей, — я крепился, как мог. При встрече старый Шикотенкатль обратился ко мне с такими словами:
— Малинче, Малинче, сколько раз мы советовали тебе не доверять ацтекам. Что ж, теперь нам остается только лечить ваши раны, укрепить вас сытной пищей. Считайте себя у нас как на родине: отдохните сколько нужно, а там уже обоснуйтесь в Тласкале. Вырваться из Теночтитлана — это подвиг. Неслыханное дело!.. Конечно, многие из нас, особенно женщины, оплакивают своих мужей, братьев, и сыновей, погибших в боях, но вы не слишком огорчайтесь их слезами и воплями.
В Тласкале я свалился окончательно и местные знахари удалили у меня из черепа сломанную кость. Две недели метался в горячке. Наконец хворь отступила. Я быстро пошел на поправку. Дел было по горло.
Меня ждал Теночтитлан.
Глава 2
Как только лазутчики донесли, что Малинцин, остановившийся в Тласкале, приказал рубить деревья и строить из них большие лодки, наподобие тех, что плавали в прошлом году по озеру Тескоко, новый правитель Теночтитлана Куаутемок, избранный на трон после смерти своего дяди Куитлауака, сразу отдал распоряжение возводить палисады из заостренных кольев по всей окружности острова. Сразу возник непростой вопрос — как далеко от берега должны заходить оборонительные сооружения? Скольких ученых людей он не расспрашивал, никто не мог предложить ничего дельного. Одни утверждали, что колья следует расположить таким образом, чтобы помешать высадке десанта, другие решительно возражали — ни в коем случае! Чтобы стеснить врага, загнать на глубину и там топить, все мелководье необходимо покрыть подобными заграждениями.
Куаутемок только хмурился, выслушивая подобные советы. Никто из мудрых не понимал смысла заданного им вопроса — это угнетало куда сильнее, чем постоянные сообщения об успехах Малинцина. Ведь нового тлакатекутли[50] племени ацтеков неявно интересовало совсем другое — на какое расстояние способны метать молнии громовые звери? Только немногие из молодых военноначальников и прежде всего новый правитель Тлакопана уяснили суть дела. Нельзя было позволить чужеземцам громить прибрежные постройки. Рано или поздно они сломают палисады, и тогда ничто не сможет помешать им высадиться на остров. Точно такое же непонимание проявляли его советники и тлатоани всех двадцати родов теночков, входивших в большой совет, и по отношению к удивительному оружию, которым воевали чужеземцы! Как он не гневался, сколько не посылал грозных посланий, чтобы всякую подобную вещицу — будь то меч, копье или кинжал, нагрудные латы, крылья для нагрудных лат, налокотники, кольчуги, наколенники, шлемы и каски сразу после захвата доставляли в столицу, местные касики и вожди ацтеков, под чьим началом находились военные отряды в провинциях, предпочитали тут же возложить их на алтарь своего бога-покровителя. Ничего с ними нельзя было поделать! Куаутемок после избрания тлакатекутли первым делом негласно распорядился, чтобы всех плененных «теулес» ни в коем случае не приносили в жертву, а под усиленной охраной отправляли в столицу. Напрасные усилия! Никто не обращал внимания на его указания. С каждым днем он получал все больше известий, что всех захваченных испанцев немедленно тащат на жертвенный камень. Он имел долгую беседу с обоими главными жрецами, с другими священниками — их ничем нельзя было пронять. Ни один разумный довод на них не действовал, даже просьбу отложить массовые жертвоприношения до той поры, пока ацтеки одержат окончательную победу, они встретили решительным отказом.
— Неужели непонятно, что мне нужны заложники, пленники, заложники, в конце концов, лазутчики. Ваша твердолобая политика, — он сознательно обвинил жрецов в противодействии его распоряжением, но те даже глазом не моргнули, — лишает меня глаз и ушей. Нельзя же заранее становится в оборонительную позицию при таком перевесе в силах и средствах, какие мы имеем!
— У нас нет выбора, — тихим проникновенным голосом, глядя прямо в глаза новому правителю, ответил верховный жрец Кецалькоатль Тотек-тламакаски. — Уицилопочтли ясно выразил свою волю — каждый пленник должен как можно быстрее ощутить прикосновение жертвенного ножа. Боги голодны.
Куаутемок почувствовал холодок в груди.
Всю ночь он не спал, расхаживал по дворцу Мотекухсомы. Осуждать растерявшегося, несчастного дядюшку, не имело смысла, сегодня он лишний раз убедился в этом. Но и прощать нельзя. Это ощущение двойственности, душевной неразберихи было настолько новым, необычным, никак не укладывающимся в прежний регламент жизни, в котором все было расписано до самой последней мыслишки, до мельчайшего поступка, что даже ласки его молодой жены Текухичноч не смогли успокоить его.
Сна не было. Он заглянул в зверинец. Здесь было тихо, питомцы Мотекухсомы мирно отдыхали. Сразу после избрания Куаутемок запретил кормить зверей человеческим мясом. Вообще, члены царствующей семьи, выросшие за пределами Теночтитлана, куда более настороженно относились к человеческим жертвоприношениям, чем столичные родственники. За пределами острова учение о доброй, исполненной любви сущности Кецалькоатля, его скором возвращением с благой вестью, создание которого молва приписывала двум мудрым правителям Тескоко Несауалкойотлю и его сыну Несауалпилли, имели куда больше приверженцев, чем в пропитанном имперским духом Теночтитлане. Сам Куаутемок был родом из Ичкатеопана, местности, расположенной к юго-западу от Мехико. Там, среди простолюдинов и знати, Кецалькоатля боготворили во всех его воплощениях. Особенно в образе человека, правителя легендарной Тулы, научившего людей разводить маис, бобы, томатотль, тыквы, табак, хлопок, который в его пору тольтеки на корню выращивали окрашенным. Цвета древних тканей были приятны для глаз, благородны, их разнообразие поражало…
Чтобы утолить чувство голода, Кецалькоатлю хватало цветов и змей, их и следовало приносить ему в жертву. Этот бог любил людей, верил в них, надеялся, что просвещением можно добиться большего, чем насилием и жестокостью. Он ушел, чтобы вернуться и принести народам науа свет новой истины…
Куаутемоку стало тесно и неуютно под низким потолком зала для приемов, где он устроился в темноте на низкой лежанке, которую, как ему запомнилось, очень любил Мотекухсома. Жуткая догадка пронзила его. Неужели дядя в те дни, когда получил первые известия о появлении «больших лодок, которые способны улавливать божественный ветер», тоже не мог найти покой, мучился от бессонницы, бродил по дворцу, как тень? Неужели его тоже мучили подобные сомнения?.. Старый жрец признался, что в месяц «уэн тосотли» прежний правитель часто по ночам взбирался на большой теокали и оттуда вопрошал богов — как поступить? Ждал первого появления Солнца, которое, рассыпав лучи над озером, являло себя в полном блеске своей молодости и силы. К нему обращался Мотекухсома, к божественному воплощению Уицилопочтли, к сверкающему воинственному Тонатиу — что делать? Подскажи, покровитель ацтеков.
Куаутемок не мог пересилить себя — что-то в душе перечило желанию ещё раз спросить Тонатиу. Это было греховное наваждение, его следовало преодолеть. Что значила жизнь ацтека вне служения Уицилопочтли?
Пшик! Пустота!
Он порывисто поднялся, вышел из зала, на минутку заглянул в спальню, чмокнул в щеку едва слышно посапывающую Текухичноч. Та сладко застонала, потянулась под покрывалом. Куаутемок поспешно вышел из спальни, миновал дворцовый караул, пересек двор и взобрался на верхнюю площадку одной из башен, между которыми были расположены главные ворота.
Украшенный золотинками звезд небосвод распахнул над ним свою ширь. Молодая луна нижним рожком корябала вершину на западе. Ночь выдалась ясная, тихая. Со стороны озера доносился едва слышимый звон — в детстве мать рассказала ему, что так, притираясь друг к другу, звенят накрывшие землю небеса. Числом их было тринадцать. Городская даль тоже была прозрачна между светлых кварталов темнели провалы улиц. Слева мрачной, набухшей глыбой нависал над дворцом большой теокали — на его вершине слабой искоркой подрагивал огонь. Справа лежали развалины дворца его дедушки. После бегства пополокас никто, кроме специальных команд, не осмеливался заглядывать туда.
Ночь, если приглядеться, тоже необыкновенное зрелище. Особенно такая нежная и обильная звездами. До восхода ещё несколько часов. Он припомнил вчерашний разговор насчет устройства оборонительных палисадов на озере. Итак, на какое расстояния метают громовые звери набитые смертью плоды? Вот какое заветное желание постоянно будоражило молодого короля — как бы поймать четырехногое чудовище, называемое «конем», и попытаться влезть к нему на спину. Он бросил взгляд на луну — рожок был хрупок и серебрист.
Далее сами собой поплыли пункты предложенного им плана спасения столицы. Прежде всего необходимо срочно выслать из Теночтитлана всех непригодных для обороны города граждан. Призвать на подмогу вассалов. Заняться укреплением города, как предписывал его предшественник Куитлауак. Продолжить ежедневные занятия с войсками, чтобы те могли и в поле противостоять чужеземцам, для чего необходимо срочно изготовить длинные копья, научиться действовать ими в строю. Начать партизанскую войну против пришельцев. И, наконец, самое главное — запретить называть их «teules», или, проще говоря, «богами».
Достаточно ли этих мер, чтобы одержать победу над врагом, он не знал, но каждую из них необходимо выполнить. Так требует Уицилопочтли! Ему припомнился гимн, который они заучивали наизусть в школе-калмекак.
«На битву рождается молодой воин.
Грозная Койалшауки, его сестра-Луна, грозит ему.
Братья-звезды Уицнау, числом четыре сотни, грозят ему.
Молодой воин бесстрашен. В руках у него огненная змея — солнечный луч. Этим оружием он поражает врагов.
Духи воинов, погибших в сражениях и на жертвенных камнях, встречают его. До середины неба они торжествуя ведут молодого воина.
Духи женщин, нашедших смерть при родах, приравнены к мужчинам, ибо они погибли, давая жизнь бойцам. Они встречают молодого воина, подхватывают его под руки, помогают спуститься с небосвода.
Каждый день выходит на бой молодой воин.
Крепким ему надо быть, сильным — ведь труд его обременителен, бой опасен.
Люди должны насытить молодого воина. Нет для них большей радости, чем насытить молодого воина. Но не каждая пища ему по душе.
Грубую, земную он отвергает. Только животворный нектар «чалчиуатл» по душе ему. Кровью питается молодой воин, ею он питается, с её помощью обретает силу.
Где те люди, кому доверено найти пищу для молодого воина? Кто они?
Храброе племя ацтеков — эти люди. Для них бой в радость, жизнь в радость, смерть в радость, если сыт их бог…»
Куаутемок перевел дух. Схлынул священный восторг, который он испытывал при чтении этих строк, разомкнулись пальцы, готовые сжать рукоятку макуагатля, расслабились члены. Ветерок проветрил напитанную жаждой подвига голову. Он воззвал к Тонатиу — и ничего не изменилось вокруг. По-прежнему благостно посвечивала луна, радостно, не мигая, горели звезды. Тихо было вокруг, вечно… И в сердце ничего не стронулось — все те же нагоняющие тоску вопросы вновь овладели мыслями. Если завтра одетые в железо чужеземцы разрушат Теночтитлан, изведут под корень племя ацтеков, неужели солнце никогда больше не встанет над землей? Нежели никогда больше людям не увидеть рассветов, когда небесное светило начинает брызгать первыми лучами и эти огненные змеи разбегаются по поверхности озера Тескоко? Погулять на закате, любуясь игрой света на вершинах гор? Неужели небо упадет на землю и верхние воды затопят и окружающие Теночтитлан хребты? И могучий Попокатепетль, и снеговую шапку Иштаксиуатль? Он замер, напрягся, и все равно что-то не верило сердце в мировую беду. Солнце по-прежнему будет вставать на востоке, будут повторяться такие же тихие, волшебные ночи. Только им, ацтекам, этого уже не доведется увидеть. Вот и ответ созрел — он ощутил, как острое, точное предвидение рассеяло завесу неизвестности. Не миру грозит гибель, а народу теночков! Им самим пришло время решать — быть ацтекам на этой земле или нет! Все кары — и разом! — обрушились на Теночтитлан. К военным несчастьям, к неожиданно скорому отпадению ранее послушных, заискивающих вассалов добавились страшные болезни, которые занесли в Мехико белые люди. Его дядя Куитлауак в несколько дней сгорел от жара. Лицо его вдруг покрылось зловещими язвами. Белые называют эту болезнь «оспа». Наслали они и «корь» и «горячку».[51] Сколько людей перемерло от этого «жара», трудно сосчитать.
Если ацтекам грозит гибель, то зачем же самим затягивать на своем горле петлю? Зачем воевать, как сражались их предки? Зачем сознательно идти на смерть, чтобы захватить как можно больше пленных, особенно «teules», чьи сердца, по утверждению жрецов, самая вкусная пища для богов. Скольких храбрых воинов потеряли ацтеки только ради того, чтобы связать какого-нибудь зазевавшегося пополокас. Вместо того, чтобы целить в наиболее уязвимые места, стрелки стараются только подранить белого. Еще Куитлауак пытался убедить воинов, что война ведется не с «богами» а с людьми, чуждыми нам, разрушающими дедовские алтари, силой навязывающими свою власть. Звезды и луна, враги молодого воина, вовсе не являются их покровителями. Они ставят кресты и поклоняются изображению страдающего раба, распятого за «правду». Кровь его сочится в бесплодный песок. Кто ею питается? Мать-земля? Вряд ли… Белые молятся красивой и ладной женщине, матери этого распятого пленника. Они оба снисходительно усмехаются, когда слышат древние легенды ацтеков, видят моления этого народа. И гневно сдвигают брови, насылают пополокас с громовыми зверями, когда видят человеческие жертвоприношения! А Уицилопочтли, Тлалок и вся его родня, боги земли и неба терпят! Молодой воин покорно сносит всяческие поношения, разрушение своих храмов, крещение верующих в него! А мы, выходит, должны класть за этих богов свои жизни и без конца насыщать их человеческой кровью? Белые утверждают, что человеческая жизнь имеет ценность сама по себе, люди свободны, и суд Божий обязателен только после смерти. Там спросят с каждого по мере его грехов и добродетелей. Белые прав в том, что человеческая жизнь не только исполнение предписанных предками обязанностей, но прежде всего ступень, попытка взойти на небо, поэтому ради своих же богов следует не гибнуть, а побеждать!
Он, Куаутемок обожает свою молодую жену, любит мать, с гордостью вспоминает рано погибшего отца. Неужели их жизни ничего не стоят и не значат в этом вставшем на дыбы мире? Не может того быть!..
Он так и заявил встающему над Мехико солнцу — не может быть!
* * *
Ранним утром он собрал большой совет племени и провозгласил, что согласно поступающим сведениям отряды ацтеков, расквартированные в подвластных Теночтитлану местностях ведут себя как отъявленные бандиты. Самовольно накладывают контрибуции, воины не стесняются грабить мирных жителей, чему потворствуют многие командиры. В то же время в войске Малинцина введено самые строгие наказания за обиды, чинимые мирным жителям. Как стало известно Куаутемоку, наши собственные войска довели население областей лежащих к югу от Чолулы до того, что местные вожди направили посольство в Тласкалу к Малинцину с просьбой защитить их от посягательств ацтеков. В своем послании касики просили чужеземцев «прибыть к ним со своими конями, чтобы установить такой же порядок, как в Чолуле и Топеяке». О нежелании вассалов сражаться на стороне тройственного союза свидетельствуют и события на севере озера, в городе Топеяке, куда Малинцин, пользуясь нашими неурядицами, направился с большим войском и покорил это поселение. Что там покорил — они сами сдались на милость победителя.
В этот момент в зале совета раздались гневные выкрики:
— Наказать предателей! Предать Топеяк огню, а жителей принести в жертву Уицилопочтли!
Куаутемок побелел от ярости, крепко сжал пальцами рукоятки кресла.
— Чего мы этим объемся? — тихо, угрожающе спросил он. — Чего вы хотите — победить или умереть? Наказав Топеяк, мы сами отдадим своих союзников в руки Малинцина. Вместо того, чтобы давать разумные, взвешенные советы, вы, собравшиеся здесь, своими руками затягиваете петлю на шее нашего народа. С этой минуты никто не смеет вмешиваться в мои распоряжения, касающиеся военных вопросов. Я знаю закон — вопросы войны и мира находятся в ведении совета и решаются большинством, но руководство боевыми действиями всегда было в руках тлакатекутли. Я обращаюсь к большинству и заявляю — я хочу большего! Согласны ли вы предоставить все необходимые полномочия, чтобы организовать оборону захватчикам. Другими словами, я требую от совета всей полноты власти в любом вопросе. Выносите решение!
— Позволь уверить тебя, о, тлакатекутли, — начал один из тлатоани, что все мы, здесь собравшиеся, едины с тобой в том, что необходимо дать решительный отпор пополокас. Причем, в этой войне не может быть полюбовного решения. Мы должны уничтожить их всех. До единого! Чтобы другим неповадно было. Чтобы получить передышку и навести порядок в Мехико, образумить тех, кто поколебался и наказать тех, кто отложился от нас. Мы вынуждены запугивать противника! С Малинцином нельзя договориться — он уже доказал, что его желания безмерны. Ему нужны мы все, с нашими женами, детьми, собственностью, с нашими традициями, образом жизни, с нашими богами, причудами, достоинствами и недостатками. К своему прискорбию должен признать, что ему хватает ума, выдержки и настойчивости, чтобы осуществить задуманное. Он разумно жесток и сообразуясь со своими законами, справедлив. И все же, по моему мнению, он пользуется моментом. Он ещё слаб, мы сильнее, поэтому мы должны задавить его и всякого другого, кто смеет только подумать о том, чтобы предать нас. Задавить с такой же жесткостью, с таким же усердием и с той же степенью законности, какую установили наши предки. Мы готовы сражаться до последнего, готов ли к этому Малинцин? Вот коренной вопрос, от которого зависит судьба войны. Я считаю, что Малинцин не готов пойти до конца — он слишком любит золото. И его люди тоже любят золото. Надо найти в рядах его войска тех, кто ради золота готов забыть о присяге и воинской доблести.
— Разумное предложение, Топантемок, — кивнул правитель. — Только ты опоздал. Этим надо было заняться в то время, когда чужеземцы находились в Теночтитлане. Теперь у нас просто нет времени, поэтому я опять возвращаюсь к вопросу о передаче мне всех полномочий.
— Объяви, что ты собираешься предпринять в первую очередь?
— Прежде всего заключить новые договора с теми городами и местностями, которые остались верны нам. Отныне наш Тройственный союз должен стать куда более широким и включать всех, кто готов сопротивляться варварам, посягающим на наших богов. С этой целью я отправил послание Иштлишочитлу, сыну и брату бывших владетелей Тескоко, в котором я призываю его одуматься и вспомнить, что союз с Теночтитланом привел к расцвету Тескоко. Измена и вражда будут гибельны не только для Теночтитлана, но и для его родного города. Далее, я введу смертную казнь для всякого ацтека, поднявшего руку на жизнь, здоровье или собственность мирного жителя, пусть даже это случится и во враждебном Теночтитлану месте…
— Прекрасны порывы твоей благородной души, о, тлакатекутли, но большой совет не может согласиться на подобную меру, — резко заявил один из старейшин. — По форме ты прав, по сути — это приказание невыполнимо, потому что стоит объявить подобный приказ, тут же поднимутся все эти… Мы будем вынуждены применить против них силу, но согласно твоему же распоряжению подобная мера будет караться смертной казнью. Воины попадут в двусмысленное положение, они получат два взаимоисключающих приказа. На войне подобная ситуация немыслима.
Куаутемок едва сдержал гнев, остыл. Злобиться было бессмысленно: в рассуждениях старика была своя правда…
В этот момент в зал пробрался слуга и что-то торопливо зашептал на ухо дворецкому. Тот побледнел, неторопливо поднялся и, отвесив поклон, коснувшись пальцами пола, затем своего лба, объявил.
— Тлакатекутли! Пополокас выступили походом на Истапалапан. Теперь они решили окружить нас юга, со стороны лагун Чалко и Шочимилко…
Совет торопливо утвердил программу обороны, предложенную новым правителем, однако с передачей ему всей полноты власти тлатоани родов решили повременить.
Глава 3
Сразу после выздоровления Кортес в первую очередь попытался выяснить, как обстоят дела в Веракрусе. Туда были посланы три тласкальца с письмом, в котором капитан-генерал известил коменданта крепости о всех важнейших событиях, случившихся летом 1520 года. При этом дон Эрнандо обошел вопрос о потерях испанцев. Он потребовал от коменданта величайшей бдительности и осторожности в отношении Нарваэса и Сальватьерро. Надзор за ними должен вестись днем и ночью. Далее капитан-генерал распорядился прислать в Тласкалу как можно больше пороха и весь запас стрел для арбалетов. Другое письмо было отправлено адмиралу Кабальеро — ему предписывалось ни коим образом не допускать сношений с Кубой. Кроме того, адмирал тоже должен был отправить в Тласкалу лишних на флоте людей и все ненужное оружие.
В те осенние дни Кортес выглядел как никогда энергичным. Распоряжения непрерывно сыпались на подчиненных. Он никому не давал покоя. Когда же в войске узнали, что капитан-генерал готовит новый поход в обход озера, по его северному берегу, общим направлением на Топеяк, желая наказать жителей этого города за убийство испанцев, — солдаты и офицеры, прибывшие с Нарваэсом, опять заволновались.
Это известие угнетающе подействовало на них. Опасностей и битв, по их мнению, было более, чем достаточно. Пора возвращаться на Кубу!.. Беда в том, что эти требования поддерживал Андрес де Дуэро, бывший секретарь Веласкеса, личность влиятельная в войске. К тому же все считали его личным другом Кортеса. Дуэро убеждал дона Эрнандо пересмотреть свое решение, тем более, что в Тласкалу явилось посольство ацтеков и не было никакой уверенности, что горцы не снюхаются с Теночтитланом.
— Ни в коем случае! — решительно возразил Кортес. — Тласкала будет верна нам при любых обстоятельствах. Скоро мы получим обнадеживающие на этот счет новости.
Между тем Кортесу было хорошо известно, что молодой Шикотенкатль высказался за то, чтобы принять все условия ацтеков и раз и навсегда покончить с людьми, позволяющими себе осквернять древние храмы, накладывающими свои лапы на их богатства и земли, лишающие старейшин реальной власти. Он прямо спросил отца — какие ещё нужны доказательства, что в подобных условиях Тласкала лишается самого ценного своего завоевания — свободы!
Старый Шикотенкатль долго молчал. Который час он беседовал с сыном и все не мог убедить его прислушаться к голосу разума. Нельзя пороть горячку, поддаваться страстям в час, когда решается судьба родины, убеждал он сына. Беседа шла трудно, со взаимными обидами, упреками, обращениями к небесам. Клятвы в верности Тласкале сменялись угрозами… Старик пытался объяснить молодому военноначальнику, надежде страны, что храбрость и горячность не всегда могут заменить выдержку и осторожность. Он указал, что Малинцин доказал, что способен разгромить ацтеков. Это неоспоримый факт. Песенка их заклятых врагов спета и вряд ли разумно становиться на сторону слабейшего в той непростой ситуации, какая складывалась на просторах Мехико, в землях тотонаков, мишкиков, уастепеков, сапотеков. Если бы все дело было в Малинцине! Старик, обращаясь к небу, воздел руки — если бы весь вопрос упирался в этого «teule»!.. Как его храбрый сын не может понять, что за этим «богом» стоит могущественная заморская держава, сумевшая протоптать дорожку в их мир. Еще год-другой — и они хлынут сюда толпами, ордами! Затопят горы и поля, овладеют плодородными землями и золотыми россыпями, лесами и реками. Ни на юге, ни на севере от них не будет спасения. Ты требуешь, чтобы мы в союзе с ацтеками попытались остановить их? Это невыполнимая задача — Теночтитлан обречен. Рано или поздно он падет. Мое сердце вопит от радости, что наконец-то эти изверги получат по заслугам, но я понимаю, что радости в его гибели, с точки зрения Тласкалы, мало, но с этим надо смириться. Нам следует подумать о собственной земле, сделать все возможное, чтобы волны иноземного нашествия не затопили Тласкалу. Ради этого, добавил старик, я готов на все.
Он сделал паузу, потом тихо добавил.
— Даже креститься…
Молодой вождь отпрянул от отца.
— И перестать быть тласкальцем? Умереть, поклявшись в верности чужим богам?..
— Но при этом остаться тласкальцем!.. — убежденно ответил старик.
— Так не бывает, — упрямо заявил сын. — Эти пополокас не проливают кровь на жертвенных камнях, они молятся женщине с младенцем на руках, очень много твердят о милосердии. Да, плоть им не нужна — они питаются душами. Они твердят о посмертном наказании для всех, кто не желает поклониться их распятому божеству. Они твердят о равенстве, о неделимости права человека на милость божию и в то же время считают нас хуже собак. Крещен ли наш сородич, не крещен — для них пустой звук. Все равно он грязный пес. Они жаждут золота и власти, все остальное их не интересует. Когда они победят, они заставят нас работать на них. До изнеможения, до самой смерти… Они испоганят наши души, запретят брать в руки оружие, заставят ходить с опущенной головой. Так не будет, что в союзе с Малинцином тласкалец останется тласкальцем.
— Будет… — после недолгого молчания отозвался старик. — Если ты этого не понимаешь, мне жаль тебя. Ради твоей же безопасности ты будешь заключен в темницу. Для острастки…
* * *
Сразу после описания событий в Тласкале дальнейшая работа над воспоминаниями неожиданно замедлилась.
Был конец дождливого сезона, приближался сухой, знойный период, и Берналь Диас вновь почувствовал недомогание. Было ему уже под семьдесят, жару он переносил плохо. Вырос в горах… В Мехико ему было привольно, в Тласкале и Чолуле он чувствовал себя отлично, а вот жаркие области, такие, как Веракрус или Гватемала, были противопоказаны ему. Как, впрочем, и Истапалапан, куда в памятный март 1521 года они отправились походом.
За эти восемь месяцев, что прошли с памятной «ночи печали», ситуация в Мехико решительно изменилась в их пользу. Еще прошлой осенью союзное войско во главе с доном Эрнандо, включавшее отряды окрестных индейцев, прежде всего тласкальцев, успело сходить на Топеяк, где после усмирения туземцев был заложен новый город Villa de Segura della Frontierra, что означало «Страж границы». Таким образом северные подступы к Теночтитлану были накрепко заперты. Затем Кристобаль де Олид привел к покорности юго-западные земли, лежавшие за Чолулой. Наконец в самый разгар свирепствовавших в Мехико эпидемий оспы и кори, почему-то совершенно не трогавших белых людей, был захвачен Тескоко. Главный союзник Теночтитлана, второй по значимости член тройственного союза, после недолгих колебаний выбросил белый флаг. Капитуляция Тескоко явилась неоспоримым доказательством хрупкости военной державы ацтеков. Никто из союзников, кроме Тлакопана, не имел намерения гибнуть во славу Уицилопочтли. Правитель, поставленный Теночтитланом, бежал из Тескоко, и на престол был возведен брат Какамацина Иштлишочитл. Тлатоани Мотекухсома когда-то обделил его властью, теперь же этот вождь решил наверстать упущенное Он сразу согласился креститься, ни минуты в этом не колебался, и в новом своем христианском качестве стал называться доном Эрнандо.
Кортес железной хваткой принялся сжимать горло Теночтитлану.
Воспоминания, относящиеся к осени и зиме, особенно к весне следующего, 1521 года, всегда были горестны для старого солдата. Сумбура в них было много, разочарований, потерь… Их трагичность и невосполнимость он ощутил много позже, уже в зрелые годы, побывав с Кортесом в Испании, вернувшись в Новый Свет. Тогда же его больше всего интересовала добыча, золотишко, которые позволили бы ему спокойно встретить старость. В преддверии победы в воздухе отчетливо запахло богатством. Он мечтал скорее добраться до Теночтитлана, где были надежно спрятаны кое-какие золотые вещицы, которые он на пару с Андресом загодя зарыл в одном из двориков дворца Ашайякатла. Они так и договорились — кто останется в живых, тому и владеть кладом. В общем-то, так поступили почти все ветераны, пришедшие с Кортесом в этот город летом девятнадцатого года. Скоро кончится война, и наконец он заживет по-человечески. Вот почему он, как и многие другие его соратники неудержимо стремились в столицу ацтеков и не желали терять времени или тратить слова на уговоры трусов и растяп, пришедших с Нарваэсом, которые только потому не утонули в ночь печали, что посбрасывали с себя прихваченное при отступлении золото. Они никак не могли успокоиться, требовали возвращения на Кубу. Дурням, как известно, закон не писан — меткое вроде бы замечание, но теперь спустя годы он с грустной усмешкой вспоминал о тех словесных баталиях, которые развернулись в Тласкале накануне штурма Теночтитлана. Теперь замысел Кортеса вовсе не казался смешным. Они, солдаты, пришедшие с ним в Мехико, верили капитан-генералу больше, чем себе. Оставленное в столице сокровище никому не давало покоя… Суета сует и всяческая суета, усмехнулся Берналь. Не в деньгах счастье… Просвистевшее мимо рук богатство теперь вовсе не занимало старика, особых грехов он за собой тоже не чувствовал, а те, что могут ему припомнить на страшном суде, давным-давно прикрыты изрядным количеством индульгенций, которыми он запасся ещё в Мексике. Вот что мучило его все последние годы — почему в конце жизни он остался один? Почему так и не сошелся с какой-нибудь красоткой, не завел детишек? То-то была бы радость передать им по наследству это имение. Нынче в его положении и умирать не хочется хозяйство сразу заграбастает корона или монастырь, если он сотворит такую глупость и отпишет собственность в его пользу. Оставить в наследство Хосе? Парень он неплохой, однако Берналь сердцем чуял, что юнец тут же пустит наследство по ветру. Во время работы над записками он по его глазам замечал, что молодой человек все больше и больше задумывается о дальних странствиях. Как пить даст, загонит землю, инвентарь, приписанных к энкомьенде индейцев, купит коня, доспехи, оружие и запишется к какому-нибудь авантюреро, которых много теперь разгуливает в обеих Индиях. Они уже до гигантского провала в земле, расположенном на многие лиги к северу от Мехико добрались, страну инков покорили, теперь рыщут в бассейне великой реки Ориноко, что протекает к югу от Дарьена. Туда сам Диего де Ордас подался. Этому зачем дома не сидится? Все вроде у кабальеро есть имения в Оахаке и других местах, тысячи невольников-индейцев, и награбленного золота вдосталь. Так нет, на собственные деньги снарядил экспедицию и направился на Ориноко на поиски чудесной страны Эльдорадо. Ищи-свищи в джунглях Новой Андалузит и за перевалами Кордельер это Эльдорадо!.. Он, Диего, не один такой. Кристобаль Олид довоевался до того, что в сумрачной стране Гондуре решил отложиться от испанской короны и провозгласил себя королем. Альварадо бросился в Гватемалу, где и сложил свою бесшабашную голову. Монтехо с сыном, вернувшись из Испании, долго брал с боем Юкатан.
Сам дон Эрнандо тоже не мог угомониться. То снарядил экспедицию в Китай, с которым он мечтал наладить торговлю через Великое море или Тихий океан. Ни один корабль не вернулся. То бросился на север и открыл полуостров Калифорния, пустынную и почти безлюдную землю, где царит страшная жара. То, уже в Испании, решил участвовать в походе против алжирских пиратов. После взятия Теночтитлана, никто из них никогда более не знал успеха. Все выходило через пень колоду. Сколько денег каждый из них потратил на каждую из этих авантюр!
Все равно, доказывай не доказывай, Хосе обязательно сбежит. Хорошо, если останется жив и наберет немного золотишка, купит имение и будет сидеть также, как и он, старый Берналь и размышлять — почему не послушался умного совета?
Почему он, Берналь Диас, отправился в Истапалапан и, не обнаружив следов Шочитл, поддался на соблазн и принялся грабить оставленные местными жителями строения. Посчитал, что рабынь ещё сумеет нахватать? Понадеялся на авось? Трудно сказать. Пока раздумывал кто-нибудь из тласкальцев или его товарищей кончил индеанку вместе с его ребенком где-то в камышах, куда попряталось от страха мирное население Истапалапана. Говорят, более шести тысяч человек там со страху погубили. Долго мимо зарослей камыша нельзя было пройти, не зажав нос.
Сдуру все получилось! Первый бой они приняли лиги за две до города. Опрокинули передовой отряд индейцев, бросились шарить по домам. Никто не обратил внимания, что на плотине, отделявшей залив Шочимилко от главного озера Тескоко, орудуют туземцы. Берналь старался держаться своих — видеть, как зверствуют тласкальцы было невыносимо. Видно, наголодались они за сотню лет, намаялись без соли и какао, теперь отыгрывались на мирном населении. Кортес с трудом держал их в руках. Испанцы деловито собирали полон, барахлишко по домам, стаскивали добычу на площадь перед дворцом. Так продолжалось до ночи, пока вдруг не обнаружилось, что уровень воды в озере стал стремительно подниматься. Оказывается, индейцы разрушили перемычку между озерами, и если бы они замешкались ещё на несколько часов, никто не ушел живым. Им пришлось побросать награбленное, отпустить согнанных на площадь местных жителей и спасаться бегом. Никому в голову не приходило, что первым делом следует расправиться с пленниками! Что они, звери!..
Если по порядку, первым делом он, проклиная все на свете, побежал к тому дому, о котором ему часто рассказывала Цветок. Ругал себя — ну, что ты вцепился в эту индейскую бабу. Их вон тыщи!.. Тем более, что он никогда не считал её рабыней, она сама пристала к нему, когда в Тласкале он, не взирая на протесты местных жрецов, вместе с Хуаном Каталонцем разломали клетки, где держали пленников, предназначенных для жертвоприношений. С той поры они и сдружились, а пришла пора — разошлись. Хотелось, конечно, посмотреть на малыша — в кого он, но и это желание Диас тогда счел блажью. Он быстро обежал дома в том квартале — везде было пусто. Тогда Берналь взбеленился что, ему, в конце концов, индейских женщин не хватает? Набери полон и развлекайся с ними сколько душе угодно. Он бросился вслед за ребятами. До вечера успел поцапаться с некоторыми товарищами. Тут ещё потоп начался!.. Тласкальцы, видя, что не в состоянии вывести пленных из заливаемых водой камышей, принялись убивать их. Неразбериха наступила полнейшая. В этот момент подоспел приказ Кортеса остановить погром, прекратить грабеж, всю добычу снести в одно место, чтобы королевские чиновники могли отобрать государеву пятину. Диас, выслушав глашатая, бросился на площадь спасать добычу и сразу наткнулся на банду тласкальцев, рубивших детей, которых они не могли взять с собой. Помнится, он крепко рассвирепел. Что за жадность такая! Ну, не в состоянии довести добычу живой до берега, так брось их. К чему тебе двухлетние дети?.. Тласкальцы залопотали что-то по-своему, один было огрызнулся и взялся за дротик. Испанцу только того и надо было. Скольких он их там накрошил, трудно сказать. Было темно. Потом кто-то ударил его копьем, Берналь едва не помер от той раны. Две полных недели валялся в лазарете в Тескоко, в строй вернулся уже перед самым выступлением на Теночтитлан.
К началу мая город уже был взят в осаду… Все поселения по берегам Тескоко присягнули на верность испанской короне. У ацтеков из союзников оставался только Тлакопан. Его должен был захватить отряды под командованием Альварадо и Олида. В дивизию Педро де Альварадо Берналь и попросил его включить.
После ранения Диас чувствовал себя отвратительно. Что-то разом обломилось в душе. Повзрослел, что ли, или душа утомилась? Конечно, верность присяге и храбрость в бою — первейший долг солдата, но прежней охотки к доблести, к службе он уже не ощущал. Другое дело, что ничего иного не умел, как только мечом орудовать. К тому же в столице ацтеков его ждало закопанный клад, и все равно после выздоровления многое представлялось ему в ином свете. Как об этом рассказать на бумаге? Можно ли довериться Хосе? Где это видано, чтобы в записках о деяниях героических заикаться о личном, наболевшем?!
Все началось с выволочки, которую устроил ему Кортес, когда услышал, как Берналь рассказывает вновь прибывшим с Ямайки новобранцам о сражении при Отумбе. Дело было в Тескоко, где капитан-генерал разместил свой штаб.
…Я тогда был ещё очень слаб, однако, гоняя юнцов, обучая сражаться строем, все равно время от времени брал в руки длинное копье и показывал им наиболее удобные приемы обращения с этим оружием. Потом долго отдыхал, собирался с силами. Ребята собирались вокруг меня, дивились на струйки дыма, которые я пускал из носа — это меня Шочитл к табаку приучила, задавали вопросы. Я отвечал, как умел, по совести — да, война дело хлопотливое, трудное, приводил примеры из недавних сражений, красочно описывал опасности, которым мы подвергались. Дон Эрнандо, стоявший у окна, долго слушал, о чем я им рассказываю, затем после окончания занятий вызвал меня к себе.
— Послушай, Берналь, — начал дон Эрнандо. — Мы старые товарищи, нам незачем лукавить друг перед другом. Я заметил, что твой рассказ о бегстве из Теночтитлана нагнал на этих зеленых юнцов такой страх, что мне самому стало не по себе. Я убедительно прошу, поменьше распространяйся об опасностях, а побольше о доблестях. Вспомни рыцарские романы Фелисьяно де Сильвы, вспомни Неистового Роланда, дона Бельяниса Греческого.[52] И о золоте не забывай! Опиши им те три горы, которые возвышались на дворе Ашайякатла. Это очень вдохновляет на подвиг. Кроме того, рассуди, какое же это было бегство? Это было отступление. Классический пример хорошо подготовленного отхода…
Я удивленно посмотрел на дона Эрнандо.
— Да-да, отхода. С минимальными потерями… И не пялься на меня, а послушай, что я тебе скажу. Тебе с ними в бой идти. В одном строю стоять, плечо чувствовать, а ты их так запугал, что они того и гляди пятки смажут. Я тебя не врать призываю — упаси меня Господи, чтобы я взял такой грех на душу, — просто постарайся взбодрить их, настроить на подвиг, показать, что ничего сверх опасного в индейцах нет. Главное, щели в доспехах заткнуть. Ты согласен со мной?
Берналь пожал плечами, а дон Эрнандо недовольно поморщился и махнул рукой.
— Не надо, сеньор Диас, мы слишком хорошо знаем друг друга, чтобы таить камень за пазухой. Неужели ты считаешь, что в нашем войске, среди всех этих чиновников не найдется злобных душонок, которые попытаются облить грязью не только меня, но и вас. Ты сам знаешь, что мы находимся в подвешенном состоянии, второй год пошел, а от Монтехо и Пуэртокарреры ни слуху, ни духу. Поэтому запомни — никакого бегства из Теночтитлана не было. При Отумбе мы разгромили ацтекскую армию числом в сто… нет, в двести тысяч человек. Ясно! С нашими подвигами не может сравниться ни одно деяние древних героев или победы, одержанные в Новой Индии другими конкистадорами. Мы превзошли самого Амадиса Галльского![53] Наши достижения должны поражать воображение, они должны быть у всех на устах. Новобранцы должны быть уверены, что попали в компанию выдающихся воинов, непревзойденных в храбрости и в умении.
— Как «teules»? — спросил я.
— Вот именно. Не только в глазах индейцев мы должны выглядеть непобедимыми героями, сродни тем, что жили в Древней Греции или Риме, но и в глазах тех наших соотечественников, которые будут разносить известие о наших победах по белу свету.
Стоит ли теперь менять то, что я утверждал в течение последних тридцати лет жизни. Тем более, что по существу дон Эрнандо прав — в том положении, в каком мы очутились при Отумбе, было совершенно безразлично, сколько врагов встало на нашем пути: пять или двести тысяч. Другое дело, что последняя цифра звучит весомее и волнует куда сильнее. Удивительный он был человек, дон Эрнандо. Никто не мог сказать, что он выкинет в следующую минуту, куда поведет войско. Дерзости в нем было хоть отбавляй. Никогда он за солдатские спины не прятался, всегда первым ходил в атаку, делился с солдатом последним куском хлеба. Мне перед самым прорывом из Теночтитлана отломил половину маисовой лепешки. И в то же время был горд неумеренно. Любил власть и, конечно, золото. Вполне мог о человека ноги вытереть. Худо он поступил с донной Мариной. Она в походе на Теночтитлан не участвовала. Как-то в апреле, после выздоровления встретила меня в Тласкале, мы разговорились. Живот к неё заметно округлился, однако держалась бодро, пошучивала.
— Вчера дон Эрнандо, — в конце призналась она, — отправил с гонцом письмо в Веракрус, хочет кружным путем переправить его на Кубу. Говорят, что он собирается вызвать в Мехико свою законную супругу, донну Катилину Суарес. Тебе доводилось видеть ее? Хороша?
Я ответил, что может быть и хороша, но сравниться с донной Мариной ей не под силу.
— Под силу, — грустно усмехнулась Малинче. — Моя песенка спета, Берналь… Он собирается подарить меня лейтенанту Хуану де Саламанке. После родов. Ребенка обязуется немедленно признать и дать ему свое имя.
— Ну, дела, — только и смог вымолвить я.
— И на старуху, — улыбнулась донна Марина, — бывает проруха. Так, кажется, у вас в Кастилии говорят? Попробуй откажись! Как тогда быть с ребенком, ведь у меня ни имения, ни рабов нет.
— А долю добычи он вам обещал выделить?
Она кивнула.
— Если будешь себя хорошо вести?
Она ещё раз кивнула.
— Ловкач!.. — только и смог выговорить я.
Добавил горечи и случай с распределением полона.
«После всеобщего замирения, — принялся диктовать Берналь, — Кортес, в согласии с королевскими комиссарами, объяснил, что в виду приостановки дальнейших экспедиций необходимо узаконить нашу добычу, то есть, переметить рабов, выделив обычную королевскую пятину. Каждый из нас должен был привести своих пленников в определенное место, чтобы их там заклеймили. Так мы и сделали и быстро согнали женщин и детей — мужчин мы в плен не брали. Надзор за ними хлопотлив, а в услугах их мы не нуждались — все, что нужно, делали для нас тласкальцы… Но вот при обратном распределении случилось вот что…»
Старик некоторое время думал, потом приказал Хосе.
— Исправь последнее предложение. Напиши: «…при новом распределении получилась великая несправедливость: отобрали не только пятину короля, но и… Кортеса! К тому же выбрали самых лучших, крепких и красивых, а нам оставили старых и уродливых. Ропот поднялся немалый, и Кортес принужден был обещать, что отныне распределение будет иное, без всякой обиды.
Не меньше возбуждения и пересудов возникло по поводу требования Кортеса вернуть то золото, которое солдаты, с его разрешения, унесли из Теночтитлана в памятную «ночь печали». Как ни изворачивался Кортес, как ни объяснял, что речь идет лишь о временной, заимообразной передаче — никто не пожелал расставаться со своим золотом».
Помнится, услышав эти уверения, Берналь Диас едва не рассмеялся и переглянулся с Хуаном Каталонцем, с которым в те дни они близко сошлись. Договорились, что если кому суждено погибнуть, пусть другой воспользуется его спрятанным богатством. Пусть устроит отпевание по всему чину, богатые поминки… Хуан умел раны заговаривать, останавливать кровотечение. Приятель в ответ многозначительно подмигнул. На Теночтитлан мы, конечно, пойдем, добавил Хуан, даже с большой охотой. Там добыча богатая, к тому же свое золотишко надо достать, но что касается займа, на который намекал Кортес, то это вряд ли. Берналь тоже решил, что делиться богатсвом, надежно припрятаным в Тласкале, он тоже ни с кем не будет.
Хосе аккуратно записал сказанное, выжидающе глянул на старого Диаса.
Тот молчал, глядел в окно.
Наступила тишина. Был полдень. Только что над Гватемалой отгремела гроза, теперь зарницы вспыхивали в предгорьях. Неожиданно старик порывисто вздохнул.
— С другой стороны, — неожиданно добавил он, — как вдохновенно умел говорить дон Эрнандо! Заслушаешься!.. Еще в Теночтитлане в самые трудные дни, пытаясь убедить господ офицеров и тех ветеранов, кто был приглашен на совет, обмолвился: «Непобедимых армий, — сказал он, — не бывает. Конечно, случаются моменты, когда один из противников имеет заметное преимущество. На войне это означает, что у противоположной стороны суживается круг эффективных контрмер, становится ограничен доступ к ресурсам, начинаются трудности с резервами, но такое положение, чтобы одна из противоборствующих сторон имела абсолютное превосходство, складывается очень редко. Всегда можно отыскать разумную тактику и стратегию, которые позволили бы добиться поставленной цели. Тем, кому недоступен подобный взгляд на вещи, нельзя быть военноначальниками…» Ты это не пиши, — спохватился Берналь и тут же осекся.
Хосе сидел с задумчивым видом, взгляд его остеклянился.
— Не тоскуй, парень, — улыбнулся Берналь. — Полководцем и солдатом надо родиться, да ещё судьба в обнимку с удачей должны постоять у твоей колыбели и благословить на ратное дело. Тебе это не грозит. Ты ни ловкостью не вышел, ни знатностью. Теперь, что в Испании, что здесь, в Вест Индии, без звучной фамилии и влиятельных родственников в капитаны не выберешься. Прошли те времена… Теперь куда не сунься, везде коррехидоры, алькальды. Так что ты пиши, пиши. Грамота куда более надежный хлеб, чем военное ремесло.
Глава 4
В начале мая 1521 года перед началом наступления на Теночтитлан по ротам был прочитан приказ Кортеса. В нем расписывался порядок и состав штурмовых колон, затем шли пункты, выполнение которых главнокомандующий брал под свой личный контроль.
Никто да не дерзнет поносить священные имена.
Никто не смеет обидеть союзника, никто да не отнимет у него добычу.
Никто не смеет удаляться из главной квартиры без особого наряда.
Всякий должен был на все время иметь вполне исправное оружие.
Всякая игра на оружие и коней строжайше карается.
Всем спать не разуваясь и не раздеваясь, с оружием в руках, кроме больных и раненых, которым будет особое предписание.
Первые две дивизии под командованием Педро де Альварадо и Кристобаля де Олида должны были двигаться вдоль северного обвода озера Тескоко, по берегам лагун Халкотан и Сумпанго, имея общее направление на Тлакопан и Койакан, куда упирались южная и западная дамбы, ведущие к столице Мехико. В распоряжении у Альварадо было 170 человек пехоты, 30 всадников, 18 арбалетчиков и аркебузиров, 50 000 тласкальцев. Олид получил в свое распоряжение 180 человек пехоты, конницы — 33 человека, стрелков — 20 и несколько десятков тысяч воинов из племени отоми.
Третью колонну возглавил Гонсало де Сандоваль. Ему надлежало обойти озеро с юга и прорываться к дамбе через Истапалапан. В его руках также была сосредоточена немалая сила: 170 копейщиков, 23 всадника, 14 стрелков из арбалетов и аркебуз и более, чем 50000 индейцев, состоявших из примкнувших к испанцам отрядов чолульцев, чалко, шочимилко и прочих городов, расположенных к югу от Теночтитлана.
В первых числах мая в Тескоко были спущены на воду тринадцать бригантин. Из Веракруса пешим маршем явилось пополнение с Эспаньолы оттуда прибыло более двухсот пехотинцев и восемьдесят лошадей. В числе приехавших был и королевский казначей Хулиан де Альдерете. На радость солдатам на тех же кораблях добрался до Мехико и монах-францисканец Педро де Уреа с «весьма желанными (как выразился Берналь Диас) для нашей совести индульгенциями».
Сам Эрнандо Кортес взял под командование флот, полагая, что в предстоящей кампании именно на корабли и лодки, которые выставил новый повелитель Тескоко, ляжет задача обеспечения продвижения штурмовых колонн. С его точки зрения, взятие Теночтитлана являлось вопросом времени, поэтому все эти месяцы он настойчиво пытался связаться с Куаутемоком и вовлечь его в переговоры. Кортес готов был идти на любые уступки, вплоть до прощения тех, кто покушался на жизнь испанцев и тащил их на жертвенные камни во время «ночи печали».
Дон Эрнандо здраво рассудил, что разрушение Теночтитлана и уничтожение ацтеков как народа никак не входит в его расчеты. Этот человек обладал удивительной способностью детально и, главное, трезво оценивать будущее, строить его с наименьшим ущербом для себя. Мирное разрешение конфликта явилось бы головокружительным успехом, венчающим все его пребывание в этом краю и закладывающим надежный фундамент под его, дона Эрнандо Кортеса, последующую карьеру. В этом случае он получал легитимные права на владение богатейшим краем, а также на все то золото, которое испанцы оставили во дворце Ашайякатла. Собственно эти сокровища являлись главной целью экспедиции, потому что окончание войны, как это представлялось дону Эрнандо, несло ему куда больше забот, чем сама война. Победив — а это теперь было неизбежно — он вступал в новые взаимоотношения с губернатором Кубы Веласкесом, с его главным покровителем, президентом королевского совета по делам обеих Индий, севильским епископом Фонсекой и, наконец, с самой государевой властью. С его императорским величеством доном Карлосом V…
Вращение в подобных сферах требовало наличия изрядных козырей на руках и наиболее весомым из них, конечно же, было золото. Победа как таковая мало что значила для испанского короля. Ему требовалась звонкая монета, чтобы поддерживать блеск двора, продолжать войну в Италии, укрепить свое положение как гегемона Германии… Мало ли для чего королю могут потребоваться деньги! Доставив Карлу законную часть захваченной добычи, Кортес сразу становился весомой фигурой не только в делах Нового Света, но и в европейской политике. Бедный дворянин из захолустной Эстремадуры с помощью своих собственных усилий, полагаясь на разум и способности, получил возможность стать одним из самых влиятельных людей при дворе самого могущественного в мире монарха!.. От подобной перспективы кружилась голова. Его жизнь могла бы послужить мерой успеха для последующих поколений, для любого, ищущего славы и денег авантюреро!.. Но для этого необходимо было золото. Много золота, и на пути к нему стоял какой-то мелкий индейский князек, выскочка, в силу стечения обстоятельств усевшийся на трон. Гордец и невежда…
К сожалению, Куаутемок решительно отказывался от сотрудничества с Кортесом. Более того, судя по сведениям, которые доставляли Марине её лазутчики, этот юнец умело взялся за дело. Он поставил перед большим советом вопрос о прекращении немедленных жертвоприношений, о переоценке смысла самой войны. Он настаивал на исключении из нее, хотя бы на время, ритуального акцента.
Поздно! Дон Эрнандо, выслушав Марину и погладив её по уже созревшему животу, засмеялся. Они опоздали!.. Марина сразу поняла, над чем посмеивается её повелитель, и подтвердила.
— Совет даже не стал рассматривать его требования.
— И диктаторских полномочий не дал?
— Нет.
— Вот и хорошо. Меньше возни… Значит, ты утверждаешь, что ни Куаутемок, но совет ацтеков не пойдут на переговоры?
— Нет, милый. Они решили защищаться до конца.
— Глупо.
— Они считают, что свобода дороже всего на свете.
— Правильно считают. Но свобода не самоцель, чтобы ради неё жертвовать всем населением.
— Жители добровольно, с великой радостью идут на это. Куаутемоку не приходится гнать их в бой. Наоборот он всячески пытается удержать их, организовать, научить новой тактике.
— Что же это за новая тактика?
Донна Марина села на постели, чуть раздвинула ноги — живот уже заметно мешал ей, — объяснила.
— Я же тебе рассказывала, что высшей доблестью в Мехико считается не убийство, а захват пленного. За это и честь, и награды… Куаутемок требует от воинов на время забыть о необходимости насытить Уицилопочтли и осознать, что при таком превосходстве в оружии, каким владеют пополокас, единственная возможность разумно использовать их численный перевес — это пытаться убивать как можно больше испанцев. Любыми способами. В бою стараться ударить в незащищенное место, использовать огонь, не пытаться, навалившись скопом на одного варвара, скрутить его. Исключительно бить, бить и бить.
Дон Кортес помрачнел.
— Попади только ко мне в руки, этот Куаутемок. Надеюсь, у него ничего не выходит?
— Точно. Во всех учебных боях происходит одно и то же — воины визжат, напрыгивают на «испанца» и пытаются взять его в плен. Тот, орудуя деревянным мечом, успевает уложить до десятка воинов.
— Надо предупредить офицеров, чтобы те позанимались с солдатами на предмет рукопашного боя.
Он немного помолчал, потом спросил:
— Где золото?
— Верные люди доносят, что во дворце Ашайякатла его нет. Куда его перепрятали, им неизвестно. Милый, после захвата Теночтитлана ты объявишь себя государем Мехико?
— Что ты! Бог с тобой!.. Зачем мне это? Зачем марать честное имя! Да и смысла в этом нет никакого — я же не принадлежу к королевскому роду.
— Но по своим достоинствам, по доблести ты вполне можешь стать монархом.
— Это у вас правителя выбирают, у нас ими рождаются. Что очень правильно, ибо в противном случае не Кортес бы высадился на побережье Веракруса, а Куаутемок пристал к берегу где-нибудь недалеко от Севильи. Этого вопроса для меня не существует. Стоит мне только заикнуться об отделении от Испании, и песенка моя будет спета, а здесь, в Анауаке, начнется неслыханная вакханалия! Ты не представляешь себе, что значит междоусобная война. Или гражданская… Кроме того, уверяю тебя, я искренне уважаю местный народ. Они мне нравятся. Индейцы прямодушны, воспитаны… Особенно ацтеки… Конечно, дики, необразованны, но это дело времени. Прежде всего их надо крестить, тогда они себя покажут. Если не будут упрямится, как этот Куаутемок…
Теперь долго молчала донна Марина. Наконец робким мелодичным голоском спросила:
— Милый, что, если ты оставишь меня при себе?
— Я женат, Марина. По нашим законам я не могу расстаться с ней. Скоро эта стерва явится сюда, и ты останешься одна, без поддержки, без защиты.
— Ты обещал дать мне такую бумагу, которая удостоверяет, что я царского рода. Ты обещал богато одарить меня… Неужели я не заслужила доли в доходах?
Кортес только усмехнулся — стоит ли говорить ей о том шуме, какой поднимут испанские офицеры, стоит им только узнать, что главнокомандующий решил выделить долю индейской женщине. Ей ещё придется столкнуться с благородными идальго, которые хлынут в Мехико после победы. Никому из них и в голову не придет всерьез относиться к её дворянскому патенту или праву на владение какой-нибудь доходным имением. Он жестко ответил.
— Нет. Насильно выдать тебя замуж я не могу. Также, впрочем, как и женить на тебе Саламанку… Но я сделаю все возможное, чтобы он постоянно был в зависимости от меня. Он храбр, благороден, к тому же смотрит на тебя такими восторженными глазами. Если со мной что-нибудь случится, он станет тебе надежной защитой.
— Но я не хочу его!.. — воскликнула Марина.
Дон Эрнандо только плечами пожал.
— Рожай сына, это твое единственное спасение. Я сразу усыновлю его, отпишу доходное имение, добьюсь патента. Только тогда твое положение можно будет считать более-менее прочным. Если, конечно, ты будешь прикрыта широкой грудью капитана Саламанки…
Дон Эрнандо, припомнив тот откровенный разговор, так и не смог заснуть до утра. Добрался до кресла, устроился напротив окна — так и встретил раннюю зорьку. Сначала окрасило дальние холмы, потом бирюзовые, с золотинкой, сумерки легли на развалины мавританской крепости. Наконец из-за городской башни брызнуло ярким светом. Вот они, огненные змеи, о которых так поэтично рассказывала Марина. День победил, повергнут мрак.
Он был совершенно искренен, когда утверждал, что испытывает добрые чувства к народам науа. Это были настоящие воины, крепкие, мужественные ребята. Такими править — одно удовольствие.
Если бы Куаутемок пошел на добровольную сдачу!.. Он бы все ему оставил, даже любимую жену, которую король после смерти тлакатекутли лично выдал замуж за видного гранда, а потомкам вручил герб и графский титул. При наличие золота Кортес смог бы добиться назначения наместником Мехико, а тогда…
Старик улыбнулся. Голова закружилась от воспоминаний об утерянных когда-то перспективах. Если признать мир шарообразным, в чем теперь, после путешествия Магеллана сомнений не было, он, Эрнандо Кортес, находясь в Мехико, стал бы одним из самых важных полюсов этой округлой, внезапно расширившейся Земли. В ту пору он часто задумывался — как бы после захвата Теночтитлана поскорее добраться до берегов Великого или Тихого океана, открытого Бальбоа. В душе надеялся первым пересечь его! Что ж, не успел этот португалишка Магеллан оказался проворнее. Тогда бы он постарался первым начать осваивать это безбрежное водное пространство. С такими ресурсами, какие были у ацтеков, с такими людьми, составлявшими костяк их войска, сначала добрался бы до Молуккских островов и отвоевал их у португальцев в пользу испанской короны. Потом высадился бы в Китае и завоевал его. Если мир округл, как апельсин, то, двигаясь в одном направлении, любой человек может обойти Землю кругом.
И я бы обошел. Более того, покорил…
Ах, Куаутемок, Куаутемок! Тебе не дано было даже в малейшей степени осознать величие этого замысла. Зачем ты встал у меня на пути? Зачем вверг свой народ в пучину бедствий? Зачем лишил меня золота, и мне пришлось по крохам собирать его по всему Мехико. Конечно, я набрал его, но на это ушло столько времени, что было поздно задумываться о великих свершениях. Несколько жалких кораблей были отправлены мною в Китай — ни один из них не вернулся. На другие попытки времени уже не оставалось. После захвата Теночтитлана в Мехико буквально хлынула свора стервятников, без чести и совести, жаждущих мгновенно разбогатеть. Ты, Куаутемок, отдал свой народ в их когти! Казначеи, секретарии, наместники, члены аудиенсий, казнокрады, родственники влиятельных при дворе особ, наемные убийцы, разбойники и мошенники всех мастей, профессиональные клеветники, прыщавые юнцы, монстры, подобные Нуньо де Гусману — кто только не уселся на шею твоему храброму и простодушному народу. За это дорогой «Падающий орел»[54] надо отвечать. На Божьем суде тоже. На этом процессе я тоже готов присутствовать. В качестве свидетеля…
…Вот служанка опять поволокла горшок с помидорами на воздух. Кто-то постучал в дверь. Точно, это Педро. «Точно»… Это словечко часто любила употреблять Малинче. Где она теперь? Говорят, старается вывести в люди сына. Патента на потомственное дворянство, должности коменданта Веракруса для неё мало. Бедный юноша — там, в Мехико, на нем отыгрывается всякий, кому не лень. Любой захудалый идальго задирает пере ним нос. Как же, полукровка!
Все, хватит о грустном. Сегодня мне предстоят великие дела лицезрение котят, разговор с патером Гомарой. Придется доложить ему, каких трудов нам стоило взятие Теночтитлана.
* * *
Испанские бригантины во взаимодействии с пирогами тескоканцев прикрывали с озера фланг колонны Сандоваля. Тот двигался ходко и уже к утру следующего дня вышел на подступы к Истапалапану, где смял оборону ацтеков и без потерь вошел в полуразрушенный город. Воззвания и дипломатические усилия Кортеса сделали свое дело — жители остались в городе, сидели, попрятавшись в дома. Союзное войско тоже вело себя смирно. Скоро Сандоваль принял местных касиков, которые выразили покорность и перешли под руку Малинцина. Таким образом Теночтитлан и Тлакопан остались в одиночестве. Скоро пришло известие, что Альварадо и Олид добрались до оконечности западной дамбы и разрушили чапультепекский водопровод, снабжавший Теночтитлан пресной водой.
Столица ацтеков была полностью окружена.
Флот, направлявшийся к Истапалапану возле одно из мысов был обстрелян засевшими на утесе индейцами. Кортес приказал пристать и сам во главе полутора сотен солдат, обойдя мыс с тыла, напал на индейцев прятавшихся в засаде. Бой был коротким и жарким, никто из врагов не ушел живым. Когда капитан-генерал вернулся на флагманский корабль, ужасная картина открылась его взору. Большая часть озера примыкавшая к Истапалапану была заполненная индейскими лодками, которые решительно стремились на сближение с нашими плоскодонными бригантинами. Как на зло, в ветер совсем стих, паруса обвисли. Испанские корабли некоторое время отбивались от наседавших ацтеков с помощью пушек и другого огнестрельного оружия, находившегося на палубах, но при таком подавляющем численном превосходстве неприятеля, долго обороняться они едва ли смогли бы. Индейцы на веслах двигались в их сторону с явным намерением брать парусные суда на абордаж…
Первыми вступили в бой лодки тескоканцев, затем ко всеобщему облегчению воздух над озером чуть шевельнулся, к лицам моряков прихлынула прохлада. Мало-помалу засвежело, дрогнули, встрепенулись паруса. Корабли стронулись с места и ровным строем обрушились на вражескую армаду. Они с легкостью давили и опрокидывали ацтекские лодки, стрелки добивали оказавшихся в воде из арбалетов и луков. Наблюдая неблагоприятный поворот дела, Куаутемок приказал отступить. Но не тут-то было! Разве может гребное каноэ сравниться в скорости с парусным кораблем!.. Испанцы гнали их до самых предместий Теночтитлана, где индейские пироги нашли убежище в мелких узких каналах, которые по всем направлениям прорезали столицу.
С того дня войско ни на сутки не выходило из боев. Следующей целью Кортеса были укрепления на небольшом островке Акачинанко, где сходились две дамбы — южная из Койакана и юго-восточная из Истапалапана. Здесь возвышались две башни, поразившие испанцев ещё в момент первого прибытия в Анауак. После короткого артиллерийского обстрела был высажен десант, и стратегическая позиция, решавшая судьбу города, оказалась в руках Кортеса.
Ночью ему доставили обращение Куаутемока к ацтекам, записанное какими-то непривычными для европейца рисунками. Грамотные индейцы уверяли главнокомандующего, что это что ни на есть настоящие слова. Он не стал спорить и приказал Агиляру и местным грамотеям как можно быстрее перевести речь тлакатекутли.
Обращаясь к воинам, Куаутемок заявил:
«Храбрые ацтеки!
Вы видите, что все наши вассалы восстали против нас. Уже имеем мы в качестве врагов не только тласкальцев, чолульцев и уэшоциков, но и тескоканцев, чалько, шочимилков и тепанеков, которые нас бросили и ушли к пополокас… Поэтому я прошу вас вспомнить о храбром сердце и храброй душе чичимеков, наших предков, которые, будучи в малом числе прибыли на эту землю, отважились атаковать ее… и подчинили своей могучей рукой весь этот новый мир и все народы.
Храбрые ацтеки!
Не теряйтесь и не страшитесь. Укрепите свою грудь и свое отважное сердце, чтобы без страха выйти на новую битву. Смотрите, если вы на неё не пойдете, то станут вечными рабами ваши дети и жены, а ваше имущество будет отнято и разграблено. Не смотрите, что я молод, и помните: то, что я вам сказал — правда! Вы обязаны защищать ваш город и вашу родину, которую я обещаю вам не покидать до смерти или до победы».
«Сильно сказано, — отметил про себя Кортес. — Главное, честно и откровенно. Что ж, юнец, теперь у меня развязаны руки».
Тем же вечером молодой Шикотенкатль опять продемонстрировал свой вздорный нрав. Дону Эрнандо с опозданием донесли, что тласкальский вождь самовольной покинул свою армию и направился в Тласкалу, заявив при этом, что не намерен служить людям, которые презирают союзников. С большим трудом дон Эрнандо выяснил, в чем дело. Один из новобранцев поссорился с неким индейским касиком, оскорбил его и применил оружие. Индеец оказался тяжело ранен. Шикотенкатль попытался было пройти к Кортесу, но его не пустили. Отказали в грубой форме. Тогда он дезертировал. Дон Эрнандо тут же, на лошадях, послал в погоню за вождем нескольких своих офицеров и индейских вождей с приказом убедить Шикотенкатля немедленно вернуться в расположение своей армии. Тот выставил условием немедленный суд над обидчиком во исполнение приказа, подписанного самим Кортесом, а до той поры считал себя свободным от выполнения воинской обязанности.
Получив подобный ответ, дон Эрнандо немедленно вызвал Сандоваля и приказал отправить пятерых конных альгвасилов, чтобы те арестовали Шикотенкатля в любом месте, где застанут его. Даже если он уже успел добраться до Тласкалы… Здесь же, на острове необходимо воздвигнуть виселицу…
Сандоваль было засомневался.
— Тогда придется принять меры и в отношении обидчика?
Кортес усмехнулся.
— Гонсало, мы для кого завоевываем эту землю? Для тласкальцев или для себя? Белый человек неприкосновенен! С этой целью распорядись объявить войску, что индейский вождь Шикотенкатль, узнав, что в Тласкале намечаются выборы предводителя рода, которым управлял его отец, самовольно оставил позиции и отправился в родной город, чтобы незаконно захватить власть..[55] Мы не можем спустить бегство этого крикливого туземца. Вспомни, он всегда ненавидел нас. А насчет этого негодяя Бартоломе, осмелившегося поднять руку на союзного касика, распорядись, чтобы его поставили на самое опасное направление. Опытные солдаты знают, что это самая действенная мера наказания для тех, кто нарушил приказ. В этом случае и волки будут сыты, и овцы целы. Ни о каком посягательстве на жизнь испанца и речи быть не может, и в то же время он получит по заслугам. Выживет в бою — его счастье, но лучше бы не выжил… Ты сам займись этим вопросом.
Следом поступила жалоба Альварадо на Кристобаля де Олида и ответная кляуза Олида на Альварадо. Дон Эрнандо, прочитав обе бумаги, только зубами заскрипел.
— Нашли время лаяться. Альварадо обвиняет Олида, что тот захватил все подходящие квартиры в брошенном жителями Тлакопане. Олид в свою очередь упрекает Альварадо в бездарном руководстве наступлением на город…
Так, в крови, бюрократической кутерьме, столкновении характеров начался штурм Теночтитлана. Обе стороны действовали, не щадя себя. Вровень с героическими деяниями обороняющихся ацтеков стояли сверхчеловеческие усилия испанцев, с каждым днем все более и более загорающихся светом борьбы за святую веру. В рядах ацтеков сражались женщины, были они и среди испанцев. Одна из них, по имени Хуана, шла в бой с мечом и щитом. Другая же, облачившись в мужнины латы, взяв руки меч, несла вместо него ночную дозорную службу. Женщины перевязывали раненых, готовили пищу. Каждую ночь и с той, и с другой стороны, в хоре оскорбительных выкриков раздавались женские голоса. С той же яростью велись поединки, на которые в первые дни штурма с небывалой решительностью стремились ацтекские вожди и испанские офицеры.
* * *
Берналь Диас воевал в составе колонны Альварадо, прорывавшейся к городу со стороны Тлакопана по дамбе, по которой в «ночь печали» отступали им пришлось отступать.
Первые же несколько дней штурма показали, что индейцы за это время многому научились: укрепили борта лодок щитами, так что теперь залпы аркебуз и арбалетов не причиняли им заметного вреда, старались по большей части действовать ночью, приноровились и к артиллерийским выстрелам. Однако на дамбе они по-прежнему действовали густыми массами с применением многочисленных пирог, которые высаживали десанты в тылу наступающей штурмовой колонны. На берег, правда, старались не выходить — там их встречали копьями отряды тласкальцев и атаки кавалерии, которую пока нельзя было использовать на дамбе.
Это было героическое время, о нем Берналь рассказывал с охотой, голос его становился звонче. Время от времени он начинал расхаживать по комнате. Хосе изо всех сил старался успевать записывать.
«И так работа крутилась сутками, без устали и перерывов: то сражения, то мелкие стычки, всегда на холоде, дожде, всегда с пустым желудком, в грязи, не снимая одежды и доспехов…»
«Ежели кто-то спросит, какой был смысл в этих бесконечных боях и тяжком труде? Какой смысл в разрушении водопровода, когда нельзя было прекратить доставку осажденным питья, еды и свежих сил водным путем? На это отвечу. Конечно, такая доставка происходила, мы о ней знали и старались её прекратить. Две бригантины каждую ночь крейсировали по озеру, охотясь за лодками и доставляя добычу своему отряду.
Каждую ночь к нам привозили припасы и пленных, а мексиканцы пополнялись все реже.
Понятно, мексиканцы всеми силами старались погубить бригантины. Вот один случай. Было заготовлено тридцать самых больших пирог с отборными гребцами и воинами. Вышли они глубокой ночью и надежно схоронились в прибрежных камышах. На следующий вечер несколько лодок как бы с припасами, сделали вид, что собираются проскользнуть в Теночтитлан. Бригантины заметили их, началась погоня, лодки незаметно повернули к месту засады, где бригантины наскочили на специально для этого вбитые сваи. Боевые пироги выскочили из засады. В результате, все наши моряки оказались переранены. Сняться с кольев смогла только одна бригантина, другая досталась неприятелю.
Между тем наступление продолжалось, хотя и медленно. Тогда ацтеки решили остановить нас следующим образом.
Был сделан огромный разрыв в дамбе между нашим головным отрядом и городом. Вокруг этого места было вбито множество свай, чтобы не допустить бригантины. Всюду были усилены войска, а значительный отряд был искусно спрятан на лодках. Наутро мы пошли в атаку, перешли разрыв, и двинулись на врага. Те начали поспешно отступать, мы бросились в погоню. В этот момент с лодок был высажен десант не только на дамбу, но и на берег у её начала. Там тласкальцы и конники быстро с ними расправились. А вот нам пришлось туго. Пятерых при отступлении захватили живьем и утащили в лодки. Бригантины из-за вбитых в дно кольев, на которые они напоролись, ничем помочь не могли. Как мы все тут не полегли — не понимаю. Меня самого едва не захватили в плен. Множество индейцев вцепились в меня, начали выкручивать руки. Еле-еле удалось освободить меч — отчаяние придало мне силы. Неистовыми ударами я отогнал или уложил нападавших на меня, затем перебрался на другую сторону пролома и упал в обморок.
Успех окрылил врага, он начал наступать на нашу часть дамбы, но тут его приняла артиллерия, а с нею он спорить не мог.
Кортес сделал выговор — нельзя оставлять не засыпанных землей прорывов.
Так мы шли вперед: сначала захватывали часть дамбы, заполняли бреши сами таскали и землю, и камни — вечером выставляли усиленные караулы, до сотни человек. Наутро все начиналось сначала».
Диас сделал паузу, подумал, потом обратился к писцу.
— Теперь, Хосе, изложи следующим образом, — и вновь начал диктовать.
«Конечно, читатель заскучал бы, если бы я стал подробно описывать все сражения, которые случились за 93 дня осады, и рассказ мой стал бы длиннее авантюр Амадиса Галльского».
— Дедушка, — подал голос Хосе, — вы бы рассказали сначала, что произошло после того, как вы вошли в город. Так легче записывать, а то я не успеваю…
Глава 5
— Что произошло после того, как мы вошли в город? — переспросил старик и задумался.
Стоит ли рассказывать молодому человеку, что случилось в ту ночь, когда колонна под командованием Кортеса, залатав бреши и проломы в южной дамбе, наконец ворвалась в предместья Теночтитлана и захватила обширный плацдарм, осью которого являлся главный проспект города. Эта широкая улица с каналами по обе стороны проезжей части, выводила наступающий отряд прямо в к площади, где располагались дворцы Мотекусумы и Ашайякатла. В ту же ночь Кортес отправил двух, попавших в плен знатных ацтека в ставку Куаутемока с очередным предложением мира.
Не получив ответ, на следующее утро дон Эрнандо, бросив в бой кавалерию, сумел пробиться в большому теокали. Колонна Сандоваля, которую перебросили к Топеяку, тем временем успешно добралась до окраины Тлателолько по северной дамбе. Таким образом окружение Теночтитлана было завершено. Отставала только дивизия Альварадо. Западная плотина оказалась перерыта настолько часто и защищалась такими крупными силами, что скоро стало ясно — Куаутемок именно с этого направления ждал главный удар. Связь между отрядами осуществлялась с помощью бригантин и гонцов, вынужденных каждый раз бежать вокруг озера, поэтому Кортес стремился как можно быстрее сомкнуть фланги всех трех отрядов. Захватив на вершине пирамиды храм Уицилопочтли, Кортес не смог удержать его в руках. Густые толпы индейцев бросились на защиту святыни. Тогда главнокомандующий решил для острастки сжечь оба дворца и наиболее приметные здания в городе.
Дело было вечером. Солдаты Альварадо, в основном ветераны, столпились у края последнего пролома, от противоположной бровки которого было рукой подать до городских ворот. На той стороны возвышалась крепкая баррикада, защищавшая ацтеков от арбалетов и аркебуз. Альварадо, изучивший диспозицию, приказал перетащить пушки и завтра с рассветом смести это заграждение. Пушкари и тласкальские таманы сразу принялись за работу. Отъезжая в тыл, Альварадо предупредил Берналя и всех остальных солдат, чтобы смотрели в оба и, если туземцы предпримут ночной штурм, сразу подняли тревогу. Подобные атаки стали привычным явлением, поэтому испанцы так и ночевали на дамбе в непосредственной близости от противника. Бригантины и пироги союзных индейцев охраняли их с озера.
Хуан Каталонец первым обратил внимание на языки пламени, прорезавшие сгущающуюся на востоке тьму. Пожар разгорался на глазах. Потом занялось в другом месте, в третьем… Хуан с тревогой глянул на Берналя, тот в ответ только пожал плечами и почесал бороду. Их товарищи, кто уже улегся на циновки, тоже стали подниматься.
— Смотри, как занялось, — чей-то удивленный голос раздался за спиной Берналя. — Что это ребята Кортеса подожгли?
Ему тут же ответили.
— Вроде дворец Монтесумы… Точно! И этого, Ашайякатла, подпалили…
Сердце у Берналя замерло, он слова не мог вымолвить. В это время две испанки, в сопровождение караула и тласкальцев притащили из лагеря, расположенного возле Тлакопана, ужин — тортильи из кукурузы и какое-то жидкое варево. День не поев, похлебать горячее — милое дело. Все радостно зашевелились, кто-то уже успел ухватить Долорес за задницу, за что сразу получил черпаком по каске. Сзади громыхнули смехом. Однако Диас даже не повернулся. Не отрываясь смотрел как длинные, срывающиеся в небо, огненные языки полыхали на том самом месте, откуда они почти год назад дали деру. Каталонец тоже молчал — крупные частые слезы покатились у него из глаз. На лице сразу обозначились две узкие проталины, с которых обильная влага смыла грязь. Берналь сам не заметил, как тоже пустил слезу. Тут и шуточки сзади стихли, перепуганная Долорес, наряженная в солдатский панцирь и каску, приблизилась к Берналю, заглянула ему в лицо.
— Что с тобой, касатик? Неужто это языческое капище жалко?
Берналь собрался было ответить, плевать ему на эти гибнущие в огне постройки — век бы их не видеть! — но в этот момент Каталонец, а вслед за ним и многие другие ветераны, принялись ругаться. Озлобились все сразу, начали тормошить арбалетчиков и пушкарей, чтобы те враз ударили по баррикаде. Кое-кто что было мочи заорал:
— Эй, на бригантине, ну-ка греби сюда! Сейчас мы этим поганым кровь пустим!..
Берналь, наконец опомнившись, остановил крикуна.
— Не пори горячку, Лопес. Все равно не успеем. Все сгорит! Все!.. Даже катышков от расплава не найдем…
Испуганную и удивленную Долорес кто-то из солдат уже потащил в тыл подальше от пролома. В этот момент, покрывая ругань, громовито ударили аркебузы, засвистели стрелы арбалетов. Туземцы тут же всполошились, принялись метать камни из пращей и пускать стрелы. Как обычно с той стороны донеслись вой, свист. Берналь, не выдержав, уже обнажил меч и, забыв о только что сказанных словах, уже готов был ринуться в воду и взять штурмом баррикаду, как в этот момент к самому краю дамбы прискакал как всегда улыбающийся Альварадо и с ходу, осадив коня у самой бровки, закричал:
— Что, краснокожие поперли?
— Нет, — откликнулся кто-то из молодых солдат. — Берналь с Каталонцем слезы льют.
— Чего? — изумился Альварадо. Две стрелы скользнули по его красивым, с гравировкой латам, камень звонко угодил в шлем. Капитан тут же опустил забрало, подозвал трех солдат и с их помощью слез с закованного в сталь коня.
— Ты что, Берналь? — спросил он, потом обратился к Каталонцу, к другим ветеранам, которые не стыдясь вытирали слезы и грозили индейцам кулаками. Те в ответ строили им рожи и показывали языки.
— Точно, что дворец Ашайякатла горит? — спросил Каталонец у капитана.
— Да. Только что гонец от дона Эрнандо прибыл…
Улыбка уже сползла с его лица, рыжеватые усы топорщились в прорези забрала. Неожиданно Педро де Альварадо хлопнул себя металлическими перчатками по наколенникам. Раздался оглушительный лязг. Долорес вырвалась от своих охранников, пытавшихся увести «сестричку» в безопасное место, и, прикрываясь Альварадо, оттащила Диаса за спину командира. Здесь прижала его голову к панцирю.
— Что с тобой, Берналь? — спросила она. — Зачем так убиваешься?
— Золото они там попрятали, — неожиданно рассмеялся Альварадо. — Вот теперь и ревут.
— Плюнь ты на это золотишко, Берналь, — посоветовала Долорес. — И разотри. Нашел из-за чего убиваться! Ты себе ещё столько нагребешь, что все тебе завидовать будут…
Вот и нагреб, оборвав воспоминания, вздохнул Берналь. Провели нас, как цыплят, с этим золотом, которым Кортес обещал осыпать каждого с ног до головы. Он и осыпал своих родственников и прихлебателей, которых много вокруг него завелось, как только они, солдаты и офицеры, взяли Теночтитлан. На каждого, участвовавшего в штурме, по сто песо пришлось — вот и вся награда! Если как на духу, он на Кортеса не в обиде. Тот тоже завертелся так, что времени продохнуть у него не было. Чтобы отхватить лакомый кусок, богатую комменду,[56] надо было постоянно вертеться у него на глазах, выпрашивать обещанное вознаграждение, поспевать угодничать, а они, ветераны, к этому труду были мало приучены. Другое озлобляло — сколько невинных солдатских сердец оказались вырванными на жертвенных камнях, сколько ребят погибли при штурме — и все по милости Кортеса! А Гомара восхваляет его — герой! Стратег!.. Все это враки. Кортес, конечно, не нам, серым, чета, но и он тоже, случалось, попадал впросак, а расплачиваться приходилось солдатам! Кровью своей, сердцами!.. Зачем Кортес затеял этот «решительный» штурм? Сколько Сандоваль, тот же Альварадо — уж на что он был горяч и злобен по отношению к туземцам — уговаривали его опомниться. Брать Куаутемока следовало измором. Голод страшнее любого оружия, утверждали союзные индейские вожди. Зачем лбы подставлять, настойчиво добивался ответа Сандоваль.
— К черту Гомару!.. — воскликнул старик Диас. — Пиши! — обратился он к Хосе.
«Добравшись до городской черты, мы под командой самого Кортеса потерпели сокрушительное поражение. Это случилось, когда его отряд, увлеченный ложным отходом врага, якобы разгоревшейся в его рядах паникой, добрался почти до самого рынка в Тлателолько. В тот день дивизия Альварадо наконец одолела последний пролом в дамбе, и мы наконец ворвались в город. Враг сразу бросился наутек, однако дон Педро, наученный горьким опытом, не спешил в погоню. Первым делом мы начали заваливать брешь, которая пересекала нам путь…
Если бы дон Эрнандо поступил также! Однако он, увлеченный мнимо перетрусившим и удирающим противником, так и не удосужился проверить, засыпал ли казначей Альдерете водные пути, пересекавшие главный проспект.
Что поделаешь, испанец горяч! Осады ему не по нраву. Куда как любо врубиться в ряды врагов и гнать их до самой рыночной площади.
В виду рынка положение внезапно изменилось. Затрубил рог Куаутемока, загрохотал огромный бубен на вершине большого теокали, и орды совершенно обезумевших от храбрости и дерзости ацтеков с диким визгом и свистом бросились из боковых проулков на колонну Кортеса. Началась бойня… Самого Кортеса стащили с коня. Семь ацтекских воинов — все, как рассказывали, в шлемах в форме орлиных или тигриных голов, с увесистыми золотыми бляхами на груди, — накинулись на него и, если бы не Кристобаль де Оле и его паж Лерма, которые отбили командующего, они бы утащили капитан-генерала в лодку. Потерявшего сознание дона Эрнандо словно тюк, взгромоздили на коня, и капитан его телохранителей прорвался со своими людьми сквозь ряды индейцев к нашей штаб-квартире.
Представь, что мы, в отряде Альварадо, испытали, когда ацтеки, спрятавшиеся за земляным валом, вдруг выбросили оттуда отрубленную головы и закричали радостно-истошными голосами: «Малинцин! Малинцин!»
Мы замерли — отрубленная голова точно принадлежала испанцу. Те же усики, редкая бороденка, что была у Кортеса. И шевелюра тоже особой пышностью не отличалась. Альварадо сразу потерял веселое настроение и, взревев как бык, направил лошадь в канал, пересек его и врубился в ряды индейцев. Мы с жуткими криками… Ты напиши так — с криками: «Сан Яго и сан Педро!..» — бросились ему на помощь. Индейцы сразу уволокли отрубленную голову, что несколько подняло нам дух. Скольких мы уложили — не сосчитать.
Скоро пришло известие, что дон Эрнандо жив, только весь помят и контужен. Конечно, ведь он был в латах и рухнул со здоровенной кобылы! Любому не поздоровится… Альварадо отобрал трех человек и решительно свернул в боковой проулок. Ацтеки никак не ожидали подобной прыти, и мы, хотя и с боем, но все-таки прорвались в лагерь Кортеса.
Там уже находился Гонсало де Сандоваль, тоже сумевший вместе с конной охраной пробиться через город в штаб-квартиру. Он сурово укорял капитан-генерала.
— Вот какие дела, командир, вы наделали. Так-то вы использовали ваш опыт! Так-то следили за исполнением своих собственных приказаний!..
Тот, повесив голову, сидел на барабане и твердил как заведенный.
— Прав, ты во всем прав, сыночек мой Сандоваль! Во всем ты прав… Это наказание за мои грехи!
Потом, словно проснувшись, принялся ругать Альдерете, что тот не проследил, чтобы солдаты как можно тщательнее засыпали канал. Казначей тоже не остался в долгу. Началась такая перебранка! Наконец Кортес, сославшись на ранения — сам свидетель, отделали его индейцы изрядно! — передал на время командование Сандовалю.
Тот со злобным видом отсалютовал шпагой и тут же принялся обсуждать с Альварадо и другими офицерами срочные меры по спасению армии.
Урон Куаутемок нанес нам значительный. 62 человек попали в плен к индейцам, мы потеряли 8 коней. Сколько тласкальцев и других союзников сосчитать было невозможно.
Бой затих после полудня. В городе неожиданно возникла жуткая тишина. Мы тоже притихли… Я уже догадывался, чем дело, а молодым солдатам все было в новинку. Альварадо, Франсиско де Лас Касас и Хуан Харамильо были с нами, в первых рядах. Наши ребята прятались за восстановленной баррикадой, носа не высовывали, чтобы ненароком не словить пущенную индейским снайпером стрелу или камень, однако и на той стороне тоже вдруг стало тихо. Город словно вымер. К вечеру ацтеки разложили костры на всех пирамидах, расположенных в городской черте. Огни заполыхали даже в неблизком от нас Тлателолько. Храм Уицилопочтли возвышался в нескольких сотнях шагов от нас и от отряда Кортеса. В сумерках костры загорелись ярче и, наконец, при последнем свете дня мы различили многолюдную процессию, медленно взбиравшуюся по ярусам большого теокали. Шуточки в наших рядах сразу стихли. Альварадо покусывал губы и напряженно следил за разворачивающейся церемонией. Харамильо совсем отвернулся — стоял у стены и носком сапога выковыривал булыжник из мостовой. С первым же уханьем священного барабана, с первыми же торжествующими звуками рога предводителя Теночтитлана он не выдержал и тоже глянул в ту сторону.
Впереди вышагивали жрецы, за ними воины. Сколько их было — сосчитать невозможно. Шли пританцовывая. По кругу обходили пирамиду, взбирались по лестницам, пока наконец не достигли вершины. Здесь их ряды раздались и мы увидели пленников. Они были обнажены по пояс. Некоторые из них отчетливо выделялись белой кожей. Жрецы заставляли их приплясывать, воины тыкали тупыми концами копий. На головах у пленников были напялены головные уборы из перьев.
Мы затаили дыхание. Вот дюжие жрецы схватили первого белого человека, сорвали с него головной убор, повалили на жертвенный камень — грудь его круто выгнулась в сторону неба. Взмах руки, короткое копошение — и первое сердце затрепетало в высоко поднятой ладони жреца. Тело тут же сбросили со крутой лестницы, и несчастный, еще, наверное, живой, покатился к подножию пирамиды, где его тело приняли жрецы и тут же потащили в особую пристройку, где готовили священное варево из человеческого мяса.
Вот второе сердце очутилось в поднятой руке жреца. Мне даже показалось, что от него исходил легкий парок…
Первой не выдержала Хуана. Она была облачена в панцирь с крыльями на плечах, на голове солдатская каска. Все это время, пока процессия взбиралась по ступеням пирамиды она громко молилась. Ее голос, наверное, долетал и до индейцев, которые тут же, как была принесена первая жертва, завыли и завизжали в своем укрытии.
Неожиданно Хуана вскочила, неловко вытащила шпагу — она была длинновата для нее, но в бою женщина ловко ею орудовала, — и закричала:
— Разве вы мужчины? Разве христиане?.. — потом неожиданно тонок, совсем по-бабьи заверещала. — О-о, сан Педро! Сан Яго! — и бросилась в воду.
Мы дрались в ту ночь как никогда в жизни, но против нас была такая сила, что к теокали мы так и не смогли пробиться. Скоро бой затих не только у нас, но и со стороны колонн Сандоваля и Кортеса. Никто не мог заснуть, все мы молились, поминали имя Божие, просили спасти нас от подобной напасти. Тем временем на вершине пирамиды продолжалось постыдное действие».
Он замолчал, потом, после недолгой паузы, заявил:
— Теперь скажу два слова о себе… Очнись, Хосе. Пиши, сынок, пиши.
Писец помотал головой, взгляд его осмыслился. Он склонился над бумагой.
— Скажу два слова о себе. Так и занеси — «два слова о себе». Поведаю об одной странности, которая долго меня мучила, да так и осталась неразгаданной. С тех пор, как я стал свидетелем, как наших бедных товарищей приносили в жертву, меня начал преследовать страх, что и меня постигнет та же участь. Мысль эта стала такой навязчивой, что канун каждой битвы стал для меня мучением. Всякий знает, что я не трус, меня любили и уважали за храбрость. Но боязнь была!.. Она отпадала лишь в самом бою, что тоже очень удивительно. В чем тут дело, я до сих пор не знаю — виновата ли излишняя усталость или постоянное напряжение? Это дело прошлое, а посему я свободно могу поведать об этом читателю». Записал?
Хосе кивнул.
* * *
После первой ночи жертвоприношений в Теночтитлане на пять дней установилось зыбкое перемирие. Куаутемок разослал по окрестным городам головы людей и коней. Жрецы уверяли молодого тлакатекутли, что Уицилопочтли доволен и вновь принял ацтеков под свое покровительство и по истечении восьми суток им будет дарована победа. Ацтеки повеселели, начали кричать испанцам:
— Эй, вы, ни на не годные пополокас! Белые злодеи!.. То-то вам в родной земле места не нашлось. От вашего государя вы сбежали, от честного труда тоже. Не умеете ни дом построить, ни поле засеять. Даже в пищу не годитесь, мясо ваше жесткое и горькое, как желчь.
При этом они издевательски ковырялись в зубах.
Между тем Кортес продолжал хандрить. Уханье большого барабана, вопли несчастных, которых каждую ночь волокли на вершину пирамиды, лишили его воли. Сандоваль приехал к Альварадо, сюда же прибыл Олид и другие старшие офицеры войска. Решили посоветоваться, как быть? Вопрос о замене Кортеса не стоял — каждый из собравшихся понимал, что никто, кроме дона Эрнандо, не в состоянии возглавить войско в такой трудный момент. Альварадо, выслушав товарищей, предложил срочно послать за донной Мариной. Только эта женщина, по его мнению, способна возродить Кортеса. Сандоваль высказал сомнение индеанка всего неделю назад родила здорового, крепкого мальчишку. Сможет ли она совершить трудное путешествие из Тласкалы в предместья Теночтитлана?
— Эта Малинче, — успокоил его Альварадо, — все выдюжит. А за ребенком присмотрят кормилицы.
В ту же ночь в Тласкалу был отправлен Франсиско Лас Касас и Хуан Харамильо.
К исходу следующего дня донна Марина уже была на месте. Сойдя с бригантины, она тут же направилась в шатер главнокомандующего. О чем они там говорили, неизвестно, однако на следующее утро Кортес вышел из палатки, умылся, с аппетитом позавтракал и потребовал к себе офицеров с докладами. Донна Марина в полдень, вновь в сопровождение Харамильо, пустилась в путь в направление Тласкалы.
Между тем союзники по ночам неожиданно начали сниматься с позиций и отправляться по домам. Первыми покинули лагерь те, кто самыми последними признали власть испанцев, затем также дружно ушли чолульцы тескоканцы, топеяки. К несказанному удивлению главнокомандующего, вслед за ними поднялись и тласкальцы. Из окрестных городов в лагерь перестали доставлять съестные припасы. Он вызвал к себе в шатер Иштлишочитла и вождя тласкальцев, которые остались в лагере. Вид у обоих индейцев был убитый.
— Что случилось? — не повышая голос, спросил дон Эрнандо. — В чем причина подобного повального бегства?
Индейцы начали тяжко вздыхать. Иштлишочитл в крайнем волнении принялся пожимать и подергивать свои же пальцы. Это занятие поразило Кортеса индейская знать славилась прекрасным воспитанием и знала, куда девать руки. Этот же никак не мог совладать с собой.
— Отвечайте же наконец…
— Малинцин, — начал Иштлишочитл, — мы дали тебе и твоему повелителю слово верности, поэтому остались. Все равно нам идти некуда. От гнева ацтеков невозможно укрыться.
— То есть, как? — не совсем понял Кортес. Сандоваль угрюмо насупился. Тонатиу-Альварадо едва не вышел из себя.
— Почему, — с неожиданной яростью набросился он на сидевших с жалким видом индейцев, — ваши воины вдруг все разом превратились в трусов и дезертиров. Вы знаете, какое наказание ждет тех, кто осмелится покинуть поле боя. Вам урока с задирой Шикотенкатлем мало?..
— Подожди, Педро, — остановил его Кортес. — Какой смысл запугивать наших доблестных союзников. Сначала надо разобраться, что это за блажь? Откуда это поветрие? Зачем ваши люди покинули ваши позиции?
— Они страшатся гнева ацтеков.
— Какого гнева? Ацтеки обложены сплошным кольцом, их песенка спета. Ты же сам, Иштлишочитл, убеждал меня, что голод — лучшее средство заставить их сдаться. Да, у нас были неудачи, даже серьезные, но в нашем нынешнем положении ничего не изменилось. Мы по-прежнему держим Куаутемока за горло.
Тласкалец отрицательно помотал головой.
— Что это значит? — не поверил глазам дон Эрнандо. — Вы считаете, что я говорю неправду?..
— Малинцин, ты, конечно, искренне веришь в то, что говоришь, но от этого суть дела не меняется. Войну мы проиграли.
Испанские офицеры онемели, Альварадо даже сглотнул, а Олид буквально глаза выпучил.
— Как так? — невозмутимо спросил дон Эрнандо. — Господа, растолкуйте наконец, в чем дело.
— Ацтеки совершили обильные жертвоприношения. Они смогли умилостивить богов. Теперь — как объявили жрецы — Уицилопочтли вновь принял их сторону. Через восемь дней все будет кончено. Мы будем разбиты.
Испанцы переглянулись.
— Так вот в чем дело! — рассмеялся Кортес. — Ну, это глупое суеверие!..
— Не скажи, Малинцин, — сурово заявил тласкалец. — Наши жрецы, прорицатели и маги — и в Тласкале, и в Чолуле, и в прибрежных городах — изо всех сил стараются задобрить богов. Они молятся днями и ночами, не жалеют сил и…
Тласкалец замялся, зная, как относится Малинцин к местным обрядам, но на этот раз все обошлось.
— А вы, значит, — спросил дон Эрнандо, — решили твердо придерживаться данного вами обещания честно служить нашему государю? Похвально. Сколько же в ваших отрядах таких же верных людей.
У тласкальца под началом осталось сотня воинов, столько же у тескоканцев.
— М-да, не густо, — заключил Кортес. — Ладно, ступайте. Можете сказать своим людям, что ацтекские жрецы ошиблись. Боги навсегда отвернулись от ацтеков.
Когда они вышли, Альварадо принялся настаивать, чтобы за дезертирами была немедленно снаряжена погоня.
— Надо повесить десяток-другой этих вояк, остальные сразу вернутся на позиции.
— Ни в коем случае! — резко возразил Кортес, потом распорядился. Сандоваль, послать нарочных, чтобы те вежливо попросили не уходить далеко. Очень вежливо попросили… От моего имени. Будем ждать, пока не истечет срок. Усилить караульную службу, чтобы мышь не могла в город проскочить.
На следующий день приспела новая беда. Ацтеки в провинциях сразу подняли головы. Из расположенного южнее озера Тескоко города Куэрнаваки пришло посольство с просьбой защитить их от дерзких поползновений оккупационных отрядов, присланных из Теночтитлана за продовольствием. Испанские офицеры возмутились — у самих сил не хватает, однако Кортес решительно пресек всякое неповиновение. Он заявил, что «teules» не могут выглядеть немощными. Чем мы слабее, тем усерднее следует скрывать наше положение, прикрыв его наружными признаками силы. С этими словами он направил два отряда в Куэрнаваку, при этом приказав вернуться к Теночтитлану через десять дней.
С того дня удача вновь повернулась к дону Эрнандо лицом. Буря пригнала к побережью Веракруса корабль, груженый порохом и оружием. Судно было отправлено в сторону полуострова Флорида губернатором Понсо де Леоном. Подобный подарок комендант Эскобар никак не мог упустить. Корабль был тут же захвачен, груз отправлен капитан-генералу, Его сопровождала увлеченная рассказами о богатстве Теночтитлана команда корабля. Все ребята молодые, здоровые…
Прошло десять дней, и в лагерь начали возвращаться индейские отряды. Вожди с повинной шли к Кортесу, объясняли, что жрецы их городов доказали, что пророчество ацтекских мудрецов оказалось ошибочным. Боги действительно отвернулись от ненавистного всему Мехико племени. Теночтитлан должен быть разрушен до основания.
— Ну уж до основания, — усмехнулся Кортес. — Его королевское величество Карл V строг и грозен в отношении бунтовщиков, но милостив к раскаявшимся.
Тем не менее он распорядился срывать городские постройки и засыпать каналы. Иначе, по его мнению, Теночтитлан не взять. На узких улочках, тем более сопряженных с каналами, нельзя развернуть кавалерию, а без конных атак ацтеков, засевших в городских кварталах, одолеть трудно.
Нескрываемую радость этот приказ вызвал у союзников. Тысячи и тысячи их, вооруженных каменными тяпками «ками», приплясывая от радости, распевая гимны и военные песни, принялись крушить стены домов. Наконец-то город орла, терзающего змею, будет разрушен!.. Двести лет их прадеды, деды, отцы ждали этого дня. Гнездо ненавистных ацтеков должно быть уничтожено!..
Сам Кортес засучил рукава — на глазах у неприятеля таскал камни, куски высушенной глины и бросал их в канал. В тот же день он отправил новое послание Куаутемоку.
«Ацтеки сделали для защиты своего города все, чего можно ожидать от храбрых. У вас нет ни малейшей надежды на спасение. Припасы кончаются, коммуникации перерезаны, ваши вассалы изменили вам. Даже боги вас покинули. Вы остались одни — против вас вся Мексика. Сдайте город — это единственная возможность спасти великую столицу и её жителей. В чем виноваты десятки тысяч женщин, стариков и детей?
Доблестный Куаутемок, вспомни о прежней клятве тлатоани Теночтитлана, вернись в повиновение кастильскому королю. Я готов забыть обо всем, что нас разделяло. Личность, имущество — одним словом, все права ацтеков останутся неприкосновенными. Сам ты будешь утвержден в своей власти. Испания примет твою столицу под свое покровительство».
* * *
Получив послание Малинцина, Куаутемок немедленно собрал всех тлатоани родов, командиров отрядов, а также представителей гражданских властей.
Час был поздний. Когда все приглашенные собрались в недавно построенный дворец нового тлакатекутли, наступил рассвет. День обещал быть ясным, жарким — это значило, что неприятель непременно вновь пойдет в атаку. Куаутемок ясно понимал, что остановить их будет нечем. Нехватка питания делала свое дело. Кроме того неисчислимые потери уже сказывались даже на такой громадной армии, которой он обладал. Все меньше и меньше оставалось здоровых, полных сил бойцов. Все чаще женщины и дети брали в руки оружие и осыпали врагов стрелами и камнями. Они тоже гибли сотнями. Теперь, с началом разрушения города положение становилось безвыходным. Прорваться на материк? Куаутемок вздохнул — бессмысленная затея. В поле превосходство пополокас было очевидным. Против четырехногих чудовищ и извергающих огонь зверей ацтеки по-прежнему были бессильны. Не помогало и захваченное оружие белых. Его близкий друг, одержавший до того десяток побед над самыми храбрыми вождями других племен, овладел испанским мечом и вызвал на поединок чужеземца. На бой с ним вышел шестнадцатилетний мальчишка, паж самого Кортеса. Сражались они на обширной азотее, поединок закончился тем, что щенок сначала выбил оружие из рук ацтека, потом пронзил его насквозь. Во всяком деле нужны сноровка и умение… У них на это не было времени.
Куаутемок выслушал всех, кто присутствовал на совете. Командиры и лица, осуществлявшие гражданскую власть в городе, все, как один, высказались за то, чтобы принять условия Малинцина. Тогда слово взял главный жрец храма Уицилопочтли Кецалькоатль Тотек-тламакаски.
— Граждане племени теночков! — сказал он. — Хорошо жить в мире, но только не с белыми! Вспомните об участи несчастного Мотекухсомы, о том возмездии, которое он получил за гостеприимство. Когда и где Малинцин сдержал слово, данное нашим людям. Он исполняет взятые на себя обязательства только до той поры, пока ему выгодно. Вспомните об участи Шикотенкатля, вступившегося за своего соплеменника, об умерщвлении Тонатиу наших знатных граждан… Что же движет чужеземцами? Жажда справедливости? Желание просветить нас, убедить, что их бог сильнее и добрее к верующим в него? Мне ли объяснять, что это все медовые слова. За ними просматривается тяжкий ошейник раба. Вот что Малинцин держит за спиной. Он твердит, что все наши права будут сохранены. Вы этому верите? Все права попавшего в рабство зависят от милости господина. Вы можете сказать, что Малинцину можно доверять, если он поклянется на изображении женщины и проведет рукой крест-накрест? Готов согласиться, но как быть с теми, кто придет на смену Малинцину? Они не размахивали руками, касаясь своих лба и плеч. Что тогда останется от данных нам обещаний. Эти, с ками, сами не ведают, что творят. Обладающие разумом муравьев разрушают наш город, трудятся усердно, без понуканий. Что они скажут, когда белые ударами бичей погонят их восстанавливать разрушенное. Кое-кто может возразить, что я, выступая от имени жрецов, опасаюсь за наши привилегии. Страшусь, что вера, пришедшая к нас из-за моря и кощунственно приписываемая Кецалькоатлю, лишит вас страха перед нашими богами… На это я отвечу — солнце, как вставало на востоке, так и будет вставать, ночь будет сменяться днем, а дождь ясной погодой. Не в силах ацтеков нарушить вечный порядок. Их гибель ничего не значит с точки зрения равновесия во вселенной. Мы не вынесли тяжести ответственности. Но это совсем не значит, что наше племя должно исчезнуть с лица земли. Если мы победим, мы будем жить праведно, и бог чужеземцев, особенно молодая и красивая мать его, найдут достойное место на небесах, которые так молодо сияют нам сегодня. Мы выстроим храмы в их честь, принесем жертвы… Я не против мира, я только хочу, чтобы ни у кого не осталось сомнений, что в случае принятие условий чужеземцев, мы выбираем не между жизнью и смертью, а между свободой и рабством. Малинцин прав в том смысле, что он искренне жаждет сохранить племя ацтеков, чтобы нашими руками держать в повиновении весь Анауак и Мехико. Наше имущество тоже, по-видимому, останется в неприкосновенности, но только за тем, чтобы брать с нас налоги, размер которых будут устанавливать чужаки. Таким образом мы лишимся чести и станем цепными псами на службе у презирающих нас победителей. Тебе, юный Куаутемок, решать, как мы должны поступить. В твоих руках наша судьба. Подумай, что скажут о нас потомки.
В зале заседаний наступила тишина. Издали долетела песня союзных испанцам индейцев, с восходом солнца энергично приступивших к разрушению городских кварталов. В лагере испанцев звонко пропела труба…
— Ты прав, старик, — неожиданно сказал Куаутемок. — Не о вере идет речь, не о силе богов, выступивших против нас. Я присоединяюсь к твоему мнению. Пусть вы не смогли вымолить у Уицилопочтли победу, пусть Тлалок и Кецалькоатль отвернулись от нас, пусть Тескатлипока, взирающий в дымящееся зеркало, безмятежно наблюдает за гибелью Теночтитлана. Мы не можем безразлично смотреть на это. Не имеем на это права!.. Наша с судьба в наших руках — вот какой вывод я сделал, наблюдая за действиями Малинцина. Именно этого права он хочет нас лишить. Конечно, он будет милостив. До поры до времени… Он постарается установить мир и порядок, только при этом порядке мы будем лишены возможности распоряжаться своим будущим. Я согласен пойти на мир с чужеземцами, если они снимут осаду, и мы, как равные, поведем переговоры о том, как нам жить дальше. Как примирить ацтеков и испанцев… Нам придется многим поступиться, но врагу никогда не удастся заставить нас добровольно склонить голову. Мой дядя Мотекухсома никогда не передавал власть в Анауаке иноземному властителю. Если Малинцин откажется вести переговоры на этих условиях, я спрошу свой народ, что предпочитает ацтеки: умереть стоя или жить на коленях? Этот ответ и будет руководством к действию.
Когда Кортесу передали ответ Куаутемока, тот сразу помрачнел, ушел в свою палатку и до вечера просидел там. Рядом не было Марины. В ту ночь, когда она приехала, чтобы успокоить его после поражения, взбодрить, напомнить, что он является воплощением небожителя, призванного сокрушить этот дьявольский город, они в конце концов рассорились. Индеанка решительно отказалась связывать свою судьбу с этим юнцом Саламанкой, который уже загодя смотрел на неё свысока. Лучше она останется одна и претерпит всяческие муки, чем, хотя бы и по повелению дона Эрнандо, согласится отдать себя в рабыни. Хватит, заявила она, подобное со мной уже случалось. Только законный брак устроит её, и не с каким-нибудь прыщом, спесивым и недалеким идальго, а с человеком благородным в полном смысле этого слова, умеющим постоять за себя. И за нее… И конечно, испытывающим к ней симпатию…
— Не слишком ли много сразу! — Кортеса возмутила подобная строптивость. — Боже праведный и эта туда же! Смотри, Марина, я могу и рассердиться.
— Ты рассердись на врага! Нельзя раскисать в двух шагах от победы. Что же касается меня, мое слово твердо. В подстилки я больше не пойду!
Дон Эрнандо вспомнил этот разговор и вздохнул. Чем ближе победа, тем чаще самые верные люди начинали выходить из повиновения. Власть над Мехико, которая так манила к себе — просвещенная, основанная на воле кастильского короля и законе, призванная возродить этот край к новой, разумной, христианской жизни, — после подобных разговоров представала бездонной, смердящей пропастью. В ней могла утопнуть самая заманчивая, самая дерзновенная и блистательная мечта. Тут ещё этот Куаутемок. Как ему, туземцу, пришло в голову перевести разговор из военной плоскости в область высших политических интересов, которыми теперь приходилось руководствоваться Кортесу. Зачем он лезет в европейскую политику со своими представлениями о чести, свободе и равенстве, если судьба его уже решена. Ему будет оставлен добрый кусок власти и в пределах его полномочий никто не сможет перечить ему. О каком равноправии заговорил этот недоумок, когда руки Кортеса легли ему на горло? Это даже не глупость, не недомыслие — это вызов! Это попытка вмешать в земные дела Божий суд!
* * *
Союзные индейцы успешно срывали квартал за кварталом — скоро защитников Теночтитлана стеснили в северо-западных районах города, вокруг дворца Куаутемока. Голод обрушился на ацтеков. Они ели все подряд: коренья, червей, насекомых, водоросли, ласточек, ящериц, штукатурку. Шарили по прибрежным камышам, пожирали лилии, пышно распустившиеся в том году по озеру Тескоко. Удачей считалось отыскать кусок оленьей кожи — её запекали или обжаривали… В городе опять началась какая-то повальная болезнь. Голодные люди забредали в лагерь испанцев. Кортес приказал их не трогать, более того, распорядился кормить в надежде, что другие жители последуют их примеру и перейдут к нему.
В жилищах ацтеки лежали кучно, семьями — тем и спасались от холода. Матери прижимали к себе детей. Раненные воины при виде испанцев, в поисках добычи обыскивающих дома, отползали в стороны, забивались в углы — на большее у них уже не было сил. Испанцы их не трогали — так, по крайней мере, утверждает Берналь Диас. В это хочется верить, в то же время нельзя справиться со слезами, когда представишь вакханалию убийств, которую устроили в городе тласкальцы и другие союзники Кортеса. Капитан-генерал вне всякого сомнения прилагал все усилия, чтобы удержать дружественных индейцев от пиршеств с человеческим мясом, но что он мог поделать с торжествующими варварами?
Даже в этом положении ацтеки сражались до конца. К удивлению испанцев, случаи поедания соплеменников были крайне редки. «Никто из них не покушался на мясо мексиканцев, — пишет Берналь Диас. — Врагов они ели — своих же никогда!» Каждый день ацтеки встречали наступающих врагов градом стрел и камней. Среди испанцев начался ропот — что это за война с женщинами и детьми! На кой ляд она нужна?.. Кортес отдал распоряжение «щадить всех, кто просит пощады», затем приказал вывести из города возможно большее число союзных индейцев. В конце первой недели августа после месячного голодания, в одном из районов Теночтитлана были задержаны три высокопоставленных ацтека. Они сдались безропотно — сидели во дворике у стены, при виде ворвавшихся в дом солдат даже не встали. Один, по-видимому, сробел — в ожидании удара мечом закрыл глаза. Двое остальных спокойно и пусто смотрели на чужеземцев. Их заставили подняться, провели к Кортесу. Тот распорядился первым делом накормить их. Ели вельможи жадно, хватали куски, давились. Взгляд их постепенно осмысливался, наполнялся страхом и страданием, однако головы старались держать высоко, как и подобает ацтекам. Насытившись, один из пленных не выдержал и обратился к Кортесу. Агиляр сразу принялся переводить.
— Вы — дети солнца! Но солнце совершает свой путь быстро. Зачем же вы так медлите? Когда положите конец нашим несчастьям? Убейте нас тотчас, чтобы мы могли поскорее отправиться к богу нашему, Уицилопочтли. Он вознаградит нас за все страдания.
Кортес объяснил, что он изо всех сил старается заставить Куаутемока прислушаться к голосу разума. Неужели ему все ещё мало? Чего он добивается? Гибели всего народа?
Пленный насупился, потом угрюмо заявил.
— Это не его выбор. Так решили ацтеки.
— Вот ты пойди и скажи, что пришло время решать по-другому.
Вечером сановники вернулись с ответом — Куаутемок просил три дня на раздумья. Подарки, принесенные послами, были очень скудны — несколько штук полотна. Больше ничего…
Кортес согласился ждать. Через три дня гонец от Куаутемока сообщил, что повелитель предлагает встретиться в полдень на центральной площади Теночтитлана.
Дон Эрнандо явился вовремя. Три часа в ожидание тлакатекутли он простоял у ворот, ведущих к обгорелым развалинам дворца Ашайякатла. Сколько воспоминаний навеяли на него пострадавшие от пожара башни! Первый въезд в Теночтитлан — он почему-то назвал его Иерусалимом, — пленение Мотекухсомы, горы золота, когда-то возвышавшиеся во внутреннем дворе. Где оно теперь?.. Припомнились первый штурм большого теокали, «ночь печали»… Потом родилась уверенность, что Куаутемок и на этот раз обвел его вокруг пальца. Он не появится! Он добился того, на что рассчитывал — пусть коварный чужеземец вновь припомнит о содеянном им в этом городе. Кортес усмехнулся — все это блажь, детская игра. Взрослые люди играют по другим правилам. Дон Эрнандо распорядился начать штурм.
Три дня испанцы воевали за каждый дом, за каждую улицу и канал. Ацтеки все до единого взяли в руки оружие — правда, отчаянным это сопротивлением уже трудно было назвать. После первого же наскока кавалерии воины в строю валились, как снопы. Тласкальцы и отоми ловили женщин и детей, стрелявших из луков с крыш и храмовых пирамид. К полудню 13 августа все было кончено. Наступавшие колонны соединились в районе дворца Куаутемока. Там правителя не оказалось, но молодому тлакатекутли не удалось далеко уйти. Через несколько часов к Кортесу доставили плененного владыку, захваченного на одной из пирог, на которой он вместе с семьей пытался вырваться за кольцо оцепления. Куаутемок, завидев главнокомандующего, попросил убить его. Заботу о своей семье возложил на Малинцина. Назвал предводителя пополокас благородным человеком.
Все офицеры и солдаты, присутствующие при встрече, были поражены гордым видом правителя Теночтитлана. Молодой человек был очень хорош собой. Рост выше среднего. Длинные, прямые, черные волосы отброшены со лба и стянуты полоской из красной материи. Был Куаутемок в плаще, накинутом на плечи, коротенькой, украшенной вышивкой и драгоценными камнями набедренной повязке. На обнаженной груди орден Орла. Смотрел спокойно, без вызова и страха.
Кортес принял его ласково и заявил, что все условия, касающиеся чести и достоинства жителей, будут неукоснительно соблюдаться. От него же, вождя такого смелого народа как ацтеки, требуется не смерть, а организация немедленной починки чапультепекского водопровода, ремонт дамб, мостов, дворцов, уборка улиц от трупов и рассылка гонцов по всем провинциям с приказом остановить бесчинства ацтекских отрядов и приведение их к покорности.
«Порядок, — сказал Кортес, — должен быть восстановлен любым способом».
Куаутемок попросил разрешения жителям покинуть город. Капитан-генерал выразил согласие, при этом добавил, что иначе разбой и грабежи не остановить, дома и улицы от трупов не очистить. Он выделил специальные отряды из ветеранов, которые оседлав дамбы, стали вылавливать среди уходящих ацтеков хорошеньких женщин и более-менее крепких юношей. Клеймили их тут же, на дамбе — кому ставили метку на лоб, кому прижигали щеку. Кому уродовали губу…
Кто-то из знатных ацтеков попытался пожаловаться Малинцину на нарушение приказа, однако Альварадо перехватил жалобщиков. На возмущенные возгласы ацтеков спокойно ответил.
— Что вы волнуетесь! Берут не всех, а только пятину короля. К тому же ваши женщины мажут лица грязью, что равнозначно нарушению законных прав короны на долю добычи. Запомните, Теночтитлан пал. Да здравствует Мехико!
Глава 6
В ночь после захвата Теночтитлана, во время пира, устроенного победителями в сохранившемся дворце Куаутемока, над городом грянула небывалая буря. Тучи натянуло с вечера — заходящее солнце, казалось, навсегда погрузилось в наползающий, беспросветный мрак. Поднялся ветер, сначала зашуршал пылью, засвистал в щелястых стенах полуразрушенных домов, в кронах священных кипарисов, высаженных неподалеку от главной площади, затем раздул огонь на вершинах теокали, где полыхали подожженные испанцами языческие капища. В полночь, в самый разгар пиршества ударили молнии. Они били в поверхность озера, в сохранившиеся башни, в развалины. Громовые раскаты перекатывались по всей долине Анауака. Затем хлынул ужасающий по обилию воды ливень. Утром патер Ольмедо принялся укорять Кортеса и его офицеров за недостойный для христиан шабаш, устроенный на руинах поверженного города. Его слова навели на всех такое уныние, что тут же, невзирая на похмелье, было решено устроить крестный ход и возблагодарить небеса за оказанные милости и спасение.
Через несколько дней порыв благочестия окончательно угас. Добыча, доставшаяся испанцам, была более, чем скудна — на каждого солдата вышло что-то около сотни песо. Подобное вознаграждение посчитали насмешкой. Когда же обнаружилось, что сокровища, оставленные во дворце Ашайякатла, бесследно исчезли, войско начало глухо роптать. Поползли слухи, что капитан-генерал и прежде замечаемый в особом пристрастии к своему собственному карману, тайно захватил всю эту груду золота. На стене дома, где поселился главнокомандующий каждую ночь начали появляться обидные стишки.
Наш Кортес-генерал Раньше все забирал. Теперь дал себе волю, Хапнул «государеву» долю.Утром дон Эрнандо собственноручно писал стихотворные ответы на подобные обвинения. Когда же королевский казначей Альдерете намекнул, что не плохо было бы спросить самого Куаутемока, куда исчезло собранное год назад золото, капитан-генерал не стал перечить. Оправдывал себя тем, что в этом случае обстоятельства оказались сильнее принятого на себя обязательства.
Куаутемока, вопреки слову, данному Кортесом, «допрашивали» с помощью огня — прижигали ноги раскаленным металлом. Главнокомандующий был вынужден лично присутствовать при пытке. Куаутемок держался достойно, на все вопросы отвечал, что за четыре дня до падения Теночтитлана все золото было опущено на дно Тескоко. Тех, кто исполнил его повеление, уже нет в живых. Места, где были утоплены сокровища, ему неизвестны… Потом потерял сознание.
Альдерете приказал окатить тлакатекутли водой, чтобы тот пришел в сознание, однако дон Эрнандо распорядился прекратить пытку. На коварный вопрос королевского казначея, почему вдруг такая милость к этому краснокожему, Кортес ответил.
— Помилуйте, сеньор казначей, этот, как вы изволили выразиться, краснокожий, пока законный правитель Теночтитлана. Интересно, как посмотрит на ваше усердие его величество дон Карлос, когда узнает, что вы решились подвергнуть пыткам особу королевской крови?
Казначей побледнел и торопливо выскочил из пыточной.
С того дня среди приближенных к главнокомандующему офицеров, исключая Сандоваля, началась настоящая охота за золотом. Страна между тем ещё была далека от замирения. Сразу после взятия Теночтитлана восстали уастеки, проживавшие на реке Пануко. Кортесу пришлось лично возглавить поход. То-то он удивился, глядя на людей, идущих в бой нагими. Тела их были украшены татуировкой, зубы пластинками из нефрита и обсидиана. Храбрость уастеков была безмерна — они десятками валились под ударами сдвоенных, скрепленных цепями ядер, которыми стреляла по человеческой массе испанская артиллерия.
В том же 1520-ом году его помощники-капитаны были посланы с военными экспедициями во все части обширной державы ацтеков: Сандоваль — на юго-запад, в область Сеутлу, расположенную между реками Коацакоалькос и Табаско,[57] Альварадо — в страну сапотеков и миштеков, Олид повел войско на северо-запад против тарасков, где захватил такую богатую добычу, что, по-видимому, немного тронулся разумом. В 1522 году, получив от Кортеса патент на завоевание Гондураса, он высадился на его побережье, объявил себя королем и отложился от Испании.
Чтобы образумить наглеца, в Гондурас были посланы три корабля под командой Франсиско де Лас Касаса, однако уже на рейде основанного Олидом города Триунфо де ла Крус, эскадра попала в жесточайший шторм. Корабли были выброшены на прибрежные рифы, сам Лас Касас попал в плен.
Тем временем из Аудиенсии на острове Эспаньола было прислано распоряжение, утвердившее дона Эрнандо в качестве наместника Новой Испании с правом расширять и подчинять королевской короне соседние территории и вершить суд в подвластной ему колонии. 14 мая 1523 года император Карл V изволил вынести решение по поводу спора между епископом Фонсекой и в его лице Советом по делам обеих Индий а также губернатором Кубы доном Диего Веласкесом де Леон с одной стороны, и капитан-генералом Новой Испании доном Эрнандо Кортесом с другой.
«Все обстоятельства дела, — утверждалось в документе, — явно указывают, что дон Кортес и его люди, составившие первый призыв, являются подлинными завоевателями Новой Испании и добрыми слугами короля. Достойны удивления их воинское счастье и доблесть. Веласкесу в его домогательствах отказать, денежные претензии рассмотреть в обычном судебном порядке. Дона Кортеса утвердить наместников Новой Испании, наделив его полномочиями распределять имения по справедливости. Насчет обвинений дона Кортеса в изъятии патента у дона Нарваэса — произвести доследование на месте. Потерпевших солдат вознаградить. Всех подлинных конкистадоров наделить поместьями по их собственному выбору и впредь давать им преимущество по службе».
Передать это решение было доверено двоюродному брату Кортеса Родриго де Пас, который по пути в Новую Испанию остановился в Сантяго-де-Куба, где под звуки фанфар королевский приговор был объявлен населению. Как только Диего Веласкес услышал о подобном исходе его тяжбы с Кортесом, его хватил удар.
Небывалый ажиотаж это известие вызвало в Мехико. Официально утвержденный королем наместником, дон Эрнандо устроил многодневное пышное празднество с пирами и рыцарскими турнирами. Вскоре в Веракрус прибыли казенные ревизоры — казначей Алонсо де Эстрада, фактор Гонсало де Салазар и ответственный за бухгалтерскую отчетность Родриго де Албонес — обладавшие самыми широкими полномочиями в устройстве гражданской жизни. С их приездом в столице колонии началась обычная рутинная подковерная борьба за власть, за доходы, за право клеймить рабов, разрабатывать золотые прииски и серебряные рудники, за дворянские патенты и должности в органах управления провинциями. В этой борьбе Кортес чувствовал себя неуютно — ему было тесно в Мехико. Размаха не хватало. Каждый приехавший в Вест Индию дворянин требовал во владение самые жирные куски, самые плодородные земли. Ладно, если он оказывался родственником или милым в общении человеком — таким Кортес не отказывал, но все остальные на что рассчитывали? Ему не хватало наград, чтобы рассчитаться с ветеранами, с теми, кто не жалел жизни для завоевания этой страны. Просители шли к нему с утра до вечера, требовали, настаивали, умоляли, ссылались на связи при дворе. Получив отказ, они сбивались в партии обиженных. Подобных людишек Кортес видел насквозь, ему не составляло труда разоблачать их наветы, доказывать вздорность обвинений, но подобное занятие вызывало скуку. В каких грехах его только не обвиняли и в желании отделиться от Испании, и в сокрытии доходов, и присвоении королевской доли, и коварстве, и в честолюбии, и даже в терпимости к индейцам. Как он осмелился разрешить патеру Ольмедо, основавшему первый в Новом Свете госпиталь для индейцев, использовать имя наместника в качестве патрона лечебницы!
Для ухода за больными из метрополии прибыли двенадцать францисканских монахов, и среди них прославившийся своим милосердием и бескорыстием Торибио де Бенавенте, прозванный местными жителями «Мотолиниа», что означает «бедняк». Этот Мотолиниа в последствии написал первую историю ацтекского народа.
Кортес устроил священникам пышную встречу. Все благородные испанцы явились к городским воротам, за которыми начиналась южная дамба. Вдоль улиц были выстроены войска. Местная индейская знать была поражена — победитель Теночтитлана, его ближайшие сподвижники, стоя на коленях, встретили одетых в серое тряпье, издалека бредущих, усталых, ничем не примечательных христианских жрецов.
Эта встреча произвела неизгладимое впечатление на Куаутемока. На следующий день он приказал доставить себя — ноги после пыток ещё не повиновались — к патеру Ольмедо, где и крестился в ближайшей, только что отстроенной церкви. Воспреемником его стал Гонсало де Сандоваль.
Между тем положение Кортеса ухудшалось с каждым днем. Положение могли исправить только богатые дары, которые должны были убедить короля, что никто, кроме него, не сможет обеспечить устойчивый и все увеличивающий приток золота и серебра в казну. Тут ещё приехавшая с Кубы его слабая грудью жена через три месяца отдала Богу душу, и Кортеса немедленно обвинили в отравлении супруги. Жалобы нескончаемым потоком текли в Испанию.
Порадовало письмо от отца. Дон Мартин Кортес де Монрой извещал, что решил женить сына на племяннице одного из виднейших вельмож Испании, герцога де Бехар. Помолвка должна была снять множество всяческих мелких оскорбительных обвинений, однако выходка Кристобаля де Олида, одного из вернейших в прошлом капитанов, бросала тень и на самого Кортеса.
Дон Эрнандо решил лично наказать смутьяна, в цепях привести его в Мехико и передать королевскому суду, но предварительно в Испанию были отправлены дары взамен перехваченных французскими пиратами сокровищ Мотекухсомы. Была среди подарков и удивительная диковинка — отлитая из серебра пушка, названная «Феникс. На её изготовление было потрачено 80 000 пезо. Орудие украсили девизом и обращением к императору:
Никто подобной птицы не узрел. Никто ещё слугой Кортеса не имел. Никто, Тебе подобно, миром не владел.Подобную надпись при дворе сочли предерзостной, и герцогу Бехару пришлось приложить много усилий, чтобы разъяснить, что Кортес — парень неотесанный, солдат до мозга костей. Вот появится при дворе, живо умерит гордыню…
* * *
В октябре 1547 года в Андалузии пошли затяжные осенние дожди. Небо над маленьким городком Кастильехо де ла Куста, где доживал последние деньки знаменитый конкистадор, гроза индейцев, пожиратель жутких плодов, называемых «томатами», дон Эрнандо Кортес, окончательно затянуло тучами. По окрестным горам стаями бродили клочья тумана. Обвалившаяся верхушка городской башни опустела — тоскливо было наблюдать за брошенными аист иными гнездами. Дон Эрнандо распорядился перенести постель в другую комнату, из окон которой открывался более живописный, навевающий умиротворение и благие мысли вид, однако так и не дождался исполнения приказа.
Как-то, собравшись с силами, он решил обойти огромный дом. Ступал, опираясь на резную трость… Постоял на южной стороне у забранного фигурной, кованой решеткой широкого окна — отсюда открывался вид на дорогу, ведущую в Севилью. Крестьяне в холщовых накидках гнали по ней телеги с припасами. Взгляд Кортеса невольно устремился вдоль грязного, разбитого донельзя проселка за горизонт. В той стороне лежало Океаническое Море, за ним перед умственным взором наметился снежный пик Орисабы, а чуть далее на полдень, грозные, насквозь пропитанные влагой джунгли Гондуры. Ну их!.. Потом добрался до западных подслеповатых, затянутых бычьими пузырями проемов. Комнаты здесь показались тесными, с низкими потолками… Он с трудом спустился на первый этаж — здесь располагались каморки, предназначенные для слуг. Зашел в ближайшую к лестнице комнату и совершенно почувствовал себя как в могиле. Вновь поднялся наверх, направился на северную сторону, глянул в стрельчатое окно. Взгляд уперся в глухую стену дома, расположенного на противоположной стороне маленькой площади. Наконец вернулся в свой кабинет. С утра распорядился придвинуть постель к окну только к вечеру, после многократных понуканий, слуги наконец переставили кровать. В поздних сумерках он устроился на многочисленных подушках и глянул на покатый, потускневший в непогоду, но все ещё отливающий кирпичным тоном склон холма, на вершине которого черными зубцами выделялась полуразрушенная мавританская крепость.
…О золоте и серебре, которыми по сведениям ацтекских купцов изобилуют Гондурас и Иге рас, я думал в последнюю очередь, хотя, конечно, прибавка к доходам мне в ту пору не помешала бы. Облава на идиота Олида тоже представлялась малопочтенным занятием. Вот что делает золото с неискушенным человеком! Неплохой вояка, искусный тактик, он был полный профан в политике и сразу поддался на удочку испытанного интригана Веласкеса. В письменном предписании было сказано — капитану Кристобалю де Олиду по пути к побережью Гондураса зайти на Кубу, в Гавану, где для экспедиции уже было заготовлены съестные припасы и лошади. Здесь его угораздило встретиться с несколькими солдатами, дезертировавшими из Мексики, для которых единственным спасением было уговорить Олида отложиться от наместничества Новая Испания и спрятаться за его спиной в глубине джунглей. Следом на север острова примчался сам Веласкес, который был готов на все, только бы досадить мне. Ему не пришлось прикладывать много усилий Олид быстро согласился предать меня и в компании с Веласкесом осваивать новые земли. Дальше-больше, безумие крепчало!.. После основания города Триунфо де ла Крус он окончательно потерял рассудок и объявил себя королем Гондураса. Если бы не несчастье с Лас Касасом, этот опившийся местного пульке недоумок уже давно болтался бы на виселице.
Другая идея влекла меня на юг. Я стремился отыскать таинственный «Проход», который бы водным путем выводил из западного Моря-Океана в великое Южное море.[58] По собственной воле изменить карту мира! Вот задача, достойная покорителя Мексики!
Признаюсь, как на исповеди — грешен, Господи, в дерзновенных мечтах. Неизвестные дали манили меня куда сильнее, чем все сокровища Нового и Старого Света. Стоило мне почуять запах тайны и что-то начинало брезжить в душе — может, какая-то иная жизнь, где человек может подобрать себе мечту по плечу, как бы дерзновенна она не была. К несчастью, всякие необузданные фантазии имеют предел — подобные необыкновенные предприятия требуют много денег. Презренный металл — вот что служит неодолимым препятствием для осуществления всякого «исторического» замысла. И конечно, воля Господа нашего… Его рука вычерчивает маршрут человеческой жизни. Каждому — его удел!..
Ныне я в состоянии только сожалеть о несделанном, о не доведенном до конца, но в ту пору меня не оставляла вера — все ещё впереди. Так называемая мирная жизнь, бесконечные интриги, коварство королевских чиновников, вспыхивающие в провинциях бунты вымотали меня до предела. Дня свободного не мог вырвать, чтобы заняться снаряжением серьезной экспедиции на запад — хотелось вторым после Магеллана человеком, но уже не поистаскавшимся в путешествие авантюреро, не звонким именем, а могучим, в свете и славе, победителем обойти белый свет, попробовать силы в борьбе с китайским богдыханом. Так ли он силен, как сообщали проезжие купцы. Чтобы потрясти Поднебесную империю, власти и желания у меня в ту пору хватало. Не то, что ныне… Котенка с пола поднять не могу. К тому же он изворачивается, негодник, играет…
Как удивительно бодро, волнующе начинался поход в Гондурас! Достойна описания процессия и свита, которая должна была сопровождать меня в дороге: впереди вышагивали глашатаи, затем юные пажи в пестрых нарядах — каждый из них был родом из самых знатных фамилий Кастилии. Позади несли покрытый узорами паланкин, украшенный перьями птицы кецаль и золотыми узорчатыми бляхами, в котором восседал Куаутемок. Почетным эскортом вокруг него скакали рослые, покрытые латами рыцари. Заботы о безопасности Мексики вынудили меня взять его с собой, также, как и его неразлучного друга, правителя Тлакопана. Пусть лучше они будут поближе… В поход отправлялись дворецкий, врач, повар, многочисленная прислуга, музыканты, танцоры и шуты. Я испытывал необыкновенный душевный подъем, напомнивший мне о тех незабвенных днях, когда мои корабли снялись ночью с якоря и вышли на внешний рейд Сантяго. Рядом были прежние товарищи: друг Сандоваль, Лис Марин, Хуан Харамильо, Берналь Диас — этот уже в чине капитана. Войско было испытанное, способное горы своротить. Кроме большого числа носильщиков, нас сопровождали три тысячи воинов из ацтекской гвардии — ребята все рослые, мускулистые, почти у каждого на шее золотой нагрудный знак. Нас сопровождала донна Марина, отыскавшее свое счастье в объятьях храброго Харамильо. В виду снеговой вершины Орисабы, в маленьком городке, мы отпраздновали их свадьбу. Я мог быть доволен — молодожены получили патенты на дворянство, прекрасные имения… Индейские торговцы из Табаско снабдили меня достоверной картой.
Шли мы местами дикими, нехоженными. За несколько месяцев мы пересекли болотистую равнину у основания Юкатана. От реки Коацакоалькос до Гондурасского залива построили около полусотни мостов, один из которых имел в длину 900 шагов.
Змеи, москиты, ягуары, в реках зубастые крокодилы встречались там на каждом шагу, но больше всего нас донимал голод. В этих болотах, пропахших смрадом джунглях, где за несколько суток перехода трудно было сыскать сухое место, индейские деревни являлись большой редкостью. К тому же местные жители, прослышав о нашем приближении, сжигали хижины и скрывались в чащобе. Добраться до них через сплетения лиан было невозможно. Маис на полях едва только выглянул из земли, никто из нас не отважился есть молодые побеги. Скоро дело дошло до того, что мы вынуждены были питаться кореньями.
Наконец дошли до совершенно безлюдных мест. Два проводника улизнули, от третьего тоже не было толку — он бился в горячке. Через некоторое время от голода и лишений начали валиться с ног люди. Сначала преставились трое солдат-новичков, затем отдали Богу душу пажи, глашатаи, музыканты. В живых остался один трубач. Желая подбодрить солдат, он иногда начинал дудеть в трубу. Берналь Диас как-то сказал ему — кончай ты эту ерунду! Звуки твоей дудки столь же приятны, как волчий вой. Лучше помог бы раздобыть где-нибудь горсть маиса!
Так добрались мы до реки Канделарии. Вышли на берег и обомлели — такой ширины поток нам ещё не удавалось преодолевать. В войске едва вспыхнул бунт. Солдаты начали открыто угрожать мне. «Безумец! — кричали они. — Куда ты нас завел?» Я не спорил, не ругался с солдатами, всего лишь попросил пять дней для постройки моста. Если за этот срок не будет наведена переправа, экспедиция возвращается назад. В Мехико подобный исход казался невозможным, но что поделать, если на этот раз обстоятельства оказались сильнее меня. Признаюсь, решение обратиться за помощью к Куаутемоку далось мне с трудом. Дело было не в гордыне, просто не имею привычки ходить в должниках, особенно когда дело касается такой тонкой области, как услуга за услугу. Делать было нечего — я отправился к нему в шатер и попросил направить подчиненных ему воинов на строительство моста. Индейский вождь в то время без конца обсуждал со своим духовником фра Текто богословские вопросы. Все-то ему было интересно: что есть Слово и Господь, как возник наш мир, где расположены рай и ад, кто такие Адам и Ева? В чем причина существования дьявола, если Бог всемогущ? Почему нам не дано умственно проникнуть в Божий промысел? В чем величие жертвы Христа и когда наступит Страшный суд?
Индеец, надо сказать, сразу повел себя как благородный человек, ни с того, ни с сего назвал меня братом, объявил, что зла за нарушенное мной слово не держит — христиане, мол, всегда должны помогать друг другу. Лучше бы он не упоминал о том вынужденном расследовании, которое касалось судьбы исчезнувших сокровищ! При этом лицо его было такое простецкое, глаза смотрели так искренне… Он тут же поднял своих людей, и через четыре дня мост был построен. Мы без особых усилий перебрались на противоположный берег…
Каково мне неделю спустя было узнать, что Куаутемок, оказывается, имел в виду нечто совершенно иное. По его расчетам, чем глубже мы заберемся в джунгли, чем сильнее увязнем в болоте, тем легче с нами можно будет расправиться. Он всегда хорошо соображал, этот индеец, и, по-видимому, счел момент благоприятным, чтобы навсегда разделаться с чужаками и вернуться в Мехико победителем Кортеса.
Конечно, он все отрицал. Этот дурак Текто, которого я попросил подробнее разузнать о коварных замыслах повелителя ацтеков, заявил, что Куаутемок блюдет данное слово и верно служит короне. К тому же он заметно преуспел в познании истинной веры… Можно подумать, что в моем положении у меня не было других забот, как только устраивать богословский диспут. Смерть шла за мной по пятам.
Заговор раскрыл один из верных индейцев, честный гражданин города Теночтитлана по имени Мехикальсинго, а после крещения — Кристобаль. Он в большой тайне пробрался ко мне ночью и заявил, что Куаутемок и правитель Тлакопана много раз беседовали между собой о том, что хорошо бы найти какое-нибудь средство вернуть свою прежнюю власть и земли, отнятые испанцами.
Поскольку я был тщательно информирован этим Кристобалем, я воздал хвалу Господу нашему, Иисусу Христу и на рассвете схватил обоих этих сеньоров и, поместив их отдельно друг от друга, принялся допрашивать…
Эти двое упорно молчали… нет, говорили они слишком много и ничего по существу. Куаутемок в свою очередь попытался обвинить меня в подготовке неправой расправы.
Стоит ли упоминать о том, какие дерзости посмел высказать мне в лицо этот дикарь? Зачем патеру Гомаре знать об этом! Скажем коротко — Куаутемок отрицал вину, хотя факты были очевидны. Этого вполне достаточно. В конце концов, свидетельства о существовании заговора подтвердились. В тот же день оба индейских вождя были повешены.
Да, суд был скорый, и, как теперь кое-кто смеет утверждать, неправый. Что ж, пусть злобятся, лают из-под воротни… Куаутемока и его приятеля, правителя Тлакопана, вздернули как подлых предателей. Собакам — собачья смерть!
…В ту ночь старику Кортесу так и не удалось сомкнуть глаз. Все вроде было готово к завтрашней встрече с отцом Гомарой. Тот запишет его рассказ, сверит с другими источниками, и в конце концов изложит историю похода в Гондурас с той обстоятельностью и любовью к истине, которая свойственна этому достойному человеку.
Заполночь он поднялся, нашарил в темноте трость, кое-как, негнущимися руками накинул халат и принялся бродить по дому. Обошел весь второй этаж постоял у широкого, смотрящего на южную сторону окна, прикинул, что ещё можно было бы добавить к его рассказу. Разве что какие-нибудь мелкие детальки, которые не в состоянии изменить общую картину. Неожиданно задумался о Божьем суде, о котором с такой наглостью смел рассуждать этот сопляк перед тем, как его вздернули на толстенной ветви дерева сейбы. Так они и закачались рядышком с правителем Тлакопана… Свидетелем в его, Кортеса, защиту может выступить верный солдат Берналь Диас — его, правда, не было в самый момент распра… тьфу, казни. Он тогда рыскал по окрестностям с дюжиной солдат в поисках провианта. Ах, нелегкая дернула его повесить этого мерзкого, отощавшего — кожа да кости — монаха, посмевшего угрожать ему, дону Эрнандо, королевским судом. Это великий грех, но милость Божья неизмерима, и на его долю прольется капля небесного елея.
С этими мыслями он отправился в домашнюю церковь, где и молился до утра.
В конце ноября 1547 года дону Эрнандо Кортесу стало совсем худо. Изводили головные боли и обмороки, совсем расстроился желудок. Умирал он тяжело, прошлое оказалось цепким, жгучим. Смерти не боялся — верил в Христову справедливость и милосердие. Конечно, грехов на нем много, но это не повод поставить под сомнение все, сделанное им. В том же убеждал его и отец Гомара. Его деяния, уверял он дона Эрнандо, превышают всякое представление о человеческих возможностях. Стоит ли прислушиваться к завистникам при дворе или к безумцам, подобным епископу Лас Касасу, обвиняющим его в убийстве тысяч душ индейцев? Его скорбь лицемерна, укор наивен. Он пытается уверить, что ему известен замысел Божий? Бросьте, дон Эрнандо!.. Таких людей, как вы, в истории единицы. Кровь, налитая в человеческие жилы, предназначена не только для того, чтобы омывать внутренние органы и снабжать жизненной силой душу. Она же ещё и влага, удобряющая дорогу к Божьему совершенству. В этом смысле язычники правы, настаивал лиценциат.
— Доверьтесь мне в поисках примирения со своей совестью. Если вас гнетут грехи, сотворенные сознательно, сделанные с целью не допустить ещё больших злодеяний, то вот вам в утешение мысль — вы исполнили волю Господа и отмыли землю от крови невинных жертв!
Кортес рассмеялся.
— Вслушайтесь, падре в то, что говорите!
Гомара неожиданно загорячился — видно, эта мысль давно не давала ему покоя.
— Вспомните, дон Эрнандо, вы рассказывали мне, что эта самая донна Марина как-то призналась вам, что никто из язычников даже не пытался избежать гибели на жертвенном камне. Напротив, многие полагали это за великую честь. Тот же, кто страшился подобной участи, все равно считали такой исход неизбежным. Вы же дали язычникам свободу выбрать жизнь или смерть. Теперь они могут искать справедливости, обратиться в королевский суд. Убийства ныне запрещены по закону. Пусть даже он частенько не исполняется, но важен принцип. Они, в конце концов, могут взбунтоваться и с оружием в руках попытаться защитить свои права. Никто больше не поведет их, безропотных и невинных, к жертвеннику, никто более не посмеет — по закону, сеньор Кортес, по закону! — снять кожу с живого человека и напялить её на себя ради того, чтобы умилостивить мерзкого идола…
Мысль была здравая — дон Эрнандо вынужден был признать это, и все равно покоя не было, донимали сны. Вернее, сон… Мерещилось некие бесплотные сущности, спорившие по поводу его души. А то вдруг его начинало затягивать в щель между исполинскими жерновами, неспешно перемалывавшими бесконечной чередой всплывающие с округлой земной поверхности души.
Радовало другое — солнечный свет, легкий ветерок, запахи, исходившие от комнатных цветов, народившийся в кадке росток кукурузы. Даже шуршащие под полом мыши навевали приятные мысли. Человеческие голоса по утрам перекличка прачек, выкрики торговцев на базаре — мурлыкающий котенок, каждую ночь забирающийся к нему на кровать — все было наполнено жизненной силой, которая так стремительно покидала его когда-то могучее тело.
Глава 7
Последние страницы своих воспоминания Берналю Диасу пришлось дописывать в одиночестве — Хосе, не обмолвившись ни словом, не предупредив мать, городского алькальда, сбежал в Новую Андалузию, где завербовался в войско капитана Гонсало Хименеса де Кесады, в поисках Эльдорадо отправившегося вверх по могучей реке Ориноко.
Старик работал день и ночь. Свеча на его столе не гасла — даже в полдень ему не хватало света. К бумаге тянуло!.. Сами собой оживали в памяти картины последнего похода, который иначе, как безумным, не назовешь. Он вовсе не стремился принять в нем участие, но разве с доном Эрнандо поспоришь. Разве объяснишь — пусть теперь молодые хлебнут лиха, пусть помокнут под тропическим ливнем, поголодают досыта, а им, ветеранам, пора и на покой.
Собственно, кого винить, кроме самого себя? Когда Кортес при встрече обнял его, похлопал по плечу, объявил вполне годным к строевой, Берналь невольно вытянулся и неожиданно рявкнул — готов служить королю и отечеству. Потом сам себе презирал, однако понаблюдав за деятельным, не знающим покоя дона Эрнандо, глянув на озабоченного, одолеваемого заботами и все равно заметно повеселевшего Сандоваля, оттаял. Что-то колыхнулось в груди, он даже прослезился. Как все они, участвовавшие в подготовке военной экспедиции в Гондурас, стали похожи на прежних молодцов, когда-то загрузившихся в трюмы бригантин и барков и отправившихся на запад, на поиски золота и приключений. Почему-то припомнилась Сеутла, переговоры после победы на реке Табаско… Как беззаботно они хохотали над перепуганными до смерти индейскими касиками, которых дон Эрнандо припугнул жеребцом музыканта Ортиса, страстно требующим спаривания со спрятанной в кустах кобылой Седеньо. Прошлое оказалось незабвенным — как хотелось его вернуть! Еще раз пережить торжественный молебен, который устроили патер Ольмедо и лиценциат Диас на песчаном берегу напротив острова Улоа. Загадочная страна, прикрывшись высокими дюнами, лежала перед ними… Головой в небо уперся вулкан Орисаба!.. Велика оказалась Мексика. На подобный каравай, говорят, рот не разевай! А они взяли ее! Разжевали и проглотили!..
Старик откинулся в кресле, вспомнил хорошее. Потом само собой приплыло и дурное. «Ночь печали», в хохот рыдающий от ужаса Педро де Альварадо… Явилась в памяти мокрая, со спутанными волосами Шочитл, до крупной дрожи боявшаяся вылезти из деревянной клетки в Тласкале. Когда же наконец она на четвереньках выкарабкалась оттуда, сразу намертво вцепилась в Берналя. Он не мог оторвать её руки — так и двинулся на свои квартиры с прилипшей маленькой, но необыкновенной сильной женщиной. Знать бы точно, что погибла она в Истапалапане! И что сынок погиб… Может, где мучаются, а здесь скромная, но вполне прибыльная комменда пропадает.
Затем пришла пустота, понимание того, что эти воспоминания совсем не связаны с безумным походом в Гондурас. Это были два совершенно несхожих предприятия, и в сравнении с героическим походом на Теночтитлан ничего достойного в затее добраться сухопутным путем до свихнувшегося от блеска славы и золота Олида не было.
Берналь помянул недобрым словом глупого мальчишку Хосе, хвата Кесаду о нем уже давно ходила молва, что в жесткости он переплюнул самого Нуньо Гусмана, хотя казалось, что превзойти Нуньо по этой части невозможно. Тот опустошил все индейские поселения к северу от Мехико. Выходит, племя губителей неистребимо? До скончания веков им не будет числа? Кто знает, может, придет срок, и люди опомнятся? Что тогда делать таким, как дон Эрнандо — он и суду не подлежит, и характером велик, и деяния его обширны, и в то же время крови тоже пустил достаточно. Не о тех индейцах, что погибли на поле брани, не о чолульцах, не о погибших от голода в Теночтитлане идет речь. Война дело жесткое, несправедливое… Кому по силам совладать с её законами! О другой пролитой крови идет речь. Ее по историческим понятиям всего-то чуть-чуть — сколько её там, у Куаутемока и его дружка, вождя из Тлакопана, наберется? Ну, может, с ведро… А монах Хуан де Текто, вовсе был тощ и хил — по каплям считать можно. Что значат эти два ведерка по сравнению с морями, океанами крови, пролитой в боях, во время осады, при подавлении бунтов? А вот поди ж ты — вопиет так, что на небесах слышно!
Если бы не наемные писаки, которые, не зная брода, суются в воду! Наврал Гомара в этом вопросе сверх меры.
Пора осадить!
Его писанина ничего, кроме озлобления и ярости, у старика не вызывала! В описании похода в Гондурас, рассказывая о гибели невинного Куаутемока, этот писака даже словом не обмолвился о последних словах благородного касика. Его, Диаса, правда, при расследовании и казни не было — Кортес отправил его по окрестностям в поисках съестного. Берналь вернулся, когда все уже было кончено. Тела несчастных правителей сняли ацтекские воины. Так и исчезли с ними в джунглях… Вдаваться в объяснения по поводу безумного поступка Кортеса не хотелось, однако необходимо засвидетельствовать, что никто в войске — даже Сандоваль! — не одобрили это скоропалительное решение. Ясно, что ни в каком заговоре Куаутемок участия не принимал. Кортес избавился от последнего владыки Теночтитлана, чтобы развязать руки короне в назначении вице-короля. Другое непонятно, зачем это злодейство понадобилось дону Эрнандо? Зачем он рискнул вечным блаженством, ведь чтобы не говорили о наших «жестокостях» во время той войны, он, Берналь Диас, ни в чем не мог упрекнуть себя, своих — в большинстве! — товарищей, нашего капитан-генерала! Разве, что иной раз приходилось зло срывать, но подобные проступки они давным-давно искупили покупкой индульгенций. Денег на них не жалели… Другое дело, погубить ни за что благородного монарха, его товарища да впридачу обоих францисканцев, не побоявшихся открыто заявить о неправедном суде.
Храбрым человеком оказался старик Текто, мир праху его. Не знал он, с кем имеет дело. Стоило ему только обмолвиться, что по прибытию в столицу он непременно обнародует всю сумму произвола, недоброжелательства и презрения, которые Кортес питал к покойному правителю, как тот без колебания приказал вздернуть строптивого монаха. Его товарищ, Хуан де Айора, исчез по пути в Гондурас — видно, наемный убийца зарезал его где-то в джунглях. Мы, ветераны, в виду явной несправедливости приговора начали чесать в затылках — уж не свихнулся ли Кортес, как и Олид. Тогда нам всем из джунглей не выбраться. Спустя четыре дня после казни его настигла злая судьба. Он свалился с высокой ступени пирамиды и расшиб голову. Тут нас всех словно ледяной водой окатило! Сказать по правде, мы немного струхнули — оказаться в гибельных местах без человека, чья удачливость стала присказкой ко всякому разговору о покорении Мексики, было жутко. Однако Кортес как обычно быстро встал в строй, правда, с той поры удача навсегда покинула его. Недостойным образом распрощался он с небесной покровительницей, которая столько лет не оставляла его своими милостями.
Диас припомнил, как спустя несколько лет после смерти Куаутемока Альварадо в разговоре один на один признался ему, что как-то в его руки попал этот самый Мехикальсинго, после крещения Кристобаль, который донес Кортесу о существовании заговора, который последний правитель ацтеков замыслил против испанской короны и капитан-генерала. Тот клялся и божился, что ничего подобного не говорил. Он утверждал, что будучи подосланным к Куаутемоку и подслушав его разговоры с правителем Тлакопана, так и доложил Кортесу — ничего, мол, предосудительного на замечено. Монах Хуан де Текто тоже напрочь отрицал возможность предательства — конечно, разговоры о трудностях похода, его бесцельности среди индейских вождей велись. Куаутемок даже обмолвился, что Малинцину стало изменять гениальное чутье на золото и славу, что, мол, птица-счастье отвернулась от него, иначе он бы не полез в этот ад. Однако посчитать подобные высказывания изменой можно только, если очень захотеть этого.
— Неужели Кортес так сильно жаждал гибели этого достойного человек, что решился на постыдный поступок? — спросил Берналь.
Альварадо только плечами пожал.
— Что-то они не поделили, Берналь, — заявил он и тут же насторожившись добавил. — Только ты об этом никому. Обратил внимание на добавления, которые его величество сделал в гербе Кортеса? Семь отрубленных голов индейских вождей. Одна из них — Куаутемока. Я этих краснокожих вон сколько погубил — и ничего, а ему будьте любезны! Так что смекай и держи язык за зубами.
Последняя фраза заставила Диаса отложить перо. Он задумался. Семь отрубленных голов в гербе — это не шутка. Что станется с его записками, если доблестная инквизиция доберется до последнего высказывания Куаутемока? Увидят ли они когда-нибудь свет? Тем более, что я их не слышал и передаю с чужих уст. Пусть кто-нибудь другой изложит последние слова молодого касика. Его же, Берналя, дело в точности передать отношение всех поголовно испанцев к казни последнего правителя Теночтитлана.
Хотел было прибавить, что воевал Куаутемок смело. Кортесу и всему войску очень повезло, что сразу после высадки на побережье Мехико они не столкнулись с этим пареньком. Нарвется Кесада на такого вождя и песенка Хосе будет спета. Такие, как он, писаря, грамотеи, начитавшиеся рыцарских романов, гибнут первыми. Черт с ним, неожиданно решил старик, отпишу-ка ему комменду. Не этим же, из инквизиции, оставлять!..
* * *
Дальше работа пошла веселее.
Через несколько дней наш дозор наткнулся на индейцев, которые утверждали, что поблизости есть белые люди. Кортес со всеми предосторожностями двинулся вперед и скоро мы наткнулись на солдат, которые входили в отряд некоего Хила Гонсалеса. На север для освоения новых земель его послал губернатор Золотой Кастилии. Здесь он и встретился с Лас Касасом, который к тому времени сумел убедить верных людей, что с безумством Олида пора кончать. Они застали предателя врасплох, нанесли ему более десятка ударов кинжалами и на следующий день после короткого суда, всего израненного, повесили.
То-то мы огорчились, когда узнали, что толку в нашей экспедиции никакого не было. В то же время в Новой Испании происходили страшные события. Диего Ордас, получив неверные известия о нашей экспедиции, сообщил в столицу, что Кортес и все его люди погибли в джунглях Гондураса. Местные чиновники тут же распродали все наше имущество. Тех же, кто пытался протестовать засадили в тюрьму. Некие Салазар и Харипос захватили власть и выслали главного королевского судью, от которого мы вскоре получили короткое известие: «В Мексике все срам и ужас. Все погибло. Пишу вам с Кубы, куда меня, королевского судью сослали насильно и незаконно».
Весть о распродаже нашего имущества грянула как гром с ясного неба. Кортес ходил мрачный, угрюмый. Мы требовали немедленно идти походом на Мехико и восстановить наши права и собственность. Капитан-генерал решил действовать хитрее, только ни к чему хорошему его уловки теперь не привели. Мятеж разрастался, скоро поднялись индейцы в провинциях и нам, когда мы вернулись в родные места, досталась страна, впавшая в неистовство. Вопреки всяким законам ею владели проходимцы и смутьяны. Один, присланный из Испании наместник, сменял другого, и наконец последний, Эстрада, предложил дону Эрнандо покинуть Мексику.
«Отлично, — согласился Кортес, — я подчиняюсь. Из страны, завоеванной мной и моими товарищами ценою несчетных трудов и ран, меня изгоняют люди, неспособные даже навести порядок. Хорошо, я отправлюсь в Испанию и сам изложу все королю — до последнего».
К сожалению, в Испании ему тоже не удалось прижиться. При дворе он повел себя дерзко и кабы не женитьба на племяннице герцога Бехара, он давно уже лишился бы милости императора. В конце концов так и произошло, ведь при толедском дворе трудно найти простака, подобного Мотекухсоме, которого можно объегорить с помощью красивых слов. Прежде всего он поссорился с королевой, которой преподнес в подарок несколько средних размеров изумрудов. Своей же невесте дон Эрнандо приготовил нечто удивительное тоже изумруды, числом четыре, взятые из сокровищницы правителей Теночтитлана. Камни чистоты и прозрачности необыкновенной, каждый величиной с детский кулачок. Кортесу намекнули, что королева, как первая дама при дворе, не прочь получить в дар именно эти четыре самоцвета, однако Кортес уперся. С той поры внимание императорской семьи к победителю Мексики стало куда более прохладным.
В 1530 году дон Эрнандо вновь добился назначения в Мексику, но уже только в качестве капитан-генерала. Наместничество, как он ни добивался, ему не доверили. Там ему тоже не повезло — каждое затеянное им предприятие заканчивалось крахом. Он порядком издержался и в 1540 году вернулся в Испанию, чтобы попросить у короля денежное вспомоществование, в чем ему было решительно отказано. В те же годы сорвалась женитьба его дочери с сыном маркиза д'Асторга. Отказ был сделан в несколько неучтивой манере, и Кортес, обидевшись, удалился в маленький городишко Кастильехо де ла Куста. Здесь и доживал последние годы…
Старик Берналь взял чистый, с неровными краями лист бумаги, переведя дух, принялся переписывать набело последнюю страницу. Не смог, рука дрогнула. Он глянул в окно. На Гватемалу легла густая тропическая ночь. Тучи заволокли небо, вдали в горах робко золотилась искорка костра. Вся остальная ширь была затянута плотным, весомым мраком. Старику стало зябко. Он с трудом поднялся, накинул на себя походный плащ, завернул полы на коленях, унял дрожь и вновь взял перо.
«Но что стало с теми, кто совершил эти великие деяния? От 550 человек, отправившихся с Кортесом из Сантяго-де-Куба ныне, в 1568 году в Новой Испании осталось не более ПЯТИ! Все остальные погибли: на полях сражений, на жертвенных камнях, на собственной постели от болезней. Где памятник их славы? Золотыми буквами должны быть вписаны их имена, ибо они приняли смерть за великое дело. Но нет! Мы пятеро согбенны годами, измучены ранами, хворями, и влачим остаток жизни в скромных, если не сказать, убогих обстоятельствах. Несметные богатства доставили мы Испании, но сами остались бедны. Нас не представляли королю, не украшали титулами, не отягощали замками и землями. Нас, настоящих конкистадоров, людей «первого призыва», просто забыли. Писатель Гомара много и красиво говорит о Кортесе. О нас же не упоминает.
Довольно!
В 119 битвах и сражениях я участвовал. Я участвовал в приобретении Новой Испании — в этом мои сила и слава!»
Он отложил перо, потом долго сидел не двигаясь, не шевелясь. Ему вдруг открылось, что теперь, когда он написал последнюю фразу, недолго ему осталось жить на белом свете. Годы, освоенные им в этом лучшем из миров, внезапно обрели смысл, наполнились дыханием, и все равно ощущалась некоторая недоговоренность, источником которой, он ясно чувствовал это, являлись эти записки — вернее, какая-то мелкая недосказанность, допущенная им. Он вздохнул, осенил себя знамением, прочитал «Отче наш» и вернулся к предыдущим страницам. Отыскал пробел в описании гондурасского похода и переписал лист ещё раз. Особенно сильно нажимал на перо, когда писал следующие, запомнившиеся на всю жизнь, строки:
«Я знал, что нельзя полагаться на твои лживые обещания, Малинцин. Знал и то, что ты давно задумал погубить меня, с тех пор, как я не пал от своей собственной руки, когда ты вступил в мой город Теночтитлан. Почему же ты убиваешь меня так бесчестно? Бог спросит с тебя за это!»
Это были последние слова Куаутемока, молодого человека — в момент казни ему было всего двадцать четыре года от роду — воина, тлакатекутли, защитника отчества.
Эпилог
В родном городе Кортеса Медельине, в Эстремадуре, возвышается памятник прославленному завоевателю, чье имя навсегда останется в памяти человечества. Не стоит судить о нем, исходя из веяний века — такие люди суть украшение нашего рода, теперь заглядывающегося на звезды. Их нельзя ни сдержать, ни направить. Буйная, стихийная, земная сила властно владеет их душами — они идут вперед не только по велению разума и сердца, но и по тому, что иначе жить не могут. Стоит времени объявить призыв и рано или поздно появляется человек, над головой которого незримо реет птица-удача. Какой смысл укорять его в том, что он сокрушает все на своем пути?
Он всю жизнь считал, что человек — есть мера всех вещей. Только перед смертью ему открылось, что эта истина относится к земным деяниям и не имеет отношения к таким спорным, невесомым понятиям как милосердие и справедливость. Он вызволил из рабства необходимости миллионы человеческих существ, но скольких погубил? Он, первым сокрушивший великую, затерявшуюся во времени империю, открыл путь безжалостным, не обладающим и каплей величия грабителям.
Долго небеса решали его посмертную судьбу. Непростую задачку задал дон Эрнандо незримому сонму древних ацтекских богов во главе с Тескатлипокой божеством «курящегося зеркала»; священному синоду девяти чинов ангельских, земле и воде, выси и глуби.
Маркиз дель Валле де Оахака, дон Эрнандо Кортес умер 2 декабря 1547 года и был захоронен в семейном склепе герцогов Медина Сидонья, в монастыре Сан Исидор в Севилье. В 1562 году его прах, согласно последней воле покойного, был перевезен в Мексику и предан земле в монастыре Святого Франсиска в Тескоко. Прошло более шестидесяти лет и вновь останки конкистадора оказались потревоженными — их перенесли в собор Святого Франсиска, расположенный в Мехико.
В 1794 его опять перезахоронили на территории столичного госпиталя Иисуса Назаретянина. Здесь было устроено великолепное надгробие и знаменитый скульптор Тольса создал его бронзовый бюст. В 1823 году сразу после мексиканской революции и освобождения от испанского владычества, группа молодых патриотов решает разрушить склеп завоевателя Мексики, а прах его развеять по ветру. В последний момент гроб с кучкой полу истлевших костей удается спасти. По слухам его тайно отправляют в Италию, на остров Сицилию, где находились владения одного из потомков Кортеса герцога Монтелеоне.
Трудно отделаться от ощущения, что четыре века понадобилось небесным инстанциям, чтобы суд над доном Эрнандо наконец подошел к финалу. Рассуждать об его исходе не дано никому из смертных, но изучая эти факты, невольно приходишь к выводу, что земля Мексики в конце концов приняла в свое лоно прах великого завоевателя. В 1946 году его останки были обнаружены в одной из церквушек госпиталя — там он и нашел он вечный покой.
Иное дело посмертная судьба Куаутемока, память о котором колонизаторы хотели стереть из памяти народа.
Сразу после страшной смерти тридцать ацтекских воинов обложив тело вождя «душистыми листьями», запеленали его в материю и доставили в Ичкатеопан, родной город последнего правителя Теночтитлана. Труп, согласно обычаю, сожгли, а останки захоронили в родовой усыпальнице правителей города.
Через четыре года в Ичкатеопан прибыл известный нам Мотолиниа, монах-францисканец по имени Торибио де Бенавенте. Случайно узнав о месте погребения Куаутемока, он убедил жителей города перенести урну в другое место, иначе её не скрыть от внимания королевских властей. Во дворе своего бывшего храма индейцы выкопали новую гробницу и ради сокрытия тайны захоронения построили над ней христианскую часовню. Позднее, по совету того же Мотолиниа, на этом месте был возведен собор, причем ацтекские мастера таким образом спроектировали алтарь, что он оказался точно над самой усыпальницей последнего правителя.
Уходя из города де Бенавенте просил местных жителей сохранить все в глубокой тайне. От отца к сыну, от поколения к поколению передавалась тайна могилы императора. Только в 1949 году её последний хранитель поведал о ней на исповеди местному священнику. Тот сообщил властям…
Из столицы Мексики тотчас прибыла специальная комиссия. 26 сентября 1949 года начались раскопки под алтарем собора Ичкатеопана. На глубине двух метров исследователи наткнулись на узкую щель, оказавшуюся входом в крохотную гробницу. Она была высечена прямо в скалистом грунте. Внутри находились человеческие кости, пепел, медные бусы, кольца, подвески, два украшения из голубого нефрита и медный наконечник копья. Немного поодаль лежала сильно окислившаяся медная пластинка, на лицевой поверхности был выбит крест и короткая надпись старинной испанской вязью. Надпись гласила:
1501–1525
Государь и повелитель Куаутемок
После долгих проверок комиссия пришла к выводу, что обнаруженные останки действительно принадлежат последнему правителю Теночтитлана.
Памятник ему воздвигли на центральной площади Мехико. По морям ныне ходит парусник «Куаутемок», на котором проходят обучения будущие моряки мексиканского флота. Родина не побоялась доверить этому имени воспитание своего подрастающего поколения.
Примечания
1
Девятью героями древности или девятью мужами Славы в средневековье называли трех легендарных героев еврейской истории: Иисус Навин, царь Давид, Иуда Маккавей; трех легендарных героев-язычников: Александра Македонского, Гектора Троянского, Юлия Цезаря; трех христианских героев: Артура Английского, Карла Великого и Готфрида Бульонского.
(обратно)2
Имеется в виду остров Гаити, который в ту пору назывался Эспаньола.
(обратно)3
Кто не через дверь входит, тот грабитель и разбойник (лат.).
(обратно)4
Так проходит мирская слава.
(обратно)5
Человек, имеющий ученую степень, дающую право преподавать в университете.
(обратно)6
Мексики.
(обратно)7
Горизонтальный или наклонный брус на носу парусного судна, на котором крепятся паруса.
(обратно)8
Куба.
(обратно)9
Золотая монета, чеканка которой прекратилась в 1497 году. Долго сохранялась как единица измерения золотых слитков и песка. Равнялась золотому песо. Реал — 1/10 кастельяно. 1 песо равнялось 700 мараведи или 2 дукатам.
(обратно)10
Чиновник, исполнявший полицейские обязанности.
(обратно)11
Кабальеро представитель среднего дворянства; идальго — мелкопоместного: эскудеро самый низший класс этого сословия, так обычно называли пажей знатных вельмож.
(обратно)12
Особого рода поместья, которые получали испанские колонисты на вновь открываемых землях.
(обратно)13
Примерно 5,5 км.
(обратно)14
Так испанцы называли индеек.
(обратно)15
Городской голова.
(обратно)16
Теперь эта река называется Грихальва.
(обратно)17
Прекрасна, как богиня!
(обратно)18
В то время в Испании существовало четыре военно-религиозных ордена: Калатравы, Святого Иакова (Сантяго), Алькантары и Монтеса.
(обратно)19
«Железный камень», сернистый колчедан.
(обратно)20
Искусственные острова, на которых разводили сельскохозяйственные культуры и устраивали сады.
(обратно)21
Местный языческий храм.
(обратно)22
Высушенные на солнце кирпичи из глины.
(обратно)23
Младшего.
(обратно)24
Крепкий напиток из сока агавы. Степень опьянения, по верованиям ацтеков определялась количеством кроликов. 400 — крайняя степень, 10–20 — веселое настроение.
(обратно)25
Название ацтеков. По их верованиям они пришли из легендарной страны Астека и, поселившись на плато, возле озера Тескоко, в кругу родственных племен, говоривших на языке науатль, где стали именовать себя ацтеками.
(обратно)26
В переводе это имя означает «Голодный койот».
(обратно)27
Горная область к востоку от долины Анауака, так никогда и не покоренная ацтеками.
(обратно)28
20 человек.
(обратно)29
Варвары.
(обратно)30
«Богатый город истинного креста» или Веракрус.
(обратно)31
Эра составляла 52 года.
(обратно)32
Индейский меч. Представлял из себя деревянную дубину, древко которой было усажено лезвиями из обсидиана.
(обратно)33
Колоссальный флюгер в виде статуи Победы на главной башне Севильского собора.
(обратно)34
5 огромных мегалитических изваяний, расположенных в деревне Гисандо близ Мадрида.
(обратно)35
Или «Та, которую рисуют с колокольчиками». - прим. ав.
(обратно)36
Венера.
(обратно)37
У тольтеков.
(обратно)38
Из книги «Мифологии древнего мира. Пер. с английского. М., «Наука», 1977. С.442.
(обратно)39
Там же, С.444.
(обратно)40
«Благодарение господу», приветствие.
(обратно)41
В греческой мифологии бог северного ветра.
(обратно)42
31. VIII-19.IX.
(обратно)43
Бог-владыка бытия.
(обратно)44
Венеры.
(обратно)45
Нефрит.
(обратно)46
В пересчете на нынешние цены, очень приблизительно, сумма составляет около ста миллионов долларов.
(обратно)47
Дух святой!
(обратно)48
Невысокая каменная ограда, украшенная барельефами, изображавшими змей.
(обратно)49
«Ночь печали».
(обратно)50
Верховный вождь или, согласно утверждению М. Леона-Портильи, известного знатока мифологии и философии науа, — король.
(обратно)51
Грипп, который в средневековье косил людей не менее жестоко, чем чума или холера.
(обратно)52
Герой рыцарского романа.
(обратно)53
Герой ходкого, но обремененного самыми невероятными выдумками, одноименного рыцарского романа, которым зачитывался небезызвестный Дон Киот.
(обратно)54
Так переводится имя Куаутемок.
(обратно)55
Подобная версия записана в воспоминаниях Берналя Диаса.
(обратно)56
Энкомьенду, то есть, имение, владельцу которого вменено в обязанность воспитывать в религиозном духе приписанных к земле индейцев.
(обратно)57
Ныне река Грихальва.
(обратно)58
Из Атлантического океана в Тихий.
(обратно)
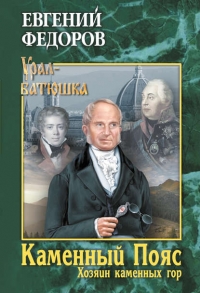
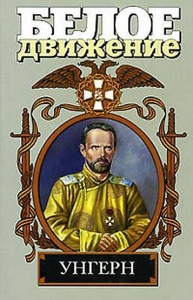





Комментарии к книге «Кортес», Михаил Никитич Ишков
Всего 0 комментариев