С.Сибагин Прапорщик Щеголев
Пусть сыплют ядра надо мной,
Пускай мы ранами покрыты,
Но этот пост сторожевой
Мы не оставим без защиты.
(Из «Песни о Щеголеве»)Глава первая
Поздним утром яркого, почти по-летнему сверкающего дня, в конце октября 1853 года, по дороге из Николаева в Одессу ехала парная бричка.
По сытым, бойко бежавшим лошадям, по хорошей коляске на железном ходу, с рессорами и кожаным верхом, по кучеру в нарядном армяке и шапке с петушиным пером,— бородища во всю грудь, в ручищах ременные вожжи,— было видно, что этот экипаж собственный, а не наемный.
Густая пыль покрывала бричку и серыми клубами тянулась позади. На небе ни облачка... Тишина прерывалась только топотом копыт и звоном бубенчиков.
В бричке ехали двое: маленький полный человек лет под пятьдесят, с красным толстым носом и лысиной, окаймленной тонким венчиком полуседых волос, и молоденький безусый офицер лет двадцати, круглолицый, с чуть вздернутым носом.
Укрываясь в глубине брички от пыли и солнца, пассажиры тихо беседовали.
— Когда я получил назначение в Одессу,— говорил офицер,— я прежде всего бросился искать книги с описанием этого города.
— А пушкинское описание Одессы вы знаете? — спросил толстяк.
— О, конечно,— воскликнул офицер,— я еще раз прочел «Онегина» и биографию Пушкина. Оказывается, это в Одессе он написал не то две, не то три главы «Онегина», «Цыганы» и что-то еще.
— «Бахчисарайский фонтан».
— Да. Пребывание в Одессе было весьма благотворным для великого поэта... Скажите, а не приходилось ли вам встречаться с Пушкиным? Ведь вы говорили, что являетесь коренным одесситом?
— К сожалению, не пришлось. Я в то время служил по другому ведомству. Тридцать лет прошло, а как будто вчера это было... Какие разговоры ходили среди нас о Пушкине, как мы все переживали его неприятности. Тридцать лет... тридцать лет... — вздохнул толстяк.
Бричку сильно качнуло, офицер выглянул наружу, ахнул и выскочил на дорогу.
— Стой! — закричал он. — Море! — И, спохватившись, обернулся к толстяку, удивленно смотревшему на него. — Извините великодушно, что задержал вас... Поймите мое чувство, ведь я впервые вижу море. Какая красота, простор какой!
Он восторгался, дыша полной грудью и оглядывая голубую, сверкающую мириадами искр водную гладь. Затем подбежал к морю, бросил на песок каску, набрал полные пригоршни воды и стал умываться. При этом юноша так радовался, что даже степенный кучер улыбнулся в дремучую бороду. Засмеялся и толстяк.
— Я радуюсь не только красоте моря, — смутился офицер, — но и тому, что близится к концу мое путешествие.
— Да, вон он, конец-то.
Толстяк указал вдаль, где, подернутый легкой дымкой, виднелся город. Офицер долго смотрел вперед. Видно было, что он взволнован. Потом молодой человек еще раз обмыл лицо, вытер носовым платком — теперь стало заметно, что он немного рыжеват и веснущат, — вздохнув, надел каску и полез в бричку.
— Что-то меня там ожидает?.. — тихо проговорил он.
— Только одно хорошее, — весело сказал толстяк. — Остановитесь вы у меня — этот вопрос уже решен, — в номера кормить клопов я вас не пущу. Супруга моя из купеческой семьи, хлебосолка истинно русская, гостям всегда рада. Дети познакомят вас с молодежью, станете вы жить-поживать, горя не зная.
— Вашими устами да мед пить... Совестно мне утруждать вас. И так я вам обязан тем, что подъезжаю к Одессе. Если бы не ваша любезность, сидел бы я еще в Николаеве, дожидался лошадей неизвестно сколько.
— Ну, пустяки какие...
Город заметно приближался. Вскоре уже можно было, различить отдельные дома, крошечные черточки церквей и пожарных каланчей.
— Сколько нам еще ехать?
— Да верстов пятнадцать только и осталось, — ответил кучер. — Аккурат к обеду поспеем.
Дальше ехали молча. Через некоторое время остановились у полосатого шлагбаума на окраине города. К коляске подошли чиновник и солдат. Толстяк протянул им две подорожные — свою и спутника. В одной: из них значилось: «Чиновник канцелярии градоначальника Бодаревский Корнила Иванович следует по казенной надобности в город Николаев и обратно». А в другой было написано, что «Прапорщик артиллерии Щеголев Александр Петрович переводится из 2-й артиллерийской бригады Московского гарнизона в 14-ю артиллерийскую бригаду, имеющую пребывание в городе Одессе».
Пока чиновник отмечал подорожные, солдат с кучером сняли сундуки пассажиров и раскрыли их. Чиновник наклонился над ними, перевернул кое-что и разрешил закрывать. Щеголев заметил, что Бодаревский сунул в руку чиновнику ассигнацию.
— А разве вы везете с собой что-нибудь беспошлинное? — спросил он, когда они тронулись дальше.
— Нет. Я дал ему просто, чтобы не задерживал. Хоть я и сам чиновник, а вы офицер, но и к нам можно придраться. Просто заставит стоять тут до вечера, и никому не пожалуешься. Легче и проще так вот. Трешница — деньги небольшие, а от неприятности избавить могут. Мне ведь прогонные полагаются, а я на своих лошадях еду. И овес по дешевке в Николаеве купил. Экономия будет.
Вдоль дороги все чаще попадались домишки, кабаки, лавки.
Вдруг кучер сердито задергал вожжи и выругался.
— Чего ты? — спросил его хозяин.
— Да вот, чумацкие валки сцепились. Теперь до вечера не расцепятся, мимо не проехать, а в объезд далеко. Вот не повезло как...
Пассажиры выглянули. Впереди стояли неподвижно две длинные линии возов, запряженных волами, толпа людей, доносились шум и крики.
— Валка — это что такое? — спросил прапорщик.
— Чумацкий обоз возов с полсотни, а то и больше. Чумаки связывают их в одну длиннейшую цепь, чтобы править было легче. Вот два таких обоза и смешались. Теперь не пробьешься...
— Надо помочь им,— сказал Щеголев.
— Совершенно бесполезно-с. Мужики они непонятливые, зря только горло рвать с ними...
— Как это зря,— горячо возразил прапорщик. — Вот сейчас посмотрим.
Не успел Бодаревский сказать ему слово, как Щеголев выпрыгнул из брички, нырнул в толпу чумаков. Шум там сразу прекратился.
Громко говорил что-то, размахивая руками, только сам прапорщик. Чумаки быстро развязали валку, оттащили сцепившиеся телеги. Пяти минут не прошло, как дорога оказалась свободной.
— Ну вот,— сказал прапорщик, влезая в бричку и вытирая вспотевшее лицо. — Да эти чумаки вовсе и не непонятливые.
— М-да, — удивленно заметил Бодаревский, — видать, что командовать вы умеете...
Бричка медленно поехала по улице, круто поднимавшейся вгору. С одной стороны здесь стояли дома, а с другой был обрыв, за которым расстилалось море. Щеголев с интересом рассматривал все: улицу, дома, море.
Проехав мост, под которым шла пыльная дорога, пересекли небольшую площадь и свернули на Екатерининскую улицу. У дома за углом остановились.
— Ну вот и приехали,— сказал Бодаревский.
Пока выбежавшие дворовые открывали ворота, прапорщик успел прочесть на табличке: «Дом сей принадлежит надворной советнице Марии Антоновне Бодаревской». Когда въехали во двор, Щеголев увидел с одной стороны приземистый амбар, с другой — службы, а в глубине, окруженный садом, господский дом с колоннами и высоким крыльцом. Спрыгнув с крыльца, к бричке примчался мальчик лет пятнадцати, в гимназической форме. Он бросился на шею толстяка.
— Папочка приехал, папочка!
Вслед за тем на крыльцо выскочила девушка, по виду на год-два старше мальчика. Она тоже хотела броситься на шею к отцу, но, увидев молодого незнакомого офицера, остановилась.
— А вот и девочка,— сказал Бодаревский, осторожно освобождаясь из объятий сына и целуя дочь. — Познакомьтесь, пожалуйста,— моя дочь Пашенька, а это сынок Ваня.
Щеголев торопливо, но как-то неуклюже вылез из брички, смущенно шаркнул ногой и поклонился.
Девушка, придерживая кончиками пальцев платье, низко присела в реверансе, опустив глаза в землю.
В глубине коридора послышались грузные шаги.
— Маменька идут! — воскликнула девушка, еще раз присела и юркнула в дом.
Распахнулась вторая половина двери, и на крыльце появилась грузная женщина. Это и была надворная советница Марья Антоновна Бодаревская. На ней был огромный чепец с множеством лент, на шее висела лорнетка на длинной шелковой ленте. Платье с оборками делало ее еще полнее.
По тому, как бросился к ней муж, как низко склонился кучер, Щеголев понял, что настоящей хозяйкой в доме была именно Марья Антоновна.
Корнила Иванович отрекомендовал прапорщика супруге. Она, вскинув лорнет, долго рассматривала гостя, потом сказала:
— Здравствуй, батюшка, как там тебя звать, еще не упомнила, входи в дом-то. Гостем будешь. Родители твои живы?
— Так точно-с. Маменька живы, в Москве проживают.
— Ишь ты,— в Москве. Да как же она отпустила тебя в такую дальнюю дорогу?
— А почему же? Ведь я человек военный, должен сам пробивать себе путь...
— Хоть ты и военный,— с нескрываемым недоверием сказала Марья Антоновна,— а я бы тебя без дядьки и в Николаев не пустила, не то что из Москвы в Одессу.
Видно было, что Щеголев произвел на хозяйку хорошее впечатление.
Комната, в которой поместили прапорщика, была светлой и просторной. На душе у него стало легче: все-таки не какие-то номера. А дальше будет видно.
Спустя час Щеголева пригласили в столовую. За обедом с легким и приятным бессарабским вином прапорщик, преодолевая смущенье, несколько раз краем глаза взглянул на барышню. Паша, или, как ее называл брат, Полина, ему понравилась. Она то и дело сверкала глазками на прапорщика и, видя, что тот смущается, тихонько фыркала в тарелку. Бодаревский рассказал, как в Николаеве перед самым выездом в Одессу у него расковалась лошадь, и он, пока подковывали лошадь, зашел в трактир. Там случайно разговорился с молодым офицером, который, узнав, что Бодаревский имеет собственных лошадей и едет в Одессу, учтиво попросил взять и его с собой, предлагая заплатить, сколько владелец лошадей спросит. Приятно удивленный вежливостью и скромностью офицера, что не так уж часто встречается среди военных, Корнила Иванович пригласил его с собой, отказавшись от платы. По дороге, убедившись, что спутник весьма скромный и хорошо воспитанный молодой человек, уговорил прапорщика остановиться у него.
Хозяйка отнеслась к приглашению благосклонно.
— Ну и хорошо. Пусть живет у нас, чего там. Чай места хватит — и так полдома пустует. Куда его со двора пускать! Еще потом перед матерью его отвечать придется.
Щеголева тронуло упоминание о матери. По правде сказать, он и сам чувствовал себя в дороге весьма неуверенно и очень был рад попасть в такую семью. Но как же быть с платой? Как сказать об этом? Жить бесплатно прапорщик никогда бы не согласился — он ведь не нищий приживал какой-нибудь, а все-таки дворянин, хоть и мелкий.
Бодаревская будто прочла его мысли.
— Насчет платы с тобой будет поступлено так: как получишь жалованье, так сразу четверть и сюда... Только подавай мне в собственные руки! — строго посмотрела она на Щеголева.
Бодаревский хмыкнул и отвел глаза в сторону. У прапорщика отлегло от сердца.
— Да, любезнейшая Марья Антоновна! — заговорил он. — Право не знаю, как и благодарить вас...
— Ну ладно, ладно! — прервала его хозяйка. — Ишь всполошился как.
Дети фыркнули, Щеголев смутился.
— Сегодня же отпишу маменьке в Москву, успокою ее.
— Ты только денщика не вздумай брать, чай он тебе по чину полагается,— продолжала наставления Марья Антоновна. — Не нужен он тебе вовсе — своей дворни девать некуда. Деньги на его содержание ты бери, не стесняйся. Не их дело, кто за тобой смотрит. Деньги тебе не помешают, все будет лишняя копейка на мороженое. Только вина там али табаку потреблять не вздумай, того не люблю у себя в доме.
— Не курю, не нюхаю и не пью! — поспешил уверить ее прапорщик.
В конце обеда вошел казачок и доложил:
— Господа студенты Деминитру и Скоробогатый!
Вошли два молодых человека возраста Щеголева, в мундирах с гладкими блестящими пуговицами и высокими воротниками.
Приложившись к ручке Марьи Антоновны и бойко шаркнув ножкой перед Корнилой Ивановичем и барышней, студенты колючими глазами уставились на представленного им Щеголева. Поклонились весьма холодно.
— А у нас, дражайшая Марья Антоновна,— начал чернявый Деминитру,— изрядные новости: войны не миновать.
— Да ну тебя! — замахала на него руками Бодаревская, — что ты, батюшка, этакие-то страсти говоришь! Война, чай, не шутка. Нечего поминать о ней, а то вправду накличешь.
— Правду говорим,— поддержал товарища белобрысый Скоробогатый. — Ведь в Молдавии и на Кавказе давно уже воюют по-настоящему.
— Что же случилось? — встревожился хозяин.
Щеголев за время длительной дороги не имел возможности следить за событиями, вот уже сколько времени волновавшими всю Европу, и теперь слушал с большим вниманием.
Студенты наперебой рассказывали:
— Как вы знаете, еще в начале октября турки обстреляли у берегов Кавказа наш военный пароход «Колхида»; теперь же они открыли военные действия и на Дунае. Сегодня пришел из Константинополя английский корабль и привез все эти сведения. Все иностранные газеты утверждают, что война турок с нами — дело решенное.
— А может, все-таки обойдется? — с надеждой посмотрела на собравшихся Бодаревская.
— Нет, любезнейшая Марья Антоновна,— отвечал Деминитру. — После того как князь Меншиков побывал в Константинополе и поговорил там круто — войны не миновать.
— И чего мы с ними не поделили, понять не могу, — качала чепцом хозяйка.
— Дело в том, любезнейшая Марья Антоновна, что мы, русские, торговать свободно не можем, вот что, — объясняли студенты. — Нет выхода из Черного моря нашим кораблям, закрыты проливы, сидят там турки вот уже четыреста лет.
— А по суше нельзя ли?
— И по суше можно, да только очень дорого самим будет перевозить хлеб. На кораблях не в пример дешевле.
— Не пойму, при чем тут турки, чай и они наш хлеб покупают?
— Покупают, да вот англичане хотят всю турецкую торговлю к своим рукам прибрать и наш же хлеб туркам перепродавать.
— Ишь какие! Этого допустить нельзя. Торговля дело великое, от нее благоденствие народу получается. Англичанам этим следует указать их место.
— Истинные ваши слова. Конечно же, мы должны торговать с Турцией сами.
— Как раз нам это и дадут! — сквозь зубы процедил Бодаревский. — У нас в присутствии говорят, что англичане нас нарочно в войну с Турцией втравливают. А как только начнется война — нам сразу же в спину ударят. Турки на их помощь надеются и, глядите, как дерзко ведут себя!
— Придется проучить их! — вставил Ваня.
— Проучим, дай срок,— согласился отец. — Только и русской кровушки прольется — море! Ежели все то правда, что Франция и Англия туркам помогать будут, то нам придется туговато. Но турки во всяком случае хороший урок получат. Это ты, сынок, правильно сказал.
Прапорщик слушал очень внимательно. О войне говорили и в Москве, но такое решительное утверждение о ее неизбежности Щеголев слышал впервые. Он заторопился идти в штаб, чтобы представиться начальству, но хозяин остановил его:
— Нынче суббота, в присутствии давно уж никого нет. Успеете представиться и в понедельник. Считайте, что вас в Одессе нет, — ведь вы и в самом деле могли бы сидеть еще в Николаеве. Лучше пойдите, посмотрите город.
— С превеликим удовольствием, но не сейчас, — возразил прапорщик. — Сейчас не могу никак.
— Но почему? — пристал к нему Ваня. — Папа же говорит, что вы могли еще не приехать.
— Но я все-таки приехал, — улыбнулся офицер.
— Но ведь этого же никто из начальства не знает! — не унимался мальчик.
— Начальство не знает, зато я знаю. Покажи-ка мне лучше, как пройти к штабу.
— Я провожу вас. Это тут за углом, почти рядом, прямо на бульваре. Извинившись перед хозяевами. Щеголев поднялся.
— Иди уж,— махнула рукой Марья Антоновна. — Экий ты торопыга. Возвращайся поскорее, расскажешь, как там тебя приняли... Да вот еще что. Ты скажи там в штабе, если к слову придется, что остановился у Бодаревской. Они меня знают.
— А не все ли им равно, где я остановился? — удивился прапорщик.
— Не все равно,— строго сказала хозяйка. — Глядеть на тебя иначе будут. Поймут, что ты не прощалыга какой. А то им недолго тебя в дыру какую загнать. Ты-то ведь бессловесный, протекции у тебя нету...
— Что вы, любезнейшая Марья Антоновна,— покраснел Щеголев,— зачем мне протекция...
— Говори!.. Будешь служить, узнаешь, каково без протекции...
Минуту спустя Щеголев и Ваня были уже на улице. Прапорщик сразу же засыпал мальчика вопросами. Его интересовало все: памятник Ришелье, красивая колоннада Хлебной Биржи.
— Вот это Карантинная гавань, — объяснял Ваня. — Здесь стоят суда, прибывшие из-за границы. А вон та другая называется Практической — там выгружаются и нагружаются корабли. Это вот — Военный мол...
Для молодого прапорщика, впервые попавшего в большой южный город, все здесь было ново. На улице под большими зонтами сидели менялы с ящиками, в которых были деньги различных стран мира. Иногда то к одному, то к другому из них подходил моряк, бросал на столик монету; меняла брал ее, внимательно рассматривал, пробовал даже зубами. Потом прятал монету в ящик, а моряку давал другую. Так происходил обмен российских денег на иностранные и иностранных на российские.
Навстречу прогромыхала телега с бочкой, и Щеголев с удивлением узнал, что воду для питья здесь привозят из-за города, потому что в колодцах вода соленоватая.
Он с интересом расспрашивал о пушкинских местах, о театре. К удивлению Вани, с живым сочувствием смотрел на жалкие, грязные лачуги, где жили ремесленники...
...Подошли к роскошному подъезду штаба. У двери стоял швейцар в шинели, расшитой бесчисленными золотыми галунами. С замиранием сердца прапорщик взялся за ручку, но швейцар поспешил распахнуть дверь.
— Поздновато изволили пожаловать, ваше благородие,— сказал он, принимая саблю. — Никого почти что и нет. Хотя, может быть, вы по вызову его высокопревосходительства,— тогда пожалуйте наверх. — При этом швейцар, как показалось Щеголеву, лукаво усмехнулся.
Прапорщик прошел по широкой мраморной лестнице на второй этаж. В обширной комнате, где обычно ждали посетители, никого не было, но в следующую комнату дверь была открыта, и оттуда доносились глухие удары, будто выбивали ковры. Щеголев заглянул туда и обмер: старенький генерал бил палкой здоровенного полицейского пристава. Тот стоял навытяжку, не шевелясь и только приговаривал:
— Не виноват-с! Истинный бог, не виноват-с! Как перед отцом своим, ваше высокопревосходительство, сказываю: не виноват-с. То поклеп.
Но генерал не обращал внимания на слова пристава и продолжал экзекуцию.
— Нет, виноват, нет, виноват,— приговаривал он. — Истинный бог, виноват. Я до тебя, р-р-ракалия, давно добирался!
Наконец генерал бросил палку и упал в кресло, вытирая обильный пот.
— Фу! Умаялся я с тобой... Пошел вон! — вдруг закричал он. — И если еще раз узнаю о тебе, я тебя, мерзавец!..
— Да я... — прерывающимся голосом начал пристав. — Да чтоб я...Да ни в жисть. Истинный бог, ваше высокопревосходительство... Никогда ничего плохого обо мне не услышите, я их...
Пристав осекся, испуганно выкатив глаза на генерала.
— Пш-ш-ел, говорю! — генерал ткнул концом палки пристава в живот.
Пристав вытянулся, щелкнул каблуками и, повернувшись, загромыхал огромными сапожищами по лестнице.
Щеголеву вспомнились рассказы об одесском градоначальнике, которые он слышал еще в пути от ветреных офицеров. Генерал Федоров выслужился из простых солдат. Теперь уже глубокий старик, человек кристальной чистоты и честности — он слыл грозой взяточников и лиходеев, которых в городе было немало.
Генерал заметил прапорщика, испуганно выглядывавшего из-за двери.
— Кто таков? — спросил он строго.
Прапорщик вошел в комнату и вытянулся.
— Ваше высокопревосходительство...
— Кто таков? — стукнул генерал палкой об пол.
Щеголев отрапортовал, кто он, откуда и зачем. Федоров смягчился.
— Прапорщик артиллерии? Это хорошо... Это очень хорошо. Артиллеристов у нас беда, как мало. Ни одного штаб-офицера... Ну, да и за прапорщика спасибо... А где же мой щелкопер?
Щеголев посмотрел вопросительно.
— Да адъютант мой,— объяснил генерал. — Он в передней сидеть должен.
В этот момент вбежал высокий, стройный, щеголеватый офицер — адъютант генерала.
— Вот, милостивый государь! — обратился к нему Федоров. — Вот к нам пополнение прибыло, а вы отсутствуете неизвестно где... Глядите у меня! — потряс он палкой. Адъютант стоял навытяжку. Генерал снова обратился к прапорщику:
— Где стоите, не терпите ли в чем нужды? Не стесняйтесь — молодому да в чужом городе может быть трудно.
Но узнав, где остановился прапорщик, Федоров довольно закивал головой:
— Марью Антоновну знаю. Как же, как же. Препочтеннейшая особа. Знаю, знаю... Для вас это лучшая рекомендация.
— Что вы, ваше высокопревосходительство! — вспыхнул Щеголев. — Разве я просил рекомендации? Я ведь мадам Бодаревскую знаю всего два часа.
— Это ничего. Марья Антоновна сразу человека видит насквозь. Если она вас пустила, значит, знала, что делала... Ишь, скромник какой! — пошутил генерал. — Ну, ничего, ничего. Ступай-ка к Рафтопуло, он еще не ушел.
Выйдя от генерала, адъютант представился:
— Граф Свидерский — будем знакомы. Милости просим, если у вас какая нужда случится, запросто, не стесняясь.
Прапорщик поблагодарил. Адъютант отвел его к исполнявшему обязанности коменданта города полковнику Рафтопуло.
Тот также принял Щеголева приветливо, — расспрашивал о нуждах, приглашал заходить. На прощанье прибавил:
— Вам надлежит обратиться за назначением к полковнику Гангардту. Он завтра приедет. А пока гуляйте, отдыхайте, пока есть время. Это в первый раз я вижу, когда офицер является к нам тотчас по приезде. Дайте-ка я подпишу вам бумагу на получение жалованья за время пути...
Выйдя на улицу, Щеголев почувствовал, что голова у него словно кружится.
Как замечательно все получилось! С ним приветливо обошлось начальство, он получил деньги, значит можно и погулять, осмотреть город. Но первым делом надо было отдохнуть. И уже знакомой улицей прапорщик направился к дому Бодаревских.
* * *
В понедельник к началу присутственного дня Щеголев снова был в штабе.
Полковник Гангардт выслушал его, задал несколько вопросов. Видимо, остался доволен.
— Я очень рад, что к нам прибыл артиллерийский офицер. Время, сами знаете, тревожное — на Бессарабию движутся войска. А у нас... — Полковник прервал себя. — Что теперь делать с вами?.. Четырнадцатая артиллерийская бригада существует, собственно говоря, больше на бумаге... Но в ближайшее время она будет укомплектована. — Полковник бодро взглянул на вытянувшееся лицо прапорщика. — Вот тогда и вам будет место. А пока отдыхайте, но из города не отлучайтесь. Жалованье вам идет — значит, все в порядке.
У прапорщика уже не было прежней радости. Бродя по улицам, он с грустью думал, что до сих пор не видел никаких оборонительных сооружений. Правда, там, в конце Карантинного мола, что-то виднелось, похожее на батарею, да еще на Военном молу, возле Практической гавани. Но эти оборонительные сооружения были слишком ничтожны, чтобы защитить такой большой город.
«Как же мы все-таки воевать собираемся с Турцией? Да и только ли с Турцией? А если на ее стороне выступят Англия и Франция? Тогда что?» Прапорщик решительно отгонял мрачные мысли. «Бог милостив! — вспомнил он слова Марии Антоновны. — Авось и не будет войны».
Глава вторая
Рано утром 1 ноября, когда прапорщик еще нежился в постели, к нему осторожно постучали. Дверь приоткрылась, и появилась голова Вани.
— Просыпайтесь, Александр Петрович, — торопливо заговорил он, — к вам казак пришел.
— Зови его сюда!
В дверь протиснулся рослый казак.
— Здравствуй, голубчик, — ответил на приветствие прапорщик. — Что там у тебя ко мне?
Посыльный подал запечатанный конверт.
Дав казаку пятак, прапорщик с волнением вскрыл пакет.
В нем оказалась короткая записка:
«Прапорщику Щеголеву А.П.
Настоящим Вы извещаетесь, что сегодня, к 10 часам утра, согласно приказа и.о. Командующего Одесским Военным Округом генерал-от-инфантерии Федорова, Вам надлежит явиться лично к нему.
Адъютант штабс-капитан граф Свидерский 1 ноября 1853 года».Щеголев был поражен. Его вызывает лично генерал! Зачем? Да еще так спешно. Приказ написан только сегодня, полчаса назад. Что же случилось?
И он стал торопливо одеваться.
Когда прапорщик вошел в столовую, там уже сидели Марья Антоновна и Корнила Иванович.
— Что это к тебе ни свет ни заря солдаты являются? — спросила Марья Антоновна.
— Вызывают к генералу, а зачем — не знаю.
— Вот как, скажи на милость! К самому генералу? Зачем это ты им понадобился?.. Неужто без тебя обойтись не могут?
— А я очень рад. И так столько времени без дела сижу. Надо же, наконец, начинать службу.
Он еще торопливо пил чай, когда в коридоре послышался вдруг топот ног и, распахнув дверь, в столовую вбежала взволнованная, раскрасневшаяся Агафья.
— Ой мои родные!.. Ой матушка ты наша!.. — едва переводя дыхание, закричала она. — Чего делается-то!..
— Да что такое? — всполошилась Марья Антоновна. — Пожар где?!
— Война! Турок войной на нас идет!..
Марья Антоновна затрясла чепцом:
— Свят, свят! С нами крестная сила! Чего мелешь-то?
— Святой крест, родные! — широко перекрестилась Агафья. — Сегодня в соборе фест читать будут.
— Какой там фест! — строго сказала хозяйка. — Акафист, должно быть. Вечно ты, мать моя, перепутаешь.
— Нет, матушка барыня, не акафист, а фест царский читать будут.
— Может, манифест? — догадался Щеголев.
— Вот-вот! — закивала головой Агафья. — Я же и говорю...
Но прапорщик уже не слушал.
Царский манифест!.. Так вот почему его так срочно вызывают в штаб.
— Вот я все в штабе узнаю, — сказал он, поднимаясь из-за стола, — тотчас вам расскажу.
— Узнай, батюшка, узнай, — говорила Марья Антоновна. — Успокой нас. Может, дай бог, и врет Агафья...
Несмотря на относительно ранний час, в штабе было много офицеров. Все уже знали новость и шумно обсуждали ее, высказывая всевозможные предположения.
Увидев адъютанта, Щеголев узнал, что генерал приказал вызвать его для участия в военном совете.
— Да может ли прапорщик участвовать в военном совете? — удивился молодой офицер. — Здесь, видимо, какая-то ошибка.
— Нет, это не ошибка, — уверял адъютант. — У нас ведь мало артиллерийских офицеров. Посмотрите, вы здесь не один в таком чине.
Спустя несколько минут, всех пригласили в кабинет. Среди военных было несколько важных гражданских чиновников из градоначальства. Вошел генерал Федоров.
— Господа! Сегодня ночью прибыл фельдъегерь от государя императора. Его величество прислал нам свой манифест. С сего дня Россия вступает в войну с Турцией. Призываю вас, господа офицеры, с честью исполнить свой долг перед отечеством, если понадобится — не щадя жизни.
Окинув взглядом собравшихся, он откашлялся:
— Не следует забывать, что турки не одни. Не заручись помощью Англии и Франции, они никогда не посмели бы напасть на нас... Недалеко от Константинополя стоит англо-французский флот, который в любой момент может напасть на наши берега и прежде всего на Севастополь и Одессу!.. Наш долг немедленно привести в полную боевую готовность все средства, могущие служить для обороны города. Полковники Рафтопуло и Гангардт сейчас изложат наши соображения.
Первым докладывал Рафтопуло. Он сказал, что десант, высаженный в Одессе, представлял бы грозную опасность не только для города, — он угрожал бы даже Дунайской армии, поскольку мог выйти на ее тыловые сообщения. Но силы для обороны города были совершенно ничтожны.
— В порту находится только 18-ти пушечный корвет «Калипсо», — сообщал полковник. — Пароходы «Днестр» и «Андия» не вооружены, к тому же они окончили кампанию и в море выйти пока не могут. На приморских батареях имеется всего двадцать пушек — шестнадцать на Карантинном молу и четыре на Военном. Все пушки двадцатичетырехфунтового калибра, в то время как на неприятельских кораблях имеются 68-ми и даже 96-ти фунтовые.
Не веря своим ушам, прапорщик узнал, что весь гарнизон огромного города состоит из 4-х резервных и одного запасного батальонов Подольского и Житомирского полков, в которых числилось 62 офицера и 1847 нижних чинов... Еще были: батальон карантинной стражи — 15 офицеров и 537 нижних чинов, две сотни Дунайского казачьего полка и, наконец, Одесская полубригада пограничной стражи. Всего насчитывалось 90 офицеров и 2808 рядовых.
— В довершение беды у нас совсем мало артиллерийских офицеров, — закончил Рафтопуло и молча сел.
Присутствующие растерянно смотрели друг на друга. Конечно, в зале не было никого, кто в той или иной степени не знал бы о слабости гарнизона Одессы, но знал это неофициально. Теперь же об этом заявили открыто, во всеуслышанье.
Генерал первый нарушил тягостное молчание. Стукнув палкой об пол, он тяжело поднялся.
— Силы наши недостаточны — это ясно, и я уже послал рапорт с просьбой о подкреплении. Но это не значит, что мы будем сидеть сложа руки!.. Если понадобится — сами встретим неприятеля. Работы каждому будет достаточно. Все поедят солдатской каши!.. — Он достал платок и вытер им лицо. — О дальнейшем доложит полковник Гангардт.
Помощник генерала Федорова полковник Гангардт в своем докладе указал на необходимость немедленно организовать службу наблюдения, а также приступить к выбору места для артиллерийских батарей. Наблюдению и защите, по его мнению, подлежала береговая линия верст на двадцать пять — тридцать — от Большого Фонтана, где стоял маяк, до Лузановки, на другом берегу Одесского залива.
— Ну, где нам думать об обороне такой линии! — сказал генерал. — Наблюдение мы установим по всей этой линии, это не так сложно, но обороне подлежит только непосредственно Одесса. Получим подкрепление, тогда будет видно... Пока же приказываю приступить к выбору мест для наблюдательных постов и батарей.
— Слушаю-с! — звякнул шпорами полковник.
Тут же была назначена комиссия под председательством Гангардта, которая должна была выехать на место и там решить все вопросы. В комиссию вошли капитан 1-го ранга Швенднер, назначенный начальником службы наблюдения и связи, офицеры парохода «Андия» и все артиллерийские офицеры, в большинстве своем молодые люди, немногим старше Щеголева. Артиллерийскую группу возглавил поручик Волошинов.
Спустя несколько часов члены комиссии верхом на маленьких казацких лошадях отправились в окрестности города на рекогносцировку местности.
В тот день много сделать не удалось: надвинулись тучи, стал накрапывать дождь. Добрались только до Малого Фонтана, что в шести верстах от города. Но в последующие дни побывали всюду, где было намечено.
Щеголев возвращался домой поздно вечером усталый и голодный. Но его всегда ждала теплая ванна, ужин, чистая постель.
Марья Антоновна строго-настрого приказала не беспокоить гостя вопросами: будет что интересное — сам расскажет. Приказ исполнялся свято, и прапорщик мог спать спокойно. Утром его шинель была вычищена, сапоги блестели. Вся дворня разделяла внимание хозяйки — в лице молодого офицера видели защитника отечества, и каждый старался сделать ему что-нибудь приятное. Скромного и застенчивого прапорщика немало стесняло такое внимание, но зато он имел возможность полностью отдаться своей служебной деятельности. А от этой деятельности Щеголев был в восторге.
Слова генерала, призывающие, не щадя жизни, исполнять свой долг, прапорщик понимал почти буквально... Он готов был пожертвовать жизнью в любую минуту, если только в этом возникнет необходимость. Как хотелось ему, чтобы появился неприятель и чтобы он — прапорщик Щеголев — мог совершить такое, о чем заговорила бы вся Россия.
Поздним вечером, лежа в постели, юноша представлял себе, как глухой ночью он переплывает бурный залив и тайно взбирается на борт огромного стодвадцатипушечного вражеского корабля, стоящего на рейде, уже готового напасть на мирную Одессу. Вот он метким ударом кинжала снимает часового у крюйт-камеры, взламывает дверь и поджигает порох. Страшный взрыв. В дыму и пламени взлетают в воздух обломки. Вражеский корабль тонет. А на следующий день устрашенный неприятель выводит свой флот из гибельной гавани, где имеются такие герои. Благодарный город, а затем и вся страна славят прапорщика. Газеты сообщают о его подвиге. В приказе жирными буквами написано о награждении Щеголева Александра... Ведь и Пушкин был Александр и Грибоедов!.. И Суворов! Кто знает, быть может к числу славных людей с этим именем прибавится и он — прапорщик Александр Щеголев.
Вот какие мысли приходили иногда в голову молодому офицеру.
Все нравилось прапорщику в его новых обязанностях. Он первый старался взлезть на крышу для обозрения местности, для него не составляло труда пробежать версту, чтобы посмотреть, хорошо ли видны сигналы с намеченного наблюдательного поста.
Иногда во время кратких совещаний он осмеливался высказывать и свое мнение. Его советы часто оказывались дельными, и начальство постепенно стало замечать молодого офицера.
Но Щеголеву казалось, что работает он еще мало, может быть, даже меньше других, и его очень мучила эта мысль. А трудились все с большим рвением. Несмотря на непогоду, вся работа была закончена в течение нескольких дней.
Было 7-е ноября — с начала войны прошла одна неделя.
В узком кругу офицеров, собравшихся вечером в кабинете генерала Федорова, капитан 1-го ранга Швенднер читал доклад, подготовленный комиссией.
Позднее время, плотные шторы на окнах, таинственные тени на стенах, под портретом, с которого мрачно глядел император, приглушенные голоса, низко склоненные головы у канделябров свечей — ламп генерал не любил — все это подчеркивало важность момента.
Щеголев сидел в углу, внимательно слушал доклад, известный ему наизусть (прапорщик сам переписывал его начисто).
Швенднер читал:
«Обследовав подробнейшим образом побережье, непосредственно примыкающее к Одессе, на предмет выбора места для установки наблюдательных постов и батарей, порешили:
1. Далее Большого Фонтана наблюдательных постов не устраивать, поскольку существующий там маяк вполне заменить таковые может. Наличие на маяке электрического телеграфа дает возможность предупредить городские власти о приближении неприятеля своевременно. Неприятелю же ходу до города с момента его обнаружения не меньше часа.
2. Второй наблюдательный пункт следует устроить на даче городского головы господина Картацци, находящейся в шести верстах от города. Эта дача хорошо видна как с Большефонтанского маяка, так и с города — с крыши Штаба Округа или пожарной каланчи.
Начальником первого пункта должен быть назначен начальник маяка, ему придать для помощи офицера. Начальником второго пункта предлагаю назначить кондуктора парохода «Андия» Кмиту — весьма дельного человека и входящего в состав комиссии.
3. Третий наблюдательный пункт надлежит устроить на одной из дач, что в полутора верстах от штаба.
4. Четвертый и последний пункт надлежит устроить на даче, что в одной версте от города.
Необходимость устройства двух смежных пунктов объясняется тем, что они суть для обороны собственно города важнейшие. Один же пункт легко может быть разрушен неприятелем. Второй будет нами использовываться только тогда, когда выйдет из строя первый. Кроме того, полагаю возможным оборудовать еще один запасный пункт в Суворовской крепости.
5. Связь между пунктами и городом осуществлять верховыми казаками. Между каждыми двумя пунктами расстояние может быть покрыто не более как за десять минут. Помимо всего пункты можно оборудовать мачтами, с которых сигналить флагами.
Мною прилагается тетрадь основных флажных сигналов, применяемых во флоте. Такие тетради должны иметься на каждом посту. Весьма полезным полагаю, чтобы немногие эти сигналы господа начальники постов и батарей заучили наизусть».
— А не перепутают в спешке-то? — с сомнением спросил генерал. — Начнется бой, так все из головы у них и вылетит.
— У флотских не вылетает...
— Там дело другое, у них сигнальный код учат годами...
— Ваше высокопревосходительство! — неожиданно для самого себя вдруг выкрикнул Щеголев. — Не извольте беспокоиться, мы все выучим!
Генерал улыбнулся.
— Выучите, говорите? Это очень похвально, молодой человек. Приятно видеть такое усердие к службе. Ваша фамилия, кажется, э-э-э... Щеголев? Да, да, помню. Ну, а как другие полагают? — обратился он к остальным.
Офицеры поспешили выразить полное согласие с прапорщиком.
— Что же, — откинулся генерал в кресле. — Быть по сему. Выучить сигналы следует, дабы быть от сигнальщиков независимыми. А ночью или в тумане как?
— Сигналить фонарями, ракетами или фальшфейерами. Для ночи необходимо оставить только один сигнал — боевой тревоги. Во время тумана подавать сигналы пушечной стрельбой... На случай десанта можно договориться с духовным начальством относительно колокольного набата.
— На том и порешим, — заключил генерал. — Займемся теперь артиллерией. Кто тут из них старший? — взглянул генерал на группу молодых офицеров, скромно сидевших в сторонке у самого угла стола.
— Поручик Волошинов, ваше превосходительство, — подскочил сосед Щеголева, командир Карантинной батареи.
— Ишь ты... — в раздумье произнес Федоров. — Поручик — начальник артиллерии города Одессы. Анекдот, право!!
Волошинов покраснел. Генерал заметил это.
— Неужто обиделся?.. Не надо, дружок, это я так, по-стариковски. Может быть, так и надо, молодым больше воли давать, нам, старикам, на покой отправляться. Вот жду себе смены, наверное государь обо мне вспомнит, пожалеет. Так говори, сынок, как дела-то у тебя с пушками?
— Мною найдены старые планы обороны города еще тридцатого года. Я воспользовался этими материалами для определения числа орудий на каждой батарее, а места батарей мы определили заново.
— Так, так, — закивал головой генерал.
— Первую батарею, полагаю, надобно устроить перед Чумным кварталом, вооружить ее двенадцатью пушками; Вторую — у основания Карантинного мола — шесть пушек; Третья, моя, — на самом молу — шестнадцать пушек; Четвертая — справа от лестницы — шесть пушек; Пятая — для охраны дворца графа Воронцова и Практической гавани — шесть пушек. Наконец, Шестая на Военном молу — она существует и теперь — четыре пушки.
— Почему так мало? — удивился генерал. — Ведь она защищает вход в Практическую гавань!
— Для большего количества пушек там нет места, ваше превосходительство. Кроме того, эта батарея имеет вспомогательную задачу — не допускать захода неприятеля в тыл третьей батареи.
— А не следовало бы устроить батарею где-нибудь повыше, ну хотя бы в самом начале Канатной улицы? Там ведь очень удобное место.
— Очень далеко в тылу, ваше превосходительство.
— Но зато и высоко...
— Учту, ваше превосходительство.
— Ну, а чем Пересыпь оборонять будете?
— Для Пересыпи батарей не предусмотрено, поскольку низкая местность не позволяет укрывать пушки. Да и не достанут те пушки до рейда. Неприятель сначала уничтожит их, а потом перейдет к нам.
— Гм! — Генерал подошел к огромной карте Одессы, висевшей на стене, измерил расстояние между берегом Пересыпи и разными местами порта. — Пожалуй, верно... Ладно. Оставим Пересыпь... Так сколько пушек всего вы насчитали?
— Пятьдесят, ваше превосходительство. А ежели устроить батарею на Канатной улице, то еще шесть пушек.
— Хорошо. Гляди, как поручики нынче рассуждать стали — генералы, да и только. Ну, а как, ваше поручичье превосходительство, — пошутил генерал, — защищать батареи собираетесь? — И уже серьезно добавил: — Помни, там у тебя солдаты возле пушек стоять будут, их беречь надо!
— Все предусмотрено, ваше превосходительство. Мерлоны[1] будут и прочее, согласно уставу.
— То-то же, голубчик, — о солдатах всегда помни. А сейчас вот тебе мой сказ. Ты, я вижу, много всего наготовил. А средств у нас маловато. На всю оборону города — сто тридцать тысяч. Не ожидали?.. — Генерал обвел взором пораженных офицеров. — Я тоже не ожидал. Но это, к сожалению, так. На нужды обороны отпущено пока только сто тридцать тысяч. Дальше, как государь прикажет... Так что крепостей, господа офицеры, не стройте. Заранее говорю: все ваши планы прахом пойдут.
Тяжело опираясь на палку, генерал снова подошел к карте.
— А батарейки твои, поручик, будут неприятеля поражать в два яруса... Это совсем недурно... Голыми руками нас не возьмут... Хорошо, господин поручик, ваш доклад мне понравился, — заключил генерал и сразу же обратился к полковнику Рафтопуло. — Как размещать войска думаете?
Доклад полковника был краток. Треть войск, предназначенных для обороны побережья от Малого Фонтана до порта, решили разместить в Сабанских казармах. На Соборной площади должен был расположиться резерв — два батальона пехоты и вся кавалерия. Для остальных войск отводилось место у Михайловского монастыря. Кроме того, решено было при возможности приспособить под казарму здание сиротского приюта, что у Куликова поля. Сирот же перевести временно в другое место. Для осмотра здания полковник предложил выделить прапорщика Щеголева.
Заседание подходило к концу, когда в кабинет вошел встревоженный адъютант. Подойдя к генералу, он что-то зашептал ему на ухо. Федоров сосредоточенно слушал, что-то переспросил. Потом, тяжело наваливаясь всем телом на стол, тихо произнес:
— Я должен огорчить вас, господа офицеры, неприятнейшим известием. На Дунае, под местечком Ольтеницей, наши войска потерпели неудачу... Подробности пока неизвестны...
С тяжелым чувством расходились офицеры. Первое сраженье — и неудача...
Новость вскоре облетела весь город. Везде обсуждали ее, многие горожане требовали дать им оружие для защиты города.
— Беда, — говорила Марья Антоновна, — все дворовые в солдаты просятся. К коменданту идти собираются. Правов, говорят, у вас нету нас не пущать. Хотела я им показать на конюшне «права». Где это видано, чтобы мужикам оружие давали!
— Почему же, — возражал прапорщик, — а Наполеона ведь били мужики, и неплохо получалось, сами знаете.
— И я дома сидеть не буду! — объявил Корнила Иванович. — У нас в Департаменте чиновники сговариваются свой батальон создать...
— И тебя, старого дурня, генералом назначить, — вставила Марья Антоновна. — Как начнешь командовать — все турки разбегутся.
* * *
Выполняя поручение генерала, Щеголев отправился к Куликову полю осматривать сиротский приют. Проезжая по Екатерининской улице мимо лицея, он вдруг услышал откуда-то сверху приглушенные крики:
— Александр Петрович!
Прапорщик удивленно поднял голову и в форточке одного из окон лицея заметил лицо Скоробогатого. Щеголев остановил лошадь. Скоробогатый распахнул окно и торопливо спросил:
— Вы на четвертак богаты?
— Сделайте одолжение! — прапорщик вынул кошелек. — Может быть, больше?
— Нет, хватит. Бросайте в окно, а сами подождите немного.
Офицер бросил монету. Несколько минут спустя на улице появились оба друга — Скоробогатый и Деминитру.
— Пойдемте отсюда скорее, — заговорили они, озираясь. На углу Полицейской все остановились.
— Вы куда? — спросил Деминитру прапорщика. Тот объяснил.
— Зря едете, — уверенно заявил Деминитру. — Здание никуда не годится.
— А откуда вы знаете?
— Да ведь сиротские приюты в хороших зданиях не бывают.
— Но если это здание приюта никуда не годится, то как же там живут дети?
— А дети там, можно сказать, почти и не живут — мрут, как мухи. Мы-то здесь знаем все, что в городе творится. Но если вы не раздумали ехать...
— Ни в коем случае!
— Тогда мы с вами. От Греческого базара до Куликова поля ходят буды — еврейские линейки. Мы поедем на ней, а вы на лошади рядом с нами, хорошо? Только ссудите нас, пожалуйста, еще двугривенным. Скоро получим из дому — тогда и расплатимся с вами.
— Какие пустяки! — возразил Щеголев. — Почитаю за удовольствие выручить друзей из беды. Но как вам удалось выбраться из лицея, ведь сегодня будний день?
— Сунули в зубы церберу ваш четвертак — и мы на свободе! Свобода, о свобода, что может быть дороже тебя! — воскликнул Скоробогатый.
Пока лицеисты дожидались отправления буды, Щеголев осмотрел базар. С седла ему хорошо были видны большие и малые лавки, горы лежащих прямо на земле яркокрасных яблок, арбузы, виноград... Кругом стоял непрерывный шум. Блеяли овцы, мычали коровы, визжали свиньи. Моряки продавали пестрых попугаев. Исполинского роста негр держал на плече мартышку. Позади толпой стояли мальчишки. Бабы, проходя мимо чернокожего, крестились, пугливо смотря на великана, но тот ни на кого не обращал внимания.
Невдалеке, окруженный толпой зевак, бравый солдат о чем-то громко беседовал с ветхой старушкой. Щеголев прислушался.
— Вот ты воевать пойдешь, — говорила старуха, — братьев нашинских — славян ослобонять. Ерусалим-град, гроб господен от турок отнимать будешь. Побывала и я там, повидала святости всякой. Себе исцеление ног просила, ногами была сызмальства скорбная...
— И что же, бабка, помогло? — спросил солдат.
— Какое, голубь ты мой, помогло. Еще хуже стало.
— Обманули, значит, тебя святые? Али попы такие попались?
— Обманули, истинно обманули, вот те Христос, попалась.
В толпе засмеялись. Щеголев усмехнулся. Когда-то он тоже верил, что причиной частых войн с турками было стремление освободить «гроб господен», а не вопрос о проливах и свободном выходе русских судов из Черного моря.
— Это ничего, касатик, — продолжала тараторить старушка, — ноги-то скоро пройдут, как в могилу лягу.
— Да чего тебе о могиле думать! Чай, не старая еще. Ста лет нету?
— Нету, любезный, нету. К покрову девяносто исполнилось... А может, и вправду сто... Кто его знает, года-то мои... Помню, что турок уже два раза при мне воевали, а может, и все три... Только нет, два раза... Ну да ничего, теперь третий будет. Нынче обязательно завоюем, я вот и сон видела, будто...
Щеголев больше не слушал! Переполненная буда, в которой уже сидели его спутники, тронулась, и прапорщик поехал рядом.
Сиротский приют находился в самом конце города. Студенты оказались правы: дом приюта был в таком плохом состоянии, что казарму в нем устроить было невозможно.
...Обратно возвращались по оживленной Итальянской улице, с обеих сторон которой тянулись лавки, мастерские ремесленников, винные погреба.
— Почему она называется Итальянской? — спросил прапорщик.
— Здесь много итальянцев, — объяснил Деминитру. — Здесь многие из них нашли убежище от австрийской и папской тирании. Но у нас есть немало жителей и из других народностей. Вот, к примеру, улицы Большая Арнаутская и Малая Арнаутская — там живут арнауты, албанцы по-нашему; на Греческой улице живут греки, на Польской, главным образом, поляки, на Еврейской — евреи. Всех приголубила матушка Русь.
* * *
Щеголев только возвратился, как вбежала Агафья и сказала, что к нему снова пришел «прежний казак».
— Ваше благородие требуют в штаб, — сообщил казак. — Велено прибыть сейчас же.
Прапорщик немедленно собрался.
В штабе он застал уже многих офицеров-артиллеристов.
— Зачем нас вызвали, не знаете? — спросил Щеголев.
— Назначенья на командные посты сообщать будут.
Сердце у прапорщика усиленно забилось. Он давно уже ждал этого назначенья. Только бы попасть на батарею, хотя бы помощником!..
Вошел полковник Гангардт.
— Господа! Командующий утвердил назначения на командные посты. Я зачту вам список офицеров, назначенных командирами существующих и намеченных к постройке батарей. Все указанные в списке офицеры должны немедленно отправиться по местам назначения и к вечеру представить мне доклад о том, что надлежит там сделать.
В комнате стало тихо.
— Согласно приказа его высокопревосходительства командирами батарей назначаются нижеследующие офицеры...
Гангардт назвал фамилии артиллеристов. Командиром Первой батареи был назначен подпоручик Винокуров; Второй — прапорщик Артамонов; Третья, которая считалась основой всей обороны, вверялась поручику Волошинову; Четвертая — прапорщику Крылову. Командиром батареи на Канатной улице назначался прапорщик Ильюшинов, Пятой — прапорщик Андрюцкий.
Щеголев больше не слушал. Все места были уже заняты. Даже тыловые батареи, как Четвертая и Пятая, были отданы другим. Осталась одна-единственная — на конце Военного мола. По мнению Щеголева, эта батарея имела очень важное значение и уж никак не могла быть отдана ему.
И поэтому он не поверил ушам своим, когда, откашлявшись, полковник сказал:
— Командиром батареи, что на Военном молу помещается, коей присвоен нумер шесть, назначается прапорщик Щеголев.
Глава третья
Шумело в голове, радостно билось сердце. Едва различая перед собой дорогу, Щеголев почти бежал по бульвару. В ушах еще звучали последние слова полковника:
— Несмотря на кратковременность вашего здесь пребывания, вы сумели показать себя исполнительным и энергичным офицером. Поэтому генерал счел возможным доверить вам самостоятельное командование. Он выражает уверенность, что с поставленной перед вами задачей вы справитесь, как и подобает русскому офицеру! — Но дальше тон менялся: — Не скрою, что мы придаем вашей батарее весьма небольшое значение и даже полагаем, что в бою она участвовать не будет, поскольку море перед ней мелко и корабли близко подойти не смогут.
Эти слова несколько смутили прапорщика. Почему батарея не будет участвовать в бою? Для чего же она устроена? Впрочем, мало ли как могут сложиться обстоятельства!..
Подойдя к краю лестницы, спускавшейся к морю, Щеголев огляделся: вон там Военный мол, на нем длинный сарай, с боку мола причален пароход «Андия».
Сбегая по ступенькам, прапорщик громко запел. Вдруг он остановился. А что, если не справится и у него отберут батарею? Нет, нет! Он низачто не отдаст батарею.
— Справлюсь, спра-а-авлюсь! — кричал юноша, пугая чаек. Вокруг не было видно никого, и можно было дать волю своим чувствам. — Моя батарея будет не хуже других, а может быть, и лучше!
На берегу лежали лодки, висели рыбацкие сети. На песке валялись рыбьи кости, блестела чешуя. Было пустынно и тоскливо.
Щеголев подошел к основанию мола и направился по нему вдоль сарая. Вот, наконец, и батарея. Прапорщик взглянул и замер: вместо грозного бастиона перед ним были кучи камня, поросшие мхом, усыпанные ракушками и птичьим пометом. Между камнями виднелись четыре какие-то полуразрушенные повозки, в которых прапорщик с трудом узнал пушечные лафеты. В стороне стояла маленькая будка. И это все. Ни пушек, ни порохового погреба — ничего!
Вокруг пронзительно кричали чайки; завывал ветер, гоня низкие тучи; с шумом набегали волны. Одна из чаек уселась у самых ног прапорщика, поглядывая на него круглым красным глазом. Казалось, птица вот-вот насмешливо подмигнет. Почему-то она напомнила Щеголеву чиновника со звездой, присутствовавшего на совете у генерала. Прапорщик со злостью топнул ногой, чайка взлетела.
«Что же делать с такой батареей, с чего начать?.. Неужели и на Карантинном молу батарея в таком состоянии? Нет, не может быть! Ведь та батарея — полковник Гангардт ясно сказал — считается основой защиты города! А Четвертая — резервная. Но здесь, собственно, нет никакой батареи. Есть только место для батареи».
— Нет! — закричал прапорщик, грозя чайкам кулаком. — Не быть по-вашему. Не будете вы тут гадить мне на пушки, слышите? А батарея все-таки будет! Ба-т-а-р-е-я б-у-у-дет!!! — старался он перекричать шум ветра. Будет, будет, будет!!!
В окне будочки мелькнуло чье-то лицо, дверь приоткрылась, и из будки высунулась голова с пышными усами, сросшимися с бакенбардами. Увидя офицера, появился и сам ее владелец — широкоплечий, коренастый солдат. Он вытянулся, приложил ладонь к шапке.
— Здравия желаю, ваше благородие!
Ответив на приветствие, прапорщик спросил:
— А скажи, братец, где тут батарея?
В душе его теплилась еще какая-то надежда: а вдруг он ошибся и его батарея не здесь.
— Да это же она и есть, — кивнул солдат на насыпи.
— Это и есть Шестая батарея?
— Так точно!
— А где же укрепления, пушки?
— Не могу знать!
— А прислуга батареи?
— Прислуга здесь, — указал солдат на будку. — Эй, ребята! Вылезайте, их благородие требуют.
Из будки один за другим вылезли три солдата и пристроились к первому.
— Это вся батарейная прислуга? Что же вы тут делаете? Чаек караулите?
Самый молодой из солдат расплылся в улыбке. Но усатый резко оборвал его.
— Чего зубы скалишь! — И строго Щеголеву:— Никак нет, ваше благородие, чаек мы не караулим; мы есть солдаты четырнадцатой артиллерийской бригады, поставлены здесь для несения царской службы...
Щеголеву стало стыдно за свое замечание о чайках. Он спросил:
— Что же все-таки вы тут делаете?
— Командира своего дожидаемся. Утречком сегодня унтер приказал идти на Шестую и дожидаться командира. А кто он будет и откуда, того не сказывал. Вот мы тут и сидим. А вы, извиняюсь, кто будете, ваше благородие?
— А я, братцы, и есть ваш командир.
Солдаты оживились.
— То-то мы смотрим, чего это ваше благородие батареей интересуетесь.
Внезапно из будки вылез еще один человек, одетый в матросскую одежду, с солдатскими усами.
Подойдя поближе, человек вытянулся и отрекомендовался:
— Отставной фейерверкер[2], ныне служитель одесской таможни Осип Ахлупин. Мы, ваше благородие, тут неподалеку живем, так я часто на молу бываю, рыбку ловлю; лодки своей не имею — так я отсюдова.
Открытое лицо отставного солдата понравилось прапорщику.
— Может быть, ты, как местный житель, объяснишь нам, куда пушки девались, где укрепления и вообще что тут такое?
— Не извольте сомневаться, господин прапорщик, это самая настоящая батарея и есть. Только с тех пор, как ее укрепляли, тринадцать лет прошло.
— Неужели тринадцать лет на батарее ничего не делали?
— Так точно, ничего. Я тут уже двадцать лет живу, все знаю... Были и мерлоны насыпаны, но их ветром сдуло да волной посмывало.
Щеголев оглянулся на кучи камня. Трудно было представить, что когда-то это были мерлоны.
— Лафетики тоже тринадцать лет под дождем и солнышком стоят, — продолжал Ахлупин. — А известно, дерево этого не любит... Оно бережного обращения требует... Вот и пропало.
— Ну, а пушки?
— Про пушки не знаю. Того не упомню, чтобы они тут были. Сказывали, что в прошлую турецкую кампанию пушки тут стояли, а куда потом делись — не знаю. Должно, увезли куда-то.
Прапорщик, за ним и все остальные, медленно пошли по молу. Щеголев внимательно осматривал все сооружения, Ахлупин старательно объяснял их назначение.
— Это вот, извольте видеть, пороховой погреб, — указал он на какие-то бревна, торчавшие из земли. — Засыпан, правда, да откопать не трудно. Своды в нем будто целые. Разве что добавить ряд бревен на крышу придется. А это пароходский сарай. Груз в нем хранится.
Окончив осмотр «батареи» и всего мола, Щеголев отпустил солдат, велев им прийти завтра с утра, а сам отправился на Карантинный мол, — хотелось посмотреть, что там делается, и спросить совета у поручика Волошинова. Его догнал Ахлупин.
— Ваше благородие, разрешите на время войны к вам на батарею, солдатом.
— Сам, голубчик, я не могу этого сделать. Но спрошу генерала, может, он и разрешит.
— Сделайте милость, ваше благородие. Останетесь мною довольны. Только чтоб на вашу батарею...
— Почему именно на мою?
— Да мы ж тут близко живем, нам сподручно сюда бегать... Опять же с ребятами я познакомился... Ну и с вами тоже... Ведь я на время войны только, чтобы с турками сразиться.
— Вряд ли моя батарея в бою участвовать будет.
— Как не будет? — удивился Ахлупин. — Не может быть того, ваше благородие?
— Отчего же? Море, сказывают, вокруг мелкое, вражеские корабли близко не подойдут...
— Да здесь, ваше благородие, как задует норд-ост, так столько воды в бухту нагонит, что едва мол не затапливает. Тогда и самые большие корабли подойти смогут!
«А ведь прав этот бывший солдат, — подумал Щеголев. — Действительно могут появиться здесь нежданные гости!» А вслух сказал:
— Ну, спасибо, голубчик! Обязательно доложу о тебе генералу. Пожалуй, и в самом деле ты полезным быть сможешь.
— Рад стараться, ваше благородие! — радостно ответил отставной солдат.
* * *
Волошинова на Третьей батарее Щеголев не застал.
Осмотрев батарею, прапорщик убедился, что ее состояние ничуть не лучше Шестой. Рыбаки, находившиеся вблизи, рассказали, что и здесь укрепления строились тринадцать лет назад...
Обратно Александр Щеголев брел медленно и уныло. Дела везде непочатый край. А средств нет. «Крепостей не стройте!» — вспомнились слова генерала.
Что же писать полковнику?..
С трудом преодолев лестницу, прапорщик побрел по бульвару. От того радостного чувства, которое охватывало его всего только три часа назад, не осталось и следа.
Подняв голову, Щеголев увидел вдруг Волошинова. Весело насвистывая, поручик бодро шел по улице.
Щеголев бросился к нему навстречу.
— Господин поручик! Мне необходимо сказать вам несколько слов. Вы разрешите?
— Пожалуйста! Только на улице, может, не совсем удобно. Давайте-ка мы зайдем... — Он посмотрел вокруг и, увидев маленькую кофейню напротив, указал на нее, — зайдем хотя бы вон в то укромное местечко... Там никто не помешает нам.
Поручик держался несколько натянуто, видно было, что к беседе о служебных делах он не расположен. Но Щеголев чувствовал необходимость выговориться.
— Был я на своей батарее, — начал он, — и должен сказать: никак не ожидал, что она в таком состоянии...
Поручик как будто удивился.
— В каком же состоянии вы думали ее застать?
— В каком угодно, только не в таком. Ведь там даже не батарея, а только место для батареи, иначе назвать нельзя... Там же и пушек нет!
Волошинов захохотал.
— Какая наивность, прапорщик! Неужели вы думали, что ваша батарея сразу же сможет стрелять? Шутник вы, право!.. Моя не намного лучше.
— И ваша не лучше. Был я на ней, видел.
— Вот как? — поручик сразу сделался серьезен. — Вы даже и на моей успели побывать? Ну и что же вы там нашли? — прищурил он глаза.
— Да то же, что и на своей. Я объяснял плохое состояние своей батареи тем, что на ней командира не было. Но вы же на батарее давно!
— Состояние батареи не от меня одного зависит, — уклончиво ответил Волошинов. — Не знаю, известно ли вам, что моя батарея не чинилась целых тринадцать лет...
— Так же, как и моя...
— Денег для этой цели не отпускалось. Тут уж я, извините, ни при чем! Неужели вы думаете, что я сам не вижу всего? Вижу, дорогой Александр Петрович, хорошо вижу, да поделать ничего не могу. Ну посудите сами, что я буду писать и кому? — Поручик склонился к Щеголеву и заговорил вполголоса. — Что фактически батареи не существует и денег для ее восстановления нет, это я должен был, по-вашему, написать? Или о том, что деньги, отпущенные на нее, в чей-то глубокий карман попали? Уверяю вас, что все начальство об этом знает. Кому же писать?.. Может быть, главному начальнику артиллерии российской армии? Но ведь до великого князя мое письмо никогда и не дойдет!..
— А если написать самому государю?.. Он уж наверно не знает.
— До бога высоко, до царя — далеко... Бросьте вы об этом думать! Ничего тут не сделаешь. Нам горы сей не сдвинуть.
— Но как же быть, ежели неприятель появится?
— Надеюсь, что начальство, быть может, опомнится. Война ведь не шутка! Главное, чтоб не слишком поздно опомнились. А наше с вами дело — стоять до последнего. И будем стоять! За отечество все отдадим. А они... — Поручик помолчал, задумчиво глядя на пол, затем глубоко вздохнул. — Вот о глубоких карманах мы говорили. Почему, вы думаете, выслуживается эта бестия Гангардт?.. Об отечестве печется?... Ничего подобного! — Голос поручика снизился до свистящего шепота. — Наворовал слишком много, вот и боится ответственности. В Люстдорфе — есть такая немецкая колония под Одессой — у него такое хозяйство! Помещик первой руки. И все это — на казенные деньги... Вот теперь изо всех сил старается, чтобы хоть как-нибудь батареи в порядок привести, а то и под суд угодить можно, — с нашим генералом Федоровым это не долго, этот ни на что не посмотрит!.. Не поможет Гангардту и его немецкое происхождение. Рафтопуло тоже себя не обижает. На правах коменданта он ведает содержанием всех войск, находящихся в городе. Многое от него зависит. Взятки берет прямо по тарифу. За то столько-то, а за это — столько. Не сам, разумеется, берет, а через адъютантов. Сам вроде чист, да только чистота эта лживая. Вся Одесса про него знает... А деньги на содержание солдат... Они ведь тоже через него идут. По спискам здесь должна находиться чуть ли не целая дивизия, а тут и бригады нет! — Глаза поручика гневно сверкали. Щеголев видел, что Волошинов глубоко переживает общую неподготовленность к обороне, что беззаботность и веселость его напускные.
— Неужели генерал ничего не знает?
— Генерал наш — честнейший человек. Свое отдаст раньше, чем чужое возьмет. Он сам потер солдатскую лямку, нужды солдатские очень хорошо знает. Вся беда только в том, что генерал слишком доверчив и наивен. Время от времени ему подсовывают какого-нибудь особенно проворовавшегося пристава, вроде того, о котором вы мне рассказывали... И старик уверен, будто исправляет зло тем, что собственноручно отдубасит провинившегося...
— Да у вас просто бунтарские настроения! — улыбнулся прапорщик.
— Поневоле станешь бунтарем, коли этакое видишь! Вот, к примеру, меня возьмите. Когда меня выпустили в офицеры, сколько надежд и планов у меня было!.. Не меньше, чем у вас сейчас. Ведь в мое время еще были живы сподвижники Суворова, бонапартово нашествие было в памяти у всех — я ведь лет на десять старше вас... Декабристами восхищался, — шепотом сказал Волошинов, — портреты казненных в тайном месте держал. На Пестеля чуть не молился. Считал себя революционером. Речи Марата знал наизусть!.. Но все это — прошлое... — вздохнул поручик. — Все из души вылетело, осталась только рутина, картишки, вино...
— Но почему же? Почему? — горячо заговорил прапорщик. — Вот вы видите окружающее зло, а не задумывались над тем, как его исправить. Мы же любим Россию, наш долг подумать о том, как сделать ее счастливой.
— Обо всем думал. Как же мог я не думать о таких вещах!.. Только дальше раздумья дело не пошло. То ли инициативы не было, то ли просто развития нехватило... — Поручик помолчал. — Вы, может быть, удивляетесь, что я так с вами разоткровенничался. Такое настроение на меня нашло. Подумать только, до какой степени мы не подготовлены к войне, сколько жизней будет погублено даром лишь потому, что разворованы средства, что... Впрочем, ну их всех! Даже вспоминать не хочется... Одно ясно: правительство само готовит революционеров своими действиями. Память о декабристах свежа. Многие из офицеров сочувствуют им, мечтают завершить то, что начали они. В вас я вижу самого себя десять лет назад. Искренне желаю вам подольше оставаться таким, каким вы есть сейчас. Если вы переживете эту войну, то увидите большие дела! А теперь — прощайте.
Поручик махнул Щеголеву рукой и, как-то сгорбившись, вышел из кофейни. Прапорщик молча смотрел ему вслед. Нет, нет! Он таким никогда не будет. Он не опустит рук!
* * *
Разговор с поручиком долго не выходил из головы Александра Щеголева. Прапорщик в раздумье бродил по городу. Вспомнилось «Путешествие из Петербурга в Москву» Радищева. Десятки лет прошли с тех пор, а многое ли изменилось в России? Сыны России разгромили Наполеона, прошли с победой всю Европу, а что толку?.. В чем же дело? Где причина умственного оцепенения, в котором находится отчизна? Декабристы усматривали всю беду в том, что огромнейшим государством правит один человек, что в России личность и дух человека подавляются. Вспомнились слышанные где-то слова: «В стране, где люди продаются и покупаются, как скот, не может быть свободы...»
Уже темнело, когда Щеголев с тяжелыми думами своими возвратился домой.
В столовой, кроме хозяев с детьми, были и старые знакомые — Деминитру и Скоробогатый. Подавленный вид прапорщика сразу бросился всем в глаза.
— Что это, батюшка, с тобой? — забеспокоилась Марья Антоновна. — Не захворал ли? Как ушел с утра...
Корнила Иванович, читавший газету, сдвинул на лоб очки и насторожился.
— Не неприятель ли приближается?
— Нет, неприятель пока не приближается, — улыбнулся Щеголев. — По крайней мере нам об этом ничего неизвестно. А вызывали меня в штаб, дали назначение — командовать батареей.
Больше всех обрадовался этому сообщению Ваня. Узнав, что батарея помещается на Военном молу, он от восторга захлопал в ладоши.
— Близко совсем! Я буду приходить к вам на батарею! Вы разрешите?
— Что ты, господь с тобой! — испугалась Марья Антоновна. — Чай, там из пушек палить будут.
— К сожалению, пока не будут, — горько усмехнулся Щеголев. — Там сейчас и пушек нет.
— Как нет? — огорчился Ваня. — Что же это за батарея такая?.. Куда же пушки делись?
Щеголев рассказал о том, в каком виде застал батарею.
— А про пушки так мне никто и не сказал ничего! — закончил он свой рассказ.
— Украли! — понимающе поджала губы Марья Антоновна. — Не иначе!
— Почему вы так думаете? — поразился прапорщик. — Кому они нужны, да и как увезти такую тяжесть незаметно для людей? Обязательно заметили бы!
— Как бы не так! У нас тут, батюшка, что угодно украсть могут, не то что твои пушки...
— Да-а, — тяжело вздохнул Корнила Иванович, — трудно в этой войне придется нашей матушке России, ох, как трудно... От Англии добра не жди!
— Да и Франция от нее не отстает, — вставил Скоробогатый.
— Вот и нужно всем вместе против супостата встать, — заметила хозяйка. — А иначе чем же это кончится?
— Если поражение, — предполагал Деминитру, — то первым делом отнимут у нас Кавказ и Крым... Во-вторых, Пруссия и Австрия отрежут у нас Польшу...
— И что ты говоришь такое, — возразила Марья Антоновна. — Да разве можно Россию до поражения допустить?
— На этот счет будьте спокойны, — сказал прапорщик. — Костьми ляжем, а до погибели наше отечество не допустим. При Наполеоне хуже было, а выстояли.
Кукушка в стенных часах начала куковать. Щеголев заторопился в штаб.
* * *
— Кто докладывает первым? — спросил Гангардт, открыв совещание. — Самый младший здесь, кажется, прапорщик Щеголев? Начинайте, господин прапорщик. Слушаем вас.
Щеголев встал и прерывающимся голосом начал:
— Вверенную мне батарею я обнаружил в таком состоянии...
— О состоянии не надо, — сморщившись, прервал его Гангардт. — Нас интересуют меры, с помощью которых вы думаете привести батарею в надлежащее состояние. Что она представляет собой теперь, мы знаем не хуже вас!
— Чтобы привести батарею в боевую готовность, полагаю необходимым: устроить земляные мерлоны для укрытия прислуги от огня неприятеля, изготовить под орудия деревянные платформы, расчистить и укрепить, если понадобится, своды погреба, а также соорудить ядрокалильную печь и снести пароходный сарай.
— Отлично! — сказал полковник. — Вот только чем вам сарай помешал? Огню батареи он ведь не препятствует?
— Опасно очень. Если загорится сарай, то пороховой погреб взорваться может, — слишком близко тот сарай расположен.
— Н-да... — задумчиво проговорил Рафтопуло. — Все это не так просто. Сарай принадлежит частной компании. Если снести его без разрешения компании, то после казна должна будет платить убытки.
— Как же так? — воскликнул Щеголев. — Но ведь этот сарай опасен для батареи! И в бою он легко может сгореть.
— Пускай себе горит от неприятеля, — засмеялся Рафтопуло. — Пусть тогда неприятель за него и платит. А если мы его снесем, то мы и в ответе будем.
— Хорошо! — хлопнул ладонью по столу полковник. — Этот вопрос решит генерал. С Шестой покончено. Поручик Волошинов!
Щеголев внимательно слушал. Все командиры говорили о том же: нужны насыпи, деревянные платформы под пушки, пороховые погреба...
Гангардт рассеянно одобрял, обещал обо всем доложить генералу.
После совещания Щеголев подошел к Гангардту:
— Извините, господин полковник. Ко мне обратился старый отставной артиллерист, просит зачислить его на время войны в батарейную прислугу.
— Зачем это вам нужно? — удивился полковник. — Ведь у вас будут люди, полагающиеся по штату!
— Так точно, прислуга у меня имеется — четыре человека! — Щеголев думал удивить этой цифрой полковника, но тот и бровью не повел.
— Когда батарея будет готова, вы получите пополнение.
— А кто же будет приводить батарею в порядок? Работы там очень много, четырем солдатам не справиться!
— С завтрашнего дня, — вмешался Рафтопуло, — по распоряжению властей будут выходить на работу по двести — двести пятьдесят арестантов. Вот и к вам их пришлют. Вы и заставляйте этих подлецов делать все, что вам надо.
— Но отставной солдат может быть очень полезным на батарее. Я очень прошу вас, господин полковник.
— Это сложный вопрос, — ответил за Гангардта Рафтопуло. — Куда нам вписать его на довольствие? Где взять форму? Кто будет платить ему жалованье? Очень сложно это. Вот если бы в бою убили кого-нибудь, тогда дело другое: можно было бы подать прошение на имя начальника гарнизона... А так — не знаю...
Полковники отошли.
По пути домой прапорщик все рассказал Волошинову, к которому после беседы в кофейне чувствовал особенное расположение.
— Теперь вы убедились, что я прав? — улыбнулся поручик. — Вы хотите, чтобы Рафтопуло зачислил живого солдата вместо подставного? Это для вас три рубля небольшие деньги, а он из таких рублей вон сколько набирает! Я же еще днем вам говорил... Бросьте думать об этом. А солдат этот пусть приходит, если вам так хочется. Никуда его не зачисляйте, а будете составлять список своих солдат, вот туда и впишите... Уверяю вас, что никто этого не заметит...
* * *
Утром следующего дня, когда Щеголев подходил к батарее, навстречу ему поднялся Ахлупин и встал во фронт, приветствуя командира батареи.
— Здравствуй, братец, здравствуй, — ответил прапорщик.
— Разрешите спросить, ваше благородие!.. Как мое дело-то?
— Видишь ли, братец, мест, говорят, нет. Да и с формой плохо. И на питание опять-таки зачислить некуда... Только ты не печалься, — поторопился добавить прапорщик, видя помрачневшее лицо солдата. — Пока я командир на батарее, приходи, когда захочешь. И жалованье сам тебе платить буду, и прокормим как-нибудь...
Ахлупин обиделся.
— Да неужто, ваше благородие, я о форме говорить буду али там о жалованье? Не надо мне... И ваших денег не возьму, ваше благородие. Не о выгоде я хлопочу. Хочу отечеству послужить, защищать родную землю хочу. А ихнего нам не требуется, ежели рубля и щей пустых миску старому солдату пожалели!..
Солдат на батарее еще не было. Ожидая их прихода, Щеголев отправился на стоявшую вблизи «Андию».
Командир парохода встретил гостя сердечно и тотчас разрешил прапорщику пользоваться судном, как только тот найдет нужным.
— Считайте «Андию» частью своей батареи! — сказал он.
На молу тем временем собралась батарейная прислуга. Тут же толпились какие-то люди в оборванной одежде, заросшие бородами. Возле них стояли два солдата с ружьями. Увидя Щеголева, спускавшегося по трапу, один из них подошел и отрапортовал:
— По приказу его высокоблагородия господина начальника городской каторжной тюрьмы для выполнения работ на батарее нумер шесть прислано двадцать арестантов.
Прапорщик подошел поближе. Арестанты при виде офицера стали в линию. Все они были страшно измождены.
«С такими людьми много не сделаешь, — подумал он. — Надо что-нибудь придумать».
— Вы знаете, зачем сюда прибыли? — обратился он к арестантам.
— Знаем, — ответило несколько голосов. — Батарею строить, чтоб неприятеля отразить.
— Так вот помните: от вас требуется хорошая работа. Батарею необходимо построить в кратчайший срок.
Вперед выдвинулся здоровенный детина, видно, вожак арестантов, заросший бородой чуть не до самых глаз.
— А ты лучше скажи прямо: будет нам облегченье, ежели мы хорошо на твоей батарее поработаем?
— Будет облегченье. Приложу к тому все усилия.
— Табачку бы, ваше благородие, — крикнул кто-то из арестантов. — Душу согреть...
— Будет и табак, — пообещал поручик. — Только хорошо поработайте. Прежде всего нужно расчистить пороховой погреб, посмотреть, какие там своды. Кирки, лопаты у вас есть?
Но инструментов ни у кого не было.
— В тюрьме не полагается! — строго заметил солдат.
— Чем же работать будем? — сокрушался прапорщик. — Неужто и сегодня день пропал?..
— А мы здесь достанем и кирки и лопаты, — отозвался Осип Ахлупин.
Щеголев повеселел.
— Расстарайся, голубчик, достань на сегодняшний день.
— Да это мы сию минуту. Эй, братцы! — крикнул он арестантам, направляясь к берегу. — Давай со мной человек восемь. — Вслед за ним бросилось несколько арестантов.
— Куда?! — всполошились конвойные солдаты. — Отлучаться с молу не дозволено!
— Не бойся, не убегут, — густым басом сказал арестант, которого прапорщик принял за вожака. — Не для того пришли, чтобы бегать!.. Сами понимаем.
Но конвойный побежал за уходящими.
— Пусть его бежит, кислая шерсть! — заметил арестант и обратился к прапорщику. — Ты, ваше благородие, не бойся — никто не сбежит, в ответе не будешь.
— Ты тут, я вижу, старший? — спросил Щеголев. — Как тебя звать-то?
— Какое у каторжника имя! Дали нумер и все. Так и зови — нумер тридцать семь!..
— Зачем же, по номеру я тебя звать не стану. Ты ведь живой человек, крещеный.
— Ну, ежели хочешь, так знай: звали меня когда-то Ивашкой.
— Вот и хорошо. Значит, Иван, все разговоры я буду вести только через тебя, табак ты тоже сам делить будешь. Только чтобы честно, своих же товарищей не обманывать!
— Что ты, барин!.. За это камень на шею да в воду — и то мало!
Вскоре возвратились арестанты, нагруженные лопатами, кирками и какими-то мешками. Подойдя, они свалили все в кучу, вытерли потные лбы.
Остальные разобрали инструменты и приступили к работе.
Щеголев вздохнул свободнее.
— Теперь, братцы, — обратился он к своим солдатам, — слушайте вы меня.
Прапорщик распределил между солдатами обязанности.
— А помощником моим будет фейерверкер Осип Ахлупин, — закончил Щеголев.
Позвали Ивашку, прапорщик сказал строго, показывая на Осипа:
— Гляди, Иван! Ты старшой над своей артелью, а над солдатами и всеми вами вот он! Когда меня нет, слушать его беспрекословно.
— Не сумлевайся, барин! Будет исполнено!
Возле сарая Щеголев заметил вдруг женщин. Сидя на камнях, они что-то шили.
— Что это они там делают?
— Рукавицы из мешков шьют, — объяснил Ахлупин. — Трудно ведь голыми руками камень брать да бревна таскать... Я из дому захватил мешочки.
Прапорщику понравился и хозяйственный тон старого солдата и его предусмотрительность.
— Слушай, Осип, надо бы и об обеде подумать.
И тут Щеголев изумился еще больше.
— А как же, ваше благородие, — сказал Осип. — В мешках все принесено. Соседи надавали, на три дня хватит. Часть дома оставили.
— Ну-ну, — улыбнулся прапорщик. — Хорошо. На «Андии» можно будет готовить. Табаку еще надо купить. Вот деньги. — И он протянул фейерверкеру рубль.
Работа постепенно подвигалась. Скоро из земли стали видны двери погреба, — старые, трухлявые, негодные даже на дрова. Соорудив носилки, арестанты относили ненужные камни и землю.
С батареи Щеголев ушел последним. Наскоро пообедав, он уселся за чертежи. По распоряжению Гангардта к вечеру надо было представить в штаб план батареи. Еще в Дворянском полку Александр Щеголев отличался уменьем хорошо чертить, и теперь ему не составляло труда вычертить маленькую четырехпушечную батарею.
Бойко водя пером, он изобразил мерлоны, расставил размеры, показал пушки, зарядные ящики, ядрокалильную печь.
Уже давно стемнело, когда прапорщик подошел к штабу.
— Кроме штабс-капитана, никого нет, — сообщил швейцар.
— Как нет? Мне полковник приказал чертежи обязательно сегодня ему принести.
— А вы прошли бы к штабс-капитану.
Наверху, в слабо освещенной комнате, в двух креслах развалился адъютант генерала. На столике стояла бутылка из-под вина и тарелки. На спинке стула висел мундир.
Услышав шаги, адъютант, спросонья не попадая в рукава, стал торопливо одеваться. Но тут Щеголев вышел на освещенное место, и адъютант сразу изменил тон.
— А-а-а, это вы... — и снова повалился в кресла. — Садитесь, пожалуйста... Чем... э-э... — широко зевнул он, — чем могу служить?
Прапорщик сообщил о приказе и показал на чертежи подмышкой.
— Понятия не имею! — развел руками адъютант. —Уверен, что полковник просто забыл, с ним это случается. Отправляйтесь-ка вы лучше домой. Утро вечера мудренее. А план ваш я могу передать. Покажите-ка, что вы там нарисовали.
Щеголев развернул чертежи.
— Неплохо сделано, весьма неплохо. Оказывается, вы прекрасный чертежник... Надо будет доложить генералу, пусть заберет вас с этой батареи в штаб...
— Что вы, господин штабс-капитан! Я вас очень прошу ничего генералу не говорить. Не хочу я в штаб... Я уже полюбил батарею.
— Но ведь там только место для батареи, вы же сами говорили.
— Это ничего, что только место... Будет и батарея. Пожалуйста, не говорите об этом генералу.
— Да я для вас же хотел сделать лучше, — удивился адъютант. — В штабе спокойнее и безопаснее, а если вы о наградах думаете, так их и здесь получить можно. Даже легче, чем там.
— Не об ордене я хлопочу, о пользе для отечества! — довольно резко сказал прапорщик.
— Извольте!.. — адъютант презрительно скривил губы. — Сидите себе на батарее. Таких охотников не так уж много!..
* * *
На следующий день после полудня, когда люди, пообедав, отдыхали, к батарее подкатила щегольская коляска.
Приехал сам генерал Федоров, с ним полковник Гангардт и штабс-капитан Свидерский. Увидев их, прапорщик подбежал с рапортом.
— Хорошо, голубчик, хорошо, — говорил генерал, направляясь к «Андии». — Вот я только побеседую с командиром парохода, потом и к тебе.
Навстречу, генералу сбежал по трапу капитан «Андии». Потом оба поднялись на палубу и скрылись. Гангардт пошел с прапорщиком по батарее.
— Послушайте, прапорщик, — что это у вас за сборище такое? — указал полковник на арестантов.
— Это работные люди, господин полковник; они только что пообедали, а теперь отдыхают.
— Какие работные люди?! — широко раскрыл глаза полковник. — Вы и в рапорте упоминаете о работных людях. Что это за работные люди?! Это арестанты! Каторжники! А вот я вижу еще кто-то посторонний бродит у вас на батарее.
— Это тот самый солдат, о котором я вас просил. Я разрешил ему приходить на батарею. От этого ведь, кроме пользы, ничего не будет.
— Это непорядок, прапорщик, — отрезал Гангардт. — И, если хотите, вольнодумство! Да-с милостивый сударь, вольнодумство! А позвольте вас спросить, почему арестанты не ходят обедать туда, куда им положено?
— Я считаю, господин полковник, что ходить туда и обратно — значит потерять два часа, а день и без того короткий. Да и устают меньше.
— Неужели? — насмешливо произнес полковник. — Скажите на милость, какая забота!.. Вы бы еще перины для них притащили!
Незаметно подошел генерал.
— О чем спорите? — спросил он.
Полковник быстро ответил.
— Что же, готовить здесь еду — мысль неплохая, — одобрил генерал. — Очень удачная мысль — экономия времени и сил..
—Да, пожалуй, — поспешил согласиться полковник. — Прапорщик удачно придумал.
— Ну, показывайте, что тут у вас сделано, — обратился Федоров к командиру батареи.
Щеголев повел генерала по батарее. Тот осмотрел все очень внимательно и остался весьма доволен.
— Немало успели сделать, немало. Только почему люди руками землю выбирают? Лопат разве нехватает?
— А мне, ваше высокопревосходительство, вообще никакого инструмента не прислали, все у окрестных жителей собирали.
— Как не прислали? — удивился генерал. — Быть того не может! — Он посмотрел на полковника. Тот пожал плечами.
— Приказание начальнику склада было отдано заблаговременно. Почему так получилось — не знаю.
— Ваше превосходительство, — несмело заговорил прапорщик. — Тут ко мне пришел отставной солдат, просит позволения остаться на время войны на батарее. Он опытный артиллерист. Мне во многом помочь сможет.
— Ну что ж, ежели сам захотел — пусть остается. Ведь вы все равно людей кормите, так и он около них будет.
— Да он сам даже другим продовольствие доставляет. Жалованья не требует.
— Вот как? — удивился генерал. — Покажите мне его. Когда против Бонапарта воевали, — пустился генерал в воспоминания, — так таких-то людей было много. Верные сыны отечества!.. Истинно, не оскудевает земля Русская!
Щеголев позвал Ахлупина. Генерал стал беседовать с ним. Полковник делал вид, что занят осмотром погреба, близко не подходил.
Когда Федоров приблизился к пароходному сараю, прапорщик снова обратился к нему.
— Этот сарай, ваше превосходительство, помещается очень близко от порохового погреба, загорится — и погреб взлетит на воздух.
— Д-а-а, — в раздумьи проговорил генерал, глядя на сарай. — Строение следует убрать. Вы мне напомните, — обратился он к Гангардту, — чтобы владельцам его написать.
Полковник молча наклонил голову.
— Ну, голубчик, — сказал генерал Щеголеву, — инструмент тебе пришлют и доски тоже. Вам досок много потребуется... Мерлоны из ящиков будете делать. Поставить ящики, сколотить их вместе и засыпать землей. Вот и получится укрепление. Песком засыпать плохо, он сразу высыпается, а земля утрамбуется, получится хорошо...
Осип Ахлупин долго глядел вслед генеральской коляске.
— Эх, генерал-то наш, — вздохнул он. — Постарел — не узнать. А ведь я его каким помню!.. Орел был, истинно орел... Суворовских статей офицер был, что и говорить!..
Щеголева и самого поразил вид генерала. Сгорбленный, шамкающий, одряхлевший, он, казалось, за несколько дней войны постарел на несколько лет. Видимо, старик хорошо понимал окружающую обстановку. Понимал и свое бессилие. Было известно, что генерал Федоров, ничего не скрывая, в первый же день войны написал военному министру и просил сменить его, сознавая свою непригодность для столь ответственного в военное время поста, как командующий Одесским военным округом. Смены ждал он себе со дня на день.
...Вечером Щеголев снова был в штабе с планом батареи. Гангардт встретил его холодно. Взял чертежи, долго и придирчиво рассматривал их, но прапорщик стоял на своем.
Александр Щеголев твердо помнил завет отца: «Пуще всего береги честь свою. Неправоту признавать никогда не стесняйся, с кем бы ни спорил. Но ежели чувствуешь себя правым — держись!»
Придирки Гангардта были безуспешны. Видя это, полковник сказал отдуваясь:
— Кстати, начальником артиллерии теперь назначен полковник Яновский. По всем вопросам вам надлежит обращаться к нему.
Прапорщик удивился: зачем же тогда эти придирки? Он понял, что в лице полковника Гангардта нажил себе врага.
* * *
Генерал Федоров исполнил свое обещание. На следующее утро, подходя к молу, прапорщик увидел ряд возов, заполнивших батарею: прибыли долгожданные инструменты, доски, мешки для устройства укрытий.
Прибыло и продовольствие. Теперь не нужно было просить добрых людей, чтобы накормили работников.
Осип с Ивашкой хлопотали, указывая, что кому делать, куда что сгружать.
К Щеголеву подошли два старичка-плотника, сняли шапки, поклонившись, сказали, что присланы делать ящики для мерлонов и что им нужны помощники.
Разговор услышал Ивашка.
— Да что это вы их благородие беспокоите? Людей вам требуется? А я на что?! От меня людей требовать надо! Опять же господин фейерверкер имеется, к нему могли бы обратиться. А вы сразу к их благородию. Пойдемте!..
И он увел плотников.
Щеголев не стал вмешиваться. Он уже убедился, что арестанты работают добросовестно, а Ивашка так же, как и Ахлупин, оказался неплохим помощником.
Подводы, привезшие доски и инструменты, остались в распоряжении командира батареи. После полудня неожиданно прибыла новая партия арестантов в двадцать человек. Работа пошла еще живее.
Некоторые из них были почти раздеты и Щеголев, видя это, приказал пошить из мешков хоть какую-нибудь одежку.
— Людей надо пожалеть, — говорил прапорщик, — а не о мешках беспокоиться. Понадобятся для устройства укрытий — еще добудем.
Погреб скоро очистили, и прапорщик с инженерами осмотрели его. Своды оказались в хорошем состоянии. У Щеголева отлегло от сердца — отпала самая трудная работа.
— Вот достанем бревен, — говорил он Осипу, — сделаем еще накат ряда в два, тогда нам никакие бомбы не страшны будут, даже девяностошестифунтовые!
К вечеру прапорщик получил приказ явиться в штаб. Вызывал новый начальник артиллерии.
Полковник Яновский не был артиллеристом, его назначили начальником артиллерии только потому, что артиллерийских штаб-офицеров не оказалось не только в Одессе, но и в Николаеве и Херсоне.
Но в городе полковник был человеком не новым, и Щеголев радовался, что начальник уже в курсе всех дел.
Рассмотрев внимательно чертежи и побеседовав с прапорщиком, Яновский сказал:
— В ближайшие дни побываю на вашей батарее. — И снова, взглянув на чертежи, заметил: — А почему вы здесь показали блиндаж из бревен, а размера их не указали?
— Я, господин полковник, сам размеров не знаю. Полагаю положить бревна самые толстые, какие только в Одессе имеются.
— Гм... Боюсь, что здесь только тонкие есть. А вы представляете, сколько этот блиндаж должен стоить?.. Вряд ли найдутся на это деньги... Придется пока повременить с постройкой его. Пришлют денег, тогда подумаем.
Щеголев упомянул о сарае.
— Слышал я уже об этом сарае, — задумчиво сказал Яновский. — Вполне согласен с мнением генерала и вашим, что этот сарай является в пожарном смысле весьма опасным. Но дело в том, что принадлежит он пароходному обществу, правление которого находится в Петербурге. Генерал написал президенту общества письмо, но ответа пока нет и, видимо, не так скоро будет... Подумаем лучше о боеприпасах. Как только погреб будет готов, немедленно пришлем вам порох. Что же касается ядер, то их вы достанете сами.
— Как так? Откуда? — удивился прапорщик.
— Из старого склада бывшей Суворовской крепости. Там они есть в достаточном количестве. Надо только поискать склад, порыться в земле...
— Ядра... в земле?
— Да, да, в земле. И очень много. Вам только следует выбирать нужный калибр. Подводы у вас имеются, люди тоже... Стало быть, и начинайте с божьей помощью. Смотрите только, как бы другие батареи у вас не перехватили.
Прапорщик недоуменно смотрел на полковника, все еще думая, что тот шутит. Но Яновский оставался серьезен.
Идя с совещания, Щеголев поделился своими сомнениями с Волошиновым.
— Весьма странно все это. Денег ни на что нет. Ядра надо самому вырывать из земли. Сарай тронуть не могут! Блиндаж строить — дорого, а жизнь солдатская, выходит, ни во что ставится. Ведь перебьют солдат, неприятель высадится — все разграбит!
Поручик только покачал головой:
— Эх, Щеголев! У нас все так: не грянет гром, никто лба не перекрестит... Вот когда неприятель у Большого Фонтана появится, тогда, может, зашевелятся. У меня на батарее работают так, что за все эти дни погреба очистить еще не успели. А ведь это самая главная батарея, на ней больше ста человек работает!
— А вы бы поступили, как я.
И прапорщик рассказал о своей батарее.
Волошинов усмехнулся.
— Ну, теперь понятно. То-то на днях генерал кричал: «Сходите к Щеголеву, посмотрите, как малыми средствами обходиться можно! А вы все ко мне лезете, денег клянчите! Прапорщик ничего не просит, а все у него есть. Не смотрите, что молодой, — у него поучиться не стыдно!»
— То-то ко мне на батарею зачастили! А мне и невдомек зачем... Теперь понимаю.
— Когда за ядрами собираетесь? — спросил поручик.
— Завтра, конечно. С утра сам пойду. Боюсь, разберут.
— Да зачем вам самому ходить, послали бы дельного солдата, он вам их и наберет.
— Как, доверить такое дело? Нельзя.
— Только не все забирайте, — пошутил поручик, — мне оставьте!
* * *
За несколько дней батарея стала неузнаваемой. Старых насыпей и лафетов уже не было, место было очищено и подметено. В пороховом погребе уже возвышалась целая гора готовых ящиков.
Хотя работало сорок человек, но толкотни и шума не было — каждый знал свое место.
— Еще денька три, и, пожалуй, закончим, — сказал прапорщик Ахлупину.
Осмотрев батарею, Щеголев собрал солдат.
— Сейчас пойдем в крепость, ядра для пушек собирать. Кто из вас знает, где они там лежат?
Солдаты недоуменно смотрели друг на друга.
— Ну, хорошо, — решил прапорщик. — На месте увидим... Возов пока брать не будем, наготовим, тогда сразу и перевезем,
Поднялись по крутой горе, прошли мимо места для будущей Центральной батареи — там рос еще бурьян — и вошли в крепость.
Засыпанные мусором и камнями рвы, остатки стен, обвалившиеся своды — все представляло собой картину разрушения. Кругом кучи песку и камней, обломки кирпича.
— Где же склад? — поразился прапорщик. — Где тут ядра искать?
В углу крепостного двора играло несколько ребятишек лет по десять-двенадцать. Увидев офицера и солдат, все бросили игру, подбежали к ним.
— Здорово, орлы! — сказал Щеголев.
Ребята молчали, испуганно глядя на пришельцев и шмыгая грязными носами.
— Чего молчите? — спросил прапорщик и улыбнулся.
От его улыбки заулыбались и мальчишки; самый храбрый из них сказал:
— Мы играем, дяденька. Мы ничего...
— Во что же вы играете?
— В турку! — хором ответили ребятишки.
— В какую турку?
— А вот они, турки-нехристи стоят, — указали ребята на глиняные столбики. — Мы налепили их из глины и бьем... Воюем, значит.
— А-а! — догадался прапорщик. — И у вас война! А вы не видали ли ядер? Шары такие чугунные.
— Знаем, дяденька, знаем! Мы их катали, катали, да бросили — ноги отдавливают.
— А мне они не для катанья нужны, а для того чтобы в настоящих турок стрелять.
— А я тебя знаю! — раздался радостный голос малыша, стоявшего поодаль. — Мой дедка к тебе на Военный мол приходит.
— Какой дедка?
— Дед Осип.
— Вот как? Значит, Ахлупин твой дедушка? На батарее он у меня правая рука.
Малыш с гордостью поглядел на товарищей.
— А тут, ребята, вы мне помогите. И я в долгу не останусь. Кто мне ядро покажет, и оно будет нужной величины, тому я заплачу денежку. За каждое ядро по денежке. Идет?
Глазенки ребят загорелись.
— А ежели мы много тех ядров натаскаем, и тогда деньги дашь?
— Обязательно. Как ядро, так и денежка.
— Нет, дяденька, — рассудительно сказал маленький Ахлупин, — денег нам не надо. Ты на них лучше пушку купи. Дедка сказывал, что без денег турка нипочем не побить. А нам лучше пряников дашь.
— Идет! Вы мне ядра, а я вам пряников.
Мальчишки бросились в угол, где лежала куча кирпича, и стали быстро разбрасывать его. Солдаты кинулись им помогать. Скоро показались ступеньки.
— Что это такое? — удивился прапорщик.
— Не знаем, — отвечали ребята. — Только ядров тех здесь, говорят, много.
— Посмотрим. Только голыми руками тут много не сделаешь.
Прапорщик послал солдат на батарею за лопатами и кирками, а сам остался с ребятишками.
Солнце поднялось уже выше, становилось жарко.
— А где бы тут, ребята, водички попить?
— У нас можно, — отозвался курносый мальчуган лет девяти, весь усыпанный веснушками. — Мы туточки близко живем. Пойдемте.
Свернув за угол и пройдя среди куч мусора, прапорщик в изумлении остановился: перед ним оказалось какое-то сооружение — то ли землянка, то ли шалаш.
Вырытую в земле яму покрывали обломки досок и куски ржавого железа. Сбоку висели тряпки. В пыли копошились маленькие дети.
— Это что?
— А мы здесь живем, — ответил мальчик. — Я же говорил, что это близко.
— Как же вы тут живете? — вскричал прапорщик.
— А так вот и живем, батюшка барин, — сказала пожилая женщина, выбираясь из землянки и щуря глаза от дневного света. Ее изможденный вид поразил прапорщика.
Щеголев молча смотрел на нее. Видя его удивление, женщина усмехнулась.
— Удивляешься?.. Так вот и живем. Что же делать, когда лучшего нету... Муж-то мой раньше грузчиком работал, так чуток лучше жили, а с той поры, как надорвался — сюда перешли, землянку себе построили, вот и живем.
— А что теперь муж твой делает?
— Что же может делать надорванный... Пшеницу ворошит, больше ни к чему не способный... — Женщина закашлялась, тело ее сотрясалось, она рукой ухватилась за столб. — И я с ним работаю... Видишь, все нутро у нас пылища повыела...
Прапорщик вспомнил картину, виденную им при въезде в Одессу: маленький переулок, горы пшеницы, люди, стоящие в ней по колени, клубы густой пыли, поднимавшиеся от зерна, когда люди пересыпали его лопатами.
— А ты что хотел, барин? — поинтересовалась женщина, откашлявшись.
— Я... хотел бы напиться... Мальчик мне сказал, будто тут где-то есть вода...
— Есть вода, колодец от нас неподалеку... Да только вряд ли ты ее пить будешь.
— Почему же? Разве вода не везде одна и та же?
— Эх, барин!.. — вздохнула женщина. — И вода, как жизнь, — не везде одинакова.
Она взяла глиняную чашку и направилась к колодцу. Достала воды и, зачерпнув чашкой, с поклоном подала офицеру. Тот сделал глоток, но тотчас выплюнул воду на землю.
— Ведь это же морская вода!.. Ее же нельзя пить.
— Мы пьем, барин, — спокойно сказала женщина. — Она, верно, соленоватая. Да мы привыкли.
Тут только прапорщик понял, что значили слышанные раньше рассказы о том, что господам из-за города привозят сладкую воду, а дворовые пьют колодезную.
— А вы что за люди?
— А всякие... со всей России. Есть из-под Курска, есть из Полтавы... Отовсюду нужда гонит. Идет народ сюда, город теплый, думает, зимы не бывает, все будто дешево. А оно еще хуже здесь оказывается. Нашему брату — крестьянину да работному человеку — везде плохо... — Женщина снова закашлялась.
Расстроенный прапорщик поспешил вернуться к погребу. Спустя полчаса нужные инструменты и носилки были доставлены, а еще через час перед глазами обрадованного Щеголева открылся погреб, где во множестве лежали различных калибров ядра и бомбы. Очевидно, это и был полузабытый арсенал крепости.
— Ну, ребята, — говорил прапорщик мальчуганам, — вас мне сам бог послал! Мы бы тут сами ничего не нашли.
Солдат сбегал в ближайшую лавчонку и принес огромные кульки с пряниками и конфетами. Другие отправились на батарею за подводами. Щеголев был в восторге — так все удачно получилось. Только непонятно как-то: боевые припасы без всякой охраны — бери, кто хочет!
Нагруженные подводы медленно потянулись по дороге.
Вслед за ними гордо шагали ребятишки.
* * *
Три дня спустя батарея была закончена. Гордо высились мерлоны, между ними стояли толстые дубовые платформы, немного позади была сложена из кирпича ядрокалильная печь.
— Будем угощать турка не простыми орехами, — шутили солдаты, — а калеными!
Внутри порохового погреба — чисто выструганные дубовые полки для пороховых картузов. Прочная дверь окована железом. Над входом — навес, на земле — мешки, чтобы ноги вытирали, внутрь грязи не наносили.
В стороне красивыми пирамидами были сложены ядра.
Осип с солдатами выкрасили все дерево батареи в серозеленый цвет, как и мол.
— Неприятелю не так приметно будет, — говорили солдаты.
Арестантов после окончания работ перегнали в другое место. Помня свое обещание, Щеголев подал генералу рапорт, где всячески хвалил усердие арестантов. Надеялся, что этим добьется какого-нибудь улучшения в их тяжкой доле.
А на батарее появились новые помощники. Каждый день сюда приходили ребятишки. От них теперь не было отбоя. Шестую батарею ребята так и называли: «Наша батарея». И помощь от них была не малой: любое поручение — почистить что-нибудь, что-то принести, сбегать за делом каким — выполнялось в один миг. Ребят не мог остановить ни злой ветер, сбивавший с ног, ни дождь. На «Андии» можно было погреться, а иногда получить даже полмиски щей, оставшихся от обеда. Прапорщик знал, что для многих эти полмиски щей были единственной горячей едой за весь день, и щедрость кока поощрял.
19-го ноября прапорщик рапортовал об окончании работ. Все было готово на батарее. Нехватало только пушек. Щеголев ждал их с большим нетерпением.
На следующий день на батарею прибыл полковник Яновский. Подробно осмотрел все, похвалил:
— Очень хорошо! Батарея вполне готова. А что ж вы до сих пор не достали орудий?
— Откуда, господин полковник?
— Как откуда? Вырыть из земли.
— Что вырыть из земли? — не понял Щеголев.
— Я же говорю — пушки. Ваши пушки!
— Да где же они, эти пушки?!
— А вот вы на них сидите!
Прапорщик вскочил и, ничего не понимая, посмотрел на причальную тумбу, на которой только что сидел.
Полковник раскатисто хохотал.
— Вот же они, ваши пушки! — показал он на причальные тумбы, стоящие по краю мола. — Неужели никто вам про них ничего не сказал? Их только нужно выкопать и очистить.
С глаз Щеголева точно спала пелена. Оказывается, перед ним из земли торчали не бракованные орудия, используемые в качестве причальных тумб, а те самые пушки, о которых он столько мечтал![3]
— Господи, что же это такое! — растерянно шептал прапорщик. — Разве из таких пушек можно стрелять?
Полковник снова залился смехом.
— Конечно, можно, прапорщик, а как же! Появится неприятель, вот и постреляете. Обязательно постреляете.
— Но ведь ее разорвет при первом же выстреле! Это же очень старые пушки.
— Ну и что же, — хохотал полковник, — тем лучше. Если их до сих пор не разорвало, то можно быть спокойным, что и теперь не разорвет.
Едва дождавшись ухода полковника, солдаты бросились выкапывать пушки, много лет пробывшие в земле.
Откопали их целых двенадцать штук. Но в каком виде! Покрытые толстой корой грязи и ракушек, с забитыми землей и мусором жерлами, они казались навсегда окончившими свою службу. Казалось, что им никогда уже не красоваться на дубовых лафетах, никогда не посылать в неприятеля меткие ядра!
Но за три дня, работая день и ночь, солдаты очистили свои четыре пушки, остальные бережно сложили в сторонку.
Тем временем прибыли лафеты и зарядные ящики, и заиграли пушки хитрым узором, радуя взор и сердце каждого солдата.
Наконец-то батарея зажила настоящей военной жизнью.
Вскоре прислали пополнение. Стало на батарее всего двадцать восемь солдат.
— Считайте меня двадцать девятым! — сказал Ахлупин. — Все равно никуда я отсюда не уйду.
А затем появился и тридцатый — кондуктор с «Андии» Федор Рыбаков.
— Ежели подойдет неприятель, — заявил он, — то «Андии» моей конец: не затопят турки — сами затопим, чтобы от повреждений уберечь. После поднимем. А что мне без «Андии» делать? Буду с вами на батарее. Записывайте и меня в свой гарнизон.
Прапорщик охотно согласился. Теперь он действовал гораздо решительней, чем тогда, когда приходилось просить за Ахлупина. Щеголев стал настоящим «отцом-командиром», авторитет которого признавали даже старшие офицеры.
Глава четвертая
Из двадцати четырех солдат, присланных на Шестую батарею, только четверо оказались артиллеристами; остальные обращаться с пушками не умели.
Вот тут-то особенно помог Осип. Лучась морщинами, он подошел к прапорщику:
— Дай-кось я сам возьмусь за обученье.
Командир батареи разрешил. Началось ученье. Целый день на батарее только и слышалось:
— Заряжай!.. Наводи!..
Установленные пушки необходимо было испытать. Но разрешения на стрельбу прапорщик не получил.
— Нет пороху на такое дело, — ответили в штабе. — Да и ни к чему это. Пушки старые, испытанные.
С порохом действительно было очень плохо. Полковник Яновский обещал прислать полный боезапас, а прислал только половину обещанного, да и то строго предупредил, чтобы ни под каким видом пороху не трогали.
Чтобы хоть как-нибудь приблизить ученье к действительности, солдаты придумали заряжать пушки картузами с песком.
Прапорщик командовал, подбегали солдаты, проворно накатывали пушку. Указывал цель — подскакивал наводчик, присев, крутил подъемный винт, рукой показывал солдатам, куда занести хвост орудия.
— Заряжать! — Подбегал солдат с картузом, совал его в жерло, досылал банником, пыжевой вкладывал мочальный пыж, вкатывали ядро, прижимали и его пыжом. Минуты не проходило, а все уже было готово.
— Пли!
Солдат совал горящий пальник в затравку... и все начиналось сначала. А как хотелось и прапорщику, и солдатам, чтобы по этой команде бухнула пушка огнем, заклубилась пахучим дымом, с лязгом отскочила назад!..
* * *
В двадцатых числах из Херсона прибыл инженерный генерал-майор Лехман и стал наносить на карту планы будущих укреплений. Неделю спустя из Киева приехал еще один инженерный генерал-майор Баранцев.
Стали они вместе ездить по окрестностям, о чем-то спорить. Оказалось, генералы запланировали постройку таких укреплений, что не только ста тридцати тысяч — полумиллиона нехватит! Генерал Федоров, зная, что уже назначен новый командующий округом, готовился к отъезду и почти ни во что не вмешивался.
Вскоре прибыла резервная дивизия пятого пехотного корпуса во главе с генерал-майором Есауловым, который был назначен временно исполняющим обязанности командующего.
Была уже глубокая осень. Разыгрались жестокие штормы. Никакой корабль не рисковал выходить в море. Опасность появления неприятеля отодвинулась до весны.
Иногда по вечерам Щеголев оставался на батарее, и тогда после работы и ужина все солдаты, кроме часовых, собирались в бывшем матросском кубрике «Андии», превращенном теперь в казарму Шестой батареи. Приходил и Рыбаков, остававшийся вместо командира парохода.
На море ревел шторм, огромные волны накатывались на мол, «Андия» скрипела и дергала швартовы[4], лампы под потолком раскачивались. Но в теплой каюте было спокойно и уютно. Прапорщик рассказывал о военном прошлом России, о Суворове, Кутузове, Ушакове, вспоминал Петра Первого. В полутемной каюте перед затаившими дыхание слушателями вставали тени великих предков, гремели знаменитые битвы...
— Вот, братцы, — говорил прапорщик, — хоть наша батарейка и маленькая и по силам ничтожная, но долг наш — в бою показать, что и мы не последняя спица в колеснице. Помнить надо слова великого Суворова: «Воюют не числом, а уменьем».
— Не сомневайтесь, ваше благородие, — говорили солдаты, — настанет срок — покажем всем нашим неприятелям кузькину мать!..
О беседах стало известно начальству. Однажды прапорщика вызвал к себе полковник Яновский.
— Послушайте, прапорщик, что это за сборища у вас там происходят?
— Какие сборища? — не понял прапорщик.
— На пароходе по вечерам.
— А, вот что вы имеете в виду. Извините, господин полковник, что не понял вас сразу. Это не сборища, а я рассказываю солдатам о нашем прошлом, вдохновляю их на подвиг великими примерами...
— Видите ли... Я нисколько не сомневаюсь в том, что вы руководствуетесь в данном случае самыми лучшими стремлениями. Но все же это не к лицу офицеру. Подобное панибратство с солдатами может привести к ослаблению дисциплины! Желая вам добра, советую прекратить эти сборища. Приказываю прекратить!
— Слушаюсь, господин полковник!
— Вот, вот... Проживут ваши солдаты и без истории. Да и кто вам сказал, что солдату необходимо рассуждать и мыслить? Для этого у нас существуют офицеры.
В приемной Яновского Щеголев встретил Волошинова и рассказал ему о приказе полковника.
— Право, не пойму, что в этом плохого? — удивлялся прапорщик. — Ведь я рассказывал солдатам то, о чем пишется в книгах, а эти книги может купить всякий.
— Не будьте ребенком, Щеголев, — сморщился поручик. — Подумайте: разве Петрашевский, несомненно известный вам, как жителю Москвы, делал что-нибудь преступное? Тоже нет, а попали на каторгу и он сам, и его слушатели. Разве мало офицеров из его кружка были разжалованы в рядовые и сосланы на Кавказ. Попади вы не к Яновскому, а к Гангардту — не видать бы вам больше батареи. А Яновский просто выгородил вас. Он говорил, что вы самостоятельно еще не командовали, не привыкли еще к обращению с солдатами, что это, дескать, и его вина, так как он плохо присматривал за вами.
— Но ведь и Суворов беседовал с солдатами!..
— Так это же Суворов! — воскликнул поручик. — С Суворовым сам император ничего не мог поделать, а уж на что крутой был человек. Помните, что Павел сказал Суворову, отправляя его в Итальянский поход? «Воюй, — говорит, — как умеешь». Суворов — гигант. А вы что? Былинка — дунул и нету!
Вечером Щеголев поделился своими мыслями с Рыбаковым.
— Может быть, мне проводить эти беседы вместо вас? — спросил Рыбаков.
— Вам нельзя. Ведь вы — кондуктор, значит, тоже офицер.
— Тогда мы просто будем давать книжки батарейцам. Пусть себе читают. Кто у вас грамотный?
— Таких очень мало. Андрей Шульга, Емельян Морозка да, кажется, Никита Гацан. Вот и все.
— Маловато. Впрочем, на других батареях и этого нет. Там сплошь неграмотные. Но как бы то ни было, а вдохновлять солдат примерами героизма надобно. Да и любят они эти беседы!
Как-то днем в каютку на «Андии», где в это время находился Щеголев, прибежал караульный.
— Ваше благородие! К вам пришли какие-то люди.
Еще с палубы прапорщик увидел, как по молу, отворачиваясь от ветра и придерживая руками фуражки, быстро шли Деминитру и Скоробогатый.
Не здороваясь, они закричали:
— Важнейшее известие! Восемнадцатого дня адмирал Нахимов уничтожил турецкий флот.
— Неужели? — радостно воскликнул Щеголев. — Да правда ли это?
— Истинная! Утром сегодня пришел австрийский корабль и привез эти сведения. Битва произошла в турецкой бухте Синоп. Из всего турецкого флота спасся будто бы только один пароход, — перебивали друг друга студенты. — А Нахимов не потерял ни одного корабля!
Известие было таким радостным, что прапорщик боялся ему верить.
— Мы даже убежали из лицея, чтобы первыми сообщить вам эту новость.
Иностранные новости часто попадали в Одессу гораздо раньше через заграничные газеты, чем через русские столичные, которые шли из Санкт-Петербурга очень долго. Одесская городская газета нередко просто перепечатывала эти новости.
Так было и теперь. Два дня спустя Щеголев увидел австрийскую газету с подробным описанием боя. Все, что говорили студенты, оказалось верным.
Били в колокола, преосвященный Иннокентий правил молебен в честь русского оружия. Молились за августейшего императора Николая, нанесшего тяжкий урон супостату.
Вечером город был иллюминован.
Почти тотчас после австрийского корабля прибыл из Севастополя курьер от Меншикова с подтверждением и детальным описанием боя.
Послушать курьера в штабе собрались все офицеры. Появились и генералы. Инженерный генерал-майор Баранцев с сомнением качал головой.
— Эта победа может иметь для нас тяжелые последствия: она может вовлечь нас в войну с Англией и Францией... Не секрет, что эти державы держат свою соединенную ескадру в Константинополе, опасаясь высадки там нашего десанта. Теперь, с уничтожением турецкого флота, они могут предпринять активные действия против нас в Черном море. И тогда войны с ними не избежать.
Молодые офицеры возражали:
— Слабости показать мы ни в коем случае не можем. Турки нас давно задирают. Разве обстрел «Колхиды» или нападение на наши посты на Дунае не означали, что война фактически уже началась? Следует удивляться выдержке и долготерпению нашего государя, столько времени спускавшего все это.
— Нельзя было упускать возможности уничтожить вражескую эскадру. Нахимов поступил правильно, честь ему за это и слава!
Едва отзвонили колокола в честь Синопской победы, как город снова был обрадован известием о новых двух победах на Кавказе: 14-го ноября генерал Андронников с войском в 8000 человек совершенно уничтожил у Ахалцыха турецкий отряд в 20 000 человек. А 19-го, как раз на следующий день после Синопского боя, генерал Бебутов разгромил у Башкадыклара сильную турецкую армию и захватил всю ее артиллерию. Ликование было всеобщим.
— Синоп — Башкадыклар — победы-близнецы! — говорили в городе.
В начале декабря стало известно, что в скором времени прибудет новый командующий Одесским военным округом, бессарабский и херсонский губернатор барон Дмитрий Ерофеевич Остен-Сакен, боевой генерал, участник войны с Наполеоном.
В день его приезда на батарею к Щеголеву явился запыхавшийся Свидерский.
— Александр Петрович, — едва переводя дух, сказал он, — прибыл новый командующий... Уже осматривает батареи... Сейчас на Третьей... Скоро будет у вас. Я пришел предупредить вас об этом, чтобы вы успели приготовиться.
— У нас все готово, — улыбнулся прапорщик. — В любую минуту мы можем показать батарею кому угодно.
— Ну, как знаете, — обиделся адъютант. — Барон — человек строгий, придирчивый. Он и в погреб полезет, и в пушечное дуло заглянет.
— Очень хорошо. Пусть проверяет, как хочет.
Час спустя у въезда на мол появились две коляски. Часовой не пропустил их и вызвал Щеголева. Прибежавший прапорщик увидел незнакомого генерала, увешанного орденами. Котлетки-бакенбарды придавали его лицу особенно благообразное выражение.
Генерал расхаживал по берегу, заложив руки за спину. Увидев Щеголева, он подошел к нему, протянул руку и сказал:
— Командующий округом генерал-адъютант барон Остен-Сакен.
Прапорщик растерянно пожал руку. Он сам должен был рапортовать командующему, а тот сразу подал ему руку.
— Слышал о вашей батарее, — продолжал генерал, — с первого же шага хочу выразить удовлетворение правильно поставленной службой: часовой не испугался моих эполетов и не пропустил меня. Правильно сделал. Он же меня не знает!
Вместе с генералом Сакеном прибыли оба уже знакомых прапорщику инженерных генерал-майора и несколько других офицеров.
Все отправились на батарею. Генерал осматривал долго, беседовал с солдатами, сам провел ученье, хвалил проворство и ловкость в обращении с пушками.
Прапорщик просил разрешения произвести ученье со стрельбой, показал сарай, представлявший опасность для батареи.
— Обязательно, прапорщик, постреляете. Обязательно. Сам понимаю, — какое же ученье без стрельбы. И сарай снесем, — дайте срок. Все будет сделано. Запишите, адъютант, про сарай.
Холеный адъютант, капитан Богданович, изгибаясь в талии, немедленно выполнил приказ.
Прощаясь с батарейцами, генерал сказал:
— Спасибо, братцы, за службу! Честно исполняете долг свой. Верно служите своему отечеству и государю. — И в заключение пошутил: — Вот скоро будет у нас вдоволь пороху, тогда такую пальбу поднимем — всех чаек распугаем.
* * *
Зима вступила в свои права. Целый день над городом висели низкие тучи, по ночам мороз затейливым узором разрисовывал стекла. От ударов ветра вздрагивал дом.
Непривычной была для Щеголева такая зима: снега почти не было. Только изредка присыпало землю снежной крупой или выпадал снежок. Удивляли и неожиданные оттепели, наступавшие даже в те дни, когда в Москве особенно лютовали морозы.
На батарее целые дни скалывали лед. Особенно досаждали штормы. Волны, накатываясь на мол, превращали в сплошную ледяную стену мерлоны и амбразуры.
Ахлупин говорил:
— Наша батарея как настоящая ледяная крепость. Жалко даже лед скалывать... Никакое ядро не возьмет...
Накануне рождества новый командующий собрал артиллерийских офицеров и сообщил им радостную весть:
— Из Петербурга прибыло разрешение получить пушки в бендерском и киевском арсеналах. Необходимо послать двоих человек для приемки орудий.
Среди офицеров прошла волна оживления. Однако оказалось, что никто из них ехать не может: несмотря на штормы, казалось, исключавшие возможность появления с моря противника, генерал Сакен категорически запретил оставлять батареи без командиров. Положение казалось безвыходным. Но тут снова заговорил командующий:
— Два партикулярных чиновника из канцелярии градоначальника — господа Малевский и Станилевич, предложили нам свои услуги для поездки в Бендеры и Киев, сразу же заявив, что от всякого вознаграждения за эту услугу они отказываются.
— Предлагаю, господа, обсудить это предложение. Считаете ли вы, что господа Малевский и Станилевич, будучи соответственно подготовленными и проинструктированными вами, справятся с этой важнейшей задачей?
Мнение офицеров было таково, что при условии некоторой подготовки чиновники со своей задачей справятся.
Получив нужный инструктаж, Малевский и Станилевич, не теряя времени, отправились в путь.
Первым возвратился Станилевич. Он привез из Бендер 4 чугунных и 2 медных мортиры двухпудового калибра. При осмотре оказалось, что чугунные хороши, а медные устарели и использованы быть не могут.
Смущенного Станилевича успокаивали, говоря, что такой изъян даже опытный артиллерист может не заметить.
Малевский прибыл из Киева на неделю позднее и привез 12 орудий отменного качества. Кроме того, из Тирасполя прибыло 4 единорога.
Яновский сокрушался:
— Должны были получить пятьдесят шесть орудий, а получили только двадцать. Как же быть?
Посовещавшись, артиллеристы решили Центральную батарею пока не сооружать.
В центре и без того было сосредоточено достаточно батарей. Следовало позаботиться о флангах.
Наступившие морозы прекратили земляные работы: землю нужно было отогревать, а денег на топливо не было. Дальнейшие работы отложили на весну.
А в городе тем временем ползли упорные слухи о неизбежности войны с Англией и Францией и о том, что начнется эта война весной. Слухам верили мало (может быть, это только угрозы?), приписывая их распространение хлебным торговцам, имевшим большие запасы зерна.
Действительно, цены на пшеницу начали подниматься.
Щеголев стал замечать, что к Бодаревским часто приходят какие-то люди, по виду купцы. Их немедленно препровождали в кабинет, куда проплывала и хозяйка. Иногда через запертые двери слышалось:
— Так по рукам, что ли? — говорил посетитель.
— Нет, батюшка, — отвечал голос Марьи Антоновны, — обождем еще.
— Ждите... Только как бы не прождались.
Бодаревские ежедневно расспрашивали прапорщика о новостях. Больше всего интересовались, не объявлена ли война Англии и Франции, просили, чтобы немедленно предупредил, если что узнает.
Корнила Иванович часто куда-то исчезал из дому.
Однажды утром прапорщик увидел во дворе с десяток возов, на которые нагружали мешки пшеницы. Двери большого сарая были распахнуты настежь. Бегали, суетились дворовые, сгибаясь под тяжестью мешков. В стороне стоял рыжий, в красном сюртуке и зеленом жилете, худой англичанин с выпяченными, как у лошади, зубами.
Прапорщик догадался, что Бодаревские, наконец, продали хлеб.
...В порту стало твориться необычайное. Раньше на пристани сидело много грузчиков, ожидавших работы (какая работа по зимнему времени!), теперь же все были заняты. Грузчиков перехватывали один у другого, сманивая деньгами и харчами. Даже на базарах не было свободных людей — все работали в порту.
С батареи Щеголева хорошо было видно, какой корабль и чем грузится.
— Идет наша пшеничка-то, — говорил Осип, сидя на корточках на палубе «Андии» и посасывая коротенькую трубочку. — Этакое сокровище отдаем, и кому!.. Тем, кто, может, завтра на нас же войной пойдет. Обидно очень... Задержать бы их кораблики!
— Нельзя этого сделать, — отвечал прапорщик. — Война же не объявлена.
— Тогда надо запретить купцам продавать пшеничку.
— Как же им запретишь?.. Следовало бы, конечно, да как это сделать? Купец, что лиса, — всегда лазейку найдет в обход запрета.
— Да-а... — качал головой Осип. — Ежели у купца дело до наживы дойдет, то он родных мать-отца продаст, а свое не упустит!.. А правда ли, что наши купцы и поныне туркам хлеб продают?
— Говорят, будто есть такие мерзавцы...
— Нет на них креста... Арестовывать бы таких...
— Не найдешь! Они концы глубоко хоронят.
— Наверное, так оно и есть... И то нынче почем пшеничка-то пошла, почитай, никогда раньше таких цен не бывало... И думать надо, цены еще выше будут.
В городе все улицы были заполнены чумацкими валками с хлебом. А в порту, что ни день, то один, то другой корабль, до отказа нагруженный зерном, несмотря на непогоду, выходил из бухты, ставил побольше парусов и исчезал за горизонтом...
В первую неделю февраля утром, когда прапорщик направлялся на батарею, к нему подошел человек, похожий на купца, поклонился.
— К тебе, ваше благородие, дельце есть небольшое.
— Пожалуйста, говорите.
Купец, оглянувшись и понизив голос, спрашивал:
— А что, ваше благородие, каторжники-то у тебя еще работают?
— Нет, уже не работают. А зачем вам это знать нужно?
— Значит, нужно, раз спрашиваю. А ежели тебе понадобится для каких работ, так снова пришлют?
— Конечно, пришлют!
— И много ли людей прислать могут? — почему-то обрадовался купец.
— Сколько нужно, столько и пришлют... Не для себя же я прошу, — недоумевал прапорщик. — Да вам-то зачем это?
— Пригласил бы работничков-то, — сказал купец, не обращая внимания на вопрос Щеголева.
— Зачем же я их буду приглашать, если делать им здесь нечего?
— Насчет работки статья особая. Работку я им найду.
— Как это вы им работу найдете? Не понимаю.
— А очень просто. Приглашаешь работничков, значит, ты, а приходят они ко мне. Погрузят кораблик, а потом и свободны... И тебе благодарность, и работнички вот как довольны будут!
Прапорщик замер от негодования.
— Да как вы смеете?
— Эх, господин хороший, — почесал голову купец. — Видать, ничего у нас с тобой не получится. Прощевай пока. — Купец мотнул головой и быстро пошел обратной дорогой.
А дня три спустя караульный солдат сообщил прапорщику, что его хочет видеть какой-то барин, приехал в карете, дожидается у входа на мол.
Щеголев приказал пропустить посетителя к нему на «Андию».
Подъехала карета, с козел соскочил лакей, откинул подножку, распахнул дверцу. Из кареты вышел седобородый высокий господин в бобровой шубе и шапке, с недовольным видом поднялся по трапу. У входа в каюту его встретил Щеголев, пригласил войти. Посетитель приподнял шапку, протянул руку и представился.
— Хлеботорговец Козельский, Иван Степанович. К вам по приватному делу. Разрешите?
— Прошу присесть, — указал прапорщик на мягкий диванчик.
Посетитель с брезгливым видом оглянул каюту.
— Может быть, вы разрешите мне предложить вам лучшее место для нашей беседы.
— А чем же здесь плохо? — удивился прапорщик.
— Все же прошу вас разрешить мне самому выбрать место для беседы... Например, у Отона... Там есть премиленькие кабинетики.
— Странно, милостивый сударь. Вы являетесь по какому-то приватному делу ко мне и сами же настаиваете на выборе места для беседы.
— Уверяю вас, дорогой мой, что те кабинетики для задушевных бесед прекраснейшим местом являются. Учтите, даже вход совершенно отдельный. Буквально ни одна душа не узнает...
— Да мне нечего скрывать! — возразил прапорщик. — Кроме того, прошу помнить, что я на службе и ни в какой ресторан идти с вами не намерен.
— Ну ладно, что уж делать, — закряхтел помещик, расстегивая шубу и садясь — Мне бы очень хотелось, чтобы все, о чем я буду с вами говорить, осталось между нами... Строго между нами.
— Мне очень странно все это слышать...
— Хорошо... — Козельский сидел, как бы собираясь с мыслями. — Я буду с вами совершенно откровенен. Мне нужно, чтобы вы разрешили кораблям, на которые должен грузиться мой хлеб, пришвартоваться к молу, где размещена батарея. Всего только на две-три ночи... Повторяю: ночи, так как на день корабли будут снова отходить на рейд. Видите, я сам заинтересован в соблюдении абсолютной тайны.
— Да зачем вам мол понадобился? Разве пристаней мало?
— Мало, сударь, в том-то и беда, что мало. Все причалы заняты, мои корабли болтаются на рейде. Дорог каждый час, каждая минута... Именно сейчас промедление смерти подобно, как говорится в старинной пословице... Так вот, молодой человек! — перешел Козельский на покровительственный тон. — Если вы разрешите мне это, то я уплачу вам... — Козельский поперхнулся, увидев разъяренное лицо прапорщика, медленно поднимавшегося со своего места. Растерянно глядя на командира батареи, который в тот момент был действительно страшен, он вскочил.
— Что с вами, что с вами?
— Милостивый сударь! — сказал Щеголев сдавленным голосом. — В вашем предложении я усматриваю призыв к нарушению мною присяги...
— Позвольте, при чем тут присяга?.. — деланно удивился помещик. — Я просто...
— Прекратите, сударь! Я не только не буду способствовать вам, но всячески постараюсь воспрепятствовать вашим действиям, которые иначе, как изменнические, назвать не могу, ибо вижу в них попытку причинить ущерб моему отечеству. Прошу вас немедленно удалиться отсюда... О ваших предложениях буду вынужден немедленно сообщить по начальству!
— Пожалуйста, сделайте одолжение, — скривился помещик. — Хоть самому военному министру. Нового вы им ничего не сообщите. Желаю здравствовать!..
Козельский боком протиснулся в дверь, протопал по трапу. Послышался голос кучера и цоканье копыт.
— Ну, — сказал Щеголев вошедшему Рыбакову. — Каковы? Мне, офицеру армии российской, такое предложение делать! Обязательно сообщу по начальству.
Прапорщик долго не мог успокоиться. Он решил посетить Волошинова, поделиться с ним, но поручик сам появился на молу. Весело насвистывая и громко приветствуя вытянувшихся солдат, он быстро шел к пароходу.
Щеголев с возмущением рассказал о посетителе. Поручик только посмеивался.
— Отправили их всех к чертям?.. Ну и хорошо! А доносить по начальству не следует. Вам это совершенно не поможет. Этот хлеботорговец прав: ничего нового вы никому не сообщите, даже самому военному министру. А себе создадите репутацию «неудобного человека». — Он понизил голос — Ко мне тоже приходили. Кое-кто интересовался, достанут ли мои пушки до кораблей, которые из Практической гавани попытаются под Пересыпским берегом выйти в море. Понимаете, зачем это им знать нужно?.. На случай приказа не выпускать кораблей. Чтобы только с вашей батареей дело иметь!.. Одного ведь легче подкупить, чем двух! Ну, я их на этот счет успокоил! Они теперь уверены, что мои пушки достанут не только до Пересыпи, но чуть ли не до Лузановки! — засмеялся поручик. И опять серьезно сказал: — А войны с великими державами нам не миновать. И даже в самом скором времени!
* * *
К вечеру, когда на батарее были окончены уже все работы, Осип Ахлупин обычно уходил домой. Однажды его пошел проводить Андрей Шульга, с которым особенно сдружился Осип.
Возле освещенного кабачка приятелей остановил радостный возглас:
— Эй, Осип!
К ним подошел коренастый мужчина, в котором Осип сразу узнал Луиджи Мокки, владельца спасательного бота. Лет тридцать назад, покинув свою далекую Италию, Луиджи приехал в Одессу и стал работать матросом спасательной шлюпки. Большое мужество и находчивость молодого итальянца помогли ему стать боцманом, а потом и владельцем небольшого судна. От своей рискованной работы по спасению людей и груза в разбушевавшемся море Луиджи получал немалый доход. При встрече с ним многие кланялись первыми, особенно же низко кланялись те, кто был обязан ему своей жизнью. С Ахлупиным его связывали самые дружеские чувства.
— Здравствуй, Осип, — говорил тем временем Луиджи. — Как поживаешь, дружище?
— Вот солдатом снова стал, — отвечал Ахлупин. — Числюсь фейерверкером на Шестой батарее.
Ахлупин представил Луиджи Андрея Шульгу.
— Весьма польщен приятным знакомством с господином унтер-офицером, — запел итальянец. — Разрешите отметить нашу встречу...
И, взяв под руки Осипа и Шульгу, Луиджи направился к кабачку.
— Благодарствуем, мы... — начал, было, Шульга. Но Мокки не дал ему докончить.
— О нет, о нет! — воскликнул он. — Вы не захотите меня обидеть...
В кабачке, сидя за столиком, все трое оживленно беседовали о войне, об обороне города... Ахлупин рассказывал о своей Шестой батарее, хвалил ее командира. Постепенно в разговор втянулись и другие посетители.
Только один человек, сидевший за соседним столиком, угрюмо молчал. Шульга уже давно обратил внимание на него. Длинный, очень худой, с выдающимися скулами и горящими глазами, он пил вино, ничем не закусывая. Это был всем известный пан Сабанский, дальний родственник крупного помещика Сабанского, замешанного в одном из польских заговоров. Его имение было конфисковано, а огромные амбары, помещавшиеся в Одессе недалеко от Суворовской крепости, превращены в казармы, — они так и назывались Сабанскими. И это особенно раздражало Сабанского.
Его фанатичная ненависть к русским была всем известна. Сейчас, под влиянием бушевавшей в нем злобы и выпитого вина, она прорвалась наружу:
— Пся крев! — вдруг закричал, ударив кулаком по столу, Сабанский. — Hex сгине ваш Щеголев разом с его батареей!
— Пан Сабанский! — воскликнул Мокки. — Как вы смеете...
— Это оскорбление!.. — глухо проговорил Шульга, вставая.
— Пся крев! — прервал его Сабанский.
— Цыц! — раздался вдруг густой бас, и из темноты выдвинулся плотный человек с широченными плечами. Это был известный далеко за пределами Одесского порта силач — грузчик Христо.
— Немало переносил я всякого дерьма, — прогудел он, пробираясь к Сабанскому, — вынесу и эту дрянь...
Но Сабанский не стал дожидаться Христо.
— Лайдак!.. Быдло!.. Хлоп!.. — визгливо крикнул он и мгновенно выбежал.
Вслед ему грохнул дружный хохот.
— Вот собака!.. — сказал Шульга.
— Видать, что не русской крови, — заметил кто-то.
— Что там кровь, — возразил Шульга. — Я знаю поляков, которые совсем не похожи на этого.
— Правильно! — воскликнул взволнованно Луиджи. — Я вот тоже... — он на мгновенье замолчал, видимо подыскивая наиболее подходящее слово, — я тоже не был русским. Но теперь Россия — мое второе отечество! Ничего мне для него не жалко. Деньги у меня есть, целую батарею мог бы построить.
— Так чего же ты медлишь? — спросил Христо.
Шульга вспомнил рассказ прапорщика о том, что из-за отсутствия средств не оборудуется Центральная батарея.
— Это было бы замечательно. Вы бы поговорили с генералом. Или с нашим командиром, — он-то уж посоветует.
Глаза Луиджи загорелись.
— Так вы думаете, разрешат?! Ведь это же для пользы отечества! Должны разрешить. А ежели будет разрешение, значит, будет и батарея.
* * *
На следующий день утром Щеголев, как всегда, вышел в столовую. Обычно в это время его уже ожидал завтрак.
На этот раз стол был пуст, даже без скатерти. Прапорщик удивился. Агафья всегда такая аккуратная, уж не случилось ли чего! Он надел шинель и вышел. Во дворе было тихо и пустынно. Одна Агафья яростно орудовала метлой. Увидя прапорщика, она всплеснула руками.
— Господи!.. Да неужто вам пора идти? А я, дура старая, за уборкой этой и времени не заметила. Подождите минутку, сделайте милость! Я сейчас самоварчик раздую.
— Не нужно, Агафьюшка. Я на батарее чайку попью. Скажи мне лучше, отчего это тишина всюду такая, никого не видно. И двор ты сама убираешь. Уж не провинилась ли в чем перед Марьей Антоновной?
— Нет, бог миловал, не провинилась. А убираю потому, что больше некому, — все в порт погнаны, корабли грузить.
— Какие корабли?.. С чего это дворовым корабли грузить?
— Вчерась вечером, явился какой-то купец, поговорил с барыней... И с вечера же всех и забрали... Мишку-казачка и того погнали, а он же дите еще малое... Только вот я, Фекла-стряпуха да сторож и остались.
«И Бодаревские такие же шкуры, как те купцы», — с горечью подумал прапорщик.
В порту было тесно и шумно. Скрипели возы, люди бегали с мешками на корабли, порожнем обратно.
— Мать ты моя, что делается! — удивлялся Осип. — Никогда такого в порту еще не было.
— Торопятся, — говорил Рыбаков, — ждут!.. Эх, штормик бы сейчас, кораблики задержать.
Но погода стояла ясная и тихая.
Уходя вечером с батареи, прапорщик собрал весь гарнизон и сказал:
— Старшим на время моего отсутствия остается кондуктор Рыбаков, а за ним Ахлупин!
В штабе, куда прапорщик зашел за новостями, толком никто ничего не знал.
Задолго до рассвета прапорщика разбудил какой-то шум в доме: хлопали двери, слышались торопливые шаги и тревожные голоса. Прапорщик выглянул из комнаты и в коридоре заметил Ваню.
— Маменьке плохо, — сказал мальчик.
— Что с ней? — встревожился Щеголев.
— Расстроились очень. Дворовые наши вернулись из порта, рассказывают, что иностранные корабли в гавани задержаны... Войну объявили. Маменька пшеничку не всю продали, а теперь вывозить хлеб запрещено. Маменька и заболели. Уже за лекарем послали.
Через несколько минут прапорщик был на батарее. В предутренней тишине при свете горящих пальников серьезно глядели лица солдат, грозно темнели пушки. Зарядные ящики стояли раскрыты.
Батарея была в полной боевой готовности. Но из штаба никаких сообщений не поступало. Только на рассвете к Щеголеву прибежал запыхавшийся посыльный.
— Извольте принять пакет, ваше благородие. Был у вас дома, ваше благородие, сказали, что вы здесь, вот и прибежал...
Прапорщик схватил пакет, одним движением вскрыл его. Это был приказ, запрещающий кораблям выходить из гавани.
— Наконец-то!— сказал Щеголев. — Жаль, что поздно наши спохватились. Многие ночью ушли.
С утра на батарее стало появляться высокое начальство. Прибыл даже генерал Сакен. Осмотрел батарею, остался доволен.
— Ваша и Третья батареи находятся в прекрасном состоянии. Вижу, что оба командира достойны высокого звания русского офицера.
Походил возле пушек, осеняя каждую крестным знаменьем, и уехал.
— Ну, зарядил генерал пушки святостью, — пошутил кто-то из солдат, — теперь не бойся!
От адъютантов прапорщик узнал, что поздно вечером фельдъегерь[5] привез царский манифест о разрыве дипломатических отношений с Англией и Францией, а также приказ о наложении эмбарго[6] на суда, принадлежащие этим державам.
Хотя разрыв дипломатических отношений еще не означал войны, но в городе это было воспринято именно так.
На улицах появилось множество военных — шли на Бессарабию войска. Местное население окружало их вниманием и заботой. За отсутствием казарм, командование размещало солдат и офицеров по квартирам. Хозяева, особенно те, кто попроще, встречали их радушно и гостеприимно.
— Как же, — говорили, — не поделиться с солдатиками? Чем богаты, тем и рады. Ведь они защитники наши! На них вся надежда!
В порту сразу стало тихо. Толпы грузчиков целыми днями сидели на пристанях, ожидая работы, а ее не было. Поговаривали, что в скором времени все запасы зерна будут из Одессы вывезены из опасения, что они могут попасть в руки неприятеля, если тому удастся высадиться и занять город. Жизнь с каждым днем становилась трудней. Многие шлю работать к Сакену только за харчи.
А в домах богачей каждый день играла музыка, в ярко освещенные окна видно было, как кружились пары, слышались пьяные крики. Каждый день кто-нибудь давал бал, стараясь во всем превзойти своих предшественников.
Озлобленно глядели простолюдины на эти дома, на проносившихся рысаков, на десятки экипажей, стоявших по ночам у подъездов.
— Да что же это, братцы? Нашествие неприятеля отечеству угрожает, а они!..
По улицам ловили шпионов. Достаточно было заговорить по-французски — тотчас же схватят и отведут в часть, намяв по дороге бока. Правда, проверив, задержанных сейчас же отпускали, но народ продолжал видеть шпионов в каждом, кто говорил не по-русски.
Мальчишки, стараясь перекричать друг друга, орали:
— Вот в воинственном азарте Лорд британский Пальмерстон Поражает Русь на карте Указательным перстом!В двадцатых числах февраля в Одессу прибыл артиллерийский полковник Мещерский. С его прибытием в городе сразу же была устроена мастерская по изготовлению пушечных лафетов, станков, зарядных ящиков и платформ.
Едва началась весна, как слухи один вздорнее другого поползли по городу. Непонятно было, откуда они брались, если иностранные корабли в Одессу больше не приходили. Говорили, будто в Константинополе был страшный пожар, будто народ поднялся против союзников, прогнал их и требует от султана замирения с Россией.
Не успел смолкнуть этот слух, как возник новый: война скоро должна кончиться, так как в Европе без русского хлеба голод, люди мрут на улицах.
Марья Антоновна радовалась:
— Вот видишь, — говорила она мужу. — Может, и к лучшему, что пшеничку не всю продали. Дай срок, дороже продадим!
Корнила Иванович отмалчивался.
Но, несмотря на эти слухи, некоторые из жителей побогаче снимали дома от моря подальше — на Молдаванке, в Романовской Слободке. Некоторые уезжали из города. Каждое утро скрипели груженные доверху возы, направляясь, большей частью, на Вознесенск.
— Удирают баре-то! — говорил простой народ. — Нет того в мыслях, чтобы защищаться... Как крысы с гибнущего корабля бегут... Ан нет, наш корабль не погибнет! Где же это видано, чтобы русский город супостату отдать!
Говорили, что на барские обозы где-то за городом наскакивают неизвестные люди и разбивают их. Грабить будто не грабят, но все ломают и бьют. Стали владельцы посылать с возами побольше дворовых, даже с ружьями... Только и это мало помогало: по прежнему то один, то другой обоз оказывался разбитым неизвестными.
Владельцы просили градоначальника дать для охраны солдат, тот разводил руками:
— Ничего не могу поделать. Нет у меня солдат для такого дела... И чего вы, право, волнуетесь? Сидели бы дома, и вещи ваши были бы целы. А так и вам неприятность и мне.
Вскоре по городу разнесся новый слух, будто у одесских банкиров по приказу из Лондона открыт текущий счет для офицеров эскадры вице-адмирала Дундаса, пока еще спокойно стоящей в Константинополе и Варне.
Толпы народа собирались на улицах, кричали:
— Вот до чего дошли!.. Изменники! Христопродавцы! Погодите, откроем вам счет!.. И Дундасу и вам вместе с ним!..
Иногда толпа порывалась идти в богатые кварталы бить окна и громить магазины, принадлежавшие богачам. Тогда на улицах раздавались полицейские свистки, цокали по камням копыта казачьих коней; налетали казаки, нагайками разгоняли крикунов. Полиция тут же хватала их и тащила в часть.
— Гляди, как нашего брата ловят, — говорил потом простой народ. — Небось, если бы так воров ловили, то давно бы уже всех выловили.
В начале марта из Тирасполя прибыло еще шесть единорогов однопудового калибра. Сакен собрал экстренное совещание артиллеристов. Полковник Яновский изложил окончательный план защиты города.
Оказалось, что для Центральной батареи пушек достаточно тяжелого калибра нет, от этой батареи решили отказаться. Таким образом, схема расположения батарей стала выглядеть так:
Первая батарея располагалась перед стеной Чумного квартала на высоком косогоре, возле дачи графини Ланжерон. Командир — поручик Винокуров, вооружение — 6 мортир двухпудового калибра и два тираспольских единорога.
Вторая батарея — у основания Карантинного мола, на насыпи из балласта; командир — прапорщик Артамонов, вооружение — 6 пушек двадцатичетырехфунтового калибра.
Четвертая — у основания лестницы под бульваром; командир — прапорщик Крылов; вооружение — 8 единорогов однопудового калибра.
Пятая — у дворца графа Воронцова; командир — прапорщик Андрюцкий; вооружение — 6 двадцатичетырехфунтовых пушек.
Третья и Шестая батареи оставались без изменений.
Окончание работ на батареях было назначено на середину марта.
Только Вторая батарея, к строительству которой еще не приступали, должна была стать в строй несколько позднее — в двадцатых числах марта.
Вторую батарею решили строить на куче балласта, лежавшей у основания Карантинного мола: и место удобное и во времени экономия — здесь не надо было производить больших земляных работ.
Но, на беду, куча находилась на территории Карантина, обнесенного высокой стеной. Когда прапорщик Артамонов явился, чтобы произвести распланировку батареи, его внутрь ограды не пропустили.
Начальник Карантина только разводил руками:
— Ничего не могу сделать. Не смею нарушить закон, по которому вся территория внутри ограды считается зараженной.
Как с ним ни бились — ничего не помогало. Командующий уже вызывал начальника к себе. «Не смею», — говорит, и все! Прямо хоть бери Карантин штурмом!
Наконец, начальник согласился пропустить внутрь работных людей— арестантов, но выставил одно условие...
— Подумайте только! — гневно говорил генерал Есаулов. — Он прислал письмо, где пишет, что может допустить арестантов к работам внутри Карантина только при условии, что те отбудут двухнедельный карантин! Я сейчас сам поговорю с ним!
И генерал тотчас же отправился к Карантину.
Высокие железные ворота были заперты наглухо, нигде на стенах не было видно ни души. Генерал молча вылез из коляски, подошел к воротам.
Изнутри, очевидно, наблюдали за ним, так как тотчас же в воротах открылось окошечко и в нем появилось лицо офицера.
— Где начальник Карантина? — спросил Есаулов, едва сдерживая себя. — Вызовите его ко мне.
Голова скрылась. Вскоре послышались торопливые шаги и в окошечко высунулась голова начальника Карантина.
— Чем могу служить вашему превосходительству?
— Вот вы, господин начальник, — подошел Есаулов к воротам, — написали нам, что можете допустить людей к работам только после двухнедельного карантина.
— Так точно-с, — подтвердил начальник.
— А понимаете ли вы, что делаете?
— Все согласно инструкции. На сей счет у нас строго: все действия наши производятся согласно приказов и инструкций!
— Вот что, милостивый сударь! — сдавленным голосом произнес Есаулов, близко подходя к окошечку. — Перестаньте отговариваться разными приказами и инструкциями. Вы прекрасно знаете, что на насыпи внутри Карантина должна быть построена батарея. Имейте в виду, что всякую преднамеренную задержку вроде вот сей, я буду рассматривать как умышленное действие, направленное во вред армии, и поступлю тоже согласно законов военного времени, предусматривающих такие случаи!
— Но, ваше превосходительство... — испуганно залепетал начальник, — ведь в этой куче может быть страшная зараза...
— Самая страшная зараза — это люди, подобные вам! — загремел генерал. — Что же касается этой кучи, то, находясь столько лет на ветру и солнце, она не может содержать заразы! Медики мне выдали письменное свидетельство об этом. Будете противиться — прикажу арестовать, и судить!..
— Но ведь зараза... Эпидемия...
— Я же говорил, что у меня есть письменное свидетельство медиков!
— А... можете вы показать его мне?
— Не только показать, но и совсем отдать, чтобы вы могли подшить его к делу!.. Открывай ворота!
— Я что же... я ничего... — лепетал начальник. — Только бумагу извольте мне сразу...
— Чернильная твоя душа! Адъютант, передайте ему бумагу!
Адъютант выхватил из портфеля свидетельство и передал его в окошко. Наступила тишина. Вероятно, начальник читал бумагу.
Затем ржавые ворота заскрипели и стали медленно раскрываться.
Щеголев, в числе других офицеров присутствовавший при этом, улучил минутку и подошел к генералу.
— Вот бы, ваше превосходительство, еще одну крепость взять.
— Это какую же еще одну? — всем корпусом повернулся к нему генерал.
— Да сарай около моей батареи снести надобно... Я вам уже докладывал...
Вопрос с сараем до сих пор не был решен. Владелец его находился в Англии, а без него никто не мог дать разрешения на снос этого сарая.
— А-а, помню, помню... — сказал генерал. — Пожалуй, теперь время и о сарае подумать. Дайте только отдышаться.
Пока что на батарею Щеголева прислали мешки — восемь тысяч штук! Огромной кучей свалили возле стенки сарая.
— Мы постепенно заберем их от вас, — говорил прапорщику полковник Яновский. — Будем насыпать землей и делать укрепления или чинить разрушенные.
Во второй половине марта к большой радости Щеголева и всех солдат Шестой батареи им прислали дополнительный запас пороху. Прапорщик снова заговорил о разрешении на стрельбу.
— И думать не смейте! — запретил Яновский. — Палить будем вместе, когда все батареи закончим.
А работы на батареях велись очень медленно.
Еще 12-го марта генерал Сакен заявил в городской думе, что прекращает оборонительные работы ввиду отсутствия средств на наем подвод.
На следующий день к генералу Федорову, назначенному градоначальником, явились старосты двух артелей извозчиков-биндюжников и передали письмо от всего цеха. В письме говорилось:
«Усматривая заботливость Правительства в устроении на берегу моря артиллерийских батарей, без сомнения, на всякий случай к защите города нашего от покушения противника предположенных, мы, поговоривши между своими товарищами, изъявляем единогласно услугу свою, выставляем для сей надобности в течение 10 дней по 65 лошадей с повозками.
А потому покорно просим Ваше Высокоблагородие о сем нашем душевном желании довести до сведения Исполняющего Должность Новороссийского и Бессарабского Генерал-Губернатора, и если будет принято сие в резон, то во всякое время мы готовы исполнить в точности приказание.
Биржевые старосты Никита Плакунов, Матвей Андрунин».Генерал Федоров был очень тронут.
— Вот как отзываются на беду истинно русские люди! — говорил он. — Что имеют, то и дают! Да ежели бы купцы наши и высшее дворянство вот так-то по крошке от себя оторвали, разве нужно было бы хоть о чем-нибудь тужить?.. Не шесть стояло бы батарей, а двадцать шесть!
Тем временем появились признаки того, что на Одессу действительно надвигается гроза: стало известно, что британский консул Иемс и французский — де Вуазен покинули город.
Это известие весьма встревожило генерала Сакена. По его приказу был срочно составлен план эвакуации Одессы на случай появления больших сил неприятеля.
Вывозу подлежали: банки, казначейство, важные государственные учреждения по особому списку, а также институт благородных девиц, богоугодные и иные заведения.
Хотели, было, внести в список лицей и гимназию, но ученики, узнав об этом, запротестовали:
— Что же это? Неужели нас за русских не считают? Мы не маменькины сынки, чтобы в момент опасности для нашего отечества подальше удирать! Попытаетесь вывезти — все равно с дороги убежим.
Приказ о вывозе лицея и гимназии был пока отменен.
Подошло двадцатое марта, а батареи еще не были закончены. Подвод извозчиков-доброхотов оказалось мало.
Тогда генерал Сакен совместно с градоначальником и новым военным генерал-губернатором генерал-лейтенантом Крузенштерном решились на крайнюю меру: «...Все имеющиеся в городе грузовые повозки с лошадьми для несения извозной службы забрать на столько времени, сколько потребуется на усмотрение Военного Начальника. В качестве работных людей взять всех беспаспортных и иных, между двор шатающихся...»
С помощью этих решительных мер батареи, наконец, были закончены. Неожиданно появилась возможность решить вопрос и о Центральной батарее. Случилось это так.
Однажды генерал Сакен получил от одного из жителей, итальянца по происхождению, принявшего православие, Луиджи-Осипа Мокки прошение о предоставлении ему права за собственный счет устроить батарею, купить пушки и нанять артиллерийскую прислугу.
«...Как мое новое отечество в беде оказывается, то почел за долг свой ему на помощь прийтить в устроении за собственный счет батареи, — писал Луиджи. — Особливо приятно мне, что, ежели разрешат Начальства, батарея сия противу старинных недругов моего отечества действовать будет...»
— Вот, изволите видеть, кто сей муж? — потрясая письмом, говорил Сакен. — Человек простого звания, из самых низов выбившийся. Что ему в горе нашем? Он мог бы сидеть в сторонке, конца войны дожидая. Но нашим толстосумам в пример сего итальянца ставить приходится!
Решено было просить разрешения поручить Луиджи оборудование Центральной батареи.
Однажды к Щеголеву на батарею явилось несколько человек во главе с Луиджи-Осипом Мокки. Низко поклонившись, Луиджи объяснил, что пришел просить прапорщика обучить нанятых им людей обращенью с пушками.
— Не сомневаюсь, что государь разрешит мне устроение батареи. Не желая терять времени, я прошу ваше благородие обучить меня и моих людей искусству меткой стрельбы из пушек.
Прапорщик колебался: как все-таки без разрешения начальства обучать посторонних военному делу! Выручил Ахлупин, старый приятель Луиджи.
— А вы дозвольте, ваше благородие, пушечку выкатить на бережок. Я там их и поучу, а после тихонько орудие назад прикатим.
Щеголев разрешил, и Ахлупин, не откладывая, начал ученье.
* * *
Весна была в разгаре. Глядя на синее, без облачка небо, тихую голубизну моря, деревья в пене цветов, на свежую травку, Щеголев дивился красоте и богатству южной природы.
«У нас в Москве, — думал он, идя на батарею, — едва на санях ездить перестали, а тут впору купаться пойти».
У входа на мол рядом с часовым сидела на камне бедно одетая женщина. Когда прапорщик проходил мимо, она встала и низко поклонилась. Щеголев ответил, скользнул взглядом по лицу и хотел уже пройти мимо, но, заметив в лице женщины что-то знакомое, остановился.
— Вы ко мне?
— Нет, батюшка-барин, ваше благородие, — снова поклонилась женщина, — это я так сижу здесь, сыночков своих жду.
— А где они?
— У вас на батарее, рыбку ловят.
Как только стала позволять погода, на батарею к Щеголеву приходило много таких рыбаков — мальчишек, которые когда-то помогали ему искать ядра.
— Да чего тебе ждать их — наловят и придут.
— Ох, батюшка, кабы наловили-то...
— А как звать ребятишек?
— Да Петюшка с Гаврюшкой.
— А-а-а, этих знаю. Они наловят, обязательно наловят!
— Спасибо вам, барин, на ласковом слове. Только то и едим, что наловят. Больше ничего нет. Мой-то на масляной помер... — всхлипнула женщина. — А ребятишки-то малы еще...
Тут только Щеголев узнал женщину. Это у нее он пил воду, когда ходил в крепость за ядрами.
— Говорю, что наловят, — утешал Щеголев женщину. — Будет на уху!
Ваня, который шел вместе с прапорщиком, чтобы тоже поудить рыбу, молча слушал этот разговор. Проходя мимо «Андии», Щеголев остановился:
— Беги-ка, дружок, на пароход. Там матросы рыбу часто ловят. Спроси, не продает ли кто. Бери вот гривенник.
— А зачем вам? — удивился мальчик.
— Да детишкам этой женщины, что сейчас встретили, дать.
— Но ведь вы же сами сказали, что они обязательно наловят?
— Какое там, — отмахнулся Щеголев. — Это такие малыши. Принесешь рыбки — вот они ее и поймают.
Ваня понял и засмеялся.
— А почему бы вам сразу не дать ей деньги?
— Сразу дать — не всякий возьмет, подумает — милостыня... Этак и человека обидеть недолго. А так вроде дети сами добыли. Вот и матери приятно.
— Но ведь они скажут ей.
— Скажут потом, а пока будет ей удовольствие. Вообще, дружок, старайся делать добро так, чтобы люди не знали, что это ты его делаешь. Добро — только наполовину добро, ежели ты за него благодарность получаешь...
— А если у матросов рыбы нет?
— Тогда найдешь моего каптенармуса-кладовщика, скажешь, что я велел набрать остатков сухарей фунта три и отнести их женщине. Беги, Ванюшка! А удочку дай я понесу.
Появление на батарее прапорщика с удочкой в руках вызвало у ребят взрыв шумного восторга. Маленькие рыболовы сидели вдоль края мола тесным рядом: места на батарее было мало, а рыболовов много.
— К нам, ваше благородие, к нам! — закричали они, стараясь потесниться.
Но прапорщик только приветливо помахал рукой.
— Возьми-ка, Андрей, удочку, поуди, что ли, пока Ваня прийдет, — сказал он унтер-офицеру Шульге.
Тот широко улыбнулся, взял удочку и важно уселся на мол рядом с ребятами. Медленно достал из коробочки, привязанной к удочке, червяка и наживил его на крючок. Мальчики, затаив дыхание, смотрели на роскошную удочку — бамбуковое удилище, настоящие крючки, леску из конского волоса, пестрый поплавок. Шульга расправил пышные усы, кашлянул и далеко забросил удочку.
— Ловись, рыбка, большая и маленькая, — сказал он и сразу застыл с удочкой в руке. Постепенно и все рыболовы вернулись к своим занятиям. Так продолжалось минут десять, потом вдруг Шульга крякнул и вытащил удочку. На крючке бился крупный бычок.
— Ай да дяденька Андрей! — ахнули ребята. — Мы за цельный день такого не словим, а он!
То ли действительно удочка у Шульги была лучше, или просто солдату повезло, но через некоторое время возле него лежало уже порядочно бычков. Шульга радовался, как ребенок.
— Ишь ты, — хохотал он, вытаскивая очередного бычка, — какой красивый!
И ребята были вполне согласны, что бычок действительно красивый. Голос прапорщика возвратил Шульгу к действительности:
— Ну что, Андрей, всю рыбу из моря повыловил или еще осталось?
— Трошки осталось, — усмехнулся Шульга.
— Ну тогда пусть живет. Кончай ловлю, дело к тебе есть.
— Есть кончать! — гаркнул Шульга, вскочив и передавая подбежавшему Ване удочку. — А какое дело, ваше благородие?
— Капитан «Андии» просит прислать ему человека помочь механику разобрать машину. Ты с машиной хоть немного знаком?
— Так точно! Трошки...
— Вот и хорошо. Возьми с собой кого-нибудь еще по своему выбору.
— Ежели разрешите, ваше благородие, так я возьму с собой... — он призадумался.
— Гляди, выбирай, кто побашковитей.
— Да вроде на нашей батарее дураков-то и нет, — вставил слово Осип.
— А возьму я с собой Москаленко.
— А ты раньше-то с машинами дело имел? — вдруг прищурился на него Ахлупин.
Шульга замялся.
— А при чем тут «раньше»? Ну, пока еще не приходилось.
— Как же ты берешься? — удивился прапорщик.
— Выучусь, ваше благородие! Вот из пушек вражеские корабли топить тоже еще не приходилось, а как появятся — так и потоплю!
— Ладно, — улыбнулся прапорщик. — Ступай. Чтобы сегодня же все закончить. Да будьте внимательны: машина ведь — не напороть бы чего.
— Никак нет, ваше благородие, не сомневайтесь. — И попросил: — Дозвольте только улов распределить, ребяткам рыбку свою отдам.
Он стал заглядывать в коробки мальчишек, подкладывая в них рыбу. По просьбе Щеголева несколько штук он положил в коробочку Петюшки.
В обеденный перерыв появился командир Второй батареи прапорщик Артамонов. Он давно не был у Щеголева и теперь рассматривал все с особенным любопытством.
— И как это у вас все так хорошо получается, — говорил он, когда Щеголев показал ему ученье. — Недаром в штабе ваша батарея на таком хорошем счету. Не откажите, поделитесь секретом, почему так.
— Извольте, с превеликим удовольствием, — любезно ответил Щеголев, приглашая гостя присесть возле пушки. — Секрет, полагаю, в том, что в жизни своей неукоснительно следую заветам, полученным мною от одного человека, коего я умнейшим среди многих почитаю...
— Кто же этот человек? — не удержался Артамонов. — Где он проживает?
— Зовут его Константин Дмитриевич Ушинский. Он закончил Московский университет по юриспруденции, несколько лет служил педагогом в Ярославле, а где нынче — не знаю. Слыхал, будто бы в Питере, но за достоверность не ручаюсь. Встречался я с господином Ушинским неоднократно, а познакомился с ним на одной лекции профессора Грановского.
— Известный прогрессист? — спросил Артамонов.
— Он самый. Так вот однажды он пригласил меня к себе. А он, надобно вам сказать, жил весьма небогато, даже скорее бедно. Очень трудно ему приходилось. Страдал он за идею в самом полном смысле этого слова... А со мной как-то сдружился и поделился своими мыслями.
Прапорщик вынул из кармана старенькую записную книжку, отыскал в ней нужное место и прочел:
«Правила, коими пользоваться в жизни надлежит.
1. Быть решительным, последовательным и прямым в словах и поступках;
2. Серьезно обдумывать все свои действия;
3. Не проводить время бессознательно;
4. Делать все по заранее обдуманному плану, а не то, что случайно подвернется под руку».
— Да-а-а, — вздохнул Артамонов, когда Щеголев кончил чтение, — по таким правилам жить — от начальства неприятностей не оберешься. Неудивительно, что вашему Ушинскому в жизни так тяжело приходится. Быть прямым в словах! Попробуйте быть у нас прямым в словах — прямую дорожку в места не весьма близкие наладят!.. А знакомец ваш действительно человек незаурядный. Разрешите и мне переписать правила эти.
Глава пятая
Двадцать седьмого марта Щеголев проснулся как-то внезапно. Было еще совсем рано. Его что-то разбудило, но что — понять не мог. Недоумевая, прапорщик посидел несколько мгновений на постели и уже собрался снова лечь, как вдруг дом вздрогнул от глухого далекого удара.
Бу-ум! — донесся раскат. И в ответ ему отозвались стекла — дзинь!..
Не помня себя, опрокинув ночной столик, Щеголев кинулся одеваться. Одевая на ходу шинель, он выбежал на улицу и помчался к морю.
Когда Щеголев, запыхавшись, прибежал на батарею, там уже все было в боевом порядке. Строго глядя из-под косматых бровей, Осип докладывал:
— Вот, значится, тому с полчасика показался из тумана корабль паровой. Без флага... Стал подходить к Третьей, а она возьми и пужанн его из пушек двумя выстрелами, видать, холостыми.
Пароход поднял английский флаг и остановился. В трубу удалось прочесть название «Фуриус» — «Ужасный». Из газет было известно, что это корабль, имеющий машину в пятьсот лошадиных сил. На его палубе стояло восемнадцать бомбических орудий калибра 68 и 96 фунтов.
Через некоторое время Щеголев увидел, как от борта парохода отчалила шлюпка под белым флагом и быстро пошла к берегу.
Ей навстречу вышла наша шлюпка и повела гостью к берегу подальше от батареи.
— Молодцы! — сказал прапорщик. — Правильно делают, что пришельцев близко к батарее не подпускают, — секреты наши берегут.
Время шло, а известий не поступало.
И вдруг на батарее заметили нечто странное: английский пароход постепенно стал заходить в бухту, словно ветерком его заносило, хотя стоял мертвый штиль!
В это время на батарею пришел прапорщик Андрюцкий.
— Оказывается, пароход пожаловал за союзными консулами. Заберет их и уйдет, — сказал он.
— Как же так? — удивился прапорщик. — Ведь консулы еще когда уехали. Теперь они уже должны быть в Австрии. Неужто об их выезде правительствам их неизвестно, что пароход сюда выслали?.. Странно как-то!
— Разведчик! — сквозь зубы процедил Рыбаков. — Глядите, Александр Петрович, — высмотрит он, что нужно, а потом и бомбами угостит!
— Ну нет, — сказал прапорщик. — Целым он от нас не уйдет!
Снова стали глядеть в трубы. Вдруг из-за Карантинного мола вышла английская шлюпка. На этот раз она шла очень медленно, будто сразу на ней разучились грести.
— Глядите на пароход! — закричал вдруг Щеголев.
«Фуриус» внезапно дал ход, но направился не к шлюпке, а в противоположную сторону.
— К нам идет!..
Бум! — донесся издали пушечный выстрел. Бум! Бум!
Стреляла Третья батарея.
— Приготовиться! — подал команду Щеголев.
Бум! — снова донеслось с Третьей.
— Попали!.. — закричали солдаты. — Истинный крест попали!.. В кожух колеса!..
Густо дымя, но не открывая огня, «Фуриус» круто развернулся и направился к своей шлюпке, спокойно колыхавшейся на волнах в полуверсте от парохода.
Подойдя к шлюпке, «Фуриус» быстро поднял ее на палубу, вспенил колесами воду и вскоре исчез за горизонтом.
На батарее ударили отбой. Щеголев немедленно отправился в штаб.
Там уже было много офицеров. Расспрашивали друг друга, но толком никто ничего не знал.
К ним вышел начальник штаба генерал-майор Тетеревников.
— Англичанам, — сказал он, — оказывается, нужно было справиться о консулах! Будто они не знают, что те давно уже выехали. О батареях наших им надобно было узнать, а не о консулах! Воспользовались удобным предлогом для разведки под парламентерским флагом. Узнаю господ англичан!
— Сомнения нет! — говорили офицеры. — Явный разведчик. Теперь нужно ждать появления неприятеля в больших силах.
Город был взбудоражен. Пушечная пальба напомнила всем, что война идет, что союзники могут появиться и здесь.
Встревоженный генерал Сакен собрал военный совет, на котором поделился своими планами. В городе было только 3200 гранат для пушек, 1500 бомб для мортир и 1000 зарядов картечи.
— Помня о ничтожных наших запасах, — говорил генерал, — надлежит соблюдать величайшую экономию в расходовании оных! Стрелять нужно без поспешности и прицельно. — Сакен строго посмотрел на артиллерийских офицеров. Щеголеву показалось, что больше всего командующий смотрел именно на него!
— Наши войска, — продолжал генерал, — состоят из шестнадцати батальонов пехоты, — шесть тысяч штыков, восемнадцати эскадронов кавалерии — три тысячи сабель, семидесяти шести пушек и легких единорогов полевой артиллерии...
«Это уже какая-то сила», — подумал Щеголев, вспоминая первое совещание у генерала Федорова.
— Возможно прибытие еще нескольких батальонов пехоты, — сказал генерал после паузы. — Что касается артиллерии, то государь приказал этим вопросом его больше не тревожить, поскольку на австрийской границе создалось напряженное положение...
* * *
Капитан Лоринг — командир «Фуриуса» — был в прекрасном настроении. Обстоятельства складывались как нельзя лучше. Сидя в своей роскошно убранной каюте, он писал, неистово скрипя пером, и, поминутно закидывая голову, громко смеялся.
Ему вторил старший офицер, сидевший тут же у стола в глубоком кожаном кресле. На столе стояла бутылка виски и стаканы.
Лоринг радовался:
— Нет, каково получается? Лучше нельзя себе и представить! Не только добились всего, что хотели от нас достопочтенные лорды, но сделали это без потерь и повреждений!
— А колесный кожух? — заметил старший офицер.
— Что вы, сэр? Разве можно считать это повреждением?.. Там на час работы! Могло б быть гораздо хуже, если бы русские меньше считались с парламентерским флагом. Я на их месте тотчас бы открыл огонь боевыми по кораблю, не давая никаких предупреждений.
— Конечно, попади они не в кожух, а в колесо, мы, пожалуй, были бы на дне!
— Но ведь мы действительно нарушили их запрещение подходить близко к батарее!
— Пустяки, сэр, сущие пустяки. Мы были под парламентерским флагом! Мы могли бы заставить русских починить нам это повреждение кожуха. Уверяю вас! Кто докажет, что мы нарочно подошли к их батарее? Якоря мы не бросали, — я сделал это специально, — вот ветер и нанес нас на батарею! Скажете, ветра не было? Опять-таки этого никто не докажет. Вы же знаете, что очень трудно доказать, если тот, кому доказываешь, не хочет чего-то понять. Нам выгодно не верить русским, вот мы — я имею в виду всю Европу! — и не поверим... Мы выполнили приказ командования и можем рассчитывать на награду.
Лоринг потянулся, хрустя суставами, потом снова взялся за перо.
— Вот что я пишу в своем рапорте командующему: «Сочтя два выстрела за предупреждение не двигаться далее вперед, я приказал застопорить машину и положить лево руля. С этого момента до возвращения шлюпки колеса не сделали ни одного оборота, судно же понемногу относило по причине легкого норд-веста, дующего в сторону земли...» Ясно? — спросил капитан, присыпая написанное песком.
— Но ведь русские будут писать иначе?
— А кто же им поверит? Это все пустяки. Важно другое. Во-первых, я выполнил приказ моего командира произвести разведку; во-вторых, создал прекраснейший предлог для нападения на открытый и богатый город, то есть, — капитан засмеялся, — тоже выполнил приказ командующего... Конечно, главное здесь не в командующем. В разгроме Одессы больше всего заинтересованы достопочтеннейшие лорды и все те, кто играет на повышении цен на хлеб. Не будет дешевого русского хлеба — они смогут назначить на зерно любые цены, покупая его через третьих лиц у тех же русских, но вывозя уже не через Одессу, а через Пруссию. Мало вам?
— Да, дело сделано чисто, что и говорить, — согласился старший офицер.
— Русские обстреляли корабль и шлюпку под парламентерским флагом.
— Да ведь шлюпка в это время болталась в четверти мили с противоположной стороны.
— Пусть они доказывают, где была в этот момент шлюпка. Батарея стреляла по шлюпке, и ядра падали в непосредственной близости... Матросы под присягой покажут это. А понадобится, так можно найти и повреждения на шлюпке от близко упавшего ядра. За этим дело не станет!
— Скажите, сэр, а действительно консулы уже выехали из России?
Вместо ответа Лоринг протянул старшему офицеру австрийскую газету, где было подчеркнуто:
«Вена, 20 марта. Сегодня в Вену из Одессы прибыли английский консул господин Иемс и французский консул господин де Вуазен».
* * *
Прошло несколько дней. Горизонт оставался чист, и в Одессе понемногу стали забывать о пришельце. Может быть, и в самом деле ничего особенного не было в посещении английского парохода? В конце концов могло же быть, что корабль действительно зашел за консулами.
То, что оба консула уже давно выехали из города, еще ничего не означало, – они могли задержаться в дороге. Натуральным казалось и любопытство корабля. Как утерпеть и не заглянуть на батареи? Сунули нос и получили ядро! Больше не появятся.
Ясным утром 1 апреля Щеголев сидел на мерлоне своей батареи. Грело солнышко, голубело тихое море. Чистый воздух опьянял.
Прапорщик снял тяжелую лакированную каску с высокой пикой и медным орлом, расстегнул мундир.
На батарее в разных местах расположились солдаты – чинили рубахи, сапоги, чистили пушки.
У воды, забравшись на просмоленные сваи, сидели с удочками ребятишки. Казалось, они ничего не замечали, кроме своих поплавков. Но вот на молу появилась команда Луиджи Мокки. Маленькие рыболовы, побросав удочки, бросились к пушке и, опередив группу Мокки, с грохотом покатили ее по камням. Такая картина повторялась теперь ежедневно: ребята завоевали себе право катать пушку на берег и обратно.
Начались занятия. Ребятишки, сидя где попало, внимательно наблюдали, бросая иногда хлесткие замечания:
– Теперича, дяденька, – говорили они Луиджи, – ежели тебя убьют, так мы тебя заменим! Мы уже научились стрелять.
– Когда же вы успели? – спрашивал Мокки. – Где?
– А туточка. Пока тебе дяденька Осип растолкует что к чему, мы уже знаем. Дай нам выстрелить, так сам увидишь.
– Ишь, чего захотели! – крутил головой Осип. – Да ежели пушка пальнет, так у вас враз штанишки заржавеют.
– Не заржавеют! – кричали хором. – Ты не очень-то пужай нас – не боимся!
Слушая эту перепалку, прапорщик молча улыбался.
Вдруг вблизи раздался топот копыт.
Из-за сарая выехал казак и направился прямо к командиру батареи.
– Ваше благородие! – сказал он, перегибаясь с седла. – Из штаба приказано передать вам, что возле Большого Фонтана показались три парохода.
И казак ускакал дальше.
Ученье прекратилось. Все забегали, приводя батарею в боевой порядок.
Одни бросились открывать пороховой погреб, другие разводили огонь в ядрокалильной печи. Солдат Никита Гацан стал выпроваживать ребят. Те, притихшие и испуганные, не сопротивлялись и быстро выбежали на берег, но дальше не пошли.
– Пусть остаются на берегу, – махнул рукой прапорщик. – Там безопасно.
Федор Рыбаков с подзорной трубой сидел на мачте «Андии».
– Вижу три парохода! – прокричал он. – Маловато что-то.
«Опять разведчики, – решил Щеголев. – Но можно ожидать и нападения».
Через полчаса пароходы подошли и стали на якорь вдали от батарей. Подняли флаги: на двух кораблях – английские, на третьем – французский. Немного спустя от борта одного из пароходов отвалила шлюпка под парламентерским флагом.
В полдень на батарею заглянул адъютант Богданович.
– Ну как вы тут воевать собираетесь?
– Да мы готовы, – ответил командир батареи. – Вот опять гости пожаловали, – махнул он рукой на пароходы, стоявшие на рейде. – Не знаете ли, чего им надо?
– Опять, наверно, разведка. Письмо командующему прислали, жалуются, будто бы мы шлюпку их под парламентерским флагом обстреляли, флаг оскорбили... А шлюпки и близко возле «Фуриуса» не было.
– Наглейшая ложь! – возмутился прапорщик. – Я сам все видел. Могу принести присягу в том, что по шлюпке никто не стрелял...
– Да в этом никто и не сомневается. На бульваре были тысячи народа – все видели, как дело было... Это разведчики, говорю вам.
– Так чего же они стоят?
– А черт их знает, – зевнул адъютант. – Должно быть, ответа дожидаются. Генерал сейчас в соборе, вечером, сказал, напишет.
Утром следующего дня генерал Сакен послал свой ответ англичанам:
«Одесса, 2 апреля 1854 года. Генерал-адъютант барон Остен-Сакен почитает долгом выразить адмиралу Дундасу изумление, возбужденное в нем известием, будто бы из Одесской гавани стреляли по фрегату «Фуриус», находившемуся под переговорным флагом.
По прибытии фрегата было произведено два холостых пушечных выстрела, вследствие которых он поднял свой флаг и остановился вне выстрела.
Лодка под белым флагом тотчас же отправилась от фрегата к молу, где ее встретил дежурный офицер, который на вопрос английского офицера ответил, что английский консул уже выехал из Одессы. Без дальнейших переговоров лодка повернула обратно и уже подходила к фрегату, как тот, вместо того чтобы ее дождаться, двинулся в направлении к молу, оставив лодку влево от себя, и приблизился к батарее на расстояние пушечного выстрела.
Тогда офицер – командир батареи, исполняя данное приказание не позволять неприятельским судам подходить ближе пушечного выстрела, почел обязанностью открыть огонь, но не по парламентеру, а по неприятельскому кораблю, подошедшему слишком близко к берегу, хотя этому судну и подан был двумя холостыми выстрелами знак остановиться.
Это простое изложение дела в том самом виде, в котором оно было доведено до сведения его величества государя-императора, должно уничтожить само собой предположение, которого, впрочем, нельзя и допустить – будто бы в русских гаванях не уважают переговорного флага, за неприкосновенность которого ручаются законы, общие всем просвещенным нациям.
Генерал-адъютант барон Остен-Сакен».Едва письмо дошло до кораблей, как все там изменилось: забегали, засуетились матросы, повалил из труб дым, подняли якоря.
В это время показалась шедшая из Херсона, нагруженная чем-то барка. Один из неприятельских пароходов направился наперерез и захватил ее. Спустя два часа так же была захвачена вторая барка.
В Очаков немедленно отправился верховой со строжайшим приказом командующего не выпускать в море суда.
То ли курьер не поспел, то ли суда из другого места шли, но только в тот день попались еще две барки.
Тысячные толпы были свидетелями позорнейшего действия неприятеля. Возмущению дневным грабежом не было предела.
– «Культурные» европейцы что делают! – гневно говорили люди. – Ведь это настоящий разбой! Барки-то не военные!
В бессильной злобе сжимали кулаки, страшные проклятия посылали на головы разбойников.
На следующий день, 3-го апреля, враг стал прибегать к еще более постыдной уловке: неприятельский пароход, медленно приближавшийся к жертве, поднимал австрийский флаг. Ничего не подозревавшее судно спокойно подходило к пароходу; тогда его немедленно захватывали.
Но вскоре барки, очевидно уже предупрежденные сигналами с береговых наблюдательных постов, стали держаться поближе к берегу. Две барки выбросились на мель, но это не избавило их от гибели: от парохода отвалила шлюпка, и вражеские матросы подожгли барки.
После этого наступило затишье. Вблизи не было ни единого нашего судна.
Только к концу дня в море появилась еще одна барка, и к ней сразу же направился фрегат. Подозревая недоброе, барка бросилась мимо парохода к входу в порт. Но фрегат успел преградить ей дорогу. Тогда барка повернула и понеслась к пересыпскому берегу, намереваясь выброситься на него.
Неприятель произвел пушечный выстрел, но не попал. И тогда с крошечного суденышка, хорошо слышный в предвечерней тишине, прозвучал ответный выстрел.
Стреляли, видимо, из охотничьего ружья. Но чего стоил этот гордый ответ маленького храбреца разбойничьему левиафану![7]
Судно выбросилось на мель, команда через несколько минут была на берегу. Англичане сожгли барку.
Жители города, смотревшие с бульвара, решили произвести сбор в пользу смельчаков, чтобы помочь им купить новую барку. Немедленно собрали сто рублей, которые тут же были вручены градоначальнику для передачи владельцу суденышка.
Через некоторое время с берега заметили, что неприятель занят не только охотой за барками. Вокруг пароходов шныряло немало шлюпок. Оказалось, что они производят промеры.
– Плохо дело! – говорили офицеры. – Раз производят промеры, значит, собираются посетить нас.
Того же мнения были и генералы. Сакен приказал подготовиться к эвакуации учреждений.
Неприятельские пароходы простояли под Одессой еще ночь, а на рассвете 4-го апреля исчезли за горизонтом.
Теперь командующий целыми днями объезжал позиции, совещался с генералами и офицерами.
– Опасаюсь, как бы неприятель не произвел нежданного нападения. Очень уж вздорный предлог нашли они для посещения... Возможна бомбардировка города.
Иностранные консулы, посетившие генерала, выражали уверенность, что страхи его напрасны.
– Как это можно бомбардировать незащищенный торговый город, где жители только торговлей и ремеслами занимаются, где нет ни военных объектов, ни больших фабрик. К тому же здесь проживает множество иностранцев, которым союзники не захотят причинять убытки.
– А барки разве военный объект? – возразил на это Сакен. – Нет, господа, от англичан, я вижу, можно ожидать всего! А скажите мне на милость, – обратился он к австрийскому консулу, – заявила ли Австрия протест по поводу злоупотребления англичанами ее флагом? Молчите?.. Нечего вам возразить на это, вот что! Ну, что бы там ни случилось, а я готов выполнить свой долг!!
После этого даже те немногие из знати, кто еще оставался в своих квартирах вблизи моря, выехали из города на окраины.
В доме Бодаревских все перевернулось вверх дном. Дочь их должна была ехать вместе с институтом благородных девиц. Марья Антоновна решила обязательно ехать с ней. Тщетно Корнила Иванович доказывал, что в этом нет никакой надобности, ибо путешествие недалекое – всего только до Вознесенска, и подлинно известно, что девочки едут под сильной охраной и им там будет хорошо. Марья Антоновна и слушать не хотела. Она намеревалась взять с собой и Ваню. Но мальчик, услышав о намерениях матери, решительно заявил:
– Никуда не поеду!.. Делайте со мной, что хотите! Останусь с папенькой!
В доме спешно запаковывали огромнейшие кованые сундуки, десятки лет не сдвигавшиеся с места. В укромных углах двора и сада рыли глубокие большие ямы, прятали добро.
Федор Рыбаков сообщил Щеголеву о полученном приказе готовить «Андию» к затоплению.
Щеголев знал, что пароход в случае опасности было решено затопить, сняв те части, которые могли испортиться от пребывания под водой. Но это казалось почему-то маловероятным. И вот вдруг...
Прапорщик рассеянно смотрел на кондуктора.
– Ничего не поделаешь, Александр Петрович. Затопить «Андию» нужно, чтобы спасти ее. Все мы это понимаем... Но каково нам, морякам, топить собственный корабль, хотя бы даже временно... По-моему, никто, кроме моряка, этого чувства не поймет... Ну, пойду, – вздохнул он, – нужно составлять списки снимаемых частей.
Рыбаков тяжелой походкой пошел по трапу. Щеголев с душевной болью смотрел на пароход, с которым за это время успел настолько сродниться, что понимал чувство Рыбакова.
К вечеру уже начали разбирать пароход. «Андия» казалась мертвецом, которого убирают к похоронам.
Глава шестая
Ясным утром 8-го апреля на батарее заметили группу всадников, гнавших во весь опор.
Щеголев присмотрелся.
– Да ведь это генерал Есаулов и полковник Яновский!
Командир батареи подбежал с рапортом, но генерал махнул рукой.
– Не до рапортов, прапорщик. Скажите лучше, может ли ваша батарея немедленно вступить в бой?
– Так точно, ваше высокоблагородие. Разрешите спросить, почему...
– А потому, – прервал Есаулов, – что в море появился неприятельский флот вымпелов[8] в двадцать пять.
У Щеголева слова застряли в горле.
– Так вот, молодой человек, – генерал сделал ударение на этих словах, – может быть, вам тоже придется принять участие в бою.
– Вряд ли, ваше превосходительство, эта батарея будет сражаться, – сказал полковник. – Мелко здесь, неприятельские корабли не смогут подойти близко. В крайнем случае, – повернулся он к прапорщику, – дадут по вас несколько залпов и выгонят отсюда.
– Нас, господин полковник, отсюда не выгонят, – обиделся Щеголев. – Я и мои солдаты свой долг знаем. Если пушки будут целы, мы не уйдем отсюда живыми.
– Очень хорошо, прапорщик, очень хорошо! – Полковник покровительственно похлопал Щеголева по плечу. – Все мы неприятеля не боимся и свой долг знаем. Да, кстати, вам нужно будет передать половину запаса пороху на Пятую батарею. С нее легче будет брать, если понадобится, на другие. Будьте готовы его отправить.
От изумления и негодования прапорщик не нашел слов для ответа.
В этот момент из штаба прискакал гонец с сообщением, что вражеская эскадра состоит из многих линейных кораблей и пароходов-фрегатов. Общее число вымпелов – тридцать один.
Есаулов и Яновский заторопились в штаб.
А прапорщик тем временем устроил совещание со своими помощниками. Порох решили пока не вывозить. Все были уверены в том, что батарея в бою участвовать будет и порох ей самой понадобится.
Отсутствие ветра делало невозможным скорое прибытие вражеской эскадры, и в городе имели время приготовиться к ее встрече.
Был отдан приказ немедленно приступить к эвакуации.
В этот день к генералу Сакену чуть не силой пробился Луиджи Мокки.
– Как же насчет батареи, ваше превосходительство? – заговорил он с сильным от волнения итальянским акцентом. – Люди мои из пушек стрелять уже обучены, а разрешения нет. Разрешите, господин генерал... У меня есть и работники, и лошади – за три дня все построим.
– За три дня? – с сомнением посмотрел на него генерал. – Мы вот едва за три месяца построили, а ты хочешь за три дня!.. Да и неизвестно, будут ли у нас эти три дня... Впрочем, разрешаю. Делайте на этой батарее все, что хотите, мы сами ее уже не успеем использовать. Я назову батарею не Центральной, как было решено раньше, а имени Осипа Мокки. За работами будет присматривать прапорщик Артамонов – командир Второй батареи. Пушки возьмите на Шестой батарее, там остались из тех, что были откопаны; только их еще нужно привести в порядок и сделать лафеты.
Мокки в радостном возбуждении помчал по лестнице и, хлопнув дверью, выскочил на улицу.
После полудня узнали точно состав неприятельской эскадры и ее вооружение. На вражеских кораблях насчитывалось 1900 крупных орудий!
Получив эти сведения, Сакен покачал головой:
– Тысяча девятьсот крупных орудий против наших пятидесяти шести старых, малого калибра, и шести мортир! Ну, бог поможет, – не поддадимся.
Видя, что эскадра только подходит к Одессе и движется очень медленно, генерал бросился в собор, куда спешно были вызваны все свободные офицеры, отслужил молебен об избавлении от грядущей опасности и помчался проверять состояние батарей.
Только к шести часам вечера грозная эскадра подтянулась к одесскому рейду и стала на якорь. Вокруг кораблей сновало множество шлюпок.
Час проходил за часом, а враг не выказывал никаких намерений. Стало вечереть. На море стоял мертвый штиль. Генерал Сакен распорядился выставить на берегу усиленную охрану, опасаясь, что неприятель предпримет высадку ночью.
К охране немедленно присоединились тысячи добровольцев, вооруженных чем попало. Вся береговая линия была занята войсками и добровольцами.
Поздно вечером спешным маршем в Одессу прибыло несколько батальонов Колыванского и Житомирского полков, а также полк улан.
Всех прибывших Сакен расположил возле Михайловского монастыря. Кроме того, войска в полной боевой готовности стояли на Соборной и Биржевой площадях. Горели костры, по улицам разъезжали патрули: в городе было объявлено военное положение, и всех подозрительных немедленно забирали на проверку.
Было уже совсем темно, когда на батарею прибежал Ваня.
– Я теперь остался в доме один – все уехали, и папенька тоже хлопочет где-то об отъезде. Разрешите остаться у вас?
Щеголев замахал на него руками.
– И думать не смей! Лучше вот тебе дело: завтра, если будет тихо, притащи нам чего-нибудь поесть, а то нам за суетой забыли прислать продовольствие. Сегодня мы обошлись еще, но на завтра уже ничего не осталось.
Ваня покрутился некоторое время и ушел.
Ночь на батарее прошла напряженно. Спали не раздеваясь прямо на мешках. Все время горела калильная печь. Чтобы с моря ее не так было заметно, солдаты приготовили из досок и мешков укрытие.
Наступил рассвет.
Вражеская эскадра по прежнему в мрачном молчании стояла на рейде. Лениво дымили пароходы, сновали шлюпки, возвышались грозные стопушечные линейные корабли. С берега было видно, что шлюпки делают промеры.
Едва стало светло, как по молу загрохотали две телеги – доброхоты привезли на батарею кашу и хлеб.
– Кушайте, касатики, кушайте. Не знаем, когда еще свидеться доведется.
* * *
Ночь на 9 апреля генерал Сакен провел на одной из дач под Одессой, наблюдая за эскадрой. Утром, как обычно, он заехал в собор. Зная эту привычку командующего, офицеры в штабе шутили иногда:
– Уж не пригласил ли наш генерал господа-бога к себе в начальники штаба?
Но генерал не забывал и военных дел. Его можно было видеть всюду, где стояли войска или батареи.
В десять часов утра генерала спешно вызвали из собора: прибыл ультиматум союзников. Был он не запечатан, и многие офицеры уже знали, о чем писал неприятель.
Сакен молча читал послание. Вокруг толпились генералы, офицеры и высшие гражданские чиновники. Стояла тишина, только на куполах собора ворковали голуби, да издали, с Дерибасовской, доносилось ржание лошадей и лай собак.
Окончив чтение, генерал пожевал губами, сложил лист и передал адъютанту.
– Спрячьте, голубчик, – сказал он тихим голосом. – Эту бумагу надобно будет переслать государю, – и повернулся, чтобы идти в собор.
– А ответ? – единым дыханием пронеслось в толпе.
– Ответ? – Сакен снова повернулся. – Судя по вашим лицам, вы уже знаете содержание сего документа... Так вот, ставлю всех в известность... – Командующий внезапно выпрямился, глаза его засверкали, голос зазвенел (так когда-то генерал командовал, громя Наполеона под Лейпцигом и Краоном). – Сей ультиматум нахожу возмутительным. Отвечать на него считаю несовместимым с достоинством великой России. Ответа не будет!.. – повторил он, резко повернулся и скрылся в темноте притвора.
Толпа стояла, пораженная словами генерала. Адъютант по просьбе окружающих громко прочел ультиматум. Союзные адмиралы писали:
«Перед Одессой, 21-го (н. ст.) апреля 1854.
Господин губернатор!
Так как в письме вашем, дошедшем до нас не прежде нынешнего утра, заключаются лишь неверные показания для оправдания непростительного нападения, в котором провинились одесские начальства по отношению к нашему фрегату и его шлюпке, которые оба были под парламентерными флагами, оба вице-адмирала, главнокомандующие союзными эскадрами Англии и Франции, считают себя вправе требовать удовлетворения у Вашего превосходительства.
Вследствие чего все английские, французские и русские суда, стоящие ныне близ крепости или батарей одесских, должны присоединиться без замедления к союзным эскадрам.
Если при захождении солнца обоими вице-адмиралами не будет получено ответа или будет получен отрицательный, они найдут себя принужденными прибегнуть к силе для отмщения за оскорбление, нанесенное флагу одной из эскадр, хотя по внушению человеколюбия им прискорбно будет принять сие последнее решение, возлагая ответственность в том на кого следует».
Ультиматум подписали вице-адмиралы Гамелен и Дундас.
Часу не прошло, как о содержании ультиматума стало известно всему городу. Возмущению не было предела. Сакена хвалили за решительность. Некоторые уверяли, что ультиматум направлен только для запугивания, а бомбардировки не будет:
– Не станут просвещенные европейцы громить мирный город!
Однако иностранные консулы и резиденты, забыв о том, что еще совсем недавно они говорили Сакену, заявили иное:
– Союзники обязательно разгромят город. Надобно послать к генералу депутацию с требованием удовлетворить ультиматум и выдать союзникам корабли. Генерал должен понять, что бомбардировка причинит убытки и нам, иностранцам.
Сакен был непреклонен.
– Я русский генерал, коему вверена оборона города и всего имущества, в нем находящегося. Сей постыдный ультиматум есть ничто иное, как разбойничье «смерть или кошелек»! Решения своего изменять не намерен.
Как только в городе узнали об этом ответе генерала, бегство купечества и знати стало всеобщим. Запирали дома и лавки, строго приказывали дворовым и приказчикам никуда не отлучаться, грозя страшными карами, если что пропадет.
Толпы студентов и гимназистов провожали уезжавших, вслед им неслись негодующие возгласы:
– Трусы и изменники! Казнить вас надобно!..
Приезжала полиция, уговаривала молодых людей разойтись.
Город разделился на два лагеря. Подавляющее большинство одного лагеря состояло из людей малоимущих, для которых, казалось бы, потерять последнее было хуже, чем купцам и дворянам часть. В этом лагере оправдывались действия генерала и считали его решение правильным; в другом же были обратного мнения, хоть во всеуслышание об этом и не говорили – остерегались.
* * *
Вторая тревожная ночь прошла на Шестой батарее в упорной работе.
Солдаты придумали, как использовать восемь тысяч мешков, огромной кучей лежащих возле сарая. Всю ночь с помощью жителей насыпали в них песок, возводили перед сараем стенку, а затем укладывали еще пустые мешки, обильно смоченные водой.
Накануне вечером, глядя на багровый закат, Осип говорил прапорщику:
– Завтра ветерочка ждать надобно.
– Это хорошо, – обрадовался Щеголев. – Разведет волну – неприятелю стрелять плохо будет.
– Может, хорошо, а может, и плохо...
– Почему же плохо? – удивился прапорщик.
– Ветер может воду в бухту нагнать, тогда эти супостаты, – мотнул Осип головой в направлении неприятеля, – к нам ближе подойти смогут; опять же на Пересыпь десант много легче будет высадить.
Щеголев задумался.
Но ночь была такая тихая, что прапорщик стал сомневаться в предсказании Ахлупина о ветре. Вот уже стали бледнеть звезды, чуть-чуть посветлел восток.
На батарее все было готово к бою и все ждали боя.
Едва рассвело, как прискакал Яновский с адъютантами.
Солнце еще не всходило, зеркальная поверхность залива была видна очень хорошо. Над эскадрой союзников поднимались густые клубы дыма.
– Целый город стоит! – кивнул головой полковник. – Готовятся союзники... Следовало бы показать им кузькину мать, да жаль – нечем... Вот что, прапорщик, немедленно посылайте половину запаса пороху на Пятую батарею.
– А я как же? Чем же я отстреливаться буду?
– Опять вы за старое! Не придется вам отстреливаться – это же ясно. Не подойдут к вам корабли!
Прапорщик хотел сказать, что для пароходов много воды и не требуется, но сдержался.
Прощаясь, полковник еще раз напомнил про немедленную отсылку пороху.
– Приказываю сделать это сейчас же! – строго сказал он.
– Слушаюсь! – козырнул Щеголев.
Подошел Осип.
– А ветерок-то поднимается. Через часик-полтора так задует, что только держись. Вы только на сваи глядите, как вода их заливать начнет, – указал он на сваи, торчавшие из воды у края Потаповского мола.
Осип оказался прав: ветер, чуть заметный вначале, крепчал с каждой минутой; к восходу солнца вся поверхность бухты покрылась барашками.
Ветер срывал гребешки волн и нес их на мол, обдавая лицо водяной пылью. В половине седьмого прапорщик заметил, что сваи стали скрываться под водой. Неприятельские пароходы затянули своим дымом всю бухту; их выступление должно было начаться с минуты на минуту.
Щеголев приказал барабанщику ударить сбор. Когда солдаты построились, командир батареи влез на мерлон и обратился к ним с речью:
– Братцы! Настал великий для нас день. Всем вам уже известно, что неприятель ложно утверждает, будто мы стреляли по его шлюпке. Мы все были свидетелями того, что в момент стрельбы шлюпка находилась в полуверсте от парохода и в другом направлении. Неприятелю понадобилась эта ложь, чтобы ограбить нас... Вчера он потребовал выдачи ему всех кораблей, стоящих в гавани...
– Чего захотел! – не сдержался бомбардир Емельян Морозка.
– Командующий наш, генерал Сакен, на их письмо и отвечать не захотел, не стал говорить с разбойниками.
– Разбойники и есть, – загудели солдаты. – Правильно генерал поступил.
– А подумайте, братцы, почему он так ответил? Ведь у нас всего пятьдесят шесть пушек, a у неприятеля их почти две тысячи. На что же надеялся командующий? На нас, друзья мои, надеялся, на солдат русских! Знает генерал – выполнит солдат все, что ему прикажут. Грудью отразит неприятеля! И мы, братцы, костьми ляжем на своей батарее, а не отступим!.. То, что у врага много и кораблей и пушек, не поможет ему. Помните, я рассказывал вам о Суворове? «Воюют не числом, – говорил он, – уменьем!»
– Будем держаться до последнего! – уверяли солдаты. – Не отступим!
Ветер завывал все сильнее, и прапорщику приходилось кричать, чтобы его слышали.
Надрываясь, прапорщик кричал:
– Если меня убьют, командование переходит к Рыбакову, потом к Ахлупину, потом – к старшему пушки нумер первый и так до конца!.. А ежели увидите, что кто-нибудь собирается бежать, не пускайте его, будет вырываться – бейте чем попало, не жалея. Приказываю: увидите, что я бегу, – бейте и меня! Тогда я уже не командиром вашим буду, а подлым трусом и изменником!.. Пощады беглецам не давайте!
Внезапно вблизи раздался крик. От «Андии» бежал матрос и размахивал руками. Все догадались, что неприятель перешел в наступление.
Щеголев обернулся к морю и увидел, как из группы неприятельских судов медленно выдвигалось несколько пароходов. У него замерло сердце. Слабая надежда на то, что неприятель ограничится только угрозами, исчезла.
«А вдруг они сейчас повернут и начнут уходить?» – мелькнула мысль. Не отрываясь, командир батареи смотрел на вражеские пароходы, выстраивающиеся в линию.
Из-за сарая на взмыленном коне выскочил казак, подлетел к прапорщику и крикнул, едва сдерживая коня:
– Приказано передать – неприятель выступает!
Вздыбил коня, развернул его на месте, подлетел к «Андии», крикнул что-то, из-за ветра не слышно было, – ударил коня нагайкой и исчез.
Теперь уже все видели, что пароходы направляются в глубину бухты – к Одессе. Придерживая на голове фуражку, подбежал Рыбаков.
– Топим «Андию»!.. – И убежал.
...Пот застилал глаза, в горле стоял ком, мешая дышать. Стало нестерпимо жарко, появилось неодолимое желание сбросить мундир, подставить горячий лоб холодному ветру.
Девять пароходо-фрегатов, выпуская огромные клубы дыма, медленно двигались к городу.
– С нами бог! – крестились солдаты. – Ну и сила!.. Но не робей, ребята! Не сильна засада огородою, сильна засада воеводою!
От этих простых солдатских слов у прапорщика стало теплее на душе. Он почувствовал уверенность, что сумеет выполнить свой долг.
Появился Рыбаков.
– Потопла наша «Андия»...
Прапорщик взглянул туда, где стоял пароход, и у него защемило сердце. Из воды торчала только высокая труба, которую со всех сторон омывали волны. Сразу открылся вид на Практическую гавань, где стояло множество судов.
Грозные корабли неуклонно двигались к батарее. Солдаты напряженно следили за ними. Пылала калильная печь, яркими звездочками светились там ядра, дымились пальники в руках солдат...
Вражеские суда уже вошли в зону огня орудий батареи, но пушки молчали... Вот передний пароход вышел на траверс[9] батареи... Борт его внезапно вспыхнул пламенем залпа, заклубился густым дымом.
Перед батареей высоко взметнулись столбы воды от недолетевших бомб.
Пароход быстро развернулся и снова дал залп. На этот раз бомбы со свистом пролетели над батареей и упали в воду где-то позади. Ударило горячим воздухом. Прапорщик выглянул за мерлон.
– Батарея!.. – крикнул он. – Слушай мою команду! Первое...
Все застыли в напряженном ожидании. Андрей Шульга бросился к ближайшему солдату, вырвал у него пальник, сунул в затравку, и не успел Щеголев произнести команду, как пушка бухнула огнем, заклубилась дымом.
Но пароход уже вышел из прицела, и ядро шлепнулось в воду.
Все встрепенулись.
– Второе – пли! – закричал прапорщик. – Третье – пли!
Бах-бах! – ударили пушки.
Сладкой музыкой отдался в ушах Щеголева гром его орудий. Его!.. Сколько времени прапорщик ждал этого момента и вот дождался!
Грохнул залп с другого парохода, высоко взметнулась вода, с шумом плеснула на мол. Бомба ударилась об угол мола – высоко подскочила, перелетела батарею и исчезла в море. Прапорщик проворно соскочил с мерлона.
Первый пароход опять развернулся и дал еще один залп. Снова все бомбы упали в море.
Несмотря на сильный ветер, солдаты поснимали мундиры и в одних рубахах работали около пушек. Чувства страха как не бывало. Об опасности некогда было думать – цель так быстро появлялась перед амбразурами, что в пору было только поспевать стрелять.
Став на нижние ящики мерлона, Щеголев высматривал цель. Вот еще один пароход выходит на траверс батарей – готовится дать залп.
– Пли! – командует прапорщик. Воздухом бьет в уши. Видно, как яркокрасный шарик исчезает в борту парохода. Из пробоины вьется чуть заметная струйка дыма.
– Попадание! – радостно кричит командир батареи. – Так стрелять!
Еще залп батареи.
– Снова попали! – объявляет Щеголев. – Дай им, ребята!
Но солдатам не нужно было напоминать о необходимости «дать» неприятелю. Все работали четко, как на ученье, так, как, бывало, часами учили их прапорщик и Ахлупин.
Осип внимательно смотрел из-под руки на неприятеля, уговаривал получше целиться, не тратить зря припасы. Заметив, что прапорщик в пылу боя, размахивая саблей, вылез на мерлон, он потянул его за мундир.
– Вы бы, ваше благородие, отсюда сабелькой нам цель указывали.
Прошло минут пятнадцать боя, и солдаты поняли, что малые размеры батареи являются ее лучшей защитой: все недолеты и перелеты попадали в море. Даже упав на батарею, бомба прыгала, как мяч, и тоже летела в воду либо на берег.
Для того, чтобы причинить повреждение батарее, бомба должна была ударить либо прямо в пушку, либо в мерлон. Упав, бомба не сразу разрывалась, а только после того, как догорала трубка. Прапорщик в свое время учил солдат вырывать эти трубки. Теперь это очень пригодилось. Но те бомбы, которые задерживались с трубкой на молу, были опасны. Проходила секунда, другая и страшный взрыв заглушал собой гром орудий. Вздрагивал мол, тучей пыли вздымалась над мерлонами земля, разлетались в щепки бревна амбразур и наката.
В разгаре боя такая бомба снесла угол крайнего правого мерлона и зажгла амбразуры. К счастью, волны, то и дело заливавшие батарею, потушили пожар. Бой продолжался. Уже два раза солдаты подсыпали новые ядра в печь. Каленое ядро могло погубить корабль, если попадало в крюйт-камеру. В помещении, где было много дерева, оно вызывало сильный пожар.
– Эй там, подавай калененьких! Угостим Дундаску орешками... Пущай попробует! – кричали солдаты подносчикам ядер.
И угощали. Стремясь поскорее разделаться с дерзкой батарейкой, пароходы приблизились и стали прекрасной целью для четырех пушек. Одно попадание следовало за другим. Пароходы отошли и стали вести огонь издали.
Щеголев почувствовал, что ему необходимо хоть несколько минут отдохнуть и напиться воды. Полуоглохший от пальбы, в дыму и копоти, прапорщик слез с мерлона и присел, знаком прося у Осипа напиться. Место командира батареи занял Федор Рыбаков. Верный морской глаз не обманывал его: с неприятельских кораблей, как и прежде, летели обломки, то на одном, то на другом загорались надстройки, валились убитые и раненые...
Отдыхая у мерлона, прапорщик наблюдал за тем, как справляются со своим делом его батарейцы. Вот первое орудие. Эта пушка в самом невыгодном положении: она открыта огню неприятеля больше других. Но солдаты работают быстро, слажено. Прапорщик видит, как Федор Филиппов напряженно смотрит на Рыбакова. Тот быстро опускает саблю, и Филиппов сей же час сует пальник в затравку пушки... Прапорщик невольно втягивает голову в плечи – в уши бьет резко звенящий звук выстрела. Пушка откатывается, но Дорофей Кандауров не ждет пока она остановится. Он подскакивает к орудию и ловко попадает банником в дуло. Несколько энергичных движений банником, и пушка очищена от нагара прошлого выстрела. Теперь ее можно заряжать, не опасаясь, что новый заряд взорвется раньше времени. Войцех Станишевский уже стоит наготове с картузом в руках и пыжом подмышкой. Войцех вкладывает в дуло картуз, а Дорофей заталкивает его банником внутрь, потом прижимает к картузу войлочный пыж. Михаил Артамонов выхватывает из печи раскаленное ядро и опускает в дуло. Пыжевой снова прижимает его пыжом. Пушку накатывают на место, и она готова к выстрелу. Подбегает Осип, из-под руки вглядывается в приближающийся вражеский пароходо-фрегат, присаживается у пушки, крутит подъемный винт.
Звучит команда, и снова бьет в уши раскат выстрела.
Больше всего опасался прапорщик за четвертую, крайнюю слева пушку. Ее обслуживали Ларион Ильин и два дружка – Емельян Морозка и Андрей Панаев. Дружкам чаще всего попадало от Осипа за малое радение к ученью. Даже прапорщик иногда ставил их часовыми вне очереди. Потому-то они обслуживали именно четвертую пушку. По старому обычаю лучшей на батарее всегда считалась первая пушка, худшей та, у которой был наибольший номер. Но опасения прапорщика оказались напрасны – пушка № 4 действовала нисколько не хуже других.
Взглянув на берег, Щеголев увидел, что вся Практическая гавань закрыта густой пеленой дыма, сквозь которую в разных местах пробивалось пламя. Неприятель обстреливал город. Кое-где уже горели дома. Прапорщик вскочил. Сердце у него забилось сильнее, кулаки гневно сжались, усталости как не бывало.
Рыбаков слез с мерлона. Оглядывая батарею, он увидел, как один из солдат, работавших у ядрокалильной печи, сел на землю и привалился к мешку с углем. Глаза у него были закрыты. Рыбаков бросился к нему.
– Сомлел, господин кондуктор, – сказал другой солдат. – Очень уж тут трудно...
Действительно, место у раскаленной печи, откуда валил дым и несло нестерпимым жаром, было самым тяжелым для работы. Все время приходилось длинными щипцами вынимать уже раскалившиеся ядра и засыпать в печь холодные. Но вынуть раскаленное ядро из самой середины печи было нелегко, а Михаил Артамонов проделывал это уже целый час. И вот не выдержал, свалился.
Рыбаков встал сам у печи, но его мягко отстранил Шульга.
– Разрешите уж мне, господин кондуктор, а вы приглядите, как там с припасом.
Видя, что их стрельба не приносит вреда батарее, союзники открыли по ней огонь всех пушек семи пароходов.
Началось неравное состязание трехсот больших орудий с четырьмя малыми. Все береговые батареи молчали – слишком велико было расстояние от них до врагов. Только два парохода лениво перестреливались с Третьей батареей. Главным же участком боя оставалась батарея Щеголева.
Удачным залпом двух пушек был поражен один из вражеских кораблей «Самсон» – все видели, как на нем обвалился в воду большой катер, заклубился дымок пожара. «Самсон» вышел из строя. Закрылся дымом и «Фуриус».
Давно уже промокли от пота и морских брызг, почернели от копоти и дыма рубахи и лица солдат. От грохота никто уже ничего не слышал. Сообщения и приказания приходилось кричать прямо в уши, помогая энергичными жестами. Но никто и не думал о прекращении боя.
Целью батареи стал фрегат «Вобан» с огромным трехцветным флагом.
– Француз пожаловал! – кричали солдаты.
Французы решили подойти на близкую дистанцию и сразу уничтожить смельчаков.
Запрыгали по батарее бомбы, вдребезги разлетелась будка, загорелись амбразуры левых пушек. А солдаты по прежнему внимательно целились, стремясь стрелять как можно метче. Два раскаленных ядра одно за другим ударили в корабль. От первого вспыхнул порох в картузах, приготовленных у одного из орудий, высоко взметнулось пламя, поползло по вантам; другое ядро пробило деревянную палубу, из пробоины повалил густой дым.
На «Вобане» забегали, засуетились. А дым валил все гуще и гуще, пламя разгоралось все ярче и ярче, и двадцать минут спустя на мачте фрегата медленно развернулся, затрепетал на ветру сигнал бедствия.
От эскадры отделился посыльный пароход. Полным ходом подошел он к «Вобану», взял его на буксир и поволок подальше от этой маленькой батарейки, которую оказалось не так легко уничтожить.
А на место «Вобана» медленно направился 84-пушечный линейный корабль.
* * *
Наблюдение за боем генерал Сакен сначала предполагал вести с крыши штаба, но потом, решив, что там его труднее будет найти посланцам, перешел на бульвар и остановился возле памятника Ришелье. Стоя здесь, он видел все маневры союзников.
Заметив, как от эскадры по направлению к Одессе двинулось девять пароходов, генерал сказал адъютанту:
– Вот оно, начинается. Надобно приободрить защитников Третьей и Шестой.
Кряхтя, он сел на лошадь и в сопровождении адъютанта затрусил вниз по Ланжероновской улице.
Побыв несколько минут на Третьей батарее, генерал направился к Щеголеву. Прапорщик, как убедился генерал, прекрасно справлялся со своим делом. Сакен спокойно возвратился на свой командный пункт, где уже и оставался до конца боя.
Канонада не прекращалась. Густые тучи дыма и пыли поднялись над городом. Десятки ядер и бомб, хорошо видимые простым глазом, летели на город. На бульвар снаряды почти не падали, и жители вскоре заполнили его, с восторгом наблюдая за меткой стрельбой батарей.
Особенно много бомб падало в районе Дерибасовской, Екатерининской, Почтовой и Преображенской улиц. Там уже были убитые и раненые, неоднократно вспыхивали пожары, которые быстро тушили пожарные команды и добровольные дружины из местных жителей. Много помогло жителям то, что дома их были сделаны из мягкого камня. Ядро, ударяясь в стену, не разрушало ее, а проникало внутрь, оставляя отверстие, чуть больше размеров самого ядра.
Генерал Сакен стоял возле лестницы и наблюдал за боем, когда к нему подкатила коляска. Из нее выскочил генерал в забрызганной грязью дорожной накидке; он направился к Сакену и представился:
– Генерал-адъютант Анненков, назначенный временно исполнять должность гражданского генерал-губернатора города Одессы.
– Да когда же вы, дорогой мой, успели? – ахнул Сакен и протянул обе руки приезжему. – А мы-то...
– Еще в Николаеве мне стало известно о готовящейся бомбардировке Одессы – вот я и поспешил, дорогой Дмитрий Ерофеевич. Разрешите теперь поглядеть, что тут у вас делается.
Генералы подошли к самому краю лестницы. Подскочил Богданович, стал давать пояснения.
Что делается на Шестой, разобрать было невозможно из-за густых клубов дыма. О том, что батарея еще сопротивляется, можно было судить по интенсивному огню неприятеля, не ослабевавшему ни на минуту, и по вспышкам выстрелов орудий батареи, мелькавшим в густом дыму. Адъютант рассказывал:
– Сначала ее обстреливало только три парохода, сейчас уже четыре. Похоже, что и те вот туда ж направляются... Этой батареей, ваше высокопревосходительство, командует совсем молодой офицер, только недавно прибывший в Одессу. Мы не знаем, жив ли он. Уцелеть в этом аду весьма затруднительно. Минут двадцать назад послан поручик Ильяшевич на смену Щеголеву. Ждем теперь оттуда известий.
Как раз в эту минуту вернулся посланный и сообщил, что батарея цела и потерь на ней нет. Все перекрестились.
Когда стало ясно, что главным объектом нападения является не Третья батарея, а Шестая, полковник Яновский подошел к генералу Сакену. Его бледное лицо и трясущиеся губы поразили генерала.
– Что с вами? Случилось что-то плохое?
Яновский, заикаясь, сообщил, что по его приказу только сегодня утром Щеголев должен был отправить половину своего пороху на Пятую батарею.
– Сейчас там кончается его запас! – закончил полковник. – Необходимо послать ему новый.
Сакен оторопело смотрел на него.
– Да как же вы... – начал он, но вдруг махнул рукой и прибавил: – Немедленно шлите ему порох.
Прапорщик Дудоров вызвался отвезти его на батарею.
* * *
Рано утром этого дня всех арестантов, еще не отправленных по этапу в другие города, выгнали во двор. Был получен строжайший приказ вывести из города всю тюрьму. Еще оставалось человек сто арестантов, и теперь, готовые к отправке, они стояли во дворе.
На правом фланге, выделяясь своим независимым видом и лучшей одеждой, стоял Ивашка и его товарищи из тех, кто когда-то работал на Шестой батарее. Переминаясь с ноги на ногу, Ивашка тихо, но решительно высказывал свое недовольство.
– Это что же выходит? Как батарейки строить, так пожалте! А теперь, когда неприятель появился, так в этап?.. А может, я тоже хочу за отечество пострадать! Вот и прапорщик с Шестой мне уваженье оказывал. Сам генерал Есаулов...
– Поговори мне!.. – крикнул караульный офицер.
Вдруг громадное здание тюрьмы вздрогнуло от далекого раската. Все замерли. В тишине снова раздались дальние артиллерийские выстрелы.
Бу-ум! Бу-ум!..
И вдруг кто-то закричал:
– Ребя-а-та! Наших бьют!.. Айда на помощь!
Арестанты, роняя свои узелки, бросились к распахнутым уже воротам и мгновенье спустя выбежали на дорогу. Спохватившись, солдаты кинулись закрывать ворота, но было поздно. Заливались тревожные свистки, солдаты хватали бежавших, но Ивашкина артель была уже далеко и неслась по дороге к Шестой батарее.
Позади слышались крики:
– Стой! Стрелять будем!
Но на угрозы никто не обращал внимания.
– Православные-е-е! – кричал на бегу Ивашка. – Наших бьют! На помощь!
По улицам у ворот стояли кучки людей, с тревогой прислушиваясь к неумолчно гремевшей канонаде. Многие из них присоединялись к бегущим. Дворник с метлой в руках, замерший с раскрытым ртом при виде мчавшейся толпы, внезапно крикнул:
– К черту барскую работу! – Бросил метлу, сорвал фартук и замелькал сбитыми каблуками.
Из мастерских выскакивали фабричные и тоже пускались за толпой.
На углу Екатерининской и Почтовой улиц бегущим преградила дорогу коляска, в которой во весь рост стоял холеный полицейский пристав. Зычным голосом он закричал:
– Куда?.. По какому праву? Кто разрешил, мерзавцы?! Назад!..
Толпа на мгновенье оробела. Приставу объяснили, куда и по какому делу бегут эти люди.
– Какие батареи? – бесновался тот. – Вот я вам покажу батареи! Заберу в часть - всех перепорю. Р-р-азойдись!
Но людей, бежавших на помощь в борьбе против «супостата», этим нельзя было остановить.
– А-а-а, не пущать?! Ах ты!..
Из толпы выскочил быстрый человек небольшого роста, вскочил на подножку коляски и, изловчившись, изо всех сил хлестнул пристава по сытой роже. Тот схватился за щеку и завалился в глубину коляски.
Это послужило сигналом.
– Нажми, ребята!
Толпа навалилась на экипаж. Затрещали колеса, испуганно замахал руками полицейский кучер, заржали лошади. Оставив на пыльной мостовой перевернутую коляску, люди помчались дальше. Пробежали по Екатерининской и мимо Сабанеева моста, направились на Военный спуск. Теперь от грома канонады ничего уже не было слышно. Возле моста стоял взвод солдат, не пропуская никого в порт, где ярким пламенем пылало несколько судов.
Ивашка и его друзья, не останавливаясь, пробежали мимо солдат, бросились к входу на Военный мол. Густо дымили горевшие суда, мелькали в воздухе снаряды, обрушиваясь на причалы. Ивашка бежал дальше. Уже вблизи батареи он внезапно остановился: угол сарая, обращенный к пороховому погребу, клубился дымом. В разгаре боя солдаты не замечали начинавшегося пожара.
– Ребята! – крикнул Ивашка. – Туши! Порох там!..
Услышав шум и крики, из погреба выскочили солдаты. Совместными усилиями потушили пожар. Вытирая рукавом смешанный с копотью пот и кровь, – сам не заметил, обо что поранился, – Ивашка побежал на батарею.
Среди дыма и пламени он не сразу заметил прапорщика. Тот стоял на правом мерлоне и из-под руки смотрел на неприятельские корабли. Ивашка вскочил на мерлон и тронул его за рукав.
Щеголев удивленно обернулся и в закопченном страшном человеке с обгоревшей бородой не сразу узнал Ивашку. Но потом улыбнулся, потрепал арестанта по плечу, сказал что-то. Что именно – Ивашка не слышал: заглушил взрыв вражеской бомбы.
– Ящики пустые! – прокричал прапорщик, указывая на зарядные ящики. – Порох из погреба доставить надо.
– Сию минуту, отец!..
Ивашка спрыгнул на мол, схватил за оглобли пустой зарядный ящик и, не замечая взрывов бомб, бросился к погребу.
Сейчас он думал об одном: нужно сделать все, лишь бы отразить неприятеля, защитить этот клочок родной земли!
* * *
Накануне вечером Ваня твердо решил, что на рассвете опять он пойдет на батарею, отнесет Александру Петровичу еды, сколько сможет захватить, потом вернется за новой порцией. Чтобы веселее было бегать по городу (Ваня задумал посетить и другие батареи – никто ведь не мог знать заранее, какая из них будет в бою), мальчик решил взять с собой казачка Мишку.
– А как выдерут за самовольную отлучку? – усомнился Мишка.
– Эх ты, тюря! – искренне возмутился Ваня. – Выдерут!.. Меня тоже выдерут, ежели папенька узнает, однако, я не боюсь, иду. Ведь Александру Петровичу покушать отнести надо?
Мальчики договорились, что на рассвете, когда все в доме еще будут спать, они выберутся через потайной лаз в заборе (у ворот стоял сторож) и побегут на батарею.
Проснулся Ваня от грома пушечной пальбы. Вздрагивал дом, где-то сыпались стекла, с полочек падали забытые там безделушки. Ваня ахнул и бросился одеваться.
В комнату заглянул Мишка.
– Стреляют? – спросил дрожа Ваня. – А отец где?
– Барин, как только пальба началась, в присутствие ушли. А люди все побежали на пожар глядеть.
Через несколько минут мальчики уже мчались к Военному спуску. Здесь было дымно и остро пахло чем-то непривычным.
– Порох! – догадался Мишка. – Из бонбов.
Словно в доказательство его правоты в воздухе послышался свист, и на мостовую упал черный шар, высоко подскочил и вспыхнул ярким пламенем. Кругом запрыгали осколки, посыпались камни из стены. В лицо пахнуло уже знакомым удушливым запахом.
– Видали? – спросил Мишка. – Это и есть бонба.
– Не слепой... – буркнул Ваня, досадуя, что не он, а Мишка догадался.
Вдруг Мишка остановился, поставил кувшин с водой и бросился к чему-то, лежавшему на земле.
– Осколок! – радостно закричал он, показывая Ване кусок металла с рваными краями.
Ваня молча взял осколок и положил в карман.
– Найдешь себе еще, – сурово заметил он.
Мишка обиженно зашмыгал носом и замолчал. Но через минуту он снова заговорил.
– А если Лясандра Петровича ранит? Чем перевязывать? Тряпочек бы захватить...
– Да ты что говоришь! – заорал на него Ваня. – Как это так ранят?
– Все может быть. Палят-то как, не слышите разве?
– Чего же ты раньше молчал, когда дома были?.. – снова набросился Ваня. – Задним умом крепок! Беги домой, хватай из белья, что под руку подвернется, а я здесь подожду.
Досада Вани усиливалась. Вот он, гимназист пятого класса второй одесской гимназии, образованный человек, а мужиченок оказался куда догадливей его. Зато на батарею он его не пустит. Один пойдет, а Мишка останется на берегу. Мишка вернулся очень скоро... В руках у него был сверток с полотенцами...
– Вот... Три только нашел... – сказал он, с трудом переводя дух.
– Ну, айда!.. – сухо приказал Ваня, поднимая корзину с едой. Они добежали до мола. Здесь клубилась пыль, вился дым, кругом грохотало, жужжало, свистело. С обрыва, на котором стояла Воронцовская колоннада, дождем сыпались камни.
Ваня придержал Мишку за плечо.
– Посиди где-нибудь тут. Я скоро вернусь... Нечего тебе на батарею ходить – мал еще!..
– Почему же я мал? – удивился Мишка. – Ведь однолетки мы... И я проведать хочу...
– Поговори мне! – прикрикнул Ваня и выразительно показал кулак. Затем он сунул полотенца в корзину, взял у Мишки кувшин. На глазах у казачка появились слезы... Но Ваня этого не видел: он быстро бежал по молу, направляясь к батарее.
На молу было очень страшно – грохот стоял нестерпимый, клубы дыма закрывали путь, бежать приходилось осторожно, чтобы не попасть, в яму от бомбы и не пролить воду. По дороге мальчику стали попадаться убитые люди и лошади, разбитые зарядные ящики, повозки... Ваня уже жалел, что не взял с собой Мишку.
Первое, что заметил Ваня на батарее, это пламя из ядрокалильной печи, высоко поднимавшееся к небу. В обгорелых, покрытых копотью людях Ваня с трудом узнал солдат. Сразу же увидел он и прапорщика. Щеголев стоял на самом верху и размахивал саблей. За каждым взмахом следовал гром выстрела. Ваню охватила гордость: этот герой – его друг, живет у них в доме!
Ваня взобрался на приступок мерлона. Думая, что это опять Ивашка, Щеголев, не оборачиваясь, сказал:
– Привез порох? Вот спасибо...
– Не порох я вам принес, а покушать. Ведь вы со вчерашнего дня ничего не ели.
Щеголев обмер, увидев Ваню. Он позвал Рыбакова, который сразу же занял место командира, прапорщик соскочил с мерлона.
– Ванюшка! Д-да как же ты сюда? Убить могут! Р-ради бога, уходи отсюда, – сказал он заикаясь от испуга за мальчика.
Но лицо того сияло восторгом, – видно было, что уходить он не собирается. Тогда прапорщик со злостью схватил корзину, которую ему передал Ваня.
– Если ты сейчас же не уйдешь, все выброшу в море.
– Я уйду, – пролепетал Ваня. – Только немножко побуду...
– Нельзя, Ванюшка! – твердо сказал прапорщик. – Окажи мне лучше услугу...
– Какую? – насторожился Ваня.
– Беги сейчас на бульвар, там находятся генерал Сакен и полковник Яновский. Передай, чтобы мне прислали пороху,— сказал он первое, что пришло ему в голову.
– Бегу! — закричал Ваня и быстро побежал по молу.
Желая отплатить ничтожной батарейке за конфуз, союзники сосредоточили на ней огонь почти всех фрегатов. Теперь грохот стал уже непрерывным. Ухо перестало различать отдельные выстрелы. На батарее царил кромешный ад, уцелеть в котором, казалось, нечего было и думать. Десятки снарядов падали в воду, рвались на молу. Две бомбы одновременно ударили в правый мерлон и разорвались. Оглушенные взрывом солдаты не сразу пришли в себя, и батарея пропустила очередной залп. Половины мерлона как не бывало. Снесло также несколько верхушек свай, еще торчавших из воды.
С батарей не видно было, что делалось на берегу: густой дым закрывал порт. Только огненные языки, мелькавшие в той стороне, где стояли корабли, показывали, что судьба их решена.
— Что делают, изверги! — возмущались солдаты.— Не могут взять, так портят, подлые!
Кончался третий час боя. Четыре пушки от частой стрельбы так раскалились, что люди стали бояться из них стрелять, но прапорщик не разрешил уменьшать огонь.
— На нас только и надежда! Нельзя допускать, чтобы неприятель видел нашу слабость. Он сразу поверит в свой успех... Надо держаться. Бог милостив, авось не разорвет пушки-то!
Против Шестой батареи теперь действовали триста пятьдесят тяжелых орудий неприятеля.
Большая бомба ударила в остатки правого мерлона, скользнула в сторону, раздробила платформу, зацепила пушку, перебила дубовый, окованный железом лафет, колесо, подъемный винт орудия и закрутилась рядом, выбрасывая искры и дым.
«Взорвется — тогда смерть»,— подумал Федор Филиппов, глядя на бомбу. Он бросился к бомбе, схватил ее и понес к краю мола, чтобы бросить в море. Но сплоховал Федор: забыл, чему учил его прапорщик. В пылу боя все вылетело из головы, осталась одна мысль о товарищах. Не вырвал Федор горящей трубки. И совсем уже, было, донес бомбу до края, выпустил даже из рук ее, да было поздно: вспыхнула бомба ярким пламенем и на месте убила Федора Филиппова...
В это время на батарею примчался штабс-капитан Веревкин. Он выскочил из дыма, придерживая сбоку саблю, подбежал к прапорщику, молча сунул в руку записку и убежал. Записка гласила: «От имени корпусного командира прапорщику Щеголеву — спасибо! Майор Гротгус».
Щеголев соскочил с мерлона и прокричал изо всех сил:
— Братцы! Генерал прислал нам благодарность!
Радостное известие, казалось, поддержало солдат.
Вскоре на батарее появился сам начальник штаба генерала Сакена — генерал-майор Тетеревников. Спокойно подошел он к прапорщику, тронул его за рукав, заговорил. Минут десять побыл генерал на батарее, не торопясь и не обращая внимания на выстрелы, заглянул во все уголки, подбодрил солдат, побеседовал с ними и ушел так же спокойно, как и пришел.
Позже он так писал об этом посещении: «Когда в начале полного разгара боя прискакал я на эту батарею, там, на пространстве нескольких квадратных саженей, сыпались пустотелые снаряды всех видов, перекрестно направленные на батарею, лопаясь беспрерывно на и сзади батареи, напоминая батальный огонь из ружей. Щеголев распоряжался с невозмутимым спокойствием, артиллерийские служащие и бессрочноотпускные в рубахах работали около орудий».
Едва успел уйти генерал-майор, как появились два бородача с ведрами и корзинами в руках. Быстро стали обходить солдат, подавая каждому кружку свежей воды и кусок хлеба с мясом. Солдаты пили с жадностью.
Бой продолжался.
Тем временем запасы пороху быстро уменьшались. Полки в погребе были уже почти пусты. Сильно встревоженный солдат Никифор Максимов, считавшийся старшим, приказал возчикам, которые доставляли на батарею порох и ядра, передать об этом прапорщику.
— А что прапорщик сделает? — отозвался Матвей Шевелев,— надобно к генералу ехать...
Но ехать к генералу не пришлось. Как раз во время этого разговора около погреба остановилась телега.
— Ребята! Принимайте порох! — закричал прапорщик Дудоров, соскакивая с телеги.
К телеге подбежали солдаты и быстро разгрузили ее. А вскоре прибыло еще несколько телег с порохом и ядрами. Доставка боеприпасов наладилась.
На помощь солдатам пришли жители, среди которых были также Деминитру и Скоробогатый. Телеги разгружались очень быстро: сначала нагружался доверху зарядный ящик, а потом образовывалась живая цепь, и груз в течение нескольких минут исчезал внутри погреба.
Часовой Денис Юнников только крякал, видя такое вопиющее нарушение Устава: ведь не только внутрь погреба, но даже близко к двери ни под каким видом нельзя было подпускать посторонних. Для того-то и стоял часовым Денис; а тут чуть не десяток посторонних возятся внутри погреба, укладывая на полки картузы пороху.
— Эй, Никифор! — крикнул он Максимову, когда тот показался снаружи.— Чего мне делать-то? Гляди, сколько тут посторонних!
Никифор оглянулся вокруг и махнул рукой.
— Ставь куда-нибудь свое ружье да вези порох на батарею. Нечего тебе тут стоять, это верно.
Обрадованный Денис бросился нагружать зарядный ящик.
Работа была в разгаре, когда вдруг кто-то крикнул:— Сарай горит!
Все, кто только мог, бросились тушить пожар. На батарее было два насоса. Оба они работали беспрерывно, но струи воды были слишком слабы и не могли справиться с огнем, хотя насосы качали самые сильные из добровольцев, сменяясь каждые две-три минуты. Дым валил все гуще и гуще. Взрывом близко упавшей бомбы был разнесен в куски один насос и поврежден другой. Земля вокруг покрылась убитыми и ранеными. Попытались доставать воду ведрами и передавать по цепи от моря, но это оказалось недостаточным. Оставалось одно: отстоять только стенку, примыкавшую к погребу, или взлететь на воздух...
Одна из бомб упала на крышу погреба и так растрясла ее, что сквозь своды стало видно небо.
Воздух возле погреба сильно нагрелся, но по-прежнему грузили боеприпасы и отвозили их на батарею.
— Сказал бы прапорщику,— напутствовал Никифор возчика.— Пусть командир знает, что мы вот-вот на воздух взлетим.
— Это ты сам иди говори! — рассердился возчик.— Командиру больше не о чем думать!
Но прапорщик все же узнал об опасности, грозившей погребу, и велел сказать, чтоб солдаты держались до последнего.
— Видишь! — радостно говорил Никифору возчик, вернувшийся с этим приказом.— А ты говоришь «взлетим». Держаться надо! Вот и сполняй приказание!
И приказ прапорщика выполняли, хотя многие и сами не понимали, как это им удается...
Потушить сарай оказалось невозможно. Люди растаскивали горящие бревна и бросали их в море, мокрыми мешками преграждали путь огню, стараясь не допустить его к пороховому погребу.
Шел пятый час боя. На мерлон вылез Осип и прокричал в самое ухо прапорщику:
— Обходят нас корабли!
— Как обходят? — не понял Щеголев.
— Вода вон как прибыла,— враг и продвигается к Пересыпи,— обходит, значит, наш фланг.
Прапорщик поглядел в указанном направлении. Там, где еще недавно виднелись сваи, сейчас бежали одна за другой волны. Уровень воды значительно поднялся. Воспользовавшись этим, фрегаты постепенно проникали в глубь залива, заходя, таким образом, в тыл Шестой батарее. Впереди пароходов прыгали по волнам шлюпки, непрерывно делая замеры.
Видя, что батарея продолжает причинять кораблям повреждения, неприятель изменил тактику: пароходы уже не останавливались перед батареей, чтобы дать залп, а стреляли с хода. Одно судно шло за другим, и каждое, проходя мимо батареи, давало залп.
Попадания в неприятеля сразу уменьшились. Но прапорщик быстро приспособился к новой тактике врага.
Зорко наблюдая за очередным пароходом, он ловил момент, когда тот оказывался против амбразур, и взмахивал саблей. Гремели выстрелы, ядра падали возле судна или исчезали внутри его.
* * *
Несмотря на густые дым и пыль, застилавшие порт, с бульвара все же можно было разобрать подробности сражения. Сотни людей видели, как на «Вобане» вспыхнул пожар, как на корабле подняли сигнал бедствия и вслед за этим он вышел из строя.
Кричали «ура», обнимались. Мальчишки оглушительно свистели.
Несомненно неприятель видел толпы народа на бульваре. Немного спустя после ухода «Вобана» к пароходам присоединился 84-пушечный французский линейный корабль, направляя часть своих пушек на город. Бомбы и ядра стали сыпаться на бульвар. Много снарядов попало в дома. В стенах дворца графа Воронцова появились пробоины, загорелась конюшня. Позже сосчитали, что только в обрыв под самым дворцом и бульваром попало не менее двухсот снарядов.
Взрывом бомбы на левой стороне бульвара убило несколько человек. Вся эта сторона мгновенно опустела, зато правая была заполнена толпой людей.
Прожужжало ядро, ударило в угол пьедестала памятника Ришелье; куски розового мрамора полетели в разные стороны[10].
— Французы почтили память соотечественника! — заметил кто-то.
В одиннадцатом часу стрельба стала доноситься со стороны Суворовской крепости. С крыши штаба сообщили, что это Первая батарея ведет бой с неприятельским кораблем. Встревоженный Сакен стал обсуждать положение. Генерал Анненков пожелал лично проехать на батарею, узнать, как там идут дела, осмотреть позиции.
Вместе с Анненковым отправился и начальник гарнизона генерал-майор Корвин-Красинский.
Проезжая Канатную улицу, Анненков обратил внимание на толпу людей, занятых какой-то работой.
— Это строится батарея Луиджи Мокки, — сказал Корвин-Красинский.— Он делает ее за собственный счет.
Заинтересованный Анненков подъехал к месту работ. Оказалось, что батарея совсем готова и ее можно начать вооружать.
— В кого же вы стрелять собираетесь? — спросил генерал.— Ведь до неприятеля версты три. Ваши пушки не достанут.
— До кораблей не достанут, а до десанта достанут! — отвечали рабочие. — Нам бы, ваше превосходительство, хоть немного пороху сюда...
Ни генералы, ни рабочие не могли, конечно, знать, что постройка этой небольшой шестипушечной батареи произвела сильнейшее впечатление на неприятеля, хорошо видевшего все работы.
Оба союзные командующие поняли, что сопротивление русских не сломлено и не будет сломлено. В постройке батареи прямо на их глазах союзники увидели непреклонную решимость сопротивляться до победы.
Пока Анненков был на батарее Мокки, прискакал гонец и сообщил, что Первая блестяще отразила неприятеля и бой там закончен.
Генералы возвратились на бульвар.
В это время Шестая батарея отбивалась от семи вражеских судов.
Очевидец боя, наблюдавший его с бульвара, позже писал:
«...Ревут, гремят неприятельские пароходы, то раздаваясь батарейным огнем, то сливаясь в общий гул залпов. И вот, после многих десятков неприятельских громов, с батареи мелькнет дымок; мы выпрямляемся и жадно устремляем глаза вперед, по направлению выстрела... «Попал!» — раздается в толпе, и слова: «Бог помочь!», «Молодец!» сливаются в толпе в одно общее восклицание. И снова, затаив дыхание, ожидая нового выстрела нашей батареи, стоишь, забывая опасность...»
* * *
Ваня Бодаревский осторожно, чтобы его не заметил прапорщик, подобрался почти к самым пушкам, поставил ведро с водой и мешок с едой и быстро удрал.
Очень довольный собой, совершенно забыв о Мишке, которого он давно уже потерял, мальчик поднимался по Военному спуску. Под Сабанеевым мостом стояли солдаты. Когда Ваня подходил к ним, большая бомба ударилась о мостовую неподалеку, подскочила и взорвалась почти под самым мостом. Повалились два солдата.
Закричав, Ваня подбежал к ним. Возле хлопотали уже их товарищи.
— Ваше благородие, — обратился мальчик к офицеру, — раненых можно перенести к нам в дом. Это наш забор. Оторвать две доски — и прямо к дому. У нас им будет хорошо.
Спустя несколько минут раненые уже были в доме Бодаревских, возле них хлопотала Агафья, которой помогали другие женщины. Ваня притащил чистое белье. Пострадавших быстро перевязали. Те благодарили:
— Вот, барчук, ежели бы не ты, истекли бы мы кровью. Дай бог тебе здоровьица.
Офицер сказал:
— Рад видеть в таком молодом человеке столь высокое понимание патриотического долга! Непременно доложу о вашем благородном поступке по начальству.
Ваня смущался и не знал, что отвечать.
Когда раненые были устроены и офицер ушел, Ваня тихонько спросил Агафью:
—Мишку не видала?
— Как не видала — в чулане лежит чуть живой.
— Раненый? — ахнул Ваня.
— Отодранный. Барин его встретил да так отделал палкой!.. Чтоб не ходил без спросу.
Ваня нахмурился и, желая перевести разговор на другую тему, сказал:
— Скоро к нам, небось, и других раненых принесут.— И строго добавил:— Ты, Агафья, приготовь все, что нужно. Мы весь дом под лазарет возьмем.
— А как барин заругает?
— Не заругает. Александр Петрович приказал, чтоб, ежели у него кого ранят, — к нам нести, — соврал Ваня.
— А ты откуда знаешь, чего он приказывал? Он-то, чай, все время в сражении. Сама бегала на бульвар, своими глазами видела.
— Я был у него на батарее, — проговорил Ваня, хитро глядя на Агафью. Та ахнула, закрестилась.
— Что ты, батюшка, господь с тобою, да разве ж можно в этакой ад лезть!
— А вот говорю, что был, — упрямо повторил Ваня и отправился к Мишке.
В чулане было совершенно темно. Ваня остановился на пороге и прислушался. Было слышно, как стонет Мишка. Ваню охватила нестерпимая жалость к товарищу, его стали мучить угрызения совести. Он нащупал край постели и присел на нее.
— Миш, а Миш!..
— Чего? — глухо ответил Мишка.
— Ты меня прости, что я... того... оставил тебя там, на берегу. После я жалел, святой крест, жалел!..
— Бог простит...
— Нет, ты тоже прости. Теперь я никогда так не буду. Как уговоримся вместе чего делать — так будет мое слово крепко.
— Ладно, чего там вспоминать...
— Ты возьми осколок свой, тут и еще есть, — как обратно я бежал… я полные карманы насобирал. Бери!..
Он стал искать в темноте руку товарища.
— Да мне не нужно, — отказывался Мишка.— Своих девать некуда. У меня даже цельная бонба есть...
— Неужели?— поразился Ваня. — Покажи!..
— Она спрятана. Вот встану, покажу.
— Да ты скажи где, может я сам найду.
— Вам не найти, — сквозь зубы проговорил Мишка.
Ваня понял, что казачок боится, как бы он не отобрал бомбу, как отобрал осколок, и снова стал клясться, что ничего не заберет. Но Мишка твердил свое:
— Выдужаю, сам покажу.
— Да как ты нашел ее?
— А на улице подобрал. Три ядра нашел. А потом вижу — упала бонба неподалеку. Дым из нее идет вонючий, искры сыплются, как из самовара. Кинулся я на нее и вырвал трубку.
— А откуда ты знаешь обращенье с бомбами? — поразился Ваня.
В темноте послышался тихий смешок.
— А мы тоже на батарее бывали, глядели, как дедушка Осип солдат учили. Я, ежели чего, и из пушки выстрелить могу... И даже, попаду, ежели, конечно, недалеко...
— Ну, уж это ты врешь! — с завистью сказал Ваня, но вполне поверил, что Мишка мог бы выстрелить из пушки.
* * *
Шестая батарея продолжала вести бой. В минуты, когда прапорщик спускался с мерлона и, привалившись к нему, сидя неподвижно, с закрытыми глазами, отдыхал, батареей командовали Рыбаков и Осип. А однажды, когда воздухом от близко пролетевшей бомбы был сброшен на землю Рыбаков, его место занял Андрей Шульга. И он не сплоховал: улучил момент, махнул саблей, и ядро попало прямо в мачту пароходо-фрегата. Мачта стала медленно клониться и свалилась за борт. Не помня себя от радости, Андрей заорал:
— Смотрите, смотрите! Сейчас я ему трубу собью!
Но трубу сбить Андрею не удалось, хотя ядра еще два раза попали в пароход.
...Вражеские пароходы проникали в бухту все глубже и глубже. «Еще немного — и пушки не смогут стрелять в неприятеля, — подумал прапорщик. — Нельзя упускать ни минуты».
Но тут батарею постигло новое несчастье: большая бомба угодила прямо в калильную печь. К небу высоко взвился столб яркого пламени, вокруг рассыпались ядра, горящие уголья, раскаленные кирпичи. Угли поджигали все, что могло гореть. У Щеголева загорелся мундир, но он быстро сбил огонь руками. На солдатах вспыхивала одежда, волосы. Пожар, однако, скоро потушили. Убитых не было. Все снова бросились к пушкам. Только Дорофей Кандауров продолжал лежать на земле, почти потеряв сознание от удара и ожогов. И вдруг откуда-то издалека до него донеслась команда прапорщика:
— Второе — пли!.. Третье — пли!..
И то, что за этой командой не последовало привычного раската выстрела, было страшнее всего. Дорофей сразу пришел в себя. Неподалеку от него лежало темнокрасное ядро и тихо шипело. Дорофей поглядел на то место, где несколько минут назад была калильная печь, а теперь дымилась куча кирпича, и, шатаясь, схватился на ноги.
— Ребята! Хватай ядра, заряжай скорее, пока не остыли! — Он схватил чей-то валявшийся мундир, обернул ядро и понес его к пушке. Мундир загорелся, едкий дым выедал Дорофею глаза, но он донес ядро к пушке и сунул в дуло. Солдаты также бросились собирать рассыпанные ядра, заряжали ими пушки и снова стреляли.
Было около полудня, когда с наблюдательного пункта на Шестой батарее была замечена особенно яркая вспышка. Генералы забеспокоились; Анненков и Корвин-Красинский захотели проведать батарею.
Выехав на мол, генералы на миг остановились: вокруг все пылало, на батарею градом сыпались снаряды. Но и под этими снарядами в дыму мелькали фигуры солдат. Батарея отстреливалась. Сверху совершенно открыто стоял и командовал прапорщик Щеголев. Анненков поговорил с ним и передал разрешение генерала Сакена оставить батарею, когда сам Щеголев найдет это нужным.
Пушки стреляли уже холодными ядрами. Узнав об этом, Корвин-Красинский обратился к прапорщику:
— Уходите! Холодными ядрами большого вреда неприятелю вы причинить не сможете.
— Но ведь неприятель этого не знает, — возразил Щеголев. — Пусть враги видят, что батарея действует. Это очень важно.
Прошел еще час. Неприятель прилагал все усилия, чтобы сломить неслыханное сопротивление батареи. На бульваре не могли понять, как там могло уцелеть хоть что-нибудь живое... Но пушки продолжали выбрасывать клубочки дыма. Сакен снова послал воз боеприпасов. Казак, привезший их на батарею, передал Щеголеву собственноручную записку командующего, написанную карандашом:
«Храброму, спокойному, распорядительному Щеголеву — спасибо.
Генерал адъютант Остен-Сакен. 10.IV.1854-121/2 пополудни. 6 часов вижу».
Когда прапорщик получил записку Сакена, корабли неприятеля уже проникли в глубь залива и вышли в тыл батареи. Теперь по ним могло вести огонь только одно крайнее левое орудие. Батарея оказалась совершенно открытой вражескому огню. Положение стало невыносимым. Несколько солдат было ранено, каждую минуту мог взорваться погреб...
И тогда прапорщик решился. Обернувшись к барабанщику, он приказал бить отступление. Солдаты заклепали пушки. Из последней пушки прапорщик сам выстрелил и сам же ее заклепал. На прощанье поцеловал пушку... Шестая батарея прекратила сопротивление, продолжавшееся шесть с половиной часов!
Нужно было подумать об отступлении. Сделать это было не так просто: в тылу, непрерывно поражаемом снарядами, пылало все. Солдатам пришлось вылезти из амбразур прямо под огонь вражеских кораблей и идти по совершенно открытому месту вдоль мола. Проходя беглым шагом мимо погреба, Щеголев снял оттуда солдат и стал выходить на берег. Вдруг задрожала земля, позади взвился высокий столб пламени, ударом горячего воздуха всех повалило на землю.
Поднимаясь, Щеголев увидел огромную тучу дыма, поднявшуюся над погребом. Взорвался пороховой погреб. Задержись они еще хотя бы минуту на батарее — все неминуемо погибли бы!
Отряд Щеголева направился на Пятую батарею, как это было указано в диспозиции[11] на случай гибели Шестой.
Но до Пятой они не дошли: подлетел всадник и сообщил, что командующий приказал всем батарейцам немедленно идти к нему.
Увидев подходивших героев, генерал Сакен направился к ним навстречу.
Щеголев хотел было докладывать, но генерал, не слушая, обнял и расцеловал его.
— Герои, ах, какие герои!.. — говорил он, то отходя от солдат, то подходя снова.
Затем генерал позвал адъютанта и стал собственноручно навешивать каждому георгиевский крест. Подойдя к Дорофею Кандаурову, командующий замешкался: крест навешивать было некуда — вместо рубахи на солдате остались только жалкие тряпки. Выручил вестовой казак.
— Дозвольте, ваше превосходительство! — крикнул он и, вырвав из сумы возле седла чистую рубаху, накинул ее на солдата. Сакен довольно закивал головой и прикрепил крест.
Примеру казака последовали и другие — мгновение спустя все батарейцы были одеты в чистые рубахи.
Сакен сказал Щеголеву:
— Вас, мой юный герой, мне награждать нечем. Это сделает государь. Теперь же немедленно идите отдыхать. Благодарная Россия всем вам разрешает больше в бою не участвовать.
Прапорщик едва расслышал слова генерала.
— Нет, ваше высокопревосходительство... Мы еще можем сражаться... — Офицер покачнулся и упал бы, если бы его не поддержал Богданович.
— Отдыхать, немедленно всем отдыхать! — приказал генерал.
Из густой толпы, стоявшей вокруг, стали раздаваться предложения взять героев на отдых. Прапорщик не захотел расставаться с солдатами. Тогда хозяин Парижской гостиницы предложил взять всех к себе:
— У меня помоетесь, покушаете и отдохнете... Никто вас не будет беспокоить. И если генерал к себе потребует, так ходить недалеко.
После взрыва порохового погреба, хорошо замеченного неприятелем, стрельба сразу уменьшилась, а к двум часам совсем прекратилась.
Героическая эпопея Шестой батареи закончилась...
Глава седьмая
С утра этого дня артиллерийские полудивизионы пешей артиллерии поручиков Раевского и Полякова расположились на Соборной площади. Здесь уже был эскадрон улан и рота пехоты.
Когда началась пальба, командиры решили, что вскоре высадится неприятельский десант. Чтобы быть наготове, поручики приказали даже не выпрягать лошадей. Но проходили часы, а сообщения о десанте не было. Беспрерывно гремели пушки, иногда слышался свист ядер, отдельные бомбы падали даже на Дерибасовской улице, высоко взметывая столбы дыма и пыли...
В отряде уже было известно, что бой с огромной неприятельской эскадрой ведет одна-единственная маленькая батарея под командой какого-то совсем молодого прапорщика, — даже фамилии его не знали! О Третьей батарее рассказывали, что она перестреливается с неприятелем на большой дистанции.
Офицерам очень хотелось самим посмотреть все это. Но отлучиться нельзя было ни под каким видом: в любую минуту их могли потребовать отражать десант. Не решались подойти даже к пожарной каланче, что на углу Преображенской и Полицейской улиц. Ждали известий от наблюдателей. Мимо то и дело мчались лазаретные дроги с ранеными из той части города, куда особенно много падало бомб...
Сразу же после полудня из-за угла Екатерининской улицы на Дерибасовскую вылетел на полном карьере казак. Он направился прямо к офицерам и, осадив лошадь, подал им пакет. Это был приказ, которого так ждали все — и командиры и солдаты.
Обоим полудивизионам, а также эскадрону улан и роте пехоты надлежало немедленно выступить на Пересыпь для отражения готовящегося десанта. Предписывалось двигаться скрытно, следуя по Херсонской улице и Херсонскому спуску, а не по Нарышинскому, дабы избежать преждевременного обнаружения неприятелем.
На площади началась суета, — кричали люди, ржали лошади. Через несколько минут загромыхали по мостовой пушки, зацокали копыта, запылили солдатские сапоги. Отряд двинулся...
Пока артиллерия шла по Херсонской, офицеры поскакали вперед и, стоя над обрывом у начала Торговой улицы, жадно наблюдали картину боя... Видели, как тяжело приходится Шестой батарее, как глубоко в залив проникли вражеские пароходы...
Пушки остановились у пересыпской церкви, на самом берегу. Стали ждать...
Неприятельские суда стояли сравнительно близко от берега и вели огонь по батарее и порту, но десанта пока не высаживали.
Офицеры взобрались на колокольню, которая поминутно вздрагивала от пушечной пальбы.
Когда в час дня на Шестой батарее что-то вспыхнуло и вслед за тем раздался сильный взрыв, офицеры решили, что храбрый гарнизон батареи погиб. Напряжение в отряде возрастало. Все понимали, что теперь самое время высаживать десант — единственная помеха в этом — Шестая батарея — больше не существовала...
Постепенно затихла стрельба, все как будто успокоилось. Но пароходы не уходили, и это тревожило поручиков.
Было уже около четырех часов дня, когда от пароходов стали отходить шлюпки.
Тотчас же весь отряд был приведен в боевую готовность.
К берегу шло десять больших шлюпок с войсками. Полагая, что берег не защищен, пароходы огня не открывали.
— Подпустим лодки поближе, — говорили поручики солдатам. — Нам стрелять будет удобнее, а неприятелю труднее — смогут попасть в своих...
Мерно поднимались весла, взлетали на волны тяжелые шлюпки, подгоняемые сильным ветром. Десант приближался. Прикрывая его, к берегу поближе подошли два парохода.
Волнуясь, Раевский сказал Полякову:
— Не близко ли подпускаем? Не успеем обстрелять их как следует.
Поляков успокаивал:
— Все идет хорошо. Начнем стрельбу не раньше, чем они подойдут саженей на полтораста. Иначе картечь будет малодейственной, да и шлюпки успеют быстро выйти из-под нашего огня.
— А если они пойдут дальше и будут штурмовать берег?
Поляков захохотал.
— Они-то?!. Штурмовать?!. В таком случае от нас не уйдет ни один человек из десанта!.. Они ведь полагают, что берег не защищен, иначе давно открыли бы пальбу из пушек... Появление наше будет для них совершенно неожиданным, они сразу же постараются удрать подальше, а не лезть врукопашную с нами.
Шлюпки были уже близко. И тогда поручики подали знак. Из-за церкви вылетели четыре орудия; глубоко зарываясь колесами в песок, лихо развернулись. Подбежали солдаты, присели у прицелов.
— Картечью по наступающему врагу...
Шлюпки, заметив батарею, перестали грести и сбились в кучу.
— Пли!..
Рвануло воздух. Завизжала картечь и хлестнула по шлюпкам.
В группе неприятелей раздался крик, несколько человек упало в воду.
После повторной команды заряжать картечью к поручику Полякову подбежал солдат.
— Ваше благородие!.. По ошибке... ядром зарядил орудие...
— Ах ты!.. — рассвирепел поручик, сгоряча давая солдату тычка кулаком в зубы. — Стреляй, негодяй! Попадешь — на водку получишь, не попадешь — запорю!
Солдат подбежал к своей пушке и стал ее наводить. Все пушки снова грохнули картечью, а солдат все наводил свою.
— Ты что же, заснул?!. — гаркнул поручик. Но слова его утонули в громе выстрела. Все видели, как, описывая пологую дугу, понеслось ядро и ударило прямо в середину ближайшей шлюпки. Она сразу же исчезла под водой, оставив на поверхности множество черных точек —голов. Остальные шлюпки, оставляя утопающих, бросились удирать. Пушки с берега успели еще раз послать залп.
От восторга поручик кинулся целовать меткого канонира.
— Вот это выстрел!.. Извини, братец, — погорячился я. Вот тебе три рубля. Выпей с товарищами на здоровье.
Бу-у-м! — прокатился по морю грохот. Это открыли огонь пароходы прикрытия.
Бомбы накрыли батарею. Убило четырех лошадей, контузило двоих солдат. Пароходы стояли слишком далеко для полевых шестифунтовых пушек и четвертьпудовых единорогов, и батарея не могла отвечать на их огонь. Солдаты закатили пушки за прикрытие; быстро привели лошадей взамен убитых, и батарея умчалась. Но неприятель еще с полчаса обстреливал берег, а затем перенес огонь на город.
С Третьей батареей пароходы по прежнему перестреливались только издали. Попытались было подойти поближе к Военному молу, где еще дымилось пожарище, но заговорили пушки Четвертой и Пятой батарей, и неприятель поспешил отойти, стреляя по городу.
С заходом солнца стрельба утихла, пароходы отошли к эскадре. Наступила ночь... Но город не спал. В храмах шла торжественная служба, на площадях ярко горели смоляные бочки. А на оборонительных точках всю ночь кипела напряженная работа. За ночь с помощью жителей успели вооружить батарею Мокки и — самое главное — соорудить еще одну батарею — на Пересыпи, на том самом месте, где так удачно действовали артиллеристы поручиков Раевского и Полякова. Утром неприятель был поражен, увидев здесь земляные мерлоны и амбразуры, откуда грозно глядели пушки.
На берегу сотни жителей всю ночь наблюдали за неприятелем.
И враг, словно чувствуя опасность, не был спокоен. С заката до восхода солнца вокруг эскадры сновали десятки шлюпок с фонарями...
Около пяти часов утра от эскадры внезапно отделился пароходо-фрегат под французским флагом и понесся к Одессе. Залетев с полного хода в промежуток между Карантинной и Практической гаванями, развернулся и дал залп по бывшей Шестой батарее, где еще курился дымок. С Четвертой батареи по пароходу ударили однопудовые единороги. Несколько бомб сразу попало в его корму. Упала мачта. Распуская дымный хвост, фрегат, не отвечая батарее, быстро развернулся и вышел из зоны огня. Подойдя к Пересыпи, он стал осыпать бомбами новую батарею, но за большим расстоянием не попадал. Постреляв минут пятнадцать, пароход удалился, так и не причинив никому повреждений.
И снова воцарилась тишина.
...Щеголев спал двадцать часов. Проснувшись, он увидел на ночном столике какую-то бумагу и протянул к ней руку. Когда он пробежал глазами первые строки, дрему как рукой сняло. Прапорщик схватился с кровати и подбежал к окну, хотя в комнате было светло.
Это был приказ № 6 от 11 апреля 1854 года. Генерал Сакен сообщал населению о событиях прошедшего дня.
«...Потери наши поразительно малы; несмотря на многие тысячи снарядов, выпущенных неприятелем по граду Одессе, — читал Щеголев, — пострадавших только: 4 убитых солдата, ранено 1 офицера и 45 солдат, контужено 12 солдат. На Пересыпи сожжено 14 обывательских домов, в самом городе повреждено 52 дома...»
Далее следовало подробное описание подвига Шестой батареи.
Приказом командующего прапорщик Щеголев был назначен командиром батареи имени Луиджи Мокки.
Солнце заливало комнату, в окна тянуло свежим морским воздухом, на деревьях чирикали птички. Одеваясь, прапорщик радостно улыбался. Первое испытание он, Александр Щеголев, выдержал с честью, не опозорил имени, которое носили многие славные сыны отечества.
С утра бульвар снова заполнился толпами народа. Появился военный оркестр. Бравурные звуки маршей и вальсов разнеслись по тихой глади залива и достигли вражеских кораблей. Неприятелю было ясно, что дух защитников Одессы не сломлен!
В Парижскую гостиницу повалил народ. Всем хотелось повидать героев, пожать им руки. Прапорщика едва не задушили в объятиях. А когда после завтрака отряд Щеголева направился к новому месту назначения — на батарею Мокки, его сопровождали толпы людей. Сам хозяин батареи Луиджи Мокки, сияя раскрасневшимся лицом, радостно встретил героев. Он знал, что теперь его батарея в надежных руках.
Вражеская эскадра, ничего не предпринимая, простояла перед городом еще три дня — 11, 12 и 13 апреля. А 14-го на рассвете город был всполошен известием, что на эскадре заметно большое движение, густо дымят пароходы, двигаются линейные корабли.
Ударили тревогу, приготовились к бою.
Но тревога оказалась напрасной: развернувшись, эскадра, как побитый пес, потянулась прочь от Одессы, медленно исчезая за горизонтом.
Однако Сакен не верил неприятелю.
— А вдруг вернутся, думая застать нас врасплох... — говорил он. — Вывезенные учреждения пока не возвращать, войск из города не выводить!
День проходил за днем, и воспоминания о бое стали отодвигаться, хотя не выветрился еще запах пожарищ, не убраны были развалины.
А перед рассветом 30 апреля город был разбужен гулом тяжелых морских орудий, доносившимся со стороны Среднего Фонтана. Тихие одесские улицы вмиг заполнились народом. Все говорили о десанте, якобы высаживающемся недалеко от города...
* * *
С тех пор, как в конце марта три союзных парохода побывали под Одессой и захватили там несколько барок, груженных зерном, углем и солью, английский и французский командующие не имели и дня покоя: барки были проданы, и их захватчики весело позванивали в карманах призовым золотом. Английских и французских офицеров мало смущало, что этот захват маленьких суденышек, никогда не имевших на борту даже настоящего ружья, был попросту пиратством, — все хотели повторить этот «подвиг», все просили послать их в разведку.
В числе офицеров, желавших отправиться под Одессу за призами, был и капитан Джиффард — командир одного из лучших английских пароходо-фрегатов «Тигр».
Дундас попробовал образумить любителей легкой наживы: «Вы недооцениваете русских. Пустить под Одессу столь малые силы рискованно: выскочит из Севастополя Нахимов и отрежет вам пути к отступлению. Что тогда? Кроме того, в Одесском заливе много мелей; в это время года там часто бывают туманы, легко сбиться с курса...»
— Мне ли беспокоиться о туманах и мелях в этой луже! — обиделся Джиффард. — Я проводил парусные корабли через Магелланов пролив, а условия там не сравнить со здешними... Ведь вы же посылаете корабли в разведку к берегам Крыма, — пошлите меня чуть подальше.
Дундас разрешил поход.
— Только с вами пойдет «Нигер», — заявил Дундас, — и французский «Везув».
Появление конкурентов не очень понравилось Джиффарду, но он ничего не сказал. Успокоил и взволнованных этим обстоятельством своих офицеров.
Едва отряд вышел из Варны, как «Тигр», пользуясь более мощной машиной, стал прибавлять ход.
Оставив далеко позади «Нигера» и «Везува», «Тигр» уверенно направлялся к Одессе.
В кают-компании, несмотря на позднее время — шел четвертый час ночи, — было весело и шумно. Офицеры корабля чествовали своего командира за то, что он сумел добиться разрешения на этот поход. Яркое освещение каюты, белоснежная скатерть на столе, хрусталь и серебро сервировки — все создавало хорошее настроение. Подойти к Одессе намеревались на рассвете, чтобы с утра начать «охоту за добычей», как выразился капитан Джиффард.
Корабль шел самым полным ходом, гулко хлопали по воде огромные колеса, от переборки тянуло жаром.
Джиффард расстегнул крючок высокого, расшитого золотом воротника мундира и откинулся в кресле, то прихлебывая чай с ромом, то посасывая коротенькую трубочку, когда на пороге каюты появился матрос.
— Вошли в густой туман, сер! — доложил он. — Господин вахтенный начальник просит разрешения уменьшить ход.
— Уменьшить ход? — резко переспросил Джиффард. — Я сейчас сам поднимусь на мостик.
Матрос исчез. Офицеры с волнением смотрели на командира, задумчиво поглаживавшего тщательно выбритый подбородок.
— Уменьшить ход — это значит прийти позже к Одессе, дать возможность конкурентам догнать их.
Старший офицер догадался об его мыслях.
— Прошу извинить меня, сер. Мне кажется, что можно было бы несколько уменьшить ход. Ведь и те пароходы уменьшат ход, когда дойдут до этого проклятого тумана...
Командир не терпел никаких замечаний. Он нахмурился и молча уставился мимо офицеров на стену, где висела искусно сделанная голова крупного бенгальского тигра — символа имени корабля. Чучело выглядело как живое: оскаленная пасть, горящие адской злобой глаза. И вдруг командиру показалось, что голова хитро подмигнула.
— Пройдем в рубку и посмотрим, где мы находимся, — бросил Джиффард и поднялся. Разом вскочили и офицеры.
— Мы у входа в Одесский залив, — сказал капитан, когда штурман показал ему точку, где, по его расчетам, находился корабль. — Вот здесь вы проложили курс...
— Так точно, сер, — подтвердил штурман. — Именно этим курсом мы шли девятнадцатого...
— Знаю, — оборвал Джиффард. — Справа от нас вход в Очаковский лиман... Перед нами свободная вода. Мы можем не уменьшать ход еще полчаса... Следить за морем, — приказал он старшему офицеру. — Послать на бак вперед смотрящего. Если заметите рыбаков, подойдите к ним, надо уточнить наше положение... Через полчаса вызовите меня, я буду отдыхать.
И «Тигр» продолжал нестись полным ходом.
Минут двадцать спустя раздался голос вперед смотрящего:
— Слабый огонь с левого борта!
— Малый ход! — скомандовал старший офицер. — Править на огонь! Вызовите командира.
Почти тотчас появился Джиффард. «Тигр» подошел к рыбачьей шлюпке и остановился.
— Ступайте, поговорите с рыбаком, — приказал Джиффард офицеру, бывшему одновременно и переводчиком. — Спросите, где мы находимся. Да смотрите, чтобы он не догадался, кто мы такие.
Опанас, рыбак из Большого Фонтана, с вечера, как обычно, выехал на рыбную ловлю. Отъехав от берега на версту, — дальше идти не позволяла старая лодчонка, — он выпустил за борт перемет — длинную леску с сотней крючков, повесил над самой водой фонарь и стал поджидать добычу. Море было неподвижно, мертвый штиль предвещал туман. Но это не беспокоило рыбака: по военному времени корабли в море не ходили, опасаться столкновения было нечего.
Проверив перемет, Опанас взялся за черпак: лодка протекала, то и дело приходилось отливать воду. Но пуще всего опасался он за свою снасть. Леска у него была на зависть всем большефонтанским рыбакам: самая крупная кефаль не могла разорвать ее.
Ночь проходила. Улов был неважный. Опанас стал подумывать о возвращении.
Вдруг какой-то шум нарушил тишину ночи. Рыбак напряженно прислушался. До него донеслись удары колес, вздохи паровой машины. «Пароход! Ночью под Одессой пароход! Чей же это? А вдруг неприятель?.. — пронеслась мысль. — Или, может быть, посланец из Севастополя?.. Но почему неизвестный пароход идет так близко от берега? Ведь это же опасно, кругом мели...»
Пароход быстро приближался. В сильном волнении рыбак схватил фонарь и замахал им. Шум колес стих.
«Заметили, — обрадовался Опанас. — Неровен час, могли и наскочить».
Из тумана появился силуэт большого двухтрубного парохода. Он медленно подошел к шлюпке и остановился. С палубы закричали на ломаном русском языке:
— И-э-эй, шлиупка-а-а! Пливай близко-о-о!..
«Это не наши, — подумал рыбак. — Уж не враг ли пожаловал? И без огней».
— Сейчас, сейчас... — торопливо крикнул рыбак и, желая получше рассмотреть пароход, стал протягивать шлюпку вдоль его борта к корме. На палубе он заметил пушки...
С парохода стали расспрашивать, кто он, откуда, что делает.
«Эге, — подумал Опанас, — все-то тебе нужно знать. Видно, ты тут еще не плавал, что ничего не знаешь. Тебе дорожку узнать требуется, в тумане, видно, заблудился».
— Рыбак я с Дофиновки! — закричал он, называя место, находящееся на противоположном берегу Одесского залива, между Одессой и Очаковым. — А вы тут что делаете?
— То не есть твой дело! — грубо отвечали с палубы. — Говори скоро, какой курс Одесса лежит?
— В Одессу вам нужно? Покажу курс, это можно.
Будто для того, чтобы лучше показать направление, Опанас высоко поднял фонарь, поднес его к корме парохода и от испуга чуть не уронил в воду: на корме неизвестного парохода он разобрал название «Тигр» и три буквы, которые обозначали, что корабль принадлежит британскому военному флоту.
Перед ним был враг, тот самый враг, который только двадцать дней назад громил город. Бывалый моряк, Опанас сразу понял, какую опасность представляет этот хищник для Одессы. «Надо предупредить наших! — пронеслась мысль. — Но как?» Ведь при малейшем подозрении англичане тут же утопили бы его.
Рыбак облизал пересохшие губы и крикнул, размахивая фонарем в том направлении, где милях в четырех была мель:
— Плывите вот так! Через час будете в Одессе.
«А вдруг поможет господь и проклятый англичанин поверит!» — подумал он, со страхом глядя на огромные пушки, торчавшие с палубы «Тигра».
Вопросов ему больше не задавали. Послышался шумный вздох машины, захлопали по воде колеса. Большая волна подхватила шлюпку, вода хлеснула через борт, потушила фонарь.
С трудом удерживая равновесие, затаив дыхание, Опанас всматривался в удаляющийся силуэт корабля. И вдруг сердце его радостно забилось: пароход медленно повернул по указанному Опанасом направлению.
Рыбак стал поспешно вытаскивать в темноте перемет. Крючки впились в борт шлюпки, в весло. Заскрипев от отчаяния зубами, Опанас выхватил нож и рубанул им по леске. Драгоценная леска мгновенно исчезла за бортом. Весло освободилось, и рыбак стал изо всех сил грести к берегу. Верста показалась ему бесконечной.
Но вот и берег... Еще десяток саженей, и шлюпка остановилась...
Сообщение рыбака придало Джиффарду уверенности. На карте было быстро найдено место со странным названием — Дофиновка.
— Я думал, что мы значительно левее, — сказал капитан штурману. — Ну что ж, исправим ошибку, — возьмем немного к норд-весту.
— А не мог рыбак дать нам неверный курс? — осторожно заметил старший офицер.
— Пустяки, — выпрямился Джиффард. — Я это учитываю и изменяю курс только чуть-чуть. Пока будем идти полным ходом, а через полчаса уменьшим до среднего.
«Тигр» быстро понесся во тьму ночи. Но вскоре старшему офицеру показалось, будто он слышит лай собак. Он напряженно прислушался; лай стал доноситься яснее.
— Собаки с левого борта! — испуганно крикнул он.
— Слышу!.. — раздраженно бросил Джиффард. — Малый ход!
Хлопанье колес за бортом сразу утихло, бурный рокот воды сменился тихим журчаньем. Но не успел пароход замедлить ход, как все почувствовали легкий толчок, потом судно рванулось вперед, новый сильный толчок сбил всех с ног, внизу что-то заскрипело, затрещало, и пароход резко остановился.
— Стоп! — заорал Джиффард, вскакивая на ноги.
— Уже стоим, сер... — дрожащим голосом ответил вахтенный офицер.
— Полный назад! — приказал Джиффард.
Все с тревогой выглянули за борт. Машина заработала, колеса стали вращаться все быстрей и быстрей, корпус парохода задрожал, но судно не двигалось. Джиффард выругался.
— Стоп! Проверить состояние корпуса, замерить глубину с обоих бортов, приготовиться к заделке пробоин.
Он командовал быстро и четко, его приказания немедленно исполнялись. Течи не оказалось, в машине все было исправно, но измерения глубины показали, что корабль всей носовой частью сидит на мели. Осадка парохода у носа уменьшилась на полфута.
— Разгружать носовую часть, — приказал Джиффард. — Машиной тут ничего не сделаешь. Облегчим нос, тогда и сойдем... Досадно, что упустим самое драгоценное время...
— А наше положение не опасно? — спросили офицеры.
— Нисколько, — спокойно сказал Джиффард. — Русские нам совершенно не страшны: крупных орудий у них здесь нет, а мелкие нам ничего не сделают. Весь вопрос в том, сколько времени мы тут простоим... Надо посмотреть, где мы находимся. Что это за мель посреди залива, откуда она могла тут взяться?..
— А может быть, и раньше берег был у нас с левого борта, а рыбак ввел нас в заблуждение? — высказал кто-то предположение.
Офицеры прошли в штурманскую рубку. Джиффард склонился над картой.
— Сер! — вдруг испуганно воскликнул старший офицер. — Мы не учли Одесскую магнитную аномалию! Вот сноска внизу карты.
Джиффард резким движением поднес к карте лампу.
— Вы правы, чорт вас возьми. Как это могло произойти? — повернулся он к штурману. — Вы уверены, что курс проложен вами правильно?
— Конечно, сэр, — пролепетал штурман. — Курс совершенно тот же.
— Тогда как же все это получилось?
— В тот день мы шли днем... в кильватерной колонне... Да и сегодня... — Штурман замялся.
— Что сегодня?
— И сегодня ничего бы не случилось, если бы мы шли, не изменяя курса...
Джиффард ничего не ответил, обвел тяжелым взором стоявших рядом офицеров и вышел на палубу.
Работы по разгрузке носа шли полным ходом. Полчаса спустя Джиффард приказал замерить глубину у носа — она была без изменений. Капитан подошел к борту и стиснул поручни руками: ему стало ясно, что своими силами «Тигру» не сойти. Случилось именно то, против чего его предостерегал командующий. Позвать на помощь? Но это будет конец блестящей карьеры и репутации Джиффарда. Ему не простят конфуза, о нем будут кричать все европейские газеты.
Он вспомнил свое глупое хвастовство перед Дундасом, сравнение одесского залива с Магеллановым проливом и с ненавистью посмотрел на туманную муть, окружавшую корабль. Русских он не боялся, тут он перед своими офицерами душой не кривил. Но вызывать помощь ему, знаменитому капитану Джиффарду, которого уже в самое ближайшее время прочили в адмиралы, — это хуже всего. Однако выбора не было: на ответственности капитана была безопасность лучшего корабля Англии, 24-х офицеров и 201 гардемарина, матроса и кочегара.
— Бейте в рынду, — сдавленным голосом сказал он. — Завезти якорь на корму, попытаемся хоть немного сдвинуться.
Заунывные удары колокола раздались в туманном воздухе. Прозвонив несколько раз, он замолк. Над морем воцарилась тишина.
— Стоят где-нибудь в тумане, — скривился Джиффард, говоря об отставших спутниках. — Моряки!..
Звонили еще два раза, но ответа не было. Тогда Джиффард приказал:
— Палите двумя холостыми из самых тяжелых пушек. Они не могут быть далеко.
Спустя минуту багровая вспышка прорезала начинавшую рассеиваться ночную тьму, и гулкий грохот раскатился по безмолвному морю.
Все напряженно прислушались, но ни звука не доносилось со стороны моря, только со стороны берега бешеным лаем заливались собаки.
* * *
В расположении казачьей сотни царила ночная тишина. Дремавший часовой не успел задержать промелькнувшего мимо него всадника. Тот подъехал к двери дома, где разместился офицер, и изо всех сил застучал в него кулаками. Спавшие неподалеку в сене казаки повскакивали.
— Чего стучишь? Там их благородие отдыхают. Чего тебе надо среди ночи? Аль новость какую принес?
Приехавший закивал головой и, еле переводя дыхание, вымолвил:
— Неприятель...
Один из казаков сразу же бросился в дверь.
— Ваше благородие, проснитесь! Вестовой прибыл — неприятель, говорит, появился.
Офицер тотчас проснулся и сел на постели.
— Чего мелешь? — спросил он строго.
Казак повторил.
— Так чего же ты стоишь, дурень! — закричал офицер, бросаясь натягивать сапоги. — Давай его сюда скорее.
Казак выскочил, схватил за руку вестового и втащил его к офицеру.
— Ты откуда? — спросил офицер.
— С Большого Фонтана я... Рыбак к нам на пост прибежал... Говорит, будто неприятельский пароход прошел к Одессе. Он сам видел его... Говорит английский... Вам приказано проехать вдоль берега и посмотреть, все ли тихо. Кроме того, к вам сейчас прибудет полубатарея.
— Трубача!.. Боевую тревогу!.. — приказал офицер одеваясь. Во дворе запела труба, послышались крики казаков, топот и ржание лошадей.
Через несколько минут сотня уже мчалась вдоль берега, перескакивали через плетни, спускались в обрывы.
Возле дачи Картацци со стороны моря послышался какой-то шум.
— Тише! — сказал офицер казакам. — Тут надо осторожно. Пусть кто-нибудь подберется поближе к воде, поглядит, что там делается.
Вдруг из-за стены сада раздался голос:
— Эй, вы там! Что за люди? Отвечайте, не то стрелять буду!
Окрик был настолько неожиданный, что офицер вздрогнул.
— А ты кто такой, что спрашиваешь? Мы казацкая сотня!
— Братцы! — обрадовался голос. — Так вас-то мне и надо!
Через стену перескочил какой-то человек и подошел к офицеру.
— Кондуктор с парохода «Андия» — Кмита, — представился он. — Здесь являюсь начальником наблюдательного пункта, что на даче Картацци. Я услышал шум возле берега и спустился к воде. Похоже, что на мели стоит какой-то корабль. Но из-за тумана я не могу подать сигнал!
— Ничего, — успокоил его офицер, — я пошлю сейчас казака в город...
Вдруг появилось еще несколько человек с ружьями в руках.
— Кто вы такие?
— Жители местные, рыбаки. Сторож тут один разбудил, говорит, что неприятель появился, вот мы и вышли, кто с чем мог. Пароход действительно сидит на мели... Не нашинский.
— А вы откуда знаете?
— А вот мы, — вышли вперед двое, — плавали туда, к пароходу-то. Все повысмотрели. Крепко сидит на мели. Они уж и так, и этак — ничего не получается. И машиной работают и якорь завозят — все впустую.
— А может быть, они теперь решат высадиться?
— Никак нет, ваше благородие. Уж если бы неприятель появился на берегу, так наши тотчас подняли бы тревогу, — смотрят они, — а так тихо.
— Ну тогда пойдемте, посмотрим.
Со стороны моря доносились голоса, слышались всплески, шум выпускаемого пара.
— Сбрасывают балласт и завозят якорь! — догадался Кмита.
— Вот подъедет наша полубатарея, она им задаст! — сказал офицер.
— Вряд ли наши маленькие пушки смогут что-нибудь сделать! — сомневался кондуктор. — Судя по всему, это один из тех пароходо-фрегатов, которые уже были здесь. Хищники зубастые, с ними надо быть сторожко...
Со стороны города послышался вдруг топот копыт, лязг металла, и на берег выехали две небольшие полевые пушки. Подошел командир полубатареи.
— Поручик Абакумов! — представился он. — Рассказывайте, что тут.
Ему рассказали. Поручик походил по берегу, внимательно осматривая местность.
— Позиция неважная, — сказал он. — Как раз угодишь под бомбы... Нам надо действовать наверняка: стрелять только по ватерлинии[12] и по колесам. Иначе ничего не сделаем. У них, наверное, сильная артиллерия.
Поручик не договорил: в темноте блеснула багровая вспышка, и оглушительный выстрел потряс воздух.
— Не меньше чем девяностошестифунтового калибра! — сказал Абакумов.
— Господа! — обрадовался Кмита. — Ведь этот выстрел сигнал: убедились, что самим им с мели не сойти, и зовут на помощь.
Точно в подтверждение его слов грохнул еще выстрел. Абакумов тотчас стал распоряжаться: выбрал позиции для своих двух пушек, отдал необходимые распоряжения.
Быстро светало. В тумане уже ясно виднелись мачты и концы двух труб большого парохода.
— Да они совсем на берегу! — удивились офицеры. — Саженей с полсотни, не более. И как они так ошибиться могли?
— А еще считают себя лучшими мореплавателями.
— Вот что, господа! — заволновался Абакумов. — Незачем ждать, пока из города подойдет артиллерия, — я хочу открыть огонь!
— Ну, как можно! Там ведь такие чудовища стоят, что одним залпом уничтожат вас вместе с пушками.
— Но не можем же мы ждать бесконечно! — продолжал настаивать Абакумов. — Своим огнем я по крайней мере буду препятствовать им стараться сойти с мели! Слышите, как они возятся.
Действительно, неизвестные сильно шумели, слышались дружные крики и команда, словно там тащили что-то очень тяжелое. Все время слышались всплески.
— Похоже, что они разгружают носовую часть! — сказал Кмита. — Этак и вправду смогут уйти.
Поручик решился окончательно.
— Посторонние от орудий р-р-разойдись! — скомандовал он. — К открытию огня приготовьсь!.. Ядрами заряжай!.. По ватерлинии вражеского корабля, ребята, только по ватерлинии и по колесам. По рубкам не бейте, толку от этого будет мало, а так мы не дадим ему уйти.
Артиллеристы присели у пушек. В этот момент разошелся туман и вражеский корабль стал виден полностью.
— Англичанин! — определили офицеры. — «Тигр»!
— Господа англичане! — закричал Абакумов по-французски, приложив ладони рупором ко рту. — Сдавайтесь, сопротивление бесполезно!
Возня на палубе парохода сразу прекратилась. Офицеры с мостика в трубы рассматривали людей на берегу. Потом какой-то долговязый офицер что-то скомандовал, и не успели на берегу сообразить в чем дело, как оглушительный выстрел и пролетевшая над головой бомба показали, что англичане сдаваться не собираются.
Поручик выругался и проворно отбежал за насыпь.
— Первое — пли!.. — скомандовал он.
— Второе — пли!..
Обе пушки хлопнули. С берега видели, как ядра ударили в надстройки корабля. Но разве можно было сравнить эти хлопки с ревом тяжелых морских орудий!
— Эй, братцы, целься ниже! — крикнул Абакумов.
Но не успели артиллеристы поставить прицел, как «Тигр» дал залп. Десяток бомб поднял огромную массу земли, обвалил в море пласт берега. К счастью, людей не задело. Пушки спешно пришлось откатить под прикрытие береговой насыпи.
— Говорил вам, что ничего вы им не сделаете! — сказал казачий офицер.
— Посмотрим! — не сдавался Абакумов.
Поручик изменил тактику: по его команде солдаты, которым помотали казаки и жители, быстро выкатывали пушку к берегу, производили выстрел и снова прятали пушку. Складки местности благоприятствовали укрытию, но в то же время не давали возможности стрелять по корпусу «Тигра».
Пароход почти непрерывно грохотал залпами: огромные бомбы изрыли край берега, разнесли вдребезги остатки какой-то стены, обвалили в море скалу... Но маленькие пушки тоже делали свое дело: то одно ядро, то другое попадали в корпус врага, лишая его возможности сняться с мели.
Сраженье продолжалось уже почти полчаса, и конца ему не было видно.
Вдруг к Абакумову подбежал Кмита.
— Мне только что передали с Большого Фонтана, что там заметили два неприятельских парохода, полным ходом идущих сюда. Уж не помощь ли ему? — кивнул он на «Тигра».
— Неужто мы дадим им подойти и стянуть «Тигра»? — нахмурил брови поручик. — Не бывать тому!
— Будем надеяться! — сказал Кмита. — Я уже передал командующему о приближении кораблей. Нам уже выслали две батареи артиллерии и пехоту. Вместе мы справимся быстро!
— Я с ним и без посторонней помощи справлюсь... — возразил Абакумов. — Вот только бы мне пострелять в него спокойно хоть минутку...
— Знаете что, — задумчиво сказал казачий офицер. — Я дам вам эту минутку.
— Каким образом?
— Отвлеку огонь «Тигра» на себя, а вы этим и воспользуетесь.
— Да как же вы это сделаете?
— Я атакую «Тигра» в конном строю!
— Военный корабль в конном строю? — удивился Абакумов. — В первый раз слышу, чтобы кавалерия атаковала корабли!
— Значит, вы забыли историю. Вспомните подробности Невского побоища, когда Александр бил шведов не только на берегу, но и на кораблях. Он послал свою конницу на корабли по мосткам, переброшенным туда с берега... Вот и мы сделаем подобно.
— Да ведь это же замечательно! — вскричал Абакумов. — Только...
— Что только?
— Потери среди казаков будут большие. А потерь нам нужно избегать.
— Бог милостив, — произнес казачий офицер. — Я рассчитываю на то, что из пушек по плывущим стрелять будет очень трудно... А если мы еще промедлим, то подойдут те, — кивнул по направлению к морю, — и тогда нам будет много труднее.
— Быть по сему! — воскликнул Абакумов. — Атаковал Александр корабли в конном строю или это только легенда, но во всяком деле надобно попытаться.
— Тогда мы поступим так: я приготовлюсь и даю сигнал; тогда вы выкатываете пушки, быстро стреляете и снова прячетесь. Как до сих пор. Натурально, неприятель ответит залпом и закроется дымом. Вот в этот момент мы и выскочим. Ну, а дальше действуйте как найдете нужным.
— Казачьей лавой на фрегат! Ну и ну! — смеялся Абакумов, отбегая к пушкам.
Все произошло именно так, как и предполагал казачий офицер. Едва «Тигр» окутался дымом собственного залпа, как казаки с криком «ура» стали выскакивать из укрытия, съезжать по обрыву и бросаться в воду. Вид страшных бородачей, с криками и свистом плывущих на конях к кораблю, очевидно, перепугал англичан. Огонь их сразу сделался беспорядочным, часть пушек они направили на казаков. Но бомбы пролетали над головами плывущих.
Замешательством неприятеля воспользовался Абакумов: его пушки разбили ядрами левое колесо, разнесли рубку... С берега видели, как повалился высокий офицер который все время командовал.
Опасаясь, что казаки возьмут пароход на абордаж[13], — а тогда уж, конечно, поздно будет просить пощады, — англичане прекратили сопротивление. На мачту медленно пополз белый флаг! Солдаты не знали, конечно, что перед этим у англичан случилась заминка: английские корабли не привыкли сдаваться, и на «Тигре» не нашлось белого флага. Вместо него пришлось использовать скатерть; по иронии судьбы это была скатерть, покрывавшая стол, за которым так весело пировали английские офицеры всего только три часа назад…
Как только были выполнены все церемонии сдачи, англичане, со страхом глядя на дымы подходивших кораблей, потребовали, чтобы их немедленно перевезли на берег.
— Почему вы так торопитесь в плен? — удивлялись русские офицеры.
— Через полчаса от «Тигра» ничего не останется. Наши разнесут его вдребезги.
— Неужели они будут стрелять по своим? — удивились русские. — Ведь на борту находятся ваши раненые, в том числе и командир... Мы сейчас поднимем об этом сигнал.
— Никакой сигнал не поможет, — усмехнулся старший офицер «Тигра».
Русские возмущались, но все же приняли меры: англичане были перевезены на берег.
Тем временем из города прибыло подкрепление. Конечно, полевые пушки не в силах были помешать подходившим кораблям обстреливать «Тигр», но они могли не допускать врагов слишком близко.
Пленные англичане оказались правы: прибывшие корабли открыли огонь главным образом по «Тигру», несмотря на то, что на его мачте развевался сигнал:
«Имею на борту раненого командира...»
Тогда два дюжих казака добровольно вызвались отправиться на корабль и вынести из-под огня капитана Джиффарда, которому ядром оторвало ногу. Не обращая внимания на огромные бомбы, рвавшиеся на палубе корабля, казаки благополучно доставили раненого на берег.
Вражеские корабли неоднократно пытались приблизиться к берегу, но всякий раз их отгоняли полевые батареи. И только к двум часам дня неприятелю удалось поджечь свой же корабль. «Тигр» запылал, и вражеские пароходы отошли в море.
Множество добровольцев бросилось тушить корабль, не обращая внимания на предостережения офицеров о том, что корабль может взорваться. Но вскоре стало ясно, что «Тигра» не спасти, и он был предоставлен своей участи.
Все население города и ближайших окрестностей собралось на берегу полюбоваться зрелищем догоравшего хищника. Через несколько часов огонь добрался до крюйт-камеры, раздался оглушительный взрыв, и корабль разнесло на части.
На следующий день обследовали остатки корабля и морское дно вокруг. Выяснилось, что почти вся артиллерия может быть спасена, машина парохода тоже повреждена мало.
И несколько дней спустя на новой батарее Щеголева появилась трофейная бомбическая пушка, стрелявшая бомбами весом в 96 фунтов.
— Подумать только, — говорили солдаты, похлопывая чугунное чудовище, — от таких громадин мы столько времени отбивались!.. А теперь будем угощать неприятеля из его же пушек!
* * *
9 мая в соборе, переполненном народом, торжественно был прочитан царский манифест.
«Жителям Нашего любезно-верного города Одессы.
Английский и французский флоты, войдя в Черное море, устремились несколько дней тому на мирный и открытый европейской торговле город Одессу... Твердость и самопожертвование жителей сего города не могли не обратить на себя внимания Нашего, и Нам приятно изъявить всем сословиям оного по этому случаю особенное Наше благоволение.
Николай».Прибыли и награды героям.
Все солдаты щеголевской батареи получили, кроме георгиевских крестов, денежное поощрение — годовое жалованье. Другим батареям выдали по два знака военного ордена на батарею и по два серебряных рубля на человека. Дивизион, отбивший десант, получил по одному знаку на пушку и годовое жалованье каждому солдату.
Всем прочим войскам выдано по одному серебряному рублю на человека.
Не были обойдены и жители, активно участвовавшие в обороне города.
Луиджи Мокки наградили золотой медалью на анненской ленте.
Деминитру и Скоробогатого — знаком военного ордена; оба юноши, кроме того, были произведены в зауряд-прапорщики и получили право выбирать полк, в котором хотели бы служить.
«...Ивану Бодаревскому, — отмечалось в приказе, — дать в аттестате описание его подвига. Имя его начертать золотом на мраморной доске в гимназии, в которой он учился...»
«Пострадавшим от бомбардировки обывателям, коих дома сожжены были или разрушены, выдать 6530 рублей, распределить их между 19-ю семействами...»
Наконец 10 августа прибыл царский указ о награждении Щеголева.
На следующий день по церемониалу, выработанному самим генералом Сакеном, происходило оглашение указа и награждение молодого офицера.
Яркое солнце заливало лучами обширную Соборную площадь, заполненную народом, сидящих на крышах мальчишек, войска, построенные в карре, вспыхивало на ризах священников (после оглашения указа предполагалось отслужить молебен о ниспослании победы русскому оружию).
Офицеры, в парадной форме, при орденах, стояли в отдельной колонне в середине карре. Впереди колонны совершенно один стоял прапорщик. Все с нетерпением ожидали начала церемонии.
Публичное чтение указа было поручено протодьякону, известному далеко за пределами Одессы своим голосом. Протодьякон облачался, потрясая густой полуседой гривой; рядом, раздувая ладан, размахивали кадилами дьяконы.
Наконец протодьякон был готов. Он подошел к генералу Сакену, задумчиво стоявшему в стороне, и с поклоном взял у него указ. Коротко пророкотали барабаны. Все замерли. Наступила полная тишина.
Протодьякон откашлялся и густым басом начал чтение.
Сначала в указе следовало описание подвига, потом говорилось о самом награждении:
«...Прапорщика Щеголева произвести в подпоручики, поручики и штабс-капитаны!» —оглушительно прозвучал голос протодьякона.
По толпе прокатился сдержанный гул. Протодьякон замолчал. Сакен, стоявший рядом с протодьяконом, подошел к Щеголеву. Вместе с ним подскочили адъютанты, быстро отстегнули эполеты прапорщика.
Из поданной Богдановичем коробки Сакен достал штабс-капитанские эполеты; адъютанты мгновенно прикрепили их к плечам бывшего прапорщика.
Сакен отошел и подал знак.
«Наградить георгиевским кресто-о-ом!..»
Сакен снова подошел к Щеголеву, взял у Богдановича беленький георгиевский крестик, собственноручно прикрепил его к мундиру штабс-капитана и опять отошел в сторону.
«...и золото-ою саблею!» — продолжал протодьякон.
Сакен взял из рук генерала Анненкова золотую саблю, вынул из ножен — будто молнию вытащил, — приложился к ней губами и на вытянутых руках поднес ее Щеголеву. Тот опустился на одно колено и тоже приложился губами к сверкающей стали. Потом встал на ноги и замер. Сакен вложил саблю в ножны и надел на Щеголева.
«Литографированный портрет штабс-капитана Щеголева-а-а, — снова загудел голос протодьякона, — разослать по всем казенным учебным заведениям. Имя его начертать золотыми буквами на мраморной доске в Дворянском полку, где он воспитывался».
Слова в ушах Щеголева сливались в сплошное гуденье, голова кружилась, сердце билось так сильно, что, казалось, вот-вот выскочит. Только огромным усилием воли ему удавалось заставить себя стоять в положении «смирно».
* * *
Вскоре после этого на батарею к Щеголеву зашли поручик Волошинов, Деминитру и Скоробогатый.
— Читайте, Александр Петрович! — крикнул еще издали Скоробогатый, протягивая Щеголеву листок. — Купил только сейчас. Рвут у газетчиков прямо из рук.
Щеголев схватил листок. На нем было напечатано:
Песнь о Щеголеве . . . Стоим!.. И прах родной земли Мы обагрим своею кровью! К своим мы пушкам приросли, Мы крепки к родине любовью. Пусть сыплют ядра надо мной. Пускай мы ранами покрыты, Но этот пост сторожевой Мы не оставим без защиты! Пусть во сто крат сильнее враг, Мы честь храним родного края, И время ль нам изведать страх, Родное знамя обнимая! Стоим!.. И прах родной земли Мы обагрим своею кровью! К своим мы пушкам приросли, Мы крепки к Родине любовью.Начались воспоминания, от которых незаметно перешли к планам на будущее.
— Я, дорогой Александр Петрович, решил ехать в Крым, — рассказывал Скоробогатый. — Там теперь будет жарко, ведь союзники высадили под Евпаторией громадную армию и готовятся завоевать Крым...
— Это еще бабушка надвое сказала! — сквозь зубы пробурчал Деминитру.
— ...Так вот мы с другом записались в один из полков армии князя Меншикова.
— Ну, а вы куда? — обратился Щеголев к Деминитру.
— Я — в кавалерию!
— Ну, бог вам в помощь. Я тоже вот думаю проситься в Севастополь. Уверен, что теперь тут делать будет нечего.
— Вот, батюшка Александр Петрович, — сказал Ахлупин, когда Деминитру и Скоробогатый ушли, — все мы награждены... — Старик осторожно потрогал Георгий, висевший на чистой белой рубахе. — А кое-кто и обойден царской милостью.
— Это кто же? — удивился штабс-капитан.
— А Ивашку помнишь? Арестанта, что с артелью помогал нам батарею строить? Вы еще обещали, что, если будут хорошо работать, так выхлопочете им послабленье.
— Очень хорошо помню! Я сам подавал генералу рапорт об их отличной работе. Что же с ним?
Ахлупин помрачнел.
— Видел его я сегодня... Этапом шел... Послабленья-то ему не дали...
— Что ты говоришь! — воскликнули оба офицера. — Куда же их гнали?
— В Сибирь... Сам сказывал мне... Ему еще дело пришили, будто он бежать собрался, когда неприятель на нас напал...
— Как бежать? Да что ты говоришь! — закричал Щеголев, вскакивая на ноги. — Быть этого не может! Ведь они же все ко мне прибежали! Если бы они сарай от пожара в тот момент не отстояли, мы бы взлетели на воздух! Что-то надо предпринять! — обратился он к Волошинову.
— Прежде всего успокойтесь, — сказал Волошинов, — а то на вас лица нет. Пойдем, пройдемся немного.
Офицеры пошли по Канатной улице.
— Что же вы думаете предпринять, если не были уважены ходатайства тогда, когда мы все награждались?
— Я напишу государю!.. Добьюсь правды!
— Полноте, — сморщился поручик. — Пора вам стать взрослым человеком и понять, что правду надо искать не у царя. Неужели вы не понимаете, что все ваши хлопоты совершенно впустую? Если царь мог поцеловать Рылеева, а потом отправить его на виселицу, то уж он не помилует крепостного, поднявшего руку на своего барина...
— У нас крепостных не считают людьми...
— А вы только сейчас об этом узнали? — чуть насмешливо спросил Волошинов.
— Не сейчас, конечно. Но мне не приходилось так близко сталкиваться с подобной вопиющей несправедливостью.
— Не нами началось, — вздохнул Волошинов, — не нами и кончится.
Наступила длительная пауза.
— Скажите-ка лучше, — первым нарушил ее поручик, — почему вы считаете, что здесь нечего будет делать?
— Союзники под Севастополем сломают себе зубы. Если с моей батареей не смогли справиться в течение шести часов, то что же говорить о Севастополе!..
— Но ведь он с суши не укреплен. Высадка-то совсем неожиданна...
— Укрепят!
Щеголев оказался прав. Завязнув под Севастополем на целый год и потеряв там стотысячную армию, союзникам было не до Одессы. Так и не пришлось героям-щеголевцам «угощать» неприятеля из его же пушек.
Эпилог
Отгремела бессмертная Севастопольская эпопея, кончилась война, потянулись годы, годы складывались в десятилетия.
В середине 1903 года состоялось заседание Одесской городской думы, посвященное вопросу о том, как отметить приближающееся 50-летие со дня героического подвига прапорщика Щеголева. Праздновать этот день намеревались особенно пышно — ожидали приезда жившего в Москве самого героя, генерал-лейтенанта в отставке Щеголева Александра Петровича. В честь событий собирались поставить памятники. Сохранилось даже описание их.
«Из полуразвалившейся амбразуры выглядывает пушка, возле которой стоит бомбардир, изготовившийся запалить фитиль. А рядом возвышается молодая фигура Щеголева, устремившего свой внимательный взгляд на море, к стороне боевой позиции неприятельского флота. Вся группа дышит жизнью и экспрессией».
Это памятник от города Одессы. Он должен был стоять на бульваре возле Воронцовского дворца.
Другой памятник, который хотело воздвигнуть Портовое ведомство, должен был представлять собой большой мраморный георгиевский крест, стоящий на том месте, где была батарея. На кресте — славные имена героев — Щеголева и его соратников.
Но наступил 1904 год, разразилась война с Японией, стало не до памятников. К тому же городской памятник должен был стоить 20 000 рублей, а собрали только 4000. Туго развязывались у купцов и знати кошельки на дело, от которого нельзя было ожидать себе прибыли.
Вот тогда и порешили:
«Поскольку средств собрано недостаточно, памятника не сооружать, а Набережную улицу, что на Пересыпи, и Военный мол назвать Щеголевскими...»
— Князю прибыль, белке честь, — говорили местные острословы.
«...Собранные же деньги употребить на сооружение на бульваре гранитного постамента, куда водрузить пушку с «Тигра», снабдив постамент мраморными досками с соответствующими надписями...»
И стоит с тех пор на одесском бульваре памятник-пушка, подлинное орудие, обстреливавшее Одессу 10/22 апреля 1854 года и попавшее туда же в плен всего только двадцать дней спустя.
Стоит и напоминает всем, кто зарится на чужое:
„Взявший меч от меча и погибнет!"
Примечания
1
Мерлон — простенок батареи, часть стены промеж двух бойниц.
(обратно)2
Фейерверкер — в дореволюционной русской армии звание «нижнего чина» артиллерии.
(обратно)3
Эта сцена — исторический факт. С.С.
(обратно)4
Швартов — канат, которым судно привязывается к пристани или к берегу.
(обратно)5
Фельдъегерь— военный или правительственный курьер.
(обратно)6
Эмбарго — наложение ареста, запрещение.
(обратно)7
Левиафан – (по библии) чудовищное морское животное.
(обратно)8
Вымпел – длинный узкий флаг с косицами, поднимаемый на мачте военными кораблями.
(обратно)9
Траверс – здесь – пароход поровнялся с батареей, стал точно против нее.
(обратно)10
После боя это ядро было вделано в угол пьедестала памятника и находится там до сих пор. С.С.
(обратно)11
Диспозиция —план расположения войск для боя или для выполнения походного движения (марша) в боевой обстановке.
(обратно)12
Ватерлиния — черта вдоль борта судна, показывающая линию нормальной осадки судна в воде.
(обратно)13
Абордаж — старинный способ морского боя — сцепление двух судов для рукопашной схватки.
(обратно)


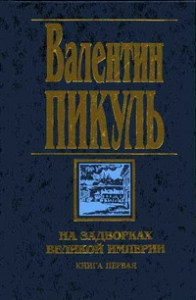

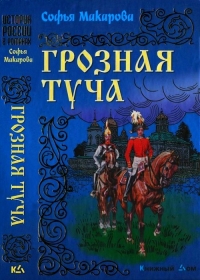
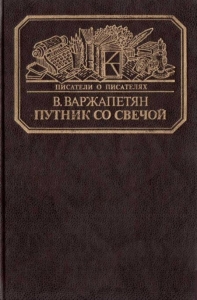


Комментарии к книге «Прапорщик Щеголев», Сергей Алексеевич Сибагин
Всего 0 комментариев