Ал. Алтаев Леонардо да Винчи
Посвящаю Науму Яковлевичу Берковскому
Часть первая Прекрасная Флоренция
1 Майский праздник
Ночь уходила, светлая весенняя ночь под праздник 1 мая 1458 года, и с первыми лучами зари должна быть кончена посадка маджо — деревцев боярышника перед невысокими домиками маленького тосканского городка Винчи. Брызнет алым заревом небо, и городок оживет, зальется веселыми песнями, веселым говором множества голосов. Они пробьются сквозь ржание лошадей, крики осликов, мычание коров, рокот струн мандолин, свист флейт, сквозь беспричинный радостный смех молодежи.
И вот дерзкие ликующие лучи солнца прорвались, упали на землю, и в золотых нитях засияли алмазные капли росы на лугу. Засияли радугой маленькие цветные стекла церковных окон в оловянных переплетах, солнечные зайчики заскользили по раскидистым веткам олив цвета старого серебра, по бледным чашечкам ароматных асфоделей, по темной листве дубов, окаймлявших дорогу. Заскрипели возы, и раздались первые звуки праздничной песни.
«Сосны, бук и лавр, трава и цветы, луга и утесы светятся ярче всяких сокровищ… Как хорошо это синее небо!
В блеске дня смеется луг, смеется все вокруг… Как хорошо это синее небо!»
И небо раскинулось, сияющее золотым светом, синее и бездонное…
Лужайка на берегу реки Арно — излюбленное место молодежи. На вершине воза, покачиваясь, стоял мальчик, очень красивый и очень веселый, в венке из роз. За спиною его сияли серебряные крылышки, спорившие блеском с его светлыми золотистыми кудрями. Это герой праздника — крылатый Купидон, или Амур, с завязанными глазами и луком в руках. Он наугад, не целясь, пустит стрелу, и в кого она попадет, в юношу или девушку, тот загорится любовью. И много уже стрел, смеясь, пустил мальчик в идущих за возом с радостными песнями. Мальчик этот — Леонардо, сын синьора Пьеро, нотариуса из Винчи, красивый и всеми любимый ребенок, к которому отовсюду тянутся руки, чтобы снять его с воза на землю, на лужок, где готовятся танцы. И хорошенькая Бианка, соседка нотариуса, первая схватывает шестилетнего купидона в свои объятия, целует его и, хохоча, спрашивает:
— Леонардо, дорогой, пойдешь ли ты со мною плясать?
Ну конечно, он пойдет в круг танцующих в паре с Бианкой, первой танцоркой; он так любит ее, так любит танцы и умеет плясать, это же знают все в городке!
Лютни и флейты поют майскую песню, им вторит весенняя песня пташек…
Какой-то заезжий испанец пускается плясать, прищелкивая кастаньетами, и Леонардо старается подражать танцору, забавно щелкая пальцами. Толпа хохочет… Испанец разглядывает мальчика, как любопытного зверька, но Леонардо серьезно ему поясняет:
— У меня нет таких щелкалок, как у вас, а пальцами ничего не выходит. Но я знаю много песен и умею играть… Тогда лучше поется…
Он взял аккорд на мандолине испанца и запел. Лицо его сделалось серьезным, почти торжественным. Леонардо пел свободно, как поют птицы, сам тут же придумывая слова и мотив, пел о поле, о птичке, о цветах, о небе, о солнце, пел незатейливую песню о том, что знал и видел…
Когда Леонардо кончил, Бианка под общее одобрение надела ему на кудри свой венок из маленьких роз, что украшали гибкими ползучими ветками городские домики. Сегодня сын нотариуса — герой праздника: на радость всем, он показал самоуверенному испанцу, как искусен в пении и пляске, несмотря на свои шесть лет.
Праздник тянулся без конца. Солнце начинало припекать слишком назойливо. Пора было подумать о возвращении домой, к столу с майским угощением, и Бианка предложила молодежи:
— Понесем Леонардо, как короля, на троне! Ну-ка, мой майский королек, занимай свой трон!
Десятки рук подхватили мальчика, и вот уже его несут на носилках из зеленых веток, перевитых полевыми цветами, по улице, мимо старого торговца Беппо, и вся семья Беппо встречает шествие веселыми криками; мимо опрятного домика Бианки, и мать Бианки выглядывает из окна, оплетенного виноградом, смеясь и грозя молодежи костлявой рукой. Шествие подвигается вперед под звуки лютни, мандолины, флейты и пощелкивание кастаньет заезжего испанца.
* * *
Но вот и «дворец» маленького короля, или, вернее, дом его отца, мессэра[1] Пьеро, окруженный прекрасным цветником, увитый виноградом и розами. Сегодня, украшенный майскими ветками, он смотрит особенно приветливо. У порога — старушка, прямая, стройная, сохранившая еще следы былой красоты. Она вышивает шелком и золотом пелену для церкви по данному обету, и рука ее с золотой канителью застывает в воздухе, когда приближается к дому толпа с майским королем, ее внуком.
— Что это, мой Леонардо, тебя чествуют, как папу в Риме!
— Да ведь он сегодня майский король, — отвечает старушке Вианка.
Леонардо смеется:
— Я король, бабушка Лючия! Мама Альбьера, лови!
В окно летит целый дождь цветов, осыпая сидящую у окна миловидную молодую женщину.
Ловко соскакивает Леонардо со своего «трона», бежит сначала к бабушке, а потом к мачехе, которую он зовет «мамой Альбьерой». Видя ее ласковое обращение с Леонардо, никак нельзя представить, что он ее пасынок: столько любви и заботливости в ее обхождении с ним.
— Прощайте, прощайте! — кричит Леонардо вслед уходящей молодежи и бросается на шею к мачехе: — Мама Альбьера, я до смерти голоден!
И мама Альбьера торопится подать мальчику простое угощение: джьюнкатту (свежий творожный сыр), горячие оффелетти (пирожки с тмином) и милльяччи (студень из свиной крови); она наливает ему кубок легкого светлого вина. Уплетая завтрак за обе щеки, Леонардо рассказывает мачехе и бабушке о празднике на лужайке около Арно. Рот Леонардо набит дымящимися оффелетти, он морщится, а женщины смеются.
— А ты и не знаешь, проказник, что я нашла сегодня в саду, — лукаво говорит синьора Альбьера. — Ишь ведь какой, и ничего не сказать мне! Погоди, покажу отцу, и тогда…
Мальчик вскакивает как ужаленный:
— Ты не сделаешь этого, не сделаешь, потому что это… Дай сюда! Пожалуйста, дай!
Черные глаза синьоры Альбьеры смеются. Она высоко поднимает над головой руки, держа в них маленькую статуэтку, которую ее пасынок вылепил вчера из глины. Леонардо становится на цыпочки и силится вырвать у нее свое сокровище. Полна шаловливой грации фигура молодой женщины рядом с просительно нетерпеливой, молящей фигуркой ребенка.
Альбьера устала первой.
— Ну довольно… Так и быть, на тебе, упрямец… Вон идет отец.
На дорожке сада в самом деле показалась плотная фигура нотариуса с садовыми ножницами в руках. Он был расстроен неполадками в своем маленьком хозяйстве:
— Пришлось обрезать виноградные лозы и подвязывать. Вчерашний дождь наделал в саду немало беспорядка… Что тут у вас случилось? — Взгляд его упал на статуэтку Леонардо. — Что это такое? Птица… Кто вылепил?
— Это моя работа, батюшка, — отвечал спокойно Леонардо.
— А, да, да… это, пожалуй, и хорошо — игрушка… Рисуй, лепи, пой, пляши, но только в меру. Плохо будет, если, кроме подобных забав, у тебя ничего не будет больше в голове.
И, добродушно погрозив сыну пальцем, нотариус прошел в свой рабочий кабинет.
* * *
В доме мессэра Пьеро царил невозмутимый мир. Идолом семьи был маленький Леонардо, очаровывавший всех своею живостью, красотой, приветливостью, какая сама собой возникает у счастливых детей с выдающимися способностями. Казалось, он, как только стал понимать человеческую речь, начал интересоваться окружающим миром, умел наблюдать, запоминал все, что слышал и видел, и не по возрасту много думал.
Для синьоры Альбьеры он был баловень, любимая живая игрушка. У нее не было своих детей, и сама она была так молода, что еще не забыла, как играла в куклы. И с пасынком у нее сложились товарищеские отношения. Но кто больше всех в доме любил мальчика — это бабушка. Внук казался ей верхом совершенства, она возлагала на него большие надежды.
Бывало, взгрустнется старушке, а внук уж тут как тут, подойдет сзади и обнимет ее за шею. И, казалось, она сразу молодеет: морщины разглаживаются, а взгляд больших строгих глаз становится мягким и ласковым.
Вот и сегодня, пока Альбьера возилась с хозяйством, Леонардо теребил ее за рукав:
— Расскажи, бабушка, сказку, да позанятнее…
— Сказку? Ну ладно, слушай. В некотором царстве жил-был добрый человек. Звали его Печьоне. И было у него пять сыновей, таких ленивых и никуда негодных, что бедняга не знал, как с ними и быть. Не захотел он их больше даром кормить и решил направить их на трудовую дорогу. Вот он и говорит им:
«Сыны мои, видит бог, что я вас люблю, но я уже стар и не могу много работать, а вы молоды и любите досыта покушать. Идите найдите себе добрых хозяев, наймитесь на работу и научитесь какому-нибудь мастерству, а ко мне возвращайтесь через год».
Голос ее звучал однотонно, размеренно:
— Ну, хорошо… Пошли это сыновья, как приказал им отец, и вернулись к нему ровно через год. Стал отец у них спрашивать по очереди.
«Ты чему научился, Луччо?» — спрашивает у старшего.
«Фокусы делать, батюшка!»
«А ты чему, Титилло?»
«Корабли строить, батюшка!»
«Ну, а ты, Ренцоне?»
«Я, батюшка, научился так стрелять из лука, что попадаю в глаз петуху».
«Ну, а ты что скажешь, Якуччо?»
«Я, батюшка, — молвил Якуччо, — научился искать траву, что воскрешает из мертвых».
«Что же ты знаешь, Манекуччо?»
«Ничего я не умею, батюшка: ни фокусы делать, ни корабли строить, ни стрелять из лука, ни находить траву целебную; только одному я научился: понимать, как птицы небесные между собою разговаривают. Вот и рассказала мне махонькая птичка лесная, что дикий человек утащил у царя Аутогверфо его единственную дочь и держит ее на неприступном острове, а царь кликнул клич: «Кто возвратит мне дочь, тому она в жены достанется»…
Бабушка остановилась на минуту. Леонардо впился в нее своим острым взглядом. Из груди его вырвался подавленный вздох. Старушка продолжала все так же размеренно и спокойно:
— Отец послал сыновей искать счастья: найти царевну. На лодке, что сделал Титилло, подплыли они к острову. Дикий человек спал на солнце. Голова его покоилась на коленях прекрасной царевны Чьянны. Ловкий Луччо ухитрился подложить дикому человеку под голову камень так, что тот ничего и не заметил, а царевну увести в лодку. Проснулся дикий человек, увидел — нет красавицы, только вдалеке белый парус виднеется. Разгневался он, обернулся грозною тучею и полетел в погоню за царевной. Заплакала Чьянна, на черную тучу глядя, и от страха бездыханной упала на дно лодки. А Ренцоне в это время пробил черную тучу меткой стрелой, и, когда лодка причалила к берегу, Якуччо воскресил царевну своей целебной травой. Очнулась Чьянна Прекрасная… Тут братья заспорили, кому она в жены достанется. Титилло говорит, что ему — он ведь лодку построил. Луччо — ему: это он сумел увести царевну. Ренцоне…
— Матушка, — перебивает синьора Альбьера, — вас Пьеро зовет.
Мальчик вздрагивает, еще погруженный в сказку.
— Ну, и что же Ренцоне? — спрашивает он замирающим голосом старушку, хотя отлично знает конец много раз слышанной сказки. — Что же дальше, бабушка?
— Дальше, внучек? Да они и теперь еще спорят о прекрасной царевне Чьянне…
И она уходит к сыну.
Тяжелая дверь кабинета нотариуса наглухо заперта. Мальчику хочется знать, что делается за этой дверью. Леонардо на минуту задумывается, но потом грезы о златокудрой Чьянне, страх за нее, когда черной тучей летел за ней в погоню дикий человек, снова заполняют его голову. Он вздыхает и выходит в сад. Там уже раскинулся темный ночной полог, усыпанный звездами, — в Италии не бывает сумерек, как на севере. В высокой траве звенели цикады; в соседней роще сладко заливался соловей; у ног Леонардо засветился светляк. Леонардо отступил, чтобы не раздавить его, и задумался: «Отчего на теле этого невзрачного червяка светит голубой огонек и светит только ночью?» Он нагнулся, поднял крошечное создание вместе с листком и бережно положил к себе на ладонь.
Дома он хорошенько разглядит, где у него огонек.
Он поднял глаза вверх. Там, в небе, рассыпались светляки. Не сосчитать, сколько их… И опять вспомнилась рассказанная бабушкой любимая сказка.
«Точно глаза царевны Чьянны», — подумал Леонардо, и разлитый на темном небе Млечный Путь показался тонкими нитями золотых волос царевны…
«Как бы я хотел знать про звезды!..» — вздохнул мальчик.
Летучая мышь задела его крылом по лицу. Бабушка ему раз показала залетевшую на свет летучую мышь, но тут же выбросила ее в окно, не дав хорошенько разглядеть.
«И про эту летучую мышь хотел бы я знать, как она и где живет на воле… Отчего она днем ничего не видит и не летает так легко и быстро, как голубь…»
Откинув голову, Леонардо еще раз взглянул ввысь, на светлые огоньки звезд, а потом понес осторожно фонарик светлячка домой…
Ночью светляк куда-то исчез, так и не раскрыв Леонардо своей тайны.
2 Перемены
Маленький сын нотариуса беспечально рос, продолжая свои любимые наблюдения над природой и рисуя где попало, когда попадался в руки мел, уголь или малярная краска. Рисовал все, что видел и что его занимало. Он рос быстро и незаметно в девять лет превратился в высокого, стройного подростка.
Раз утром, едва он оделся и покончил с кружкой утреннего молока, налитого ему бабушкой, он услышал голос отца, звавшего его. Невольно мальчик вспомнил, что накануне в рабочем кабинете отца было какое-то семейное совещание.
Он редко заглядывал за эту тяжелую дверь, куда днем приходили люди не только из Винчи, но и из соседних деревушек за советом к опытному нотариусу. Эта комната, почти пустая, скучная, наполненная полками с какими-то книгами и делами, не была привлекательна для Леонардо. Только раз он вошел в нее по собственному желанию: когда увидел в полуоткрытую дверь, что в окне бьется о стекло необычайно красивая бабочка, редкая по раскраске. Ему захотелось нарисовать ее красками, которые он выпросил у приезжего живописца, поправлявшего старые иконы в церкви.
Переступив порог отцовского кабинета, Леонардо остановился в ожидании. У него помимо воли сильно забилось сердце. Что такое хочет сказать ему отец? Быть может, он в чем-нибудь провинился? Но в чем?
Мессэр Пьеро казался особенно торжественным в своем большом кожаном кресле, с суровым лицом и очками на носу. Торжественность увеличивало присутствие бабушки и мамы Альбьеры.
— Ну вот, вся моя семья в сборе, — начал отец, — и я при всех объявлю моему сыну свое решение. Ты можешь сесть, сынок.
Леонардо опустился на маленькую скамеечку для ног возле кожаного кресла нотариуса.
— Мой Леонардо, — начал размеренным, почти строгим голосом отец, — ты недурно поёшь, ездишь верхом и пляшешь, даже что-то там лепишь из глины и до всего на свете любопытен, даже не похоже, что тебе только девять лет. Короче говоря, я тебя отдаю в школу. Того же хотят твоя бабушка и мать…
Произнеся эту короткую речь, мессэр Пьеро с довольным видом посмотрел на сидевших на скамейке двух женщин, молчаливых и казавшихся растерянными.
— Ну-ка, подтвердите, что и вы того же хотите…
От Леонардо не укрылось, что мама Альбьера смотрит куда-то в сторону, — это значит: она чем-то недовольна, а у бабушки в глазах стоят слезы. И она сказала, шепелявя больше чем обычно:
— Ты умеешь верно рассудить, Пьеро, — ведь ты нотариус. Только наш мальчик… он бы еще мог подождать…
Тогда откликнулась и мама Альбьера:
— И к тому же он левша…
Мессэр Пьеро пожал плечами:
— Нечего ждать. Он скоро и меня догонит ростом, ему девять лет, а умом перещеголяет шестнадцатилетнего, — весь в меня. Наверно, тоже будет нотариусом, и я передам ему свое дело. А что левша — не беда, в школе его научат, какой рукой надо писать, а грамоте он давно у меня обучен.
Тут и мама Альбьера сказала со вздохом:
— Да, мой Леонардо, я совершенно согласна с твоим отцом.
Мессэр Пьеро был очень расчетлив и теперь кусал губы, соображая, сколько ему предстоит вытрясти из кошелька за учение сына.
Помолчав, он сказал:
— А пройдет года два — три, и надо будет ехать во Флоренцию. Твое образование, Леонардо, для меня большая забота. Ты должен быть тоже нотариусом, как твой отец, и суметь нажить хорошее состояние. Chi поп ha nulla, ё nulla…[2] Боюсь, чтобы непоседливость не сделала из тебя недоучку. А Флоренция — кладезь всяких знаний. Пожалуй, мне и самому лучше устроиться во Флоренции, — немного наживешь в этом городишке… Однако я должен заняться делами — вон кто-то уже пришел и кашляет у двери…
Леонардо вышел в сад. Зелень деревьев, пение пташек, суетня насекомых в траве всегда отвлекали его от всяких горестей и волнений…
— Ау! — раздался около него знакомый звонкий голос; кто-то подкрался сзади и закрыл ему глаза.
— Это ты, мама? — сказал он, улыбнувшись, и отвел ее руки.
— Ты не бойся, — сказала мама Альбьера, стараясь его утешить. — Мы же все, наверно, переедем во Флоренцию…
— А ты не могла заступиться! — упрекнул ее Леонардо.
— Ну вот! Я даже сказала, что ты левша. Видал ли кто когда нотариуса-левшу? А он хочет тебя сделать нотариусом! Да разве его отговорить, если он что-нибудь задумает! И в латинской школе ты не ударишь лицом в грязь и будешь первым!
* * *
Латинская школа. Немного страшно о ней подумать. Непоседе, каким считает его отец, а с ним вместе мама Альбьера и бабушка, произносившие это слово вовсе не с осуждением, — непоседе сесть за указку! Но ничего, он довольно послушен, а главное — любознателен. Занятно, что это за латинская школа, и как в ней надо учиться, и что в ней узнаешь нового. Только вот как быть с тем, что придется писать правой рукой, когда он левша?
Латынь дается ему легко. Он лишь постепенно узнаёт, как она трудна. Он постоянно слышит, что все образованные люди в Италии должны изучить этот древний язык так, чтобы уметь на нем свободно говорить и писать. Все книги ученых написаны по-латыни. Латынь, латынь… В нотариальных книгах при крещении нередко записывают младенцев именами древних греков и римлян, прославивших себя чем-либо. Новорожденных детей художников называют теперь то Ахиллом, то Плиниусом или Агриппою…
Леонардо слышал, как приходившие к отцу его гости недоумевали, почему Данте[3], свободно писавший по-латыни, перешел на итальянский язык, на котором говорят простолюдины. Кто-то даже решился сказать:
— У великого поэта вышло бы не хуже, если бы он обратился к языку мудрецов древности… Ведь недаром же он взял своим спутником в поэме латинского поэта Виргилия…
И Леонардо, наслушавшись этих суждений, проникся уважением к чуждому языку школы.
А тут еще бабушка и мама Альбьера внушали ему:
— Ведь и наши молитвы и евангелие — на латинском языке, на котором говорили первые христиане в древнем Риме… Подумай только: это божественный язык, мы молимся на нем и ни на каком другом.
И Леонардо старался постигать божественный язык древнего Рима.
Ах, эта латинская школа, эта зубрежка среди множества таких же мальчиков, которые, зевая, твердили незнакомые слова, глядя с тоскою в окно на синее небо и прислушиваясь к веселым звукам улицы! И линейка в руках старого монаха, которая частенько щелкала по рукам зазевавшегося ученика… Раз щелкнула она и по рукам Леонардо, когда он, забыв о правой руке, начал писать левою. Большие вдумчивые глаза мальчика, делавшего над собою усилие быть терпеливым и мужественным, обезоруживали учителя, и он отходил, а потом частенько делал вид, что не замечает, как Леонардо пишет левой рукою. Этот красивый, приветливый и послушный подросток отнимал всякую охоту пускать в дело благодетельную линейку…
Так продолжалось усвоение Леонардо латыни. В то же время он вбирал в себя другие знания, которые ему щедро предлагали жизнь и искусство.
— Ты, Леонардо, как будто не учишься, а играешь, — говорила мама Альбьера, не то журя, не то восхищаясь. — И что только ты делаешь в подвале нашего дома?
Он не таился и повел ее к своим сокровищам.
В темноте подвала у мальчика была целая лаборатория: какие-то баночки, коробочки, ящички, а в них целый мир насекомых, которые барахтались среди мха, наполнявшего банки, переползая друг через друга, шурша засохшими листами и стебельками травы. В коробочках были мертвые жучки.
Синьора Альбьера повела плечами и поморщилась, увидев сороконожек с мокрицами:
— Что это за гадость, Леонардо? И вот гадкая уховертка… Я их боюсь! Они залезают в уши, и человек глохнет — они там ткут паутину…
Леонардо засмеялся:
— Нет, мама Альбьера, это все сказки. Я их хорошо знаю, этих уховерток.
— Зачем они тебе нужны?
— Мне все нужно, — серьезно отвечал Леонардо. — Я считаю у них ножки, усики, узнаю, у кого и какие, есть крылья, и смотрю, какая разница. Ну, какая разница, понимаешь? Я вот все смотрел на мух: почему их так трудно поймать? Они, понимаешь, очень глазастые.
Синьора Альбьера не очень-то понимала пасынка. Она оглянулась и повела носом. Пренеприятно пахнет вином, отсыревшей штукатуркой, плесенью, прогнившим деревом старых бочонков. Темно, плохо видно…
— Что, если все эти козявки нападут на тебя? Пойдем в сад, — сказала она, — там тоже есть всякие букашки.
Леонардо нехотя пошел за мачехой.
В то время как Леонардо был поглощен наблюдениями над природой, дома у него творилось что-то неладное. Синьора Альбьера с некоторых пор стала вялой; исчезла ее веселость; она перестала болтать и смеяться и совсем не обращала внимания на пасынка. Впрочем, сначала он этого почти не замечал, увлеченный своими новыми мыслями. И к школьным занятиям он потерял всякий интерес, что наконец стало выводить из терпения снисходительного учителя.
— Ой, Леонардо, — говорил учитель, покачивая головой, — ничего-то путного из тебя, как я вижу, не выйдет! Ты хватаешься за все, мараешь бумагу рисунками и ничему толком не научишься.
Леонардо молчал. Он думал о сложном, не дававшемся ему вычислении.
— Эй, Леонардо! — раздавался над его ухом сиплый голос монаха. — Видно, придется мне жаловаться на тебя отцу! С каких это пор ты позволяешь себе спать, когда с тобой говорит учитель?
Леонардо поднимал голову, смотрел на желтое лицо учителя с седыми нависшими бровями и сердитыми глазами, смотрел пустым, невидящим взглядом и вяло отвечал то, что думал, так как не умел лгать:
— Я не сплю, падре[4], но я думаю об одной математической задаче.
— О какой еще задаче?
— Ах, это я делаю не в школе… Может быть, вы разъясните мне один вопрос по математике…
Но монах не был силен в математике; он не мог разъяснить Леонардо то, что его мучило, и, чтобы скрыть свое невежество, ворчал:
— Тебе этого не задавали в школе! Лучше бы ты как следует заучил речь Цицерона! У тебя хромает латынь, а ты хочешь постичь законы математики!
* * *
А мама Альбьера становилась все молчаливее, слабее, и в одно утро она не поднялась с постели. Было слышно, как стучат ее зубы. Ее трепала лихорадка.
— Я уже не встану, Леонардо, — заговорила она с тоскою, когда мальчик подошел к ней, и попробовала ему улыбнуться. — Вот мне уж больше и не бояться твоих уховерток с сороконожками…
Тяжелые капли слез повисли на ее длинных ресницах.
— Какая я теперь уродливая… — говорила она, глядя на себя в ручное зеркало.
И Леонардо стало жаль ее: он видел таким осунувшимся лицо, на котором еще так недавно играл румянец.
Силы покидали синьору Альбьеру. Часто она теряла сознание и начинала бредить:
— Кто это там ходит рядом, матушка? Что это за старуха притаилась за шкафом? Кто ее привел?
— Молчи, молчи! — шептала бабушка. — Она поможет тебе, она знает средство от лихорадки… Ну, мона[5] Изабелла, пройдите к больной..?
Мона Изабелла, старая знахарка, умевшая лечить заговорами, избавляла от «порчи» и беззастенчиво обманывала суеверных людей.
Она нагнулась к больной, уставившись на нее своим единственным глазом. Больная покорно протянула ей тонкую, прозрачную руку.
Леонардо, забившись за шкаф, видел в щель страшную старуху и следил за малейшим ее движением.
Колдунья зашамкала беззубым ртом:
— Ой, трудно выгнать болезнь, трудно одолеть порчу…
Она поникла головой и несколько минут размышляла.
И опять монотонным шелестом зазвучали слова:
— Под камнем у колодца, что на дворе у мессэра Алонзо, кожевника, живет большая черная жаба. Когда пробьет полночь… — Старуха наклонилась к самому уху бабушки и зашептала так тихо, что Леонардо не мог разобрать почти ни одного слова.
И, слушая этот шепот, бабушка повторяла беззвучно молитву, а у мамы Альбьеры лицо сделалось белым, как наволочка на ее подушке. У Леонардо защемило сердце, а по телу побежали мурашки.
После ухода моны Изабеллы больной стало хуже. Ночью бабушка со слезами на глазах принесла ей что-то завернутое в тряпку и положила на грудь. Леонардо догадался, что это печень большой черной жабы кожевника мессэра Алонзо. Больной стало еще хуже…
В одно утро Леонардо не пошел в школу: маме Альбьере стало так плохо, что его послали за духовником, и из собора Сан-Джованни пришел падре ее исповедать.
После исповеди все стали подходить и прощаться с больной: отец, бабушка и он, Леонардо. В комнате пахло ладаном и воском. У висевшего на стене распятия зажгли толстую свечу. Леонардо душили слезы, и он выбежал из комнаты…
— Отошла… отошла… О, пречистая дева! — раздался вдруг скорбный крик бабушки, и она, шатаясь, появилась па пороге спальни. — И к чему живу я, никому не нужная старуха, и к чему, господи, идут к тебе такие молодые, счастливые! Боже, боже, ты один ведаешь, что творишь!
Леонардо заплакал беззвучно, прижавшись к ее темной, морщинистой руке…
Не стало Альбьеры, и все пошло не так в доме нотариуса. Бабушка все время уныло и мрачно повторяла какую-то похоронную молитву и говорила, что скоро и ее черед: недаром собака воет по ночам во дворе. Мессэр Пьеро не мог видеть мрачную старческую фигуру матери, вечно перебирающей темные четки. Он сразу постарел на десять лет и стал все реже и реже бывать дома в свободное время.
Раз он сказал матери сквозь зубы, глядя в окно:
— Так жить нельзя! Ничего не поделаешь, надо жениться.
Эти слова заставили бабушку от страха уронить на пол тяжелое шитье.
— Доброе дело, — сказала она через минуту равнодушно и потом спросила, как будто дело шло о покупке нового плаща: — Есть кто на примете? Молодая? Красивая? Доброго нрава? Из хорошей семьи? С приданым?
И, когда нотариус ответил на все вопросы утвердительно, она равнодушно сказала, принимаясь за иголку:
— Женись, пожалуй… Кто такая?
— Франческа Ланфердини.
— А!
Ее тусклые глаза, на минуту оживившиеся, снова потухли. Для нее ведь не было ни настоящего, ни будущего: она вся принадлежала прошлому. Не все ли равно, Франческу ей назовет сын или Марию: ведь они не могут занять в ее сердце место, которое когда-то она отдала простодушной бедной девочке Альбьере.
Леонардо со страхом ждал прихода в дом новой хозяйки и матери. Это совпало с переездом нотариуса во Флоренцию.
3 Новые встречи
Настал день, в который Франческа Ланфердини явилась хозяйкой в дом мессэра Пьеро да Винчи. В своем белом подвенечном наряде, с ясным взглядом больших детских глаз, черных, как спелые вишни, с веселой, простодушной улыбкой, она казалась совсем ребенком. Ей едва минуло пятнадцать лет, и она была ниже ростом, чем ее пасынок.
Франческа застенчиво улыбнулась Леонардо, и эта улыбка напомнила ему кроткую улыбку мадонны на статуях и картинах флорентийских мастеров. И Леонардо дружески улыбнулся этой девочке-мачехе. Точно какая-то тяжесть сразу спала с его сердца. Неужели он забыл маму Альбьеру? Нет, он помнил ее, но почему он должен встречать враждебно эту доверчивую девочку, выбранную отцом ему в подруги-матери? Он заметил, что и лицо бабушки прояснилось. Наконец-то и у нее есть опять помощница в хозяйстве, и Пьеро не одинок, и дом наполнится веселым смехом и звонкими песнями — молодая-то, что пташка, поет и смеется…
Франческа полюбилась в доме нотариуса решительно всем, даже старому коту Пеппо, любимцу покойной Альбьеры.
Через два-три дня она чувствовала себя в доме нотариуса, как в своем родном доме. Пасынок ей понравился, только удивлял ее своею серьезностью, и она всячески старалась подбить его на беготню по саду взапуски, на игру в прятки, на давно забытые им шалости, и он старался как умел угодить этой милой девочке, принесшей в унылый дом давно забытое веселье. Иногда ей было досадно, что он выше нее ростом, и с лукавой улыбкой она просила:
— Слушай, сынок, давай мериться, кто из нас выше.
— Хорошо, только вы не становитесь на цыпочки, — смеялся Леонардо, — ведь правда, бабушка, мама становится на цыпочки?
Франческа смеялась:
— Его не обманешь! Нет, не обманешь; он и мысли-то все читает!
Недолги были сборы во Флоренцию. И бабушка и мама Франческа укладывались весело, приговаривая:
— Недалеко и ехать…
— К тому же в свой дом. У Пьеро свой дом рядом с Баптистерием[6]. Удобно, Франческа: как раз тут же, под боком, и крестят, и венчают, и служат панихиды по умершим, а мне скоро придется об этом подумать — ведь восемь десятков прожито на свете… И, если у тебя с Пьеро родится еще девочка или мальчик, недалеко носить крестить…
— А сколько лавок там, матушка! Как весело бывает на улицах в праздники! И садик у нас при доме, и всякие цветы… Как можно хорошо устроиться!
— Школа, говорят, тоже близко для внучка, я уже справлялась… Пьеро выгодно купил этот дом, когда хорошо заработал на одном судебном процессе. Ведь если бы не он, от одной сироты разбойники дяди оттянули бы большое наследство… С этого процесса Пьеро и стал большим человеком. Ему уже не к лицу быть захолустным нотариусом.
— Какие там дома! И сколько статуй! На каждом шагу на тебя смотрят изваяния. Я знаю, это тебе понравится, Леонардо. Сколько там художников, какие картины!
Эти слова мамы Франчески разожгли любопытство Леонардо. Ему было все же жаль сада при домике в Винчи, веселой пляски на лужайке и соседки Бианки, но что же делать, что делать…
* * *
Леонардо чувствовал себя очень хорошо, подъезжая к Флоренции. С высот Фьезоле[7] жадно смотрел он на чудный город. В чистой, безоблачной синеве тонул купол собора Санта-Мария дель Фьоре. Причудливо вырисовывался холм Сан-Миньято. Как в панораме, мелькали бесчисленные дома, дворцы, монастыри, башни и колокольни. На зданиях ослепительным перламутровым блеском сияли прекрасные выпуклые изображения из глазурованной терракоты[8]. Из ниш смотрели лики мраморных мадонн. Леонардо не мог оторвать восхищенных глаз от красот этого великолепного города.
Здесь все для него было ново и удивительно. Пышным, нарядным казался и дом отца после скромного прежнего, а нотариус, обходя большие комнаты этого дома, все записывал, что надо купить для обстановки, соответствующей его положению состоятельного гражданина. И Леонардо часто слышал, как отец повторяет свою любимую поговорку: «Кто ничего не имеет, тот и сам ничто!»
Флоренция — чудо из чудес.
Проходя с отцом по широкому Старому мосту — Понте Веккио — через Арно, он с изумлением смотрел на длинный ряд лавок золотых дел мастеров. В руках ювелиров каждая безделушка казалась верхом совершенства. Так же удивляли его и мастерские столяров, резчиков и кузнецов: везде он угадывал смутно, инстинктом точность рисунка, разнообразие форм, богатство воображения.
Действительно, Флоренция в то время была средоточием искусства, поражавшего с первого взгляда, была центром умственной жизни Италии, раздираемой на части вечными смутами и войнами. Во всем мире только Италия сберегла великое наследие античного искусства. Интерес к искусству был не только у аристократа, но и у рядового горожанина. И флорентийцы шли впереди других итальянских государств в признании высокого значения искусства. Покровителем этого направления во Флоренции был знаменитый банкир Козимо Медичи Старший. Этот просвещенный правитель, при котором протекало детство Леонардо, ссужавший деньгами иноземных королей, собирал вокруг себя людей науки и искусства, не жалея средств для приобретения редких картин, статуй, древних рукописей. Щедрый меценат, он помогал поэтам, художникам и ученым, оказывал им гостеприимство на своей прекрасной вилле Кареджи, особенно художникам и поэтам, прославлявшим его имя. Его же заботами при флорентийском монастыре Сан-Марко по завещанию друга Медичи, Никколо Никколи, возникла богатейшая библиотека, первая публичная библиотека в Италии.
Росла и страсть к собиранию произведений древнего искусства. Повсюду в Италии производились раскопки, и моду вошли греческие учителя и изучение классической древности. Некоторые богачи разорялись на покупке античных статуй, древних рукописей, как разорился Никколо Никколи, собравший знаменитую библиотеку Сан-Марко.
Цветущий город казался мальчику, приехавшему из тихого городка, волшебным. У самого дома отца действительно стоял так называемый Баптистерий.
Показывая Леонардо это замечательное сооружение, отец сказал с гордостью, как следовало говорить каждому флорентийцу:
— Смотри, мальчик, ведь это храм, по котором тосковал, когда был в изгнании, наш великий поэт Данте. Кто из прославленных художников не украшал его в разное время, и сколько их еще потрудится над его украшением! Вон замечательные бронзовые двери работы великого скульптора Лоренцо Гиберти!
И, держа за руку сына, нотариус показал ему знаменитые двери с барельефами — целыми картинами на библейские сюжеты, объясняя с восторгом:
— Смотри, какая работа! Высокий рельеф чередуется с рельефом тончайшим, как паутина, который стелется легким налетом, незаметно сливаясь с фоном…
Здесь, во Флоренции, отливалась бронза и создавались рельефные фигуры задумчивых евангелистов, пророков, сивилл[9], библейские сцены в рамках прихотливых гирлянд из плюща; здесь происходили беседы художников; сюда привозили мраморные античные статуи, отрытые в глубине земли, изуродованные тела которых старались с таким упорством восстановить художники. И сына нотариуса, любознательного Леонардо, тянула мечта найти где-нибудь на пустыре если не голову, то хотя бы кисть руки античного бога или богини, чтимых в древности…
Как странно, что люди, которые собираются по церквам молиться христианскому богу, с таким благоговением ищут старых языческих богов!
Этого было не понять Леонардо. Он видел вокруг себя странные противоречия и спрашивал у мачехи:
— Скажи, да разве у нас тоже много богов, как было прежде здесь и в Риме, у язычников?
Она смотрела на него с ужасом, а бабушка, слыша это, отрывалась от своего рукоделия и строго говорила:
— Смотри, Леонардо, чтоб тебя не услышал отец или какой монах, проходя мимо! Что выдумал? Много богов! Мы верим и молимся только одной троице.
— А святой Доминик? А святой Николай, а Иероним, Антоний. Цецилия и мадонна, бабушка?
— Это святые и пресвятые и пречистая дева Мария, матерь бога.
Леонардо замолкал. Он хотел хорошенько это обдумать.
* * *
Противоречия его смущали. Вся жизнь казалась ему сплошным противоречием, как и эти верования, и сами боги, и святые. Говорили «не убий» — и благословляли крестом войну. Говорили, что мученики погибли потому, что верили в единого бога, а он оказался троицей и имел еще святых, которым тоже молились христиане. А потом эти старые боги, которых извлекали из развалин с таким восторгом и благоговением…
Все, все кругом — противоречие.
Почему бабушка надела ему на шею маленькую ручку из коралла, сжатую в кулак, с выставленными двумя пальцами — указательным и мизинцем — и делает это движение сама рукою, когда боится чьего-либо «дурного глаза»? И что такое этот «дурной глаз»? Что такое значит — сглазить? И почему во Флоренции считают, что надо начинать дело в субботу, если хочешь успеха? Чем суббота лучше других дней? И почему, когда строят какой-нибудь дом, то зарывают в землю что-нибудь золотое или серебряное?
Никто до сих пор не объяснил этого Леонардо…
Утраты, перемены и противоречия
Леонардо рос среди любящей его семьи, в сущности, одиноким. Ему одному приходилось разбираться в возникающих постоянно вопросах об окружающей жизни и в загадках природы, которая его привлекала с тех пор, как он стал себя помнить. И, однако, жизнь в городе с каждым днем все больше и больше нравилась ему.
Флоренция была необыкновенным городом, полным чудес, как казалось Леонардо. Он не мог равнодушно проходить по ее улицам, не останавливаясь поминутно перед изваяниями, барельефами и фресками знаменитых мастеров, и долго созерцал их с благоговением. Все окружающее развивало в мальчике любовь к прекрасному.
Во Флоренции улица была художественным музеем; улица учила любить и познавать искусство.
Флоренция представляла собой обширный питомник, в котором вся Европа черпала зодчих, скульпторов, живописцев, ювелиров. Флорентийских мастеров приглашал к себе и глава католической церкви, папа, и великий князь московский, и турецкий султан. Все это развивало в самих художниках чувство собственного достоинства и законную гордость.
Каждый флорентийский подросток при встрече с известными художниками издали снимал шапку; говорил о них с гордостью и восторгом.
Не мудрено, что и в Леонардо с каждым днем росло и крепло здесь восторженное отношение к красоте и искусству. Он много рисовал втихомолку, рисовал все, что видел. В особенности занимало его внимание движение — человека, собаки, лошадей, разных животных, как занимало и вообще наблюдение над природой.
Он рос, вытягивался, становился более задумчивым и молчаливым, и часто веселая мама Франческа не понимала его пристального и в то же время отсутствующего взгляда — этот взгляд был для нее загадкой. Странный мальчик, на что он смотрит, что видит? И она говорила, не то журя, не то восхищаясь пасынком:
— Ты, Леонардо, учишься точно мимоходом, но учитель не жалуется на тебя. Если бы ты учился более прилежно, ты стал бы одним из самых уважаемых синьоров в городе, право. Из тебя вышел бы знаменитый учитель или нотариус, и ты бы стал очень богатым.
Знаменитый нотариус или учитель, к которому трудно попасть в учение, — это была высшая ступень желаний синьоры Альбьеры, а потом и новой его матери — синьоры Франчески.
* * *
В то время во Флоренции жил знаменитый математик, астроном, врач и философ Тосканелли. Это имя хорошо знал каждый уличный мальчишка. Не раз, проходя мимо дома ученого, Леонардо с завистью поглядывал на окна и дверь, за которыми, по его мнению, было святилище науки. В окно ему иной раз удавалось увидеть великого ученого у рабочего стола, заставленного разными химическими приборами: ретортами, колбами, ступами, перегонными аппаратами, — видел полки с длинными рядами рукописных книг.
Здесь, в тишине строгого кабинета, были определены широта и долгота Флоренции, была начертана карта, благодаря которой сделалось возможным путешествие Колумба и открытие Америки.
Нередко Леонардо встречал на улице знаменитого ученого в старомодном черном плаще, окруженного преданными ему учениками. Длинные седые волосы окаймляли худое лицо с глубоким, задумчивым взглядом, вся фигура дышала спокойным величием, и мальчик чувствовал к этому старику почтительный страх. Его тянуло к ученому. С каждым днем ему все больше хотелось попасть в число учеников, и он по целым часам простаивал у дома Тосканелли. Наконец ученый заметил мальчика.
— Кто это? — спросил Тосканелли у одного из своих учеников. — Он сидит на ступенях у моего дома, точно чего-то дожидается.
Леонардо в это время, сидя на каменных ступенях, чертил на земле геометрические фигуры и делал какие-то вычисления.
— Что ты здесь делаешь у моего дома каждый день и зачем следишь за мною?
Леонардо вспыхнул:
— Я хочу учиться у вас математике!
Тон был решительный.
Это короткое заявление понравилось ученому. Он улыбнулся.
— Который тебе год, маленький Архимед? — спросил он насмешливо, смерив его взглядом с головы до ног.
— Скоро четырнадцать, синьор, и я… я очень люблю науку.
— Ну что ж, можно любить науку и в тринадцать лет.
И, слегка прищурившись, Тосканелли сказал шутливо:
— Отныне мой дом всегда открыт для моего нового ученого друга.
Глаза Леонардо весело заблестели. Он понял добродушную насмешку ученого и раскланялся с утонченною учтивостью взрослого:
— Я буду весьма признателен синьору маэстро.
Тосканелли так же с улыбкой кивнул головою и поднялся на лестницу, ведущую в его таинственное жилище.
С этого дня сын нотариуса сделался учеником знаменитого математика. Мало-помалу Тосканелли серьезно заинтересовался мальчиком, закидывавшим его самыми разнообразными вопросами и принимавшим горячее участие в научных беседах и опытах.
И учение у Тосканелли наложило глубокую печать на весь склад души Леонардо.
Леонардо как-то рассказал учителю про свою жизнь, про маму Альбьеру и новую женитьбу отца. Тосканелли несколько минут молча ходил по кабинету, задумчиво разглаживая длинную седую бороду.
— Да, — проговорил он грустно и торжественно, — люди умирают, родятся, любят, изменяют, дерутся и горюют… И все это скоропреходяще… А там…
Он взял мальчика за руку и подвел к окну. На темном небе горели яркие звезды.
— Там тысячи миров, — заговорил ученый каким-то новым, проникновенным голосом, — там тысячи миров, друг мой! На каждой из этих далеких звезд, быть может, копошатся миллионы таких существ, как мы, и даже более совершенных… Они тоже страдают, радуются, родятся и умирают. И, когда погибнут эти миры, явятся новые, и будут они сиять так же, как эти звезды в необъятном просторе Вселенной.
Леонардо с новым чувством восхищения смотрел на учителя.
— Вселенная… — прошептал он и со страхом закрыл глаза.
Ему показалось, что он стоит на краю бездны, бесконечной, страшной и прекрасной, наполненной огненными мирами, несущимися с неимоверной быстротой, точно золотые волшебные мячики.
— Вселенная… — повторил он с восторгом.
* * *
Время шло. Нотариус приглядывался к сыну и все больше и больше задумывался, очевидно что-то решая и взвешивая. Положительно у мальчика не было никакого интереса к профессии своего отца, профессии, доставившей мессэру Пьеро да Винчи и материальные блага и почет. Он никогда не интересовался, о чем отец говорит с приходящими клиентами, не интересовался ни судебными процессами, ни толкованием законов. Его тянуло к этому странному отшельнику, ученому Тосканелли, который жил замкнуто в своем гнезде, куда был открыт доступ только немногим, таким же, как и сам Тосканелли, людям, постигшим тайны науки. Они составляли обособленный кружок, и о них во Флоренции среди особенно благочестивых людей говорили нехорошо: в своих колбах они добывают золото, и, наверно, тут не обходится без помощи нечистой силы. В этом кружке два таких таинственных человека: Бенедетто дель Абако[10] и Карло Мармокки[11]. Доведет ли это до добра Леонардо? Как посмотрят на то, что сын нотариуса обучается тайным наукам у этих людей, не очень-то усердно заботящихся о мнении католической церкви? Среди людей, бывавших у Тосканелли, как было известно мессэру Пьеро, разве один только грек Аргиропулос[12] своими занятиями античной литературой и языками снискал себе во Флоренции общее уважение.
Погруженный в эти беспокойные думы, мессэр Пьеро да Винчи не подозревал, что по ученым трудам Тосканелли, опасным в глазах верных католиков, учится Кристофор Колумб, слава о котором потом будет греметь в веках.
Он мрачно думал о судьбе единственного сына. Мальчик способный, нет слов, но стыдно, если при его способностях он не оправдает любимой поговорки нотариуса и не станет одним из состоятельных граждан Флоренции. У мальчика и память острая для наук, и голос для пения, и на лютне подберет любую песенку. Да и рисует он отменно: нет предмета, который бы он не изобразил в минуту — набросает углем или черным мелом что хочешь; даже и портретах у него верное сходство, а если захочет посмеяться, нарисует и схоже и смешно, даром что левша. И он подумал со вздохом:
«Уж лучше ему быть художником, если не хочет наследовать от отца его занятие… А художники у нас во Флоренции в славе. Вон Вероккио, мой приятель, — имя его гремит. Художник может попасть в придворные даже к самому святейшему отцу-папе… Что, если поговорить о мальчике с Вероккио? Леонардо — при дворе. Что ж, он красив и ловок, будет украшением любого двора и прославит отца… Но надо поговорить с мальчиком».
И, открыв дверь кабинета, громко позвал:
— Леонардо! Где ты там?
Из сада ему отозвался голос сына:
— Я здесь, батюшка…
— Иди ко мне. Мне надо поговорить с тобой. Да скорее.
Леонардо явился, неся в руках какое-то растение, сок которого ему хотелось исследовать. О нем говорил вчера Тосканелли.
— Слушай, Леонардо, — начал мессэр Пьеро решительно, — тебе нужно выбрать занятие. Что ты скажешь, если я тебя отдам в ученики к достославному маэстро Вероккио?
К изумлению мессэра Пьеро, сын его нисколько не удивился.
— Это будет очень хорошо, батюшка.
И все. Он точно ждал, что отец именно так решит его участь.
— Ну и ладно. Я поговорю с маэстро о тебе.
Мессэр Пьеро позвал Франческу:
— Дай-ка мне мое новое платье, дорогая.
Франческа, не расспрашивая, послушно принесла мужу новое платье, расправив чуть смятый кружевной воротник, красиво лежащий на черном бархате камзола, и его прекрасный плащ, только что сделанный к свадьбе.
Вскоре нотариус широко шагал к дому своего друга, знаменитого художника Андреа ди Микеле ди Франческо Чьонэ, по прозвищу Вероккио.
* * *
Подходя к дому художника, мессэр Пьеро услышал издали многоголосый шум. Но это не был гармоничный хор: молодые голоса звучали возбужденно; в их реве тонул бешеный окрик, в котором мессэр Пьеро все же узнал голос своего приятеля Вероккио:
— Да замолчите же, болваны, я вам говорю! Пусть скажет он сам, как было дело!
И, когда все смолкло, послышался слабый, прерывистый голос:
— Как я мог стерпеть, когда оскорбляют моего учителя!
И в ответ басистый, полнозвучный хохот Вероккио, знакомый хохот, который, как говорил сам мессэр Пьеро, может поднять мертвого из могилы:
— Ну и ходи теперь, Лоренцо, с подбитым глазом за честь своего учителя!
Очевидно, Вероккио заметил в окно подходившего к его дому приятеля прежде, чем тот взялся за молоток у входной двери, чтобы стуком известить о своем приходе, и позвал:
— Входи, входи, дорогой друг, дверь открыта! Разве с моими разбойниками может быть какой-нибудь порядок? Для них нет никаких запоров!
Мессэр Пьеро вошел и, протискавшись сквозь «хаос», как называл художник свое помещение, загроможденное атрибутами мастерской, остановился, не зная, куда положить свою шляпу и плащ, и боясь запачкаться краской. Это, впрочем, была обычная обстановка художников, и Вероккио, как и другие, сочетал в своем доме и в своем лице три профессии: ювелира, живописца и скульптора.
С вершины подмостков он закричал гостю:
— Вон там, на столе, чисто. Туда я кладу рисунки. Положи туда и свою шляпу и плащ. Я сейчас отведу тебя и чистое отделение, как мы называем мою спальню. А здесь — краски, глина, гипс, угли, карандаши, кисти и… пыль, много пыли. Одним словом, все сокровища ремесла художника. А в придачу — разбойники, которым тоже несть числа и которые чуть не проламывают себе голову во славу своего учителя!
Слезая с подмостков, Вероккио продолжал весело болтать:
— Не угодно ли, полюбуйся на этого проходимца Лоренцо Креди. Он подрался с учеником Гирландайо из-за того, что тот смел заявить, что я не стою мизинца его учителя! Смотри, в самом чуть душа держится, а лезет драться с дюжим болваном на голову выше его!
Маленький, щуплый Лоренцо Креди сконфуженно прятал от гостя лицо с подбитым глазом и тихо ворчал:
— Вон, говорят, лет десять назад здесь один ученик убил подмастерья какого-то художника за то, что тот поносил его учителя.
Соскочив на пол, Вероккио широко открыл дверь в соседнюю комнату, прибранную не только аккуратно, но даже с претензией на уют, где рядом с огромной кроватью под балдахином, покрытой парчовым одеялом, на изящном столике с резными золочеными ножками в виде грифов[13] в красивой вазе стоял букет цветов.
— Милости просим, друг. Побеседуем. Мальчишки всегда заботятся о том, чтобы у меня были свежие цветы. Они, мои сорванцы, проявляют в этом свою любовь ко мне, хотя служат, в общем, прескверно. Эй, чья там сегодня очередь? Подметите мастерскую да принесите нам с гостем хорошенькую бутылочку фалернского! Милости просим, мессэр Пьеро, заходи в мое пристанище, побеседуем… Стой, стой, бесстыдник Лоренцо, да у тебя из башмаков торчат пальцы! Сходишь к сапожнику и, если нельзя починить, возьмешь у меня денег и купишь новые!.. Милости просим, друг мой мессэр Пьеро, я рад, рад…
За стаканчиком душистого фалернского вина между приятелями полилась дружеская нескончаемая беседа. Говорили о трудности жизни и о доходах, разбирали по косточкам заказчиков и клиентов, говорили о последних тяжбах, о заказах на картины и статуи Вероккио, о новых украшениях церквей, о налогах и о роскоши, в которой живут Медичи на своей вилле Кареджи. Описывая эту роскошь, художник мимоходом, вскользь коснулся того, что флорентийские бедняки жалуются, что они умирают с голоду, в то время как правители республики утопают в золоте. Но гость осторожно перевел разговор на повышение цен на рынках и на то, что город собирается украсить Палаццо Веккио — дворец Синьории[14], и вдруг стал развертывать трубку с рисунками Леонардо:
— Вот, друг мой, я к тебе по делу…
— Что такое?
— Наследник у меня, и я пришел узнать твое просвещенное мнение о нем. Рисует, много рисует, а к моему делу у него нет никакого прилежания. Послушен, поперек слова не скажет, тихоня, мухи не обидит, а душою лежит к науке да к рисованию. Наука — это, я так мыслю, дело пустое, с нею как раз попадешь в еретики, а вот быть художником во Флоренции почетно. Посмотри, пожалуйста, рисунки Леонардо и, ежели найдешь, что он способен для твоего цеха, возьми в ученики, не раскаешься: с моим сынишкой не наживешь беды — от него никакого озорства, а я накажу ему, чтобы почитал тебя, как родного отца.
Вероккио с интересом погрузился в разглядывание рисунков, и они ему очень понравились. Не у многих из своих учеников он видел что-либо подобное. У мальчика смелый штрих, уверенность и замечательное умение наблюдать природу. Редко кто даже из взрослых может с такою правдою изобразить лошадь в разнообразии поз и в движении.
— Конечно, дружище, я беру твоего мальчика. Приводи его ко мне, и чем скорее, тем лучше. Будь спокоен — обижен у меня не будет, но и лениться не позволю, и от озорства уберегу. У меня не сделается пьяницей.
— Знаю, знаю, друг…
— Вот и выпьем еще по стаканчику в честь помолвки твоего Леонардо с моей боттегой[15].
Выпили еще по стаканчику за помолвку Леонардо с искусством Вероккио. Мессэр Пьеро верил другу, как самому себе, о чем прямо ему заявил, но все же заговорил об условиях и подписал контракт на обучение, по которому он должен был получать известную сумму — ведь ученик художника до некоторой степени и его слуга.
5 В мастерской Вероккио
Вероккио занимал почетное место среди флорентийских художников. Начав, как и многие люди его профессии, с искусства ювелира[16], он постепенно сменил ее на профессию живописца и скульптора, но имел тяготение к последней и стал более ваятелем, чем живописцем. Это тяготение сказалось и на его картинах. Фигуры на них как бы вылиты из бронзы: они написаны с большою точностью; видно, что внимание художника особенно обращено на анатомические подробности. Впоследствии бронзовая конная статуя предводителя венецианского войска Бартоломео Коллеони, украсившая площадь в Венеции, покрыла имя Вероккио неувядаемой славой.
Во Флоренции к нему относились с большим уважением, как к учителю. Всем были известны его честность, ого трогательное, почти отеческое отношение к ученикам. Пользуясь их мелкими услугами в мастерской, что было тогда в обычае среди художников, он никогда их не переутомлял, журил, как своих детей, радовался их успехам, горевал об их печалях, заботился об их одежде. В свободное время Вероккио любил шутить с учениками, и в эти часы его мастерская оглашалась молодым, веселым смехом, но в часы работы художник был строг и требователен.
Вероккио был новатором. Он указывал ученикам, что мало одного добросовестного труда и способностей, чтобы стать хорошим художником, что надо еще нечто другое — изучить правду жизни, природу. Так, изображая человека без знания анатомии, трудно найти верные пропорции его тела. По этой части Вероккио был образованнее многих из своих современников.
— Нарисуй скелет, — убежденно гремел в мастерской его голос, — покрой его мускулами и жилами и тогда только облекай кожей.
Следуя жизненной правде, Вероккио создал своего удивительного по верности природе Иоанна Крестителя. Особенно поражает в этой картине рука пророка, с ее жилами и сухожилиями, так ясно видными сквозь кожу. Это действительно рука сурового отшельника, проводящего в пустыне целые месяцы, иссохшая, загрубелая от тяжелого труда.
«Ведь из этого источника, — говорил о Вероккио современный ему поэт Уголино Верино, — многие живописцы почерпнули все свое умение. Почти все, чья слава теперь гремит, были обучены в школе Вероккио».
* * *
В мастерской знаменитого художника время для Леонардо летело с неимоверной быстротой. Он не жалел о том, что покинул уютный дом. Он внимал наставлениям учителя, вбирал их жадно и, естественно, старался проверить их на своей работе. Стопки рисунков его росли, росла и запись правил для живописца. Среди товарищей он чувствовал себя как нельзя лучше и не отлынивал от общей работы: хождения в лавки за покупками, растирания красок и уборки мастерской.
Прощаясь с мачехой, он утешал ее покровительственным тоном:
— Тебе вовсе не о чем горевать, мама Франческа. Ты должна понять, что есть нечто, что дороже нам родного дома, чему мы должны учиться, то, к чему нас тянет… А потом, разве у меня не будет отпусков? Я ни одного не пропущу и буду тебе рассказывать по порядку о моей жизни у Вероккио.
Бабушка молча грустным взглядом проводила внука; она чувствовала, что ей уже недолго осталось видеть близких сердцу.
В мастерской Вероккио было много даровитых учеников, которые нравились Леонардо, но больше других его привлекали Лоренцо ди Креди и Пьетро Ваннучи, прозванный впоследствии Перуджино, по имени его родного города Перуджи. Пьетро был старше Леонардо и раньше многих из учеников поступил в мастерскую Вероккио; он держался уверенно и казался знающим, серьезным. Лоренцо Креди был полною ему противоположностью: маленький, слабый и часто хворал. Когда зимою Вероккио посылал Креди в лавку за лаком и краской и мальчик уныло смотрел в окно, за которым свистел ветер, Леонардо охотно исполнял за Креди поручение. Он поправлял рисунки Креди, ухаживал за ним, когда тот был болен, и не раз приводил к его постели знаменитого Тосканелли, знавшего толк во врачевании. Как самая заботливая мать, утешал он Лоренцо в его горестях, и Креди платил ему восторженною привязанностью, во всем стараясь подражать Леонардо — в движениях, говоре, манерах, мимике, только писать не научился левой рукой.
— Креди! — кричал кто-нибудь из товарищей, — а ведь ты не так надел свою шапочку, как Леонардо, — подвинь ее влево!
И Креди, краснея до корней волос, подвигал свою шапочку. А те не унимались:
— На палец больше!
— А теперь на полпальца меньше!
— Не так, не так!
— Креди! — кричал другой товарищ. — Да ты сошел с ума! Сидеть спокойно и тереть краски, когда Леонардо лежит на улице возле лавки мясника с проломленной головою… Он умирает, Леонардо, и я прибежал за тобою…
Креди смертельно бледнеет и опрометью бросается на улицу, сталкиваясь в дверях с учителем.
— Куда ты! — гневно кричит Вероккио. — Весь перепачканный краской несешься из мастерской так, что чуть не сбил меня с ног!
Ученики хохочут:
— Да он, маэстро, видел во сне, что Леонардо убили на улице…
В другой раз кто-то из учеников пустил слух, что по предсказанию колдуньи Леонардо должен будет умереть, если его лучший друг не согласится пожертвовать для него своею правой рукой, и, обступив Креди, товарищи спрашивали наперебой:
— А ну-ка, Креди, скажи, дашь ли ты отрубить себе или сжечь свою правую руку, чтобы спасти жизнь Леонардо?
И опять Креди поверил и, смертельно побледнев, сказал шепотом, прерывающимся от волнения:
— Да разве я могу не дать?
Иные отношения были у Леонардо с Ваннучи. Сильный физически, Пьетро не нуждался в его защите, когда дрался на кулачках или ссорился с товарищами, но в рисунке Леонардо был гораздо сильнее, хоть летами и моложе. Нередко он подходил к Пьетро и поправлял его рисунки, говоря уверенно и с некоторым огорчением:
— Друг мой, ведь здесь надо усилить тени, а здесь дать побольше света! У тебя рисунок бледен и в один тон… С какой стороны у тебя свет?
Ваннучи смотрел, соглашался и исправлял рисунок.
Очень интересовался Леонардо талантливым юношей Ллессандро Филипепи, прозванным впоследствии Сандро Боттичелли, появлявшимся часто в мастерской Вероккио. В сущности, он был учеником фра Филиппо Липпи[17], но он часто приходил в мастерскую Вероккио, увлеченный его замечательными работами, и черпал у него много нового для своего искусства. Боттичелли был на восемь лет старше Леонардо, и его сильная рука смело, уверенно работала кистью. Прозвище «Боттичелли» казалось насмешкой при взгляде на него: «боттичелло» — по-итальянски значило «бочонок»; это прозвище носил его брат Джованни, и оно по традиции перешло к Сандро. Уже в то время Боттичелли увлекался могучей поэзией Данте, уже тогда в его душе жили образы, напоминавшие образы дантовского «Рая» и «Ада», и он пробовал набросать их на бумаге.
Впоследствии Боттичелли осуществил мечту ранней юности и создал рисунки ко всем трем частям дантовскои «Божественной комедии» — всего более девяноста рисунков.
Одним своим видом Боттичелли останавливал на себе внимание: молчаливый, вечно погруженный в созерцание каких-то невидимых другими красот и образов, он и в Леонардо вызвал глубокий интерес. В нем было что-то, что хотелось разгадать впечатлительному подростку. Ведь и сам Леонардо часто погружался в глубокие думы, которые не могли разогнать ни веселые шутки окружающей молодежи, ни приглашение на праздник. Он бывал рассеян даже в разговоре с учителем. Чаще это случалось после посещения дома Тосканелли. Замкнутость и перемена настроения у Леонардо не ускользнули от Вероккио; он замечал отсутствующее выражение его лица после таинственных исчезновений из мастерской, а ученики и соседи не скрывали, что Леонардо посещает дом философа.
Раз он спросил Леонардо:
— О чем грезишь наяву?
Леонардо вздрогнул, вскинул на учителя ясные синие глаза и просто, спокойно отвечал:
— О соединении искусства живописца и ваятеля с наукой, о познании природы.
Вероккио улыбнулся. Этакий еще мальчик, а говорит серьезно, строго, как мудрый старец.
— Ты думаешь об анатомии, которая дает правильное понятие о строении человека и животных? Тебе, пожалуй, еще рановато начать рассекать трупы, но ты, конечно, займешься со мною этим впоследствии.
Леонардо покачал головой:
— Нет, не об этом, маэстро, хотя, конечно, мне необходимо будет изучить анатомию. Я говорю о том, что художнику необходима наука не только чтобы постигать строение тела человека и животных, но вообще…
Он искал слов; он еще не чувствовал себя таким сильным, чтобы ясно выразить свои мысли, сделать выводы из бесед там, в кружке ученых.
— Я… я думаю о науке в ее разнообразии… что искусство без науки — как тело без души… что математика в большом… в большом объеме нужна для познания законов перспективы, светотени и игры красок… что оптика и механика нужны для того же, иначе… иначе мы будем ходить как слепые, в темноте… и что познание этих наук требует особых, долгих и внимательных опытов…
Вероккио смотрел на ученика с молчаливым изумлением. Он говорил таким языком, этот юноша, каким не говорил с ним ни один из его более зрелых питомцев. Он не знал, что ему ответить. Ведь сюда, в мастерскую, приходило их много, и им довольно было тех навыков, которые они получали от него, а из инструментов — резца, стэки, циркуля, весов, простых приборов для измерения длины в ширины да, пожалуй, хорошей лупы, а из науки — первых уроков математики…
А Леонардо говорит о том, о чем никто из них не мечтал. Ведь большинство из них променяло ремесло ювелира на ремесло-искусство живописца-ваятеля, не чуждаясь, впрочем, и архитектуры, и сам он когда-то сидел с лупой над камнями и резал камень, гордясь тончайшим рисунком… Но этот мальчик хочет проникнуть в тайну мироздания. И вспомнилось Вероккио, как на днях он слышал горячий спор Леонардо со старшим и более опытным Сандро Боттичелли и как Леонардо твердо, не волнуясь, доказывал ему что-то… Нет, это поколение отличается от сверстников его самого, Вероккио. Оно будет неустанно чего-то искать, всегда чувствовать недовольство собою, тогда как Вероккио и его товарищи жили просто, верили в себя и не предавались несбыточным мечтам… Недалеко то время, когда Леонардо будет судить своего учителя, указывать на его недостатки, промахи, исправлять его…
— Познание… глубокое познание законов природы и искусства… — со вздохом шептал Вероккио.
6 Учитель и ученик
Вероккио все больше и больше привязывался к этому необыкновенному юноше, несмотря на то что только перед ним, сыном нотариуса, он должен был как-то подтягиваться, что только один Леонардо да Винчи взвешивал и проверял каждое слово своего учителя. Гораздо проще были и Боттичелли и Ваннучи, а ведь оба они были значительно старше Леонардо. Когда Вероккио беседовал с учениками об искусстве и ученики выслушивали его наставления как непреложную истину, он ловил внимательный, но испытующий взгляд Леонардо. Леонардо смотрел прямо и открыто в глаза учителю, взвешивал каждую фразу. Он один позволял себе высказывать замечания по поводу недостатков в картинах учителя, но свойственная ему чуткость подсказывала, что это следует говорить учителю только наедине. Так устанавливалась между Вероккио и Леонардо тесная душевная связь. И этот же беспристрастный судья являлся самой терпеливой, нежной сиделкой у постели учителя, когда он заболевал.
В минуту душевной тоски, когда Вероккио что-нибудь не удавалось, Леонардо молча, тихими шагами входил в комнату, куда учитель удалялся от посторонних глаз, и ждал, смотря на учителя, который сидел неподвижно, сжав голову обеими руками. Наконец художник замечал его:
— Это ты, мой Леонардо? Сегодня твой учитель никуда не годится. Здесь, — он указывал на свою голову, — пусто. Я ничего не могу из нее выдавить. А в груди так больно и так холодно! Мне кажется, что я больше ничего не смогу создать. А у тебя все впереди. Что тебя ожидает? Быть может, громкая слава, шумный успех, а главное, главное — спокойное, уверенное творчество… Ты будешь знать, что сделано все так, как надо, как ты задумал… А я… неужели это конец? Мой мозг высох, источник иссяк… В горле так сухо… Налей мне вина…
Леонардо наливал учителю кубок любимого им фалернского вина и начинал говорить тем тихим, проникновенным голосом, который доходил до сердца Вероккио. Он вспоминал, как отец привел его в эту мастерскую и как хорошо встретил его учитель, вспоминал его наставления, такие нужные, важные, дорогие, а потом переходил к тому, сколько дали эти наставления его товарищам и, наконец, какой восторг испытывали ученики, стараясь научиться живописи на работах учителя. А эти работы, эти картины и статуи?
Тихий голос и восторженные слова юноши ласкали усталую душу художника; лицо его прояснялось, и глубокая складка горечи около рта исчезала. Он точно молодел и вновь становился самим собой, этот добрый, ясный, бодрый учитель, друг и наставник молодых дарований. Он чувствовал потребность излить все, что накипело у него на сердце, брал в руки арфу, на которой чудесно играл, и Леонардо наслаждался льющимися из-под его пальцев вдохновенными звуками.
А когда учитель оставлял инструмент, брал его Леонардо и начинал свою робкую импровизацию. Таким образом переливы струн золотой арфы создавали еще один язык, близкий и понятный обоим, и исчезала последняя перегородка, отделявшая внутренний мир учителя от внутреннего мира ученика.
Ученики слушали музыку сначала издали, потом бросали кисти; в щели двери мелькали их лица…
* * *
Валломброзские монахи заказали Вероккио для своей обители картину «Крещение господне». Художник горячо принялся за работу. И вот под его кистью явились Христос и Иоанн. Вероккио задумал написать еще двух ангелов, благоговейно созерцающих великое событие. Было в обычае, что ученики и подмастерья помогают мастеру в больших, сложных картинах, выписывая второстепенные фигуры и мелкие детали, смотря по степени подготовленности.
Вероккио стоял в раздумье около неоконченной картины, когда в мастерскую вошел Леонардо. Учитель думал вслух:
— Остался один ангел. Тут надо передать простодушие детей, восторженно взирающих на необыкновенное зрелище, не понимая его важности, и так, чтобы он не был похож на другого.
Голос был усталый. Художник повернулся, услышав скрип двери.
— Это ты, мой Леонардо?
С минуту он раздумывал.
— Поди сюда, ближе. Стань так, чтобы не загораживать свет, чтобы он падал как раз на место, где происходит событие. Смотри. Ты напишешь здесь одного из двух ангелов… Ты доволен, что я поручаю тебе такой труд и что ты будешь участвовать в картине своего учителя?
Леонардо был ошеломлен. Для него это большая честь — значит, учитель находит его почти законченным художником… Но угодит ли он?
И его тихий голос слегка дрожал, когда он ответил, от всего сердца, искренне и радостно:
— Если я смогу… я постараюсь написать, чтобы вы были довольны, дорогой маэстро!
— И так, чтобы этот ангел не был похож на другого, — повторил снова раздумчиво Вероккио. — Принимайся-ка за работу, мой Леонардо.
Этот день Леонардо провел в раздумье. Он был взволнован; он искал в душе нужный ему образ и не спал ночь. Утром взялся за кисть. Великая честь участвовать своим трудом в большой картине большого мастера!..
«Чтобы он не был похож на другого…» — врезались в память Леонардо слова Вероккио.
Но он и не мог бы копировать уже написанного учителем ангела. Этот ангел ему не нравился. Глядя на него, Леонардо чувствовал, что художник устал, что его не захватил образ ребенка, восторженно глядящего на необычайное событие. С полотна на него смотрело детское личико с толстым носиком, приподнятыми бровями, ничего не выражающим взглядом круглых глаз.
И Леонардо начал работу. Ученикам задание Вероккио было еще неизвестно. Первым увидел товарища с кистью у картины Креди. Он сначала удивился, заметив контур ангела, над которым работал Леонардо, а потом пришел в восторг:
— Это он поручил тебе, тебе! О, да какой же ты счастливец!
Креди хотел еще что-то сказать, но, заметив, как спокойно движется рука друга, замолчал и стал изумленно следить за этою рукою. Вот он какой, этот Леонардо, — он пишет фигуры на картине учителя!
На пустом месте, оставленном на полотне, вырастала фигура коленопреклоненного ангела. Его мечтательный и серьезный взгляд, казалось, понимал значение происходящего. Кудрявая головка окружена, точно дымкою, тонким, прозрачным сиянием; одежда лежит красивыми, естественными складками.
Леонардо работал усердно изо дня в день, и Креди изо дня в день приходил любоваться его ангелом. Когда Креди первый увидел оконченную фигуру, он закричал простодушно:
— О пресвятой Себастьян! Да ты, Леонардо, сделал ангела лучше, чем сам учитель!
В эту минуту на лестнице, ведущей в мастерскую, показалась сгорбленная фигура Вероккио. Он был нездоров, переутомлен и, как всегда в такие минуты, мрачен. В это время мир казался ему пустыней, а сам он — затерявшимся в ней ничтожным червяком. Он закричал с отчаянием:
— Что ты сделал, Леонардо?
Юноша смутился:
— Ведь когда я наметил, ваша милость маэстро, вы одобрили позу коленопреклоненного ангела…
— Да не об этом я! А о том, что после твоего ангела я ничего не стою как живописец, что мне надо браться только за резец!
В тот же день Вероккио показывал работу своего любимого ученика Луке делла Роббиа, прославившемуся своими работами в глазурованной терракоте.
Художник заинтересовался Леонардо и захотел быть ему полезным. И решено было, что Леонардо будет пользоваться его советами.
Теперь у юноши не оставалось ни одной минуты свободной. Ему некогда было бегать домой — он то работал под руководством Вероккио, то шел к Луке делла Роббиа, не забывая и научного кружка Тосканелли.
Вероккио часто прихварывал, и Тосканелли, искусный врач, стал лечить его. Врач — друг тела — оказался другом души. Он вел беседы с художником, открывая ему тайны природы и уводя от искусства и обыденной жизни в необъятные просторы Вселенной. Он приводил с собою своих друзей полюбоваться произведениями славного художника, и в мастерской Вероккио, к радости Леонардо, иной раз затевались беседы на широкие философские темы и на темы, интересующие исследователей природы.
Леонардо минуло двадцать лет. Незаметно подошел срок, когда, по договору, он должен был оставить мастерскую Вероккио и получить звание мастера. Но и звание мастера не заставило его покинуть любимого учителя. Он решил остаться с ним еще несколько лет.
В редкие дни, когда Леонардо бывал дома, он испытывал тяжелое чувство одиночества. Мало что связывало его теперь с семьей. Его интересы были здесь чужды… Бабушка умерла; мама Франческа, девочка, когда-то товарищ его игр, сделалась апатичной, отяжелела и превратилась в вялую, сонную, живущую сегодняшним днем женщину, которая интересуется только болтовней, нарядами и лакомствами. Отец рано одряхлел и был недоволен, что сын все еще хочет чему-то учиться, приобретать знания, которые не сулят обогащения. Он ворчал:
— Скоро мне трудно будет ходить по судам и ломать голову над тем, как выручить из беды клиентов обходом законов. А ты все недоволен тем, что знаешь, хоть и nомогаешь в работе над картинами такому прославленному мастеру, как мессэр Вероккио. Ты и сам бы должен открыть свою мастерскую. И к чему тебе возиться с этими учеными, которых многие во Флоренции считают чернокнижниками? Ты попадешь на заметку у святых отцов нашей единой матери католической церкви, вместо того чтобы покоить старость отца и позаботиться о той, кого я дал тебе в матери…
7 Юность
После разговора с отцом, напоминавшим о том, что пора уже начинать свое дело, Леонардо не изменил решения и остался на неопределенное время подмастерьем у Вероккио. Его нисколько не соблазнил пример товарищей, открывавших свои мастерские и принимавших самостоятельные заказы. Он охотно бывал с ними в тавернах на пирушках, когда они праздновали окончание своего учения. Был даже один такой день, когда Леонардо заколебался в своем решении, глядя на Пьетро Ваннучи, явившегося на пирушку, он почувствовал желание стать самостоятельным…
Вероккио охотно принимал участие в празднествах, устраиваемых учениками в честь принятия их в цех. И в этот день он сидел за столом простенького кабачка, излюбленного молодежью — подмастерьями и начинающими художниками, — и толстый хозяин таверны, Томазо, потчевал его своим хиосским вином, уверяя, что оно лучше его любимого фалернского. Но Вероккио не слушал его хвастливых уверений; он был рассеян и, казалось, погружен в неотвязную грустную думу.
Хор учеников, провожая уезжавшего товарища, пел веселую песнь школьников, но Вероккио не подпевал им; голову его, как молотом, гвоздили знакомые слова:
Как вино, я песнь люблю И латинских граций, Если ж пью, то и пою Лучше, чем Гораций!Облокотясь на стол, Вероккио не притрагивался к своему кубку. Вот они все уходят от него, эти даровитые юноши, составлявшие его семью, в которых он вложил то, что постиг годами опыта и размышлений. Он чувствовал, что уйдет и этот, самый любимый, который написал на его «Крещении» прекрасного коленопреклоненного ангела.
Настроение учителя передавалось и Леонардо. Он тоже был далек от смеха, песен и шуток товарищей. До него долетели фразы из другого угла таверны, хорошо знакомые выражения:
— Ты бы посмотрел на его работу! Какая гармония! Какие постепенные переходы от высокого рельефа к среднему и низкому! Из него выйдет замечательный мастер!
Они говорили о каком-то скульпторе. Потом завели речь о живописи:
— Тут не обойдешься законами ваяния. Здесь не объем и не пропорции, тут необходимо совершенное знание перспективы, умение компоновать, не говоря уж о безупречной правильности рисунка…
Вот они, нужные слова и нужные понятия! Кто дал им, начинающим, возможность с такой уверенностью произносить эти слова? Кто, подобно тому, как искусный ювелир шлифует камни, отшлифовал эти дарования? Тот, кто сейчас здесь сидит, погруженный в грустные мысли, огорченный разлукой?.. Леонардо подводил итоги полученного им от Вероккио: это умение наблюдать природу, учиться у нее, брать ее как образец жизненной правды, умение отойти от усвоенной условной манеры, продиктованной церковью и завладевшей искусством, это живой интерес к изображению пейзажа, правдивого, каким видит его глаз…
Он взглянул внимательно благодарными глазами на учителя.
— Маэстро…
Вероккио вздрогнул. Вот оно, прощание… Ведь уже несколько месяцев, как Леонардо получил звание мастера.
— Я хотел сказать, маэстро, что, если вы разрешите, я останусь у вас еще на несколько лет, чтобы укрепить знания, полученные мною в вашей мастерской…
Мрачное лицо художника просветлело. Он пробормотал чуть слышно, прерывающимся от волнения голосом:
— Да, сын мой, ты ведь хорошо знаешь, как мне будет это приятно…
Он улыбнулся и придвинул кубок к кубку Леонардо. А Леонардо, еще так недавно мечтавший о собственной мастерской, о самостоятельной жизни и свободном творчестве, вдруг почувствовал, как у него отлегло от сердца, и от души чокнулся с учителем:
— Привет вам от вашего благодарного подмастерья, маэстро!
И оба они стали слушать школьников, воспевавших вино, веселье и латинских граций.
Так Леонардо остался у Вероккио подмастерьем, несмотря на то что все его товарищи, закончив учение, устроились самостоятельно, принимая заказы в своих мастерских. Это решение делало счастливым Креди, который еще не кончил учения и не получил права на звание мастера, но и он удивлялся Леонардо и не понимал его.
Леонардо любил ходить по улицам Флоренции, смешиваясь с толпою на рыночной площади, на церковной паперти, на веселых уличных праздниках. Он вынимал украдкой из-за пояса записную книжку и делал наброски, если встречалось интересное лицо, фигура или целая группа.
В народную толпу тянула Леонардо, кроме профессии, также и любовь к танцам, музыке и конским скачкам. Он прекрасно пел, играл на лютне и на конских состязаниях всегда приходил первым, укрощая самую дикую, бешеную лошадь. Его изящные, тонкие пальцы, ловко работавшие кистью, обладали такою силою, что гнули подковы, а красота его была известна во Флоренции и вызывала у многих молодых художников зависть: на праздниках девушки охотнее всего танцевали с Леонардо. А праздников во Флоренции было много, и они давали неисчерпаемый материал для зарисовок. Здесь он видел людей в момент, наибольшего оживления, а ведь в движении, в непринужденных позах характер каждого отдельного человека проявляется особенно ярко. И художник, накопляя в записной книжке зарисовки, наброски, записи подслушанных разговоров, песен, шуток, замечаний, философских рассуждений, копил громадный, неоценимый запас для будущих художественных и научных работ.
После него осталось таких зарисовок, чертежей и философских заметок более семидесяти тысяч страниц…
* * *
Леонардо было уже около двадцати восьми лет, когда он открыл собственную мастерскую. К тому времени имя его было хорошо известно в художественном мире Флоренции, и заказы не заставили себя ждать.
Из Фландрии он получил предложение сделать картон — большой рисунок для ткачей, которые готовили португальскому королю роскошно затканный ковер. Леонардо изобразил на картоне Адама и Еву. Вокруг первых людей на лугу — множество разнообразных животных, причудливых цветов. И листья, и цветы, и звери — все было изображено с необычайной точностью, особенно пальма, которой художник придал исключительную грацию и гибкость. Впечатление достигалось не поверхностной передачей формы — дерево было изучено ученым и прочувствовано художником. Уже тогда ученый проявлялся в художнике; уже тогда обнаруживалось многообразие интересов и способностей Леонардо, так ярко сказавшееся впоследствии. Сложность творений природы не пугала его. Он хотел говорить о ней свободным языком художника, но с точностью, позволяющей воспроизвести все ее элементы. Уже тогда складывалась и та мягкая живописная манера, которая так отличает его от жесткой манеры большинства флорентийских художников XV века.
К этому же времени относятся написанные Леонардо два «Благовещения».
Первое «Благовещение» дышит непринужденной естественностью. Ни богато убранной комнаты, как это обыкновенно изображали художники, ни голубя — святого духа, ни облаков на верху картины, — ничего этого здесь нет. Богоматерь принимает благую весть под открытым небом, у входа на террасу. Чудный день, веселый пейзаж — цветущие лилии, живописные группы деревьев, река, окаймленная холмами. Мария на коленях благоговейно и смущенно слушает радостно улыбающегося ангела.
Второе «Благовещение» несколько иное. Изображенный на нем ангел задумчив, серьезен, а мадонна с радостным изумлением выслушивает необычайную весть. На этой картине все, начиная со складок одежды богоматери до столика, на котором лежит раскрытая книга, поражает совершенством художественной отделки.
Молодой художник начал писать картины на религиозные сюжеты подобно своим товарищам по профессии. Это было в духе времени, только художники эпохи Возрождения умели наполнять эти религиозные темы новым, человеческим содержанием. Для них эти «святые» были не бесплотными духами, а здоровыми, полными сил людьми, обладающими всеми чувствами обитателей земли.
Так работал и Леонардо. Уже в начале своего самостоятельного пути он быстро освобождается от некоторой упрощенности и скованности художников старшего поколения, его образы отличаются естественностью и реалистичностью.
Это особенно видно в более зрелом произведении молодого Леонардо, так называемой «Мадонне с цветком»[18]. Это мать, играющая с младенцем и забавляющая его цветком. Прекрасная, очень юная женщина со счастливой улыбкой любуется своим ребенком, а он теребит пухлой ручонкой цветок, который она держит. Картина дышит человечески правдивой простотой. Чудесно выражены материнская нежность и связь между матерью и ребенком. Необыкновенно тонко переданы прозрачные тени лица Марии и контраст этого нежного лица и тела младенца на фоне суровых, ничем не украшенных стен убогого жилища.
«Переход от света к тени, — говорил Леонардо, — подобен дыму».
Здесь ярко сказалась его упорная работа над светотенью, как и в неоконченной картине «Поклонение волхвов», с которой он начинал самостоятельную жизнь. Многофигурная картина, результат множества предварительных набросков, дошла до нас только в подмалевке, но она интересна именно исканиями молодого художника.
Среди рисунков этого времени сохранился и пейзаж с натуры, очевидно вид окрестностей Винчи по дороге и Пистойю: горы, поросшие кустами и деревьями, на одной из вершин — стены замка, и в прорыве между кручами — даль с рекою, окаймленною холмистым берегом.
* * *
Мессэр Пьеро да Винчи теперь был доволен: сын наконец начал свое собственное дело, и дело пошло как нельзя лучше — от заказов не было отбою.
Сам мессэр Пьеро, чувствуя тяжесть лет и усталость, бросил шумную Флоренцию и вернулся опять в свой скромный домик на одной из уютных улочек Винчи. Ему казалось спокойнее работать в этом уголке Тосканы, чем в шумной Флоренции со сложными людскими отношениями, сложными тяжбами. Гордый успехами сына, он радовался, что известность Леонардо достигла родного города и создала самому нотариусу еще больший почет.
Как-то мессэр Пьеро собирался по делам во Флоренцию и велел жене распорядиться, чтобы ему оседлали мула. Он давно не виделся с сыном и решил навестить его, а кстати повидаться и со старым другом Вероккио.
— Мой Пьеро, — сказала, появляясь в дверях, синьора Франческа, — рыболов Джованни хочет тебя видеть. Он принес тебе какую-то доску и рассказывал мне что-то, да только я ничего не поняла.
— Впусти его ко мне, Франческа, да принеси мне новую шляпу.
Вошел рыболов Джованни, старый клиент мессэра Пьеро. Он держал под мышкой круглый, тщательно вырезанный и выструганный щит из масличного дерева.
— Что скажешь, друг?
Усиленно кланяясь, рыбак стал просить его милость мессэра Пьеро свезти во Флоренцию к молодому мессэру Леонардо эту доску и попросить великого художника намалевать на ней что-нибудь этакое удивительное… устрашающее, ежели можно, для вывески его брату на лавочку. Он задумал вместе с братом торговать рыбным товаром, скупая рыбу у других рыбаков.
— Что-нибудь поудивительнее, ваша милость, уж сделайте одолжение… Тогда каждому покупателю занятно будет зайти в лавку поглядеть на чудеса. Глядишь, что-нибудь и купят. Уж за ценой мы не постоим, ваша милость!
Пьеро, смеясь, согласился отвезти щит сыну.
Он не сказал, впрочем, Леонардо, для чего и кому нужен его труд, но просил, как бы для себя, намалевать на доске что-нибудь особенное, пострашнее, «чтобы мурашки по телу забегали»…
Леонардо не стал расспрашивать — мало ли какие фантазии придут в голову старику! А ему было даже занятно «намалевать» страшилище. Как только отец уехал, он принялся за щит. Молодой художник, любивший во всем совершенную отделку, снес щит к токарю, чтобы выровнять и отполировать его. То, что он решил изобразить на щите, было необычайно. Он решил написать на доске нечто такое чудовищное, что превзошло бы ужасом Медузу[19]. И вот, верный своему правилу точно следовать природе, Леонардо начал собирать всякого рода интересных и разнообразных животных. Попали к нему кузнечик с саранчой, летучая мышь и змея, бабочка и ящерица. Всех этих животных художник расположил таким своеобразным и остроумным способом, что составилось чудовище, выползающее из мрачной расселины скалы. Казалось, дыхание этого чудовища заражало и воспламеняло воздух; черный яд вытекал из его пасти; глаза метали искры; дым клубился, выходя из широко раскрытых ноздрей. Отвратительный смрад разлагающихся животных наполнял маленькую комнату, в которой работал одиноко и упорно Леонардо. Но это не ослабляло его энергии, и он как одержимый придумывал для своего детища все более ужасный образ.
Наконец работа была окончена. Леонардо написал об этом отцу.
В одно утро в мастерскую Леонардо кто-то постучал. Послышался знакомый голос отца:
— Это я, мой Леонардо… Ну и жара!.. Открывай скорее, у меня руки полны — я привез тебе яблок из нашего сада…
— Сейчас, батюшка, одну минуту! Картину надо поставить на возвышение — будет виднее. Сейчас… Вот так… А теперь пожалуйте…
Он распахнул дверь мастерской, придвинув щит ближе к окну. Яркие лучи солнца озарили изображение во всей его поражающей чудовищности.
— Готово! — сказал Леонардо, отходя от картины с выражением торжества и улыбаясь.
Он вполне достиг того, что хотел. Чудовище смотрело с мольберта, освещенное ослепительными солнечными лучами; казалось, вот-вот оно бросится на человека, чтобы схватить его щупальцами-когтями и задушить в своих объятиях.
Лицо нотариуса покрылось мертвенной бледностью; глаза остановились в ужасе, и, забыв, что это только картина, он начал креститься и пятиться к дверям, а потом изо всей силы пустился бежать по улице. На повороте его остановила чья-то сильная рука, прозвучал молодой, смеющийся голос:
— Остановитесь, батюшка!.. Ведь этак может разорваться сердце… Простите, что я так напугал вас… Но я достиг, чего хотел: картина возбуждает ужас… Успокойтесь же, ведь это только картина, не более… это не живое чудовище… Вернемся же ко мне за щитом — ведь вы же сами заказали мне расписать его.
Мессэр Пьеро вытер пот, обильно катившийся с его лба, и пошел за сыном, чувствуя, как ужас сменился в нем восхищением. Оправдываясь, он проговорился:
— Да ведь не могу же я теперь, увидев, как ты расписал этот щит, отдать его на вывеску для рыбной лавки этого простофили Джованни! Ну ладно, — лукаво улыбнулся нотариус, — так и отдам, как же! Найду для него что-нибудь другое!
И мессэр Пьеро пошел к старьевщику. Там среди хлама нашел он старую вывеску с пылающим сердцем, пронзенным стрелою, привез его в Винчи и послал за рыбаком.
— Видишь ли, Джованни, — сказал он внушительно, отдавая вывеску рыбаку, — сын мой не нашел удобным для вывески круглую форму. Он изобразил сердце рыбака, пронзенное стрелой, и посылает тебе в подарок, в память прежних лет, когда еще жил здесь мальчиком.
Рыбак остался очень доволен этим подарком.
Страшное же чудовище молодого художника было продано нотариусом флорентийским купцам за сто дукатов. Впрочем, купцы не остались в накладе: они получили хорошую прибыль, перепродав картину миланскому герцогу Лодовико Моро втрое дороже. Прибирая в копилку свои сто дукатов, а потом узнав о выгодной сделке купцов, мессэр Пьеро да Винчи весело повторял любимую поговорку: «Кто ничего не имеет, тот и сам ничто!»
8 Трагедия родины
Время шло, отбивая свои часы, дни, недели, месяцы… Леонардо много пережил, много видел, многому научился… Он был свидетелем трагических событий, которыми была богата мятежная Флоренция.
На вилле Кареджи, около Флоренции, жил Лоренцо Медичи, прозванный за роскошь и блеск своей жизни Великолепным. Фамилия Медичи в XV веке господствовала по Флоренции, и Медичи, купцы-банкиры, стали фактически правителями республики. Такого положения они добились не только умелой и ловкой политикой, но и тем также, что заняли видное место в культурном движении своего времени.
Дед Лоренцо, Козимо Старший, приобрел громкую известность тем, что окружил себя учеными и художниками и стал изучать все вновь открытые сочинения античных авторов.
Продолжателем этого культа древности был внук Козимо — Лоренцо Великолепный. Он устроил на своей вилле настоящий храм итальянской поэзии и итальянского искусства. Оба, и дед и внук, ловкие и тонкие дипломаты, утверждали свое господство во Флоренции, оберегая интересы купцов и банкиров, только с той разницей, что Козимо был расчетлив и более или менее скромен в своих личных расходах. Лоренцо же, наоборот, ради пышности своего двора готов был чуть ли не разориться. Он продавал одно поместье за другим, влезал в долги, не брезговал никакими способами приобретения; устраивая блестящие народные празднества, старался привлечь к себе симпатии простых людей.
Лоренцо считал, что двор его должен быть обставлен, как двор просвещенного монарха, с которого будет брать пример вся Европа.
Он не жалел средств на приобретение редких античных статуй и рельефов, на содержание художественных школ, на приглашение в число придворных ученых и художников. Не мог он обойти приглашением и Леонардо да Винчи, получившего уже известность во Флоренции.
Но Лоренцо не заметил его исключительного дарования и поставил в число рядовых художников виллы Кареджи, где у него были свои любимцы, занявшие это место вовсе не по праву своего дарования, а нередко благодаря умению угождать гостеприимному покровителю и помогать ему веселиться. При дворе Лоренцо часто устраивались пиры и аллегорические шествия, привлекавшие всех граждан города, бывали пышные рыцарские турниры, в которых участвовали знатные юноши Флоренции. Понятно, что такой художник, как Леонардо, не пропускал подобных зрелищ.
На всю жизнь у него остался в памяти один из таких турниров, в котором участвовал брат Лоренцо, Джулиано Медичи. Слава о ловкости, храбрости, красоте и уме этого Медичи разнеслась далеко за пределы Италии, а Сандро Боттичелли увековечил своею кистью его облик.
Нельзя было забыть это лицо, бледное, с изящными чертами, тонкой, чуть тронувшей губы улыбкой, опущенными глазами под смелым взмахом бровей и застывшим выражением собственного превосходства и легкого презрения…
Леонардо увидел его на турнире, когда еще работал в мастерской Вероккио. Большое поле для состязаний окружено местами для зрителей. В роскошной ложе, задрапированной шелком и парчою, увитой гирляндами цветов, — семья Медичи, их друзья и придворные. На великолепных конях, в доспехах — два брата Медичи. Под Лоренцо гарцует вороной конь, а на шлеме его развеваются черные перья; он опоясан алым шарфом прекрасной Лукреции Донати, которой поклоняется. А на буланом коне, в серебряной кольчуге, с большими перьями на шлеме и голубой перевязью, — Джулиано. У него голубой шарф Симонетты Каттанео… Мог ли Леонардо тогда предвидеть, какая участь постигнет этого молодого красавца в серебряной кольчуге?
Затерявшись в толпе, Леонардо делал свои зарисовки в записной книжке и прислушивался к тому, что говорили в народе, среди простых ремесленников и солдат.
На большой поляне были приготовлены столы с угощением для народа. Многие восхищались щедростью владельцев Кареджи, но к восторженным голосам примешивались и слова осуждения:
— А налоги? Мы стонем от налогов, а в Кареджи живут и веселятся по-царски…
— Нам заткнули рты эти выскочки… Они покупают голоса, покупают власть над нами… Кто умеет пресмыкаться перед Медичи, тот живет, кто не умеет, тот помирай или беги из Флоренции…
— Флоренция стала только по имени республикой! Над нами нависли цепи тирана!
Слово «тиран», впрочем, звучало еще робко. Лоренцо Медичи устраивал свои дела при помощи разных сомнительных сделок: ухитрился выплатить жалованье флорентийским войскам при помощи своего банка, и это дало ему огромную выгоду.
До Леонардо долетали рассуждения о том, что Лоренцо простирает руку к общественному достоянию, чего никогда не делал Козимо, что он берет суммы для покрытия своих расходов не только из кассы «государственного долга», но даже не побрезговал благотворительным учреждением — «Кассой для девиц», где хранилось приданое бедных девушек Флоренции, капитал, составленный из частных сбережений. А ведь до сих пор этот капитал считался неприкосновенным…
С тяжелым чувством ушел тогда Леонардо с турнира. Потом он услышал и многое другое о Лоренцо. Во Флоренции ходили упорные слухи о том, что тиран вошел в компанию для эксплуатации богатых квасцовых рудников в городе Вольтерра как раз тогда, когда кругом говорили, что этот городок хочет расторгнуть с флорентийской компанией договор, обременительный для его населения… И все эти сомнительные сделки Лоренцо вел в глубокой тайне от граждан, при помощи преданных ему клевретов…
За Лоренцо Великолепным всюду следовала, как тень его блеска, цепь тайных соглашений, подкупов, обирание неимущих, разорение страны и кровь, кровь…
Первая кровь была пролита в 1472 году, когда за кабальным договором на разработку квасцов последовала расправа с недовольными и неслыханное разграбление города Вольтерра, а затем, через шесть лет, в апреле 1478 года, разыгрались события «кровавой обедни»…
Во Флоренции, как и во всех итальянских городах того времени, между знатными фамилиями, желавшими первенствовать, шла упорная борьба. Флорентийская фамилия Пацци давно уже враждовала с Медичи, оспаривая у последних власть и могущество в родном городе. Пацци поддерживал в Риме папа Сикст IV, и под его покровительством Пацци подготовили свой заговор. Во время богослужения, едва священник появился в царских вратах с причастного чашею, в руках приверженцев Пацци засверкали клинки, и первым упал мертвым Джулиано Медичи. Раненый Лоренцо укрылся в ризнице собора Санта-Мария дель Фьоре. Но в последовавшей резне Медичи оказались победителями. Народ в последний раз выступил на их стороне.
— Смерть собакам Пацци! Смерть гнусным заговорщикам! — неслись крики по всем улицам.
Мало кому из Пацци удалось спастись.
— Palle! Palle![20] — неистовствовали приверженцы Медичи, выставляя на древках шары — герб Медичи.
Леонардо был очевидцем ужасов этого дня, он видел окровавленные трупы, распростертые на мостовых, вздернутые на виселицы. Он долго не мог забыть повешенных в окне Палаццо Веккио соучастников заговора — архиепископа Сальвиати и Франческо Пацци. В предсмертных судорогах они вцепились друг в друга, да так и застыли.
В наказание папа отлучил Флоренцию от церкви. Лоренцо ответил конфискацией имущества приверженцев Пацци и добился от Синьории осуждения и изгнания многих. Было вынесено около четырехсот смертных приговоров…
С этого момента власть Лоренцо Медичи сделалась безгранична. В противовес враждебным действиям папы он решил вступить в тесную дружбу с неаполитанским королем, которому дал понять, что для Неаполя твердая власть Медичи во Флоренции выгоднее, чем зависящее от настроения народных масс республиканское правление. Флоренция заключила тут же с Неаполем дружеское соглашение. Папа пошел на уступки. Авторитет Лоренцо поднялся после этого на необычайную высоту. Он употреблял все усилия, чтобы поддержать свое значение. Блеском двора Медичи старался ослепить сограждан, показав свое могущество и свою благость, доказать, что он необходим Флоренции как мудрый правитель. Он привлекал городскую бедноту беспрестанными празднествами. Способный честолюбец, просвещенный тиран, он умело забирал в свои руки независимость и свободу сограждан. На вилле Кареджи принимали блестящие посольства, к Лоренцо приезжали на поклон не только итальянские вельможи, но князья и герцоги других стран Европы; ему присылали богатые дары из отдаленных стран Востока. Раз в числе роскошных подарков от султана были присланы редкие животные: жираф и ручной лев. Лоренцо устроил на городской площади Флоренции оригинальную охоту. Дикие кабаны, лошади, быки, собаки, лев и жираф должны были вступить в смертельный бой.
В другой раз на знаменитом маскараде «Торжество Камилла», на который съехалось множество кардиналов, Лоренцо задумал пустить пыль в глаза своим гостям и попросил даже у папы для участия в празднике слона в дополнение к своей коллекции экзотических животных. Но его святейшество вместо слона прислал во Флоренцию двух леопардов и барса, сожалея при этом, что его сан не позволяет ему присутствовать на этом великолепном зрелище…
Среди этих бесконечных забав республика изнемогала, раздираемая политическими интригами, ненасытной борьбой партий и заговорами, душою которых нередко бывал и Лоренцо Великолепный, как и большинство владык, не гнушавшийся никакими средствами для достижения цели и державший соглядатаев и убийц среди своих приближенных.
* * *
Леонардо задыхался в душной атмосфере двора Медичи, где приходилось быть орудием прихотей Лоренцо. Он жаждал деятельности более широкой, но понимал, что при тогдашних условиях он не может существовать, не имея сильного покровителя. Леонардо искал могущественного человека, который предоставил бы ему простор для работы в области науки, искусства и техники, в которой он был не менее силен, на благо человечества. Огромные замыслы теснились в его мозгу, и не было выхода задуманному…
До него доходили слухи о безграничном богатстве и власти миланского герцога Лодовико Моро, который будто бы для усиления Милана поощрял разные научные открытия и технические усовершенствования. И Леонардо задумал предложить свои услуги Лодовико Моро. Необходимо только мирно расстаться с правителем Флоренции. Отпустит ли его Лоренцо?
9 В путь!
В тяжелом состоянии духа, все еще не зная, остаться ему или ехать, отправился Леонардо к отцу в Винчи. Он думал, что обстановка родного дома и места, где протекло его детство, подскажут ему решение. Что-то скажет отец, какой даст совет?
Вот он, старый дом, немного покосившаяся от времени ограда сада со знакомою калиткой, и старая каменная скамья, где любила сиживать вечерами бабушка, смотря на последние лучи уходящего солнца, и старый платан, на коре которого он делал ножичком зарубки, стараясь начертить какой-то фантастический профиль…
На каменной скамье — отец. Но до чего он не похож на прежнего сильного, знающего, чего он хочет, представителя закона! Стан его согнулся; он с трудом приподнимается навстречу сыну, и глаза его слезятся.
— А, это ты, мой Леонардо… А я никуда не гожусь и подготовил себе помощника… Пойдем в дом. По случаю твоего приезда я прощу мою Лукрецию… то бишь ту, которая… как бы это сказать… должна стать твоею новой матерью…
Это была новая жена нотариуса, которая после умершей Франчески должна была занять место матери Леонардо.
— Она нехозяйственная, мой Леонардо, — говорил про жену мессэр Пьеро, — вот я и заставил ее убрать сегодня все запасы в шкафах и назначил для этого время, заперев в кладовой…
И, открыв дверцу, закричал, просунув голову в щель:
— Ну, выходи… прощаю тебя по случаю приезда Леонардо… Но в другой раз не жди прощения и помни, что я взял тебя не из семьи бродяг, а из хозяйственной семьи, что ты Лукреция Кортеджьяни и должна знать счет каждому ливру своего мужа…
И выпустил ее из кладовки.
Желание посоветоваться с отцом исчезло. Отец постарел и ослабел, его заботы и интересы с каждым днем становятся более и более ничтожными, а он хотел говорить с ним о широком поле деятельности. И эта девочка с заплаканными глазами, в переднике, перепачканная мукою, эта Лукреция ди Кортеджьяни, — что у него общего с нею?
Отец ворчал, придирался к каждому недочету, перебирал непорядки по хозяйству… Прежде он не был так мелочен и не ввязывался в домашнее хозяйство.
Художник оставался у отца недолго. Ему надо торопиться. Отец его не задерживал и почтительно сказал:
— А, да, ведь у тебя, мой Леонардо, теперь важные дела: надо, чтобы ты умел угадывать желания великого нашего правителя… Он любит забавы, и тебе не занимать ни у кого фантазии, как развлечь такого просвещенного правителя, как наш великий Лоренцо… Ты пойдешь в гору; недаром я верен своей поговорке: «Кто ничего не имеет, тот и сам ничто». А ты уже приобрел имя знаменитого художника!
Леонардо решил просить аудиенции у правителя и отправился в Кареджи.
Массивные каменные лестницы вели к жилым покоям, довольно мрачным и неуютным, но с необычным для жилого дома убранством. Из-за колонн на темном фоне стен смотрели античные статуи — бесценные приобретения Лоренцо из произведенных на его средства раскопок; повсюду у дверей стояла стража. Издали слышались звуки лютни и хор, исполнявший знакомую песнь Лоренцо Великолепного:
О, как молодость прекрасна, Но мгновенна!.. Пой же, смейся, Счастлив будь, кто счастья хочет, И на завтра не надейся…Лоренцо был болен. Невеселые мысли угнетали его. Это был один из тех моментов, когда он начинал сомневаться в своей счастливой звезде и тогда требовал от окружающих, чтобы они выдумывали развлечения, которые заслонили бы от него призраки заговоров, разорения, войны, смерти…
Только что перед этим его забавляли необыкновенный фокусник, танцовщица-мавританка, но они вызвали у владыки только зевоту.
Сменив их, выросли словно из-под земли музыканты. Лоренцо, прищурившись, взглянул на них утомленными близорукими глазами.
И на завтра не надейся…—прозвенели последние слова легкомысленной песни Лоренцо. Он нетерпеливо махнул рукой и откинулся на расшитые подушки своего резного золоченого кресла, похожего на трон.
— Слышишь, Леонардо, что они поют? На завтра мне нечего надеяться! Они меня заживо отпевают… Довольно…
— Но ведь это слова песни славного поэта Лоренцо Медичи, прозванного Великолепным; они только повторяют эти беспечные слова…
— Не следует их повторять! Можно найти другие! — резко оборвал Лоренцо. — У тебя, — обратился он к Леонардо, — есть чудесная серебряная лютня в виде лошадиной головы, и ты поешь под рокот ее струн, как пел когда-то Орфей[21], но сегодня я не хотел бы слушать даже твое пение. Все они, эти забавники, глупы, глупее моего шута. Я выслушаю, что ты скажешь, а потом мне предстоит беседа с кем-нибудь из моих ученых друзей или же я буду читать «Божественную комедию»… Ну, я слушаю тебя.
При первых же словах Лоренцо хор исчез. Остался один только шут, кривлявшийся на подушке у кресла своего повелителя, да застывший круг придворных.
Леонардо поклонился и спокойно проговорил:
— Я пришел просить вас, досточтимый синьор, отпустить меня.
Лоренцо нахмурился:
— Куда? Надолго?
— Я прошу разрешить мне покинуть Флоренцию и уехать в Милан.
Наступило молчание. Потом медленно прозвучал насмешливый голос:
— Не чиню тебе препятствий. Может быть, миланский герцог Лодовико Сфорца вдохновит тебя создать что-либо замечательное, чем ты но мог порадовать нас здесь, в моем доме… Я велю дать тебе отпускную и денег на дорогу. Кстати, ты передашь поклон моему брату, герцогу Лодовико, и, если тебе там не будет сидеться, вернешься во Флоренцию с новыми замыслами.
Этой отпускной Лоренцо Медичи ясно показывал, что не слишком дорожит художником, но, верный своей щедрости, широким жестом дает ему достаточную сумму в виде прогонных. А может быть, в голове его шевельнулась и другая мысль — отпустить в Милан в залог дружбы знаменитого художника, чтобы рассеять малейшую тень вражды? Лоренцо Медичи был лукавым и расчетливым политиком.
* * *
Леонардо готовился к отъезду в своей мастерской, на вилле Кареджи. Он писал в Милан письмо, которое должно было прийти перед его приездом:
«Приняв во внимание и рассмотрев опыты всех тех, которые величают себя учителями в искусстве изобретать военные снаряды, и найдя, что их снаряды не отличаются от общеупотребительных, я, без всякого желания унизить кого бы то ни было, постараюсь указать вашей светлости некоторые принадлежащие мне секреты, вкратце переименовав их:
Владею способами постройки легчайших и крепких мостов, которые можно без всякого труда переносить и при помощи которых можно преследовать неприятеля, а иногда бежать от него, и другие еще, стойкие и неповреждаемые огнем и сражением, легко и удобно разводимые и устанавливаемые…»
Он писал долго, перечисляя познания, касающиеся военного дела, говорил, что умеет делать пушки, мортиры, умеет копать рвы и подземные ходы без малейшего шума, умеет строить корабли и сооружать снаряды, годные для морского сражения. Потом он приступил к перечислению своих мирных занятий:
«Во времена мира считаю себя способным никому не уступить как архитектор в проектировании зданий, и общественных и частных, и в проведении воды из одного места в другое. Также буду я исполнять скульптуры из мрамора, бронзы и глины. Сходно и в живописи — все, что только можно, чтобы поравняться со всяким другим, кто бы он ни был. Смогу приступить к работе над бронзовой конной статуей, которая будет бессмертной славой и вечной честью блаженной памяти отца вашего и славного дома.
А если что-либо из вышеназванного показалось бы кому невозможным и невыполнимым, выражаю полную готовность сделать опыт в парке вашем или в месте, какое угодно будет вашей светлости, коей и вверяю себя всенижайше».
Это письмо не являлось письмом хвастливого человека, который не может выполнить то, что обещает. Леонардо хорошо знал свои силы, а длинный перечень его талантов как военного инженера должен был помочь художнику поступить на службу к герцогу Миланскому: разносторонность талантов и знаний должна была привлечь Лодовико Сфорца.
* * *
Отъезд был решен. Леонардо ждал только ответа из Милана. Что побуждало его переменить службу у одного тирана на службу у другого?
Только сознание большей силы второго и горькое убеждение, что без покровительства сильных мира человеку его дарований нельзя обойтись. Думая о науке и технике, в которых он был так силен, Леонардо считал, что проявить себя в этих областях для него не менее важно, чем в области искусства. Гений его был одинаково велик как в первом, так и в последнем. Во Флоренции же он чувствовал себя лишним: Лоренцо Медичи не дорожил им как художником, отдавая предпочтение другим живописцам и скульпторам, наука же и технические познания его нисколько не привлекали.
Иное дело герцог Миланский, известный под именем Лодовико Моро. Уж этот, казалось Леонардо, предоставит ему все возможности плодотворно работать. Кто же такой был этот государь? Он происходил из плебейского рода Сфорца. Родоначальники его еще в XIV веке были простыми землепашцами. Благодаря удаче и ловкости они мало-помалу достигли высших степеней почета и власти, и один из них, Франческо Сфорца, конную статую которого собирался изваять Леонардо, силою и интригами завладел герцогством после смерти своего тестя, герцога Миланского.
Франческо был умен, отважен. Многочисленные победы покорили ему сердца солдат. И эта любовь вместе с интригами отдала ему в руки и герцогство Миланское. Толпа на плечах несла из собора родоначальника своих будущих тиранов.
Франческо умер, и власть должна была перейти к развращенному до мозга костей, жестокому его сыну, Галеаццо-Мариа, слава о безумных выходках которого разнеслась далеко. Этот тиран по малейшему подозрению приговаривал к смертной казни самых близких ему людей; он не щадил человеческих сил и требовал от служивших ему людей невозможного. Так, в одну ночь заставлял расписывать фресками залы своего дворца. Любимым его зрелищем была выдуманная им же самим казнь: осужденных зарывали по шею в землю и кормили их, насильно вливая в рот нечистоты, пока приговоренные к смерти не испускали дух.
Три смелых юноши решили избавить родину от угнетателя и умертвили его в церкви. За это они поплатились мучительными пытками и мучительной, медленной смертью…
После Галеаццо-Мариа престол должен был перейти к его старшему сыну, Джан-Галеаццо. Но второй сын Франческо, Лодовико Моро, решил не уступать Милан без борьбы племяннику. Сначала, когда он сделал попытку отнять у Джан-Галеаццо власть, он потерпел неудачу и был изгнан из герцогства, но скоро приобрел себе достаточно сильных приверженцев, чтобы вернуться на родину в роли регента, правителя Милана. Он не отнял у племянника прав престолонаследия, но сделал из него послушное орудие своих замыслов.
История раздоров, смут и низких заговоров повторялась решительно во всех частях Италии. Правители самостоятельных маленьких государств полуострова, связанных между собою общим языком, а часто и одинаковыми обычаями, смотрели друг на друга, как на заклятых врагов, и в междоусобных войнах постоянно призывали на помощь иноземцев. Дело кончалось нередко тем, что иноземцы грабили не только противников, но и союзников. Никто из князей и тиранов не думал о единстве ослабленной страны. Изнеженность и жажда роскоши охватывали Италию. Папы не отставали от простых смертных и не соблюдали условий святости своего сана. Покупалось всё: слава, почести, право на папскую тиару[22]. Именем бога панские индульгенции, продаваемые монахами, отпускали самые страшные грехи, даже еще только готовящиеся убийства. В ходу было циничное присловие: «Милосердный бог не желает смерти грешников, — пусть они платят и живут».
Лодовико Моро обладал всеми пороками своего века и своей страны: двоедушием, предательством, изнеженностью, властолюбием, жестокостью. Для достижения своих личных целей он не останавливался ни перед каким преступлением. Но таковы были и другие тираны, его соседи, как, например, поэт, философ, покровитель художников, восстановитель античного искусства — просвещенный флорентийский банкир и правитель Лоренцо Великолепный. Таковы были властелины, от которых зависела судьба художников и ученых. Не все ли равно, служить Лоренцо или Лодовико, лишь бы дали работать. Один тиран стоит другого — весь вопрос только, на службе у кого можно достигнуть больших результатов.
«Государь, — говорил Моро, — должен быть умен. Он не смоет бездействовать, но должен неустанно заботиться о благе своих подданных. Слава — это его святыня. Государь должен стремиться к великим делам».
И вот, стремясь сделать Милан средоточием умственной жизни Италии, этот правитель окружал себя учеными, инженерами, художниками. Университет в принадлежащем Милану городе Павии стал при Моро одним из главных центров итальянской образованности. Поэты прославляли величие Моро. Талантливые музыканты услаждали его слух, и в эти минуты Лодовико даже становился доступен благородным чувствам. Этот двойственный человек, проникнутый искренней любовью к искусствам, таил и душе жестокого и алчного зверя.
Глубокий ум Леонардо хорошо видел эти две души, когда задумал отдать свою судьбу в руки Лодовико Моро. Не холодный расчет руководил им, не честолюбие. Ему казалось, что нельзя найти в Италии лучшего властелина, который в жажде славы так пылко интересовался бы науками и техникой. Леонардо прежде всего хотел деятельности — он знал, что сделается необходимым для Моро.
Часть вторая Милан
1 Серебряная лютня
Милан — ключ к Италии для Франции и Германии; Милан привлекает к себе выделкой металлов; Милан — сторож Италии, помеха для европейских соседей, простирающих руки к Италии. Милан — поле для деятельности Леонардо, жаждавшего творчества в научной области.
Настал вечер, в который Леонардо должен был явиться ко двору Лодовико Моро на состязание музыкантов и импровизаторов. Слава о его превосходстве в этом искусстве достигла ушей герцога, а о звучности удивительной лютни, сделанной им самим, Лодовико прожужжали все уши досужие придворные. Состязанием Лодовико собирался щегольнуть перед французским посольством, и уже заранее было известно, что славный флорентийский художник Леонардо да Винчи, изящный и прекрасный собою, будет петь и играть на серебряной лютне странной формы, отлитой им самим в виде лошадиной головы. Музыканты толковали между собой, что эта форма придает особенную мелодичность звукам.
Леонардо направлялся своей легкой походкой по узким улицам к герцогскому замку, и скоро впереди вырисовались неприступные зубчатые башни, к которым вел первый подъемный мост. Мрачно было это жилище повелителя Милана, рассчитанное на то, чтобы быть прочным убежищем, защитой от врагов, так часто делавших набеги на соседние владения. На массивных стенах и башнях день и ночь стояли дозорные. Наполненные водою глубокие рвы с подъемными мостами окружали замок кольцом. На этот раз все мосты были спущены; на замке развевались веселые пестрые флаги среди цветочных гирлянд и тысяч огней. В купах пиний, кипарисов и померанцевых деревьев, окружающих замок, были скрыты праздничные сюрпризы, которыми герцог хотел удивить гостей: статуи, фонтаны и фейерверки в рамке цветочных арок и беседок.
Художник прошел по второму мосту и очутился на внутренней площади, Марсовом поле, обыкновенно молчаливом и пустынном. Но теперь площадь была битком набита народом; слышались шутки, смех, радостные восклицания. Поправив перевязь затейливой лютни, Леонардо смешался с толпой, подвигавшейся к замку.
Он ловил на себе любопытные взгляды; несколько дам позади него перешептывались, узнав в нем по покрою его длинного плаща и по лютне приезжего флорентийца, о талантах которого и о сегодняшнем музыкальном выступлении говорили в Милане. Черный бархатный костюм еще резче оттенял спокойную красоту его лица с густой русой бородою и золотистыми мягкими кудрями по плечам, выбивавшимися из-под черного берета со скромной серебряной пряжкой.
Леонардо легко взбежал по ступеням лестницы и встретил на площадке дурачка Диоду с лицом плута и прихлебателя. С шутовской фамильярностью он схватил художника за рукав и пронзительно закричал, потрясая бубенчиками колпака:
— Вот и ты, приятель! Сегодня мы с тобой разопьем кубок вина за дружбу! Мы будем вместе развлекать его светлость: ты — вот этой бренчалкой, своей лошадью, — а я — кувырканьем, — каждый как умеет! Здесь все мы развлекаем великого герцога кто во что горазд: поэты — стихами, певцы — песнями, художники — картинами и эмблемами его славы для площадей, а шуты — прыжками да смехом, а порою и метким словцом. Кто лучше забавляет, тот слаще ест!
Он залился громким, нахальным смехом, ударяя хлопушкой с бубенчиками по спинам проходивших гостей. И, подпрыгивая и мельтеша своим пестрым костюмом, он кричал:
— Дураку все позволено, все можно!
Первое впечатление у Леонардо было тяжелое, хотя то, что он видел, было обычным при дворах вельмож. И все же больно ударила его мысль, что и здесь, очевидно, ему готовы отвести роль забавника наряду с шутом… Хорошее начало… Но ни единым жестом Леонардо не выказал своего отвращения и смолчал даже на новую шутку Диоды, теребившего длинные уши своего колпака:
— Ха-ха! У шута по форме ослиные уши, куманек, но зато этому ослу Диоде не нужно, как любому из вельмож, просить докладывать о себе. Диода может входить в спальню герцога, когда вздумает! А герцог зорок, он все видит, не то что флорентийские купцы, безглазые Медичи, которые не могли отличить бриллианта Леонардо от простой стекляшки и отпустили его в Милан! Знаем мы, все Медичи слепы!
Он грубо польстил молчавшему Леонардо, назвав его бриллиантом и упомянув о природной близорукости всей фамилии Медичи.
Художник бросил ему пренебрежительно:
— Ты притворяешься глупым, чтобы скрыть плутовство. Но мой совет — не быть таким близоруким и не примерять каждому свой колпак с ослиными ушами.
Кругом раздался смех. Леонардо спокойно пошел вперед, высокий, стройный, заметный в своей длинной одежде, сшитой по флорентийской моде, среди миланцев в коротких плащах.
* * *
Большая зала для увеселений расписана фресками с аллегорическим содержанием и фигурками древних богов Олимпа. Позолоченные потолки украшены гирляндами живых цветов, аромат которых смешивается с пряным ароматом, поднимающимся из высоких курильниц. У стен — редкие растения, лари с драгоценностями, отделанные резною слоновою костью, чеканным серебром и золотом, резные стулья с шелковыми подушками, статуи, мозаичные столы, на стенах — мраморные доски, портреты в дорогих рамах. Все говорит о любви хозяина к роскоши.
Зала для увеселений полна гостей. Бархат плащей и камзолов, перья и аграфы[23] на шляпах — все это сливается с блеском позолоты и пестротою гирлянд.
Из толпы выступил плешивый горбатый старичок с длинным красным носом и слезящимися глазами; на нем потертый плащ и шляпа с длинным пером.
— Мой почтительнейший привет знаменитому мессэру Леонардо да Винчи, — сказал он с подобострастной улыбкой, весь извиваясь перед художником, — красе и гордости Флоренции… от Бернардо Беллинчони, придворного стихотворца и импровизатора славнейшего дома миланских герцогов Сфорца, к вашим услугам. Счел приятным долгом представиться и заслужить расположение вашей милости.
На губах Леонардо скользнула улыбка. А ведь этот старик как раз под стать шуту с ослиными ушами! И, изысканно поклонившись, он отвечал в тон Беллинчони:
— К вашим услугам, мессэр Беллинчони.
Художник в точности скопировал церемонные и жеманные движения стихотворца.
Вокруг засмеялись, и поэт постарался скрыться в толпе.
Леонардо подвигался вперед под шум разговора, бряцанье шпор и шпаг и дробную болтовню буффоне — шутов и уродов.
Перед Леонардо возвышалась сцена — площадка-подмостки, покрытая шелком, без всякого намека на занавес, с местами для герцогской семьи, убранными цветами, коврами и восточными тканями.
Толпа расступилась, пропуская юношу с мечтательным взглядом и хрупкой, недоразвившейся фигурой мальчика; в лице его не было ни кровинки. За ним твердым шагом шел роскошно одетый вельможа, которого Леонардо уже видел на улице в религиозной процессии и знал, что это и есть Лодовико Моро. Лицо надменное, жестокое; взгляд холодный, презрительный. А тот, полуюноша-полуребенок, — настоящий наследник трона, Джан-Галеаццо Сфорца…
Герцогская семья заняла места. Раздались звуки дудки и органчика, и на возвышении появился человек в ярко-красном костюме. Он начал скучнейший и длиннейший пролог[24], впрочем изобиловавший всеми тонкостями и изяществом придворного красноречия. Моро благосклонно кивал головою, а Джан-Галеаццо, видимо, скучал, слыша давно всем известные и набившие оскомину восхваления рода Сфорца, особенно величия его дяди, и смотрел на кривляний шута Диоды, у ног Лодовико копировавшего декламатора.
На эстраде появились актеры, разодетые в аллегорические костюмы. Тут были и златокудрый Аполлон, и крылатый Меркурий, и стройная Диана, и лукавый Амур, и нежная Психея[25].
Перед глазами Леонардо была декорация синего неба с перистыми кронами пальм, написанная лучшими художниками. Начались морески — представление, сопровождаемое медлительными, плавными танцами богов и богинь. Между актами давалась музыкальная интермедия[26] на дудках, волынках, рожках, виолах, лютнях и маленьком органе.
Лодовико Моро всей своей фигурой выражал самодовольство и гордость хозяина роскошного праздника, а его племянник не переставал блаженно улыбаться. По шепоту придворных сплетников, по коротким замечаниям, сказанным под сурдинку, но перемигиваниям Леонардо понял, что дядя с племянником не в ладах и выставляет Джан-Галеаццо слабоумным, стремясь из регента превратиться в неограниченного монарха.
Знатные французские рыцари, бывшие в Милане гостями, смеялись от души над веселым балетом с акробатическими фокусами жонглеров, появлявшихся среди танцовщиц.
Кончились морески, и началось состязание музыкантов. Некоторые из них давно уже прославились как искусные певцы и стихотворцы и состояли даже на жалованье при герцогском дворе. В группе разряженных импровизаторов Леонардо заметно выделялся благородной простотой скромного флорентийского костюма и своеобразной серебряной лютней. Со спокойным, достоинством ждал он своей очереди.
Царицей праздника была красавица Цецилия Галлерани. Она сидела на возвышении, как на троне, под золотым балдахином, и два пажа обмахивали ее белыми страусовыми опахалами. Она сияла бриллиантовой диадемой и самовлюбленно-благосклонной улыбкой.
Певцы пели о славе, о любви к родине, о подвигах в честь нее, о величии Лодовико Моро и рода Сфорца, о молодости Джан-Галеаццо, о красоте и добродетели моны Цецилии.
Но вот выступает вперед и Леонардо. Среди воцарившейся тишины мелодично прозвучал первый аккорд лютни. Струны прозвенели жалобно и нежно. Леонардо не воспевал ни небесной красоты Цецилии, ни доблестей Моро, ни молодости Джан-Галеаццо. Он говорил о вечной, нетленной красоте и могуществе Вселенной, о силе человеческого духа и творческой мысли. Песнь его звучала страстно, и он видел, как затуманилось грустью лицо Цецилии, как глубоко задумался Моро, а на глазах у Джан-Галеаццо выступили слезы. Отовсюду на него были устремлены растроганные и удивленные взгляды…
Когда певец кончил, о нем дружно заговорили, как о славном победителе в состязании. Собравшихся привлекала не одна песня и прекрасный голос, но и прекрасное лицо, и скромная, благородная одежда, и серебряная лютня необычайной формы.
По знаку Цецилии певец приблизился и опустился на одно колено перед ее троном. Цецилия сняла с плеч драгоценный шарф, затканный золотом и серебром, окутала им Леонардо и, взяв от церемониймейстера, секретаря герцога Лодовико, Бартоломео Калько, лавровый венок, возложила его на голову победителя.
Леонардо почтительно приложился к ее руке.
Улыбаясь, Цецилия сказала, что избирает Леонардо своим рыцарем. Это считалось большой честью при дворе, и флорентийский художник заметил, как лица его соперников но музыкальному состязанию сделались завистливы и злобны.
Моро ласково подозвал к себе Леонардо. Он сразу понял, какое перед ним богатое и разностороннее дарование, и решил всецело завладеть им.
Глаза флорентийца встретились с глазами Джан-Галеаццо, и в них он прочел восторг, робкий и молчаливый. Юноша прошептал, наклонившись к певцу:
— О мессэр Леонардо… мне хотелось бы вас слышать часто… мне…
И осекся, встретив ледяной взгляд дяди.
* * *
Праздник кончился пиром, танцами и играми. За столом подавали артишоки, присланные от самого султана, и бесконечное число затейливо приготовленных блюд с разными пряностями, заморскую зелень и фрукты, фалернское и кипрское вино. Но что было всего замечательнее — это паштет, обложенный овощами и изображавший Рим с его Ватиканом, замком Святого Ангела и Колизеем, даже катакомбами. В замке Святого Ангела играла заунывная музыка, точно при вечернем обходе стражи этой тюрьмы. В игрушечном Ватикане гулко били часы и раздавались звуки органа.
За столом много ели, много пили, читались придуманные на этот случай стихи, а шуты Янакки и Диода кривлялись, соревнуясь в своем умении смешить людей. Моро хохотал во все горло, обнаруживая пристрастие к грубым и плоским шуткам; за ним смеялись французские рыцари и весь двор. Про Джан-Галеаццо, остававшегося безучастным, говорили:
— Больной… Ах, очень, очень больной…
А после пира танцевали в саду, ярко иллюминированном, под нежную музыку и шум фонтанов. Потом началась распространенная в Италии игра в шары, в которой особенно ярко проявлялись сила и ловкость молодежи. Потом играли в любимую игру миланских дам — «слепую муху» (жмурки). И во всех состязаниях, где требовались сила и ловкость, первым оказывался флорентийский художник.
Поздно кончился праздник. Уже побледнели звезды; на востоке прорезала небо кроваво-красная полоса утренней зари.
На прощание герцог Лодовико Моро сказал Леонардо:
— Завтра ты явишься ко мне.
На другое утро, когда художник в назначенный час явился в замок, Лодовико был необычайно важен, как будто хотел подавить своим величием. Леонардо чуть заметно улыбнулся, увидев драгоценности, нацепленные на монархе, и герцог вспыхнул, уловив насмешливый огонек в его глазах. Инстинктивно он чувствовал непобедимую душевную силу флорентийца.
— Ты предлагал мне поставить конную статую моего отца, — начал регент. — Эта мысль мне нравится. Но только сумеешь ли ты сделать нечто грандиозное, величественное, что могло бы действительно прославить великого Франческо Сфорца?
— Я уверен, ваша светлость, — спокойно отвечал Леонардо, — но для этого мне необходимы материал, помещение и помощники, а следовательно, прежде всего нужны деньги.
— За деньгами дело не станет, если надо прославить фамилию Сфорца, — произнес высокомерно Моро.
В этих словах сказалась вся тщеславная натура выскочки, старавшегося во что бы то ни стало прослыть великим.
— Я представлю вашей светлости смету расходов и попрошу поскорее отвести мне помещение под мастерскую, — сказал Леонардо, откланиваясь.
2 Герцогские причуды
Моро приказал отвести флорентийскому художнику землю в предместье Милана, между крепостью и монастырем Санта-Марии делле Грацие. Это было обширное поле, окруженное огородами; с одной стороны его возвышались стройные стены обители, сооружение молодого гениального архитектора Браманте, состоявшего одно время на службе при миланском дворе. Кирпичное розовое здание монастырского собора с широким куполом, с лепными украшениями из обожженной глины было созданием вдохновенной фантазии, и каждый раз, проходя мимо него, Леонардо останавливался, любуясь красотой и гармонией этого сооружения.
Здесь, в предместье Верчельских ворот, Леонардо построил довольно обширный дом. Он должен был вместить мастерскую, помещение для самого художника и другое — для его учеников и помощников. В глубине сада с вечно запертой калиткой было выстроено маленькое здание — лаборатория Леонардо для научных опытов. Отдаваясь искусству, он не забывал уроков Тосканелли и других ученых Флоренции; его не переставали увлекать математика и химия, анатомия, ботаника и геология. Не забывая изобретений в области техники, он создавал новые химические соединения и делал смелые выводы, и в наши дни ценные для науки.
* * *
Но мастерская в предместье Милана оказалась мала для сооружения грандиозной статуи Франческо Сфорца, прозванной самим Леонардо «великим колоссом». Она должна была иметь восемь метров в высоту, и на отливку ее требовалось сто тысяч фунтов бронзы. Моро отвел для скульптурной мастерской помещение в самом замке.
Началась спешная работа. Художник целыми днями чертил углем бесчисленные наброски конной статуи.
У него было два варианта, между которыми он долго колебался: на одном — спокойно выступающая лошадь, несущая на себе гордого победителя; на другом — вздыбленный конь над поверженным врагом. Он выбрал в конце концов спокойно выступающего всадника.
Сохранившиеся наброски приоткрывают нам искания Леонардо. Здесь и галопирующий конь, и стоящий неподвижно, в спокойной позе. Здесь целый ряд зарисовок с самой тщательной отделкой деталей, зарисовки отдельных частей лошади, ее крупа, ног, морды в различных смелых поворотах.
Он работал над набросками для будущего памятника с неутомимою настойчивостью, и в них все совершеннее, все глубже вырисовывался образ. Месяцы проходили незаметно; художник чувствовал, что работа затянется не на один год, но это могло пугать только нетерпеливого заказчика, а не творца «великого колосса», — он должен достигнуть возможного совершенства в передаче движения.
Памятник изображал коня и человека, и образ человека был очень сложен. Ведь это Сфорца — грубый солдат без совести и чести, готовый продать лучшего друга; Сфорца — хитрый, как лиса, достигший власти отвагою и злодеяниями, авантюрист и осторожный правитель, тиран, надевавший когда надо личину благодетеля страны и народа. Эта двойственность натуры увлекла художника.
Леонардо постигал всю силу талантливого разбойника, и в душе его родились одновременно два образа Франческо Сфорца: один — величественный полководец, спокойно проезжающий с сознанием собственной силы после славной победы под восторженные крики солдат, и это был первый проект памятника.
Другой проект — более смелый, и Леонардо, первый наездник Италии, с особенной любовью останавливался на нем. Франческо должен был не спокойно гарцевать на коне, а нестись в самый центр сражения. Рассвирепевший конь и разгоряченный битвою всадник — как бы одно существо — летят вперед со страшной стремительностью. Лицо Сфорца — огонь; он весь — порыв, как и его пламенный конь. Вперед, все вперед, попирая поверженного врага, уносясь навстречу новой битве!
Нужно было самому обладать исполинской выдержкой, обладать исключительным философским спокойствием и ненарушимым хладнокровием, чтобы выносить беспрерывные требования Лодовико Моро. Часто Леонардо казалось, что было бы лучше, если бы этот миланский повелитель поменьше проявлял к нему свою благосклонность. Казалось, тиран не может без него жить — флорентийский художник был ему необходим каждую минуту.
Кроме регента, его терзал герцог Джан-Галеаццо. Больной и жалкий в своем бессилии, постоянно пренебрегаемый всесильным дядей, он хватался за Леонардо, как за единственное спасение:
— О мессэре, вы для меня — как свет во мраке… Вы один постигаете тайны природы, смысл жизни и тайны человеческой души… Поддержите меня… научите, как жить, как быть отважным и решительным… Я боюсь дяди, боюсь своих слуг, друзей, кажущихся мне затаенными врагами, я всюду вижу измену и стремление меня извести…
И Джан-Галеаццо, чтобы забыться и отвести душу, приходил к Леонардо, смотрел его работы, расспрашивал о планах, интересовался, как устроил свое жилище флорентийский мастер.
Нельзя ни на миг быть уверенным, что удастся без помехи работать. Совершенно неожиданно и в любой час являлся к Леонардо посланный от Лодовико Моро:
— Извольте следовать за мною к его светлости, мессэре…
Опять «его светлость»!
Художник с досадою бросал начатое дело и шел во внутренние покои дворца. Ну конечно, опять разговоры о празднике… Ни одно празднество не могло обойтись без флорентийского художника. Леонардо должен был придумывать костюмы для моресок, балета и карнавального торжества, расписывать декорации и триумфальные арки, сочинять канцоны[27] и услаждать герцогский слух игрой на лютне. Лодовико находил его ум оригинальным, его беседы — интересными. Никто не мог заменить ему Леонардо. И художник стал, помимо своей воли, необходимым герцогу…
* * *
Был мрачный зимний вечер. За окном рабочей комнаты Леонардо бушевала буря. Уныло шумели деревья замкового сада. Регент прислал за Леонардо, несмотря на поздний час. Художник застал его в одиночестве. У двери дремал дежурный паж… Лодовико сидел, опустив голову на руки. Он поднял голову, услышав шаги, и устало сказал:
— А, это ты… а я приготовился к отпору…
И показал на кинжал. Лицо его было страшно: глаза налились кровью, он весь дрожал. Перед ним стоял золотой рог с вином, но он, очевидно, не притронулся к вину. Пламя светильника озаряло его искаженное страхом лицо, и, несмотря на выражение слабости, Леонардо уловил в этом лице сходство с тем Франческо Сфорца, которого знал по портрету.
Дрожа как в лихорадке, регент сказал:
— Ветер стучит в окна, как человек… зловещий стук… Так было, когда умирал мой отец, великий герцог… Ты не находишь, что здесь холодно? Или я болен? Где твоя чудесная лошадиная голова, серебряная, с серебристым звоном? Принес?.. Постой, я не могу слушать даже ее… Кругом меня негодяи, которые хотят сбросить меня, сильного и великого правителя, унаследовавшего мудрость отца, ради этого труса, дряблого, чуть живого мальчишки, а тот исподтишка старается умертвить меня… Тебе это не удастся, слабоумный наследник герцогского трона!.. Я родился, когда Франческо Сфорца был уже герцогом Миланским, а отец этого мальчишки родился, когда Сфорца был еще простым солдатом. Света, еще света — здесь слишком темно, а по углам прячутся крысы с острыми зубами.
С ковра у дверей вскочил задремавший паж и внес еще один канделябр.
— Иди, — коротко приказал Моро, — и хорошо стереги вход в покои своего государя…
Когда паж исчез, он наклонился к Леонардо и зашептал:
— Слуга, который мне принес вино, мог влить в него яд по приказу мальчишки… У него дрожали руки, когда он принес мне этот рог. Погоди, я сейчас проверю…
Он хлопнул в ладоши. Прибежал паж.
— Пусть мне принесут еще бокал старого кипрского вина, да скорее! А ты смотри на его лицо, мессэр Леонардо.
Явился старый слуга с кубком вина. Лодовико хрипло заговорил:
— Признайся, это вино из погребов молодого герцога, моего племянника? Не от него? Но почему ты так бледен? Гебе приказали молчать? Признайся, или я повешу тебя перед окнами твоего светлейшего господина, герцога Джан-Галеаццо, моего племянника…
Несчастный смотрел с ужасом не мигая. Леонардо выступил вперед.
— Ваша светлость, — сказал он спокойно, — я ручаюсь, что это то вино, которого вы хотели.
— Что ты думаешь этим сказать? — прошептал Моро, нахмурившись.
— Это вино дает здоровье, ваша светлость.
— Чем ты докажешь?
— Я отолью немного в другой кубок и выпью. Отопью и то, что принесено раньше.
Он взял со стола золотой рог, налил из него в пустой кубок, выпил, потом налил нового и вновь отпил глоток. Слуга посмотрел на художника благодарными глазами.
— Иди… — приказал регент.
Лодовико выпил вино, но это не ободрило его. Мрачное выражение не исчезло с его лица.
— Не хочет ли ваша светлость, чтобы я сыграл на моей лютне?
— Играй!
Леонардо провел рукой но струнам серебряной лютни, и лошадиная голова запела, зазвенела нежными переливами, напоминающими рокот ручья. И жестокое выражение мало-помалу стало исчезать с лица владыки Милана; оно сменилось выражением глубокого страдания…
* * *
После таких тяжелых сцен в покоях регента Леонардо всегда тянуло к юмору.
«Изображая смешное, — говорил он, — надо заставить смеяться даже мертвецов».
В Милане, как и во Флоренции, Леонардо не оставлял своей привычки бродить по улицам и площадям с записной книжкой и зарисовывать интересные лица прохожих. Иной раз, зарисовав на ходу особенно интересное лицо или фигуру, он этим не ограничивался. Итальянцы народ общительный, и Леонардо пользовался этой особенностью своего народа. Приподняв шляпу, он любезно говорил какому-нибудь незнакомцу:
— Синьор, вероятно, не обидится, если скромный живописец пригласит его распить стаканчик доброго вина вон там, в ближней таверне? Мне симпатична ваша наружность: она напоминает моего лучшего друга, уехавшего в далекое путешествие…
Незнакомец принимал приглашение, и художник за стаканом вина в ближайшем кабачке вытаскивал из-за пояса записную книжку и делал в ней наброски.
Иногда такая охота была особенно удачна. На рынке между торговцами попадались любопытные лица. Стоило поглядеть на них, когда, торгуясь, они расхваливали свой товар или ссорились с покупателями! Следя за этими сценками, Леонардо думал, что интересно было бы вызвать на эти подвижные лица смех, неудержимый смех, граничащий с безумием.
Он задерживался возле крестьянских возов с товаром и начинал рассказывать небылицы, одну забавнее другой, и видел, как наивные слушатели корчатся от смеха. Вокруг собиралась толпа; смех разрастался по мере того, как разыгрывалась фантазия рассказчика, и записная книжка наполнялась хохочущими лицами.
Но художнику нужно было не только интересное уродство и яркое выражение смеха, но и выражение страха. Посреди рассказа он вдруг замолкал, вытягивая шею, и глаза его выражали смертельный ужас. Слушатели, не спускавшие с художника взгляда, мгновенно переставали смеяться; лица их вытягивались, и ужас передавался им моментально.
— Синьор, — говорил шепотом Леонардо стоявшему возле него и только что от души хохотавшему торговцу, — вы взгляните, что я снял с вашей спины…
И он что-то необычайное клал на воз, на большую светло-желтую тыкву. Торговец отскакивал в ужасе. Что это такое ползет по тыкве? Он в жизни не видел ничего подобного… Это не может быть порождением земли — это исчадие ада, рожденное ведьмою и дьяволом, послано ему за грехи, чтобы опоганить его товар и наслать страшные болезни, верно, за то, что он на прошлой неделе надул подслеповатую старуху, отпуская ей провизию… Теперь надо звать священника и кропить святой водой и воз и себя, да и жилище в деревне, пожалуй…
На самом деле страшилище было сделано Леонардо из воска и наполнено ртутью, которая приводила фантастическое существо в движение.
Подобные фигуры «исчадий ада» художник приносил и в таверну, куда зазывал случайных уличных знакомых.
— Смотрите, что это за ужас! — вскрикивал он, указывая на стол, где шевелилось что-то огромное, похожее на гигантского червя или змею.
То были просто птичьи внутренности, наполненные воздухом. Они принимали чудовищные размеры и, казалось, готовы были заполнить всю комнату, выползая из-под стола. Простоватые зрители, во главе с трактирщиком, в ужасе разбегались, пятились к дверям и наконец пускались вон без оглядки.
А записная книжка наполнялась зарисовками лиц, искаженных страхом и отчаянием.
3 В работе
Полдень. В предместье Верчельских ворот, на четырехугольном, залитом солнцем дворе Леонардо тишина. Ее нарушает только плеск воды фонтана да несносное жужжание шмеля, залетевшего из сада. Чей-то свежий юношеский голос лениво тянет слова страстной песни:
Скажи мне, женщина ль она, богиня или солнце? Ты увидишь ее, гордую, милую…И зевок, громкий, ленивый зевок:
— Эх, когда-то маэстро освободится из своей лаборатории? Кто там таскает воду для него? Значит, долго еще его ждать. А придет — за ним явится посланный от герцога… Это ты, Чезаре? Эх, уже удрал…
Из-за забора сада, примыкавшего ко двору, показалось женственно-миловидное лицо, окруженное спутанными красновато-золотистыми кудрями, и любимый ученик Леонардо, Джакомо Капротис, прозванный «Салаино», появился верхом на изгороди. Он был самым молодым из его учеников. Леонардо взял его с улицы, в Милане, вместе с другим Джакомо, маленьким мальчиком-сиротой; оба не помнили своих родителей.
— Никого нет. Слава богу, никто не тащит ведер в лабораторию для опытов… «Скажи мне, женщина ль она…» Ну до чего сегодня жарко и какая лень! А маэстро готов хоть к черту в пасть для своих опытов и парит, парит в печи свои котлы и тигли…
Он говорил громко, сам с собой. Ему наскучила тишина. Однообразный плеск воды в фонтане и скрип колодца за выступом дома, где кто-то брал воду, нагоняли на него сон.
Колесо скрипит уныло. Отсюда видно, как служанка полощет белье… Салаино потянулся и безнадежно посмотрел на потертые локти своего когда-то щегольского камзола. Этот веселый и самый юный ученик Леонардо имел пристрастие к хорошей одежде, как и вообще ко всему красивому. Ему было досадно, что обстоятельства заставляли его отказывать себе часто в том, что казалось ему необходимым, а необходимыми были для него пирушки в компании молодых повес. Если бы не любовь его к учителю, он перешел бы к другому, кто умеет зашибать деньгу, не разбрасываясь, как Леонардо, в занятиях и не добиваясь какой-то непреложной истины.
Салаино с тоскою взглянул на окно лаборатории. Его нисколько не занимали в эту минуту не только таинственные опыты учителя, но и мольберты, стоявшие в мастерской. Он думал: «Мы едим одну только сухую джьюнкатту, как погонщики ослов, вот и весь завтрак… А скажи маэстро — он засмеется: «Да ведь это самое здоровое кушанье — творог!»
— О чем ты так тяжело вздыхаешь, сын мой? Уж не о тощей ли джьюнкатте? — раздался голос из раскрытого окна лаборатории.
Вот чародей маэстро — он читает мысли!
Салаино засмеялся, покраснев до корней волос, и соскочил с забора. Перед ним в окне стоял учитель в своей обычной спокойной позе.
Юноша смущенно забормотал:
— Но, маэстро… его светлость… перестал вам что-либо жаловать из дворца… Отчего вы им не скажете, что это не годится такому великому мастеру, как вы? Сегодня этот дрянной мальчишка Джакомо кричит, что зеленщики, рыбные торговцы и даже торговцы красками — все грозят подать на вас в суд. Мне же обидно это слышать, маэстро: на вас, с кем не сравнится ни один художник на свете, — в суд!
Салаино говорил с искренним возмущением привязанного к учителю ученика, и говорил правду: вот уже несколько месяцев, как Лодовико Моро точно охладел к своей затее — конной статуе отца, и скупо, с вечными затяжками, с неприятными разговорами выдавал на нее деньги, и Леонардо приходилось затрачивать на статую Сфорца часть своего жалованья. Нередко случалось, что в доме не было ни гроша, и тогда даже любимые ученики начинали роптать. Даже Джакомо, маленький бездомный бродяга, подобранный им из жалости на улице, и тот дерзко кричит: «У мессэра Леонардо свистит в кармане! Скоро он всех нас распустит, и учеников и слуг…»
— Успокойся, — сказал, помолчав, Леонардо, — сегодня я схожу в замок и достану денег. Тогда и тебе куплю новый камзол. Я вижу хорошо, что тебя заставляет волноваться.
Салаино с видом ребенка, которому обещали новую игрушку, весело посмотрел на учителя.
А бесенок Джакомо, выглянув из дверей кухни, весь в саже, потому что чистил трубу, закричал с хохотом:
— Тезка любуется собою, точно девчонка! А дело и забыл. Мессэре, за вами опять присылали из дворца, и слуга выболтал, что мадонна Цецилия хочет заказать вам свой портрет.
Мадонна Цецилия Галлерани, красавица, возлюбленная Лодовико Моро, та, которая на состязании музыкантов повязала его своим шарфом и назвала своим рыцарем… И регент никому из художников не поручает ее портрет, кроме него, Леонардо… Большая честь…
Но, к изумлению Салаино, учитель не обрадовался, а хмуро сказал:
— Это мне не совсем по душе, сын мой. Герцог вечно торопит, отрывает от одной работы для другой. Я долго работал над проектом каналов, чтобы осушить его владения, а он от меня беспрестанно требовал рисунков и пустых выдумок для иллюминации, моресок, процессий, вечных праздников… Меня постоянно отрывают от научных изысканий. Иногда мне кажется, что празднества и удовольствия делают для него всю мою работу над памятником его отца нежеланной… Теперь новая прихоть — портрет прекрасной мадонны Цецилии… А я сделал чертежи крыльев летучей мыши и горлинки и заказал достать мне еще ястреба… Что-то скажет теперь мой Зороастро? Зачем я заставил его хлопотать попусту?
* * *
Зороастро — ремесленник из цеха кузнецов, работающий в мастерских скульпторов и серьезно считающий себя творцом их произведений, — интересный человек. Его привез с собой Леонардо из Флоренции; огромный, с широкими сильными руками и громоподобным голосом, одноглазый (другой глаз выжгла искра из горна), он был предан своему хозяину до самозабвения. «Зороастро» — его прозвище; Леонардо говорил, что кузнеца надо бы по-настоящему назвать Вулканом — он точно вышел из недр земли, этот великан. К своей кличке кузнец так привык, что забыл имя, данное ему при крещении, и порою прибавлял к кличке «Винчи», показывая, что он составляет как бы одно с мастером.
Леонардо стоял посреди лаборатории и рассматривал распростертую на полу огромную птицу, принесенную Зороастро. Кузнец хохотал довольным смехом:
— Ястреб, как просил маэстро. Я подкараулил, когда этот дьявол собирался унести цыпленка от наседки. Тут я его и подшиб камнем из рогатки. Крылья — ох, и крылья! Как хотела ваша милость. Это не чета вашим летучим мышам и филинам!
Могучая птица, распростертая у ног художника, все еще казалась гордой. Солнечный луч, падавший из окна, зажигал огнем ее светлые глаза, и они горели.
— Ну теперь больше не понадобятся птицы? — спросил Зороастро.
Леонардо, задумавшись, не ответил. Он умер в небе, совершив свой последний свободный полет, этот хищник… Каков размах его крыльев и какая в них сила? Сегодня он будет препарировать ястреба и делать измерения крыльев, а потом сравнительный чертеж… Он добьется тайны летательной машины…
Зороастро смотрел на мастера с укором.
— Теперь всю ночь будет ковырять дохлятину!.. — проворчал кузнец и вдруг заговорил сердитым голосом старой няньки: — Видно, вашей милости по душе сидеть в этой проклятой дыре без всякого толка! Проклятый Милан! Ведь вот сколько живу на свете, а не видел такого бестолкового города! Работаешь, а все не двигаешься с места, и на все один разговор: «Некогда, денег нет!» Воля ваша, мессэр, а я отправляюсь восвояси, на родину!
Леонардо поднял голову и улыбнулся:
— Не бунтуй хоть ты! Сегодня я принесу денег.
— Да чего бунтовать? Не я один — все ученики: и Чезаре да Сесто, и Джованни Больтрафио, и Марко д'Оджоно, и даже этот мальчишка Салаино, — все говорят одно и то же: «Учитель себя не ценит, так больше нельзя жить.» …Проклятый Милан… Стыд какой: дурак Диода мне кричал сегодня на улице: «Эй, дядя, не продает ли твой хозяин свои штаны? Ведь, поди, который день сидите на шиполатте[28] или варите летучих мышей. Твой хозяин колдун!»
Леонардо рассеянно отозвался:
— Мне жаль, что ты, мой Зороастро, потерял свой глаз: лучше бы ты оглох, чтобы не слышать болтовни шута! Я достану денег, подождите…
Зороастро ушел, но Леонардо не отправился во дворец за деньгами, как хотел. Его привлекала распростертая на полу птица. Ему не хотелось оставить эту любимую комнату, где он провел столько блаженных часов, дней, месяцев, что-то находя, чего-то добиваясь, что-то вновь замышляя, наблюдая и тысячу раз проверяя, эту лабораторию — свидетельницу его побед, его открытий, ею счастья.
— Движение есть причина всякого проявления жизни, — сказал он громко, принимаясь за скальпель.
Ему не хотелось откладывать работу. Интересен скелет ястреба, важны размеры крыльев…
Лаборатория, эта странная, с виду неряшливая громадная комната с горном, каменным полом, множеством столов и полок, заваленных в одном месте чертежами и математическими выкладками, в другом — порошками в чашках, ступках, колбах; реторты, банки, бутыли, перегонные трубки; глядящие со стен безглазые чучела; скелет обезьяны в углу; множество скелетов мелких животных, прибитые на стене летучие мыши и крылья разных птиц… Маленький Джакомо безумно боялся лаборатории, и в то же время его тянуло в нее, как тянет слушать страшную сказку, от которой замирает сердце; он был в душе уверен, что соседи и лавочники не совсем неправы, распуская слух, будто мессэр Леонардо знается с нечистою силой. Тут есть доля правды, но только доля: он, наверно, немножко знается со всякой нечистью, сколько ему нужно для его чудной и непонятной науки «укротить природу», запрячь ее для службы человеку, как упрямого и горячего коня. Он не идет войною против бога, хотя не ходит в церковь и не кропит святою водою жилище, не требует и того, чтобы живущие у него не пропускали мессы и аккуратно ходили к исповеди и причастию. Беда будет, если на это обратят внимание монахи и кто-нибудь из сплетников станет их подзуживать, — тогда мессэра Леонардо, такого доброго и милосердного, папа отлучит от церкви, а кличка «колдун» заставит даже посадить его в тюрьму — ведь колдунов судят и даже сжигают живыми… Ох, и хочется же знать, что делает маэстро и чего добивается! Ведь его занятия в лаборатории, как слышно, не по душе герцогу; он даже сердится, что они отрывают маэстро от памятника, от картин, от изготовления разных украшений для дворцовых увеселений… Об этом все говорят. Герцог сердится — ему, как слышно, по душе только изобретения маэстро для войны, а уж эти крылья птиц, и камни, и растения, — к чему это? Пустая трата времени… И почему мессэр не обращает внимания на то, что герцог недоволен? Вот он и не дает мессэру денег…
* * *
Леонардо почти не дотронулся до принесенного ему обеда и весь день провел в лаборатории, тщательно препарируя ястреба.
Он усердно занимался анатомией, что делали тогда немногие из художников. В шкафу у него — несколько пачек анатомических рисунков и скелет обезьяны, дело его рук. Как можно правильно изображать человека, не зная, какие у него кости, мускулы, при помощи чего он двигается?
Наука, наука… Усовершенствование и облегчение труда рабочих и ремесленников, умение овладеть силами природы… Вот он, недавний набросок двора арсенала, ряды голых работников, тянущих руками длинный рычаг, упирающихся ногами, чтобы увеличить тягу; здесь видно напряжение их мускулов, поднимающих страшную машину, — они стараются рассчитанными движениями поднять лежащую на двух колесах ось, медленно, тяжело поднимающуюся… Он схватил единство усилий в этих напряженных телах, единство одного и того же усилия, уловил это согласное движение множества тел, как бы единую линию напряженных мускулов.
Это уже не античная красота гладиаторов — это страшная симфония тяжелого труда.
Леонардо коснулся карандашом правды жизни, и в ней была своя красота. И эти наблюдения труда человеческого натолкнули Леонардо на изучение свойства рычага — простейшей универсальной машины, а потом и на его усовершенствования.
Здесь, в Милане, он продолжал ряд начатых во Флоренции и не оцененных Лоренцо Медичи работ: чертежи мельниц, сукновальных машин и приборов, которые пускались бы в действие силою воды.
Знакомясь с трудом ремесленников прославленного в Европе флорентийского цеха изделий из шерсти, он сделал проект механической самопрялки.
Еще во Флоренции Леонардо разработал и проект системы каналов, которые бы соединили Флоренцию с Пизой, облегчив перевалку грузов на морские суда и снабжение Флоренции сырьем.
Теперь он работал над проектом каналов в окрестностях Милана…
Мечты уносили его далеко: надо использовать силы воды, ветра, солнца. Он производил без конца опыты над растениями, изучая влияние на их развитие воды, солнца и почвы…
Целый угол лаборатории был завален образцами почвы и горных пород. Найденные в них окаменелости натолкнули его на важное геологическое открытие: здесь, на месте Италии, очевидно, было когда-то море — об этом свидетельствуют окаменелые раковины, обитатели морской пучины…
Но что за дело до науки повелителю Милана?
День кончился; с последним угаснувшим лучом солнца наступила сразу тьма. Зороастро внес в лабораторию светильник, и по громадной комнате поползли причудливые тени: на окне зеленые питомцы Леонардо — ростки, слившиеся побегами с деревянными подпорками, и реторты с отводными трубками — казались сказочными, фантастическими существами; скелет обезьяны улыбался и скалил зубы. Ожил громадный ворох чертежей, похожий на грозного великана в остроконечной шапке; а на полу, в круге света, отбрасываемого лампой, краснела отпрепарированная кровавая птица.
Леонардо развернул чертеж летательной машины, сделанный с математической точностью, и глубокая нежность охватила его душу. Он вспомнил своих двух учителей — Тосканелли и Бенедетто дель Абако — и закрыл глаза, точно слышал их голоса и слова о том, что математика — основа всех наук. Да, эти учителя навеки оставили пламя в его душе… Тихо, благоговейно, в точных и коротких словах определял он то, что сложилось в его душе на основе их идей:
— Нет никакой достоверности там, где не находит приложения одна из математических наук, или там, где применяются науки, не связанные с математическими.
Учителя его юности… И еще один — Карло Мармокки, исследователь неба и земли, географ и астроном… Леонардо взглянул в раскрытое окно. Перед ним была темная бездна, сиявшая светлыми, лучезарными точками. Губы шептали:
— Вся философия начертана в той книге без конца и границ, которая постоянно лежит раскрытая перед нашими взорами и говорит о мироздании…
Как страшно одинок он был здесь, в Милане, в городе, где правитель интересуется только пушками, охраняющими его власть, да бронями и клинками, которыми славится этот город! И даже с людьми одного цеха с ним — художниками — он не мог найти общий язык: в большинстве случаев это были люди, замкнувшиеся в своей специальности, невежды в науках, питавших душу Леонардо.
В лаборатории кто-то был, кроме него. Леонардо обернулся:
— А, это ты, Зороастро? Ты опять на меня ворчишь? Я знаю: сегодня опять мне не пришлось попросить денег. Потерпи, старина, — даю слово, что завтра я их добуду.
Зороастро мрачно буркнул:
— Станет вам герцог платить за ваши опыты! Вот уйду от вас! Что мне тут делать? Ну как: отливку памятника черти записали в аду?..
Он часто грозил уходом, но, если бы Леонардо ослеп, он готов был бы добывать ему пропитание, только бы но расставаться.
— Завтра!.. — повторил он угрюмо. — Обещали завтра. Aspetta cavaUo che ГегЬа cresca![29]
Одноглазый любил поговорки.
— Завтра… — повторил Леонардо ласково и подумал: «В самом деле, я небрежен к моей семье, а ведь это моя настоящая семья, с которой я крепко слит… Завтра я начну писать портрет Цецилии Галлерани по заказу герцога, и у меня появятся деньги».
4 Люди, боги и ангелы
Прекрасная Цецилия Галлерани полулежала на восточных коврах и расшитых шелками и золотом подушках в открытой, выходившей в сад галерее своего палаццо. В полукруге аркады, между колоннами, виднелось море роз. Тонкая веточка вьющегося растения, брошенная порывом легкого ветерка, ласкала обнаженную шею Цецилии. Сидевший на маленькой пунцовой розе мотылек взлетел, трепеща крыльями, и привлек внимание ручного горностая, прикорнувшего на коленях у мадонны. Он поднял голову и насторожился, как кошка. Смеясь, Цецилия слегка ударила его по головке. Он присмирел. Красавица сказала:
— Я жду продолжения беседы, друзья мои… Меня занимает последнее объяснение этого стиха Данте.
И она внятно и звучно продекламировала две строки начала «Божественной комедии», обращаясь к окружающему ее обществу синьоров и дам.
Цецилия Галлерани была одной из тех образованных женщин, знавших латынь, понимавших искусство, поэзию и интересовавшихся философией, какие в ту пору попадались не так редко среди знати. В ее дворце часто собиралось большое общество; декламировались стихи, велись беседы о памятниках латинской и греческой литературы, как было и в этот день, или устраивались концерты. На веранде вокруг Цецилии собрался ее обычный кружок — несколько мужчин и две близкие подруги. Слуги разносили прохладительное питье, сладости и фрукты.
Не успел прозвучать ответ на вопрос хозяйки дома, как в дверях появился паж с докладом:
— Мессэр Леонардо да Винчи, художник его светлости…
Лицо Цецилии осветилось улыбкой.
— Добро пожаловать, дорогой маэстро! — сказала она, когда Леонардо вошел. — Герцог нездоров и не мог быть сегодня на нашей беседе, но обещал мне, что вы придете писать мой портрет… Мы прекратим разбор великого Данте — ведь вы, к сожалению, не присутствовали при разговоре с самого начала, и лучше послушаем игру на виоле нашего славного музыканта, регента собора маэстро Франкино Гаффурио. Мессэр Гаффурио сыграет нам пьесу собственного сочинения, которую он написал по заказу герцога для ожидаемого праздника тела господня… Усаживайтесь поудобнее все, и прошу внимания.
На середину веранды вышел человек в черном бархатном костюме, отороченном коричневой тесьмою. Его наружность заинтересовала Леонардо. Лицо мужественное; глаза, полные мысли; высокий лоб, обрамленный густыми, падающими до плеч каштановыми кудрями. Он провел смычком по струнам и заиграл. «Неплохо играет, и мелодия ласкает слух», — подумал Леонардо. Но не мелодия привлекала внимание художника. Она ничем не отличалась от мелодий других музыкантов, слышанных им когда-то на состязании.
Привлекало внимание выражение лица хозяйки дома. Глаза ее устремились туда, откуда слышались звуки, и вся она, казалось, была полна восторга.
Леонардо вытащил из-за пояса записную книжку и набросал на двух страницах музыканта и слушающую его красавицу. Цецилия повернулась и заметила, что он рисует.
— Что это, маэстро? — кивнула она на книжку.
— Святая Цецилия слушает небесную музыку сфер, — спокойно отвечал художник и прибавил: — Не соблаговолит ли мадонна Галлерани назначить мне день, когда я смогу запечатлеть ее прекрасный образ красками? Но я попрошу, если возможно, в той же обстановке, с тем же маленьким зверьком на коленях…
Беседа продолжалась. Уходя, Леонардо сказал музыканту:
— Если маэстро соблаговолит, я сочту для себя за большое удовольствие изобразить и его черты после окончания портрета синьоры…
* * *
Художественная семья Леонардо, с мрачным Зороастро во главе, была довольна: в доме появились деньги; счета лавочникам были оплачены, герцог перестал сердиться, — по крайней мере, придворные сплетники не передавали его раздраженных и обидных словечек. Художник работал над портретом Цецилии Галлерани. Зороастро теперь весело поддерживал огонь в горне, когда Леонардо появлялся в лаборатории, и раздувал бодро мехи: мессэр Леонардо опять стал уделять свободные минуты желанному усовершенствованию вододействующих машин, а попутно и изобретению механизма для освещения дворца.
Художник охотно работал над портретом герцогской фаворитки. Он изобразил ее, как задумал первоначально, прислушивающейся к чему-то, что ее волнует, и перебирающей рассеянно пальцами шерстку ручного горностая. Она на портрете живет, как живет зверек, у которого так естествен на картине каждый волосок его белоснежной шкурки. И в зверьке и в женщине метко схвачена кошачья ласковость. Поразительно написана рука совершенной красоты, поглаживающая горностая.
Франкино Гаффурио, любимец Цецилии, часто играл ей на виоле. Лицо его продолжало интересовать Леонардо, и он хотел изучить его. Для этого лучше всего было понаблюдать музыканта в соборе, где он управлял хором и играл на органе.
Встречая выходящего из церкви художника, соседи начинали сомневаться: так ли уж мессэр Леонардо да Винчи подпал под власть нечистой силы, если не чуждается божьего храма, и это отчасти отвело от него угрозу доноса епископу.
Цецилия хотела иметь портрет своего любимого музыканта, и, закончив писать картину «Дама с горностаем», Леонардо стал у нее же писать портрет Гаффурио.
Ему нравилось это серьезное, умное лицо в рамке густых каштановых волос. Он писал музыканта в том самом черном бархатном костюме, в каком встретил в первый раз. Желто-коричневая отделка костюма составляла приятную гармоничную гамму с цветом волос и глаз…
Лицо на портрете было вполне закончено, но работу пришлось бросить из-за новых, не терпящих отлагательства заказов: в Милане только и говорили что о флорентийском художнике, и всем знатным дамам непременно хотелось иметь свой портрет или картины кисти этого замечательного мастера. Другой красавице, знатной миланской даме Лукреции Кривелли, во что бы то ни стало требовалось заказать свой портрет Леонардо, и он, только докончив писать лицо Франкино Гаффурио и не завершив портрета, должен был отправиться работать в палаццо Лукреции Кривелли.
Новый портрет увлек художника. В лице Лукреции он уловил простодушие здоровой молодой женщины, не успевшей еще испортиться в кругу придворных дам и кавалеров. Она не была признанной красавицей, как Цецилия. Художник подчеркнул в своем изображении непосредственность молодой женщины, ее жизнерадостность, отсутствие в ней надлома, который чувствовался в фаворитке герцога.
* * *
Цецилия Галлерани была восхищена своим портретом. Она мечтала окружить себя произведениями Леонардо. Ей хотелось иметь мадонну с младенцем его кисти. Может быть, втайне она лелеяла мысль, что моделью для богоматери послужит она, красавица, любимая герцогом…
И Леонардо написал «Мадонну Литта», находящуюся ныне в числе художественных сокровищ Эрмитажа, в Ленинграде. В ней отображена тема материнства, как некогда в «Мадонне с цветком». Мать кормит грудью пышащего здоровьем кудрявого младенца и радостно смотрит на него. Четко вырисовывается фигура Марии на темном фоне стены с двумя окнами.
* * *
Но живопись не погасила в Леонардо страстного стремления к раскрытию тайн природы, которое он познал, еще будучи учеником покойного Тосканелли. Он занимался теперь анатомией с молодым, но уже известным павийским врачом Маркантонио делла Торре. Обыкновенно Маркантонио резал труп, а Леонардо рисовал пером и сангиной[30]мускулы и кости.
У него набралась целая папка замечательных анатомических рисунков, где он сопоставляет в общих чертах сходных животных, впервые в истории науки намечая начала сравнительной анатомии.
«Опиши внутренности у человека, обезьяны, — говорил он, — и подобных им животных, смотри за тем, какой вид они принимают у львиной породы, затем у рогатого скота и наконец у птиц».
* * *
С улыбкой смотрел великий мыслитель на усилия мессэра Амброджо да Розате, придворного звездочета Моро, пытавшегося по созвездиям объяснить Лодовико судьбу дома Сфорца.
Мессэр Амброджо жил в одной из высоких четырехугольных замковых башен, окруженный астрономическими приборами, создававшими ему ореол таинственности и обеспечивавшими особенный почет при герцогском дворе.
Как-то раз Леонардо забрался на башню Амброджо и застал там обоих Сфорца. Лицо Лодовика было мрачно, как всегда, когда он появлялся в таинственном жилище астролога[31]. Джан-Галеаццо, бледный и трепещущий от страха, жадно следил глазами за неподвижной фигурой Амброджо, смотревшего на небо через бойницу башни. По словам астролога, знаки созвездий соединились, предвещая что-то недоброе, и Леонардо в этот день как-то особенно было жалко бесхарактерного и запуганного правителем-дядей юношу.
Амброджо хмурился и отрывисто изрекал недосказанные, непонятные, но страшные предсказания. Лодовико стал темнее тучи. Он глухим голосом спросил:
— Что ты на это скажешь, Леонардо?
Художник спокойно, с оттенком насмешки отозвался:
— Если бы все это было истиной, то тайная наука мессэра Амброджо давала бы человеку огромную силу.
— Что ты этим хочешь сказать? — спросил опять Моро.
А племянник его с тоскою и надеждою вскинул глаза на художника.
— Я могу пояснить свою мысль: если бы все это было истиной, то человек мог бы вызывать гром, повелевать ветрами, в одно мгновение уничтожать армии и крепости, открывать все сокровища, скрытые в недрах земли, мог бы моментально перелететь с востока на запад, — словом, для человека не было бы ничего невозможного, за исключением, может быть, избавления от смерти, — прибавил он, засмеявшись.
Джан-Галеаццо посмотрел на художника благодарным взглядом.
— Астрология и волшебство вздор! — продолжал Леонардо, точно говоря сам с собою. — И я это утверждаю, ваша светлость, потому что вы от меня требовали правдивого ответа. Искатели философского камня[32], открывающего тайны природы! К чему вы морочите бедных доверчивых людей? — И добавил с той же иронией: — И хотел бы я знать, ваша светлость, так ли уж обрадовались бы властители государств и богачи, если бы алхимикам удалась их затея. Не думаете ли вы, что тогда возликовали бы бедняки? Их богатством, и богатством надежным, не разрушимым, был бы их труд, их сильные и умелые руки. А что останется у богача, когда его золото перестанет цениться?
На Лодовико глядели светлые глаза художника с обычным холодным спокойствием.
Амброджо смотрел настороженно и молчал.
Леонардо говорил об алхимиках, которые в ослеплении посвящали всю жизнь отысканию таинственного философского камня и жизненного эликсира, способного дать человеку бессмертие; вслепую бились над непонятными им химическими соединениями, стараясь добыть настоящее золото. Но, несмотря на всю неосновательность утверждений алхимиков, Леонардо предвидел возможность появления впоследствии — из опытов и попыток алхимиков — великой точной науки — химии.
Поздно простился Леонардо с герцогами и Амброджо.
— Мне необходимо поговорить с тобою по поводу одного предполагаемого мною праздника, — сказал ему на прощание Моро.
— Я хотел бы попросить вашу светлость позволить мне заняться сегодня моею летательной машиной, о которой я имел честь доложить.
Эта просьба по решительному тону скорее походила на приказание. Моро, сдвинув брови, отвечал сухо:
— Я зайду на нес посмотреть.
5 Наука для сиятельной забавы
Салаино любил цветы, как прекрасное создание природы, и нередко украшал себя венками, зная, как это идет к его золотистым кудрям. Он не довольствовался цветами в саду дома у Верчельских ворот и любил бродить за стенами города, где раскинулась благодатная земля Ломбардии. Глядя на всю эту красоту, он с гордостью думал:
«Ведь немалая доля этого существует благодаря гению моего учителя, прорезавшего каналами еще недавно сухую, бесплодную почву».
В этот ясный, солнечный день он особенно нежно любил учителя, сознавая его гений, его великодушие, его мощь.
Бродя часто по оврагу, где паслось стадо овец, он слушал наивный напев дудки пастуха, почти не нарушавший тишину. Здесь встретил он старуху знахарку, собиравшую лечебные травы, и в первый раз увидел редкое растение, над которым она склонилась, произнося какие-то заклинания. Он заметил странное движение круглого листа, на котором сидела зеленая блестящая мушка. Лист шевелился, вернее шевелились тонкие ворсинки, передвигая насекомое к центру; потом лист захлопнулся: муха, попала в ловушку.
Старуха, увешанная пучками трав, заворчала:
— Вот оно, дьявольское семя!.. Я давно его ищу… Только надо брать его с наговором… Посмотри, сынок: дьявольское растение питается мухами и букашками, и в его соке кровь, как у зверей…
Салаино вытащил нож и выкопал загадочное растение, эту «мухоловку», вместо с большим куском земли.
Вот-то порадуется маэстро!
Он не ждал, что, принеся растение, вызовет в неизменно спокойном художнике глубокое волнение.
Тоска, непривычная тоска сжала сердце Леонардо, и вызвал ее свежий, знакомый, милый запах рыхлой, напоенной водами земли. Этот запах напомнил ему Флоренцию, напомнил чудесный маленький городок Винчи, где он родился, сад и огород, где он когда-то ребенком ловил букашек, мух, пауков, откапывал из-под камня червей…
Тогда он был беспечен и свободен, как птица на воле… Тогда никто не мог вызвать его в палаццо светлейших герцогов, чтобы он делал для них замысловатые игрушки.
Леонардо отошел от окна лаборатории, где помещались у него ящики с растениями. Кругом — чертежи, модели из глины и проволоки, сделанные ради пользы края и ради увеселений его правителя. И между ними множество моделей летательной машины, каждая из которых была шагом вперед на трудном пути исканий и усовершенствования…
Вот четкий чертеж, и под ним подпись:
«Перчатка из ткани в виде растопыренной руки для плавания в море. Ту же роль выполняет птица крыльями и хвостом в воздухе, какую пловец руками и ногами в воде».
Это начало размышлений о летательной машине.
Леонардо помнил, как еще в детстве, увлекаясь мыслью раскрыть тайну полета, он стал изучать строение крыльев разных птиц. Он измерял их, думал над ними, чертил детской рукой, как умел, вычислял, снова измерял… Если тяжелый орел держится на крыльях в разреженном воздухе гор, почему не может рассекать воздух большими крыльями человек, овладеть ветром и подняться на высоту победителем? Он упорно работал, пока не дошел до мысли создать машину. Вот она, модель, — только бы хватило денег на сооружение самой машины!
Странная модель. В ней крылья состоят из пяти пальцев, сухожилия сделаны из ремней и шелковых шнурков, с рычагом и шейкой, соединяющей пальцы. Накрахмаленная тафта, не пропускающая воздуха, распускается и сжимается, как перепонка на гусиной лапе. Четыре крыла двигаются, откидываясь назад и давая ход вперед, потом опускаются, поднимая машину вверх. Человек стоя должен вдевать ноги в стремена, приводящие в движение крылья посредством шнуров, блоков и рычагов. Движения головы управляют большим рулем с перьями, похожим на птичий хвост. Две тростниковые лесенки заменяют в приборе птичьи лапки.
Да, достанет ли денег на сооружение машины?
* * *
Чтобы отвлечь себя от несносных денежных расчетов, Леонардо пошел из лаборатории в мастерскую, к ученикам, по дороге решив посмотреть на свой птичий двор.
Герцог Лодовико Моро застал его за неожиданным занятием, за которым он никак не представлял себе этого серьезного, замкнутого ученого и художника: Леонардо — и это было одним из его любимых занятий — кормил во дворе животных. Вельможе было странно видеть, как этот мыслитель, вооружившись миской с полентой[33], заботливо разливает ее по маленьким корытцам, а многочисленные собаки рядом с любимою рыжею кошкой трутся у его ног. Тут же, вокруг художника, — на земле несколько клеток с птицами: художник сегодня купил их у торговца на площади. Завидев кошку, птицы стали биться о прутья клеток под оглушительный лай собак. И Моро видел, как стоявший к нему спиной художник одну за другой поднимал клетки и открывал дверцы. Пернатые затворницы бросались в отверстия своих темниц и, вспорхнув, тонули в воздухе…
Когда последняя птица была выпущена, послышался густой голос герцога:
— Ты не скучаешь без меня, Леонардо! Ты видишь, я иду к тебе один, без свиты, чтобы застать тебя врасплох. Ого, да какой ты свободолюбивый — не выносишь тюрьмы даже для птиц! А все-таки тебе придется пожертвовать для меня своей свободой и заняться моими нуждами. Впрочем, я еще хотел поговорить о недостроенных каналах. Я боюсь ливней. Ведь сколько дней шел дождь, и хоть сегодня выглянуло солнце, но на горизонте повисли предательские тучи.
Леонардо спокойно отвечал, стряхивая с себя зерна, которые обсыпали его грудь:
— Я уже предлагал вашей светлости устроить такие пушки, которые могли бы метать разрывные снаряды в облака.
— Тогда я боюсь засухи, Леонардо.
— От засухи спасают каналы, и их уже немало сооружено. Но, чтобы докончить задуманное, нужны деньги, а ваша светлость не дает разрешения на необходимые затраты. Ваша светлость уже изволили отклонить мой план верхнего и нижнего города, а ведь это была, как вы изводили сами сказать, «недурная мысль», которая избавляла города от их скученности и создавала простор площадям и улицам. В Милане теперь так много жителей, что они, как овцы, жмутся друг к другу, наполняя воздух смрадом и распространяя зародыши чумы и других смертоносных болезней. Надо было создать больше каналов, чтобы по ним можно было подплывать на лодках к домам и погребам, или построить верхний и нижний города. Нижний город служил бы для складов со съестными припасами, для вьючного скота, а верхний, более чистый, — для благоустроенных жилищ. Город должен быть расположен у мори или у большой реки, чтобы нечистоты, увлекаемые содой, уносились далеко. Разве не хороша была бы столица, этот новый город, построенный на удивление всему миру? Но ваша светлость изволили отвергнуть мой план.
— Химера! — брюзгливо опустил углы губ герцог.
— Химера… — повторил горько Леонардо. — Все, что ново, в чем человек является провидцем, — химера!.. Но теперь я, пожалуй, не очень-то угодил и планом новых каналов? Ваша светлость, взгляните!
И он показал рукою на открывающиеся за распахнутой калиткой цветущие равнины Ломеллины, перерезанные ручейками, серебристыми и прозрачными, как стекло. Роскошная зелень одевала эту благодатную страну до Альп, голубые громады которых вырисовывались на горизонте своими серебряными вершинами. Это было изобилие, которое создал Леонардо да Винчи благодаря многочисленным каналам, исчертившим всю местность вдоль и поперек.
— Орошение — великое сокровище, которое спасает человека от нищеты… — сказал Леонардо.
Лодовико зевнул и, видимо утомленный наскучившим разговором, резко оборвал его:
— Ты мне когда-нибудь докончишь свою фантазию. У меня нет сейчас для нее достаточно свободных денег, деньги мне нужны на другое. И ты мне нужен для другого. У нас, правителей, иные заботы, более важные, чем борьба с нищетою тех, кто для нее рожден. Мы должны укреплять государство дружескими связями с соседями, обеспечивая себе их помощь на случай нападения врагом Оттого мы так заботимся о приемах посольств и о пышности двора, внушающей почтение и восторг.
— Ваша светлость соблаговолит ли пройти ко мне в мастерскую?.. — начал Леонардо, видя, что за калиткой мелькает герцогская свита.
— Нет, — резко отвечал Лодовико, — я и свиту не взял с собою. Я уже сказал, что хотел застать тебя врасплох, хотел посмотреть, как ты трудишься над усовершенствованием моего жилища, — моего, а не каменщика и лодочника! Мне неинтересно смотреть на мазню твоих учеников. Ведь ты сам ничего еще не сделал нового для украшения палаццо герцогов Сфорца? Ну, к делу, ближе к делу. Мы готовимся к блестящему празднику по случаю свадьбы моего племянника, и здесь потребуется вся твоя выдумка. Разными мудреными механизмами, на которые, мой Леонардо, ты такой мастер, надо затмить блеск дворов тех почетных гостей, которые у меня соберутся. Они думают, что перещеголяют меня, миланского герцога Лодовико Сфорца! Какое заблуждение! Вот на это я не откажусь отпустить тебе любые суммы. Прощай… Изобретай… Выдумывай…
Свита точно по волшебству выросла на дворе. Герцог исчез за парчовым пологом носилок…
Глядя ему вслед, Леонардо думал: почему за ним укрепилось прозвище «Моро» — шелковичное дерево? Вероятно, потому, что как это дерево растит в своих ветвях червей, поедающих его листья, так он лелеет сонм бездельников — прихлебателей, которые, объедая страну, устилают ему путь мягким шелком и ласкают слух льстивыми, подобострастными восхвалениями.
Пойти отогреть душу, пока еще не придавили новым грузом причуды тирана… В мастерской, среди учеников, он отведет душу…
Из раскрытого окна лаборатории одноглазый Зороастро наблюдал всю сцену разговора мастера с герцогом. Перед этим он приносил клетки с птицами на двор и поленту для собак. Он понял свидание хозяина с владыкою по-своему.
Почесывая в затылке и вздыхая, он подумал:
«Деньги сами собою лезут в кошелек маэстро, а он упрямится. Чего ему не хватает? Выдумки ему не занимать: разбуди его среди ночи, он, не продравши еще со сна глаза, выдумает такой механизм, что удивит всех чертей. Ему хочется заниматься наукой или рисовать. Скажите пожалуйста! Нельзя ли повременить и сперва сделать то, что повыгоднее, чтобы зашибить хорошую деньгу? Эх, видно, с ним нельзя забыть старую поговорку: «Ждет лошадь, что трава вырастет».
6 Отдых от муки
В мастерской стоял гул голосов. Ученики среди повседневной работы, выполняя задания мастера, не могли удержаться от горячих споров. Спорили о последних преподанных им Леонардо правилах для живописцев, толкуя его слова каждый по-своему, делали примерные наброски перспективы углем на полу. Тут же они напевали смешную песенку, подхваченную на улице, и вспоминали, что в эти жаркие дни перед праздником святого Иоанна Крестителя делается на родине, во Флоренции. Ведь там особенно чтят этот веселый летний праздник. Какие сейчас процессии идут по улицам! Все мостовые засыпаны цветами, что бросают жители под ноги молодым девушкам и детям, идущим за крестом с пением гимнов! Вспоминали и веселые пляски на лужайках за городом. У кого из них осталась во Флоренции невеста, у кого просто приглянувшаяся девушка. Шумные разговоры нарушил маленький Джакомо, влетевший в мастерскую, как пушечное ядро, с криком:
— Маэстро говорил во дворе с герцогом, а сейчас идет сюда! Герцог ему что-то приказал делать!
Появление учителя положило конец веселому смеху и спорам, но не потому, что они боялись его, а потому, что они дорожили каждым его словом. Он кончал свою замечательную картину «Мадонна в гроте» и обещал показать ее ученикам.
Художник вошел, и по лицу его ученики сразу увидели, как он утомлен и как смутно у него на душе. Глубокий вздох вырвался у Леонардо из груди, вздох облегчения. Вот его отдых от миланской муки… Он внимательно просмотрит работы каждого, вникнет в них, пожурит Джакомо за то, как он растирает краски, попеняет за лень: можно ли оставлять нерастертыми комочки…
У висевшего на стене листа, исписанного четким почерком Больтрафио, с заголовком «Правила», стоял Салаино и читал вслух.
При входе учителя Салаино остановился. Очевидно, он хотел выучить текст наизусть:
«Если все кажется легким — это безошибочно доказывает, что работник весьма мало искусен и что работа выше его разумения».
— А вот еще, маэстро, — сказал он тоном балованного ребенка, поймав на себе пристальный взгляд художника, — я с этим не совсем согласен: неужели суждения рыночных торговцев правильнее, чем художника, написавшего картину? А в «Правилах» говорится: «Суждения врагов приносят более пользы, чем восторженные похвалы друзей. Друзья только покрывают позолотой наши недостатки».
В ответ зазвучал смех товарищей.
— Почему ты говоришь о рыночных торговцах?
— Разве они враги?
— Ну и выбрал врагов!
— А как же не враги? Они и лавочники. Попробуй-ка прийти к ним кто-нибудь из нас, когда в животе урчит, — а у нас частенько так бывает по герцогской милости, — они не только не верят в долг, но нарочно выставляют самый привлекательный товар: жирных каплунов, свиные мозги и телячьи ножки… бр-р!
Взрыв хохота покрыл эти слова. Смеялся и Леонардо. Салаино весело прибавил:
— Но и этот голод не заставит нас покинуть нашего маэстро! Никогда, никогда!
Художник сказал:
— Вы разбирали мои правила. Продолжайте. Это так же нужно, как и мои поправки в ваших работах. Что там еще, Салаино?
Звонкий голос продолжал:
— «Люди, предающиеся быстрой, легкой практике, не изучив достаточно теории, подобны морякам, пускающимся на судне, не имеющем ни руля, ни компаса.
Художник, рабски подражающий другому художнику, закрывает дверь для истины, потому что его призвание не в том, чтобы умножать дела других людей, а в том, чтобы умножать дела природы.
В ночной тишине старайтесь вспоминать то, что вы изучили. Рисуйте умственно контуры фигур, которые вы наблюдали в течение дня. Где мысль не работает вместе с рукой, там нет художника».
— Я еще скажу, — добавил Леонардо, — и особенно прошу запомнить это тебя, Салаино, — ведь ты, как никто, имеешь пристрастие к внешнему блеску, и ты моложе всех моих учеников, — не ссылайся на свою бедность и невежество, не говори, что ты юн и не успел выучиться и тебе трудно постигнуть искусство художника. Сколько было примеров, что философы, рожденные в роскоши, отказывались от нее, чтобы не отвлекаться от размышления. Вспомни мои рассказы о Диогене [34].
Он подошел к мольберту Салаино с начатой работой и стал поправлять ее. Ученик внимательно следил за кистью в руках Леонардо.
— Видно, что стараешься, но не надо злоупотреблять тенью. Контрасты хороши в меру. И потом, не всегда прикованность к мольберту идет на пользу работе. Время от времени надо от него отходить — тогда виднее промахи. Весьма полезно иной раз оставлять мольберт и немного рассеяться. После перерыва ум становится свободнее. Чрезмерное прилежание и излишняя усидчивость отягощают ум, порождая бессонницу… Ты что-то хочешь мне сказать, Марко?
Он обращался к старшему из своих учеников, Марко д'Оджоно, и подошел взглянуть на его работу.
— Марко, — говорил художник, — и все вы, когда пишете картину, где должна быть видна растительность, тщательно изучайте ее в природе и не избегайте на картине, где она нужна. Сейчас я вам кое-что покажу.
Он повел их к своей картине, которую еще никому не показывал. Она была помещена особняком, в отдельной мастерской, где он запирался, когда хотел работать без посторонних глаз и без лишних расспросов. Здесь, наедине, он продумывал свои образы.
К мастерской вела лестница из темного дерева, с резными перилами. Поднимаясь по ней, Салаино весело говорил, ероша копну красноватых кудрей:
— Ишь, как славно поскрипывают ступени! И они поют славу учителю!
* * *
Ученики гурьбою вошли в эту святая святых и с нетерпением ждали, когда художник откинет завесу над картиною.
Вот она, «Мадонна в гроте»! Воцарилась тишина. Слышался вначале только шорох отдергиваемого занавеса, потом сдерживаемые вздохи.
Перед глазами учеников было чудо, так им, по крайней мере, казалось. Учитель взял сюжет, обычный в то время: мадонну, Иисуса и Иоанна Крестителя. На эту тему писалось немало картин другими художниками. Но с какой простотой и естественностью подошел он к этому сюжету! Мария, как и в «Мадонне Литта», воплощает идеал материнства, но здесь это не мать, кормящая свое дитя и любующаяся им, — она охраняет его, простирая руку над его курчавой головкой.
Впервые в искусстве живописи была создана группа человеческих фигур, не просто выделяющаяся на пейзажном фоне, а окруженная пейзажем; впервые он играл такую большую роль, и это придавало особую поэтическую прелесть картине. Здесь были и скалистые уступы грота с острыми сталактитами, и роскошные заросли ирисов, анемонов, фиалок и папоротников.
Глубокая тишина в мастерской. Слышно, как муха жужжит снаружи окна, выходящего на север, куда обычно выходят окна мастерских художников. Ученики столпились возле мольберта, боясь проронить хоть одно слово, боясь дохнуть. Какая мягкость, нежность в выражении лиц на картине, какая простота! Какое совершенство форм… И эта тончайшая светотень… А пейзаж, пейзаж! Невиданное новшество — окружить фигуры пейзажем, и еще таким, как этот… Какая красота, и как цветущая природа естественно связана с фигурами, и какой уют в этом гроте… Как замечательно расположены эти синеватые просветы, особенно оттеняющие фигуры… И какая гармония в композиции, в этой пирамиде, вершина которой — голова мадонны…
Глядя на взволнованные лица учеников, Леонардо растрогался. Право, похвалы всех миланских вельмож, считающихся знатоками искусства, и даже художников ничто рядом с волнением этих детей природы, подобранных часто на улице, не знающих неискренних слов и лести…
Несдержанный, самый юный из учеников, Салаино, пробормотал со слезами на глазах:
— Маэстро… вы… сами приблизились к божеству, создавая это… это…
Леонардо засмеялся:
— Ну, друг, за твое волнение я опять произвожу тебя изI Джакомо Капротис в Джакомо Салаино, забыв, что ты на нарядные пуговицы для твоего камзола без спроса истратил из денег, которые я тебе дал на краски…
Салаино частенько вызывал неудовольствие Леонардо споим легкомыслием и чрезмерной любовью к нарядам, и тогда художник наказывал его, называя официально: Джакомо Капротис, а не просто прозвищем Салаино.
Художник увидел пристально устремленный на него взгляд Больтрафио, лучшего своего ученика. Молодой, красивый, но замкнутый, он мало говорил, никогда не восторгался, но большие, прекрасные глаза его выдавали глубокое волнение.
И Леонардо сказал ему от всего сердца:
— А ты, Джованни, скоро заставишь нас радоваться на своих мадонн, как радуетесь теперь вы, мои дети, на мою «Мадонну в гроте».
Он оказался до некоторой степени прорицателем: впоследствии Больтрафио создал картины, которые отличались своею самостоятельностью и оригинальностью от так называемых «леонардесок» — подделок под Леонардо да Винчи, одно время заполнивших музеи.
* * *
Приближался день свадьбы Джан-Галеаццо. Леонардо был запален герцогскими заказами. Говорили и о предстоящей помолвке герцога Лодовико, и Цецилия Галлерани, чувствуя близость своей отставки, задаривала церкви вкладами и даже просила Леонардо написать образ одного из особо чтимых святых. Но от этого заказа он должен был отказаться. Леонардо и без того изнемогал от обременительных требований, предъявляемых к нему герцогским двором. Для герцогского увеселения он, сообразно складу своего ума соединив науку с фантазией, обдумывал механизм для представления во дворце под названием «Рай».
Огромный круг изображал небесную сферу. Каждая планета имела образ древнеримского божества, имя которого носила; описывая свой круг, она появлялась перед невестой под аккомпанемент стихов, прославляющих герцогскую чету. Стихи написал для этого мессэр Бернардо Беллинчони.
Никогда не был так великолепно иллюминован и украшен замок, как теперь. Возле него точно выросли замысловатые триумфальные арки из цветов, лент, позументов и фигурных лепных украшений, под которыми должна была проследовать эта чета: болезненный, приниженный Галеаццо и гордая Изабелла, соединенные ради политических расчетов. Они ехали на богато убранных белоснежных конях, осыпаемые цветами.
Леонардо прошел в замок мимо рядов арбалетчиков и телохранителей, закованных в латы и стоявших с поднятыми алебардами. Герольд с двумя трубачами громко возвестил имя великого мастера его светлости, художника и архитектора. Мессэр Леонардо да Винчи, флорентиец, был в числе других именитых гостей. В большой зале столпились пышно разодетые кавалеры и дамы. Музыканты настроили инструменты; полилась медленная, тихая, почти печальная музыка; кавалеры и дамы плавно, ритмично задвигались в церемонном танце: тяжелые парчовые платья, осыпанные драгоценными камнями, не допускали быстрых движений. А Леонардо вспоминалась веселая, легкая пляска на лугу в маленьком городке Винчи, в которой он мальчиком принимал участие…
За танцами следовала такая же тяжеловесная пантомима[35], тоже под плавную и почти печальную музыку…
* * *
За одной свадьбой последовала другая. Лодовико Моро ввел в свои покои шестнадцатилетнюю герцогиню Беатриче д'Эсте.
Новой герцогине тоже был беспрестанно нужен искусный флорентийский художник, и она посылала за ним мальчика-пажа.
Обыкновенно она принимала его во время туалета, когда служанка золотила, по моде того времени, ее темные волосы и умащала ее лицо и руки всевозможными душистыми эмульсиями.
— Мессэр, — капризно бросила она, — вы слишком медлите с устройством моих новых бань, и раздевальня по плану вашему не так роскошна, как я бы хотела… В чем затруднение? Лодовико не пожалеет для этого средств…
Молодая красивая девушка неосторожно потянула, расправляя ее волосы, и нечаянно сделала ей больно; она изо всей силы толкнула ее ногою так, что та скорчилась от боли. Беатриче засмеялась:
— Вот неженка! Посмотрите, мессэре, с этой гримасой она похожа на обезьяну!
Леонардо встал:
— Когда обезьяне нанесен смертельный удар, ваше сиятельство… Позвольте мне идти работать над планом бань…
У Беатриче было бездумно веселое лицо сытой хищницы. Возможно, до нее не дошла ирония художника.
Леонардо приходилось бросать рисунок костюма для карнавала и придумывать новое снадобье для придания большего блеска волосам герцогини Беатриче, а потом погружаться в планы усовершенствования ее розовых бань с белой мраморной ванной, украшенной фигурой Психеи, с кранами в виде головок дельфинов. Затеям новой герцогини не было конца, как не было конца ее жестоким капризам в обращении со всеми служащими герцога.
* * *
Настал 1493 год, и миланцы наконец могли увидеть статую Франческо Сфорца. Открытие было торжественное. Под триумфальной аркой поставили колосса, и изо всех уголков Италии съезжались на него взглянуть. Статуя все еще была из глины — герцог скупился на бронзу, и внизу Леонардо нацарапал своею рукою: «Expectant animi: molemque futuram Suspiciant; fluat aes; vox erit: ecce deus» [36].
Леонардо пришлось быть свидетелем преступных ухищрений герцога Лодовико, старавшегося сохранить во что бы то ни стало свое положение. Сознавая шаткость власти, незаконно отнятой у племянника, Моро вступил в союз с французским королем Карлом VIII. Одержав первые победы над итальянскими государствами, союзники-французы явились в Милан, и Лодовико почувствовал трепет: он боялся, что в конце концов они завладеют Миланом.
Надвигались события, от которых зависела судьба Милана… Ходили слухи, что Изабелла, жена Галеаццо, ищет поддержки у государя Неаполя от тирании дяди, захватившего престол ее мужа, и что эти тайные сношения дошли до слуха Моро. Несомненно, он будет жестоко мстить…
* * *
У Леонардо был сад, где росло много персиковых деревьев. Проводя опыты, он впрыснул в одно дерево сильно действующий яд. Никому, кроме своих близких учеников, не позволял Леонардо ходить в этот загороженный угол сада. Он боялся, что плоды дерева могут быть ядовитыми. И вдруг по всему Милану разнесся упорный слух, что герцог Джан-Галеаццо тяжело болен, потому что Леонардо да Винчи, флорентийский художник, отравил молодого герцога своими ядовитыми персиками.
Этот слух возмутил людей, расположенных к Леонардо, и особенно его учеников. Но сам Леонардо отнесся к нему с тем философским спокойствием, с каким встречал выдумки болтунов, называвших его колдуном, знающимся с нечистою силою, и боялся только, что басне поверит больной, несчастный Галеаццо…
Галеаццо медленно умирал, отравленный дядей и его женою, сдружившейся с Изабеллой Джан-Галеаццо. Никому не была известна причина, которая уносила жизнь герцога.
Когда он скончался, город оделся в траур, и во всех миланских церквах по приказу Моро служили без конца заупокойные мессы. Меж тем Беатриче для удовлетворения своих причуд затеяла новые заказы «великому чародею», как она называла Леонардо. И художник с тоскою смотрел на лабораторию с начатыми и незаконченными работами. Он думал о проектах технических сооружений, о химических опытах, о не доведенных до конца записях ботанических наблюдений и, как влюбленный, мечтал о своей все еще не вполне завершенной «Мадонне в гроте».
7 «Тайная вечеря»
Давно уже пропели третьи петухи; давно уже румяный луч восходящего солнца упал на стол и страницы развернутой книги зажглись золотом, но Леонардо не выходил из маленького рабочего кабинета — уголка возле огромной лаборатории. Половину ночи он читал со старым другом Лукою Пачоли свои записки о живописи, потом вспоминали юность, Флоренцию и напоследок развернули любимого Данте. Не хотелось кончать беседу, не хотелось расставаться.
В своих записях Леонардо свел воедино многое, что передумал за эти годы, начав записывать свои мысли и наблюдения еще на родине. Старый друг иной раз не понимал чего-либо и требовал разъяснения, иной раз не соглашался и спорил, а иной раз подсказывал то, над чем еще думал сам Леонардо.
Начали с определения, можно ли назвать живопись наукой, и сразу зазвучала убежденная речь Леопардо, в которой слышалось его постоянное увлечение точной наукой — математикой:
— Постой, Пачоли, не торопись делать выводы. Вот что я тебе скажу: никакое человеческое исследование не может быть названо истинной наукой, если оно не проходит через математические доказательства. И если ты скажешь, что науки, которые начинаются и кончаются в душе, обладают истиной, то следует это подвергнуть сомнению по многим основаниям. И прежде всего потому, что в таких умозрительных рассуждениях отсутствует опыт, без которого ни в чем не может быть достоверности.
Они говорили много, и Леонардо нередко подкреплял свои рассуждения чертежами; он говорил о соответствии между частями тела животных и человека или о механизме движения. Потом он перешел на любимую тему — о птицах и летательном приспособлении для человека. И тут чертежам не было конца.
Пачоли, разгоряченный, вдруг сказал растроганным голосом:
— Как ты думаешь, друг, если бы тебя со всем этим кладом твоих мыслей, наблюдений, знаний перенесли в нашу Флоренцию лет пятьдесят назад на площадь Синьории, в заветную книжную лавку Веспасиано Бистичи, в кружок, собиравшийся там, что бы сказали все эти светлые головы с мессэром Никколо Никколи во главе?
Леонардо улыбнулся:
— Они сказали бы, что я безумец…
— И безбожник, чернокнижник, что ты хочешь быть равен ангелам, выдумывая безумный аппарат — крылья, что ты хочешь идти впереди веков…
— Впереди веков… — повторил художник. — Если бы ты знал, как сладко, мелодично звучат для меня эти два слова: впереди веков!..
Лампа, потухая, чадила. Чуть брезжил свет. Во дворе кудахтали куры. Но Пачоли не хотелось уходить.
— Слушай, Лука, — тихо сказал Леонардо, — если бы ты знал, как меня потянуло на родину…
Никогда еще Пачоли не слышал такой грусти в голосе друга. Оп обрадовался возможности говорить о милом городе, о лугах и долинах Тосканы, о цветущих уголках между отрогами Аппенин и Арно и о шуме и движении там, на городских площадях.
— Ах, эта лавка с драгоценным товаром мессэра Веспасиано Бистичи! — сказал он, и молодо прозвучал его голос — Знаешь ли ты, Леонардо, что там было, когда ты еще не родился, лет шестьдесят назад? Мой отец мне рассказывал. Он-то уж знал! Там собирались ученые — цвет Флоренции; в лавку заходил и сам канцлер республики, твой тезка, Леонардо Бруни, «который все на свете знает», говорил отец, и другой, что тоже «все на свете знает», — мессэр Никколо Никколи, самый просвещенный из наших сограждан, истративший все свое огромное состояние на покупку книг и разных древностей. Заходил и сам Козимо Медичи. Ты подумай, какая тройка! Ты знаешь, какую он собрал коллекцию книг и древностей, этот Никколи! Лоренцо, пожалуй, забыл, что многое, чем он хвалился, досталось ему от Никколи, у которого все скупил его дед. Зато Козимо открыл неограниченный кредит Никколи в своем банке и сказал: «Все в моем доме — твое…» Лоренцо Великолепному далеко до своего скромного с виду деда…
Леонардо закрыл глаза. Ему ясно представилась лавка, заваленная рукописями, полная редкостных образцов античного искусства, и среди всего этого — диспут, три фигуры: внушительный Никколо Никколи, красавец Бруни и пурпурном одеянии, живописными складками облегавшем его стройную фигуру, и скромно одетый властелин Козимо Медичи… Ведут диспут.
Его потянуло туда, во Флоренцию, в атмосферу науки, которая была чужой здесь, в Милане…
Заметив тень, пробежавшую по лицу друга, Пачоли предложил:
— Уже светает. Давай прочтем на прощание еще несколько строк. И нечего тосковать о том, чего нет. Во Флоренции, Леонардо, забыли науку…
Он открыл книгу и начал:
…Чужда была она Безумной роскоши и бурного веселья, Там не виднелися на женах ожерелья И драгоценные венки и пояса…— Остановившись, Пачоли перевернул несколько страниц, еще, еще и прочел:
— «Рим! Камни стен твоих достойны почитания, и земля, на которой стоишь ты, достойна его более, чем может выразить человечество».
В окно брызнуло солнце и затопило комнату. Пачоли стал прощаться:
— Тебе надо заснуть, Леонардо.
Художник покачал головой:
— Сейчас я иду в монастырь Марии делле Грацие, но по дороге задержусь на площадях и улицах и поищу нужные мне лица…
Пачоли не стал ему противоречить, уговаривать отдохнуть, не стал и расспрашивать: он знал, что Леонардо увлечен работой над «Тайной вечерей», которую пишет на стене трапезной монастыря делле Грацие.
* * *
Он шел на свою художественную охоту. Заглянул в арсенал, где когда-то делал рисунки. Здесь собраны люди труда, такие же простые, как те апостолы, которых он должен изобразить, здесь такое разнообразие лиц и возрастов. Но многое уводит и прочь от нужного образа. Натруженные до последней степени мускулы рук и лица… Нет, нет, с них можно писать титанов в кузнице Гефеста[37] или рабов, изнемогающих под бичом владельца. Печать страдания лежит на лицах даже и в том дворе, у горна, где делают прославленные в Италии клинки. И здесь недостает покоя, размышления, которые надо ему изобразить в последней беседе учителя со своими учениками… Нет ни одного подходящего лица и среди монахов монастыря делле Грацие… Всё больше истомленные фигуры с заученными благочестивыми минами…
Надо искать на площадях и за чертою города, среди рыбаков, пастухов, землепашцев… Некоторых он уже зарисовал в записной книжке…
На площади было, как всегда в утренние часы, шумно. Торговки хлопотали у возов с привезенными овощами; у булочных, где так аппетитно пахло свежим горячим хлебом, толпились хозяйки с корзинами, и дети уплетали маленькие миланские булочки с тмином; любопытные глазели на привезенную с морского побережья огромную рыбу; возле маленькой лавчонки колбасника мальчишка драл горло, расхваливая товар — белую колбасу из мозгов:
— Горячая червелата! Прямо с вертела! Покупайте, покупайте скорее, а то у хозяина не хватит на весь город! Эй, кому червелаты! Продаем не на вес, а на меру длины!
Почему-то вспомнились рассказы о великом философе Сократе, также бродившем по площадям — с проповедью истины. Он тоже проповедник — образами. Но нигде ни одного лица, привлекающего внимание… Не этого же забавного длинноногого торговца червелатой он пришел сюда искать, и не этого смешного толстого булочника, или этого крикливого парня, раскрывающего на потеху толпе огромную зубастую пасть морской рыбы? Все это было бы хорошо для карикатур. Как хороша была бы для ангела та вон цветочница с ручным голубком на плече, протягивающая с улыбкой свои ароматные букетики!..
А ему надо другое: лица сосредоточенные, полные благородной мысли, и среди них два лица: одно — совершенство, отрешение от жизни и бесконечная любовь… И другое — полная противоположность: предательство и корыстолюбие…
Работа над фреской затягивается, а приор[38] монастыря, видя, как он, Леонардо, стоит по целым часам над картиной, не делая ни одного мазка, косится на него лукавыми, умеющими принимать смиренное выражение глазами и довольно внятно вздыхает.
* * *
Леонардо зашел в таверну. В соседней комнате, у хозяина, куда приходили почесать язык некоторые завсегдатаи, шел разговор о художниках. Стенка была тонкая, не доходившая до потолка, и Леонардо было все слышно. Он разобрал свое имя.
— Леонардо да Винчи, флорентиец? О, мессэре, этот замечательный художник имеет свои недостатки. Он разносторонен по своим талантам, это правда, — в чем только он не может получить пальму первенства! — но у него есть свои особенности: он начинает много, но никогда ничего не кончает, так как, по его мнению, рукой человеческой нельзя довести до совершенства художественное произведение, что сделать это не в силах никакие человеческие руки. Его причудам нет конца: ведь он занимается изучением природы и чего только не касается; он пытается, кроме тайн Земли, проникнуть в тайны небесных сфер, наблюдая за круговращением неба, бегом Луны и пятнами на Солнце, объясняя его затмение и падение звезд…
Голос прервался легким смешком слушателей.
— Верьте мне, обо всем этом мы не раз толковали с художниками, известными достаточно в Милане и приближенными к герцогу, и они удивляются, что герцог так милостив к этому флорентийцу. Он записывает для чего-то всякие сведения… Благодарю вас, мессэре, превосходное, выдержанное вино, — я не пивал такого и в Риме! Однако мне пора идти. Служба… Ах, вот что еще: ведь Леонардо затеял теперь грандиозную фреску «Тайная вечеря» в монастыре Марии делле Грацие и, конечно, ее не кончит… Бегу, бегу… У меня дела по горло… Говорят, больна герцогиня… болтают разное… Ох, подозрительна эта изящная фигура художника и ученого на все руки!
Говоривший ушел, хлопнув дверью.
Леонардо увидел в окно двух приятелей, идущих по улице, и в одном узнал герцогского секретаря Бартоломео Канко.
* * *
Герцогиня Беатриче заболела после бала, где она до самозабвения танцевала, и умерла под тяжелыми занавесями над своей пышной кроватью. Перед смертью ей вспомнились многие невинные люди, чем-либо ей не угодившие, которых она отправила на тот свет. Боясь смерти и ада, которым ее с детства пугали монахи, жалея о жизни, такой блестящей, полной наслаждений, она посылала в монастырь Марии делле Грацие богатые дары. Монахи служили без конца молебны о выздоровлении герцогини. Прошло немного времени, и миланские колокола возвестили протяжным звоном о ее кончине. Лодовико был безутешен. Он рыдал как безумный, потеряв это маленькое грациозное создание, наделенное коварством, злобою и так к нему подходившее…
Пышно похоронили Беатриче д'Эсте, герцогиню Сфорца. Впереди несли знамена из черного шелка. Всадники с траурными хоругвями, с опущенными забралами, на конях, покрытых черными бархатными попонами, тянулись во главе мрачного торжественного шествия. Монахи несли в дорогих шандалах тяжелые, шестифунтовые свечи, повязанные черными лентами. На похоронах присутствовал весь двор, все знатные чужеземцы, находившиеся в Милане.
Беатриче была похоронена в фамильном склепе Сфорца, на кладбище монастыря Марии делле Грацие.
После похорон Моро не принимал пищи и не хотел никого видеть, кроме Леонардо.
Когда Леонардо явился на его зов, он застал Лодовико в постели, худого, страшно изменившегося, с шафранно-желтым лицом. Рыдая, герцог бормотал:
— О Леонардо, только ты один можешь создать ей достойный мавзолей! Прошу тебя, не жалей средств и как можно скорее его закончи! Ах да, монастырь… ты там пишешь «Тайную вечерю»… я приду посмотреть… заставлю отнести себя даже умирающего…
Но, подумав, он велел себя одеть и пошел без свиты, вдвоем с художником, в монастырь.
* * *
Они прошли тихо в трапезную, где на стене находилась эта незаконченная замечательная картина, завешенная грубым холстом. Кругом были неубранные леса. Встретившийся монах не узнал герцога, закрывшегося плащом, и угрюмо посмотрел на художника: монахам давно уже надоели эти неубранные леса. Герцог вслед за Леонардо взобрался на стропила. Художник отдернул холст.
Моро замер, не отрывая глаз от того, что увидел. Перед ним были стол и стена, стена, хотя и написанная кистью художника, но казавшаяся прямым продолжением трапезной. За столом — Христос и двенадцать апостолов. Последняя, по евангельской легенде, трапеза Христа со своими учениками.
Леонардо выбрал кульминационный момент тайной вечери, когда Христос говорит ученикам: «Один из вас предаст меня».
Перед художником стояла задача изобразить при этих страшных словах душевные движения всех присутствующих двенадцати апостолов, людей, совершенно различных, и не впасть в однообразие, не повторить себя.
Прекрасно передано впечатление от «Тайной вечери» Леонардо академиком В. Н. Лазаревым, тонко описавшим переживания каждого из сидящих за столом апостолов:
«Подобно брошенному в воду камню, порождающему все более широко расходящиеся по поверхности круги, слова Христа, упавшие среди мертвой тишины, вызывают величайшее движение в собрании, за минуту до того пребывавшем в состоянии полного покоя. Особенно импульсивно откликаются на слова Христа те три апостола, которые сидят по его левую руку. Они образуют неразрывную группу, проникнутую единой волей и единым движением. Молодой Филипп вскочил с места, обращаясь с недоуменным вопросом к Христу. Иаков, старший, в возмущении развел руками и откинулся несколько назад. Фома поднял руку вверх, как бы стремясь отдать себе отчет в происходящем. Группа, расположенная с другой стороны от Христа, проникнута совершенно иным духом. Отделенная от центральной фигуры значительным интервалом, она отличается несравненно большей сдержанностью жестов. Представленный в резком повороте Иуда судорожно сжимает кошель с сребрениками[39] и со страхом смотрит на Христа; его затененный уродливый, грубый профиль контрастно противопоставлен ярко освещенному прекрасному лицу Иоанна, безвольно опустившего голову на плечо и спокойно сложившего руки на столе. Между Иудой и Иоанном вклинилась голова Петра; наклонившись к Иоанну и опершись левой рукой о его плечо, он что-то шепчет ему на ухо, в то время как его правая рука решительно схватилась за меч, которым он хочет защитить своего учителя. Сидящие около Петра три других апостола повернуты в профиль. Пристально смотря на Христа, они вопрошают его о виновнике предательства. На противоположном конце стола представлена последняя группа из трех фигур. Вытянувший по направлению к Христу руки Матфей с возмущением обращается к пожилому Фаддею, как бы желая получить от него разъяснение всего происходящего. Однако недоуменный жест последнего ясно показывает, что и тот остается в неведении».
Герцог не мог оторвать глаз от фрески, но он был, разумеется, не в силах оценить, как оценил бы художник, все ее значение, оценить передачу евангельского сюжета в сложнейших жизненных психологических подробностях, как не мог оценить и совершенство ее композиции.
И все же, не будучи знатоком, герцог был потрясен.
— Как это замечательно! — вырвалось у Моро. — Теперь понятно, почему ты так долго работал над фрескою, и нечего было монаху ворчать и жаловаться на тебя.
Он говорил о настоятеле монастыря. Леонардо усмехнулся:
— А сейчас он недоволен, что я кончил, ваша светлость.
— Это почему? Что-нибудь вышло не по его указке? Он, верно, думал, что ты напишешь Христа в виде бесплотного духа с предвидением крестных мук на челе, а ты дал образ любви и милосердия. И это для приора слишком просто.
— У меня долго оставалось чистое поле стены на место лика Христа, — сказал Леонардо, — но не это вызывало гнев у его преподобия. Разве вашей светлости ничего не бросилось в глаза? Я говорю об апостолах.
Пристально вглядевшись в лица учеников Христа, герцог вдруг засмеялся:
— Иуда! Явное сходство с приором! Ловко же ты отомстил ему за то, что он не давал тебе покоя, мешая работать! Ну и пусть себе остается за этим столом навеки. Кстати, он так же жадно сжимает свой кошель и скупится развязывать его для детей своей обители, и монахи частенько стонут от его скаредности.
8 Судьба Милана и Моро
Слава Леонардо была в полном зените. Но эта слава не изменила условий его жизни. Жилось ему очень тяжело; он с трудом сводил концы с концами. После смерти жены герцог, чтобы забыться, делал всякие безумные траты. Расходы его значительно превышали доходы. Он увеличивал налоги; голод и нищета росли с каждым днем. Страна изнемогала, и всюду слышались жалобы, а порою и угрозы по адресу тирана.
Нужда сжимала тисками художника. У него был полный дом учеников, помощников, а денег на содержание не хватало. Наконец он решил послать Моро письмо, которое писать было тяжело и обидно. Леонардо писал, зачеркивал, рвал бумагу, писал снова:
«Я не хочу отказаться от своего искусства… хоть бы давало оно какую-нибудь одежду, хоть некоторую сумму денег… если бы я осмеливался… зная, государь, что ум вашей светлости занят… напомнить вашей светлости мои дела и заброшенное искусство… Моя жизнь на вашей службе… О конной статуе ничего не скажу, ибо понимаю обстоятельства… Мне остается получить жалованье за два года… С двумя мастерами, которые все время были заняты и жили на мой счет… Славные произведения, которыми я мог бы показать грядущим поколениям, чем я был…»
Чтобы заработать хоть немного на жизнь с целым штатом учеников и помощников, Леонардо нередко приходилось посылать в один из монастырей какую-либо наскоро написанную картину.
Наконец в 1499 году Леонардо получил из дворца грамоту с печатями, которую торжественно привез ему секретарь Моро, Бартоломео Канко, и с церемонным поклоном вручил художнику:
— Поздравляю с великой наградой, щедростью его сиятельства, мессэр Леонардо.
В этих словах слышалась явная насмешка. Два года не платить жалованье и говорить о милости! Леонардо молча развернул бумагу. Это была грамота с дарственною записью:
«Мы, Лодовико Мариа Сфорца, герцог Миланский, удостоверяя гениальность флорентийца Леонардо да Винчи, знаменитейшего живописца, не уступающего как по нашему мнению, так и по мнению всех наиболее сведущих людей никому из живших до нас живописцев, начавшему по нашему повелению разного рода произведения, которые могли бы еще с большим блеском свидетельствовать о несравненном искусстве художника, если бы были окончены, мы сознаем, что если не сделаем ему какого-нибудь подарка, то погрешим против себя самих».
А дальше следовало описание подарка:
«Шестнадцать пертик земли с виноградником, приобретенным у монастыря св. Виктора, именуемым Подгородным, что у Верчельских ворот, жалуем».
Очевидно, Моро почувствовал, что неловко присылать дарственную грамоту, не платя долга, — он прислал с казначеем и задержанное жалованье за два года. Впрочем, дело объяснялось просто: Милан готовился выдержать осаду французских, войск, и герцог не жалел денег, чтобы задобрить окружающих.
Статуя же «Колосса» так и осталась неотлитой. «Пусть льется медь!» — было начертано на глине рукой самого Леонардо, но медь и не думала плавиться… У герцога не хватало денег на памятник отцу, и глиняная статуя трескалась, облупливалась на дворцовой площади, губительное время разрушало ее.
Летом, в том же году, когда Леонардо получил дарственную, в Ломбардию ворвались войска французского короля Людовика XII. Их привел изгнанник Тривульцио, личный враг Моро, поставивший своей целью отомстить ему.
* * *
2 сентября Леонардо в последний раз, и то издали, на улице, видел герцога. Он шел один, без свиты, в монастырь Марии делле Грацие, вероятно ко гробу Беатриче. А на другой день весь город уже знал, что Моро бежал из Милана в Тироль, к императору Максимилиану[40].
Немного более чем через три недели французы овладели Миланом. Бернардино да Корте, комендант замка, предательски отдал его во власть неприятеля, войдя в сношения с Тривульцио, находившимся во французских войсках.
Гасконцы, составлявшие немалую часть войск французского короля, с дикими криками лавиной потекли по миланским улицам. Миланцы открывали им двери своих домов и с восторгом встречали как освободителей от тирана, крича:
— Долой Моро, долой угнетателя, запятнавшего себя кровью герцога Джан-Галеаццо! А нас он душил налогами! Да здравствуют наши освободители французы! Да здравствует король Людовик Двенадцатый!
Лязг оружия, победные крики, топот лошадиных копыт, беспорядочные дикие вопли, стоны раненых и умирающих, хохот, кривляние шутов, свистящих на волынках, — все слилось в один оглушительный рев…
Победители творили в городе, так легко им доставшемся, всевозможные бесчинства. Много людей, толпившихся на площади, было потоптано копытами всадников. Французы хозяйничали в лавках и жилищах и именем своего короля грабили и убивали. По улицам беспрепятственно расхаживали шайки бродяг, безнаказанно совершавших насилия и грабежи.
В центре города, на площади, без разбора была свалена дорогая мебель, золотые вещи и шелковые ткани, ядра, пушки, алебарды, копья и сабли, винные бочонки, съестные припасы и мертвецы; валялись разбитые двери, груды рухляди, картины… Ради потехи французские солдаты поджигали дома; улицы наполнял черный дым, и нечем было дышать…
Настала ночь, и сквозь дым на темном пологе неба тускло светила луна, и не было видно звезд; разгромленные улицы и площади освещали только многочисленные костры.
* * *
Леонардо пробрался на площадь перед замком. Там толкались беспорядочные толпы пьяных солдат и бродяг. Спокойный, невозмутимый взгляд его светлых проницательных глаз искал предмета для своих наблюдений. Яркое пламя горящих домов давало зловещий свет, и в этом красном свете особенно величественным казался его глиняный «Колосс», гордо галопирующий на великолепном коне.
Солдаты забавлялись тем, что по очереди стреляли в статую, стараясь попасть в лицо Франческо Сфорца.
Художник видел, как на глине остаются глубокие шрамы, как, откалываясь, она осыпается, обнажая гигантский железный остов. Дикая толпа уничтожала великое произведение искусства так же спокойно, как громила только что таверны или питейные дома; она уничтожала «Колосса» в присутствии его творца. Леонардо молча, холодно смотрел на происходившее. Ему на плечо опустилась чья-то дрожащая рука. Он так же равнодушно и устало обернулся назад. Перед ним стоял бледный, трепещущий от негодования Салаино.
— Что случилось, друг мой?
— «Случилось»! — закричал юноша высоким, как у девушки, голосом. — Да как вы можете смотреть на это дьявольское издевательство над статуей! Вы точно не видите ничего, маэстро…
— Ах, ты про это… Ну вижу, все вижу…
— Не понять мне вас, учитель! Вы смотрите совершенно равнодушно…
— Нет, мальчик, очень внимательно и хочу знать, до чего может довести человека опьянение… А что же я, по-твоему, должен был бы делать? Разве не лучшее оружие против неизбежности — спокойствие? Что бы делал ты, если бы был на моем месте?
— Я бы кричал, я бы бросился драться, я бы…
— И ты думаешь, что французские арбалетчики[41] обратили бы внимание на твой детский гнев и бессильное заступничество? Они только изменили бы мишень и заменили «Колосса» тобою, чтобы потом все-таки прикончить статую бывшего правителя завоеванного города.
На лице Леонардо, бледном и сосредоточенном, застыла обычная непроницаемая улыбка. Салаино опустил голову. Он растерялся: учитель какой-то особенный, непонятный в эту минуту…
Это было прекрасно и страшно.
И, угадывая мысли юноши, художник проговорил тихо, почти шепотом:
— Чем больше чувства, тем сильнее страдание.
* * *
Леонардо с учеником вошли в студиоло — маленькую рабочую комнату, где он писал свои заметки о природе и живописи и делал технические чертежи. Их встретил нетерпеливо поджидавший хозяина Зороастро. Салаино ещо с большим удивлением, почти со страхом посмотрел на учителя. Лицо художника не только было спокойно — оно казалось радостным, светилось ясной улыбкой. Зороастро с торжеством развернул перед ним огромное крыло летательной машины, которое перевалилось через порог в соседнюю мастерскую, и хохотал заразительным смехом, потрясавшим его массивное тело:
— А ну-ка, показать это французишкам — они от страха дадут тяги, побоятся, что маэстро колдун и нашлет на них мор! Кабы не измена, разве они победили бы наших? Я их всех бы…
Он крепко выругался.
Леонардо с любовью внимательно разглядывал свое изобретение, потом перевел тот же внимательный и нежный взгляд на стол, заваленный бумагами. Здесь было им столько сделано, записано столько мыслей — здесь переживал он великое счастье творчества.
Легкомысленный Салаино, этот вечный ребенок, с ужасом покосился на рабочий стол учителя, за который Леонардо уселся спокойно, как всегда. В огненном зареве слышались крики победителей, там, за окном, шло разрушение, а он готов углубиться в чертежи, вычисления, записи. Юноша не мог понять, как вся эта борьба, победа, унижение и слава, — все это казалось Леонардо ничтожным перед неустанной работой его мысли, перед незыблемо вечными законами природы, которые открывались ей.
* * *
Побежденный Милан со дня на день ожидал своего нового владыку — короля французского. Наконец Людовик въехал в город. Тщедушный, с морщинистым, желтым, как пергамент, лицом, он не был похож на могущественного завоевателя. Его окружали принцы, герцоги, блестящие послы Генуи и Венеции. За ним потянулись и страшные войска Цезаря Борджиа, герцога Валентинуа — сына папы Александра VI. Слава о них разнеслась далеко за пределами Италии. Их громадные зубчатые копья напоминали вооружение древних римлян; на плащах, вокруг папского герба, был вышит знаменитый дерзкий девиз их честолюбивого полководца, герцога Валентинуа: «Aut Caesar, aut nihil!»[42]. Это войско прославилось своей жестокостью и храбростью. Цезарь набрал в него наиболее свирепых и воинственных солдат из всех наемных армий, воевавших в Италии, предпочитая в особенности тех, которые из-за своих преступлений были изгнаны из рядов собственного войска. Один только Цезарь Борджиа умел справляться с этим скопищем бродяг и негодяев. Он, казалось, был создан, чтобы управлять завзятыми убийцами, одно упоминание о которых наводило ужас на Италию. Наружность их полководца была необычна: лицо его поражало бледностью, от которой блеск громадных черных глаз, загадочных и режущих своим взглядом, как ножами, казался особенно ярким.
«Цезаря можно отличить в какой угодно толпе по глазам, — говорили про него современники. — Ни у кого в мире нет таких страшных глаз, как у герцога Валентинуа».
Цезарь был союзником французского короля.
…На другой день после появления в Милане французский король спрашивал у своей свиты о достопримечательностях Милана.
— В монастыре доминиканцев, — отвечали ему приближенные, — в трапезной Санта Мария делле Грацие, находится знаменитая фреска флорентийского художника Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Если угодно вашему величеству…
— Да, конечно, конечно, я хочу ее видеть.
Торжественно, окруженный пышною свитою и послами, отправился Людовик в монастырь. В свите среди принцев и герцогов находился и Цезарь Борджиа.
Монахи, смиренно кланяясь, проводили знатных гостей в трапезную. Перед ними была она, эта замечательная фреска. На них со стены смотрели лики апостолов и Христа во всей своей жизненной правде. Людовик не мог оторвать глаз от зрелища.
— Великолепно! — вырвалось у него. — Не правда ли, герцог? — обратился он к Цезарю Борджиа. — Но вот что скажите: нельзя ли выломать эту стену, увезти ее во Францию?
— Невозможно, ваше величество! — воскликнул Цезарь, и тонкие губы его сложились в едва заметную презрительную улыбку.
Людовик слегка нахмурился и надменно сказал:
— Спросите-ка лучше об этом самого художника.
Немедленно послали за Леонардо. Он, конечно, отверг эту затею, спокойно доказав всю ее нелепость. Фреска так и осталась в монастыре Мария делле Грацие.
Судьба, впрочем, не пощадила «Тайной вечери». Она очень плохо сохранилась до нашего времени. Реставрации, не так давно производившиеся для укрепления живописи, мало помогали.
Написанная масляными красками роспись начала разрушаться уже вскоре после ее создания. Неумение предохранить от сырости, от случавшихся наводнений, наконец, время сделали эти разрушения катастрофическими.
* * *
В Милане шепотом передавали слух, что Лодовико Моро готовится вновь овладеть своей столицей. Настроение миланцев изменилось. Бесчинства, насилия и жестокость пришельцев затмили былой гнет и тиранию герцога.
Сначала миланцы восклицали: «Да здравствует Людовик!» — видя во французской короле избавителя от тирана, но потом пожары и разорение города заставили их отыскивать добро в правлении герцога Сфорца. Все чаще стали раздаваться возгласы: «Долой французов! Да здравствует наш законный великий государь, герцог Лодовико Сфорца!»
И в Милане снова полилась кровь: миланцы с ожесточением набросились на победителей. Французы заперлись в крепости и оттуда ожесточенно отстреливались.
А Лодовико Моро в это время собирал войско. В лице Цезаря Борджиа он имел яркий образец для подражания и, подобно ему, окружил себя сбродом искателей приключений, состоящих из немецких и швейцарских наемников. Когда армия, думалось ему, была уже готова, он двинулся на Милан. Французы не ожидали этого внезапного нападения, и Моро, поддерживаемый народом, овладел столицей…
Казалось, ликованию не будет конца. Но счастье Моро было непрочно. Не прошло и двух месяцев, как французы снова овладели Миланом. Швейцарец из Люцерна, по имени Шаттенхальб, находившийся на службе у Моро, предал его за несколько тысяч дукатов. На этот раз Лодовико лишился не только имущества, но и свободы… Среди победных криков и ликованья французских войск герцога везли, связанного по рукам и ногам, в клетке, точно зверя. С выражением тупой и бессильной ярости смотрел Моро на глумящуюся толпу.
Бывшего миланского властелина везли из Италии в одну из французских тюрем, и теперь уже навсегда.
Зороастро благодаря своему огромному росту и силе удалось пробраться сквозь толпу, окружавшую повозку с клеткой. Он услышал свистки и наглую песню, которую пели уличные мальчишки. Среди них был и сорванец Джакомо. Приплясывая, мальчишки выкрикивали звонкими голосами:
У нашего Лодовико Нынче слава невелика; Плохо дело, спал он с тела, И корона улетела…Кто сочинил эту песню — сами ли мальчишки или их научили взрослые, — никому не было известно.
К своему удивлению, Одноглазый увидел, что у самой клетки на носилках, покоившихся на плечах дюжих солдат, лежала пышно одетая дама. В просвете откинутых занавесок мелькнула прекрасная обнаженная рука, золотистый локон, показалась красивая голова. Боже мой, мадонна Цецилия Галлерани, дом которой после прихода завоевателей был разграблен, а она сама где-то скрывалась!
Красавица наклонилась и крикнула у самых прутьев клетки:
— Эй, герцог без короны, слышишь песенку миланцев? Видишь, как сильна и счастлива Цецилия Галлерани, в то время как Беатриче д'Эсте давно в могиле… Я узнаю, что сделает с тобой мой друг Цезарь Борджиа, герцог Валентинуа…
Часть третья Скитания
1 Начало скитаний
Леонардо спешно собирался в дорогу. Зороастро с учениками укладывали его одежду в дорояшые кожаные мешки, и Зороастро ворчал: куда уложить все, что относится к науке и к живописи, — это не запихнешь в мешки, где все мнется. Разглядывая сильно поношенные камзолы и плащи хозяина, он качал головою. Удивительное дело: у маэстро частенько не было денег, чтобы сделать себе необходимое новое платье, но он до сих пор сохранил стройность юноши и так умеет носить одежду, что и не заметишь потертых мест. Зато у него выпрашивает последние деньги на свои наряды эта девчонка в штанах, Джакомо Салаино. Он и теперь боится что-нибудь забыть из своих тряпок в Милане, только и знает, что разглаживает камзолы, колеты и плащи. Вся надежда на Бельтрафио: он усердно возится с картинами и набросками, собирает рисунки и помогает учителю сложить бумаги с чертежами и научными записями, распоряжается, как командир, коротко и ясно, и Марко д'Оджоно, этот тиходум, едва успевает помогать. А мальчишка Джакомо младший, конечно, удрал бродяжничать с теми, с кем сочинил песенку о герцоге Лодовико: он ни за что не хочет уезжать из Милана. Маэстро когда-то подобрал его на улице, на улицу он теперь и возвратился, ничему не научившись — ни науке, ни живописи, ни толком кузнечному ремеслу от него, Зороастро. Станет бродягой. А Салаино, ох уж этот Салаино! И Зороастро кричит:
— Эй, Салаино, то бишь мессэр Джованни Антонио Капротис, убери свои сорочки!
Все ученики, кроме младшего Джакомо, отправлялись с учителем. Куда их гнала судьба из разгромленного, никем не управляемого города, отданного на разграбление чужеземцам? Они и сами не знают. Пока они все едут на родину, во Флоренцию. С ними и Лука Пачоли, верный друг Леонардо да Винчи.
Как неуютно стало в гнезде, укрывавшем Леонардо с его «выводком»! Повсюду разбросаны битые горшочки от красок, старые кисти; в окно смотрит уныло старое шелковичное дерево, глядя на которое Леонардо размышлял о Моро, и то, другое, персиковое, к которому он прививал яд и не успел добиться результатов опытов. Шелковичное дерево с огромным дуплом стало сохнуть от старости, оно напоминает судьбу изжившего себя тирана Лодовико. Расшатались и скрипят ступеньки лестницы, ведущей в маленькую мастерскую, где была написана «Мадонна в гроте», и мыши бегают взапуски, не боясь людей, шмыгая у них прямо под ногами.
Он выглянул на улицу. Разгром. Зияющие пасти выбитых окон, выломанных рам; двери висят на вывороченных петлях… Только статуя мадонны у Верчельских ворот стоит по-старому, неприкосновенная: грабители, такие же католики, как и миланцы, не решились ее разбить.
А его «Колосс»? А «Тайная вечеря»? Хорошо, что ее нельзя увезти вместе со стеною…
* * *
Перед отъездом Леонардо посетил своих миланских друзей Мельци, живших в живописной вилле Ваприо. Эта вилла находилась в пяти часах езды от Милана, на левом, крутом берегу быстрой реки Адды, у подножия величественных Альп. Джироламо Мельци с почтением и любовью относился к Леонардо. Образованный, глубоко интересующийся наукой и искусством, он любил рассуждать о вопросах философии, понимал живопись и скульптуру и разбирался в политике. У него был маленький сын — Франческо. Приезды художника Леонардо да Винчи являлись для маленького Мельци настоящим праздником, и в это последнее свидание мальчик был в отчаянии, поняв, что мудрый, ласковый и хотя не совсем понятный для него, но великий, притягивающий к себе какою-то загадочностью человек оставляет его навсегда. И Леонардо платил нежностью за эту привязанность.
Когда он приезжал в Ваприо, Франческо следовал за ним всюду. Они вместе бродили по берегу Адды и, глядя в ее прозрачные воды, прислушивались к шуму волн в бурю и ловили в нем музыку. Дорогой Леонардо отбивал от утесов небольшие куски и показывал ребенку их строение. В пещерах у подножия гор, где не было никакого намека на существовавшее здесь когда-то море, Леонардо находил раковины и окаменелости морских животных. Ученые того времени не могли объяснить происхождения этих следов моря и довольствовались странным предположением, будто все это явилось в горах благодаря волшебному действию звезд.
— При чем тут звезды? — говорил Леонардо. — Там, мой Франческо, где теперь суша и горы, прежде было дно океана. Природа вечно создает и вечно разрушает. Это круговорот, в котором нет и не может быть конца. Исследование этих маленьких, ничтожных с виду животных может впоследствии дать начало науке о Земле, о ее прошлом и будущем.
Художник любил Ваприо. Здесь, на берегу Адды, под впечатлением от раскинутых там и сям пещер, у него впервые стал складываться пейзаж для его картины «Мадонна в гроте».
Фрапческо слушал, боясь проронить хоть единое слово. Все это было так ново, так страшно и прекрасно! И он представлял себе былое Ваприо, когда на месте гор и диких уступов Альп расстилалось безбрежное море…
Леонардо старался объяснить все как можно проще и понятнее.
Франческо познакомился благодаря Леонардо и с новым прибором, который его старший друг придумал для измерения влажности воздуха. Леонардо знакомил его со строением животных и растений. Он все знал, этот великий человек, и обо всем умел замечательно рассказать. Но еще больше привязался к нему Франческо в ту пору, когда он задумал написать картину. Тут уж Франческо старался не отходить от него ни на час. С восторгом следил Франческо, как рука художника набрасывала знакомые ему скалы, пещеру, куда они любили заходить во время солнечного зноя, любуясь изящными сталактитами. Это был эскиз будущей картины, о которой он еще не рассказал мальчику.
— Учитель, — сказал как-то раз неожиданно Франческо, — когда я немного подрасту, возьмите меня к себе в ученики, как взяли Джакомо Капротиса, что зовете Салаино; я люблю рисовать и буду учиться всему, чему вы учите своих учеников. И, кроме рисования, подле вас я узнаю еще очень много важного, потому что лучше, умнее и ученее вас нет никого на свете!
И как раз в это время в комнату Леонардо вошел приехавший с ним в Ваприо Салаино. В руках его были листы с набросками углем, сделанные детски неуверенной рукою. На них были ангелы с аккуратно выведенными на крыльях перышками, мадонна с тарелкообразным сиянием; тут же растения, зверьки, раковины… Все было неуклюже, наивно, неверно, но во всем сказывалась наблюдательность.
— Вот рисунки Франческо, — объявил со смехом Салаино, — он прятал их.
Леонардо внимательно посмотрел на рисунки.
— Ты еще мал, — сказал он, — но ты любишь искусство и наблюдателен. Ты о многом думаешь. Подрасти немного, и, если у тебя не отпадет охота, я возьму тебя в свои ученики.
Леонардо собрался уезжать. За прощальным обедом гостеприимный Мельци говорил:
— Ты едешь в мятежную страну, любезный друг. Я должен сказать правду про твою родину — ведь я хорошо знаю Флоренцию, потому что постоянно имею дело с ее банкирами и купцами при отправке шерстяных тканей из Флоренции за границу. Там нельзя быть спокойным ни за один день. Сегодня царят Медичи, завтра их называют тиранами, и народ, возбужденный монахом Савонаролой[43], гонит их, а потом разочаровывается и в Савонароле и позволяет сжечь его. До того ли этому народу, чтобы поддерживать искусство! Художникам, по-моему, там невеселое житье. Не забывай, что в Ваприо ты свой человек, желанный гость.
Леонардо тихо отвечал:
— У меня нет слов для благодарности. А Флоренция, а тираны и ораторы, которых сжигают… Надо помнить, что одному человеку не истребить пороков всего мира…
2 Опять на родине
Флоренция… Нет, это уже не тот город искусств и ни= щеты, замаскированной весельем — подачкой тирана, который был так хорошо знаком Леонардо. Исчезли причуды Лоренцо Медичи, а с ними и крупные заказы тянувшихся за Лоренцо Великолепным меценатов[44]. Многих знакомых зданий И домов он не нашел. На месте лавки мессэра Веспасиано, на которой когда-то гордо красовалось живописное изображение груды книг и свертков старых рукописей, помещалась банкирская контора.
Леонардо начал жить с семьей учеников, сократив свои потребности как только мог, все-таки надеясь получить заказ на украшение одного из монастырей или церквей города. Большего заказа, пожалуй, в данный момент он и не желал: слишком много отдал душевных сил на «Тайную вечерю» и сейчас он увлечен научными изысканиями.
В тесном помещении снова появились колбы, реторты, перегонные трубки и даже горн, на столе — чертежи и записки с математическими формулами. Может быть, разумнее было переехать в Винчи? Он и поехал в Винчи проведать отца и поговорить с ним о плане своего устройства на родине. Но первое же свидание показало художнику, что дороги его с отцом давно разошлись и он не найдет у него ни совета, ни поддержки.
Одряхлевший старик встретил его за столом, где к обеду собралась вся его семья. Леонардо было бы трудно запомнить имена своих братьев и сестер, так их было много. Мачеха, плохо причесанная, небрежно одетая, раздраженная, грубо кричала на детей и на служанку. Отец разводил руками:
— Видишь, сынок, как мы живем… А ты ко мне за советом… Какой я теперь советчик? Я взял себе помощника — сдал все книги, знай подписываю свою фамилию, когда он мне подготовит дело… Хе-хе… Зато больше отдыхаю и копаюсь в саду… Славные я выращиваю артишоки — первые в округе… А деньги? Денег как будто хватает… — Он вздохнул. — Только помочь я тебе не могу — мне бы самому свести концы с концами… Вот жив был бы Вероккио, тогда иное дело — он бы посоветовал; смерть унесла его, поди, уж лет двенадцать… да, точно двенадцать лет… я же что? Хе-хе, знаешь: «Кто ничего не имеет, тот и сам ничто». Добывай себе сам судьбу, сынок, а я… я что… ты видел…
Жена покрикивала на мессэра Пьеро да Винчи.
Что было общего у Леонардо с этой семьей? Он уехал с тяжелым сердцем.
Взяв в аренду тесное помещение на одной из центральных улиц Флоренции, Леонардо открыл мастерскую и получил скоро кое-какие маленькие заказы: писал для часовни на могиле одного из разбогатевших купцов маленькую мадонну да выполнил для новой картины большой подготовительный рисунок — картон с изображением Анны с ее дочерью Марией, внуком Иисусом и Иоанном Крестителем. Этот картон был поставлен посреди мастерской, и Леонардо хотел, чтобы каждый из учеников что-либо сказал о нем.
Марко д'Оджоно восхищался, как всегда чрезмерно, всем, говоря общими фразами. Больтрафио тихо, вдумчиво заметил нежность и мягкость улыбок, особенно у Марии, а Салаино, слыша, как перед этим хвалил картон зашедший к Леонардо художник Филиппино Липпи, повторял его слова по памяти:
— Удивительная, тончайшая светотень… какая композиция!..
— Какая? — спросил Леонардо.
Салаино смешался:
— Живописная… ну, удивительная…
Художник улыбнулся.
— Вы смеетесь… — пробормотал Салаино, — а ведь так сказал мессэр Филиппино Липпи.
— Друг мой, — добродушно проговорил Леонардо, потрепав Салаино по плечу, — кто ссылается только на авторитет, тот применяет не свой ум, а скорее свою память.
* * *
Приход Филиппино Липпи навел Леонардо на воспоминания о милом старом времени, когда он вращался в кругу тогдашних молодых флорентийских художников. Вспомнилась жизнь у Вероккио, Лоренцо Креди, кроткий, женственный, и остроумный Сандро Боттичелли, на язычок которого не попадись. Однажды, когда тот только обзаводился своей мастерской, возле него поселился суконщик и, имея восемь станков, работал на них сразу и так шумел, что сотрясал весь дом и невозможно было ни рисовать, ни писать кистью. Сколько ни просил суконщика художник, ответ был один:
«Я хозяин своей жизни и волен делать, как мне вздумается».
Тогда Боттичелли надумал проучить его. Он влез на крышу своего дома, стена которого была выше стены суконщика, и приволок с собою огромный камень. Укрепив его на самом краю так, что в любую минуту он мог упасть на дом суконщика, он стал следить, что будет делать его сосед. Увидев все это, суконщик смекнул, что, если он пустит в ход все свои восемь станков, камень сорвется от сотрясения и раздавит его домишко. Он стал просить художника убрать камень.
— Я хозяин своего дома и волен делать что хочу, — отвечал Сандро.
Пришлось суконщику поступиться своими восемью станками, и камень исчез с крыши.
Леонардо захотелось увидать своего старого знакомца.
Судьба точно подслушала его желание.
Как-то во время прогулки художника остановил чей-то знакомый голос, который тихо, меланхолично и грустно произносил вслух стихи Данте.
У одного из выступов церкви Санта-Мария дель Фьоре стоял согбенный человек, лицо которого показалось Леонардо знакомым. Человек поднял голову, и Леонардо отшатнулся: это был Сандро Боттичелли. Но как он страшно изменился! Ведь он только на семь лет старше самого Леонардо, ему нет еще и пятидесяти лет, а он кажется глубоким стариком. Это морщинистое лицо, выражение муки в глазах, изможденное тело, седые пряди, беспорядочно повисшие вокруг впавших щек, эта бледность мертвеца… И все-таки это Сандро, шутник Сандро…
— Друг мой, — проговорил с трудом Леонардо, чувствуя, что горло его сжимает спазма, — так вот при каких обстоятельствах нам приходится встретиться!
Глаза Боттичелли не изменили выражения, только губы слегка дрогнули.
— С тех пор как великий пророк Джироламо Савонарола умер, — сказал он глухо, — я не нахожу для себя другого занятия, как чтение «Божественной комедии»… Я сделал к ней рисунки… говорят, они чересчур мрачны для такого веселого человека, каким я был… Я не забросил и живописи. Образы святых мучеников вдохновляют меня… я только сжег в огне фра Джироламо то, что подсказано мне было грехом… Но его уже нет, его уже нет с нами, великого пророка!
— А Креди? — спросил Леонардо. — Что сталось с Креди?
— Ты хочешь его видеть? Он сейчас там.
Сандро благоговейно указал на видневшиеся вдали мрачные очертания монастыря Сан-Марко, настоятелем которого был еще так недавно Савонарола.
— Молитва не мешает ему писать небесные видения… А Баччо делла Порта, ты знаешь, принял монашество в Сан-Марко. Сегодня Креди будет у него. Он звал и меня… Они часто видятся друг с другом. Хочешь, я проведу тебя к ним? — И Боттичелли поднялся.
Эти два когда-то близко знакомых человека теперь шли рядом как чужие и испытывали неловкость, не зная, о чем говорить.
Так молча прошли они несколько улиц и вошли в калитку монастыря. Привратник впустил их в длинный коридор. Они прошли мимо кельи Савонаролы, где все убранство было в точности сохранено, оберегаемое монахами. Боттичелли не ошибся: Лоренцо Креди сидел в тесной келье Баччо делла Порта, который теперь назывался фра Бартоломео. В своем непривычном для Леонардо доминиканском белом куколе фра Бартоломео казался необычайно строгим. Келья носила явные следы почитания памяти казненного пророка — всюду были его вещи: старый куколь, вериги, обрывок рукописи, ладанка с пеплом от страшного костра, а на одной из стен висел портрет Савонаролы, резкий профиль которого должен был постоянно напоминать фра Бартоломео о его монашеском обете.
Фра Бартоломео сидел в своей келье, а Креди медленно и прочувствованно читал вслух проповеди Савонаролы. Заметив вошедших, он сказал:
— Сейчас кончу. «Алтарь стал для духовенства лавочкой…» Ах, Леонардо, нас начинают называть плаксами за печальный напев наших песнопений…
Это был все тот же Креди, мягкий и чувствительный. Он обрадовался Леонардо и просто сказал:
— А мы с ним… с Баччо… с братом Бартоломео, пишем для обители.
Креди говорил мало, сильно волнуясь, и, видимо, его останавливало то, что Леонардо пришел как чужак, не бывший свидетелем страшных событий во Флоренции.
С грустным чувством покинул Леонардо монастырь и вернулся домой.
* * *
Подойдя к дому, где он поселился, Леонардо услышал хохот, крики и какие-то необычайные звуки, не похожие на человеческие голоса. Выделялся громоподобный бас Зороастро:
— А, чертова образина, погоди, я тебе покажу, как таскать со стола маэстро трубки!
Сквозь взрывы хохота Салаино прорвался беспомощно-серьезный окрик Больтрафио:
— Не испугайте ее, чтобы она не испортила опыта учителя! Она может сломать трубку!
Когда Леонардо вошел в мастерскую, он увидел странную картину: ученики во главе с Зороастро столпились около полок, где лежали свертки его чертежей, а на верхней из них сидела маленькая обезьянка. Она вертела почищенную с рабочего стола стеклянную трубку и внимательно ее рассматривала.
— Потише, друзья, — раздался голос, и из-за мольберта выступила знакомая фигура художника, который в последнее время жил и работал в Сьене и только наезжал во Флоренцию.
Имя его было Джованантонио Бацци, по прозванию Содома, из-за его беспорядочной, безалаберной жизни. Привычки эти, очевидно, создались в раннем детстве, и примером послужил отец Бацци, очень зажиточный сапожный мастер, имевший большое дело и державший много подмастерьев. Притеснять своих учеников, если они у него будут, Джованантонио не собирался, ведь он и сам подавно числился учеником, но сорить деньгами и потакать своим причудам, как отец, у него вошло в привычку.
Ему не было еще и двадцати пяти лет; одевался он весьма неряшливо, но, видимо, костюм с застегнутыми неправильно пуговицами сшил хороший портной и из дорогого материала, а пуговицы на камзоле Содомы были из смарагдов. С необычайной живостью он побежал навстречу Леонардо:
— Умоляю простить меня и мою маленькую шалунью Летти, с которой я не люблю расставаться и осмелился привезти к вам, великому учителю всех нас, живописцев… Уж очень хотелось мне увидеть вас после этого разгрома Милана, которого и я был свидетелем… У меня в Сьене в доме целый зверинец, но я не решился взять с собою даже любимого своего барсучка Пеппо… Летти, ко мне! Осторожно, моя красавица! Дай мне трубочку! Не жалей для меня — ведь я тебя люблю!
Крошечная мартышка, услышав ласковые слова хозяина, осторожно спустилась с полки, подбежала к нему, прыгнула на плечо и, отдав ему трубку, обвила его шею, нежно прижавшись к растрепанной голове.
Леонардо, смеясь, попросил гостя садиться и, найдя на окне апельсин, протянул его зверьку.
Ученики и Зороастро ушли, не желая мешать разговору художников.
Леонардо был рад гостю. Он ценил талант этого оригинального человека и нисколько не осуждал его чудачества.
— Меня зовут Содома, и я не обижаюсь, а монахи Сан-Монте Оливетто, куда я ездил по приглашению их настоятеля расписывать церковь, прозвали меня Матаччо… Что такое Матаччо, маэстро? Пустое слово, но, очевидно, насмешка, и я, если выполню заказ, насмеюсь над ними вволю… даже, возможно, намалюю их грешниками в аду!
Он говорил о своих фресках для церкви в Монте Оливетто, работая над которыми не мог удержаться, чтобы не насолить монахам, — ведь он натерпелся довольно от их скаредности и ханжества. Приняв заказ на фреску «Изгнание куртизанок», он решил наказать монахов и написал женские фигуры нагими, что привело в смущение святых отцов. Но, когда они стали просить переделать фреску, озорник Содома закричал: «Хорошо, но за одежду платят портному — извольте-ка заплатить и Матаччо, он даром работать не станет».
И монахи, кряхтя, прибавили ему.
Он болтал без умолку:
— Если бы вы побывали у меня в доме в Сьене, вы бы увидели такое, что вам и не снится; в моем Ноевом ковчеге[45] много всяких животных.
— Каких же? — смеясь, спросил Леонардо.
— Летти — первая, — перечислял Джованантонио, загибая пальцы, — барсучок Пеппо — второй, потом ослик, потом несколько белок — ужасно они плодовиты, потом лошадки, малютки пони с острова Эльба, а еще индийские голуби и карликовые куры, и то, что вызывает зависть у соседей, и я боюсь, что у меня его украдут, — ворон, удивительная птица: он разговаривает и понимает меня, передразнивает, совершенно подражая моему голосу. Я иногда пользуюсь этим, желая кого-нибудь напугать… Ох, я у вас засиделся, а мне надо еще тут у многих побывать.
Он что-то мялся и не уходил, рассматривая развернутый анатомический рисунок, потом взглянул выразительно на Леонардо и лукаво прищурился. В глазах запрыгали бесовские огоньки озорника Матаччо. Леонардо не подозревал, что гость мысленно оценивает, на чем основаны слухи о колдовстве и безбожии великого художника, распространявшиеся упорно в Милане. И вдруг он сказал каким-то вызывающим тоном:
— На прощание я оставлю вам кое-что, маэстро, весьма интересное и редкое, что мне удалось найти в Милане, вращаясь среди монахов и тех, кто является их пересмешниками… Только, ради бога, заприте под замок и никому ни слова, а то попадешь под папское проклятье или и того хуже. Я за этим завтра зайду.
3 Замечательный заказ
Джованантонио ушел, а Леонардо долго сидел задумавшись. Сегодня перед ним прошли образы товарищей но профессии, совершенно различных по своему духовному складу, и по своей судьбе, и по возрасту.
Снова он вспомнил, что Боттичелли бросил в «костер покаяния» свои замечательные картины, казавшиеся ему греховными в пылу увлечения проповедью Савонаролы, и это тяжело отозвалось в душе Леонардо. Он хорошо знал его прекрасные произведения, особенно любил «Поклонение волхвов», где среди пришедших к яслям поклониться Иисусу были изображены два брата Медичи — Лоренцо и Джулиано. Ах, Джулиано, погибший от руки Пацци в церкви! Невозможно забыть это лицо, увековеченное на портрете Сандро, это бледное лицо с тонкими чертами и опущенными ресницами под смелым взмахом бровей, и эту улыбку, чуть приподнявшую углы губ. Что он думает, этот баловень природы? Какая загадка в этих опущенных веках и какая бездна страсти, желаний, отваги и пороков в глубине этих скрытых глаз?
А «Весна» Боттичелли, с сопровождающими ее зефирами и грациями, которую когда-то он писал для виллы Козимо Медичи, и другие, где он не боялся снять покровы с прекрасного, совершенного тела, как делали это древние греки!
А вот Содома иной. В смелых набросках и фресках он успел показать свой незаурядный талант. Уж этот не боится показать на картине обнаженное тело и, учась у греков с их поклонением природе, не хочет признавать ханжеские поповские каноны. Он смело говорит кистью то, чего просит душа, и не прочь посмеяться над монашескими бреднями.
Что такое он принес, о чем не следует говорить, что могут не только осудить, но и отметить, как преступление?
Леонардо развернул свертки. Гравюры. Но какие! Откуда их взял этот молодой, озорной художник? Леонардо никогда еще не попадались эти еретические гравюры, очевидно ходившие по рукам среди свободомыслящих граждан Италии, ненавидевших монашеские россказни и ханжество.
Вспомнились папские буллы, индульгенции, разрешающие грехи, вплоть до убийства, — содеянные и те, что только еще будут содеяны… Что же все-таки принес этот чарующий безумец, прозванный Содомой?.. Посмотрим, посмотрим…
Первою попалась огромная гравюра: папская тиара венчает пирамиду, построенную из множества перевившихся между собою змей.
На других листах король, целующий ногу у папы, веселящийся Ватикан… Но вот опять замечательная карикатура: «Духовенство в аду».
Карикатуры заинтересовали Леонардо, даже разогнали тяжелое настроение, навеянное посещением монастыря Сан-Марко. Молодец, этот озорник Бацци Содома!
Но что всего больше понравилось ему — это немецкая карикатура, очевидно, недавнего происхождения. Откуда взял ее Содома? Вероятно, еретики побывали в Италии. Может быть, это были купцы с какими-нибудь товарами. Но где на них набрел проказник Бацци? Впрочем, на ловца и зверь бежит.
— И то, — сказал вслух Леонардо. — Chi cerca — trova![46]
Это самая тонкая, самая замечательная карикатура, не только по замыслу, но и по рисунку. На ней была изображена исповедальня и на месте духовника — сидящий с глубокомысленным видом монах, подперший рукою свое лицо — нет, не лицо, а морду волка. К нему стремятся овцы, выстроившиеся гуськом и покорно ожидая своей очереди, и одна из них доверчиво шепчет в волчье ухо свои невинные овечьи грехи, положив передние ножки ему на колени, а святой отец-волк, очевидно, обдумывает, как лучше освежевать свою духовную дочь.
Нет, этот проказник Бацци вовсе не такой пустой человек, как о нем идет молва!
Рука Леонардо в раздумье водила карандашом по листу бумаги. Из-под карандаша выходила странная фигура монаха в лодке. Монашеское смиренное одеяние, куколь на голове, и из него выглядывает волчья морда, хищная морда с жадным и хитрым выражением глаз. Куда плывет этот волк-монах? Для чего?
Волны безбрежного моря несут его вдаль, чтобы захватывать овец всего мира в волчью пасть, называемую католическою церковью.
Он был провидец: пройдет несколько десятков лет, и в Риме родится новое учреждение — страшная волчья западня инквизиции, которая будет ловить свои жертвы хоть на краю света.
* * *
Но, видно, во Флоренции не так-то легко теперь получить хороший заказ на живописную работу, иначе в августе 1502 года не было бы такого печального беспорядка в скромной квартире Леонардо да Винчи, знаменитого итальянского художника. Собрав все, что у него было от прежних сбережений, он оставил деньги Больтрафио, как самому разумному, и советовал сохранить мастерскую и принимать заказы на живописные произведения, а сам «до лучших времен» «пустился в плавание», как говорил насмешник Салаино.
Из всей его «семьи» с ним пускался в неведомый путь только один Зороастро, который не мог себе представить жизнь без маэстро.
А ехали они на службу к самому страшному, вероломному и жестокому из всех правителей итальянских государств — к самому Цезарю Борджиа.
Цезарь Борджиа, собрав большие силы наемников, шел в свой третий по счету поход на Романью, и ему нужен был военный инженер. Он вспомнил о Леонардо и написал приказ: всем кастелянам, капитанам, кондотьерам и солдатам давать свободный пропуск и оказывать всякое содействие «архитектору и генеральному инженеру Леонардо да Винчи».
И Леонардо отправился в поход.
«Если нельзя заниматься тем, к чему тянет, то не все ли равно, — думал он, — кому из них служить, если все, от кого зависит существование художника, похожи на тех волков, которые изображены на немецкой гравюре, будь они герцоги, короли или папы…» Так, по крайней мере, думает и его спутник, кузнец Зороастро. Он говорит:
— Чужой хлеб везде горек, а свой еще не созрел.
Когда же он созреет для знаменитого, известного в каждом уголке Италии мессэра Леонардо да Винчи?
Впрочем, эти чертежи укреплений и постройка осадных орудий, эти военные походы с Цезарем Борджиа были недолги. Леонардо не мог примириться с его разбойничьими набегами. Кроме того, он искал более широкого поля деятельности. Поэтому, как только представилась возможность, приняв предложение гонфалоньера[47] Флорентийской республики Содерини, он вернулся во Флоренцию, чтобы принять участие в осаде отложившейся от Флоренции Пизы, взяв на себя обязанности военного инженера…
* * *
У Леонардо бывали моменты раздумья, когда он подводил итоги пройденной жизни. Об этом последнем периоде жизни, начиная с Милана, он писал в своей записной книжке:
«Герцог потерял жизнь, имущество, свободу, и ничего из предпринятого им не было закончено».
Он говорил, конечно, о Лодовико Сфорца. Но немногим лучше была судьба Цезаря Борджиа. После разгрома Милана он возомнил себя способным завоевать чуть ли не все земли Италии, опираясь на покровительство своего отца, всесильного папы Александра VI. Но внезапная смерть папы, выпившего по ошибке яд, приготовленный им для убийства кардиналов, привела к падению и могущества семьи Борджиа; Цезарю пришлось укрыться в Испании, где он вел жизнь простого искателя приключений и был убит при осаде одной из крепостей.
4 Великие работы
С возвращением Леонардо в его мастерской по-прежнему целыми днями слышался то грохот молота и визг пилы, то оживленные голоса, казалось, прорывающиеся во все щели наружу; в окнах мелькали веселые лица учеников, в мастерской же на подоконниках сушились растения, а порою и распластанные, отпрепарированные части мелких животных. И снова густой дым поднимался над крышей: Зороастро разжигал горн — мало ли что понадобится мессэру Леонардо для его опытов. И, любя поговорки, Одноглазый весело повторял: Anche la disgrazia K'iova a qualche cosa[48].
Под несчастьем он понимал отсутствие маэстро.
Добравшись до своего угла, стосковавшись в скитаниях с Цезарем Борджиа по прывычным занятиям, Леонардо со страстью набросился на науку. Он погрузился в математику и астрономию, проверял свои физические приборы, взялся попутно за геометрические выкладки и чертежи летательной машины.
— Человек должен победить воздух, как он победил воду, построив огромные, могучие корабли, не боящиеся бесконечного морского пространства.
Договор с Содерини не мешал Леонардо заниматься наукой: гонфалоньер не требовал, как Цезарь, постоянного участия в походах. Более того — Леонардо было поручено расписать одну из стен залы Большого совета в Палаццо Веккио. Сюжетом для росписи являлся эпизод из войны флорентийцев с ломбардцами, окончившийся победою флорентийцев, — «Битва при Ангиари». Работа должна была затянуться не на один год; значит, в ближайшее время не предвиделось скитаний, и это радовало Леонардо.
Синьория решила заказать фрески в зале Большого совета одновременно двум знаменитым художникам Италии — Леонардо да Винчи и Микеланджело. Оба были флорентийцы, оба прославились и как живописцы и как скульпторы. Вскоре после того как «Колосс» Леонардо был расстрелян французскими арбалетчиками, во Флоренции особая комиссия, в которую вошел и Леонардо, обсуждала план установки на площади законченной Микеланджело статуи Давида.
Во Флоренции только и было разговора, что о заказе для залы Большого совета. Два художника, получивших этот заказ, пользовались в Италии равной известностью: старший годами Леонардо прославился в Милане «Тайною вечерею», о которой рассказывали небылицы. Французский король будто бы велел отрубить голову архитектору, сказавшему, что выполнить королевское желание и увезти во Францию стену монастыря невозможно. Да мало ли еще ходило басен вокруг имени Леонардо да Винчи! Загадочной казалась и сама фигура его, в любимом розовом длинном одеянии, немножко старомодном, но изящном, и выражение спокойствия и сосредоточенности, и его научные занятия…
Другой знаменитый художник, Микеланджело, был совсем иного склада. Его «Давид», еще скрытый дощатой оградой от любопытных взоров, скоро украсит одну из городских площадей, и говорят, что это удивительная скульптура; имя Микеланджело широко известно в Италии как имя патриота, готового отдать жизнь за республику и ненавидящего ее тиранов, друга простого народа, познавшего нужду и не гнушавшегося сидеть за одним столом со своими краскотерами. Недаром он был воспитан в каменоломнях близ Сеттиньяно, в семье простого каменотеса. У него и характер иной, чем у Леонардо: он вспыльчив, резок, часто кажется грубым благодаря своей прямоте. Разные по характеру и привычкам, эти два гения не любили друг друга.
Вся Флоренция с нетерпением ждала, как встретятся эти два величайших мастера и чье произведение окажется сильнее.
И вот художники приступили к работе. Леонардо заранее знал, что не только роспись, но и самая подготовка к исполнению фрески возьмет у него очень много времени. Так и вышло: картон, с которого он должен был писать фреску, занял у него почти два года.
Сначала Леонардо хотел дать широкую картину сражения. На стене залы должны были предстать несколько эпизодов этой памятной битвы, дающих в целом полное о ней представление. Но чем больше он углублялся в работу, тем больше думал о ее упрощении. Конечно, ему, как всегда, необходимо найти удовлетворяющую его по своей цельности композицию, которая в то же время давала бы ясное представление о горячности битвы, об отваге сражающихся. Лучше всего, решил художник, дать центральным эпизодом борьбу всадников из-за знамени. На картоне появились две фигуры на разъяренных лошадях; они бросаются вперед, чтобы отбить знамя. Оно в руках у знаменосца, крепко ухватившегося за древко. К знаменосцу спешит на помощь товарищ; закованный в латы, он поднимает тяжелый меч. Вот два спешившихся воина под конями, поднявшимися на дыбы; они уже на земле, но и, умирая, в последней схватке готовятся поразить один другого последним ударом. Справа — воин, прикрывающийся щитом. В картине боя выдержана цельность, напряжение борьбы до последнего вздоха и такое разнообразие движений, передающих психологию сражающихся, что этот отдельный эпизод должен был дать представление обо всей битве.
Окончив картон, Леонардо должен был приступить к росписи, но прежде гонфалоньер захотел показать Флоренции законченные композиции двух величайших итальянских мастеров.
* * *
На своем картоне Микеланджело изобразил эпизод Кашинской битвы под Пизой в XIV веке. Пизанцы попытались захватить флорентийцев врасплох, когда солдаты купались в реке Арно. В лагере забили только что тревогу… Художник с необычайным мастерством показал разнообразные движения купающихся: одни спешат выбраться из воды, другие вооружаются: кто пристегивает панцирь, кто схватился за оружие.
Картон Леонардо не сохранился, как и его роспись. Впрочем, сохранились замечательные подготовительные наброски и этюды. Существует также несколько старых копий и гравюр с картона Леонардо.
* * *
Палаццо Веккио широко распахнуло свои двери для зрителей, желающих взглянуть на замечательные картоны.
Уже давно по Флоренции шла о них молва, и разговорам не было конца.
У Леонардо была изображена со всей беспощадной правдой ярость людских страстей в момент битвы. У Микеланджело были живые, реальные люди; реальны были в мельчайших подробностях все их движения, вызванные внезапной военной тревогою.
Насколько мадонны Леонардо привлекали своею нежностью и грацией, настолько картон вызывал ужас. Но Леонардо и хотел, чтобы эта его работа вызывала у зрителей волнение и страх. Оставаясь спокойным и уравновешенным, он мог изобразить страшное еще тогда, когда почти ребенком написал для отца на круглом щите голову Медузы; он разрабатывал свои произведения во всех мельчайших тонкостях.
«Сделай так, — говорил Леонардо, — чтобы дым от пушек смешивался в воздухе с пылью, поднимаемой движением лошадей сражающихся. Чем больше сражающиеся вовлечены в этот вихрь, тем менее они видны и тем менее заметна резкая разница между их частями, находящимися на солнце и в тени. Если ты изображаешь упавшего человека, то сделай так, чтобы видно было, как он скользит по пыли, образующей кровавую грязь. Где почва менее залита кровью, там должны быть видны отпечатки лошадиных и человеческих шагов. Если победители устремляются вперед, их волосы и другие легкие предметы должны развеваться ветром, брови должны быть нахмурены; все противолежащие части должны соответствовать друг другу своими соразмерными движениями. Побежденные бледны; их брови около носа приподняты; лбы их покрыты глубокими морщинами; носы пересечены складками».
Слава об удивительных картонах давно уже разнеслась по всей Италии, и художники из разных городов приезжали, чтобы увидеть наконец их.
В Палаццо Веккио явился молодой Рафаэль и восторженными глазами смотрел на оба произведения. И, когда Перуджино — «патриарх», учитель уже прославленного Рафаэля, спросил, который из картонов ему больше нравится, юноша глубоко задумался; на его прекрасное лицо с ясным, «солнечным» выражением набежала тень. Тряхнув густыми каштановыми кудрями, молодой художник прямо посмотрел в глаза Перуджино и горячо сказал:
— Оба, оба, маэстро, уверяю вас! Я говорю это от чистого сердца и был бы огорчен, если бы мое преклонение перед личными достоинствами мессэра Леонардо да Винчи заставило меня быть несправедливым к мессэру Буонарроти.
Не было двух людей, менее похожих друг на друга, чем Леонардо и Микеланджело. Разносторонние научные интересы и таланты исследователя отвлекали Леонардо от искусства и заставляли его быть сосредоточенно-замкнутым. Рожденный и воспитанный в состоятельной семье, взлелеянный, как нежное растение, заботливыми женскими руками, красивый, изящный, он хорошо одевался и отличался хорошими манерами. Иным был Микеланджело. Некрасивый, нескладный, с грубоватыми манерами, он мало считался с тем, что называлось «умением держать себя», привык говорить правду в глаза и ради деликатности ни за что бы не покривил душою. Он не уживался ни при каком дворе, ни при герцогском, ни при папском, и чувствовал себя хорошо только с простыми людьми — с товарищами по работе или со скарпеллино — каменотесами и другими ремесленниками.
Все эти качества заставляли его избегать общества изящного Леонардо и чувствовать к нему неприязнь, основанную только на его внешнем превосходстве. Эта неприязнь заставила Микеланджело нарочно явиться в Палаццо Веккио одетым в самый плохой, поношенный костюм и в заштопанном темном плаще.
Рафаэля, мягкого, привыкшего всюду чувствовать себя желанным, отталкивала резкость Микеланджело, — его тянуло к уравновешенному и приятному собеседнику Леонардо да Винчи, с которым можно было говорить на многие темы, чуждые Микеланджело.
Никто не вышел победителем из этого художественного турнира, вернее — оба художника победили друг друга, так хороши были картоны.
Теперь оставалось выполнить фрески.
Леонардо, начав работу над стенною живописью, наткнулся на помеху: его не удовлетворяли краски, которыми он до сих пор работал, и он отдался опытам, изобретая неё новые и новые соединения.
Не начал фрески и Микеланджело по многим сложным обстоятельствам. Картон его не дошел до нас. Говорят, он сделался жертвою низкой зависти. Во время одной из смут, частых в беспокойной Флоренции, известный художник Бандинелли тайно проник в залу собрания и кинжалом изрезал в куски произведение Буонарроти.
5 Мона Лиза
Еще перед самым началом работы в Палаццо Веккио Леонардо получил письмо от очень почитаемого во Флоренции банкира Франческо делле Джокондо, известного своим богатством и щедрыми взносами на общественные нужды и нужды церкви. Письмо было написано затейливо-пышным языком, в выражениях не только почтительных, но и полных благоговения к высокому дарованию и известности единственного и несравненного мессэра Леонардо да Винчи. После всех этих пышных эпитетов следовало почтительнейшее приглашение зайти в дом покорного слуги маэстро, мессэра Джокондо.
Слыша, как Леонардо, смеясь, читал вслух ученикам полученное письмо, Зороастро изрек:
— Asino che ha fame mangia d'ogni strame…[49]
Эта пословица не сходила с языка Одноглазого, слишком наголодавшегося в пору неудач мастера и не верившего в хорошие заказы.
И он продолжал:
— Ежели и закажет синьор Джокондо, то, уж наверно, предложит какой-нибудь пустяк. Эти богачи скорее опорожнят свой кошелек в карман падре, чтобы тот усерднее молился за спасение их грешной души, чем заплатят как следует зна-ме-ни-тей-ше-му во всем ми-ре художнику Леонардо да Винчи.
Эта воркотня вызвала смех учеников и рассеянную улыбку у Леонардо. Он сказал, потрепав по плечу Зороастро:
— Ладно, старик, подай-ка мне лучше мой новый костюм, да не забудь плащ. Я иду.
В красивом доме Джокондо, с фонтаном в виде художественно исполненных дельфинов, что виднелся за аркой, на фоне цветущих деревьев, Леонардо приняли с почетом. В кабинете, заваленном счетными книгами, появились слуги с большим подносом, заставленным сладостями и напитками, и два синьора угощали пришедшего: мессэр Джокондо, человек лет сорока пяти, с благонравным лицом и уже порядочной лысиной, и почтенный старик, его тесть.
— Мы ждали вас с нетерпением, мессэр Леонардо, — начал заискивающим тоном Джокондо, — я и отец. У нас величайшая к вам просьба: мы хотим иметь портрет одной молодой дамы… то есть я хотел сказать, той, которая удостоила меня счастьем назвать ее своею супругой…
— …и которая является моей единственной и горячо любимой дочерью, мессэр Леонардо, — добавил старик, поглаживая длинную и узкую белую бороду. — Мое утешение, мессэр Леонардо, и отряда моей старости.
— Нам хочется, чтобы портрет вышел как можно лучше, и мы не жалеем на это денег, уверенные, что только им один можете нас удовлетворить, один во всем мире, — говорил с воодушевлением синьор Джокондо, — и мы хотим, чтобы вы взяли за него задаток… тогда для нас будет вернее…
Банкир назвал огромную сумму за выполнение заказа и прибавил:
— Но, ежели этого мало, мы, разумеется, увеличим плату.
Леонардо сказал:
— Я охотно стану работать, но мне хотелось бы видеть ту, которую я буду писать.
— Сейчас, — засуетился банкир и шепнул что-то подававшему угощение слуге.
Тот исчез, и через короткое время в кабинет тихо вошла молодая женщина. На ней было дорогое платье и волосы причесаны по моде того времени — с локонами, спускавшимися на плечи. Была ли она красавица? Нет, нисколько, во Флоренции многие женщины были куда красивее ее. Но вполне развившаяся фигура ее была совершенна, и особенно совершенной формы были ее выхоленные руки. Но что было в ней замечательно, несмотря на богатство, выщипанные по моде брови, румяна и массу драгоценностей на руках и на шее, — это простота и естественность, разлитые во всем ее облике. Под дугами бровей, близко к ним, сияли небольшие, но необыкновенно ясные, живые глаза. Войдя, она сконфузилась, видимо, пораженная серьезной, необыкновенной внешностью художника, столь не схожей с наружностью бывавших в их доме банкиров и купцов с их резкими манерами и резким голосом, громко спорящих из-за процентов и сроков векселей. Отец с любовью сказал:
— Вот она, наша мона Лиза, вот чей портрет мы оба жаждем видеть…
От этих слов она покраснела, и вдруг лицо ее осветилось улыбкой и стало необычайно привлекательным для художника — смущенным и немножко лукавым, словно к нему вернулась утраченная шаловливость юности и что-то затаенное в глубине души, неразгаданное…
— Я согласен начать работу, — сказал Леонардо, поклонившись моне Лизе, — но хочу предупредить: я буду писать долго, может быть, очень долго, чтобы вышло так, как мне это нужно. И еще я попрошу вашу милость о необходимом для меня условии: писать портрет не у вас в палаццо, а в моей мастерской. Там у меня наиболее подходящие условия… для этого портрета, для спокойной, длительной работы. Я на этом настаиваю.
Он произнес последнюю фразу, когда увидел, что на лице моны Лизы появилось выражение скуки. Она даже тихонько зевнула, просто прикрывая рот рукою. В этот момент лицо ее показалось художнику скучным, неинтересным. Она испугалась, очевидно, когда он упомянул о продолжительном сроке работы. «Нельзя допустить, — подумал он, — чтобы эта модель скучала во время сеансов. Тогда ничего не получится, кроме мертвенной передачи более или менее сходных с оригиналом черт лица…»
* * *
— Слушай, Салаино, ты бываешь всюду, где смех и веселье. Скажи, знаешь ли ты каких-нибудь музыкантов, умеющих хорошо играть па лютне, хотя бы для уличных гуляний? Вообще что-нибудь веселое, очень веселое?
Удивительный разговор затеял учитель с Салаино. Он заинтересовал и Зороастро, который ведь тоже любил уличные гулянки. Великан вмешался, хотя его и не спрашивали:
— Шуты бывают веселее музыкантов! Я знаю одного, Якопо Бескостного; он кривлялся, как угорь, точно у него нет костей; он может и петь… Ну, знаете, когда он на гулянке, то все животики надорвешь от смеха.
Леонардо кивнул головою:
— Понадобятся, возможно, и шуты, твой угорь Якопо… Бескостный…
После этого Салаино и Зороастро стали рыскать по городу, чтобы найти шутов и музыкантов повеселее. Может быть, поискать еще искусных жонглеров? Узнать бы, для чего все это маэстро…
Дело немножко прояснилось, когда после переговоров с приходившими певцами и плясунами художник объявил, что завтра не пойдет в Синьорию и начнет работать дома и что «для натуры» ему нужны «весельчаки». Какую же картину он затевает? Но, по-видимому, имеется заказ, и, должно быть, крупный. Зороастро изрек в присутствии учеников:
— Трава уже, видно, прибыла для лошади.
* * *
Вся улица была заинтересована и даже встревожена, когда у дверей дома, где жил Леонардо да Винчи, нарядные носильщики поставили паланкин, из-за раздвинутых занавесок которого показалась молодая женщина. К ней склонился ехавший рядом на коне известный всей Флоренции глава цеха купцов мессэр Джокондо, явившийся в сопровождении целой свиты, как какой-то владетельный герцог. Пока синьор Джокондо галантно помогал молодой даме выйти из носилок, один из его слуг принялся изо всей силы колотить молотком, привешенным снаружи, в запертые двери.
Скоро мессэр Франческо делле Джокондо с женою и сопровождавшей ее служанкой были в мастерской знаменитого художника.
Мона Лиза конфузилась и была недовольна этим нелепым, как ей казалось, путешествием, предвидя скуку сидеть неподвижно; лицо ее предательски выражало ощущение безнадежности, но потом ее заинтересовала обстановка мастерской: фигура закованного в латы рыцаря рядом с мольбертами и среди них — этот серьезный человек с длинной бородою, который должен был увековечить на полотне ее образ. Как это так — сидеть не шелохнувшись, смотреть в одну точку, а с тебя кто-то чужой не будет спускать глаз…
А Леонардо, глядя на это будто потухшее лицо, думал:
«Нет, если нельзя сейчас, то со следующего раза непременно нужны шуты и весельчаки».
Он вспомнил почему-то и Бацци Содома. Вот кто мог бы позабавить ее рассказами, понятно не о монахах и их проделках — ведь она, надо думать, истово религиозна. А если бы он еще пришел со своей обезьянкой, веселое настроение модели было бы обеспечено. Но пока что надо дать ей освоиться.
И после первых приветствий, распорядившись, чтобы на стол был поставлен поднос со сластями, фруктами и напитками, Леонардо занялся приготовлением к сеансу. Пока он выдвигал мольберт, мона Лиза, чуть нахмурившись, рассматривала комнату и мелькавших в дверях подмастерьев и слуг художника. Златокудрая голова Салаино, а рядом огромная фигура одноглазого Зороастро заинтересовали ее.
Леонардо, подойдя ближе к моне Лизе, снова обратил внимание на ее руки. Она положила их одну на другую в позе благонравной девочки, ожидающей выговора старших. До чего были прекрасны эти руки!
Художник сказал с обычной мягкостью:
— Мне бы хотелось, если синьора ничего не имеет против, изобразить эти руки без всяких украшений, а шею — без ожерелья.
Мессэр Джокондо взглянул на мастера с удивлением, но ничего не возразил. Мона Лиза торопливо сняла с рук кольца, сняла с шеи ожерелье из жемчуга и положила все рядом на край стола.
— Благодарю синьору, — проговорил Леонардо. — И, если возможно, не меняйте позы.
Она была такою, какою ему хотелось ее написать: ни единого украшения, сама простота — открытая шея, и по ней бегут локоны.
Он начал набросок серебряным шрифтом.
А в это время мессэр Джокондо, освоившийся с обстановкой, отведал густого красного вина, сверкавшего в хрустале графина.
Теперь у него был благодушный и самодовольный вид. Казалось, он был в восторге, что его жена будет увековечена кистью знаменитого Леонардо да Винчи. Он говорил с простодушной откровенностью:
— И жениться мне удалось, мессэр Леонардо, как нельзя лучше. Отец ее был другом моего отца, и капиталы наши соединились. А невеста хоть и привыкла к вечным развлечениям в богатой семье, но воспитана в строгости и целомудрии.
Моне Лизе понравилось ездить в мастерскую Леонардо. И новые люди, и незнакомая обстановка с чучелами птиц, со скелетами ящериц, змей и каких-то зверьков, и странная лабораторная посуда, и мольберты с палитрой, с характерным запахом скипидара, и, наконец, растирание красок — все было так интересно и так ново! Ведь дома ее окружали только счетные книги и вечные разговоры о ссудах, оборотах и возможных прибылях. Правда, здесь и там были шуты, старавшиеся развеселить ее, но там, дома, она к ним привыкла и, кажется, знала все их шутки наизусть, а здесь было что-то совсем новое. Занятно также смотреть, как ты начинаешь оживать на полотне, точно рождаешься. Сначала что-то смутное, потом все яснее и яснее, и кажется, что эта нарисованная мона Лиза заговорит…
Леонардо работал упорно, со всем увлечением, на какое был способен, и внимательно следил за настроением своей модели. Ему так важно было разбудить эту застывшую в своем равнодушии, апатичную женщину, усыпленную скучным обиходом банкирского дома с его однообразным благополучием!
* * *
Музыка не совсем удовлетворяла модель. Лютнист, с которым он уговорился, был, очевидно, не очень искусен. Она слушала эти всем известные мотивы со скучающим лицом и частенько не удерживалась от зевоты. Не очень-то оживлял ее и фокусник-жонглер, подкидывавший ножи и ловивший их остриями или проделывавший разные манипуляции с шариками, стоя на голове. Пожалуй, ее больше заняли пестрые костюмы шута и жонглера. Оживилась она совсем неожиданно.
В перерыв, когда художник давал своей модели отдохнуть, она завтракала, и служанка, старая ее нянька, прислуживала в мастерской за столом: резала цыпленка, чистила апельсины и гранаты. Старуха все еще немножко боялась манекена в латах и шлеме в углу, черепа на столике, отпрепарированных распластанных животных, змей в банке и даже анатомических рисунков черепа. Дома она пробовала убедить свою воспитанницу, что Леонардо — колдун и в дружбе с самим дьяволом.
В один из таких перерывов внимание моны Лизы было привлечено зарисовкой лапы с перепонками, принадлежащей плавающей птице, и рядом — человеческой руки. Тут же лежал рисунок крыла летучей мыши.
— Зачем это вам, маэстро? — с удивлением спросила молодая женщина.
Леонардо стал объяснять ей законы плавания и летания, заговорил о сходстве плавательных и летательных органов и о том, как это сходство навело его на мысль о механизме для полетов.
Он видел, как в ее небольших и таких маловыразительных глазах загорелся огонек. Она слушала с большим интересом. Это ведь совсем новое, не то, что приходится обычно слышать дома — вечные разговоры о прибылях: сукновалы, заграничная отправка, не досчитался куска самого лучшего; сосед перебил заказ… Аршины, деньги, барки, таможенный налог, станки, выделка, сырье… И так изо дня в день, а развлечения — наряды, золочение волос, новая мода прически, цирюльник, который умеет удивительно подбривать брови, новый танец, привезенный из Рима… И сплетни, сплетни: сплетни флорентийские, сплетни сьенские, сплетни миланские, болонские, венецианские, ватиканские, заграничные — на все вкусы… А здесь совсем другое…
Заметив огонек в глазах моны Лизы, Леонардо почувствовал, как дрогнуло его сердце: такой же огонек загорался в глазах мамы Альбьеры там, дома, в благословенном уголке маленького городка Винчи, когда он мальчиком находил в саду букашку или какого-нибудь красивого жука, мотылька, цветок, приносил домой и рассматривал с нею вместе, дивясь его окраске и строению…
* * *
Леонардо казалось, что модель все более и более заинтересовывается его наблюдениями над природой; это радовало и волновало его, и в моменты отдыха он показывал моне Лизе то, над чем работал, стараясь как можно понятнее и проще все объяснить и говоря с большим воодушевлением.
Иногда паланкин ее долго не появлялся у дверей его мастерской; являлся слуга или нянька с объяснением, что она больна или что мессэр Франческо делле Джокондо решил, что жене надо сделать передышку и посидеть дома, особенно когда приехали из Сьены родственники, с которыми связаны его коммерческие расчеты.
Тогда Леонардо чувствовал, что чего-то не хватает и его жизни…
Ее неожиданный отклик на задушевные интересы самого Леонардо натолкнул его на мысль выполнить заказ иначе, чем он ранее задумал: он решил превратить портрет в картину. Здесь нужен пейзаж, непременно пейзаж. Ведь портрет, писанный на заказ, не требует пейзажа. От художника ждут только сходства с оригиналом или, самое большее, кроме сходства, характерных черт человека. Но Леонардо решил дать среду, которая бы гармонировала с настроением, с душевной жизнью моны Лизы, и для этого он хотел поместить ее среди той природы, к которой она проявляла все больший и больший интерес.
Да, он напишет позади ее фигуры пейзаж. Пейзаж, неясный, окутанный воздушной дымкой, уходящий в беспредельную даль; он гармонически связан с легким покрывалом, прозрачной вуалью, наброшенной небрежно на голову…
* * *
Модель, большею частью молчаливая и робеющая перед этим высоким человеком с серо-голубыми глазами, полными глубокой, проницательной мысли, однажды заговорила. Она стала спрашивать об уме человека творящего, как, например, художник, поэт или изобретатель, и о разуме, который бывает у людей дела и который нужен только для повседневной жизни, наконец, об уме животных, которые порою жертвовали жизнью для спасения своих детей, а собаки, например, — даже и для спасения человека. Она бросила неопределенный вопрос:
— Я не знаю, как это и почему это… на свете много непонятного, интересного… и… и как понять и оценить человека? Есть люди, которых не понимают окружающие, а они понимают многое… Есть даже предсказатели погоды… и совсем верно предсказывают… я таких видела…
Леонардо чуть усмехнулся, а потом сказал серьезно:
— Если синьора хочет, я расскажу ей сказку…
«Сказку? Вот странно!» — подумала мона Лиза.
Она кивнула утвердительно головой и приготовилась слушать.
А Леонардо вспомнил любимую сказку бабушки Лючии. Это как раз подойдет. Сказка старая, с налетом монашеского благочестия, но он немножко переиначит ее, сделает из монаха мудреца — провидца природы, ведь рассказывают же ее в разных местностях по-разному. Говорят, будто она залетела даже в Турцию и там монаха превратили в колдуна…
— Ну, синьора, прошу съесть этот сладкий миндаль в сиропе и не очень соскучиться моей стародавней небылицей. Случилось это очень давно, когда еще не было положено ни одного камешка в постройки нашей Флоренции, не было и Рима. Жил-был один бедный человек, и у него было четыре сына: три умных, а один и так и сяк, ни ума, ни глупости. Да, впрочем, о его уме не могли судить как следует — он больше молчал и любил ходить в поле, к морю, смотреть, слушать и думать про себя; любил и ночью смотреть на звезды. И вот пришла за отцом смерть. Перед тем как расстаться с жизнью, он призвал к себе детей и говорит:
«Сыны мои, скоро я умру. Как только вы меня схороните, заприте хижину и идите на край света добывать себе счастье. Пусть каждый чему-нибудь научится, чтобы мог кормить сам себя».
Отец умер, а сыновья, похоронив его, пошли на край света добывать свое счастье и сговорились, что через три года вернутся на полянку родной рощи, куда ходили за валежником, и расскажут друг другу, кто чему выучился за эти три года.
Ну вот, прошло три года, и, помня уговор, вернулись братья с края света на полянку родной рощи. Пришел первый брат, что научился плотничать. От скуки срубил дерево и обтесал его, сделал из него женщину. Отошел немного и ждет. Вернулся второй брат, увидел деревянную женщину, и так как он был портной, то решил одеть ее и тут же в одну минуту, как искусный мастер, сделал ей красивую шелковую одежду. Пришел третий сын, украсил деревянную девушку золотом и драгоценными камнями — ведь он был ювелир и сумел накопить большое богатство.
И пришел четвертый брат. Он не умел ни плотничать, и и шить — он умел только слушать, что говорит земля, говорят деревья, травы, звери и птицы, знал ход небесных планет и еще умел петь чудесные песни. Он увидел деревянную девушку в роскошной одежде, в золоте и драгоценных камнях. Но она была глуха и нема и не шевелилась. Тогда он собрал все свое искусство — ведь он научился разговаривать со всем, что есть на земле, научился и оживлять своею песней камни… И он запел прекрасную песню, от которой плакали притаившиеся за кустами братья, и песней этой вдунул душу в деревянную женщину. И она улыбнулась и вздохнула…
Тогда братья бросились к ней, и каждый кричал одно и то же:
— Я тебя создал, ты должна быть моей женою!
— Ты должна быть моей женою, я тебя, голую и несчастную, одел!
— Я тебя сделал богатой, ты должна быть моей женою!
Но женщина отвечала:
— Ты меня создал — будь мне отцом. Ты меня одел, а ты украсил — будьте мне братьями. А ты, что вдохнул в меня душу и научил радоваться жизни, ты один будешь мне мужем на всю жизнь…
И деревья, и цветы, и вся земля вместе с пташками запели им гимн любви…
* * *
Кончив сказку, Леонардо взглянул на мону Лизу. Что сделалось с ее лицом! Оно точно озарилось светом; глаза сияли… Потом, точно пробудившись от сна, она вздохнула, провела по лицу рукою и без слов пошла и села на свое место, сложила руки и приняла обычную позу.
Но дело было сделано — художник пробудил равнодушную статую: улыбка блаженства, медленно исчезая с ее лица, осталась в углах рта и трепетала, придавая лицу изумительное, загадочное и чуть лукавое выражение, как у человека, который узнал тайну и, бережно храня ее, не может сдержать торжество…
И Леонардо молча работал, боясь упустить этот момент, этот луч солнца, осветивший его скучную модель…
* * *
Может быть, художник полюбил жену банкира Джокондо — он так растягивал выполнение заказа! Но ведь он был занят огромной работой для Палаццо Веккио, и не мудрено, что писание портрета затянулось на годы. И все же такая медлительность мало свойственна работе над портретами. А искания художника? Но разве не безумие искать без конца какого-то особенного выражения?..
Да, он по-своему любил мону Лизу. Разве нельзя любить модель, как образ, как идею? Разве, нельзя искать в теме всё новые и новые раскрытия? Мало того, эта женщина как будто вошла в его жизнь и стала в ней радостью, украшением, как редкая прекрасная птица или цветок. Писать мону Лизу было для него наслаждением. Он не знал такого чувства, когда писал портрет Цецилии Галлерани. Потому, что то был портрет синьоры, искушенной жизнью светской дамы, которая, в сущности, всю жизнь позировала, всю жизнь играла роль… И это был портрет, а на изображение моны Лизы он не смотрит, как на простой портрет.
Шуты и жонглеры по-прежнему появлялись в мастерской Леонардо во время сеансов, но их часто отсылали домой, оставляя для развлечения моны Лизы одного только музыканта, а под музыку все чаще и чаще чарующая загадочная улыбка застывала на губах модели. В этой улыбке посторонний глаз не угадывал мечтаний…
О чем могла мечтать эта уже не девочка, а зрелая женщина, много лет прожившая в обстановке достатка и довольства с человеком, не знавшим мечтаний, не думавшим ни о чем, кроме наживы? Вряд ли кто мог бы догадаться, что в ее душу глубоко западали рассказы художника с наружностью мудреца, невольно притягивающего к себе. Гениальность Леонардо пронизала ее дремавший мозг и коснулась спящего сердца. Она слушала его голос, как музыку, слова — как откровение. Он дал впервые пищу ее любознательности, усыпленной обеспеченным и бездумным существованием. Ей захотелось больше знать, лучше понимать окружающее. Но может ли она что-либо сделать со своей прочно вошедшей в русло жизнью?
Однажды мессэр Леонардо рассказал ей другую сказку, сказку-правду о том, что лет пятьдесят назад в Вероне жили сестры Ногарола, которым их почти безграмотная мать дала возможность учиться, и они постигли премудрости тогдашнего образования: изучили латинский язык, читали древних поэтов и философов, хорошо знали Данте и Петрарку[50]. Одна из них, Изотта, наиболее даровитая, была прекрасным оратором и блестяще писала; полученными от нее письмами гордились многие высокообразованные люди страны. Изотта даже выступила с речью, обращенной к папе Пию II, в которой настаивала на необходимости крестового похода против турок.
Эта история Изотты Ногарола из Вероны долго не давала покоя моне Лизе. Изотта снилась ей, ей казалось, что она сама принимает ее образ… Но днем, в повседневной суете банкирского дома Джокондо, гасли, умирали эти мечты, и не было сил что-либо изменить, что-то сделать, найти новую жизнь; мечты, зародившиеся в странной, необычной обстановке мастерской великого художника, там и кончались.
* * *
Навещавшие иногда Леонардо художники и любители искусства видели «Джоконду» и приходили в восторг:
— Каким чародейским мастерством обладает мессэр Леонардо, изображая этот живой блеск, эту влажность глаз!
— Она точно дышит…
— Она сейчас засмеется…
— Какая у нее странная улыбка! Точно она думает о чем-то и не досказывает…
Кто-то заметил:
— За нее доскажет Леонардо…
Они говорили о глубоком знании Леонардо строения человеческого лица, благодаря которому ему удалось уловить эту неопределенную, как бы загадочную улыбку; говорили о выразительности отдельных частей картины и о пейзаже, небывалом спутнике портрета, толковали о естественности выражения, о простоте позы, о красоте рук.
— Ведь почти ощущаешь живую кожу этого прелестного лица… Кажется, что в углублении шеи можно видеть биение пульса…
Художник сделал еще небывалое: на картине изображен воздух, пронизанный влажными испарениями, он окутывает фигуру прозрачной дымкой… Живая мона Лиза, только притягивающая к себе чем-то непонятным, загадочным…
* * *
Несмотря на успех, Леонардо был мрачен. Он все чаще говорил ученикам, что пора собирать пожитки и готовиться к отъезду. Не помогали и напоминания о нахлынувших заказах, от которых теперь ему приходилось отбиваться. Положение во Флоренции казалось художнику тягостным.
Его, Леонардо, с виду горделивое спокойствие иной раз возмущало флорентийцев. Они не могли простить художнику его тяги к Милану, не могли простить и расположения к нему герцога Лодовико Сфорца. Они обвиняли Леонардо в отсутствии любви к родине, и он чувствовал себя на родине чужим, одиноким, затерянным. Душой он оставался в Милане, где его все же умели ценить, где он работал плодотворно, где создана была его «Тайная вечеря».
Но из Флоренции его не пускали принятые на себя обязательства. Он заключил два договора: с Синьорией на роспись стены в зале Большого совета и еще раньше — с попечительством церкви Санта-Аннунциата на картину «Святая Анна». И, несмотря на эти договоры, Леонардо решил покинуть Флоренцию.
Обе работы не были закончены. «Святой Анне» помешал договор с Синьорией, Синьории — увлечение картиной-портретом Джоконды, и обеим — тяга куда-то, в неведомое пространство, но дальше от стен негостеприимного, когда-то любимого им города. Необходимо только получить отпуск, отсрочку договоров.
В Синьории художник объяснил, что должен уехать, чтобы найти способ изготовления лучшего состава красок. Здесь, во Флоренции, у него не получается при его исследованиях необходимого состава. То, что у него под рукою, никуда не годится, краски будут тускнеть, фреска непременно станет трескаться и осыпаться. А он хочет добиться неувядаемой свежести. То же относится и к лаку, и к кистям: кисти для деталей работы во Флоренции недостаточно тонки. Все это он будет искать…
Легче было сговориться с монахами церкви Санта-Аннунциата, и в конце концов оба договора были продлены, и Леонардо собрался в дорогу. Он объявил, что пока берет собою Салаино, своего «сына», и Зороастро, а мастерскую оставляет на попечение остальных учеников.
6 Куда?
Исчез у дома, где жил Леонардо да Винчи, нарядный паланкин Джокондо; на кухне перестали чесать языки его носильщики, в мастерской у двери перестала дремать под звуки лютни старая нянька; исчез с мольберта портрет, с которого смотрело лицо моны Лизы, и Леонардо показалось, что с исчезновением всего этого ускользнул из его мастерской солнечный луч…
А была весна 1506 года, благодатная тосканская весна, когда распускается листва ее рощ и садов, когда цветут миндальные деревья и манят глаз крошечные ароматные фиалки… Но его не оживлял праздник природы, — Леонардо тосковал, бродя по берегу Арно и смотря, как суетятся около барж корабельщики, как снуют по реке рыбачьи лодки, а детвора бродит вдоль берега, шлепая по воде босыми ногами… Он тосковал, и не так, как вообще тоскует художник, чувствуя пустоту после оконченной работы, а тосковал в разлуке с образом моны Лизы, по ее удивительной, притягивающей улыбке, по одному из лучших своих созданий. В этой уравновешенной душе поселилось непривычное смятение.
Он уезжает… Но куда, в сущности, ехать? Конечно, в Милан.
В монастыре Мария делле Грацие «Тайная вечеря» сияла по-прежнему нетленной красотой. Там не забыли Леонардо.
И вот неожиданно Леонардо получил от французского наместника Шарля д'Амбуаза приглашение приехать в Милан для исполнения некоторых работ. Между прочим, он просил художника написать свой портрет.
Леонардо точно ожил. Снова увидеть город, где протекли его лучшие, плодотворные годы, где его помнили и любили!..
Перед отъездом ему вдруг стало жалко расстаться с Флоренцией. Вспомнились детство и юность, захотелось проститься с милыми сердцу местами.
Продавец красок, постоянный поставщик Леонардо, сидевший у порога лавки, с изумлением смотрел, как знаменитый художник входит в Баптистерий. Что ему там надо, этому безбожнику? О чем ему хлопотать — о крестинах или венчании?
А Леонардо своим неторопливым, четким шагом прошел внутрь старого здания. На него сразу пахнуло знакомым с детства запахом — смеси воска, ладана и застоявшегося воздуха. Особенно в ризнице его охватила атмосфера, пропитавшаяся запахом наваленных церковных книг, кадильни, старого священнического одеяния и всякой церковной утвари. Сторожу он сказал, что зашел узнать, когда в последний раз расписывался в церковных книгах его отец, нотариус. Получив в руку монету, сторож спокойно задремал на стуле в притворе.
Леонардо обошел все места, где играл в детстве, зашел даже туда, где был когда-то пустырь с сокровищами для ребенка — остатками мрамора для скульптурных работ, и увидел, что от развесистой пинии, на которой было гнездо дроздов, остались лишь одни корни; заглянул во двор, прилегающий к мастерской Вероккио; когда-то здесь он вел горячие беседы с Лоренцо Креди и Сандро Боттичелли. Вероккио давно умер, и на месте его мастерской была латинская школа. Надо было еще зайти для делового свидания в церковь Санта-Аннунциата. Хмуро встретил его здесь низкорослый, весь заросший черной бородою, подслеповатый фра Заккария, и всегда-то не отличавшийся разговорчивостью и приветливостью. Он молча указал Леонардо на картон «Святой Анны» и на раму, приготовленную для картины.
Леонардо пожал плечами.
— Когда же? — лаконично спросил монах.
— Как только устроюсь в Милане и отдохну от Флоренции, фра Заккария.
Голос художника звучал спокойно и твердо. Монах не стал возражать. Он только заметил:
— Мы заказали раму лучшему мастеру и торопили его. Он сделал в срок.
* * *
Пыль поднималась столбом из-под копыт взмыленных лошадей. Леонардо в сопровождении Салаино и Зороастро приближался к Милану. Но прежде решено было заехать на виллу Ваприо, к старому другу Джироламо Мельци. Особенно хотелось художнику видеть маленького Франческо.
Франческо вместе с отцом был в саду, когда слуга доложил о приезде гостей. Мельци и Франческо меньше всего ожидали увидеть теперь Леонардо, и Франческо чувствовал, что от радости у него выпрыгнет из груди сердце. Но каким, каким стал за эти годы мессэр Леонардо!
Перед Франческо стоял немолодой синьор в черном костюме ученого, с длинной шелковистой бородой и ясным взглядом спокойных голубых глаз, показавшихся мальчику холодными. И все же это он, он, о ком Франческо так часто мечтал…
— Мессэр… мессэр Леонардо…
Больше ничего не мог сказать Франческо от переполнивших его чувств. И милый, такой гармоничный голос ласково-спокойно зазвучал после первых приветствий, обращенных к синьору Мельци:
— Вот я и опять с тобою, мой Франческо. И я опять увижу Милан. Французы захотели, чтобы я снова вернулся на мою вторую родину, и Флоренция отпустила меня. А у вас все по-старому в саду, разве только что оливы поредели да ты, бедняга Джироламо, нельзя сказать что помолодел.
За веселым ужином начались бесконечные рассказы о пережитом. Мессэр Джироламо забыл все темное во время правления Моро и говорил с ненавистью о пришельцах-французах.
После ужина, когда все разошлись, кто-то робко постучал в дверь к Леонардо. Художник разбирал свои вещи и сказал, не оборачиваясь:
— Войдите…
Не слыша голоса вошедшего, он повернул голову:
— А, это ты, Франческо… еще не спишь?
В ответ ему прозвучал вопрос, произнесенный тихо, но твердо:
— Мессэр Леонардо, вы помните свое обещание? Вы возьмете меня в ученики, мессэр Леонардо? Я ведь теперь уже взрослый, но ваши слова врезались в мою память на всю жизнь. Я помню все, что вы мне говорили, и о том, что «надо понимать язык природы». Я много думал и как умел учился понимать природу… Я учился рисовать, вспоминая то, что видел у вас, учился и наблюдал природу — других учителей у меня не было…
Глаза юноши, полные мольбы, были обращены к художнику.
Леонардо ласково сказал:
— Покажи-ка мне, дорогой, свои рисунки.
Франческо притащил целую груду рисунков и чертежей. Они были сделаны неумело и неправильно, но в набросках пейзажа и отдельных зарисовках животных и растений Леонардо нашел проблески дарования.
— Хорошо, — решил Леонардо, — я возьму тебя в ученики, если согласится твой отец. А теперь иди спать, да и мне не мешает отдохнуть с дороги.
Джироламо Мельци охотно согласился на предложение Леонардо, и через несколько дней художник и трое его спутников отправились в Милан. Леонардо вез с собою небольшую картину — «Мадонна с веретеном». Младенец Иисус наступает ножкой на корзину с шерстью. Улыбаясь, хватает он веретено и, шаля, старается отнять его у матери. «Мадонна с веретеном» была написана во Флоренции, по заказу любимца Людовика XII, его статс-секретаря Роберта. Картина имела в Милане большой успех.
Леонардо забросали заказами, и художник принимал их, оттягивая свое возвращение во Флоренцию. Он отдыхал душою в Милане, особенно часто навещая гостеприимную виллу Ваприо.
А в Палаццо Веккио оставалась неоконченная фреска и в церкви Санта-Аннунциата — неначатый образ. Мастика в зале Большого совета трескалась; художник же и не думал о работе над улучшением состава красок.
Шарль д'Амбуаз, над портретом которого работал Леонардо, послал во Флоренцию письмо:
«Мы еще нуждаемся в Леонардо да Винчи для окончания работ, поэтому просим вас продолжить данный вышеуказанному Леонардо отпуск, чтобы он мог еще некоторое время остаться в Милане».
Это письмо рассердило канцлера республики синьора Содерини. Злые языки со всех сторон нашептывали ему о недостойном поведении Леонардо, работавшего не для Флоренции, а для «миланских мошенников», как называли флорентийцы миланцев. Синьор Содерини резко ответил в Милан:
«Леонардо поступил с республикой не так, как бы следовало. Он получил значительную сумму денег и только начал свое великое произведение. Он поистине поступил как изменник».
Это письмо вывело художника из обычного спокойствия, возмутило незаслуженным осуждением. Он изменник, изменник из-за того только, что просрочил отпуск!..
— Салаино, — сказал Леонардо ученику, сидящему за работой, — ступай-ка распорядись, чтобы мне был оседлан конь. Я сейчас же еду в Ваприо.
Из-за мольберта показалась кудрявая рыжая голова в новом красном берете. Он все так же, как девчонка, любил наряды. Лицо у Салаино было надутое. Он замечал, что учитель оказывает особенное внимание этому мальчишке Франческо, не умеющему еще как следует держать кисти. И он буркнул в ответ:
— Почему маэстро не прикажет идти к конюху Франческо?
Леонардо нахмурился:
— Потому что я хочу, чтобы пошел в конюшню синьор Джакомо де Капротис. Ему полезнее размять кости, в то время как Франческо Мельци будет учиться держать кисти.
Он и теперь, как прежде, называл Салаино его настоящим полным именем, когда был им недоволен.
Салаино сорвался с места и побежал исполнять приказание учителя, проглотив обиду.
Но, прежде чем вернулся Салаино, Франческо, оторвавшись от своего эскиза, подбежал к Леонардо:
— Что с вами, маэстро? Я слышу по голосу, что-то случилось…
— Дело простое, Франческо. Флоренции я нужен, и потому меня можно назвать изменником в бумаге из Синьории… Вот, читай… У меня в эту минуту нет денег, а надо отослать их немедленно. Поэтому я хочу ехать в Ваприо и просить их у твоего отца.
— О учитель, — горячо, заговорил Франческо, — вам нечего просить и нечего волноваться! Все, до последнего флорина, который я имею, принадлежит вам, как и моя жизнь. У меня есть деньги, которые мне подарил отец на мои забавы… Вы доставите мне счастье, если возьмете их и освободите себя от упреков и несправедливостей…
— Благодарю тебя, мальчик, я ими воспользуюсь, если мне понадобится, но сейчас мне нужны не только деньги, но и совет. Хочешь, поедем вместе?
И они отправились в Ваприо.
Франческо горячо любил учителя. Он не смел сказать ему, как ненавидит оскорбившего маэстро гонфалоньера Содерини, ненавидит до того, что готов убить его. Франческо ведь итальянец и сын своего века, а в эту эпоху месть в его стране считалась делом обычным. За честь мастера отвечали ученики. Самой ничтожной причины бывало достаточно, чтобы убить человека. И люди привыкли легко относиться к смерти. Никого не удивляло, если ночью на темных улицах города обнаруживали изуродованный труп…
Немало таких трупов вынесли мутные воды каналов Венеции, воды Арно, улицы Рима, Болоньи и Перуджи. Бездна реки Тибр навеки скрыла тайну коварного и жестокого Цезаря Борджиа, убившего своего родного брата, герцога Гандиа, и даже сам папа не мог доискаться в этом деле истины.
Губернатор Милана Тривульцио собственноручно покончил с несколькими мясниками только за то, что они отказались заплатить штраф.
В Ваприо Леонардо легко получил у Джироламо Мельци необходимую сумму денег и направил их во Флоренцию. Пристыженный Содерини отослал их обратно с письмом. В нем говорилось:
«Республика настолько богата, чтобы иметь возможность не отнимать денег у искусства».
7 На миланском перепутье
Леонардо не суждено было вернуться во Флоренцию.
У Людовика XII в Блуа[51] был пышный прием послов. Кругом трона в две шеренги выстроились рыцари и вельможи, ожидая очереди представиться его христианнейшему величеству. Король сделал знак флорентийскому послу Пандольфини.
— Ваши правители, — сказал король, — должны оказать мне услугу. Напишите им, что я желаю взять на службу их живописца мессэра Леонард Авинси, живущего теперь у меня в Милане. Я хочу заставить его работать для меня.
— Сочту для себя счастьем, — отвечал подобострастно Пандольфини, — передать желание вашего величества Флорентийской республике. Но, если позволите узнать, чем бы мог быть полезен наш Леонардо да Винчи?
— Я хочу, чтобы ваш Леонард Авинси написал мне несколько изображений мадонны, — сказал небрежно король, — вроде присланной им сюда для моего Роберта. Может быть, я закажу ему также и свой портрет.
И он тут же вручил Пандольфини собственноручное письмо к властям Флорентийской республики. Это было письмо, характерное для того времени, когда тираны и вельможи смотрели на художников, музыкантов, поэтов не как на свободных представителей искусства, а как на своих слуг, которые самой судьбою назначены для их увеселения, прославления сильных мира сего. И это письмо дышало смесью, восхищения и приказания.
«Любезнейшие и великие друзья! Так как нам весьма необходим художник Леонард Авинси, живописец из вашего города Флоренции, а потому, что нам необходимо заказать ему кое-какую работу, когда мы будем в Милане, что случится с божьей помощью очень скоро, мы вас просим так любезно, как только можем, чтобы вы постарались прислать нам означенного художника Леонардо и чтобы вы ему написали быть в Милане и не тронуться с места, ожидая, пока ему не закажем работу. Напишите ему, чтобы он ни за что не уезжал из этого города до нашего приезда, как я сказал вашему послу, прося написать вам, и вы нам доставите огромное удовольствие, сделав так. Дорогие и великие друзья, наш господь да хранит вас».
Флорентийская республика дорожила расположением французского короля, как своего могущественного союзника, а потому позволила остаться художнику «Авинси» в Милане, хотя, правда, и неохотно. Только страх перед Людовиком XII заставил Флоренцию уступить ему.
* * *
Старый замок миланских герцогов вызвал в памяти Леонардо вереницу воспоминаний. Здесь когда-то он пел и играл на лютне в виде серебряной лошадиной головы, а красавица Цецилия Галлерани увенчала его венком победителя состязания. Здесь видел он беспомощного герцога Джан-Галеаццо Сфорца; здесь же стоял гроб коварной герцогини Беатриче и обезумевший Моро, рыдая, проклинал жизнь, разлучившую его с подругой…
Теперь здесь новые владыки, и Леонардо должен работать для них.
Разносторонние таланты синьора «Авинси» хорошо были известны королю; он знал, что проведение каналов и вопросы земледелия живо занимают ум флорентийца, и по поручению Людовика XII Леонардо деятельно занялся этим делом: отыскивал удобные способы копать колодцы для орошения ломбардских лугов и пашен, устраивал шлюзы в канале святого Христофора. Им была создана целая система каналов, разносящих всюду плодородие и жизнь. В это же время он иллюстрировал и редактировал последнюю часть математического труда Луки Пачоли «О божественной пропорции».
Могучий ум Леонардо по-прежнему покорял миланцев. Король называл его своим «дорогим», «возлюбленным» и жаждал его общества. Шарль д'Амбуаз говорил о нем восторженно: «Я любил его по его произведениям, но когда я с ним познакомился лично, то убедился, что он еще более велик, чем его слава». Старый друг Пачоли не покидал художника, как бы войдя вместе со всеми учениками — Мельци, Салаино и вызванными из Флоренции Больтрафио и Марко д'Оджоно — в дружную семью, завершаемую преданным Зороастро.
В Милане творческое горение не оставляло Леонардо. Его давно интересовала тема древнего мифа о Леде, столь прекрасной, что она привлекла внимание самого бога Зевса, принявшего образ лебедя. Эту тему он с интересом разрабатывал и оставил много вариантов в рисунках.
Вернулся он и к теме «Святая Анна», картон которой остался в церкви Санта-Аннунциата во Флоренции, и создал теперь замечательное произведение. Эта картина увлекала всех его учеников, и некоторые из них приняли в ней участие, как и в другой его картине того же времени «Иоанн Креститель».
В «Святой Анне» художник развил свою старую тему «Мадонны в гроте». Он показывает здесь три поколения, связанных между собою: старшее — Анна, сохранившая, несмотря на годы, вечную юность души, выраженную в ее улыбке на неувядающем лице. Та же улыбка освещает и лицо Марии. Это настоящее и прошлое, под опекою которого будущее — младенец Иисус. Он играет с ягненком, и в этом по-своему проявляется живая связь человека с природой…
Картина заставляла задуматься. Одни видели в ней прекрасные образы святых и богочеловека с символом его заклания за грехи людей — ягненком; другие искали более философского объяснения — жизнеутверждающего, победного начала. Но все обращали внимание на улыбку Анны и Марии, свойственную кисти одного только Леонардо да Винчи и оставшуюся неуловимой для множества его подражателей.
Характерная улыбка проглядывает и в другой замечательной картине Леонардо тех же лет — в «Иоанне Крестителе».
Не было ли это некоторым отражением «Моны Лизы»?
* * *
Король назначил Леонардо пенсию, дал ему звание «королевского живописца» и разрешал несколько раз поездки во Флоренцию, хотя эти поездки не подвинули работ художника ни в Палаццо Веккио, ни в церкви Санта-Аннунциата.
В Милане снова было неспокойно. Преемник свирепого и распутного папы Александра VI, Юлий II, этот воинственный первосвященник, испугался влияния и могущества французского короля, союзником которого раньше был, и решил так или иначе изгнать его из Милана.
В 1511 году образовался обширный союз против французов. В нем приняли участие: Фердинанд Арагонский, Генрих VIII, император Максимилиан, Венеция и Швейцария. Французы не могли устоять перед этим объединенным врагом.
На горизонте Милана загоралось новое солнце: сын покойного Лодовико Моро, Максимилиан Сфорца, двинулся на родной город с двадцатью тысячами швейцарцев, разбил французов и завладел наследием своего рода. В Милане он нашел Леонардо да Винчи, у которого ребенком часто сиживал на коленях, слушая сказки и напевы серебряной затейной лютни.
Тогда это был полный сил молодой художник со стройной, гибкой фигурой искусного наездника; теперь — седой, величественный старец. Максимилиан мечтал, что вместе с Леонардо он закончит когда-то начатые проекты своего отца как для благоустройства Милана, так и для его украшения.
В мастерской Леонардо герцог Максимилиан увидел небольшую статуэтку, отлитую из бронзы, — обнаженный всадник, с трудом удерживающий могучего вздыбленного коня. Это была миниатюрная модель памятника маршалу Тривульцио, отлитая Леонардо с Зороастро в его собственной мастерской.
Замечательная работа горьким упреком отозвалась в сердце герцога: он вспомнил, как была безжалостно расстреляна французскими арбалетчиками другая гениальная работа Леонардо, на отливку которой, в увековечение памяти Сфорца, у Лодовико Моро никогда не было денег.
Он видел и рисунки, по которым предполагалось создать статую для надгробия Тривульцио. Их с гордостью показывали ему ученики художника.
Леонардо думал, что с возвращением Максимилиана Сфорца в Милан войне и смутам настанет конец, но он жестоко ошибся. Ломбардия изнемогала, разоренная постоянными набегами иноземцев. Их шайки убивали и грабили направо и налево. Миланцев охватило отчаяние; они бросали на произвол дома — ведь все равно враг не сегодня-завтра разграбит имущество побежденных. Незачем сеять хлеб, который будут топтать лошадиные копыта; незачем разводить скот — его все равно угонит неприятель, незачем запирать дверь, которую все равно выломает или подожжет враг.
* * *
Леонардо в его годы было уже не под силу подвергать свою жизнь новым переменам. Максимилиан то падал в борьбе, то поднимался. Пришлые швейцарцы расположились в Милане, как у себя дома.
Долго раздумывал художник о своем положении и наконец собрал всю свою семью у себя в студии, чтобы объявить окончательное решение.
— Дети, — заговорил Леонардо спокойно и значительно, когда все собрались, — нехорошо нам стало жить в Милане. Город служит больше для потехи пьяных солдат и грабителей, чем для мирных жителей. Какое дело разнузданной толпе до нашего искусства?
— Вот это правда, так правда! — подхватил Зороастро. — Какое им дело до нашего искусства, мастер!
— Как можем мы быть уверены, — продолжал Леонардо, — что наши картины, произведения нашего ума и сердца, не станут снова мишенью, как когда-то статуя Сфорца? Ведь повторяется то же, что и тогда, когда мы в первый раз покидали этот город. Что мы будем делать, друзья мои?
Ученики молчали.
— Ну, так скажу вам я. — Голос Леонардо звучал решительно. — Я уезжаю из Милана. Кто хочет следовать за мною? Ведь вы — моя семья.
Отовсюду раздались голоса:
— Разве я могу оставить своего учителя?
— И я!
— А я разве не решусь? Или я не ученик?
Это сказал Франческо.
Салаино тряхнул красными кудрями:
— Веселиться, горевать и голодать, как и помирать, можно везде, только не везде найдешь великого маэстро Леонардо да Винчи!
— Не будь я Одноглазый, — спокойно отозвался кузнец, — если не везде сено найдется для лошади. — Он не забывал любимую поговорку, перевертывая ее на все лады.
— Что я нынче — Капротис или Салаино, маэстро? — В голосе Салаино звучала лукавая веселость. — Я ведь предвидел, что придется отсюда дать тягу, и собрал все рисунки…
— Ты Салаино в квадрате, — засмеялся Леонардо, — а вот насчет Франческо надо бы узнать у его отца…
— Я поеду с вами всюду, — твердо проговорил Мельци. — Это давно уже решено, и отец не станет меня удерживать.
Леонардо был тронут.
— Я думаю, дети, теперь благоразумнее всего отправиться в Рим. Рим велик, и в нем найдется место всякому, кто хочет работать. А кстати, я получил оттуда приглашение. Джулио Медичи всегда любил меня, когда я еще жил в былое время во Флоренции при дворе Лоренцо. Тогда он был маленький мальчик. Он интересовался моими опытами и задавал мне немало вопросов о явлениях природы. Теперь он кардинал[52] и зовет меня в Рим.
После смерти воинственного и грозного папы Юлия II папский престол достался сыну Лоренцо Великолепного, Джованни Медичи, принявшему сан под именем Льва X. Это значило, что в Ватикане и Риме фамилия Медичи имела большой вес.
— Кардинал Джулио Медичи пишет, что папа будет выдавать мне пенсию в сто дукатов. Торопитесь, друзья, со сборами.
Начались торопливые сборы. Салаино следил, чтобы не оставить ничего из рисунков учителя. Ему попались листы карикатур — бесконечные наброски уродливых лиц с непропорциональными лбами и челюстями, большеголовых уродов, часто напоминающих каких-нибудь животных, и среди них — характерные, интересные лица. Ему понравились больше других два рисунка углем, закрепленные им же, Салаино, особым составом, чтобы не стерся уголь. Но то были не уроды. На одном листе широким размахом была изображена прекрасная голова старца Америго Веспуччи, на другом — безобразное молодое лицо с наглым взглядом огромных черных глаз, с плотоядно толстыми губами, обрамленное спутанными в беспорядке черными кудрями.
— А, Скарамуччо! — закричал весело Салаино. — Погоди же, тебя еще ждет виселица!
Это был Скарамуччо, цыганский атаман, вечно пьяный и разнузданный.
И Салаино бережно уложил обоих рядом в почетный ящик самых дорогих рисунков учителя.
8 Рим
Вот и двинулись целой кавалькадой в Рим. Слуги погоняли навьюченных мулов.
Миновали дикие ущелья Апеннинских гор и спустились в долину Нерви. Соракт блестел на солнце, как огромная глыба серебра, и Леонардо тихо продекламировал стихи латинского поэта Горация:
— «Взгляните, как белым сияющим снегом поднялся Соракт…»
Художник залюбовался величественным видом, но взглянул в сторону, и легкая тень скользнула по его лицу.
— Помнишь, Джованни, — сказал он ехавшему рядом Больтрафио, — помнишь Цезаря Борджиа? Вот мы и перед одним из его замков. Теперь уже этот некогда могущественный герцог Валентинуа не может распоряжаться в нем и наводить трепет на Италию. А как, как недавно еще это было и как грозно он начал! Такова судьба всего временного, случайного, судьба химеры…
На высоком лесистом холме среди полей, орошаемых Тибром, гордо возвышаются зубчатые башни замка Борджиа. Сколько злодейств еще недавно видели эти стены! По дороге встречалось немало пилигримов, идущих в Рим поклониться новому папе. Они были с ног до головы защищены сталью и крепкою кожей, вооружены рапирами, мечами и пищалями, у некоторых на шляпах зеленели сеточки дрока с красными цветочками, что отличало английских паломников; шляпы испанцев украшали раковины, так называемые «раковинки святого Иакова», их патрона. Некоторые изуверы в диком упоении хлестали себя по обнаженным спинам плетьми и пели громко «Аллилуйю».
Леонардо почувствовал прежний юношеский задор и желание подшутить над фанатиками. Вынув из походной сумки легкие фигурки различных животных, полые и надутые воздухом, он бросал их перед самоистязателями. Уродливые существа некоторое время держались в воздухе, а суеверные люди в ужасе пятились, творя крестное знамение. То были первые опыты с воздушными шарами.
Раз Леонардо подшутил над виноградарем, у которого остановился на ночлег. Салаино, любивший всякие проказы, помогал учителю. Вместе поймали они большую зеленую ящерицу и прикрепили к ней полые крылья с ртутью. Голову ящерицы тоже загримировали, прикрепив рога, большие круглые глаза-пуговки и бороду. Вышло необычайное чудовище.
— Точь-в-точь сам сатана, — хохотал Салаино. — Страшнее не придумаешь!
Но вот животное поползло… Ртуть двигалась в полых крыльях, и они, усаженные перьями, шевелились, шуршали и хлопали.
Виноградарь в ужасе кричал:
— О святая Мария, матерь божья!.. Не знаю, путник, кто ты — посланник неба или преисподней, но только молю тебя, отгони от нас эту нечистую силу!
И Леонардо отгонял от перепуганного хозяина «нечистую силу», делая вид, что шепчет волшебные заклинания.
Скоро путники достигли мрачной Кампаньи, покрытой сухою, побуревшею от солнца травой и тростником на низких, топких местах. Кое-где встречались чахлые леса вокруг болот с удушливыми вредными испарениями. По этой безотрадной пустыне нес свои мутные воды Тибр. Нигде не встречалось человеческого жилья; изредка попадались могильные памятники и полуразбитые колонны. Дикие буйволы, пасшиеся в этом царстве смерти, оглашали воздух неистовым ревом.
Но вот наконец и «Вечный город» — Рим. Вдали ясно вырисовывается на синем безоблачном небе одинокая могила Нерона, в то время уже — крепость Франджипани. Вот ясно видны красноватые стены города; вот приземистые башни замка святого Ангела — мрачное место, тюрьма, где томится столько невинных. На замке развевается знамя с вышитыми двумя ключами, так называемыми «ключами святого Петра», патрона Рима[53]. А вверху безбрежная высь неба блистает в вечернем сумраке бледно-золотыми искрами звезд…
* * *
Был канун торжественного выхода папы к народу. Глава католической церкви праздновал один из многочисленных семейных праздников рода Медичи. Рим был украшен цветочными арками и иллюминован; Тибр покрыт золочеными галерами с разноцветными флагами; на мосту возвышалась арка, украшенная копьями и серебряными трубами, переплетенными лавровыми ветвями. По улицам двигались процессии: кардиналы в красных одеждах, верхом на мулах, римская знать в золоченых доспехах, прелаты в пышных церковных одеждах, папская гвардия из дюжих швейцарцев, нарядно одетые пажи и слуги.
Трудно было пробраться сквозь толпу, сплошь заполнявшую улицы, сквозь пышную свиту иностранных послов со знаменами, на которых красовались гербы их государств, мимо герольдов с блестящими трубами. Запыленные пилигримы дерзко влились в эту расцвеченную всеми красками праздничную толпу, стараясь приблизиться к пышной фигуре прелата с белым знаменем…
Леонардо с семьею учеников держался окольных путей и остановился в первой попавшейся таверне, чтобы принести себя в порядок с дороги. Словоохотливый хозяин сейчас же посвятил его во все новости. Он говорил, наливая художнику стакан доброго вина:
— С тех пор как его святейшество вступил на престол, у нас не затихает веселье, и вина в городе идет куда больше, чем прежде. В Ватикане так шумно, как будто там вечный карнавал. Когда происходили выборы на престол первосвященника, будущего папу принесли из Флоренции на носилках с больными ногами, но теперь, слава богу, все прошло. Наш папа любит художников, музыкантов, поэтов… Всем им найдется теплое местечко в Ватикане. Но особенно любит его святейшество Рафаэля. Вы посмотрите только на святого отца завтра в полном облачении, когда он будет благословлять народ. Вот уж действительно есть на что поглядеть!
* * *
На другой день Леонардо отправился к Ватикану. Там уже собралась несметная толпа. Шум от восторженных оваций был оглушительным. Но вдруг толпа разом притихла. Взоры всех обратились в ту сторону, где появились золоченые носилки папы. Одежда папы поражала своею пышностью. Золотая тиара была усыпана драгоценными каменьями; в левой руке он держал золотые ключи святого Петра, правую протянул для благословения; на туфлях горел красный рубиновый крест. Пажи несли над ним золотой балдахин с тяжелой блестящей бахромою. Высоко над балдахином поднимались два опахала из белых страусовых перьев…
Леонардо рассмотрел толстое, дряблое лицо, большую голову с выпуклыми оловянными глазами, которые папа щурил, видимо, от близорукости; массивная фигура с огромным животом выдавала натуру изнеженную и пресыщенную. Таков был глава церкви, владыка Рима, пастырь католического стада.
В толпе мелькнуло знакомое лицо Джованантонио Бацци. Что-то Содома теперь думает про этого эпикурейца в рясе! И вспомнились острые карикатуры, которые приносил Бацци ему во Флоренции, позабавившие его в минуту печали. Вот они, овцы, пришедшие лобызать следы волков в папской тиаре…
Папа широко простер руку… Все присутствующие преклонили колени. Пробормотав наскоро благословение, он продолжал шествие дальше, по направлению к собору. Но собор не мог вместить громадной толпы, и двери были открыты настежь, чтобы те, кто стоял за папертью, на площади, могли хоть издали видеть торжество. Из храма слышались густые звуки большого, прекрасного органа и стройное пение… Ступени церкви, колонны, двери — все было украшено цветами…
Утром папа присутствовал в церкви; в полдень — на охоте, а вечером должен был почтить своим посещением могущественного римского банкира Агостино Киджи.
Леонардо интересовали эти превращения, и он провел весь день на улицах Рима, наблюдая за происходившим, видел, как в полдень Лев X выехал из Ватикана на белом коне, разукрашенном блестками, цветами и лентами. Его сопровождала большая кавалькада придворных; были здесь и дамы и шуты. Папу окружали псари, стремянные, сокольничьи, доезжачие, за ним несли охотничьих соколов…
* * *
Подвижной, везде поспевающий Содома нашел-таки на другой день в таверне Леонардо да Винчи. Его зоркий глаз запомнил два лица из тех, что он видел во Флоренции в мастерской у «великого учителя», как он называл Леонардо: одноглазого Зороастро и красивого рыжего Салаино — «яркие образы уродства и красоты». От них он и узнал о пребывании в Риме Леонардо и неожиданно чуть свет поднял его с постели. Он влетел, шумный и жизнерадостный, с беспечным смехом, как всегда, только на этот раз без обезьянки или какого-нибудь из своих питомцев, и закричал с порога:
— Имею счастье приветствовать великого маэстро в Риме и в такие дни, в такие дни, когда Рим перевернут вверх дном во славу флорентийского рода Медичи! Встретил на улице воскресших Аполлона и Вулкана и узнал от них о местопребывании великого учителя. И поверьте, маэстро, я не забыл вовремя сообщить о сем также самому приятному и самому доброжелательному из художников, любимцу богов и владык земли, Рафаэлю Санти! А это значит доложить самому папе! Будьте любезны, достоуважаемый великий маэстро, приготовьтесь: с минуты на минуту вас посетит посол его святейшества с приглашением явиться на прием в Ватикан…
Эта речь, которую без передышки выпалил Содома, привела в некоторое замешательство уравновешенного художника. Надо было приготовиться к приему и тщательно обдумать не только костюм, но и свой будущий разговор с папой.
Пока Леонардо одевался, Содома бесцеремонно уселся на скамейку возле кровати и без умолку говорил:
— Ах, мессэр Леонардо, великий учитель! До чего же я рад, что вы в Риме! Здесь можно и пожить весело и поработать. Но чем вы только подарите здесь мир? Здесь для вашего слуги Джованантонио из Верчели широкое поле для веселья, здесь богиня счастья дает мне не только развлекаться, но и богатеть. Вот и вчера… — Он говорил, захлебываясь от переполнявших его чувств: — Вчера я пробрался вечером на виллу мессэра Агостино Киджи, где папа пировал после охоты. Ведь нашему брату художнику на пирах у богачей всегда место. Я, знаете, краешком-краешком — ухо за столом у вельможи, ухо за столом в поварне… Зато все вижу и все знаю. Пока вы оденетесь и подкрепитесь добрым завтраком, я расскажу вам про этот пир. Я и не спрошу: угодно ли будет меня слушать?
— Угодно, угодно, — отвечали за Леонардо столпившиеся на пороге ученики.
Леонардо, улыбаясь, кивнул головою:
— Облегчи, сын мой, свою переполненную впечатлениями память. Начинай.
— Ох, что это был за пир! Наместник Христа на земле восседает за столом, убранным золотою и серебряною посудою. Воздух напоен благовонными курениями. Покои украшены прекрасными статуями богов и богинь древних ваятелей. Правда, изредка попадаются и изображения Христа и святых нашей единой католической церкви. Таково же, как вы увидите, убранство и в Ватикане. А за столом, ах, боги Олимпа мне свидетели, чего только там не было! Я видел еще, как проносили блюда, и знал, сколько поваров надрывались на поварне, а один сошел с ума и сидит в подвале за замком из-за того, что в блюдо соловьиных языков попал язык какой-то другой пичуги… Я, впрочем, немного перепутал спьяна, языки были попугаев — это еще хуже, чем перепутать пичугу с соловьем. Были на золотых блюдах и разукрашенные фазаны, и рыба, привезенная из Азии, и мудреные африканские фрукты, и пироги в виде башен и пирамид, с водопадами и всякой чепухой, придуманной нашими художниками, теми, кому не удавалось получить заказы на картины. Ох, разве все вспомнишь… А вин-то, вин! Все названия и не запомнишь, уж на что я не дурак выпить. И святой отец, и кардиналы все пили на славу и были веселы и довольны, особенно любимец святейшего отца — кардинал Бембо… Ох, уж этот веселый и приятный Бембо! До чего он всех смешил, расхваливая перед папою своего любимца Рафаэля! У него едва ворочался язык! — Он захохотал, вспоминая кругленького венецианца-кардинала. — И как он декламировал, запинаясь, стихи Петрарки об амуре: «Жестокосердный мальчик с луком в руке и со стрелами на бедре».
Леонардо, чтобы поддразнить Бацци, сказал:
— Что ты, сын мой! Приличествует ли папе слушать стихи о маленьком лукавом боге любви язычников?
— И еще как, видимо, приличествует, маэстро? Папа смеялся и грозил пальцем Рафаэлю, а этот красавец обнимал девушку, одетую в хитон, — ведь этот Адонис[54], сводящий с ума наших римлянок, и сам не пропустит ни одной красавицы, порядочный он гуляка!
Содома перевел дух и продолжал описание пира на вилле Агостино Киджи:
— За Бембо настала очередь папских придворных музыкантов Брандолино и Мороне, услаждавших его святейшество игрою на лютне. Римские красавицы сочиняли тут же стихи, смеялись, шутили, пели и веселились до упаду вместе со святыми отцами церкви. — Содома лукаво прищурился и напомнил осторожно Леонардо: — Маэстро помнит, может быть, благочестивые рисунки, принесенные мною ему во Флоренции?
Леонардо кивнул головою.
— Остается еще досказать о чудесном празднике у мессэра Агостино Киджи. Здесь были на одном конце стола и споры на отвлеченные темы. Святые отцы кардиналы могли блеснуть своими богословскими познаниями. Племянник папы кардинал Джованни Сальвиати, недовольный чересчур веселым характером праздника, старался повернуть его в другое русло и спрашивал: «Каким путем человек делается разумным? Каким путем в него вселяется разумная душа? Чем, наконец, он становится по смерти тела?» Тут, маэстро, поднялись нескончаемые споры, причем каждый старался выразиться как можно мудренее и щегольнуть латинскими цитатами. Но спор кончился, как только раздался томный и нежный голос красавицы мадонны Порции, жены брата хозяина, Джисмондо Киджи. Она пела прекрасную песню, которую я так люблю, маэстро: «Вы, милые духи, склонные к любви, хотите ли увидеть рай?» Потом появились обычные фокусники, шуты и забавники. Фокусник Пеллегрино в угоду святому отцу вертелся колесом с такою быстротою, что невозможно было уследить, как его ноги касаются земли; казалось, будто это молния мелькает в воздухе. Его святейшество изволил смеяться. Пеллегрино изгибался на маленьком столике так, будто у него вместо костей веревки. Уставив острие лезвия ножа и сабли, он ужом извивался между ними в пестром костюме паяца. Богобоязненные монахи решили, что тут дело не может обойтись без дьявольского наваждения. Папа был доволен. Он любит говорить: «Раз бог нас сделал папой, мы постараемся этим воспользоваться». Но что я хотел еще сказать: я слышал разговор между кардиналом Джулио Медичи и Рафаэлем о вас, маэстро, и из него узнал, что вам сегодня назначено быть на приеме в Ватикане. А, вы уже готовы, и вам принесли завтрак. Я рад, что успел все рассказать. Благодарю вас, я не в силах разделить вашу трапезу: видеть не могу еще ни вина, ни пищи после пира…
9 Та же история на новый лад
И вот Леонардо в Ватикане; в резиденции папы, дворце с бесчисленными дворами и покоями, пышностью и роскошью которых глава католической церкви хотел заткнуть за пояс самого могущественного короля. Кардинал Джулио Медичи представляет художника своему брату, папе Льву X. Он хорошо помнит этого приветливого ученого-художника при дворе своего отца, когда он, мальчиком, любил забираться к Леонардо в мастерскую и смотреть его опыты, казавшиеся ему чем-то вроде фокусов.
Папа принял Леонардо весьма благосклонно и, допустив приложиться к рубиновому кресту на своей туфле, что было обязательно, поднял его и поцеловал.
— Ты будешь нам полезен, — сказал он своим вкрадчивым тоном, — ведь ты и великий ученый и великий художник, а у нас в почете и то и другое. Вот Браманте, мой бедный славный архитектор, становится слаб здоровьем и просит назначить ему помощников для сооружения храма святого Петра, а Микеланджело теперь в Карраре[55] на ломках мрамора для нового фасада церкви Сан-Лоренцо во Флоренции. Ты флорентиец и знаешь, как мы дорожим нашим фамильным склепом. У нас остается только один наш Рафаэль. Работай у нас во славу божию, Италии, папского престола и твою собственную. Когда ты будешь нам нужен, мы призовем тебя. А пока живи и прими наше милостивое благословение.
Опять преклонение колен, благостно протянутая пухлая рука, украшенная перстнями, и Леонардо свободен.
* * *
Отпущенный пока папою, Леонардо устроился с помещением для себя и своей семьи и целиком отдался любимым работам: науке и искусству. Никогда еще, кажется, не сочетались так гармонически оба эти направления в его работе. Занимаясь, например, анатомией, изучая человеческое тело как ученый, он восхищается совершенством пропорций, красотою формы, как в ботанике восторгается раскраской и причудливостью цветов. В природе он видит «учительницу учителей», требующую вечного изучения, обладающую необъятной мощью. Он безгранично любит жизнь во всех ее проявлениях и говорит в своих записях:
«Подумай же, как бесконечно ужасно отнимать жизнь у человека, строение которого представляется тебе столь изумительным. Не желай же, чтобы гнев твой или злоба разрушали такую жизнь, ибо тот, кто ее не уважает, не заслуживает ее».
Но он и предостерегал художников от чрезмерного увлечения анатомией:
«О, живописец-анатом, поберегись, чтобы слишком большое знание костей, связок и мускулов не было для тебя причиной стать деревянным живописцем при желании показать на своих обнаженных фигурах все их чувства».
И он советует художникам уделять больше внимания изучению жестов и мимики:
«Делай фигуры с такими жестами, которые достаточно показывали бы, что творится в душе фигуры, иначе твое искусство не будет достойно похвалы».
Он придает особое значение, изучению пропорций и, останавливаясь на существе творчества художника и предостерегая его от подражания, требует, «чтобы в произведение не попало ничего такого, что не было бы как следует обсуждено в соответствии с разумом и явлениями природы».
Что касается композиции, то живописец, который не владеет ею, «подобен оратору, который не умеет пользоваться своими словами».
«Не делай мускулов резко очерченными, — говорит он неопытным художникам, — но пусть мягкие света неощутимо переходят в приятные и очаровательные тени; этим обусловливается прелесть и красота».
Живопись Леонардо ценил особенно высоко за ее наглядность и достоверность, считал ее такою же дочерью природы и опыта, как наука. Он делал, как в науке опыты, в живописи — зарисовки, этюды; рисовал пейзажи, головы, руки, ноги, отдельные предметы, драпировки и оставил обширное сочинение о живописи и множество рисунков, сделанных пером, серебряным штифтом, сангиной или итальянским карандашом[56]. Рисунки эти замечательны и отличаются огромным разнообразием.
…Папа как будто заинтересовался научными опытами Леонардо да Винчи, а может быть, не столько самими опытами и их научной стороной, сколько возможностью их применения для всяких причудливых забав и выдумок, на которые был щедр разносторонний гений Леонардо; впрочем, под покровом «причуд» Леонардо нередко таились глубокие идеи.
Век Льва X порою называли. «золотым веком» науки и искусства, но, в сущности, это неверное определение. При Льве X, правда, особенно подвинулись изыскания древностей. Рафаэль, например, руководил большими раскопками в катакомбах древнего Рима, открывая памятники глубокой старины. Но наука не пользовалась особенным почетом при папском дворе, как не пользовалась когда-то и в Милане — при герцогском. Даже особенно поощряемая папой поэзия была искусственной и бедной. Ее губило слепое подражание древним образцам. Тот, кто лучше подражал латинским поэтам, считался великим стихотворцем, «любимцем бога Аполлона». Но таким подражанием достигалась только правильность языка и убивалась душа, свободный полет мысли.
Предшественник Льва X, Юлий II, поднял значение майской власти на небывалую высоту и затмил своим величием королевские престолы. Папы сделались сильными светскими владыками.
Папы могли не только разрешать грехи, впускать в рай и ввергать в ад живых и мертвых, но были грозными владыками, покорявшими мечом города и села.
И строгий Юлий II, требуя от кардиналов чистоты жизни, благочестия и святости, сам давал немало поводов и оснований для своего осуждения.
Не таков был Лев X. Страсть к наслаждению составляла его сущность. Он смотрел сквозь пальцы на злоупотребления подчиненного ему духовенства, раз оно ему лично угождало; в Ватикане царило взяточничество: папа допускал продажу церковных должностей, от места священника до кардинальской шапки.
Благодаря прежним связям он очутился на папском престоле как бы в плену у своих родственников, близких и дальних, требовавших у него выгодных мест и денег. И тогда правдою и неправдою выдвигались всюду папские родственники и любимцы. Льву X, сыну и наследнику расточительного Лоренцо Великолепного, нужны были огромные суммы.
И вот под предлогом недостатка средств для постройки храма святого Петра папа разрешил продажу индульгенций — грамот об отпущении грехов.
Папа вступил на опасный путь. Грехи стали предметом торговли — на них была особая такса. Разгоралась алчность духовенства, оно всячески изощрялось в извлечении доходов.
* * *
Рим был опасным местом для человека искусства. Нигде в Италии не было тогда такой вражды партий и такой зависти, как около папского престола. Здесь была группа людей, имевших преимущественное влияние на его святейшество. Одним из таких любимцев был Браманте. Лев X называл его своим лучшим другом и советником. Браманте любил Рафаэля, но враждовал с другим гением — Микеланджело, а Микеланджело не любил Леонардо да Винчи. Другой любимец папы, юный Рафаэль, преклонялся перед Леонардо, но, по своей мягкой натуре, едва ли смог упрочить положение в Ватикане чуждого здесь всем художника.
Резко враждебно встретил Микеланджело своего товарища и соперника по росписи в Палаццо Веккио, когда в первый раз столкнулся с ним в Ватикане.
— Мини, — сказал он бывшему около него ученику, — посмотри: вон идет миланский лютнист. Ему нечего делать в Милане, с тех пор как оттуда изгнали его покровителей — французов. Как удобно иметь такую растяжимую душу!
Микеланджело говорил негромко, но слова его долетели до Леонардо. На портике перед дворцом было особенно тихо в эту пору: когда папа почивал, в Ватикане замирала жизнь.
Леонардо спокойно прошел мимо говоривших, как будто ничего не слышал.
С этих пор Микеланджело не переставал везде открыто упрекать Леонардо за дружбу с французами, грабителями Милана. Леонардо высоко ставил художественный талант Микеланджело Буонарроти, и ему были тяжелы его обвинения.
— Он везде приспособится, этот ловкий Леонардо, — говорил Микеланджело, — он и здесь готов играть роль шута, забавляя папу игрушками.
Нелепые слухи о его дружбе с французами, распространявшиеся в Риме, создавали Леонардо много врагов. Рафаэль сожалел об этом, но заступиться за него не сумел, и Леонардо оставался одинок в стане врагов, интригующих против него. К тому же он был уже стар; силы оставляли его. Наплыв в Рим флорентийцев породил по отношению к ним пренебрежительную кличку «флорентийская нация», и это тоже неприятно задевало Леонардо.
…Леонардо усиленно работал над изобретением особенно прочной краски, зная, как потрескалась, потемнела и даже покрылась кое-где плесенью в Милане его «Тайная вечеря», и постоянно делал пробы нового лака.
Все ученики должны были принимать участие в варке этой мастики-лака, задыхаясь от чада, копоти, вредных паров. У него созревал замысел большой работы для папы.
А папа торопил художника и изводил его своими напоминаниями. Наконец Леонардо это надоело, он сказал папскому посланному, мессэру Бальдассаре Турини, с необычайной резкостью:
— Я брошу совсем кисть и уеду из Рима.
— Но ради бога, — вскричал мессэр Бальдассаре, — высокочтимый, любезнейший, великий маэстро! Разве вы хотите, чтобы вашему покорному слуге была заказана дорога в Ватикан? Сделайте что-нибудь для его святейшества, хоть маленькую, самую маленькую мадонну.
И, складывая руки, как на молитву, синьор Бальдассаре делал такое лицо, какое бывает у плачущих детей.
Однажды Бальдассаре нашел художника погруженным в какие-то химические опыты.
Леонардо сказал:
— Я попрошу вас, мессэре, подождать, пока я доведу эту жидкость до кипения; я не могу отойти от колбы.
— Но что же вы делаете? — спросил Турини, боявшийся химических опытов, как действия нечистой силы.
— Из различных трав я стараюсь получить лак, более чистый и наименее вредный для красок. Масляные краски имеют свойство при высыхании изменять цвет и трескаться.
Он говорил размеренно, спокойно, объясняя свойства хороших красок и искусство их приготовления.
— А картина? — спросил наконец Турини.
— Будет вам и картина, но, чтобы написать произведение для его святейшества, надо торопиться медленно. Поспешность часто губит дело.
Турини донес обо всем папе, и Лев X, потеряв терпение, гневно закричал:
— Вот человек, от которого мы никогда не добьемся толку!
* * *
«Скульптура — механическое искусство, — говорил Леонардо, — работа скульптора — чисто ручная и требует по преимуществу физического усилия».
В дневниках он развивал свою мысль, доказывая всю трудность, тонкость работы живописца — игры света и тени, бесконечных капризных линий, доказывая все это спокойно, с достоинством.
Не так рассуждал Микеланджело. Отдавая предпочтение скульптуре, он в конце концов говорил, что оба искусства равны, но кончал желчным, несправедливым выпадом по адресу Леонардо:
«Я скажу еще, что автор, который вздумал дать живописи преимущество, ровно ничего не смыслит в этом деле. Моя служанка лучше бы могла решить этот вопрос, если бы вмешалась в спор».
Он не переставал преследовать насмешками Леонардо за его службу Людовику XII.
Папа мало-помалу отдалял от себя художника, которого встретил так радостно. В конце концов он не нашел ничего лучшего, как поручить ему монетное дело, и Леонардо должен был посвятить все свое время механизму для штамповки медалей и монет.
Но и тут ему пришлось терпеть мелкие обиды при столкновениях со ставленниками папы, которые, почуяв, что Леонардо впадает в немилость у его святейшества, старались всячески мешать одному из представителей навязчивой «флорентийской нации».
* * *
Все это должно было разразиться, естественно, какой-нибудь катастрофой. Так и случилось.
Раз Леонардо сидел в своей лаборатории за чертежами машины для скорейшего выбивания монеты. У него было плохое настроение: он хотел послать за материалом помощника, данного ему кардиналом Джулио, немца Георга, но тот ушел давно и все не возвращался. В сущности, так было почти ежедневно, и Леонардо отлично знал, что плут расхаживает теперь с папскими швейцарцами, стреляя птиц, играя в кости, делая тысячи глупостей. Часто Георг возвращался поздно ночью, полупьяный, и Леонардо знал, что лентяй пьет на его деньги, ловко выкраденные из кошелька хозяина.
Послышался шум в соседней комнате.
— Георг! — позвал Леонардо.
Ответа не последовало.
— Георг! Джорджо! Негодяй!
Отворив дверь в соседнюю комнату, Леонардо убедился, что она пуста. Он стоял некоторое время в раздумье. Вдруг под окном послышался смех и дерзкий голос произнес:
— Добрый вечер, синьор монетчик его святейшества, мессэр Леонардо!
Перед художником стоял товарищ Георга, немец Иоганн Зеркальщик. Он ни с того ни с сего вообразил, что Леонардо лишил его расположения Джулио Медичи, и старался за это всячески ему повредить.
Опираясь на руку Зеркальщика, нахально крутившего ус, стоял Георг. Он был совсем пьян.
— Мы пришли за вещами Георга, мессэре, — заявил Иоганн, — довольно уже ему здесь толочь воду в ступе, да-а…
Леонардо не удивился — он привык к выходкам Георга.
— Пусть их забирает, — сказал он. — Сегодня он думает уйти? Собирай вещи да проваливай поскорее, помощник монетчика его святейшества.
Георг был искусным работником, и художник сначала полюбил его, но вечные отлучки, мелкие кражи вместе с подстрекательством Зеркальщика до того ему надоели, что он был рад избавиться от немца.
Зеркальщик, нагло насвистывая уличную песенку, помогал приятелю собирать вещи и, взвалив их потом на плечи и не сказав ни слова, зашагал с ними по улице. Пьяный Георг тащился следом.
Леонардо обошел помещение, где вместе с Зороастро жил Георг, и заметил, что в одном из ларей, где у него хранились модели машин, испорчен замок. Внезапно он понял все: негодяй Иоганн подговорил глупого Георга украсть модели и переслать их в Германию, чтобы там воспользоваться его изобретениями. К счастью, это ему не удалось: Леонардо случайно убрал накануне все из этого ларя.
* * *
Скоро Леонардо убедился, что Зеркальщик продолжает вредить ему.
Художник и в Риме, несмотря на другие занятия, изучал анатомию и работал над препарированием трупов, которые доставляла ему городская стража, нередко находившая их утром в глухих углах Рима. Он также занимался в госпитале святого Петра, тайно от всех. Но эта тайна не укрылась от Георга, а от Георга стала известна Иоганну. Они подсмотрели, когда художник с тусклым фонариком пробирался к госпиталю. В следующую ночь Иоганн взял с собою одного из папских гвардейцев и притаился с ним за углом соседней с госпиталем церкви Санта-Мария делле Транспонтина. Когда неподалеку мелькнул слабый огонек знакомого фонаря, Иоганн прошептал:
— Вот он идет резать мертвецов. Смотри не пропусти ничего мимо ушей и глаз. Ему нужна человечина для его снадобий, особенно сердца детей. Ведь он колдун и безбожник. Никто из живущих не видел, чтобы он шел к исповеди или кропил святой водою дом. У него и в помине нет, чтобы позвать к себе святых падре из приходской церкви и попросить отслужить молебен, а от мессы[57], если ему про нее намекнуть, он весь корчится. Он готовит зелье, чтобы извести его святейшество…
У несчастного гвардейца, который к тому же вместе с Зеркальщиком хватил в таверне через край, не попадал зуб на зуб и он твердил в ужасе:
— О матерь божья! О святой Зиновий!
— А души усопших, — продолжал нашептывать Иоганн, — бродят, отыскивая свои сердца. Говорят, этот безбожник заставляет мертвецов шевелить руками и ногами и даже учит их плясать.
Он говорил о том, как художник сгибал и разгибал руки и ноги покойников, наблюдая механизм действия сухожилия и мускулов.
От ужаса гвардеец сперва заорал благим матом и затем грохнулся в канаву, где и заснул богатырским сном.
Наутро, проспавшись, он доложил по начальству, что безбожник Леонардо да Винчи, состоявший прежде на службе у проклятых французов, вынимает сердца у покойников для страшного преступления.
— Проклятый еретик… Ох, страшно вымолвить, я сам видел, как он варил похлебку из человеческого жира, будто для закрепления краски, чтобы писать святые иконы… А Иоганн Зеркальщик видел, как у него плясали мертвецы…
Начальник папской стражи нашел возможным, чтобы гвардеец повторил свои басни самому его святейшеству. И, когда на коленях, дрожа и плача, тот бормотал свой вздор, Лев X все выслушал, поник головою, задумался и отвечал со своею тонкою улыбкой:
— Поди, друг, довольно…
Конечно, папа ни на одну минуту не поверил нелепой сказке о мертвецах — он отлично знал о занятиях художников и ученых, в том числе и Леонардо, препарированием трупов, но церковь, церковь, все эти рясы, белые, черные, фиолетовые и красные, где суеверие свило себе прочное гнездо… Нехорошо уже то, что Леонардо подал повод к глупым сплетням в Риме.
Нелепая сказка была подхвачена кумушками и разглашена. Рим заговорил о колдовстве Леонардо да Винчи. Настоятель госпиталя не на шутку струсил и запретил художнику работать у него над трупами умерших больных.
Тяжелым ударом для Леонардо была неожиданная смерть Зороастро, которого он очень любил. Зороастро умер в схватке со Скарамуччо, который, напившись, похвалялся в таверне, что флорентиец рисовал его в Милане и когда рисовал, то заодно показал, как варит из человечьих сердец колдовское зелье.
Защищая репутацию хозяина, Зороастро бросился на Скарамуччо со своими увесистыми кулаками и упал, смертельно раненный ножом.
Его место у Леонардо занял ученик Вилланис, здоровый, сильный, знающий кузнечное дело.
Положение художника в Риме сделалось невыносимым. А тут еще единственный покровитель его, кардинал Джулио Медичи, покинул на продолжительный срок «вечный город».
10 Король и папа
Король Франциск I, наследовавший престол после Людвика XII, не переставал жалеть о том, что Милан не принадлежит больше Франции. Он считал это герцогство своей неотъемлемой собственностью, незаконно отнятой у него папою и Максимилианом Сфорца. Но вот Венеция и Генуя снова привлекли его в Италию. Он перешел Альпы, окруженный штатом из влиятельнейших людей страны. Тогда короли не имели постоянной резиденции и разъезжали по стране с многочисленной блестящей свитой.
Около Франциска I толпилась знать, стремившаяся попасть ко двору, блеск которого заставлял ее покидать прадедовские замки. Глаза всех были устремлены на короля; всякий чувствовал свою зависимость от его расположения даже в своих частных делах, тем более что от короля в любую минуту можно было ждать наград и отличий.
Франциском I была одержана победа над Миланом, Пармой и Пьяченцей. Он победил и папу Льва X. Битва была кровопролитная. На поле брани осталось шестнадцать тысяч убитыми и ранеными. Король, проходя мимо груды изуродованных тел, воскликнул:
— Великий боже! Как тяжело, как скорбно видеть, сколько погибло храбрых, славных людей!
Попав в Милан, Франциск, подобно своему предшественнику, захотел самым тщательным образом осмотреть город.
Прежде всего он посетил монастырь Мария делле Грацие, где увидел «Тайную вечерю». И, подобно Людовику, Франциско сказал:
— Я хочу, чтобы эта картина была на моей родине, хотя бы для этого пришлось перевезти всю церковь. Подумайте хорошенько над способами перевозки, а я не поскуплюсь на издержки.
Архитекторы и инженеры не спали ночей над решением этой задачи и не могли ничего придумать.
— Всехристианнейший король, — доложили Франциску, — стену и церковь перевезти невозможно.
— Невозможно! Но если невозможно увезти картину, то я возьму с собою художника. Он напишет мне другие, столь же гениальные произведения — ведь он все еще значится художником французского короля. Слушай, — обратился он к своему секретарю, — ты сейчас же отправишь письмо мессэру Леонардо да Винчи с выражением нашей благосклонности и непременным желанием видеть его в Милане.
Но Леонардо и сам рвался из Рима и до получения королевского приглашения уже собирался покинуть «вечный город» в сопровождении Мельци и Вилланиса. С остальными учениками он расстался: некоторые захотели открыть собственные мастерские, Больтрафио, выказавшего большой талант и опытность, Леонардо сам уговорил работать самостоятельно.
Встреча с королем была назначена в Павии.
Лишь только художник ступил на землю Павии, к нему явились выборные от городских властей. Униженно кланяясь, эти синьоры просили мессэра Леонардо поскорее придумать что-либо для устраиваемого городом в честь короля праздника.
Он в первый раз видел Франциска, и король произвел на него впечатление осанкой, звучным голосом, величественными жестами.
Леонардо недаром, впервые увидев Франциска, сделал зарисовку львиной головы в своей записной книжке. Эта зарисовка вскоре пригодилась ему для выполнения королевского — заказа к торжественному празднику явления нового властелина народу.
Едва король появился на площади, как к нему подошел лев-автомат; двигаясь медленно и важно, он раскрыл свое сердце, из которого к ногам Франциска упал букет белых лилий — цветов, входивших в герб французских королей.
Выдумка художника произвела эффект. Король довольно улыбался. Леонардо стоял перед ним в своем черном одеянии, с длинными седыми волосами, придававшими ему вид патриарха, и смотрел на него пытливо ясными голубыми глазами. И под влиянием этого мудрого взгляда Франциск, может быть первый из государей, не решился обратиться к художнику на «ты».
— Мессэр Леонардо, — обратился он к художнику почтительно, — надеюсь, что вы будете сопровождать меня в Болонью?
Леонардо не выразил ни изумления, ни радости.
— Если будет угодно вашему величеству, — отвечал он равнодушным тоном, кланяясь королю.
Леонардо должен был отправиться вместе с французским королевским двором в Болонью, куда ждали Льва X для переговоров о мире.
Снова увидел Леонардо изнеженную, дряблую фигуру римского первосвященника. Но теперь это не был посылавший гром и молнии владыка, сыпавший проклятия и дававший отпущение грехов. Смиренный, заискивающий, смотрел он на французского короля, которого ненавидел, боялся и от которого ждал милостей.
Как недоставало среди карикатур, когда-то очутившихся в руках Леонардо, такой, которая бы отразила этот новый момент в жизни наместника Христа на земле!..
Франциск знал, какую незначительную роль играл Леонардо при папском дворе, и, желая уколоть Льва X, нарочно обратился особенно почтительно к Леонардо:
— Любезнейший мессэр Леонардо, великий маэстро… Я хочу особенно горячо поблагодарить его святейшество за то, что он осчастливил меня вашим присутствием…
Сколько было в этом обращении едкой насмешки! И эта подчеркнутая почтительность к художнику, которого он назвал «великим маэстро», и эта благодарность покоренному от покорителя, перед которым трепетала вся Италия!
Папа, улыбаясь, отвечал в тон Франциску:
— Я весьма счастлив, что наш друг христианнейший король находит удовольствие в обществе этого почтеннейшего из всех художников Италии. Я всегда любил его, как сына.
И лукавый взгляд мягко, почти любовно остановился на Леонардо, которого он еще так недавно низвел до службы на монетном дворе.
— Я не забываю милостей его святейшества, — прозвучал голос художника с легким оттенком иронии.
Лев X слегка покраснел, закусив губу.
Леонардо изучал лицо папы, стараясь запечатлеть в памяти то жалкое и в то же время злое, что было в этом мягком, дряблом лице, в близоруких выпуклых глазах и заискивающей улыбке, в этой любезности затаенного бешенства. И рука его незаметно занесла в записную книжку несколько смелых штрихов. Франциск, улыбаясь, следил за рукою художника.
Когда кончилась аудиенция и Лев X удалился, король весело сказал:
— Мессэр Леонардо, а ну, познакомьте нас со святым отцом, наместником Христа, в образе просителя. Уверен, что вы не упустили такого благодарного случая.
Леонардо молча раскрыл записную книжку. Франциск долго смотрел на листы, испещренные рисунками. Перед ним появился смело нарисованный набросок, образ уродливый, отталкивающий и в то же время притягивающий своим уродством. В записной книжке папа фигурировал в разных позах, очевидно, как результат неоднократных наблюдений. Были тонко подмечены самые различные душевные проявления этого человека в пышной одежде и тиаре. В одном месте был изображен ханжа, поднимающий к небу сладенькие глазки; в другом — съежившийся и перепуганный человек, подбирающий рясу; в третьем — мягкие черты приобрели неестественную жесткость из-за злобно сощуренных глаз. Франциск залился громким смехом.
Король скоро уехал во Францию, в Амбуаз. Леонардо некоторое время погостил у Джироламо Мельци на вилле Ваприо и последовал в Амбуаз, согласно королевскому приглашению.
Если бы был жив бедняга Зороастро, он, наверно, сказал бы:
«Авось и на французской земле для лошади будет достаточно сена…»
11 Франция
Амбуаз прилегал к болотистой, нездоровой местности, бедной и печальной, но в нем жилось очень весело, по крайней мере в королевском дворце. Король и супруга его, королева Клод, были окружены пышным двором; одних лошадей насчитывалось при дворе около восемнадцати тысяч. Король любил веселиться, а вместе с ним веселились и все окружающие.
В Амбуазе Леонардо встретили как дорогого, желанного гостя. Всем было известно, как высоко чтит король флорентийского художника; из уст в уста передавался слух, что его величество отнесся к художнику необычно милостиво. Придворным после этого все казалось во флорентийце обаятельным: и его мягкая, неспешная речь, и холодный сосредоточенный взгляд, и простое, изящное, хотя и чуждое французскому вкусу платье. Он был уже старик, но обращал на себя внимание в толпе молодых своим благородным, величественным видом. И молодые дворяне стали перенимать у Леонардо да Винчи не только привычки, манеры, речь, но и самую одежду старинного флорентийского покроя. Так Леонардо переменил в Амбуазе моду; портные были завалены заказами на розовые и темно-красные плащи с прямыми складками — «плащи синьора Леонардо да Винчи, королевского живописца».
«Ах, этот великий художник похож на Юпитера!» — говорили томно придворные дамы, а кавалеры, чтобы заслужить их благосклонность, подражали медлительной походке Леонардо, его осанке, прическе, даже пробовали отпускать длинные бороды…
Леонардо все видел, все замечал и смеялся от души.
— Смотри, Франческо, — говорил он Мельци, — а что, если я шутки ради начну делать глупости, одну хуже другой? Увидишь тогда, как эти придворные куклы станут из кожи лезть, чтобы мне подражать. Вот будет потеха! Но что скажут обладательницы их сердец? Неужели они и тогда найдут повод для восхищения?
Король назначил Леонардо пенсию в сто золотых экю и подарил ему маленький замок Клу. Здесь Леонардо должен был доживать последние годы своей жизни. Старость подкралась незаметно и овладела им решительно и крепко, поразив физической слабостью и недугами.
Напрасно король ждал от художника новых произведений; казалось, Леонардо оставил все свое вдохновение за Альпами, в той благодатной стране, которую не переставал любить и по которой тосковал, несмотря на все перенесенные там невзгоды… Как мало осталось у него сил для Франции, привязанностью к которой его несправедливо упрекали соотечественники! Эти творческие силы он отдал главным образом Милану, второй своей родине.
Но он не оставался в Амбуазе праздным. Король хотел, чтобы французский двор служил образцом изящного вкуса и образованности для других европейских государств. Леонардо был у него и ахитектором, и живописцем, и декоратором, и механиком. Без указаний флорентийца не обходилось ни одно торжество, начиная от крещения дофина — королевского сына — и кончая бракосочетанием Лоренцо Медичи, герцога Урбинского, с дочерью одного из родственников короля, герцога Бурбонского. На этой свадьбе был устроен блестящий маскарад и турнир с осадой сооруженной из дерева крепости. Осада длилась целых шесть недель, и во время нее на земле осталось немало убитых и затоптанных лошадьми.
Франциск I очень любил подобные увеселения, не обходящиеся без человеческих жертв, что было тогда не в диковинку, любил он и всякие физические упражнения, развивающие силу и ловкость. И сам он был силен и ловок. Надолго врезались в память Леонардо и его учеников эти увеселения — турниры, наследие средневековья, и пышные охоты…
* * *
Эта шумная жизнь в Амбуазе тяготила Леонардо. Он чувствовал, что у него не остается сил на что-нибудь серьезное. И вдруг паралич отнял у него правую руку…
Все более грустным становилось существование старого художника. Сидя у окна своей мастерской в Клу, он часто целыми часами молча смотрел на живописную долину, на ряды тополей и яркую зелень виноградников. Зимою за окном выл ветер; холодный туман окутывал белою пеленою поля, деревья, виноградники, погребая жизнь и радость. Густой белый туман ложился на землю, как саван…
В такие часы около художника старался быть Франческо, как молчаливая тень, не нарушающая его раздумья.
Вилланис хлопотал по дому и помогал Матюрине, нанятой здесь служанке-француженке, а Мельци оставался с учителем. Он больше других понимал его и тогда, когда он работал кистью, и тогда, когда предавался философским размышлениям. Леонардо научил его любить и понимать Данте, Петрарку и Боккаччо[58]. И, когда Франческо читал новеллы Боккаччо, так ярко обнажающие ханжество попов и монахов, Леонардо жалел, что ученик не видел карикатур, которые приносил ему во Флоренции Содома. Особенно после того, как Франческо однажды сказал:
— А что, маэстро, надо сказать, здесь, во Франции, легче жить тем, кто не так хорошо помнит все обязательные церковные службы и забывает, какой день посвящен какому святому и какой божьей матери.
Леонардо засмеялся:
— Ты, Франческо, пожалуй, сейчас стал вольнодумцем. А помнишь, в Милане, ты не забывал ни амулета, привезенного из Ваприо, ни сделать «рожки» нечистой силе, чтобы отогнать ее подальше. — И он показал рукою характерный итальянский жест, сжав пальцы в кулак и выставив рожками два — большой и мизинец. — Скажи, какие у тебя остались на шее амулеты — из коралла или из перламутра?
— Все, все бросил, — смеялся Мельци.
Он все больше и больше сближался с учителем. Леонардо показывал ему свои записи о живописи, пояснял свои философские и научные мысли, занесенные в дневники, читал свои так называемые «басни», «загадки» и «предсказания».
Эти записи были мудреные, и Салаино бы их не понял, но Мельци еще ребенком посвятил свою жизнь Леонардо и рано научился его понимать.
Салаино, конечно, сказал бы:
«Учитель, на какую ничтожную роль вы обрекаете человека, если думать, что со всех сторон его обступают силы природы, когда он — владыка земли, поставленный над нею самим господом богом?»
И что же он должен был бы ответить этому парню, взращенному на поучениях монахов? А Мельци он мог сказать:
«Человек — не кумир, у ног которого должна лежать природа. Человек сам часть этой природы, и жизнь его — это борьба с нею. Человек должен употребить много усилий, чтобы стать хозяином природы. А мои загадки и предсказания — это свод наблюдений и рассуждений. Я исследую человека в обществе и на природе».
Он рассказал Мельци две свои басни.
В одной говорилось о ласке, которая бросилась на мышь, но появилась кошка и сожрала ласку. Мышь радовалась, только недолго: кошка сожрала и ее…
В другой басне шла речь о дрозде и кизиловом дереве. Дрозд величался перед кизиловым деревом, но его словили и посадили в клетку из кизиловых веток, и кизиловое дерево смеялось над хвастуном.
Мельци понял сатиру: Леонардо, переживший столько войн и столько властителей, помнил, как вчерашние союзники делались врагами.
Перелистывая свои записи, Леонардо говорил:
— Как часто преподобные отцы строго осуждают тех, кто в праздник рисует или изучает божие творение!.. Нетрудно в таком случае получить кличку — еретик, безбожник, слуга дьявола…
Мельци разделял взгляды учителя, как разделял его труд и досуг, и старался теперь, когда Леонардо лишился возможности рисовать, развлечь художника. Мельци хорошо играл на лютне, и, случалось прежде, они составляли дуэт, но теперь ученик играл один на сохранившейся старой лютне Леонардо — серебряной лошадиной голове.
* * *
В туманный неприветливый день художник сидел на своем обычном месте у окна, а Франческо Мельци, как всегда, поместился с лютней у его ног на мягкой подушке. И, как встарь, Франческо запел знакомую милую песню:
Как хорошо это синее небо, Что смеется в блеске дня…— А здесь белый туман, — проговорил задумчиво Леонардо, — сегодня белый туман, завтра белый туман… Все серо, мрачно, бледно и однотонно… — продолжал он, помолчав. — Тебе очень скучно… то есть я хотел сказать — очень тяжело здесь? Ты часто вспоминаешь синее небо Милана?
— Вспоминаю, учитель, — отвечал Франческо просто.
— Поезжай в Милан, к отцу, — сказал Леонардо со странным выражением безнадежности, которой раньше Мельци у него не замечал. — Поезжай себе в Милан. Твой учитель все равно ничего больше не создаст в Амбуазе.
— Я не поеду на родину, маэстро, пока не поедете и вы. Ведь вы же знаете, что ни я, ни Вилланис не покинем вас до самой смерти.
— До смерти! — повторил, усмехаясь, Леонардо. — А ведь она, пожалуй, и близко, мой Франческо! Помнишь мальчика Джакомо? Славный, озорной был мальчишка, хоть порядочный плут и бестия. Но он все же по-своему любил меня, обкрадывал порою, а все же любил. Он бесчисленно много безобразил, но готов был отколотить кого угодно, кто только посмеет сказать при нем обо мне что-нибудь дурное. Он хорошо пел уличные песенки. И его нет со мной… нет и верного Зороастро… Что же ты перестал? Пой еще, пой!
Художник задумчиво гладил длинную шелковистую бороду, и неподвижный взгляд его был прикован к окну.
Сосны, бук и лавр…—пел тихим голосом Мельци и с грустью смотрел на учителя. Он знал, что Леонардо глубоко страдает, тоскуя по родине.
В дверь постучали.
— Это ты, Вилланис? — спросил Леонардо.
Голос был усталый.
В двери показалась голова Матюрины.
— Что скажешь, друг? Завтрак подан? Хорошо. А потом, после завтрака, мы пойдем гулять.
Матюрина подавала скромный завтрак. Обыкновенно он состоял из зелени, фруктов, молочного и мучного. Десятки лет Леонардо не брал в рот мяса.
— Великое зверство, — говорил художник ученикам, — поедать живые существа, которых мы не в состоянии создать. Разве природа для того подняла человека разумом над животными, чтобы он стал более свирепым, чем дикие звери?
12 Отклик с родины
Леонардо был на прогулке вместе с Мельци, которого он охотно брал с собою, когда не чувствовал потребности в одиночестве. Они поднимались на зеленеющие холмы, и глаза Леонардо были устремлены на равнину внизу; широким жестом указал он на красивый пейзаж поля и луга с извилинами серебряной ленты реки и сказал в раздумии:
— Смотри, мой Франческо, смотри и учись у великой нашей учительницы — природы. В ней красота и мудрость. Смотри, как незаметны и тонки переходы от света к тени. Нигде нет грубых и резких очертаний. Все гармонично, нежно, воздушно, все постепенно переходит от света к тени. — Он вздохнул. — Но здесь нет такой прозрачности воздуха, как у нас в Италии…
Легкая тень омрачила высокий лоб художника. Он провел по нему рукою, как бы отгоняя дурные, тяжелые мысли, точно отвечал сам себе:
— Если хочешь быть художником, оставь всякую печаль и заботу, кроме искусства. Пусть душа твоя будет как зеркало, которое отражает все предметы, все движения, само оставаясь неподвижным и ясным. А как разнообразен чистый родник природы! Не только у каждого дерева, но и у каждого из листьев особенная, единственная, более никогда в природе не повторяющаяся форма, как у каждого человека — свое лицо.
Леонардо спустился с холма и задумчиво побрел домой. Мельци молча следовал за учителем. Приближаясь к калитке, он услышал торопливый стук деревянных башмаков и увидел Матюрину, массивная фигура которой вся колыхалась от быстрого бега. Белая косынка на ее голове совсем съехала на сторону. Она бормотала, задыхаясь:
— Скорее, мессэре, скорее… гости из Италии… Его эминенция[59] святой отец кардинал… и с ним секретарь… знаменитейшие, преславные, дорогие гости из Италии!
Лицо художника разом прояснилось, как будто его озарило солнечным светом. Гости с родины, и кардинал, — это необычайно! Взглянув на Леонардо, ученик подумал, до чего глупы и мелочны были враги учителя, обвинявшие его в том, что он предался французам и забыл родину. Лицо Леонардо говорило яснее слов. Вот приехал гость с далекой родины, которая не нашла ему достойного применения, не оценила его гения, и одна эта весть, одно живое напоминание об отчизне заставили его расцвести, помолодеть на десять лет; бодрой, совсем юношеской походкой пошел он навстречу нежданным гостям.
Приехал кардинал Луиджи Арагонский со свитою. Заметив радость художника, он впервые задумался о странной судьбе человека, ради которого он решил посетить проездом замок Клу. Ему внезапно захотелось узнать, зачем это судьба заставила художника бросить любимую родину и отдать последние годы жизни чужбине.
После первых приветствий кардинал обратился к Леонардо с просьбой познакомить его с трудами «знаменитейшего живописца», слава которого привлекла его в замок Клу.
Леонардо охотно повел гостей в мастерскую и стал отдергивать один за другим холсты с мольбертов, открывая картины. Это было изображение Иоанна Крестителя и группа: святая Анна, держащая на коленях свою дочь Марию, которая тянется к Христу-младенцу, играющему с ягненком. Старая тема картона для флорентийской церкви, неоконченная картина, которую Леонардо здесь хотел закончить.
Кардинал стоял любуясь. Вот два поколения с улыбкой смотрят на третье, ожидая от него свершения подвигов в будущем и желая охранить его от скорби… И этот молодой предтеча Иисуса, отшельник, как бы живущий одной жизнью с природой, — все это так удивительно, так необычно, не встречается ни у одного из известных кардиналу художников. И какие изумительные переходы от тени к свету…
— Моего государя интересует один замечательный портрет… — сказал кардинал значительно.
Леонардо подошел к третьему мольберту и отдернул с него тафту.
— Это все, что мне осталось от родины, ваша эминенция…
Голос его звучал глухо. На мольберте была «Джоконда», «Мона Лиза», как чаще ее называли. Она умерла во цвете лет, умер и ее муж, Франческо Джокондо, уже старик, а наследники продали замечательный портрет за четыре тысячи золотых королю Франциску I, прослышавшему об этом произведении. Король отдал портрет Леонардо для реставрации, но расстаться с моной Лизой Леонардо было тяжело: она оставалась единственным памятником той вдохновенной работы, того незабываемого времени — расцвета его творчества, и он оттягивал разлуку с картиной.
Эти глаза, эта улыбка держали его в плену. Что было в чувстве гениального живописца, когда он с первым лучом солнца пробирался в мастерскую и не отрываясь смотрел на милое лицо, унесшее в могилу загадку — причину своей смерти? Быть может, он, разбудивший душу в этой женщине, застывшей среди банкирских книг и конторок, разбудил несбыточную мечту об иной жизни, разрушительную мечту, которая скосила ее во цвете лет? Никто не рассказал ему ни о ее думах, ни о кончине… Но образ ее, это его детище, создание его гения, жил в нем; с этим образом он сроднился, по нему тосковал, его любил… И, может быть, один Франческо Мельци смутно понимал, почему иной раз учитель в бессонные ночи с лампой ходил в мастерскую к портрету, уклончиво объясняя проснувшемуся Мельци:
— Когда не спится, старикам лезут в голову всякие мысли… У нас развелись мыши… не испортили бы картин… — И добавлял совсем тихо: — Когда я ее писал, у меня были в порядке обе руки.
* * *
С многими, самыми разнородными ощущениями кардинал отошел от картины. Окинув взглядом суровую обстановку студиоло, Луиджи не выдержал и спросил художника:
— Как можете вы мириться с этим одиночеством?
— Я позволю себе на это рассказать вашей эминенции одну пришедшую мне на ум басенку, как раз применимую к данному случаю. Камень, обнаженный потоком, лежал на горе, под которой проходила дорога, вблизи прелестной цветущей рощнцы. И он сказал себе: «Зачем я нахожусь среди этих красот? Лучше мне жить между моих братьев — камней?» И он скатился на дорогу. С тех пор он жил среди вечных мучений, попираемый колесами телег и подковами коней, покрытый навозом и грязью, и тщетно глядел на место, откуда пришел, место безмятежного и уединенного покоя. То же бывает с теми, кто покидает уединенную и созерцательную жизнь ради жизни в городах, среди исполненных бесконечным тщеславием людей. Здесь этого не может быть. У меня, впрочем, есть и семья мои ученики, и мои дорогие замыслы, и вот эти немые друзья. — И он указал рукою на рабочий стол, заваленный чертежами и тетрадями.
Он стал открывать одну за другою свои заветные записные книжки, объяснять чертежи. Кардинал с изумлением смотрел и слушал, убеждаясь, что Леонардо не только великий художник, но и великий мыслитель, великий ученый. Казалось, нет конца его познаниям. Все, что он писал, было изложено простым, ясным и точным языком.
Где-то в его записной книжке, под миниатюрным чертежом летательного снаряда, было написано:
«Человек, как великая птица, примет свой первый полет на спине благородного лебедя, приведя в изумление весь мир, наполняя все книги молвой о себе, доставляя своей родине вечную славу!»
В этих словах вылился могучий восторг поэтической души Леонардо, предвидевшей, что человек овладеет тайной полета.
Через четыре столетия протягивает он руку исследователю наших дней. Вполне ясно сознает он несостоятельность учения о неподвижности Земли, как и о ее положении в центре мироздания. И, хотя написанное им не было опубликовано и для современников исследования его пропали, имя его осталось бессмертным в летописях науки.
Перед Луиджи Арагонским были чертежи первого гигрометра — прибора для определения влажности воздуха, — разных насосов, стекла для усиления света ламп, водолазных шлемов, летательных снарядов, первого плавательного пояса, первого парашюта, первой камеры-обскуры…
* * *
Было уже поздно, когда кардинал покинул студиоло Леонардо, чтобы отправиться ко двору французского короля. Леонардо долго помнил его восторженно-багодарный взгляд, удивительный для представителя католической церкви. Ведь кардинал, вероятно, отлично отдавал себе отчет в степени благочестия флорентийского художника. Прощаясь, он крепко обнял Леонардо, говоря:
— Какая ужасная потеря! Такого человека, как Леонардо да Винчи, лишилась родина!
И услышал спокойный ответ:
— Этот человек скоро совсем покинет землю.
В сумраке ночи, в молчании, при красноватом свете фонаря, он пошел проводить гостя с его свитою до ворот своего маленького замка.
* * *
Франческо Мельци стоял один перед мольбертами учителя. Пламя масляной лампы тускло озаряло лицо Иоанна Крестителя. У Иоанна, как у языческого бога, была неопределенная, даже, может быть, лукавая улыбка. Что ею хотел сказать художник? Мельци казалось, что этот проповедник нового учения любви и братства скорее похож на языческого бога Вакха… Но Мельци постарался отогнать от себя эти мысли… Да, конечно, Иоанн изображен в тот период жизни, когда юная душа стремится к общению с природой, когда он полон восторга от своей идеи, — отсюда и улыбка и поднятый палец: он прислушивается к тому, что говорит ручей, шепчет над головою листва развесистых дубов…
И тут же рядом, задернутая тафтою, — другая улыбка, которая так часто притягивала к мольберту бросившего кисти учителя, образ давно ушедшей из жизни женщины, истинную душу которой сумел найти много лет назад великий художник…
* * *
В замке Клу с отъездом кардинала жизнь потекла по-прежнему размеренно, но Мельци заметил, что напоминание о родине взбудоражило маэстро, как бы нарушило его внутреннее равновесие, а в эти годы каждое волнение оставляет глубокий след.
Силы Леонардо слабели; тоска по родине подтачивала его. Франческо догадывался, что в памяти учителя все чаще воскресают воспоминания о более деятельном времени, когда он создавал свои лучшие произведения и когда записная книжка его быстро наполнялась меткими зарисовками и меткими рассуждениями. Все это осталось позади… А впереди… впереди… ведь и великих, гениальных людей не обходит естественное явление — старость, слабость, а в итоге — смерть…
Как часто теперь маэстро посещают приступы необъяснимой тоски, когда он часами сидит или лежит неподвижно и кажется, что он уже никогда не встанет.
Вскоре после отъезда кардинала он заболел и лежал в постели, около окна, чтобы лучше видеть природу в момент вешнего пробуждения. Весна радовала его даже здесь, на чужбине. Смотря на бледно-зеленые луга Франции, он думал о долинах Тосканы… Он чувствовал, что умирает.
И, лежа в постели, он говорил вслух, вспоминая прежние мысли, прежние записи:
— Старые люди, живущие во здравии, умирают от недостаточности питания, вызываемого тем, что доступ ему в жилы бражжейки все стесняется от постепенного утолщения стенок жил вплоть до волосных сосудов, которые первые закупориваются совершенно, и от этого происходит, что старые больше боятся холода… И эта оболочка жил производит у человека то же, что у померанцев, у которых кожура делается тем более толстой, а мясо тем более скудным, чем они старше становятся. И если бы ты сказал, что загустевшая кровь не бежит больше по жилам, то это неверно, потому что кровь в жилах совсем не густеет, непрестанно умирая и обновляясь…
Он лежал с открытыми глазами, устремленными в одну точку, как будто что-то читал.
13 Конец
Утро 23 апреля 1519 года было чудесное. На листьях ползучей розы, обвивавшей окно, блестели радугой капли росы, и чашечки ипомей, что закрываются с полдневным жаром, светились, как фонарики.
Франческо Мельци, как всегда, зашел к учителю узнать, как он провел ночь и не будет ли у него каких распоряжений. В последние годы он незаметно для себя слил все свои интересы, все желания с интересами Леонардо.
Он застал художника в возбужденном состоянии, видимо, давно уже бодрствующим. Спустив ноги с кровати, Леонардо читал свои записи, читал вслух, что иногда делал, тихим, размеренным голосом, как будто подводя итоги жизни:
— «Хорошо знаю, что некоторым гордецам, потому что я не начитан, покажется, что они вправе порицать меня… я мог бы так ответить им, говоря: «Вы, что украсили себя чужими трудами, вы не хотите признать за мною права на мои собственные…» Не знают они, что мои предметы более, чем из чужих слов, почерпнуты из опыта… и я беру его себе в наставники и во всех случаях буду на него ссылаться».
И, помолчав:
— «Наука — капитан и практика — солдаты». «Нет действия в природе без причины; постигни причину, и тебе не нужен опыт».
Он кивнул приветливо головою, увидев ученика:
— А, Франческо! Открой пошире окно, впусти ко мне солнце! Земля оживает; могучие соки поднимаются по стеблям… Тысячи букашек просыпаются для жизни… А я — человек — умираю. Но в этом нет ничего ужасного, мой Франческо, потому что это неизбежно. И, если ты будешь мне возражать, это прозвучит, как фальшивая нота. Смерть для меня неизбежна; я не уверен ни в одном дне, ни в одном часе. И вот что, друг мой: не пугай никого, никому ничего не говори, отправляйся поскорее к нотариусу, мессэру Буро, призови его сюда, чтобы я мог продиктовать ему мою последнюю волю.
Мельци беспрекословно пошел за нотариусом.
* * *
Солнце еще не высоко поднялось, когда господин Буро подъехал к замку на своем сытом караковом жеребце. Перед ним был дом знаменитого итальянского художника, с водосточными трубами в виде волчьих голов, из раскрытых пастей которых струилась вода после весеннего дождя. Буро с благоговением поднялся по массивной лестнице.
Он вошел в мастерскую, стены которой были испещрены рисунками художника и его учеников. Среди уродливых, забавных карикатур бросались в глаза бешено летающие саламандры на золотом фоне работы Мельци.
Художник полуспал у окна, и нотариуса удивило спокойное выражение лица умирающего. Он точно прислушивался с любопытством к той внутренней работе, которая в нем происходила.
— Добрый день, господин Буро, — сказал приветливо Леонардо. — Не откажите взять на себя труд записать мою последнюю волю!
Буро вдруг стало почему-то неловко, хотя он давно уже привык к исполнению этой печальной обязанности. Он откашлялся, сел к столу и приготовился писать. Перо скрипело, выводя букву за буквой слова завещателя. Художник торжественно диктовал:
— «Поручаю мою душу всемогущему богу… Пречистой Марии, заступнику святому Михаилу, всем ангелам-хранителям и всем святым рая!»
Это было обычное в ту пору вступление к завещанию.
Голос Леонардо звучал ровно. Он обдумал все до мелочей, даже свои похороны… Он дарует, оставляя мессэру Франческо Мельци, миланскому дворянину, в благодарность за услуги и расположение, оказанные ему доныне, все книги, которые находятся теперь в его собственности, и другие принадлежности и рисунки, относящиеся к искусству и занятиям в качестве художника.
Дальше следовало распоряжение об имуществе, не забыт был Баттиста Вилланис, больше слуга, чем ученик. Ему он оставлял половину сада за стенами Милана, а вторую половину — Салаино. В завещании была упомянута и Матюрина, которая должна была получить часть одежды Леонардо да Винчи и часть денег. И, возвращаясь опять к любимому ученику, он завещает ему одежду, находящуюся при нем, и остаток своей пенсии.
В завещании все было предусмотрено, даже число свечей на погребении — ведь король захочет его хоронить с пышностью, согласно положению, и он не желает, чтобы за него расплачивались, как за неимущего; он назначил даже оплату всех, кто будет нанят для участия в погребальной процессии.
Кончив диктовать, Леонардо замолчал, откинулся на подушки и закрыл глаза. Завещание утомило его, и Мельци сделал знак нотариусу, любившему поболтать, сказав шепотом:
— Учитель утомлен, господин Буро, и ему трудно будет продолжать с вами беседу. Смотрите, как он бледен…
Но художник открыл глаза, и в них появился прежний огонек внезапной мысли, а на лбу — легкая морщинка, как в те минуты, когда он что-то припоминал. Его взгляд остановился на Буро, теплый, почти нежный. Мельци подумал, что учитель, глядя на огромную книгу, разложенную возле него, мог вспомнить детство и отца, раскрывавшего при нем часто такие же объемистые нотариальные книги. Он услышал тихий голос; совсем тихо, как шелест, прозвучали слова:
— Необходимость — наставница и пестунья природы и ее же узда…
Как часто слышал Франческо эти слова о необходимости — логике и законе жизни, которая приносит с собой жизнь рождающемуся и смерть отслужившему свой срок организму!
Он попробовал остановить учителя, напомнить, что доктор не позволяет ни говорить, ни волноваться, когда человек утомлен, а маэстро утомлен завещанием.
Леонардо усмехнулся и снова сказал тихо и ласково старые, памятные слова:
— Милый друг, кто спорит, ссылаясь на авторитет, тот применяет не свой ум, а скорее память.
И замолчал, закрыв глаза.
Буро отыскал плащ, плотнее надвинул на лоб черную круглую шапочку и на цыпочках вышел из комнаты. Его слуга нес за ним толстую книгу с завещанием.
* * *
Тихо было в комнате. Леонардо хорошо сознавал, что умирает, и это не пугало его, потому что было неизбежностью. Мельци стоял в стороне, откуда ему видно было прекрасное лицо с высоким лбом мудреца, обрамленное белыми шелковистыми волосами.
И вдруг услышал снова дорогой голос:
— Признайся, мой Франческо, мой ученик, мой сын, мысль от моей мысли, ты ведь думаешь, что я, несмотря на всю твою любовь, на весь почет, которым я здесь окружен, и на все, что я сделал и продумал, схожу в могилу с горьким сознанием своего одиночества?
Он перевел дух и продолжал задушевно:
— Нет, нет и тысячу раз нет… Я сделал что мог. Правда, не все, кто учился у меня, оправдали мои надежды. Но Больтрафио пойдет далеко и сделает что надо… А из других, как Салаино, выйдут посредственные живописцы, — что из этого? А ты — мой сын, моя рука, моя душа, мысль от мысли, знающий всю мою тревожную жизнь, ты не только сохранишь, но и разберешь и приведешь в порядок все, над чем я думал всю жизнь… А теперь поди к себе. Я устал.
Мельци тихо вышел в соседнюю комнату.
* * *
2 мая Леонардо сделалось особенно плохо. Придворный врач не отходил от его постели. Все, составлявшие его семью, были налицо, боясь не увидеть в последние минуты любимого учителя и друга. От слабости художник не мог сидеть, не мог даже говорить. Вдруг все тело его начало неметь; мускулы холодели и сокращались…
— Франческо… друзья мои… — прошелестел его слабый голос, — я умираю и прошу простить мне… не сделал… что хотел…
Голова умирающего чуть дернулась и беспомощно упала на подушку. Конец…
* * *
Король со всем двором находился в этот день на увеселительной прогулке в Сен-Жермен-ан-Лэ. Когда ему сообщили о смерти его любимого художника, он закрыл лицо руками, не в силах вымолвить ни слова от охватившей его скорби. Он понял, что потерял не только художника, украшавшего его жизнь, но и великого мыслителя и лучшего из людей, которых когда-либо знал.
Друзья Леонардо занялись печальным ритуалом похорон, едва сдерживая слезы, а Матюрина все забывала, все путала и оглашала дом рыданиями.
Но больше всех страдал, конечно, Франческо Мельци. Он ведь исполнил то, что когда-то, еще мальчиком, так горячо обещал Леонардо да Винчи: отдать ему себя до самой смерти. И никто из учеников не понимал так учителя, как Мельци, недаром великий человек возложил на него трудную и ответственную обязанность — разобрать и сохранить для потомства плоды его размышлений, открытий, опытов и художественного творчества.
Разбирая архив, Мельци отложил огромное количество рисунков учителя — целое сокровище! Здесь — вся душа художника, затаенные замыслы, догадки, пристальные наблюдения…
И среди них — набросок автопортрета, сделанного Леонардо сангиной в пору, близкую к последним годам жизни. На рисунке длинные волнистые волосы, длинная борода; открытый высокий лоб покрыт глубокими морщинами; густые брови нависли над глазами, а глаза смотрят величаво и мудро; губы же сложились в слегка скорбную усмешку.
Это голова старого орла, утомленного от слишком частого созерцания солнца.
Вилланис первое время ничем не мог помочь, он только оплакивал художника, который был так ласков с ним.
Ну что ж, придется Мельци поехать с Внлланисом в Милан и устроить там, в чудесном саду виллы Ваприо, художественную мастерскую, мастерскую учеников знаменитого флорентийского художника Леонардо да Винчи. Можно взять к себе и Матюрину; она еще не так стара и сможет вести у них хозяйство… Но чувство утраты не ослабеет. И верный ученик думал в тысячный раз:
«Потеря такого человека оплакивается всеми, потому что не во власти природы создать еще одного такого человека. И, пока я жив, я буду постоянно чувствовать это горе».
Это же горе и заставляло его действовать во имя лучшего из людей. Лучшего — это поняли не только современники, поняли люди иных веков, иных понятий, потому что Леонардо был провозвестник грядущего.
23 декабря 1955 г.
Примечания
1
Мёссэр, мёссэре (итал.) — господин.
(обратно)2
«Кто ничего не имеет, тот и сам ничто» (итал.).
(обратно)3
Данте Алигьери (1265–1321) — величайший итальянский поэт, создатель итальянского литературного языка; автор поэмы «Божественная комедия», где сквозь средневековые образы и понятия проступает пламенное обличение пороков феодального мира, преодоление аскетизма, героический дух и сыновняя любовь к Италии.
(обратно)4
Падре (итал.) — отец; здесь: форма обращения к католическому священнику в Италии.
(обратно)5
Мона (итал.) — сокращенное от «мадонна» — госпожа.
(обратно)6
Баптистерий («крещальня») — помещение для свершения обряда крещения у католиков. Здесь: Баптистерий во Флоренции, который является замечательным памятником архитектуры XII–XIII веков.
(обратно)7
Фьезоле — город, расположенный на высоком холме, неподалеку от Флоренции.
(обратно)8
Глазурованная терракота — глина, покрытая тонким стеклообразным слоем (глазурью), образующимся при обжиге изделия из глины.
(обратно)9
Евангелисты — здесь: четыре ученика Христа, которым церковь приписывает составление евангелия, то есть жизнеописания Христа. Пророки — по библейскому преданию, люди, предвидящие и предсказывающие будущее. Сивилла — у древних греков, римлян и евреев странствующая прорицательница.
(обратно)10
Бенедетто дель Абако («хорошо владеющий счетной доской» — «абак») — прозвище, данное флорентийскому математику XV века Антонио Билиотте.
(обратно)11
Карло Мармокки — астроном и географ.
(обратно)12
Иоанн Аргиропулос (1416–1486) — византийский писатель, живший в Италии.
(обратно)13
Гриф, грифон — изображение мифического чудовища Грифа, крылатого льва с орлиной головой.
(обратно)14
Синьория — высший правительственный орган Флоренции.
(обратно)15
Боттега (итал.) — мастерская.
(обратно)16
В эпоху Возрождения круг работы ювелиров был более широким, они изготовляли многие декоративные предметы.
(обратно)17
Фра Филиппо Липпи, учитель Боттичелли, был монах. Фра (итал.) — сокращенное «fater» — брат; обращение, принятое в монастырях среди католических монахов в Италии.
(обратно)18
Находится в Ленинграде, в Государственном Эрмитаже.
(обратно)19
Медуза — в древнегреческой мифологии одна и» трех Горгон, сестер-страшилищ; вместо волос на голове у Медузы извивались змеи, а взгляд ее превращал в камень все живое, с чем встречался.
(обратно)20
«Раllе! Palle! (итал.) — «Шары! Шары!»
(обратно)21
Орфей — в древнегреческой мифологии певец, своими сладкозвучными песнями приводивший в движение деревья и скалы и укрощавший диких зверей.
(обратно)22
Тиара — головной убор папы, как бы корона наместника Христа на земле, царя царей, каким католики считают папу.
(обратно)23
Аграф — пряжка или застежка с драгоценными камнями.
(обратно)24
Пролог — здесь: начало представления, вводная часть его.
(обратно)25
Аполлон (у древних греков Феб) — у римлян бог солнца и поэзии; Меркурий (у древних греков Гермес) — у римлян посланник богов, провожатый умерших в подземный мир, бог красноречия, торговли, гимнастики; Диана (у древних греков Артемида) — у римлян богиня луны и охоты; Психея — девушка редкой красоты, внушившая любовь богу Амуру (у древних греков Эросу), сыну богини красоты и, любви Венеры (у древних греков Афродиты).
(обратно)26
Интермедия — маленькая живая пьеса, которая ставится между двумя более серьезными пьесами.
(обратно)27
Канцона — особый род лирического стихотворения.
(обратно)28
Шиполатта (итал.) — похлебка из репы
(обратно)29
«Ждет лошадь, что трава вырастет» (итал.).
(обратно)30
Сангина — мягкий красный минеральный карандаш.
(обратно)31
Астролог — предсказатель судьбы по звездам..
(обратно)32
Философский камень — мнимое вещество, при помощи которого средневековые алхимики безуспешно пытались превращать неблагородные металлы в золото.
(обратно)33
Полента (итал.) — похлебка из кукурузной муки или каштанов.
(обратно)34
Диоген из Синона (ок. 404–323. гг. до н. э.) — древнегреческий философ, который, по преданию, жил в пустой бочке и вел образ жизни нищего бродяги.
(обратно)35
Пантомима — сценическое представление одними движениями, без слов.
(обратно)36
«Души трепещут: явится колосс. Пусть льется медь; раздастся голос: се бог» (лат.).
(обратно)37
Гефест (Вулкан у древних римлян) — у древних греков бог огня, покровитель кузнечного ремесла.
(обратно)38
Приор (от латинского слова «prior» — первый) — настоятель в мужском католическом монастыре.
(обратно)39
Сребреники — монеты, которые, по евангельской легенде, Иуда получил за то, что предал своего учителя — Христа.
(обратно)40
Максимилиан I Габсбург — император Священной Римской империи (1493–1519).
(обратно)41
Арбалетчики — солдаты, вооруженные арбалетами — метательным оружием (соединение лука с прикладом), стреляющим стрелами.
(обратно)42
«Или Цезарь, или ничто» (лат.).
(обратно)43
Джироламо Савонарола (1452–1498) — монах, проповедовавший во Флоренции ненависть к роскоши и богатству и боровшийся с пороками католической церкви. В 1498 году Савонарола был казнен сторонниками римского папы и владетелей Флоренции — Медичи. Подробнее о Савонароле рассказывается в последующих повестях — «Рафазль» и «Микеланджело».
(обратно)44
Меценат — здесь: покровитель наук и искусств (по имени древнеримского политического деятеля I века, покровительствовавшего кружку поэтов).
(обратно)45
Ноев ковчег — по библейскому преданию, судно, на котором праведный Ной, спасаясь от всемирного потопа, увез по паре всевозможных животных.
(обратно)46
«Кто ищет — находит» (итал.).
(обратно)47
Гонфалоньер (итал.) — буквально: знаменосец; в средневековых итальянских республиках — выборный начальник исполнительной власти.
(обратно)48
«На что-нибудь и несчастье пригодится» (итал.).
(обратно)49
«Голодный осел ест с любой подстилки» (итал.)
(обратно)50
Петрарка Франческо (1304–1374) — великий итальянский поэт и гуманист. Широкой известностью пользуется его «Книга песен», сборник сонетов и канцон.
(обратно)51
Блуа — город и средневековый замок во Франции. При Людовике XII был королевской резиденцией.
(обратно)52
Кардинал — высший сановник в католической церкви. На своем собрании (конклаве) кардиналы избирают из своего числа римского папу — главу католической церкви.
(обратно)53
По евангельскому преданию, апостол Петр, владеющий ключами от рая, был первым римским епископом, и папы считали себя его преемниками.
(обратно)54
Адонис — здесь: прекрасный юноша, каким его представляли в древней Греции. Культ Адониса как бога умирающей и возрождающейся природы был распространен в древней Греции и Риме.
(обратно)55
Каррара — местечко в Италии, в Апуанских Альпах, где добываются лучшие сорта мрамора.
(обратно)56
Итальянский карандаш («черный мел») — мягкий черно-серый минеральный карандаш, позднее изготовлявшийся из спрессованного угля.
(обратно)57
Mecca— богослужение в католической церкви.
(обратно)58
Боккаччо Джованни (1313–1375) — итальянский поэт и писатель-гуманист, прославившийся как автор «Декамерона» — сборника ста новелл.
(обратно)59
Эминенция (от лат. «eminentia» — «превосходство») — титул католических кардиналов и епископов.
(обратно)
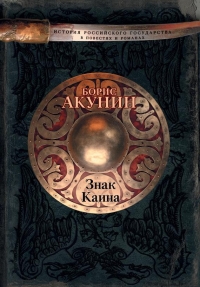




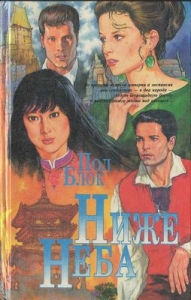
Комментарии к книге «Леонардо да Винчи», Ал. Алтаев
Всего 0 комментариев