Родион Феденёв Де Рибас
200-летию ОДЕССЫ посвящается
Часть первая
1. Письмо полковника 1769
«Директору министерства Государственного Управления и Военных Сил достопочтимому Михаилу де Рибасу – полковник самнитского полка Фердинандо Альфиери, 11 декабря 1769 года.
Генерал! Только невозможность оставить в сей тревожный момент вверенный мне полк заставляет меня взяться за перо и сделать это безотлагательно, ибо печальное происшествие, имевшее место накануне, может вызвать самые неожиданные и весьма опасные последствия.
Как вам известно, десятого происходили учения самнитских рот в Молизе. Я не имел возможности быть повсюду и обсервировать все роты. В мое отсутствие во вторую мушкетерскую приехал юный Диего Ризелли в сопровождении слуг и капитана Карлуччи. Некоторое время Ризелли наблюдал за учениями, а потом предложил офицерам стрелять на приз – самшитовую шкатулку, инкрустированную костью. Вы знаете, что средства вверенных мне мушкетеров иногда таковы, что у них не бывает и байока в кармане. Но ваш сын, подпоручик второй роты Джузеппе де Рибас в ответ на вызов Ризелли поставил свой серебряный медальон на золотой цепочке. Не могу умолчать о том, что медальон был с изображением Богоматери.
Итак, ваш сын и Ризелли уговорились стрелять поочередно и сделать по шесть выстрелов на пятнадцати шагах. Зарядили дюжину пистолетов. Пули круглые. Мишенью послужили двенадцать карт. Их насаживали на копья эспантонов. Не могу умолчать о том, что на самих эспантонах остались атласные вымпелы с надписью вам хорошо известной: «С королем за Королевство!» Надеюсь, что вы понимаете: при недоброжелательном следствии расследователи могут заключить, что стрельба велась именно по вымпелам.
После пяти выстрелов со стороны вашего сына и пяти со стороны Ризелли счет был равный – по два промаха и по три попадания. Следующим стрелял Ризелли, и он поразил цель. Когда ваш сын поднял пистолет, чтобы стрелять, юный Диего смеялся и утверждал, что подпоручик обязательно промажет. Ваш сын сказал, что смех Ризелли мешает ему. Офицеры предложили Ризелли отойти в сторону, но он не согласился и продолжал насмехаться над волнением вашего сына. Тот выстрелил и промахнулся. Офицеры были удручены. Ризелли стал обладателем приза – медальона с изображением Богоматери.
Ваш сын сказал Ризелли: «Вряд ли вы так смеялись бы, если бы я целился в вас». «Это мы можем тотчас испробовать», – был ответ Ризелли. Ваш сын, обратите на это внимание, сказал: «Вы, Диего, говорите так, потому что знаете: это невозможно. «Отчего же?» «Да оттого, что я не хочу убивать вас». Все офицеры, опрошенные мной, свидетельствуют, что эти слова имели место. Далее. Ризелли смеялся, а потом заявил, что ваш сын попросту трус, и за его словами ничего нет, кроме бахвальства. Подпоручик Джузеппе тут же предложил проверить это.
Решили сходиться на тридцати шагах и стрелять без права первого выстрела – кто когда пожелает. Сей факт сам по себе невероятное нарушение принятых правил, но ваш сын дал согласие. Ризелли был так весел, что многие уверились: они и кончат шуткой – оба выстрелят в воздух. Когда же начали сходиться, Ризелли выстрелил первым и его пуля задела плечо поручика. Все ужаснулись, увидев на мундире кровь. Ваш сын крикнул, что с одного выстрела Ризелли получит две раны.
Так оно, к несчастью, и вышло. Пуля вашего сына прошла между локтем и боком Ризелли, задев руку и повредив ребро. Капитан Карлуччи, сопровождавший Ризелли, здесь же предложил вашему сыну стреляться на тех же условиях, но их развели. Самое печальное было впереди. Полковой врач, вызванный для осмотра ран, сказал, что у Ризелли плохо сворачивается кровь. Действительно, он потерял много крови, несмотря на перевязки, и его тут же увезли.
Генерал! Я уверен, что ваш сын ничего не сообщил вам об этой дуэли. Я уверен, что последствия могут быть непредвиденными. Вы отлично знаете семейство Ризелли. Вряд ли можно предположить, что будет еще одна дуэль. Длинные ножи, выстрел из-за угла – наемные убийцы еще не перевелись в Неаполе. Более всего меня удручает мысль, что месть может быть открытой, то есть объявленной. Тогда прольется немало крови. Напоминаю вам, что Ризелли близки к масонской ложе «Витториа», а что это такое, вы знаете и без меня. Я думаю, вам ничего не стоит оформить дорожные документы для подпоручика Джузеппе де Рибаса на выезд из нашего королевства. Обстоятельства таковы, что понуждают к неотложным действиям. Всегда к вашим услугам».
Дон Михаил в который раз перечитывал письмо полковника, но все еще не мог смириться с внезапной неотвратимостью случившегося. Дорожные документы на проезд до Вены уже лежали на его секретере. Утром военный министр генерал де Лос Риос подписал их. Но утром министр еще ничего не знал о происшествии на учениях, а теперь, наверняка, знает. Дон Михаил ждал своего секретаря, которого больше часа назад послал в порт Неаполя. Жена Дона Михаила Маргарита Ионна находилась тут же, в кабинете. Она стояла у ниши, в которой бликами от свечи вспыхивало мраморное распятье, и молилась. В проеме растворенных дверей появился адъютант. Что ему? Что такое? Ах да, сегодня вечером прием, и генерал всегда лично выбирает сотерн к столу.
– После, после. Джузеппе по срочному делу отправляется в Вену.
Адъютант удалился. Вот так и надо: даже все домашние, кроме доверенных лиц, должны быть уверены, что сын уезжает именно в Вену. Утром Дон Михаил не преминул переговорить с дежурными офицерами министерства о том, насколько теперь дороги в Вену безопасны и какой лучше выбрать путь: сухопутный через Рим или морем? У сына срочное дело в Вене… Главное, побольше подпустить тумана: поручение короля… неотложная депеша… Конечно, завтра о дуэли все узнают в Неаполе, но в шлейфе пересудов будет повторяться слово Вена.
В окно Дон Михаил увидел свою карету, остановившуюся у парадного въезда – секретарь вернулся из порта. Генерал дернул сонетку и попросил появившегося адъютанта позвать в кабинет Джузеппе, но первым из коридора вбежал младший сын – Эммануил…
– Да, Джузеппе уезжает. Да. Ты будешь фехтовать с учителем. Ионна, займись им… – Недовольно говорил генерал.
Появился секретарь, кивнул, значит, все в порядке. Надо закрыть двери поплотнее. Кажется, Джузеппе спускается в кабинет по внутренней лестнице. Успеет ли он собраться?
2. Загадки и открытия 1759–1770
– «Король Георг» идет в Англию?
– Да. Но послезавтра.
Вопрос и ответ. Вполне уместный вопрос, заданный мужчиной лет тридцати на пристани в Ливорно, и весьма краткий ответ молодого человека, только что сошедшего на пристань с фрегата «Король Георг». Ничем не примечательные вопрос и ответ, но молодой человек вздрогнул. Вряд ли он мог предположить, секундно подумать, что именно в это мгновение некто обеспечивает ему неожиданный маневр во времени и пространстве, но природа, естество дали знак, мигнули тревожными сигналами, и возникло лишь ощущение ветерка судьбы – и молодой человек вздрогнул.
Вопрос и ответ прозвучали на французском, и молодой человек, уловив странный акцент у незнакомца, присмотрелся к нему. Собственно, одеты они были почта одинаково. Но серая суконная накидка незнакомца была короче и затягивалась у шеи не белым, а красным шнуром. Из-под накидки виднелись синие кюлоты. Белые чулки крепкого атласа были безукоризненно чисты, несмотря на декабрьскую ливорнскую грязь. А вот башмаки… «Он недавно был в Неаполе», – подумал молодой человек, ибо черные тупоносые башмаки незнакомца с серебряными пряжками в форме сердец были на каблуках, состоящих из двух частей: верхняя – желтая, нижняя – зеленая, недавняя выдумка неаполитанских модных сапожников. Молодой человек не сомневался – его башмаки были точно такими же.
– Держу пари, – улыбнулся незнакомец, – вы – офицер… с итальянского юга.
«Э, да он и рассмотрел меня и успел разгадать в одну минуту! Вот и полагайся на отца, настоявшего, чтобы я ехал в Англию во всем цивильном. Но почему такой интерес к моей персоне? Надо ему представиться и этим сбить с толку. Назваться, как называет меня мать, Иосифом? Или, как предпочитает отец – Хозе? можно отрекомендоваться и полностью: Иосиф Паскуаль Доминик де Рибас…» молодой человек снял серую шляпу с синим бантом, хитро улыбнулся и назвал себя: – Хозе де Рибас, к вашим услугам.
– Испанец? – удивился незнакомец.
–. Нет, я из Неаполя, там меня называют Джузеппе, – он рассмеялся.
Синяя шляпа незнакомца, только с серым бантом, оказалась в его руке и он представился:
– Витторио Сулин. Я путешествую. И вот уже полгода, как в Италии, а до Неаполя так и не добрался.
«Зачем он врет? – уверенно подумал Джузеппе. – Придворные сапожники Неаполя на сторону не торгуют. Впрочем, лучше с ним распрощаться. А перед этим стоит поставить его на место». Он сказал:
– Конечно, для англичанина у меня слишком смуглое лицо. Это не трудно заметить. Выправка офицера тоже не загадка. Но я должен сказать, что мой отец, министр двора, посрамлен. Форма подпоручика самнитского полка в моем багаже на «Короле Георге». Честь имею.
Но путешественник Витторио Сулин и не думал прощаться. Наоборот, он стал на пути Рибаса и заговорил сбивчиво, неизвестно отчего волнуясь, да попросту обрушил на собеседника поток просьб, сведений и предложений.
– Какая удача! Представьте! Неделю назад я тут встретил негоцианта. Очень богатый человек. Очень. Мой отец голландец, а мать русская. Поэтому мы с негоциантом и сошлись! Он ведь из России. Знаток и собиратель италийских древностей. Но южнее Флоренции он, как и я, еще не был. Если бы вы… Ваш совет будет для него неоценим. Собственно, мы с Алехо, мы с ним тут поджидаем авизу с гребцами. Собрались посетить русские суда на рейде. Вы, верно, их видели. Не откажите в любезности разделить с нами ожидание, трапезу, и, уверяю вас, приятную беседу о вашем Неаполе. Ведь недаром же говорят, что прежде, чем умереть, нужно его увидеть.
«Ты уже увидел, но не умер, – подумал Джузеппе. – Но отчего этот Витторио Сулин так взволнован? Знакомство с негоциантом не стоит и выеденного яйца, и какой совет я могу дать твоему Алехо? В мушкетерской роте не занимаются италийскими древностями». Но в отрочестве мать не раз возила Джузеппе в замок Капо-ди-монте, напичканный картинами и рукописями, правда, он интересовался лишь кабинетом медалей; сейчас он решил напрячь память – хороший обед стоил того.
По короткому каменному взлету они поднялись из порта на набережную, где стояла блестевшая коричневым лаком карета и поджидали трое слуг в тяжелых от недавнего дождя накидках и шляпах-горшках. Рядом была обитая медными полосами дверь «Тосканского лавра». Витторио Сулин о чем-то переговорил со слугами на совершенно незнакомом Рибасу языке, а потом обратился к подпоручику по-итальянски:
– Негоциант в двух кварталах отсюда. Возьмем карету или прогуляемся?
В Неаполе считалось весьма зазорным, если дворянин шел пешком даже один квартал, поэтому предложению Витторио Сулина несколько удивило подпоручика, но он решил пройтись – зыбкая палуба «Короля Георга» еще давала о себе знать. Только Рибас успел подумать, какую это посыльную авизу дожидались в порту Витторио и его друг-негоциант, как путешественник сказал:
– Алехо – большой знаток. Одна беда – не торгуется. Сорит деньгами. Представьте, в окрестностях Пизы не снял, а попросту купил для себя палаццо.
– Вы живете в нем?
– Последний месяц.
«Занятно, – усмехнулся про себя Рибас – Встретил ты своего Алехо неделю назад, а живешь у него последний месяц. Что за человек этот путешественник? Для лжи он слишком беспамятен».
Они вошли в ничем не примечательный двухэтажный дом, но прихожая была со сводчатым расписным потолком. Витторио указал на несколько гнутых жестких кресел:
– Присядьте, я мигом.
Он поднялся по лестнице наверх, а из-под сводов к Рибасу тотчас вышли двое мужчин. Один из них, в вишневом новомодном фраке, спросил у Рибаса по-итальянски:
– Вы кого-то ищете?
– Нет, – ответил Рибас, а вишневый растянул свое лунообразное лицо в подобие улыбки, сказал своему спутнику по-английски: «Сразу видно, что этот пройдоха пришел не просто так». А для Рибаса на итальянском:
– Но с какой целью вы здесь?
Рибас помедлил с ответом и снова услыхал по-английски: «Эти итальянцы выводят меня из себя. Высокомерны, как султаны, но скудоумны, как их рабы. Взгляни на этого подлеца – он не желает говорить со мной!»
– Отчего же, я всегда к вашим услугам, – сказал теперь уж по-английски Джузеппе, а затем лайковой перчаткой с замшевым раструбом что есть силы хлестнул по лунообразному лицу – мужчина отшатнулся, капельки крови сразу же выступили на его щеке – металлические крючки на раструбе перчатки сделали свое дело.
– Шпага или пистолеты – выбирайте сами, – учтиво сказал подпоручик. – Я жду вас завтра в семь у Северного источника возле канала.
Он вышел на улицу и зашагал вниз к порту. «Эти люди не похожи на приятелей князей Ризелли. Вряд ли бы Ризелли наняли их для ссоры со мной. Уж слишком они неуклюжи. Но этот путешественник… ловко свел меня с ними. Зачем?» В этот момент он услыхал сзади торопливые шаги, опустил руку на эфес шпаги и обернулся – Витторио Сулин догонял его.
– Простите, простите, мы разминулись с моим негоциантом, – затараторил путешественник. – Из консульства он успел уйти в «Тосканский лавр».
«Значит, мы были в консульстве, и у меня завтра дуэль… Занятно. Однако, похоже, что путешественник ни о чем не осведомлен».
– В каком консульстве мы были?
– В Английском, оно тут недавно, я не нашел консула сэра Дика, но мне сказали, что Алехо ждет в «Тосканском лавре».
«Уж не этого ли сэра Дика я стеганул перчаткой? Ну да ладно, вопросы пока неуместны. Посмотрим, что за птица этот негоциант».
– Алехо болен, смертельно болен, – снова, как бы отвечая на мысли Рибаса, затараторил Витторио Сулин, – и это не мнительность состоятельного человека. Вот уж год, как он лечится на тосканских водах, и здешние эскулапы советуют ему навсегда осесть в Италии – так замучили его лихорадки.
Теперь возле таверны стояли две лаково-коричневые кареты и шестеро слуг, и когда дверь «Тосканского лавра» захлопнулась за вошедшими и глаза Рибаса свыклись с полумраком, смертельно больной негоциант собственной персоной предстал перед ним: он танцевал, вернее, топал по грязному полу ногами в высоких сапогах под пиликанье ливорнского скрипача и вел за руку женщину в широкой малиновой шали – мадзаро. В таверне было пусто, лишь еще одна женщина сидела у камина, раскачивалась и хлопала в ладоши. Рибас поразился нелепости смертельно больного танцора: он был нескладно высок, тяжел, парик не был заплетен в косу и неопрятно болтался по спине, а тесный танцору грязновато-желтый бархатный кафтан обречен был лопнуть в танце по швам, если путешественник своим появлением не остановил бы танец. Джузеппе был от природы брезглив, и его взяла досада: вместо приятной прогулки по Ливорно ему предстояло общение с этаким Гаргантюа… Витторио быстро заговорил на непонятном языке, из сказанного можно было разобрать лишь слово Неаполь, а великан Алехо отодвинул тяжелый стул от накрытого стола, широким жестом, ни слова не говоря, пригласил садиться.
Сели, и только тут Рибас всмотрелся в лицо негоцианта и ужаснулся рваному побагровевшему, видно, от выпитого вина шраму, уродующему левую щеку негоцианта от виска до подбородка. Карие глаза смотрели на Рибаса настороженными щелками, а рубец шрама слегка растягивал полные губы Алехо в постоянную непроизвольную улыбку. Негоциант наливал флорентийское в тяжелые глиняные кружки, путешественник придвинул Рибасу тарелку с рыбой под остро пахнущим тосканским соусом. «Кто знает, что это за люди… Но судя по шраму, прошлое негоцианта было отменно лихим». Алехо поднял кружку:
– За здоровье вашего короля Фердинанда, подпоручик!
Рибаса неприятно поразило, что путешественник ycпел сообщить негоцианту его чин, но тосканские лепешки в остром соусе, тающие во рту угри и освежающее флорентийское делали свое дело.
– За здоровье вашей юной королевы Каролины!.. За процветание двора обеих Сицилии… За вашего отца…
«Как держаться с ними? Строго, подчеркнуто, изысканно вежливо или сыграть роль простоватого неаполитанца, завзятого кутилы и бесшабашного мушкетера?»…Но спустя несколько минут Рибас понял, что принимает участие в странной словесной игре, которая началась между подвыпившим негоциантом и путешественником.
– А есть в Неаполе картины, достойные времени, судьбы и больших денег? – спрашивал Витторио, а Рибас вспомнил поразившую его в отрочестве «Данаю» Тициана.
– Да! – подхватывал негоциант. – Есть ли в Неаполе достойные люди? Как ваш король жив-здоров? Удивляюсь Марии-Терезии Австрийской – она не прогадала, выдав свою дочь за короля Фердинанда! Но, говорят, он со странностями?
– Тициана я взял на заметку, – перебивал путешественник. – А кто еще достоин внимания?
– Да! Кто в Неаполе достоин внимания? – Алехо пододвигался вместе с тяжелым стулом к Рибасу. Шрам теперь не ужасал, а даже, вот странность, был знакомо приятен. – Кто при дворе делами вертит? Тануччи?
Очевидно, под столом Витторио постукивал своим башмаком по сапогу Алехо, потому что негоциант с недовольным видом иногда поворачивался к путешественнику.
– Говорят, у вас Караваджо хорош, – улыбался Витторио, а Алехо подхватывал разговор на свой лад:
– Тануччи в первых министрах у вас сколько? Лет тридцать? Он, видно, во всех отношениях хорош! И при отце вашего нынешнего цезаря министром был. И при Фердинанде теперь. Он в политике Макьявелли – и правильно! С французскими родственниками да с папой надо держать ухо востро.
Витторио опрокинул фарфоровую чашку, извинился, стал расспрашивать о фресках в церкви Паоло Маджоре, а неопрятный великан-негоциант-меценат интересовался всем, но только не искусством. Он не обращал внимания на слуг, обновивших стол сырами, не замечал внимательного уха хозяина «Тосканского лавра», забыл о женщинах…
Последний раз подпоручик видел короля Фердинанда в походе по побережью. Фердинанд приехал к самнитам на простой повозке и был в латаной одежде неаполитанского рыбака. Страсть к переодеваниям – извинительная слабость неаполитанского цезаря. Он мог заявиться на бал в чалме и турецком халате, нести околесицу про свой сераль; он упивался тем, что его «не узнают» и частенько повышал в чине тех, кто его так и «не узнал». Рассказывали, что в первый год своего правления после смерти отца Карла Бурбона он переоделся в нищего и выдал себя за крестьянина провинциального герцога Габриэля де Анно. Все было бы ничего, но крестьянин этот обвинялся в убийстве и герцог приговорил его к отсечению головы. Мнимого крестьянина схватили, устроили скорый суд, прикатили из мясной лавки плаху и вызвали палача. Герцогу Габриэлю оставалось взмахнуть платком, чтобы справедливость восторжествовала, но тут четверо мушкетеров оттеснили палача, поставили над жертвой палатку, и через несколько минут из нее вышел при всех своих регалиях августейший Бурбон Фердинанд. Толпа ахнула так, что с колокольни сорвался главный колокол церкви. Фердинанд, имея и без того мефистофельские черты лица, хохотал, а после устроил с герцогом такой скромный ужин, что в прошлогоднем вине утонуло несколько подданных.
Алехо смеялся рассказам Рибаса, так бил по столу кулачищами, что сыры выпрыгивали из тарелок. Подпоручик уверился, что его сотрапезники не имеют никакого отношения к завтрашней дуэли. Но настораживал лишь их интерес к его персоне.
– Давно ли вы в чине подпоручика? Как ваш отец-испанец оказался в Италии? Зачем вы едете в Англию? Почему так беден ваш цезарь, и не обирают ли его папские нунции?
Рибас заметил, что у камина появилась еще одна женщина. Хозяин таверны кивнул ей, она безразлично отвернулась. А негоциант посмотрел на женщину открыто, восторженно, встал, подошел к ней, взял за руку и что-то сказал. Потом извлек из кармана мелькнувший желтыми камешками браслет, надел женщине на руку, круто повернулся и, ни слова не говоря, вышел из «Тосканского лавра».
– Он приглашает вас на ужин в свой палаццо, – сказал путешественник.
«Что их могло заинтересовать? Собственно, я всего лишь уточнил, что еду не в Англию, а в Шотландию, к родственникам матери. А родом они из Ирландии».
Рибас взглянул на женщин – они тоже собирались покинуть «Тосканский лавр». Та, что пришла последней, не белила лицо на римский манер. Широкое от талии платье развернулось веером, когда женщина набросила на плечи мадзаро.
– Они едут с нами, – сказал путешественник.
– Завтра утром я должен быть в Ливорно.
– Это вполне осуществимо. Граф предоставит вам карету.
«Этот великан к тому же и граф».
На улице Рибас с удовольствием подставил лицо тиррентским порывам ветра. Витторио Сулин распахнул дверцу кареты – внутри на жесткой постели спал великан-граф. Путешественник не удивился, предложил садиться рядом со спящим, слуги прыгнули на запятки, кучер погнал лошадей. На крутом повороте возле фонтана Четырех мавров путешественник попридержал голову спящего, усмехнулся, взглянул на Джузеппе… Выехали к каналу, соединяющему порт Ливорно с торговым устьем реки Арно.
– Северный источник, – объявил Витторио Сулин, кивнув на ровную площадку возле канала, где возвышались четыре колонны. Дуэль, назначенная здесь на завтра, казалась теперь Рибасу нереальной. Путешественник вдруг наклонился к нему и тихо сказал:
– Вы ведь католик. А в Шотландии верховодят протестанты. Англия поддерживает их.
– Времена меняются. Англия готовится к войне за Североамериканские колонии… и гонения на католиков прекратились. Но я не рассчитываю долго оставаться у родственников.
– Я не ошибусь, молодой человек, если предположу, что вы собираетесь вступить в английский флот?
– Вы поражаете меня своей проницательностью, – с нотой осуждения сказал Джузеппе. Путешественник откинулся к спинке сиденья, ответил с улыбкой:
– Одно мне непонятно: зачем вы ищете горячих дел за тысячи миль отсюда, когда рядом, у греческих берегов идет война.
– У нас в Неаполе ее называют маневрами утопленников.
– Я постараюсь разубедить вас, – серьезно сказал путешественник.
В благословенном ленивом Неаполе говаривали о сваре отоманской Порты и России, но это все было далеко, на севере, на краю света. Правда, недавно у берегов Италии появились русские корабли. Вид их после перехода по Северным морям был так жалок, что премьер Франции Шуазель и правительство Испании отказались от намерения их потопить: стихия итак погубила половину русской эскадры, а в Неаполе эту эскадру называли «дикой». Что тут было правдой, что вымыслом, Рибас не знал, да и не хотел уточнять. Неведомая Атлантика манила паруса его честолюбия, и походы Александра в Индию он проецировал на свои устремления в Новый Свет. Ах, сердце щемило от предполагаемых невероятных дел! Вспыхнуть и осветить судьбу высоким пламенем – а там будь что будет.
Даже когда карету затрясло на мостовых Пизы, и в окошке замаячили десятки колонн соборной церкви, Алехо не проснулся. Пизанская башня косо пересекла прямоугольного окна.
Спустя четверть часа карета въехала во двор двухэтажного палаццо с квадратной башенкой в левом крыле. Негоциант проворно сел в каретной постели, что-то по-русски спросил у путешественника, отчужденно кивнул Джузеппе и первым легко для грузного, двухметрового роста человека выпрыгнул из кареты. За ним последовал Рибас. Двор окружали высокие каменные стены, и как только карета с женщинами въехала в их тень, слуги заперли ворота. Алехо с кем-то разговаривал у крыльца. Женщины вошли в дом через боковую дверь.
Путешественик явно не спешил идти к крыльцу, и через секунду Рибас понял причину: Алехо пожимал руку не кому-нибудь, а священнику македонского полка в Неаполе Антонио Джике. Ошибки быть не могло: курчавая голова, грубые крупные черты лица. Одет священник был в атласные голубые шаровары, заправленные в сапоги, красный матерчатый пояс стягивал толстый живот, рубашка на мощной груди распахнута. Оглянувшись, негоциант что-то крикнул путешественнику, загородил собой низкорослого Джику и оттеснил его внутрь дома. Только после этого Витторио Сулин предложил Рибасу следовать за ним. В передней палаццо налево и направо были завешенные красным сукном проемы в комнаты, но путешественник предложил подняться по каменной лестнице на второй этаж, ввел Рибас в одну из комнат, любезно предложил располагаться отдыхать и оставил подпоручика одного.
Большую часть комнаты занимала кровать с зимними бархатными занавесями. Рибас сбросил накидку, снял парик, придвинул кресло к высокому окну, сел. В окне, на далеком холме виднелось мраморное здание купален герцога тосканского.
Итак, Антонио Джика был давно известен в самнитском полку. Еще кадетом Рибас слыхал, что Антонио – побочный сын генерал-поручика графа Страти. Отчаянный карточный игрок. Поговаривали, что он играет и по-гречески, то есть как Апулос – грек-кавалер при дворе Людовика XIV. Шулерской игрой тот составил себе большое состояние. С тех пор шулерство и стали называть игрой «по-гречески». Однако, Апулос был изобличен и его приговорили к двадцати годам каторги, а Джика проиграл имущество своего отца и был изгнан из дома. Говорили, что он стал лакеем, а это было верхом позора. Потом Антонио каялся перед отцом, пошел служить солдатом в македонский полк, состоящий из албанцев. В это время умер полковой капеллан, и Джика, не в пример прошлым грехам, выказал религиозное рвение, собирал албанцев на молитву, временно занял должность наместника господа в казармах, а через месяц исчез, прихватив с собой полковую кассу.
«Может быть, Антонио теперь поставляет негоцианту италийские подделки? Уж не попал ли я в круг людей вне закона?» Сомнений было много, прошло более получаса, и Джузеппе забеспокоился, выглянул в коридор, где никого не было, и решил спуститься вниз. Из-за красных портьер слышались голоса. Говорили то по-итальянски, – то по-французски. Рибас помедлил: входить или не входить, прислушался и узнал голоса негоцианта и Антонио Джики.
– У меня на побережье много агентов, готовых на все, – говорил Антонио.
– Правда ли, что наместник Черногории выдает себя за покойного Петра III?
– А что это меняет? Кто только не выдавал себя за этого покойника.
– Лично мне это не нравится.
– Я понимаю. Но агентам нужно платить.
– Все это предприятие обошлось в миллион золотом! – Выкрикнул негоциант. – А в результате – одни убытки.
«Э, да тут какой-то заговор», – подумал Джузеппе и обнаружил рядом с собой путешественника Витторио Сулина. Тот прижал палец к губам и поманил Рибаса за собой. Они тихо поднялись по лестнице и вошли в комнату, которую только что оставил подпоручик.
– Насколько я понял, тут идет большая игра по-гречески, – сказал Рибас. – Мне остается сожалеть, что я принял случайное приглашение.
– По-гречески? – путешественник улыбнулся. – Конечно, негоциант Алехо готов на многое, чтобы заполучить древние скульптуры или «Мадонну» Леонардо. Вас это смущает?
– Я слыхал о миллионе золотом. На такие деньги можно купить королевство.
– Алехо, как всегда, преувеличивает. Не обращайте внимание на страсти коллекционера. Я хочу объясниться с вами начистоту. Только что я говорил о вас с главнокомандующим всеми военными силами русских на Средиземном море. Он остановился тут рядом. Я иногда выполняю обязанности его секретаря. Мое псковское имение дает небольшой доход, а чтобы путешествовать, нужны средства. Главнокомандующий весьма заинтересовался вами. Интерес практический. Он прикупает суда к своей потрепанной эскадре. Ему нужен лес, парусина, порох, провизия. Очевидно, вы просто в неведении, что у берегов Греции началась серьезная война. На палубах главнокомандующего уже сейчас до полутысячи пушек. Его адмирал Свиридов высадился в турецком порту Витуло, строит галерный флот и имеет под своими знаменами десятитысячную армию, если считать волонтеров. А из Петербурга вышла вторая эскадра. Да, на территории Древней Греции идет большая игра, но не по-гречески, а по всем правилам чести. Может быть, вашему неаполитанскому цезарю Фердинанду безразлично, что в древней Спарте сейчас янычары. Но, как вам известно, наша императрица ведет войну с турками и нам на руку, если потомки спартанцев помогают нам. – Путешественник перевел дух и продолжал: -
Главнокомандующий с удовольствием берет в свою экспедицию людей военных, а особенно офицеров.
– Среди них есть неаполитанцы?
– Нет.
– Вы делаете мне предложение?
– Нет. Но здравый смысл подскажет вам: оказаться ли в драке за северо-американские колонии Англии или участвовать в благородном деле освобождения Греции из-под турок.
– По-моему, вы заинтересовались мной только по той причине, что мой отец – директор Министерства государственного управления в Неаполе.
– Да, это немаловажно, – откровенно ответил Витторио Сулин. – Главнокомандующий надеется хотя бы на неофициальную помощь Неаполя. Впрочем, ваши торговцы уже «помогли» нам. Мы, закупили у них порох, а они вместо пороха продали нам пыль.
Пришел черед улыбнуться Рибасу:
– Представляю, как в Неаполе смеялись над этим.
– Главнокомандующему было не до смеха.
– Простите. Но обмануть простака в Неаполе не считается зазорным.
Витторио Сулин без труда читал на лице подпоручика работу мысли. Молодой человек нравился ему. Он был непосредственен, красив, кафтан цвета неспелых оливок подчеркивал стройность фигуры, кружевное жабо контрастировало с черной смолью волос, а приятное, с правильными чертами лицо не портил чересчур острый взгляд: темные зрачки не вызывали желания отвернуться от них, наоборот, они располагали собеседника своими вниманием и живостью.
Джузеппе, поначалу настроенный скептически, задумался всерьез, а молодое воображение уже переиначивало прежние проекции походов Александра в Индию на вольный дух Спарты и Афин – эллинское возрождение, благородные кагорты и триумфальные арки мерещились ему в наступивших сумерках.
– Главнокомандующий завтра уезжает из Пизы на свой линейный корабль «Три Иерарха». Его штаб-квартира будет в Ливорно, – сказал путешественник.
Постучавшись, вошел слуга, что-то сказал по-русски и принялся растапливать камин.
– Этот сервиторе приглашает нас вниз, – сказал Витторио Сулин. Рибас надел парик.
– Шпагу оставьте, – посоветовал Витторио.
В комнате за красными портьерами они застали небольшое общество, расположившееся в креслах, на диванах среди мраморных скульптур, ваз и громадных картин на стенах. Путешественник и Рибас вошли никем не замеченные, и Витторио сопровождал подпоручика от одних гостей к другим, знакомил, поддерживал беседу. Антонио Джика и негоциант отсутствовали.
Рибас познакомился с низкорослым крепким человечком в голубом кафтане. Он сбивчиво объяснял, как польщен, как весьма польщен знакомством, отрекомендовался именем, которое выговорить было невозможно – Прокопий Акинфович, а потом почему-то заговорил об итальянских ссудных кассах, существование которых его приводило в полнейший восторг. Жена его куталась в короткую меховую накидку и пожаловалась, что в Италии зимой холодно. Рядом с ней был восемнадцатилетний красавец граф Андрей Разумовский. От него Рибас узнал, что граф недавно оставил службу в английском флоте, где ничему не научился. Крупный мужчина, капитан англичанин Карл Грейг на это заметил, что нужно приложить немало усилий, чтобы ничему не научиться в Англии. Граф Андрей весело согласился и добавил, что его усилия в этом направлении были просто грандиозны. Витторио пояснил Рибасу, что Грейг давно на русской службе и зовут его теперь Карл Самойлович. Мрачный мужчина, отрекомендовавшийся Петром Кирьяковым, был в диковинном сером кафтане и неуклюже сострил, что если Витторио Сулина здесь называют Витторио, то его самого надо именовать Петруччо, и когда Рибас поинтересовался, что же из этого следует, Кирьяков ответил: «А то следует, что ничего не следует».
Ливорнский негоциант Уго Диац представил свою миниатюрную жену Сибиллу, она была в пышном платье-роброне и разговаривала, стараясь повернуться к собеседнику своим чеканным профилем.
Немного спустя прибыл английский консул сэр Дик, и Рибас убедился, что вовсе не его он вызвал сегодня в консульстве на дуэль. Сэр Дик был узколиц, не умел носить фрак, расспрашивал Рибаса об английском посланнике в Неаполе, которого подпоручик в глаза не видел, но несмотря на это, сэр Дик продолжал расспросы о том, как поживает его коллега, в каких он отношениях с таможней и не было ли у него неприятностей, ибо итальянцы народ вспыльчивый. Жена сэра Дика Джен предстала перед собравшимися в платье а ля фрак, протянула руку Рибасу, неестественно ее вывернув, и подпоручик впервые в жизни целовал даме оттопыренный мизинец.
В светском обществе Джузеппе чувствовал себя, как рыба в воде, а в этом, приятном и простом, некоторое время был центром внимания, когда рассказывал о землетрясении на Сицилии, и Прокопий Акинфович, заизвинявшись, спросил: «Почему, простите мое невежество, неаполитанский цезарь, ах, я стыжусь не знать, почему он носит такой необычный великолепный титул Короля Обеих Сицилии?» И Рибас поведал о Сицилийской вечерне, об анжуйских и арагонских династиях, о том, что цезари Сицилии называли Южную Италию «второй Сицилией», а неаполитанские цезари по традиции называют себя королями обеих Сицилии. Прокопий Акинфович был восхищен такой широтой взглядов и представлений, но Петруччо Кирьяков мрачно изрек:
– Это не титул выходит, а одно недоразумение.
Джузеппе вспыхнул и сказал, что это недоразумение можно выяснить в любое время и – в любом месте. Петруччо пожал плечами, но тут явился князь из рода Долгоруковых – Юрий Владимирович и громогласно объявил, что в Италии водятся сибирские голубые песцы, которых он неудачно преследовал сегодня на охоте. Жена консула Джен сказала, что об этом же ей говорил какой-то германский барон.
– Мюнгаузен! – воскликнул князь. – Я с ним встречался. Он мне рассказывал, как стрелял в оленя косточкой вишни, а потом во лбу оленя выросло вишневое дерево. Эка невидаль. У меня как-то в Новгороде был медведь, я для куража обрядил его в солдатский мундир. А медведь взбесился и убежал от меня в лес.
– Что же здесь необычного? – спросила жена консула.
– Да я потом года через два встретил этого медведя. А он уж был не в солдатском, а в офицерском мундире.
До появления негоцианта Рибас удивился двум вещам. Во-первых, скромнейший, старающийся занимать как можно меньше места, невидный человечек Прокопий Акинфович, по словам Витторио, одолжил русской императрице Екатерине II четыре миллиона на войну с турками. «Тут собрались странные Крезы!»… Во-вторых, князь Долгоруков заявил, что война против Порты без личного его участия не имела бы никакого смысла и что главнокомандующий не принял бы свой пост, если бы он, Юрий Владимирович, не дал согласия прибыть в Италию.
Негоциант и Джика явились к гостям без париков, в блеклых голубых куртках, широких штанах с пуговицами у колен. Алехо был весел. Объявил, что в платье итальянского пейзана его никто не должен узнавать, как неаполитанского короля Фердинанда, и, постукивая грубыми сабо, подошел к жене Уго Диаца Сибилле, взял ее под руку и повел к столу, накрытому в соседнем зале. Антонио Джика пожал руку Рибасу и сказал, что они непременно переговорят обо всем позже.
«Изюминкой» стола был многопудовый кабан, зажаренный целиком. Рибаса поразило отсутствие слуг – в Неаполе такое немыслимо. Гости ухаживали друг за другом, и это подпоручику нравилось. Граф Андрей Разумовский блеснул образованностью, вспомнив, что в Таврии был свой Неаполь, построенный скифским царем Скипуром во времена Митридата, а Рибас в ответ прочитал несколько строк из итальянских поэм о русском цезаре Петре Великом, которые стали модны и не сходили с уст поэтов Италии. Алехо восторженно обхаживал Сибиллу. Ее пышные волосы нависали над лбом гладким колышком, отчего острый профиль напоминал встревоженную птицу, но мужчины стремились ей угодить и Рибас заключил, что Сибилла – пассия Алехо.
Заиграла музыка, появились три женщины из «Тосканского лавра» и музыканты; стало понятно значение пейзанских костюмов Алехо и Антонио Джики – бешеный ритм тарантеллы призвал их к танцу с явившимися дамами. На светских вечерах в Неаполе тарантелла была запрещена как святотатство, но здесь, в атмосфере почти домашней, все казалось Рибасу естественным, и в конце концов гости повскакали из-за стола – фривольный танец кружил головы, а уж когда с хохотом вернулись к столу и усадили за него прибывших дам, Рибас поразился: сословные заковыки никого тут не беспокоили, и он пустился в незамысловатый флирт с молодой женщиной, которую отличил от других еще в «Тосканском лавре», но с ним соперничал Петруччо Кирьяков. Ее звали Сильвана, вдова, сестра хозяина таверны. За поздним вечером Витторио Сулин предложил Рибасу остаться на ночь в палаццо и намекнул, что женщины из таверны наняты до утра. Рибас учил Сильвану танцевать полонез, спросил, где ей отвели комнату, но женщина без смущения сказала, что знает, где остановился он.
Когда возникла общая пауза в разговорах, консул Дик вдруг вспомнил о происшествии, которое случилось днем с его секретарем:
– Представьте, какой-то бешеный итальянец вызвал моего секретаря на дуэль. Ворвался, оскорбил, а потом потребовал сатисфакции.
Рибас подошел к сэру Дику и, твердо чеканя каждое слово, сказал:
– Этот итальянец – я. Ваш секретарь вам солгал.
– Не может быть…
Подпоручик был взбешен такой реакцией консула:
– Вы не верите мне? Значит, вы разделяете то, что я услыхал сегодня от вашего секретаря! А в таком случае…
– Помилуйте, я верю вам! – Поспешил с заверениями консул. – Просто я удивлен, что это именно вы! Простите, но я хочу сказать, что дуэль не состоится – мой секретарь уехал в Геную на неделю.
– Мне придется дождаться его.
– Если он узнает об этом, он никогда не вернется в Ливорно.
Все слушали этот громкой разговор. Негоциант Алехо хмурился. Граф Андрей по-мальчишески выпалил в лицо консула:
– Ваш секретарь трус!
– А я что говорю, – развел руками сэр Дик.
Прокопий Акинфович сразу решил уехать. Следом за ним, никому не сказавшись, Алехо увез Сибиллу любоваться пейзажами Арно. Капитан Карл Самойлович предложил начать карточную дуэль. Женщины ушли. Раздосадованный неожиданным поворотом вечера, Рибас некоторое время наблюдал за игрой, а потом поднялся наверх. Комната была освещена лишь малиновым мерцанием поленьев в камине. Подпоручик зажег от камина свечу, обнаружил на столике фарфоровую чашу, до краев наполненную водой, губку и полотенце. Он разделся и с удовольствием поплескался над чашей. За окном стояла непроглядная темень. В комнате было тепло, да и зима выдалась на редкость мягкой. Поэтому молодой человек, по привычке всех неаполитанцев, обнаженным рухнул в постель и тут же обнаружил, что он не один – теплая рука Сильваны обняла его.
Проснулся он поздним утром от шума и громких быстрых шагов за дверью, оделся, выглянул в окно – у ворот стояло несколько запряженных фур, а по двору сновали солдаты в незнакомой зеленой форме. Схватив свою накидку, Рибас выскочил из комнаты, но спуститься вниз сразу же не удалось: двое солдат стаскивали по лестнице кованый сундук. Действиями их руководил Кирьяков. Он был при шпаге, в зеленом мундире и шляпе, обшитой гарусом.
– В Тоскане война? – спросил Рибас.
– Посторонись! – крикнул зло Петруччо, и солдаты пронесли мимо Рибаса рогожные тюки. У входных дверей Джузеппе столкнулся с Витторио Сулиным, и тот без обиняков спросил:
– Что решили, подпоручик? Главнокомандующий уезжает в Ливорно.
Рибас не был готов к ответу и, чтобы оттянуть решающий момент, сказал:
– Но для поступления в русскую экспедицию мне, верно, нужно разрешение короля.
Витторио сухо кивнул и ушел в дом. Путешественник, как и вчера, был одет в цивильное. Возле ворот стояли двое часовых с ружьями. Капитан Карл Грейг, не обратив никакого внимания на Рибаса, сел в карету и умчался. Солдаты выводили из конюшен строевых лошадей. Кирьяков выбежал за ворота к фурам. Наконец, Рибас догадался: «Очевидно, от меня скрыли, что главнокомандующий живет в этом палаццо». Но ни до него самого, ни до его догадок никому не было дела.
– Подпоручик! – окликнул Рибаса Витторио. – Главнокомандующий ждет вас.
Рибас пошел следом за путешественником. Они вошли во вчерашнюю, заставленную италийскими древностями комнату, несколько мужчин, очевидно, офицеров, расступились перед ним – изумленный Рибас увидел гиганта Алехо. Голубая лента со сверкающей звездой, золотые шнуры эполета, широкое золотое шитье на воротнике…
– Ну что же, подпоручик, – буднично, даже как бы нехотя сказал «негоциант». – Получай разрешение у короля. Успеешь – найдешь меня на «Трех Иерархах».
Рибас понял, что аудиенция закончена, и, по-строевому повернувшись, вышел.
3. Смерти ищете? 1770–1172
Все последующие дни и недели были наполнены ожиданием, неизвестностью, сомнениями и суетой. Разговора начистоту с Антонио Джикой не получилось – вместе с князем Долгоруковым он срочно отбыл на театр военных действий. Рибас написал отцу и получил скорый ответ. Дон Михаил и думать запретил о переходе на русскую службу. Дело было не в согласии короля Фердинанда, который в это время с упоением обставлял свой кабинет охотничьих трофеев. Дело было в обстоятельствах политических: неаполитанский цезарь весьма зависел от испанского и французского двора. Франция вооружала Оттоманскую порту, посылала в Константинополь инструкторов, эмиссаров для обучения военному искусству нерегулярную турецкую армию, противостояла России и Польше. На этом фоне вступление неаполитанского мушкетера в средиземноморскую экспедицию русских под командованием графа Алексея Орлова было из ряда вон выходящим возмутительным шагом.
Официально Алексей Орлов приехал в Италию для лечения на пизанских минеральных водах под фамилией Островов – по названию принадлежавшей ему деревни.
В лейб-гвардии прозвище его было Алехан, поэтому за границей он часто именовал себя Алехо. Русская цезариня снабжала Орлова золотом, полномочиями и бесконечными инструкциями. Черногорцы, греки, албанцы, македонцы, тайно посещавшие Алехо, возвращались в свои страны, и слухи о русской эскадре будоражили умы так, что вырезались турецкие гарнизоны, а население загодя присягало Екатерине II. Но эскадра адмирала Свиридова опоздала к апогею волнений, и ей предстояла тяжелая война без тылов. Конечно, Дон Михаил не входил во все эти обстоятельства и не живописал, какая страшная участь ждет русскую экспедицию и опрометчивого мушкетера, желающего в нее вступить. Он писал о семье, о брате Эммануиле, о его карьере. Намерения Рибаса перечеркивали его будущее.
Однако, зная упрямство своего старшего сына, Дон Михаил переговорил с военным министром Лос Риосом, с тем самым генералом Антонио де Лос Риосом, с которым Дон Михаил еще в 1734 году высадился в Неаполе под знаменами Дон Карлоса. И, как ни странно, Лос Риос дал согласие на вступление подпоручика в русскую службу.
В следующем письме отец благословил сына, но сообщил, что военный министр обусловил свое согласие тем, что Рибас должен был поставлять сведения о намерениях русских неаполитанскому, а значит, и французскому двору. При этом Лос Риос присваивал подпоручику капитанский чин, тонко рассчитывая на ответную благодарность: Екатерина II принимала на свою службу иностранцев с понижением в чине. Так что выходило: даже о честолюбии капитана Рибаса Неаполь проявлял заботу. В конце письма Дон Михаил давал понять, что пришлет разумную сумму денег, какая может понадобиться Джузеппе.
Отвечать пространным письмом новоявленному капитану было недосуг. Он напомнил отцу, что в данное время находится в отпуске и будет пользоваться им по своему усмотрению. Тогда отец написал ему, что хоть Ризелли оправился от раны, но вряд ли дуэль останется без последствий со стороны его клана. Дон Михаил считал, что в Тоскане длинным ножам легко найти Джузеппе, но девятнадцатилетний Рибас беспечно ответил, что страхи отца напрасны, а вступление в русскую службу волонтером в какой-то мере защитит его.
Он переехал в комнату на втором этаже «Тосканского лавра». Сильвана обитала по соседству. Ее муж погиб два года назад во время горного обвала под Мано, она стала совладелицей «Тосканского лавра» вместе со своим братом Руджеро, но дела шли из рук вон, они были на грани разорения, если бы не помощь Островова-Орлова. Правда, Орлов рассчитывал, что взамен хозяин таверны станет его человеком, но Рибас, пожив тут с неделю, понял, что Руджеро – давний римский доносчик. В Италии доносы были обыкновением. Дворянские семьи, считавшие себя приличными, всегда имели под рукой профессиональных ябед.
Ливорно – город порто-франко, и Джузеппе нашел нужных людей в складских магазинах, на бирже, помогал офицерам Орлова закупать большие партии продовольствия, парусины, оснастки, получал комиссионные, и дорожная шкатулка, обитая изнутри зеленым шелком, заметно потяжелела. Но, несмотря на занятость и разъезды, он иногда до синих теней под глазами просиживал за картами, и заветная шкатулка неумолимо обнажала свое шелковистое зеленое дно.
Как-то в начале игры в банк-фараон в обществе ливорнского негоцианта Уго Диаца, лейтенанта Кирьякова и незнакомого штаб-офицера у Рибаса случилась ссора с Петруччо. Лейтенант распорядился, чтобы Сильвана подогрела ему вино, и когда она принесла требуемое, он нарочито раскричался, что вино холодное. Получив более теплое, Кирьяков выплеснул вино под ноги женщине, обрызгал платье и завопил, что это кипяток.
– Вы забываетесь, Петруччо, – с усмешкой сказал Рибас, прекрасно понимая, что отношения его с Сильваной известны Кирьякову, и поэтому добавил: – Я вас проучить могу.
– Только после вот этого! – крикнул лейтенант, и Рибас получил такой удар, что оказался на полу возле камина. Не раздумывая, он выхватил из него горящее полено и ударил им по лицу Кирьякова. Тот взвыл. Присутствующие тут же их развели. Орлов, узнав о происшествии, передал, чтобы этот сумасшедший неаполитанец не показывался ему на глаза, а Петруччо посадил под арест на «Трех Иерархах», где у того постепенно отрастали сожженные брови.
В начале апреля кизиловые рощи окрасили ливорнские холмы нежно-желтым цветом. «Три Иерарха», фрегат «Надежда», мелкие суда, пакетбот с войсками десанта снялись с рейда Ливорно. В каюте, которую он делил с Витторио Сулиным на «Трех Иерархах», Рибас примерял русский мундир. Орлов распорядился офицерам-волонтерам не носить аксельбантов и нагрудных знаков, не позволял в знак офицерского достоинства перепоясываться шарфом серебряной пряжи с пышными кистями. При «возложении» мундира, присутствовал, кроме Витторио, граф Андрей. На дубовой обшивке каюты над постелью Витторио висел портрет женщины, лицо которой портила совсем неизящная линия подбородка. Рибас поинтересовался: что это за дама на портрете и кем она приходится Витторио? Андрей Разумовский расхохотался:
– Она приходится ему императрицей.
Рибас внимательно рассмотрел портрет. Необъятное платье руской цезарини занимало три четверти холста и напоминало походную палатку, расшитую розами. Скипетр императрица держала в опущенной руке так, как будто собиралась им что-то записать. Глаза ее с подчеркнутым вниманием смотрели сверху вниз, излучали спокойствие. Но по мнению Рибаса художник допустил просчет: гигантское платье чудом держалось на бретельках, а декольте обнажало такую рубенсовскую плоть, что верноподданническому чувству, которое должен был вызывать венценосный образ, мешало воображение. Оно дорисовывало грешное тело русской цезарини.
Корабли держали курс зюйд-зюйд-вест, и Рибас удивился: зачем огибать Сицилию, когда между ней и итальянским сапожком есть мессинский пролив! Когда же капитан Карл Самойлович Грейг сослался на отсутствие лоцмана, Рибас сказал, что надо идти на Стромболи, а потом на мессинский маяк и вызвался провести суда проливом, так как знал и его, и побережье. Офицеры отправились к Орлову. Каюта главнокомандующего отнюдь не напоминала покои вельможи. Орлову недужилось, он принял их лежа в постели, выглянул из-за занавески и спросил:
– Что еще?
Выслушал, задернул занавеску и глухо пробубнил, что в теории гипотенузия короче, а на практике может выйти не только наоборот, но еще и глубже – охотники потопить суда всегда найдутся. Так что шли на зюйд, огибали Сицилию, проверяли встречных торговцев и наткнулись на свое посыльное судно «Почтальон», идущее из Греции. Офицер-курьер из англичан по имени Маккензи перемахнул через борт с пакетом в зубах и убежал в каюту Орлова. Через несколько минут палубы «Трех Иерархов» содрогнулись от залпов: командующий устроил салют в честь бригадира Ивана Ганнибала, бомбардировавшего и принудившего к сдаче крепость Наварин.
Сицилию обогнули благополучно, а на переходе к греческому Архипелагу была объявлена тревога. Джузеппе выскочил на палубу в рубашке с пистолетом за поясом и со шпагой в руке: предстоял абордаж двух алжирских судов, и волонтера-неаполитанца била дрожь нетерпения. Но алжирцы капитулировали без боя и команды их тут же присягнули Екатерине II. Рибас был поражен: алжирские суда оказались судами торговыми и их захват являлся чистым корсарством. Но Рибасу объяснили, что Орлов получил от императрицы разрешение на корсарский промысел. Если и запрещала Екатерина корсарский разбой, то лишь против народов христианских.
Рибаса возмущал Витторио Сулин, и в конце концов они поссорились, когда корабли достигли греческого побережья. Путешественник вел свои «Большие Поденные Записки» и отговаривал алчущего дела неаполитанца участвовать в десанте:
– Он обречен.
– Но горцы поддерживают русских! – возражал Рибас.
– Горцы так ненавидят турок, что пленных не берут. Вспарывают животы и воинам, и женщинам, и детям. Поэтому теперь турки стоят в своих гарнизонах насмерть. Десанты вглубь побережья бессмысленны, потому что Порта имеет возможность присылать свежие войска, а Орлову их неоткуда взять.
В гавани Наварин совещались на «Святом Евстафии» пятидесятишестилетний адмирал Спиридов, генерал-адмирал Орлов и его брат Федор, руководивший десантами. Их решения еще не были известны, как на «Три Иерарха» прибыли Антонио Джика и князь Долгоруков. Они уже успели побывать и в Черногории, и в поисках под Наварином.
Долгоруков по своему обыкновению рассказывал насмешливо и в то же время высокомерно:
– Порта оценила мою голову в пять тысяч червонцев. Дешево, но мне пришлось бежать. Правда, перед этим я успел дать королю Черногории чин русского унтера.
Антонио Джика сообщил тревожную весть:
– К побережью приближается большая турецкая армия. В ней одни янычары.
Но Рибас все-таки вызвался идти в очередной поиск, и тогда Витторио осведомил адмирала Спиридова, что волонтер-неаполитанец Рибас знает пять языков. Спиридов приказал волонтеру прибыть на «Святой Евстафии».
– Будете при мне драгоманом, – сказал адмирал.
Когда Джузеппе узнал, кому он обязан назначением в драгоманы-переводчики, предела его ярости не было, но в душе он понимал, что путешественник спас ему жизнь: из поиска в сто человек вернулся лишь лейтенант Кирьяков и три солдата.
Антонио Джика удивил Рибаса своей серьезностью:
– С прошлым покончено, – говорил он волонтеру. – Мне всегда был по душе риск. Но то были мелкие дела. Вам, Джузеппе, повезло. Неаполь – не место для энергичных людей.
Единственное обнадеживающее известие принес Афанасий Кес-Оглы – турок-волонтер русской службы с рыбацкой фелуки: в Колонкинфском заливе появилась новая русская эскадра, и корабли Спиридова пошли на соединение с ней. Эскадрой, прибывшей из Кронштадта, командовал англичанин Джон Эльфинстон. Когда Григорий Андреевич Спиридов встретился с ним, Рибас стал свидетелем событий, которые и восхищали и удручали его одновременно. Эльфинстон еще до прихода Спиридова столкнулся с турецким флотом. У Эльфинстона было всего три линейных корабля и два фрегата, а силы турок превосходили их втрое. Но англичанин не убоялся напасть на них, обратил их в бегство и запер в одном из заливов.
– Почему вы их выпустили, когда я подошел со своей эскадрой?! – кричал Спиридов.
– Они улизнули ночью, – отвечал Эльфинстон.
– Вы не захотели делить лавры победы со мной!
– Мне ни от кого не потребовалась бы помощь.
– Вы им намеренно дали уйти! Опозорили андреевский флаг…
– Я немедленно напишу императрице о ваших оскорблениях.
– Вас надо списать на берег как адмирала вне комплекта!
Эльфинстон действительно получил свой чин всего за месяц русской службы и был назначен адмиралом сверх положенных штатов, но считал себя подчиненным лично Екатерине. Спиридов бушевал, а Эльфинстон держал свой флагманский вымпел на корабле «Не тронь меня», и говорили, что он напрямую использовал название корабля в отношениях со Спиридовым. Одним словом, святое для Рибаса дело возрождения Греции в сваре адмиралов отступало на второй план.
Но, взорвав Наварин, к эскадрам прибыл Орлов. Он вызвал к себе адмиралов, выслушал и высказался определенно:
– Коли сцепились два охотника, им и зайца не затравить. По воле императрицы я принимаю командование соединенным флотом и поднимаю свой флаг на «Трех Иерархах».
И началась многодневная погоня за турецким флотом.
При Спиридове Рибас был временно, улаживал взаимоотношения между многочисленными наблюдателями – англичанами, генуэзцами, немцами, мальтийцами и разгадывал загадку: почему турецкий флот, имея двойной перевес перед русскими, бежит? Постепенно под началом Рибаса образовалась команда волонтеров, и восемнадцатилетний турок Афанасий Кес Оглы, бежавший из Константинополя от преследований, объяснил загадку просто:
– В турецком флоте половина матросов – христиане. Разве они поторопятся умирать за аллаха?
Кес знал грамоту. Любил командовать. Рибас сделал его старшим среди своих волонтеров. Кес воспринял назначение своеобразно: стал называть Рибаса не иначе, как Рибас-паша. Турки, по его словам, как моряки ничего не стоили, а их капитаны покупали свои должности и считали вверенные им корабли личными поместьями.
На крохотном посыльном судне «Лазарь» Рибас с волонтерами выезжал к побережью, собирал сведения об османском флоте. Возле острова Парос они выловили полуживого юношу-грека. Когда Кес увидел его, то закричал:
– Это сын прислужника турок Бицилли – Константинос!
Затем он расплел пеньковый канат и стал стегать им юношу. Рибас едва его унял. Константин Бицилли был юнгой с турецкого линейного корабля «Реал мустафа» и рассказал, дрожа от страха:
– Я бежал с судна… Я узнал… Турецкий капудан-паша Госсан дал клятву султану потопить русский флот…
– Каким образом? – спросил Рибас.
– Каждый турецкий корабль сцепится с каждым русским и вместе с ним взлетит в воздух. А ведь турок вдвое больше. Значит, половина флота уцелеет и возвратится к султану с победой.
Над юнгой посмеялись и оставили его на «Лазаре» в прежнем звании. Когда пополняли запасы пресной воды, появился Федор Флаганти, единственный оставшийся в живых послушник греческой общины на Периго. Его спасло то, что он потерял сознание, когда турки насиловали женщин и тут же вспарывали им животы.
Почти через месяц золотым июньским утром русская эскадра настигла турецкий флот в Хиосском проливе. Джузеппе оказался в арьергарде под командованием Эльфинстона, который не спешил ввязаться в пушечную дуэль, а она загромыхала за час до полудня: две тысячи пушек с обеих сторон ударили с такой силой, что горизонт ахнул и не было больше никаких пространств, ничего не было, кроме визжащей и стонущей канонады. Рибас поднялся на саллинг и лишь успел увидеть, что авангард и кордебаталия русских в кильватерной колонне шли на турецкие линии, маневрировали, но тут все окуталось дымом. И вдруг изнутри дым и пекло всплескнулось таким взрывом, что, казалось, воды Хиоса не выдержали и разверзлись до дна.
Эльфинстон ввел арьергард в дело через час после унизительного, как казалось Рибасу, ожидания, но стрельба шла по неясным в дыму целям – турки рубили канаты и уходили в бухту. К вечеру все стихло. На «Лазаре» Рибас прибыл к «Трем Иерархам». Оттуда ему крикнули:
– Раненых подбирайте!
На борт «Лазаря» спрыгнули граф Андрей, Джика и Кирьяков. Кирьяков, все плаванье не здоровавшийся с Рибасом, вдруг сказал ему:
– Это тебе не драка в «Тосканском лавре»!
Притихшие рибасовы волонтеры вытащили из воды пятерых солдат, двух офицеров и обожженного и контуженного начальника десантов Федора Орлова. Его доставили на «Три Иерарха».
Перед самыми сумерками ветер-свежак рассеял пороховую гарь и открылось печальное зрелище: большая часть судов осталась с рваными парусами, разбитым рангоутом и оснасткой. На палубах молились, хвалили командиров за кильваторную колонну, удивлялись туркам, забывавшим рубить шпринги и подставляющим под огонь корму. На взорвавшемся «Евстафии» погибло около пятисот человек.
Граф Орлов закусывал на шканцах. Долгоруков, в жизни не командовавший шлюпкой, живописал:
– Я руководил маневрами на «Ростиславе». Пришлось сблизиться с турками. Я им погрозил пальцем так, что они попрыгали в воду. А сам Гассан-паша, забыв своего аллаха, перекрестился и сбежал на берег.
Пленные показали, что турецкий адмирал и в самом деле не участвовал в бою, а был на берегу.
Матросы смеялись, выясняли подробности, возмущались приказу не пить вина, жалели погибших – но все это не затрагивало разочарованного, опоздавшего к схватке неаполитанца-волонтера. Орлов совещался с адмиралами, а позже стало известно, что решено атаковать турок в бухте Чесма после полуночи. Путешественник Витторио Сулин, вконец оглохший от дневной пальбы, лежал в каюте, и Рибас написал ему, что отправляется с цехмейстером Иваном Ганнибалом к брандерам.
– Смерти ищете? – спросил Ганнибал, когда Рибас вызвался остаться на одном из четырех судов, переоборудованных в брандеры – суда с бочками нефти и порохом в трюмах, предназначенные для того, чтобы вплотную подойти к туркам и поджечь их, но перед этим надо было, чтобы кто-нибудь поджег сами брандеры. На одном из них Рибас остался с лейтенантом Маккензи и командой матросов. Антонио Джика и Кирьяков поплыли с Ганнибалом дальше, к передовому брандеру, на котором и остались. Маккензи, обрадовавшийся возможности поговорить по-английски, был словоохотлив.
– Я не люблю риск, – говорил он, вглядываясь в темноту ночи. – Я ставлю опыт: можно ли сделать морскую карьеру вне Англии. А вы давно на службе России?
– Я ей не служу, – ответил Рибас.
– Понимаю, вы ставите свой опыт, – сказал Маккензи и стал сокрушаться, что нельзя раскурить трубку. С палубы не уходили, чтобы не прозевать сигнала. Матросы расстелили мешки у борта, легли. Рибас подошел к ним. За эти месяцы он узнал и запомнил больше сотни русских слов, но о чем переговаривались матросы, не разобрал. Они и ему устроили постель из мешков, похлопали по ним ладонями, предлагая отдохнуть. Маккензи решил выкупаться, а Рибас мгновенно заснул, и в быстром сне весельчак Маккензи нырял в середину луны, серебряное пятно растекалось по воде…
– Огонь на «Ростиславе»!
Рибас вскочил. На гафеле «Ростислава» горел один фонарь – это был запрос к эскадре: готовы ли? И во тьме возникали десятки огоньков в ответ: готовы. На мачте «Ростислава» зажгли три фонаря: эскадре идти на неприятеля.
Сотни то вспыхивающих, то гаснувших свечей первых залпов не дали результата, турки пока не отвечали, но когда вдруг вспыхнуло одно из судов и осветило сгрудившийся в котловане бухты османский флот, пальба стала обоюдной. Первому бранедру турки не дали подойти близко и сожгли его на подступах. Маккензи что-то кричал, но матросы уже и без этого выбрали якорный конец, прибавили паруса, брандер полным ходом приближался к флангу турецкого флота, но вдруг палуба ушла из-под ног Рибаса, он полетел во тьму, ударился о надстройки, едва увернулся от катящейся бочки с нефтью. «Мель!» – крикнул рядом матрос. Позади вспыхнул третий брандер. Горящая нефть растекалась по воде. И лишь четвертый брандер лейтенанта Ильина приближался к турецким кораблям невредимым, но наперехват ему шла гребная галера. «Оставить брандер!» – закричал Рибас матросам и выпрыгнул за борт. Заранее приготовленная дубль-шлюпка оказалась рядом. Он вскарабкался в нее, гребцам указал на турецкую галеру, и его поняли без слов – гребцы налегли на весла. Рибас ощупал шарф на поясе – пистолеты были на месте. Но куда они годились после того, как побывали в воде! Он обнажил шпагу. Шлюп, где был Маккензи, ударился в борт турецкой галеры. Ее развернуло и прижало к шлюпке Рибаса. Матросы становились на борт и прыгали в галеру. Рибас остался в шлюпке, держал шпагу в вытянутой руке и, когда в свалке тел различал чужой мундир, вонзал в него шпагу. Вдруг мощный взрыв приподнял шлюпку и отбросил в сторону. Прийдя в себя, Рибас увидел, что брандер Ильина поджег многопушечный турецкий корабль, а от него уже загорались другие, и взрыв следовал за взрывом. Нещадный жар хлынул от этого стонущего вулкана, и Рибас с уцелевшими гребцами налег на весла.
К утру турецкий флот покоился на дне Чесменской бухты. Удалось захватить лишь линейный «Родос» и пять галер – одну из них Маккензи привел к «Трем Иерархам». И снова по палубам перекатывались волны возбужденных разговоров. Удивлялись Спиридову, который спутал диспозицию, отдав в рупор приказ выступить первым не тому кораблю; славили лейтенанта Ильина – он поджег свой брандер и последним покинул его; пили из чарок, кружек, ведер, бочек; свозили из брошенной крепости оружие, порох, драгоценные камни, шелка, ковры; падали кто где после бессонной ночи, просыпались от криков «ура» и пушечного салюта с других кораблей; горевали, не пьянели от вина и удивлялись тому, что совершили. Все это теперь было близко Рибасу, причастность к общему делу переполняла его, и он не обращал внимания на то, что одному Маккензи приписывали удачный захват галеры – солнечные ионические храмы все еще мерещились неаполитанскому волонтеру и он, кое-как отмывшись от нефти и крови, заснул. Но его тут же растолкал Кирьяков, который узнал от матросов, как было дело, и потребовал от волонтера выпить за его волонтерское здоровье.
– А Джика? Жив? – спросил Рибас.
– Что ему сделается после трех кружек хереса? – отвечал Петруччо и добавил: – Чудом спаслись.
После победы при Чесме грянули совсем иные, но стремительные события. Двадцать семь больших и малых островов Греческого Архипелага прислали депутации к Орлову, желая быть под скипетром Екатерины. В Константинополе агент Версальского двора барон Тотт с ужасом взирал на выстроенную им бальную залу и заготовленный фейерверк для предполагаемых торжеств в честь неминуемой победы турецкого флота. Но известие о Чесме превращало торжества в тризну.
Орлов блокировал Дарданеллы. Константинополь был обречен на голод. Самоволие адмирала Эльфинстона привело к тому, что он посадил линейный корабль «Святослав» на мель, русские суда его не смогли спасти, а турки проскользнули через ослабленную блокаду. Эльфинстона отправили в Кронштадт и отдали под суд.
Тем временем прибыла еще одна эскадра из России. Ее привел датчанин адмирал Арф, и посыльное судно «Лазарь» приняло его на свой борт, чтобы отвезти к «Трем Иерархам». В свите адмирала был юный лейтенант, с которым Рибас заговорил о трудностях перехода из Северных морей. Лейтенант, отрекомендовавшийся Григорием Кушелевым, с весьма восторженными интонациями говорил:
– О, бури были таковы, что мы не раз могли пойти ко дну! Я три года плавал гардемарином по Балтике, а это не тихая заводь, доложу вам. Однако, огибая Европу, мы вместо Плимута могли отшвартоваться на том свете.
– Вы плавали гардемарином? Что это такое?
– Первый чин после окончания морского кадетского корпуса.
– В России есть такие учебные заведения? – удивился Рибас, а Григорий Кушелев, понизив голос, отвечал:
– Если вы свалились с луны, я вам отвечу: и есть и были. А моряки – не чета датчанам!
Пока на «Трех Иерархах» Арф вел переговоры с Орловым, Рибас угостил Григорио, так он стал называть Кушелева, ромом, вкратце рассказал о Чесме, и Григорио поведал о том, о чем Джузеппе не мог и предположить:
– О, лучше поэты в Петербурге в своих одах воспели Чесменский бой. Императрица распорядилась, чтобы готовили памятник этой победе. Весть о ней праздновалась под тысячеколокольный звон и пушечный салют по всей Руси. Отчеканены медали, памятные знаки. Но я хотел бы продолжить разговор… начатый на палубе «Лазаря». Вы читали Даниеля Дефо?
– «Робинзон Крузо»? Конечно.
– А не попадалась ли вам книжечка в двадцать пять страниц «Приключения четырех российских матросов, к острову Ост-Шпицбергену бурею принесенных»?
– Не встречал.
– А во Франции уже готовят ее шестое издание. Четверо наших моряков оказались на голом каменном острове в Арктике. А это, доложу вам, отнюдь не тропики с попугаями, где Робинзон Крузо жил барином! У матросов были ружья, рожок с порохом на двенадцать зарядов и столько же пуль. Топор. Котел. Двадцать фунтов муки. Один ножик, пузырь с курительным табаком и деревянные трубки, огнянка и немного труту. И все! Все, кроме северных стуж и метелей.
– Сколько же они выдержали?
– Погодите. Двенадцатью пулями они убили двенадцать оленей. Но мяса хватило не надолго. Они нашли бревно с крюком. Сделали что-то вроде копья и убили белого медведя. Его жилы нарезали тонкими полосками – они годились на тетиву. Из корней плавникового дерева сделали лук. Охотились на оленей и песцов. И только через шесть лет их снял с острова случайный корабль!
– Выпьем за их мужество, – предложил юный волонтер. – Оно достойно восхищения и этого рома.
– Нет! – крикнул Кирьяков. – Сначала скажите: не щенок ли в сравнении с ними европейски хваленый англичанин Робинзон Крузо?
– Я с вами согласен.
– Тогда налейте мне полную, Джузеппе.
Шум на палубе прервал их тосты и беседу. Взбешенный приемом Орлова, датчанин Арф продолжал кричать, что он не подчиняется выскочкам, что его действиями руководит лично Екатерина… Одним словом, история с англичанином Эльфинстоном повторялась. Григорио поспешил за своим адмиралом на «Святой Георгий Победоносец», а спустя некоторое время Орлов сумел вынудить Арфа сдать команду над прибывшей эскадрой, а сам стал собираться на отдых в Италию.
– Вот теперь через мессинский пролив пойдем! – говорил он. – А пусть-ка попробуют французские шуазели к нам сунуться! Прищемим интересные места!
Афанасий Кес Оглы и Федор Флоганти притащили в каюту трофейный турецкий ковер – от греков в подарок Рибас-паше. Юнга Константин Бицилли записался в волонтеры и служил на корабле «Не тронь меня». Орлов собирался посетить Неаполь, и в честь отплытия Рибаса и Витторио офицеры устроили вечеринку, на которой князь Долгоруков опровергал закон Архимеда и доказывал, что тело турка, опущенного в воду, вытесняет не жидкость, а тело второго турка, который был опущен в воду раньше. Кирьяков отправлялся в Италию с ротой охраны главнокомандующего.
Путешественник Витторио Сулин до самой Сицилии переписывал шканечный журнал «Трех Иерархов» в свой Большой Дневник и, сверяясь с голландскими судоходными картами, установил, что Чесма – это древнегреческий Эфес, в котором родился Гераклит. В порту Мессина стали на якорь и свезли на берег вконец расхворавшегося Федора Орлова, устроили его в лазарете госпитальеров-иоанитов и оставили для охраны и услуг десять матросов.
На легкой авизе с попутным ветром Рибас отправился к родным пенатам из Мессины на день раньше Орлова. Ни силуэт Везувия, ни гомон лаццарони в порту после стольких событий не заставили сердце неаполитанца биться чаще. Возвращение было будничным, а волновал лишь визит к генералу Лос Риосу, которого он решил посетить, не заезжая домой. Рибас прибыл в министерство в нанятой карете, при шпаге, но в цивильном вишневом фраке, как отпускник. Два дежурных офицера сопровождали его к министру. Это было похоже на конвой.
– Я прибыл с письмом королю от главнокомандующего русскими эскадрами графа Орлова, – доложил Рибас. Лос Риос указал «а стол, куда прибывший должен был положить письмо.
– Только в присутствии короля, – сказал Рибас.
– Я вас арестую.
– Разве я еще не арестован?
– Взять у него письмо! – топнул ногой низкорослый старик-министр в генеральском мундире. Но Рибас развел руки, придержал ими офицеров, улыбнулся:
– Я знал, что встречу у вас радушный прием, ваше превосходительство, а поэтому письма не захватил с собой. Оно у русского офицера, который ждет меня в порту.
– Вон!
Рибас вышел в приемную, но к удивлению адъютанта не спешил оставить ее, остановился у окна. «Надо дать Риосу короткую передышку и начать все сначала, – обдумывал ситуацию Рибас. – Во всяком случае, с посланником Орлова им придется не только считаться, но при необходимости и защищать. Из донесений и газет Рибас знал о политических бурях в Европе после Чесмы. Предполагалась отставка французского министра Шуазеля, и его не могла спасти даже протекция любовницы Людовика XV маркизы Помпадур. Британский кабинет сразу же предложил Екатерине II союз. Фридрих II, чтобы предовратить новые Чесмы, брался посредничать в переговорах Турции и России. Так что опасное последствиями появление Рибаса в Неаполе было не вызовом роду Ризелли, а скорее уверенностью в своем теперешнем положении и необходимостью убедиться в этой уверенности. Он сказал адъютанту, что имеет при себе письмо лично генералу Риосу. Адъютант доложил – двери кабинета вновь распахнулись. Очевидно, и Риос взвесил политические обстоятельства появления Рибаса в Неаполе, потому что, прочитав письмо, государственно прошелся по кабинету и сказал:
– Вы говорили о письме королю…
– Как только мне сообщат день, час и место, я вручу его.
– Вы свободны.
Но не успел Рибас доехать до порта, как его догнал верховой и сообщил, что во дворце ждут, ехать надо тотчас. Карета последовала за всадником к старому Палаццо Реале – новый дворец в Казерете, как видно, не был еще достроен. За дротиками кованой решетки мелькнула знакомая конная статуя Фердинанда I. Бывший король протягивал в сторону неказистого трехэтажного палаццо свиток. Подъехали к главному входу, отмеченному двумя дорическими колоннами. Верховой спешился, караульные знали его.
В сопровождении красавца офицера Рибас поднялся маршем барочной лестницы, миновал анфиладу холодных зал и оказался в жарко натопленном будуаре, где все было малиновым – и стены в складках шелка, и занавеси, и обивка кресел с ножками в виде львиных лап. Только громадная картина, на которой причесывалась обнаженная женщина в окружении сатиров, была почти естественных тонов. «Меня примет не король», – успел подумать Рибас, и вошла королева Каролина в переливающемся зеленым шелком платье. Напудренные волосы были забраны ото лба круто вверх, образовывали башенку. Она придавала лицу королевы настороженное выражение совы. Прочитав письмо, Каролина внимательно взглянула на Рибаса.
– Мы будем рады, если русский генерал посетит Неаполь.
– Ваше величество изволит назначить день и час аудиенции?
– Мы решим это, когда он приедет.
– Мне сопровождать генерала?
– Ни в коем случае.
Проклиная себя за последний вопрос, Рибас не помнил, как вышел из дворца. «Глупец! Цезарям не задают вопросов!» Домой он не заехал – сразу же в порт. На авизе подняли паруса, и к вечеру она пересекла курс «Трех Иерархов». Каюта Орлова уже не имела вид аскетической обители воина перед походом на Архипелаг. Одна стена была украшена великолепным холодным оружием для любого дела и на любой вкус. Другая сверкала инкрустациями оружия огнестрельного. Третья сияла золотыми щитами, вазами, кубками.
– Может быть, короля нет в Неаполе? – спросил Орлов после доклада.
– Я думаю, к вашему приезду он там будет.
– Да бог с ним. С женой нам сподручнее дело иметь. – Он выпил квасу из берестяной кружки, подумал и добавил: – мы с Грейгом в итальянском не очень сильны. Будете нас сопровождать.
– Но… я ведь докладывал вашему превосходительству…
Орлов усмехнулся в ответ:
– Цезаря не ослушаться – век лапти плести.
Встречающих в порту Неаполя не было, лишь три кареты с королевским вензелем на дверцах поджидали Орлова и его свиту на набережной. Неаполитанский залив от Мизено до мыса Кампанелла укрыли низкие тучи. «Итак, я нарушаю запрет королевы, – обдумывал Рибас свое положение. – Чем это обернется? Я жгу мосты или моя дерзость оправдана?»
– Нищих тут больше, чем в Петербурге, и город грязный, – сказал Орлов, поглядывая в окошко на мелькнувшую паперть Монте Оливетто.
В зале приемов возле невысоких окон Рибас увидел Лос Риоса и отца. Как только вошел Орлов – противоположные двери распахнулись и через их проем король Фердинанд IV ввел под руку Каролину. Ее пышное платье с вышитыми золотой нитью листьями лавра колыхалось вдоль бедра короля. Орлов был в новом мундире генерала-аншефа, который для этого случая доставили из Ливорно. На груди сиял орден Георгия Победоносца первой степени – высшая награда российской империи. Орден был прислан с курьерской почтой и с рескриптом, что к фамилии Орлов теперь прибавлен титул Чесменский.
– Нам приятно видеть вас, генерал, в нашем дворце, – сказала Каролина, изобразив лишь тень улыбки. – Мы много слыхали о вас и личное знакомство поможет нам в дальнейшем, когда вы посетите нас с официальным визитом.
– Рад этому сейчас и буду рад впредь, – коротко ответил Орлов, чуть склонив голову.
Рибас держался за спинами офицеров свиты. Дон Михаил заметил его и отвел глаза в сторону.
– У нас сегодня поздний завтрак, – сказала Каролина. – Мы приглашаем вас, генерал, разделить его с нами.
Все проследовали в соседний зал, где на столе золотился кофейный сервиз, стояли блюда с неаполитанскими сладостями и фруктами. За стол сели Каролина, Фердинанд и Орлов. Их свиты жались у входа, образовав две настороженные группы. Каролина угощала Орлова неаполитанским печеньем из миндального теста, он вежливо поинтересовался рецептом, и она живо объясняла, как надо добавлять настой из соцветий апельсина и лимонный сок. Присутствующие были само внимание. Король до сих пор не проронил ни слова, лишь иногда улыбался тонкими губами широкого рта. На вопрос о первом впечатлении о Неаполе, Орлов сказал, что это исключительно чистый и богатый город. Офицеры свиты внесли подарки, и Орлов преподнес Каролине серебряную шкатулку с бриллиантовым полумесяцем на крышке. Фердинанду он вручил ружье в самшитовом с золотыми скобами футляре. Каролина сдержанно поблагодарила генерала, а Фердинанд, раскрыв футляр, тут же раскрыл рот, поразившись великолепию инкрустированного ложа, и, наконец, нарушил молчание, горячо приглашая генерала посетить кабинет охотничьих трофеев, где прибывшие увидели кабанов с рогами горных козлов и ланей с клыками вепрей – Фердинанд именно таким образом поправлял природу. Он долго не мог найти достойного места для подарка Орлова, а потом, извинившись, вышел.
– Здорова ли ваша венценосная мать Мария-Тереза? – осведомился Орлов у королевы.
– О, она вся в государственных делах. Пишет, что мечтает о прочном мире повсюду, чтобы подготовить реформы.
– Да. Реформы хороши в мирное время, – ответил Орлов. – Да вот османы не дают никому мирно жить.
– Может быть, ваши условия для них слишком тяжелы?
– Эти. условия они обеспечили себе сами, объявив нам войну. Но я уверен, как только мы войдем в Константинополь, то начнем торговать с Неаполем через Босфор и Дарданеллы, а не кружным путем через Гибралтар.
Каролина благосклонно кивнула. А в это время из боковой двери вышел русский офицер в мушкетерском мундире. Гигант Орлов в недоумении уставился на него – в свите этого офицера не было. Но вот странно: шнуры-аксельбанты украшали оба плеча офицера, а не одно правое, как это полагалось по уставу. И шляпа была на нем солдатская с медной пуговицей над левым глазом! Странный офицер поклонился и обратился к королеве:
– Простите, ваше величество, что помешал вашей беседе… Но по совершенно неотложному делу мне необходимо видеть короля.
Где Орлов видел этот широкий узкогубый рот, этот обвислый нос?
– У его величества дела, – сказала Каролина подчеркнуто серьезно. – Он готовится к отъезду в Амальфи.
И только тут Орлов узнал в офицере короля, остолбенел, но, припомнив давние рассказы о его величестве, решил его не узнавать.
– Разве я не попрощаюсь с королем? – спросил он. – У меня к нему есть просьба.
– Я с удовольствием передам ему вашу просьбу! – воскликнул «офицер».
– Дело – пустяк, – сказал Орлов. – В походе против турок участвовал офицер его величества волонтер Рибас. Его поведение в бою было достойным, и я повысил бы его в чине, но он состоит на службе неаполитанского короля.
«Офицер» заверил, что обо всем сообщит королю и скрылся за боковой дверью. Каролина проводила Орлова в зал приемов и, проходя анфиладами комнат, опускала голову и зажимала смеющийся рот рукой. Она простилась с генералом, и уже на лестнице он услыхал ее далекий звонкий хохот.
Конечно, Рибас был благодарен Орлову, но с досадой, может быть, преждевременной, думал о том, насколько он ничего не значит при неаполитанском дворе, если Каролина не обратила внимания на то, что он нарушил ее запрет.
Неаполь не понравился Орлову и даже сокровища Портичи не вызвали его интереса. В Портичи они встретили старого знакомца Прокопия Акинфовича с женой, приехавших в Неаполь неделю назад. Прокопий Акинфович уже не говорил о ссудных кассах, а его жена взяла Рибас а под руку и заговорила о поразивших ее неаполитанских нравах:
– Здесь, если обмануты, то хвастают этим, как будто что-то выиграли! Я купила кусок лавы из погибшей Помпеи. Мне сказали, что на ней отпечаток лица женщины – несчастной жертвы извержения Везувия! Но все это оказалось обманом. Люди приходили в гостиницу, где мы остановились, и гадали, насколько я буду в восторге от такого обмана! Неаполитанцы – жестокие веселые дети. Среди них есть великие люди, но это певцы-кастраты! Правда ли, что здесь торгуют женщинами?
Это было правдой. Но Рибас не стал говорить, что безнравственным промыслом занимаются иногда и матери, и братья, и отцы тех, кого они продают. Пол в музейных кабинетах Портичи был выложен мозаикой, добытой из раскопок Геркуланума. Кабинет героев соседствовал с кабинетом поварских инструментов.
– Сеньора, – сказал Рибас, – вы видите эту слезохранительницу?
При виде небольшой стеклянной чашки, в которую во времена оно несчастные собирали свои слезы, даже Орлов остановился и покачал головой.
– Уверяю вас, сеньора, если бы этот старый обычай собирать и хранить слезы дошел до наших дней, Неаполю грозило бы наводнение.
– Поехали-ка в бани, – сказал Орлов Прокопию Акинфовичу.
Карета вылетела из грота и запрыгала по ухабам вдоль полей. Везувий утопал в облаках. На одном из его склонов, где когда-то было устье льющейся из вулкана магмы, мирно росли тополя и раскинулось озерцо Аньяно. Рядом и располагались Сен-Жерменские серные бани. Каменное здание было поставлено над расщелиной, из которой шел серный пар. Офицер принял от Орлова епанчу-накидку, хозяин и слуги забегали, и великан в мундире со звездами вошел внутрь. Может, когда-то бани и были облицованы мрамором, но теперь на стенах грязно ржавела сера, тухлый запах был противен до спазм.
– На живодерне и то лучше пахнет, – сказал Прокопий Акинфович, раздеваясь вместе с Орловым до исподнего. Им вручили песочные часы. Прокопий Акинфович перекрестился и опасливо шагнул за генералом в дымящийся жаркий ад. Но уже через минуту голый Орлов выпрыгнул в предбанник, заорал: «Воды!», не дождавшись, вышиб лбом дверь, гигантскими прыжками достиг берега озера и кинулся в него – сотни птиц взметнулись в небо, а склоны Везувия и озеро Аньяно огласились такими проклятиями и ругательствами, какие эта неаполитанская местность не слыхала никогда. Рибас снова подивился натуре Орлова: в ней уживался – надменный решительный генерал и прежний бесшабашный Алехо. Прокопий Акинфович все еще не появлялся из дымящегося чрева, и за ним, как в жаркий крепостной приступ, ринулся кучер, вынес потного, хватавшего ртом воздух миллионера. Потом выяснилось, что хозяин, ошеломленный знатными посетителями, забыл дать Орлову сабо, и тот едва не сжег ступни ног. Одеваясь, Алехо сказал, что Данте наверняка тут парился и притерпелся, раз написал такие длинные вирши.
Когда Рибас вошел в отчий дом, слуги несли следом турецкий ковер, подарок волонтеров-греков. Двенадцатилетний Эммануил не преминул на нем порезвиться, рассматривал мечети и купола, вытканные по желтому полю ковра. Джузеппе подарил ему турецкую саблю с костяной рукояткой. Пятилетний Андре бегал по ковру в зеленой чалме с серебряной брошью. А из детской принесли и показали волонтеру еще одного брата – Феличе, родившегося в отсутствие Джузеппе. Мать, обняв сына при встрече, держала Феличе на руках и с неодобрением наблюдала за происходящим. Перед тем, как сын с Доном Михаилом ушли в кабинет, сказала:
– Завтра ты пойдешь со мной к утренней мессе.
Отец выглядел мрачным и озабоченным настолько, что на нем лица не было.
– Мне передали, что король распорядился присвоить тебе чин майора, – сказал он. Рибас рассмеялся: он не знал этой новости.
– Почему же ты не рад? – спросил он отца, а тот молча бросил на стол черный платок, обшитый красной ниткой. На платке был срезан один из углов. Рибас прекрасно знал, что это значит. Итак, Ризелли, а кроме них было некому, объявляли ему вендетту.
– Где нашли платок? – спросил он.
– На воротах. – Ответил Дон Михаил, подошел к распятию и продолжал:
– Меня, да и Лос Риоса, и первого министра Тануччи ждет отставка. Наши корни в Испании. А королева Хочет быть независимой и от Испании, и от Франции.
– Королева?
– Фердинанд устранился от дел.
«Вот почему он молчал, а приемом Орлова занималась королева. И, наверняка, этот черный платок с отрезанным углом связан с моим опрометчивым появлением при дворе».
– Никаких утренних месс, – сказал отец. – Уезжай сегодня же.
Ввязываться в распрю с Ризелли не было никакого смысла: корни Рибасов в Италии совсем не глубоки, по сути, он одинок, а будущее семьи и его братьев становилось теперь неопределенным. Все последующие дни до отъезда Орлова из Неаполя Рибас почти не выходил из каюты на «Трех Иерархах». Узнав о его производстве в майоры, Витторио Сулин и Кирьяков потребовали сатисфакции в виде офицерской пирушки, но Рибас отложил ее на то время, когда они прибудут в Ливорно.
Витторио рассказывал, как Орлов был в Церкви Сан Паоло Маджоре и рассматривал фреску аббата Чиччо «Падение Симона Мага». Рибас помнил эту многоэтажную фреску со множеством фигур. Симон Маг вываливался из облака и летел вниз, головой к зрителю, раскинув руки.
– Хороша аллегория! – сказал Орлов. – Каждый может угодить носом в землю. А нельзя ли этому аббату сделать заказ?
– Он давно умер.
– Зря он поторопился. Я бы ему хорошо заплатил, Орлову показали копию с картины аббата «Аллегория на воцарение Людовика XIV», он долго ее разглядывал, сказал, что купит оригинал, но назовет его «Прославление Екатерины». Торговцы удивились. Но тут же засомневался и Орлов:
– Да… но где же тут Екатерина… может быть, вот эта, что рядом с голым стариком? Хотя, что ей с ним делать.
В качестве Екатерины он отверг и фигуру женщины в римском шлеме, и полуобнаженную даму рядом со служанкой, но в конце концов установил, что Екатерина, наверняка, та особа, что смотрит на щит:
– И ангел трубит. И ребенок под щитом! Вот это и будет наша цезариня.
Рибас никому не рассказывал о прошлом столкновении с Ризелли и о своем теперешнем положении, но, раздумывая о возможности с кем-то поделиться неприятными новостями, он, к своему удивлению, понял, что тотчас бы нашел поддержку и у Витторио Сулина, и у Кирьякова, а может быть, и у Орлова, и причем, поддержку конкретную – словом, намерениями и шпагой. Среди них он не был одинок.
В Ливорно «Три Иерарха» не встречали пушечным салютом, но на пристани собралась толпа, дамы осыпали Орлова приглашениями, курьер герцога Тосканского передал его желание увидеться с графом Орловым в удобное для него время. Адъютант сообщил, что в Ливорно нанят дом, где графа ожидает последняя почта из Петербурга, но Орлов решил ехать в свой палаццо в Пизе. Однако, по пути туда, он передумал, повернул назад, а Витторио, Рибас и Кирьяков с солдатами поехали приготовить палаццо к предполагаемому балу.
Во время отсутствия хозяина в палаццо жил лишь сторож, который и открыл ворота, и солдаты принялись убирать, проветривать помещения, растапливать камины. Рибас и Витторио прогуливались по двору, когда в доме раздался взрыв – из окон кабинета Орлова полыхнуло пламя. Бросились тушить. Бочки для воды оказались пусты. В кабинете дотлевали картины, книги. На полу обнаружили кровавое месиво – все, что осталось от солдата, принявшегося растапливать камин. Стали искать сторожа – его нигде не было. Кирьяков немедленно выставил караулы. После осмотра развороченного камина определили, что в нем лежало начиненное порохом ядро. Проверили другие камины и нашли еще одно ядро, готовое взорваться, как только растопят камин. В комнате, где он ночевал год назад, Рибас обнаружил на столике черный платок с отрезанным углом. Итак, без Ризелли тут не обошлось. Витторио позвал Рибаса, они сели в карету и помчались назад в Ливорно.
Орлов с неохотой оставил общество консула Дика, негоцианта Уго Диаца с супругами и вышел к прибывшим. Взглянув на них закопченные лица и выслушав, покачал головой:
– Турки за Чесму сатисфакции жаждут.
Потом сказал, что ночью Петр Кирьяков с командой срочно отправится в Лейпциг, а они, Витторио и Рибас, поедут туда же утром. Велел привести себя в надлежащий вид и пожаловать к столу. Витторио что-то знал о Лейпциге, но говорил туманно, предпочитая дождаться утренних инструкций.
За обильным столом присутствовал и живописец Геккерт, взявшийся писать батальную картину о Чесменском бое. Уго Диац по-прежнему закрывал глаза на откровенные ухаживания Орлова за Сибиллой, но обещал поставить русской эскадре малые суда и лес для ремонта. Орлов передал Сибилле апельсин и сказал:
– Этот померанец созрел для вас.
Сибилла разрезала апельсин, и в его сочных дольках обнаружила кольцо с драгоценным птичьим глазком. Алехо хохотал.
– Голландские баталии статичны, – говорил живописец Геккерт. – А мне нужны мощь, страсть, ужас и грандиозность. Есть одна беда: я никогда не видел, как взрываются ночью корабли.
– Это мы сейчас устроим, – сказал Орлов.
Через час с четвертью вся компания усаживалась в гребной катер. В залив, подальше от берега матросы вывели ветхий фрегат, с которого было снято все, что имело ценность. Он был начинен порохом и нефтью, как и подобает брандеру. Компания под зимним звездным небом приготовилась к небывалому зрелищу.
– Сеньоры! Вот вам сотая доля Чесмы, – сказал Орлов.
Матросы подожгли импровизированный брандер, и он взорвался мгновенно – взрыв поднял в воздух тела обреченных моряков. Живописец, бормоча что-то, молился. Дамы аплодировали. Жители Ливорно в испуге липли к окнам. Может быть, этой ночной демонстрацией Орлов отвечал тем, кто заложил ядра в его палаццо, но в диковином представлении погибло три матроса. Офицер-устроитель сослался на то, что они были навеселе, а вдохновленный живописец сразу же отправился пробовать свои краски на палитре.
Утром ни минуты не спавший Орлов прибыл в нанятый в Ливорно дом. Щеки графа светились от белил Сибиллы. Рибас и Витторио поджидали его, и Орлов, борясь со сном, вручил им необходимые бумаги, сообщил, что Кирьяков уже выехал, а им поручалось проследить, чтобы дело в Лейпциге было совершено отменно и с успехом. А совершить надо сущий пустяк: привезти из Лейпцига в Ливорно некоего Алексея Шкурина, мальчика девяти лет.
– Что за странное поручение, когда в Тоскании творится бог весть что, – удивлялся Рибас, когда они садились в карету. И спросил: – Чей это ребенок?
– Императрицы Екатерины.
4. Алеша и отъезд 1772–1773
Это было одно из самых дальних путешествий, которое совершал по суше новоиспеченный майор неаполитанских войск Джузеппе де Рибас. Тоскана, Венеция, бесчисленные ущелья и реки Низких Альп, Богемия… В молодости Витторио Сулин знавал эти почтовые тракты, совершая путешествия курьером, так что неофит Джузеппе целиком полагался на него, и Витторио умело выбирал постоялые дворы почище, вполне приличные, а поздний ужин в какой-нибудь корчме его усилиями частенько превращался в отменный прием с олениной на вертеле, вином и несущественным проигрышем в карты.
Вызвать Витторио на разговор об Алексее Шкурине оказалось для де Рибаса делом не простым, но свои расспросы он начинал, как только они оказывались вдвоем в карете.
– В Ливорно вы мне сказали, что тот, за кем мы едем – сын вашей императрицы Екатерины.
– Вас в нашей поездке привлекает только это?
– Но еще и доверие Орлова.
– А вот этому я и сам удивляюсь. Впрочем, Алехин, как вы успели убедиться, риска не чурается.
– Алехан?
– Так Алехо называют в петербургской лейб-гвардейской среде. Но уверяю вас, вам лучше не знать подробностей.
– О боже, вы разжигаете мое любопытство с дьявольской умелостью. Но ведь я, как и вы, исполняю, как Мне кажется, довольно опасное поручение. Случись что-нибудь с вами, мне придется довести это поручение до конца.
– Пусть со мной все-таки ничего не случится. Вам Же на благо. – И Витторио устраивался поудобнее, закрывал глаза, дремал.
Конечно же, Джузеппе брала досада. Однако, Витторио разговорился сам после случая у моста через безымянную речушку возле Рудных гор. Собственно, мост был разрушен, и пришлось делать крюк верст в десять, искать брод и оказаться снова у того же моста, но только по другую его сторону. Внизу ущелья на бревне у самой воды Витторио заметил какой-то предмет, указал на него и предложил:
– Вы кажетесь мне ловким молодым человеком. Будьте любезны, достаньте мне сие.
Джузеппе скатился вниз по глинистому склону и вернулся через несколько минут, тяжело дыша, с серой треуголкой, обшитой гарусом. Витторио мгновение рассматривал треуголку, покачал головой, оглядел окрестности, бросился к карете с криком:
– Едем немедленно!
Рибас жаждал объяснений, но его спутник прижимал палец к губам, поминутно выглядывал в забрызганное грязью окошко, вздыхал и после крутого подъема заговорил:
– Как вы думаете, почему я казнил себя за то, что ненароком сообщил вам: кто таков Алексей Шкурин? Об этом мало кто знает, а лучше, чтобы не знал никто. И вы в том числе. В России чересчур крепкие, остроги.
– Остроги?
– Тюрьмы, из которых если и выходят, то только с пикой в горле.
– Да мы с вами в середине Европы! – засмеялся Джузеппе.
– Вот именно. Отсюда до наших острогов рукой подать. Но главное: эта треуголка сшита в России. И принадлежит она кому-то из команды вашего Приятеля Петруччо Кирьякова, который едет впереди нас.
– Нападение?
– Слушайте, – поморщился Витторио. – Шкурин, Василий, лакей русской императрицы. Но вот незадача: Екатерина скрывала свою беременность, а рожать пришлось в самый неурочный час. Природа с ее законами никак не считается, что кто-то решил сесть на трон.
– Она родила от лакея? – удивился Рибас.
– Не дай вам бог предположить это в обществе с другим человеком.
– Ничего не понимаю.
– Еще бы! – усмехнулся Витторио. – Но я добавлю к вашему непониманию некоторые обстоятельства. Когда Екатерина рожала, ее лакей Василий Шкурин поджег свой дом. А после этого получил повышение, рабов, поместье, деньги.
– Вы рассказываете мне восточную сказку.
– Да. Он поджег свой дом, чтобы вызвать переполох и отвлечь внимание от роженицы. И вместе с деньгами и имением получил еще и сына – Алексея Шкурила. Но отец ребенка – фаворит императрицы Григорий Орлов.
– Он брат Алехо!
– Вы поразительно догадливы. А теперь закончим эту простую карточную талию. Алехо, узнав, что на него покушаются в Ливорно, сразу же забеспокоился о своем незаконнорожденном племяннике. Ему уже лет десять. А отправлен он был из Петербурга с глаз долой в Лейпциг. Там есть небольшая русская колония. Студенты, отпрыски благородных семей, юноши, подающие надежды. Представьте себе, если его похитят, выкрадут, что это будет? Ну, не знаю, турки или Франция заполучат сына Екатерины Второй? Да ведь они воспитают его так, что лет через восемь – десять он, скажем, с поляками поднимет рать против царствующей монархини. Головы Орловых могут полететь. А они почему-то совсем не жаждут расставаться с ними.
– Нет, это все-таки Восток. И сказка, – сказал Джузеппе.
– Будем надеяться, что мне не прикажут опоить вас чем-нибудь, провезти через границы и сдать на руки генерал-прокурору.
– И вы это исполните?
– У меня в псковском имении семья. Два сына.
Джузеппе замолчал и больше ни о чем не расспрашивал путешественника.
В Лейпциге они подкатили к гостинице «Голубой ангел», где обычно останавливались русские. Хозяин на их вопросы, где находится русская колония, отвечал почему-то шепотом:
– Поезжайте за городскую стену. Дом на Иохаин-гассе восемь.
Нечего делать – поехали. Был сумрачный день. В городке как будто все вымерло. Долго стучали в дубовую дверь. Из кузницы напротив вышел патер в многопуговичной рясе и сказал:
– Хозяин дома купец Крейхауф уехал в Дрезден. К моему глубокому сожалению он вообще туда переезжает. Этот дом решил продать.
– Но где живут русские? – спросил Витторио.
– Увы, и они переехали. В центр города на Хайн-штрассе восемь. Владелец – купец Карл Паул Рабенхорст. Ах, о нем дурные слухи.
Поблагодарили и покатили назад, в центр, за городскую стену. У врат – никаких стражников – только кошка пробежала. Дом был громадным, в четыре этажа, выстроенным каре. Рибас зашел во двор и тут же выбежал, зажав нос – зловоние там устоялось, очевидно, еще с пятнадцатого века.
– Неужели тут может жить монарший сын?
И все-таки нашли дверь, лестницу, ведущую во второй ярус, поднялись, ткнулись в одну комнату, другую, в третьей их встретил юноша, поднявшийся с постели:
– Господа, господа… Нет-нет, вы ошиблись…
Но Рибаса привлекли флорентийские газеты. «Нотицие дель мондо»… Да почему они здесь? На заляпанном воском столе?
– Ах, это Саша, – сказал анемичный юноша, назвавшийся Василием Зиновьевым. – Он переводит статью Антонио Джики.
– Как? Да что за статья?
– Она наделала много шума. «Чего хотят греки от Христианской Европы?» Так она называется.
– Чего же они хотят?
– Европа и Россия не должны оставить восставших греков против османов без помощи.
Это было странно: где-то в Лейпциге какие-то русские переводили неизвестную ему статью, да какое там – Рибас и предположить не мог – Антонио Джика публикуется в газетах… да еще переводится!
– На какой язык? Кто?
– Саша Радищев. На русский, конечно. А вам нужно к Бокуму. Это рядом. Шкурины живут в поместье. Сразу у стены.
Витторио потянул за локоток Рибаса, тот был в недоумении, но вскоре они оказались перед особняком с садом. И начались переговоры, предъявления писем, документов… Джузеппе увидел мальчика с темными голубыми глазами, прекрасными каштановыми волосами, у висков они были рыжеватыми. Мальчик был в прусском сером мундирчике, рассыпал по дорожке сада золу, играл один, но два здоровячка, как выяснилось – истинные дети лакея Василия Шкурина, тут же вытаптывали тонкие сооружения голубоглазого, он плакал и бежал в заросли можжевельника.
– Но почему именно зола? – спросил Джузеппе у одного из слуг.
– Любит, – отвечал тот. – Ни во что не играет. По нраву ему это. Чего ему не предлагаем, уж какие сабли. Нет. Подавай золу.
Рибас с Витторио отправились в отель «Голубой ангел», благо неподалеку, да и решили поселиться тут, а точнее – переночевать, чтобы завтра же пуститься в обратный путь, захватив с собой негласного сына императрицы. Хозяин гостиницы опять же упрашивал тихо:
– Прошу вас не шуметь, господа. У нас тут больной.
– Да кто таков?
– Российский подданный Петр… сын Кирьякова.
У Петруччо была раздавлена грудь, говорил он слабо, с долгими запинками:
– Не знаю. Остался один. Мост рухнул. Подпилили. Уж вы не бросайте.
Бросили. На следующее утро Рибас насыпал перед мальчишкой пирамиду Хеопса из золы, извлек из нее платье девочки, обрядил в него счастливого голубоглазого, и застрекотала по лейпцигским мостовым быстрая карета. Мальчик живо говорил по-немецки, спотыкался на французском и, о господи, неаполитанец Джузеппе учил его русским словам. Витторио лишь похохатывал, говорил, что его папа Василий Шкурин давно бригадир, а это чуть ли не генеральский чин, что он имеет с августа шестьдесят второго тысячу крепостных и камергер! А мальчик, с которого после Венеции сняли зазоленную девичью одежду, вдруг попросил виолу и выяснилось, что он чудесно играет, во всяком случае на адриатических воздусях не было никаких контродансов, а когда они устраивали великолепные лужаечные привалы, Алексей Шкурин потешал все и вся озорной сарта-реллой. Мальчишка играл так темпераментно, что следовало только огорчаться: где же эти барышни, которые задирают ноги выше королевских запретов.
В Ливорно Алексей Орлов, выслушав отчет, спросил:
– Но что же с командой в шесть человек, посланной с Кирьяковым?
– На обратном пути мы провели небольшое следствие, – отвечал Витторио, – но крестьяне не знают ни о каких утопленниках. Кирьяков на мост въехал первым, успел его миновать, а всадники рухнули в реку. Экипаж Кирьякова лишь сполз по откосу и перевернулся на выпрыгнувшего из него Петруччо. Форейтор его вытащил и доставил в Лейпциг.
– Надо было у этих крестьян конюшни проверить, – сказал Алехо. – В стойлах могли быть наши лошади. А если это так, то тамошним пройдохам весьма выгодно врать. Но об этом случае никому ни полслова.
Орлов поселил их в пизанском доме-замке, племянника изредка катал по окрестностям, обещал послать за Кирьяковым, но тот вскоре вернулся сам – грудь в тугих полотняных, похожих на орденские, лентах. Рибас написал отцу – никакого ответа, а объяснение этому одно: письмо по дороге могли перехватить.
Граф Андрей Разумовский провел с приятелями на Чесме полдня. Он приплыл от адмирала Спиридова курьером. Много проиграл в Ливорно и жаловался, что отец не шлет денег.
– Раньше меня выручал Прокопий Демидов. Но он уехал. Все уезжают. С турками дело к замирению идет.
– Они очистят Грецию? – спросил Рибас, помнивший свои тайные идеалы.
– Вряд ли. Адмирал Спиридов лишь подписал перемирие на Средиземном море.
Следом за графом Андреем, отбывшим к флоту, уехал в Петербург и Алексей Орлов. Для Джузеппе наступило время задуматься: что же дальше? Поездки к морю, в купальни, ленивый образ жизни, привязанность тайного сына русской императрицы – все это хорошо «Но каким будет мое положение завтра? – задавался вопросом волонтер. – Если русский флот уйдет в северные моря, как поступить мне?» Оставалось ждать известий от Орлова. Но шотландско-испанский темперамент Джузеппе не давал ему покоя.
Чересчур живое воображение, страстность натуры и нетерпеливость характера отмечали все гувернеры сына Дона Михаила. Отмечали и предсказывали: когда отрок войдет в возраст, может случиться непредвиденное. Они оказались правы – непредвиденное уже случилось. Но начало было положено, когда ему минуло шестнадцать, а дочь викария церкви Сан-Мартино Доминика обменивалась с юным Джузеппе такими взглядами, что однажды он увидел ее во сне на мозаичном полу церкви обнаженной.
Эти времена двадцатидвухлетний Рибас не мог вспоминать без дрожи: тогда он попросту сошел с ума, сны требовали воплотиться в явь, мысль с самоубийстве посещала воспаленное воображение. Но случился вечер в строящемся королевском замке в Казерете, куда приехал с духовенством викарий осмотреть убранство замковой церкви. Он уступил просьбам дочери взять ее с собой. Замок строился уже лет пятнадцать, постепенно превращаясь в пятиэтажное мрачное сооружение в форме каре около трехсот метров длиной по фасаду – сотни комнат, десятки лестниц, переходов, темных углов и закоулков.
В одном из длинных коридоров кадет Джузеппе стоял на часах, когда Доминика выскользнула из замковой церкви, взяла его за руку и, не обменявшись ни единым словом, они отправились в путешествие по этажам. Стемнело гораздо скорее, чем они ожидали, и возвращение оказалось невозможным – они заблудились, и только утром офицер-самнит нашел их спящими на полу на сорванной с окна занавеси. Шум он поднимать не стал, отвел Доминику к отцу, проведшему бессонную ночь, и официально было объявлено, что девушка просто заблудилась. Правда, теперь в церкви Сан-Мартино Джузеппе не встречал ее – Доминику отправили в монастырь.
За свое молчание офицер-самнит получил от Дона Михаила немало звонкой монеты, однако, слухи о приключении расползлись по Неаполю, и над Рибасом порой подтрунивали: не показался ли ему жесткий пол мягче королевского ложа? Доминика бежала из монастыря, прислала юному любовнику записку, они встретились тайно, чтобы обсудить: как быть дальше? Но на следующий день Джузеппе едва унес ноги из дома торговца, сдавшего Доминике комнату: его ждала засада, в которой участвовали люди Ризелли. Вот тут-то и выяснилось, что одногодок Джузеппе Диего Ризелли был влюблен в Доминику отнюдь не меньше, чем теперешний волонтер.
Дуэль, после которой Джузеппе оставил Неаполь, была венцом его многочисленных мелких стычек с Диего. Следы Доминики затерялись в дальнем монастыре в горах Карно. Говорили, что она несколько раз пыталась сбежать из монастыря, но ее возвращали. Вступившего в полк Рибаса отправили в провинциальный сицилийский гарнизон, из которого он только через год вернулся в Неаполь.
Вкратце Джузеппе рассказал обо всем Витторио, и тот торжественно объявил:
– Выслушайте в ответ историческую фразу: путь в Россию для вас открыт.
«Дамоклов меч занесен над моей семьей», – подумал Рибас.
В свое время его мать бежала из Шотландии сначала к французским родственникам, а потом в Италию из-за преследований католиков, прихватив с собой томики поэтов да еще «Макбет» Шекспира. Маргарита Иона происходила из фамилии Дунканов, а убийство короля Дункана I Макбетом послужило сюжетом для прославленной трагедии. Но с чем, к каким родственникам и с какими планами ему, Рибасу, отправляться в неведомую страну?
Впрочем, она не была такой уж неведомой. «Жизнь Петра Великого» – сочинение венецианца Антонио Катифоро – переиздавалась неоднократно, и Джузеппе читал ее с увлечением. О неукротимой энергии россов писал и Франческо Альгаротти в своих «Путешествиях по России». В июльском «Календаре литературы Рима» Рибас встретил строки: «Шумная деятельность России в настоящее время побудила любопытство у многих людей, жаждущих глубоко узнать нравы, силы, религию этой страны и ознакомиться с ее историей».
Дни проходили однообразно и лениво. Алеша Шкурин шагу не желал ступить без обожаемого Джузеппе. Алексей Орлов пробыл в Петербурге всего двадцать дней. Это удивляло. Главнокомандующего повсюду встречали с великими почестями. В Пруссии ему пели фанфары, в столице российской ставились триумфальные арки, устраивались салюты и иллюминации. Почему он уехал так скоро? Разве от триумфов бегут? Племяннику Орлов привез памятную серебряную медаль на голубой ленте. На медали отчеканен идущий ко дну турецкий флот и лаконичная надпись: «Был». Память о Чесме выражала благодарность таинственная «Адм. Колл», и Витторио тут же объяснил:
– Это означает Адмиралтейств Коллегия. Но без участия Бецкого в этом деле не обошлось.
– Кто же это? – спросил Рибас.
– Ах, долго объяснять.
Уточнять Джузеппе не стал, интересовало иное: отчего же Орлов не задержался в Петербурге? Военные действия будут возобновлены? Ведь на другом конце света, где-то на Дунае их войска одержали громкие победы при Ларге и Кагуле. Взяли крепость Хаджибей, Аккерман, Бендеры. Из газет Рибас узнал, что главнокомандующий русских был произведен в фельдмаршалы, а его недавний противник по Семилетней войне готовил в Пруссии театральное представление-маневры, на которых собирался показать Катульский бой почти в натуре.
– Все это так, – сказал Кирьяков, когда они были у минеральных источников и торопились вернуться в Пизу из-за низких туч, обещавших дождь. – Да только Румянцев замирился с визирем Мегемет-пашой. Вот поэтому Орлов и не усидел в Петербурге. Там о мирном договоре ведут речи. А Орлов против. Он хочет на Константинополь отсюда идти.
– Когда?
Кирьяков покачал головой:
– А когда императрица позволит.
Орлов тем временем удивлял Италию широкими жестами. В Кортонской академии говорил речи и раздал немало трофеев с турецких, египетских, алжирских и других судов. Открыто разъезжал с любовницами, нищим бросал из кареты золото горстьми, радовался отставке французского министра Шуазеля, шпионами которого была наводнена Италия.
Отъезд Рибаса в Россию решили три обстоятельства. Во-первых, он больше не мог выносить неопределенности своего положения. Быть на полном обеспечении и приглядывать за племянником Орлова – это ли венец его мечтаний? Во-вторых, его вызвал в Ливорно сам Орлов. В кабинете, где шагу нельзя было ступить, чтобы не наткнуться на мраморную статую или восточную вазу, не предложив сесть, главнокомандующий сказал:
– Ехать тебе, волонтер, в Лейпциг с Алешей – малый об этом только и мечтает.
– Что же меня там ждет? Гувернерство?
– А что же в этом зазорного?
Вошел адъютант и сообщил, что курьер, прибывший из Петербурга с почтой, обратно ехать не может: болен.
– А что Кирьяков, грудью по-прежнему мается? – спросил Алехо у Рибаса.
– Нет болезней, которые не вылечили бы в Италии, – отвечал Джузеппе.
– Ну так пусть он и едет с почтой. Документы ему приготовьте.
– Позвольте мне сопровождать его – предложил Рибас.
Орлов думал недолго:
– Быть посему. – Отпустил адъютанта кивком головы и продолжал: – Я тебе дам два письма к брату. Одно рекомендательное. А другое… только ему в руки вручишь. И чтобы ни одна живая душа не ведала об этом. Запомни: все твое будущее от верного исполнения зависит. Если передумаешь, скажи. Я человека найду.
Но передумать Рибасу не пришлось из-за третьего обстоятельства: он получил послание от Ризелли: «Я отлично знаю, что вы в Тоскане, и только дела не позволяют добраться до вас. Но берегитесь: где бы вы ни были, я сведу с вами счеты. В Италии вам никогда не будет покоя, пока на этой земле останется хоть один Ризелли». Сдержанный тон письма, отсутствие проклятий и оскорблений говорили о многом: угрозы были серьезны. «Ну, что же, – решил Рибас. – Поездка в Петербург – это еще не бегство. Я в любое время вернусь. Ясно одно: он не вызывает меня на дуэль, а наемные убийцы могут появиться хоть сейчас. Надо предупредить отца и отправляться в путь. Они не успокоятся, пока не убьют меня. Сделать это в Петербурге им будет значительно труднее».
В «Тосканском лавре» он написал отцу. Хозяин таверны был необычно льстив к Рибасу, вызвался исполнить любое его поручение, но тот решил дождаться Сильвану, которая уехала в рыбную гавань.
– О вас тут спрашивали, майор, – сказал Руджеро.
– Так и спрашивали: что поделывает майор Рибас?
– Да, да. Но я этих людей не знаю. Я им ничего не сказал толком. Сказал, что вас давно не видно. Как вернулись, заходили всего один раз.
– Если появятся снова, передайте, что я всегда к их услугам.
– Понимаю, – осклабился догадливый хозяин таверны. – Пусть они вас сами и отыщут!
Сильвана вернулась, и он вышел с ней к изгороди, у которой привязал лошадь.
– Я уезжаю, – сказал он женщине. – Прости, но наши пути теперь разойдутся.
– Что ж, было несколько дней счастья – для меня и этого довольно, – отвечала она покорно. Он передал ей письмо к отцу и попросил найти кого-нибудь, кто смог бы вручить его Дону Михаилу в руки.
– Это не трудно. Наши торговцы часто отправляются в Неаполь морем.
– Прощай. Вернусь – дам о себе знать.
Письмо Ризелли он отправил с почтового двора. Главным в этом письме было: он готов быть первым из Рибасов, непременно первым, кто ответит судьбе на все, что она ему предложит.
К радости Джузеппе Витторио Сулин вызвался быть третьим в этой поездке, сказав при этом:
– Соскучился я в благословенной Италии по псковской грязи, мужикам, да и старосте пора надрать уши. Балуют.
Десятилетний Алеша, прощаясь с Джузеппе, не выдержал и разрыдался так, что один из слуг взял его на руки.
– Дай мне слово, – сказал Рибас мальчику.
– Да, да!
– Учись скрывать свои чувства. Ты слишком впечатлителен и это будет тебе мешать.
Лакей мальчика передал Джузеппе беличью шубу – подарок Алеши. Рибас был удивлен, а Витторио произнес еще одну историческую фразу:
– Дружба с этим ребенком может вам стоить многих перипетий в судьбе и карьере.
Дорога до Лейпцига была им знакомой, и они решили ехать по ней до Берлина, а там уж по Балтийскому побережью добраться к Ревелю и Риге. Предзимняя грязь, утренние заморозки, карты и флирт со случайными спутницами, короткие прогулки по городам; а после Кенигсберга твердый заснеженный наст – все это промелькнуло в какой-то месяц пути. Они ехали в своей карете, купленной в Италии вскладчину, а в Тильзите выгодно продали, приобрели возок на полозьях и покатили по наезженному тракту в таких снегах, что если продышать в окошке глазок, то ничего, кроме сугробов, не было видно. Джузеппе оценил подарок Алеши, шубу, без нее южанин, еще не научившийся пить водку только для того, чтобы согреться, пропал бы на первом же зимнем перегоне.
Еще в Италии Рибас сообщил своим спутникам, что имеет от Орлова два письма. Одно рекомендательное к Григорию Орлову, другое – в Военную коллегию для определения на службу. О том, что и второе послание предназначалось Григорию Орлову, он умолчал. Письма держал не в дорожной шкатулке, а в кармане черного кафтана, купленного специально для дороги. Разговор об этих письмах возобновлялся довольно часто. Лейтенант Кирьяков сказал определенно и как всегда грубовато:
– В Военную коллегию тебе лучше не показывать нос. Они там хоть и салюты устраивают в честь графа Орлова, а зубы на него точат. С его письмом отправят тебя в крысиный гарнизон и будешь ты там выть с тоски. Никчемная эта рекомендация.
– А к Григорию Орлову? Она хоть что-нибудь стоит?
– Э, тут особые обстоятельства.
Кирьяков молчал несколько дней, а на новом перегоне вдруг неожиданно и невпопад заявил:
– Императрица возвела Григория Орлова в княжеское достоинство. Вот в этом все и дело.
Рибас недоумевал, просил объяснений, Петруччо отмахивался, косился на Витторио, к которому Рибас обращался с теми же вопросами, а Сулин смеялся и говорил, что тайны двора знает только Кирьяков, потому что он начинал карьеру в конной гвардии. Джузеппе не переставал удивляться: чем ближе они были к границам России, тем больше в его спутниках проявлялись замкнутость, настороженность, молчаливость и даже недоверие друг к другу. В конце концов Рибас не выдержал и воскликнул:
– Господа! Я не хочу продолжать дальнейший путь в вашем обществе!
Господа переглянулись, на очередном биваке отошли вместе в сторонку, о чем-то говорили и только после этого начали объяснять кое-что неофиту-волонтеру, до предварительно Кирьяков сказал:
– Смотри, Джузеппе, в случае чего нам головы не сносить. Но мы тебе доверяем, ибо в деле вместе были.
Княжеское достоинство – это и почести, и тысячи душ крепостных, имения, дворцы, одним словом – все знаки монаршей милости к своему фавориту. Да только к княжескому званию Григорий Орлов был представлен еще в 1763 году. А императрица не разрешала принять другу сердца сие достоинство целых девять лет.
– А недавно: на тебе – хочешь в князи – будь князем! – говорил Кирьяков, а Витторио перебивал:
– Да нет, сначала надо о том, что Григорий был на переговорах с турками полномочным послом в Фокшанах! Вместе с освобожденным из замка в Константинополе послом Обрезковым.
– Про этого-то зачем? – морщился Петруччо.
– Так ведь Григорий не дал ему привести переговоры к успеху.
Постепенно выяснилось, что Григорий Орлов в Фокшанах жил поистине царским двором, устраивал неслыханные балы, воспоминания о которых не изгладятся и в третьем колене. Однако тут дошел до фаворита слух, что в петербургскую спальню ходит уж кто-то другой. Бросив переговоры с турками, он кинулся в Петербург, но в Москве его задержали курьеры и передали тайный приказ Екатерины: в столице отныне не показываться, а жить в Гатчине на «скромную» пенсию в сто пятьдесят тысяч в год.
– И княжеское достоинство разрешила принять – лишь бы он ей не досаждал, – сказал Кирьяков.
– Почему же вы раньше мне ничего об этом не рассказывали? – вопрошал волонтер.
– Да незачем было, – отвечал Кирьяков. – А раз ты в самую петербургскую гущу хочешь лезть, сочли своим долгом тебя поучить: как в ней не увязнуть.
Рибас узнал, что фаворит лишен права входить в покои императрицы запросто, как раньше, в любое время, если вдруг ненароком Екатерина пригласит его погостить в Петербург.
– Так что с рекомендацией к Орлову лучше повременить, лучше осмотреться, понять, что к чему, не будить лиха. Иначе многое можно самому себе напортачить. – Советовал Кирьяков.
«Как же быть с тайным письмом одного брата к другому?» – думал Рибас, а вслух спросил:
– Значит можно считать, что рекомендательных писем в Петербург у меня нет?
Ответ на этот вопрос Джузеппе получил, когда кибитка едва тащилась по ревельским мокрым снегам. Витторио неожиданно весело спросил:
– Знаете ли вы, Джузеппе, итальянца из Неаполя Фердинанда Гальяни?
– Только слыхал.
– Это оплошность с вашей стороны и ее следует исправить. Гальяни – был советником коммерческого суда. Ваш отец должен его знать.
– И что же?
– Я думаю… – Витторио тянул с ответом. – Рекомендация в Петербург должна быть у вас именно от Фердинанда Гальяни!
Рибас расхохотался:
– Что же – мне возвращаться? Разыскивать этого судейского и просить рекомендательное письмо?
Паузы в дорожных разговорах особенно длинны: спутникам Рибаса хорошо думалось под перестук копыт лошадей. Наконец ответ:
– Если бы я так думал, не завел бы этого разговора. Но вот в чем тут дело. Гальяни причисляет себя к просветителям, к узкому кружку европейских энциклопедистов. А с кем считается русская императрица, как не с этими умнейшими головами Европы. Заметьте только одну тонкость: ей приходится с ними считаться. Но есть еще одно обстоятельство: как ни хочет Гальяни быть в одном ряду с просветителями, он их критикует. Считает, что общество и его законоучреждения возникли не прямо из общественного договора, но в результате сложнейшего исторического процесса. Вот и рассудим: на руку ли такая критика нашей цезарине? Еще бы не на руку! С этими надоедливыми просветителями можно будет не только считаться, но еще и вылить на их горячие головы холодный ушат руками Гальяни, да еще усмехнуться в их сторону устами Гальяни.
– Допустим, что все это так, – с досадой сказал Джузеппе, – но у меня нет рекомендаций этого просветителя!
– А зря. Он восхищается Екатериной.
– Прекрасно. Я одобряю это восхищение.
– Гальяни переписывается с графом Шуваловым.
– Что же из этого следует?
– Гальяни – аббат, но он реалист. То пишет о финансах. То о торговле зерном. И Екатерина II всецело за реальную политику. Можно сказать: и он и она – трезво, реально мыслящие люди. Почему бы их не свести? И почему бы это не сделать вам?
– Прекрасная мысль. Но… – Джузеппе даже распахнул шубу, взглянул на Кирьякова. Тот дремал, но почувствовав взгляд, открыл глаза, кивнул:
– Витторио знает, что говорит.
– Но я не знаком с Гальяни.
– А вот это не важно, – сказал Витторио. А Кирьяков вдруг заговорил о достоинствах персидских и арабских скакунов, пока Сулин копался в своей дорожной сумке и, наконец, вытащил книжицу небольших размеров и протянул ее Рибасу.
– Вот вам рекомендация от вашего соотечественника. Жду благодарностей.
Рибас раскрыл книгу и прочитал: «Дух человеческий в его развитии». «Сочинение Фердинандо Гальяни»… После посвящения неаполитанскому королю и королеве, шел плохой типографский набор текста. Книжка была тонка, шероховата на ощупь, издана в Неаполе в 1771 году.
– Вам остается изучить ее, сделать настольной и ежедневной опорой в духовном усовершенствовании.
– А потом я отправлюсь к императрице во дворец? Как поклонник аббата?
– Из дворца тебя кавалергарды вытолкают, – сказал Кирьяков.
– Вот именно, – подтвердил Витторио. – Но почему бы вам не стать наместником восхищения аббатом императрицы? Для этого нужен предварительный ход. С этой книжкой и с вашей небольшой коллекцией древних гемм и медалей вы сначала посетите Бецкого. Расскажете о Гальяни. Коллекцию преподнесете в дар.
– Никогда.
Конечно, Рибас понимал, что его друзья-попутчики хотят помочь ему в будущей, пока непонятной петербургской жизни, но коллекцию собирала для него мать и заставила взять с собой перед отъездом на черный день. Он отнюдь не считал, что такой день настал и необходимо дарить коллекцию какому-то Бецкому.
– Кто он такой?
Витторио и Кирьянов переглянулись.
– Говорят, правда шепотом, что он отец императрицы, – сказал Петруччо, запахнулся в шубу и закрыл глаза. Но из объяснений Витторио Рибас узнал многое.
Ивану Ивановичу Бецкому к этому времени было шестьдесят семь лет. Считался он внебрачным сыном вельможи Трубецкого и баронессы Вреде. Родился в Стокгольме, где его отец Иван Трубецкой долго томился в шведском плену, а это томление и скрасила сердобольная баронесса. В каких только переделках ни побывал Иван Иванович! Образование получил превосходное, и в девятнадцать лет, еще при Петре Великом, стал секретарем посольства в Париже. Был пособником воцарения Анны Иоановны. Спустя одиннадцать лет поддержал переворот дочери Петра Елизаветы и служил ей в это время курьером. А когда Елизавета выдавала замуж будущую Екатерину II за своего сына, будущего Петра III, Иван Иванович, камергер, танцевал на свадебном балу четвертую кадриль.
С кем только он не водил дружбу и с кем только не был в родстве! Его сестра вышла замуж за молдавского князя Кантемира, который до этого состоял в браке с Кассандрой Кантакузен и имел сына Антиоха, знаменитого впоследствии литератора. По смерти князя сестра Бецкого вышла за принца Гессен-Гамбургского, а Иван Иванович, путешествуя по всей Европе, свел тесное знакомство с Вольтером, Дидро, Руссо и бароном Гриммом. Салон госпожи Жоффрен был для него домом родным.
Из Вены Иван Иванович приветствовал восшествие на престол Петра III, стал генерал-майором, генерал-поручиком царя, а когда того удавил Алехо Орлов, Екатерина поручила Бецкому приглядеть за брильянтщиком Позье, сооружавшем для новой императрицы драгоценную корону. В свите Екатерины Иван Иванович имел постоянное почетное место в третьей карете рядом с вице-канцлером. Он составлял библиотеку для императрицы. Ежедневно в послеобеденное время читал ей книги и наставления. Был хранителем ее брильянтов и смотрителем царских садов.
– Тем более, – сказал Джузеппе. – Что ему моя ничтожная коллекция?
– Может быть, вы и правы, – согласился Витторио. – Но упомянуть о ней следует. Он знаток. Доброжелатели величают его департаментом ума, а завистники – змеей мужского рода. Запомните: он любит покровительствовать.
– Меня больше занимает то, что он еще и отец Екатерины.
– Предполагаемый, – сказал Кирьяков.
– Сами рассудите, – продолжал Витторио. – Если ты в милости у монарха, то бери чины, титулы, пользуйся, воздай хвалу. Но у нашей цезарини и Бецкого все не так. Отношения совсем другие, почти семейные, когда живут одним домом и несут все тяготы совместно. Она дала ему множество должностей и этим не только впрягла в тяжелый воз, но и присматривает: не балует ли ее коренник. А сведения о том, что Бецкий – отец Екатерины, вот откуда. Мать нашей цезарини была слаба насчет мужского пола. Свои измены захудалому мужу называла, верно, единственной отрадой среди цербтских безобразий. Частенько навещала Гамбург, а там блистал в то время молодой красавец аристократ Бецкий. Не знаю, было ли ей известно, что он незаконнорожденный сын князя Трубецкого. Тот и фамилию ему дал, по обыкновению в таких делах, усеченную от своей: Трубецкой – Бецкой. Но любовная связь между принцессой и Бецким имела место. Этого при дворе никто не отрицает, даже он сам.
Все, что Джузеппе узнал, следовало обдумать, а пока он принялся за труд аббата Гальяни и одолел «Дух человеческий в его развитии», когда их неприметная кибитка подкатила к петербургской заставе. Кирьяков приготовил документы, а Витторио высказался высокопарно:
– Перед вами, де Рибас, окраина, с которой может начаться судьба.
5. Глава, в которой Артемида превращается в богиню Флору, влюбленный строит мост, знакомится с департаментом ума, крупно играет и встречается с императрицей 1773
Петербург встречал городским особым морозцем. Солнце светило стужей. Обоз с лесом задержал путников, солнце внезапно сгинуло, и где улицы, каналы, церкви, дома, дворцы? Где город? Ничего не было видно за мельтешением внезапно повалившего снега. У Рибаса возникло ощущение, что они въехали в высокие горы, где стужа и снег вечны. Встречные кареты были редки в снежной круговерти. Что это по левую руку? Слободы, лавки, усадьбы, избы, гостиный двор, полицейская часть… Темные громады застроек едва были видны за густым снегом, но Джузеппе то и дело видел крытые беседки с разведенным в них огнем. Здесь любой прохожий в лютую стужу мог обогреться и бежать по делам дальше.
За время отсутствия Кирьякова его брат-инвалид купил на Мойке дом содержателя лесных мельниц Брумберга за смертью последнего, и путники остановились у распахнутых ворот. Петруччо, а теперь барин Петр Сергеевич, кликнул дворню, велел выгружать свою поклажу и седлать лошадей, чтобы везти почту в канцелярию двора. Рибас и Витторио ехали дальше, на Васильевский, уговорившись о вечеринке на завтра с Петром Сергеевичем, который уже лобызался с домашними и покрикивал, чтобы скорей седлали.
От дворни узнали важную новость: мост через Неву снят полмесяца тому, но Нева стала, лед крепок, иначе надо было бы временно жить у Кирьякова. А тем временем распогодилось, снег разом прекратился и Рибас неожиданно для себя очутился в центре этого странного города – заснеженный Петербург как бы сам возник вокруг них. Витторио переговорил с кучером, тронулись, а через несколько минут Сулин сказал Джузеппе:
– Вы должны знать, по какой улице мы сейчас с вами едем.
Рибас недоумевал. Простые дома чередовались с усадьбами, заборы с парадными подъездами. Витторио улыбнулся:
– По Итальянской.
– Здесь живут итальянцы? – удивился Рибас.
– И они тоже. Вот особнячок… – Сулин указал на двухэтажный дом, у которого стояло несколько карет. – Поостерегитесь, если окажетесь в нем. В доме Вирецкого за ломберными столами многих итальянских негоциантов сделали нищими.
Когда ехали вдоль Царицына луга, Витторио продолжал развивать тему, начатую в поездке:
– Мрачноватое здание слева – Воспитательный дом, которым руководит Бецкий. А справа, на набережной, возле Летнего сада, видите – это палаццо, в котором живет Бецкий. Рядом он пристраивает еще один дом. – Свернули на набережную, и возле Зимнего дворца он продолжил:
– Дворец многим знаменит, но более всего Эрмитажной галереей.
– Которую создал Бецкий, – рассмеялся Джузеппе.
– Она в его ведении.
Они обогнули Адмиралтейство и выехали на площадь, где было многолюдно, горели костры, замерли качели, а в центре стояла виселица. Люди в толпе были укутаны кто во что с головы до пят, смеялись, жестами указывали в сторону виселицы, под которой горел костер и стоял человек-чучело в остроконечной шапке.
– Палач, – пояснил Сулин.
– Почему они смеются?!
Палач держал в руках пергаментный свиток, созывал народ, что-то кричал, а когда ударила барабанная дробь и солдаты взяли на караул, палач бросил свиток в огонь.
– Казнь совершена, – сказал Витторио.
– Кого казнили?
– Ну, может быть, опасное подметное письмо или пасквиль на какого-нибудь вельможу.
– Что за скала вон там за качелями?
– Ради нее я велел ехать здесь. Это Гром-камень, мне писали о нем. Представьте, его привезли сюда целиком.
Поскольку в свое время Дон Михаил заставил Джузеппе изучать инженерное дело, Рибас мог оценить, что означает: «привезти сюда целиком».
– Невероятно! – воскликнул он.
– В память доставки Гром-камня на эту площадь отчеканены медали. На нем будет воздвигнут памятник Петру Великому. А теперь ответьте: кто заведует медалями и самим будущим памятником?
– Бецкий, – обреченно отвечал Джузеппе.
По умятой колее они съехали с берега на лед.
– В Петербурге нет мостов?
– Только один, наплавной, на плашкотах – Исакиевский мост. Его скоро поставят. Пробьют проруби, в них опустят палшкоты и наведут мост.
– Странно, что в русской столице нет постоянного моста через Неву.
– Да. Но взгляните… На той стороне, на Васильевском, розоватое здание. Это бывший дворец Меньшикова – любимца Петра Великого. Теперь в нем Сухопутный шляхетский кадетский корпус. Начальником в нем Бецкий. А левее – строится здание Академии Художеств.
– Строит Бецкий?
– Он президент Академии!
– Черт побери, еще слово о нем, и я не успокоюсь, пока не увижу его!
Кибитка прорезала сугроб, и тройка вынесла ее на Кадетскую набережную. За низким забором на плацу выстроились в каре юнцы в разноцветных епанчах. В центре каре стоял осел. На него дюжий солдат сажал рыдающего кадета. Посадил он его задом наперед, и осел поплелся вдоль строя.
– Это наказание, – пояснил Витторио.
– Изобретение Бецкого?
– Да. Он запретил розги.
Возле церквушек Андрея Первозванного и Трехсвятской они свернули к шестой линии, и Витторио, взглянув на одноэтажный каменный дом, к удивлению Рибаса сказал:
– Кажется, это мой дом.
Эконом и его жена встречали хозяина и гостя. Слуги занялись поклажей и лошадьми. Витторио, оказавшись в гостиной, спрашивал эконома:
– Там мой кабинет? А где гостевые покои?
– Вы первый раз в собственном доме? – спросил Рибас.
– Да. Мой прежний деревянный сгорел. А каменный построили без меня.
С этого дня метельный Петербург закружил голову, мысли, дни, вечера. Экосезные балы сменялись карточными баталиями в гвардейских полках. Открытых домов с постоянно накрытыми столами было столько, что явилась возможность жить без копейки в кармане, и мучила только одна тяжкая обязанность: выбирать куда и к кому именно отправиться. О Бецком Рибас забыл, а Витторио не напоминал о нем, находя необходимым дать Джузеппе прийти в себя от впечатлений и знакомств. Витторио в Петербурге называли Виктор – с ударением на последнем слоге.
Посещение Григория Орлова отложилось само по себе: он, получив официально княжеский титул, отбыл в Ревель и состоял под постоянным наблюдением. Рибас написал отцу и Фердинандо Гальяни. А в редкие вечера, когда они с Виктором оказывались на Васильевском, проводили время за просмотром накопившихся газет и журналов. Перелистывая «Ведомости», «Полезное с приятным» или «Переписку хромоногого беса с кривым», Витторио тут же переводил для Джузеппе любопытные места. Рибас знал пять языков, мать Ионна позаботилась в свое время об этом, но русский оказался для неаполитанца весьма трудным.
– Без знания русского вам карьеры при дворе не сделать, – внушал Виктор. – Императрица благосклонна к тем иностранцам, кто одолел сию крепость.
Виктор подарил своему подопечному книгу с замысловатым названием «Российская универсальная грамматика или Всеобщее писмословие, предназначающее легчайший способ основательного учения русскому языку».
– А проще – это «Письмовник» Курганова. Я его в Пскове купил, – сказал Виктор.
Но Джузеппе вконец запутался, когда изучал русский словотолк, где объяснялись иноземные слова: микроскоп – мелкозор, клиент – челобитчик, диссидент – несогласник, дессерт – заедка, пульс – жилобой, клизма – задостав. Молодая память гораздо легче впитывала обиходный живой язык. Рибас отложил письмовник и слушал новости от Виктора.
– В доме Шувалова, да, того самого, что с вашим Гальяни переписывается, кража! – объявлял Виктор, просматривая журналы. – Украли часы золотые, трость с золотым набалдашником, серебряные пряжки, семнадцать рубах голландского полотна, восемь платков, дюжину ночных бумажных колпаков!.. В придворный театр потребны актеры. В трагедиях – на роли отцов-тиранов, а в комедиях на роли благородных отцов. За Аничковым мостом в Литейном в доме купца Калитина продается разных сортов водка, а именно: тимонная, лимонная, померанцевая, анисовая, персиковая, коришневая ящиками и штофами… В Александро-Невском монастыре украдена доска, положенная на гроб жены обер-гофмаршала Шепелева!
И город, и здешняя жизнь становились неаполитанцу ближе и понятнее. Правда, удивляло множество странных указаний и запретов. Двери домов надо было запирать в восемь вечера, а открывать в семь утра. Иначе – штраф пять рублей. Письма из Москвы мочить в уксусе. Семидесятипятирублевые ассигнации не печатать под угрозой тюрьмы. Виктор смеялся и объяснял:
– Воров развелось – а двери не привыкли запирать. В Москве страшная чума была. Григорий Орлов геройски с ней сражался. Но до сих пор заразы опасаются: письма и окуривают, и в уксусе мочат, и в карантине держат. Что же до ассигнаций, то нашлись ловкие руки – ассигнацию в двадцать пять рублей легко переделывают в семидесятипятирублевую. Двойку исправляют на семерку.
От отца писем не было. А Гальяни ответил скоро. Аббат не только благословил юного Джузеппе и его интерес к своим трудам, но и прислал две книги: «О деньгах» и «Диалоги о торговле зерном».
Императрицу Екатерину Рибас впервые увидел в январе на Водосвятие. С Виктором они возвращались под утро с кутежа, но на Васильевский попасть не могли из-за несметных толп и войск. На льду Невы у проруби стоял голубой шатер, шитый серебряными крестами – временная церковь водосвятия. Церковные хористы на льду пели тоскливо и как-то испуганно. Священнослужители черпали воду из проруби золотыми ковшами и наполняли ею сосуды, чаши, вазы. От Зимнего дворца подкатила карета с восьмеркой лошадей, покрытых малиновыми попонами, а вокруг гарцевали кавалергарды в золоченых высоких касках с султанами. Возле адмиралтейского канала карета остановилась, из нее вышел осанистый кавалегард-офицер, к нему подвели белую лошадь, он вскочил в седло, а подлетевшие верховые укрыли офицера мантильей из голубоватых мехов.
– Императрица, – сказал Виктор.
– Да где?
– А вот тот офицер в мехах.
Екатерина подъехала к священнослужителям, густые басы зарокотали над Невой, оркестр затих, первый полк войск замер, тяжелое багрово-голубое знамя склонилось над снегом и его окропили святой водой из золотых чаш. Солнце низко висело в морозном мутном небе. Народ заполнил и противоположный берег Васильевского острова. Тяжелое знамя качнулось, поползло вверх, с него уже свешивались святые сосульки, ударила музыка, полк ушел, а в очередь уже подходил следующий.
Когда закончилось освящение знамен, под многоголосый пушечный салют полковник кавалергардов Екатерина II поскакала к Зимнему, с балкона которого наблюдали за церемонией наследник Павел, вельможи и придворные.
Выдался день, когда Рибас побывал в Католической церкви, где падре Раньери не только отпустил ему грехи, но и поговорил о намерениях и посоветовал купить «Росийскую грамматику на французском языке», которую тут же на католическом подворье продавал французский купец Иоган Виара по одному рублю двадцать пять копеек за книгу. Простившись с падре, Рибас заехал к Кирьякову, который сообщил новость:
– Произведен я в капитаны, Джузеппе. Но испросил полугодовой отпуск. Собирался на Дунай, да там, говорят, в этом году маневры будут, а не война.
Он сообщил, что большая часть дунайской армии Румянцева направлена в Польшу и на шведскую границу, так как было опасение, что Турция и Франция втянут шведов в войну. Военная коллегия предложила Румянцеву готовиться к переходу Дуная, но он отказывался: сил мало.
От Кирьякова Рибас поехал на Невский, к дому Чичерина, где итальянец Берталлоти содержал овощную лавку «Болонья» и был знаком со многими петербургскими итальянцами и всегда сообщал о вновь появившихся клиентах. Конечно же, Рибаса в первую очередь интересовали неаполитанцы, а их связь с семейством Ризелли он установил бы сам. Но и на этот раз среди приезжих неаполитанцев не оказалось. Зато неожиданно Берталотти сказал гордо:
– Моя «Болонья» имеет успех. Вчера от князя Орлова приезжали за Перназамским маслом!
– Он в Петербурге?
– В Гатчине.
Рибас заехал на Васильевский, взял письмо и отправился в Гатчину. Дорога была настолько скучна, что он велел кучеру погонять, раскрыл грамматику на французском, да и задремал над ней. Очнулся, когда подъехали к мрачному замку, у подъезда ни часовых, ни лакеев. Джузеппе подергал ручки дверей – закрыто, прошелся по саду в надежде, что его заметят, и его заметили – гвардеец поджидал у дверей.
– Нет, князь никого не принимает!
– Я от Алексея Григорьевича, из Италии.
– Доложу.
Его впустили в нижний зал с окнами-бойницами. Гвардеец поднялся по лестнице, хлопнула дверь и на секунду Рибас услыхал какой-то рев, крик, возгласы. Спустуя минуту на балюстраде появилась совершенно невообразимая фигура. Темно-мохнатая, нечеловеческая, с цепью на шее.
–. Что надо? – спросила фигура по-французски.
– Князя Григория Орлова, – недоумевая отвечал Джузеппе.
– Я! – Взревела фигура. – От Алехана?
– Письма…
– Что мне теперь его письма! – вновь прорычала фигура по-французски.
– Я должен вручить их лично в руки князя.
– Нефедов! Возьми!
Гвардеец спустился, протянул руку.
– Только лично князю, – сказал Рибас.
– Да вот же он, – отвечал гвардеец.
– Где?
– Да возле медведя.
И только тут Джузеппе понял, что фигура была медведем, а за ним на фоне белой стены в растегнутой белой рубахе стоял князь без парика.
– Я должен видеть, как вы передадите, – сказал Рибас.
– Ради бога.
Гвардеец взял письма, поднялся наверх и вручил князю. То, что это князь, сомнений не было, Во-первых, похож на Алехо, а во-вторых, портреты Орлова все еще продавались в лавках. Джузеппе их видел.
– Мне ждать ответа? – спросил он громко.
– Нет! Возвращайся в Италию! – Вновь по-французски прорычал медведь.
Итак, визит к Орлову получился в высшей степени нелепым. Виктор по этому поводу сказал:
– Хорошо еще, что он был только пьян. Временами он безумен.
Беззаботная жизнь Джузеппе в Петербурге, как это ни странно, кончилась на балу. В синем предвечерье друзья подлетели к подъезду дворца Нарышкиных, где было уже множество карет, в прихожей сбросили шубы, отстегнули шпаги и по коврам лестницы взошли в гудящий бальный улей. Вишневый фрак Джузеппе обращал на себя внимание – в России он только входил в моду. Еще в карете Виктор Сулин предупредил: хозяин дома невообразимый чудак и неистощимый весельчак. И когда они отыскали Льва Александровича, обер-шталмейстера двора, чтобы представиться, то увидели вельможного барина в лентах по кафтану, но вместо звезд к ним были приколоты живые цветы, а на голове шталмейстера красовался венок.
– Да знаю я твоего Джузеппе! – воскликнул Лев Александрович. – Говорят, он английского консула на дуэль вызвал.
Это было полнейшей неожиданностью. Оказывается! Рибас хотел объясниться, что не консула, но Нарышкин отщипнул от венка два лепестка, вручил их прибывшим и, смеясь, заявил:
– Закусывайте!
– Как?
– Ешьте дары бога Пана!
Что поделаешь – пришлось исполнить, а Нарышкин с дамой покатился колобком дальше, раздавая лепестки, и, остановившись возле жмущегося к стенке старика, выхватил из кармана букетик.
– Специально для вас берег!
– Не буду! – завопил старик.
– Тогда держи во рту!
Старик покорно ухватил ртом букетик, что-то замычал, раскланивался перед любопытствующими, и Джузеппе узнал в нем Прокопия Акинфовича Демидова.
– Так веселятся у Нарышкиных? – спросил Виктора Рибас.
– Это еще цветочки, – отвечал тот. – Прокопию тоже палец в рот не клади. Он недавно в своем ботаническом саду в Москве, чтобы пугать дам, постоянно рвущих цветы, вместо статуй поставил голых мужиков.
Бал не объявлялся костюмированным, но в прическах женщин розы и левкои соседствовали с путениями и, когда дамы собирались в кружок, невольно думалось: где же садовник, чтобы полить образовавшиеся клумбы.
Среди присутствующих, ожидающих начала, выделялись офицеры из армии. Они образовали свой особый кружок и поглядывали на штатских надменно. В их группе Рибас тотчас узнал князя Долгорукова. Юрий Владимирович приветствовал Рибаса своеобразно: сложил ладони рук у груди на мусульманский манер и воскликнул:
– Спасите меня, о великий муфтий Джузеппе!
– Всегда к вашим услугам. Но в чем дело?
– Мне не верят, что я при Чесме погрозил пальцем капудан-паше и тот в панике бежал со своего судна.
– Но господа совершенно правильно делают, что не верят вам, – сказал Рибас.
– Как?!
– Ведь вы не только погрозили пальцем, но еще и сказали пару крепких слов.
– Об этой мелочи я забыл. Я мог бы повторить эти слова, но тогда на балу мы останемся без дам. А это мой последний бал в Петербурге. Еду на Дунай. Румянцев написал, что не откроет без меня Военный совет. Я его понимаю. Но мне приходится весьма сочувствовать гарему верховного визиря.
– До отчего же?
– Визирь, как узнал, что я скоро буду на Дунае, вот уже месяц, как не посещает свой гарем.
К ним подошли два офицера. Один прихрамывал и опирался на трость. Второй, высокий, статный, поигрывал цепочкой золотых с бриллиантами на корпусе часов, которых па его поясном шарфе висело несколько пар.
Первый оказался премьер-майором Петром Паленом, второй – подполковником Леонтием Бенигсеном.
– Вы из армии Румянцева? – спросил Рибас майора.
– Да, и вскоре отправлюсь обратно.
– Но вы, кажется, ранены.
– Рану я получил, – кивнул Петр Пален. – Теперь остается съездить и получить орден святого Георгия.
Виктор расспрашивал Бегшгсена:
– Собираетесь в армию? Как же так? Разве вы не получили свои миллионы после смерти отца?
– Да-да. Получил. – рассеянно отвечал Бенигсен.
– И спешите подставить лоб под пулю?
– По крайней мере, это не так скучно, как сидеть на миллионах, – отвечал подполковник.
– Господа! – Обратился ко всем Долгоруков. – Идемте в буфетную. У меня есть тост.
Пол и стены буфетной были убраны шкурами, деревья в кадках переплетались ветвями и образовывали заросли.
– Мой тост: за здоровье турецкого султана, господа! – провозгласил Юрий Владимирович. Все дружно отказались пить красную боярышниковую за султана.
– Да как же можно?… За супостата?
Долгоруков хохотал и объяснял:
– Не дай бог с ним что-то случится и отдаст он своему аллаху душу, что тогда? Война остановится, господа, пока Диван будет искать нового султана. Нет, пусть он будет здоров.
Подумали, согласились, выпили. К Рибасу подошел лейтенант, которого он не сразу узнал, но тот сам напомнил о себе:
– Мы изволили видеться в море на судне «Лазарь», когда адмирал Арф опрометчиво накричал на Орлова.
– Да! До сих пор вспоминаю ваш рассказ о русских Робинзонах, Григорио.
– Вы едете на Дунай? – спросил Григорий Кушелев.
– Но там, говорят, не предвидится ничего стоящего.
– Кажется, это так. Я остаюсь в Кронштадте. Ваша служба определилась?
Рибасу нечего было ответить, но тут как раз на хорах оркестр начал изысканный менуэт, и все поспешили в бальную залу, где балюстрада деревьев отделяла танцующих от наблюдавших за танцами. Лев Нарышкин открыл бал в паре с рыжеволосой красавицей. Изображая бога Пана, он притворно хромал, да к тому же на одной его ноге был сапог, а на другой туфель с громадной серебряной пряжкой. Джузеппе пригласил даму, прическа которой напоминала собор, увитый плющом. На все комплименты кавалера она отвечала однообразным «мерси», а танцевала довольно неуклюже. После танца Рибас поспешил к Виктору с вопросом:
– На этом балу все дамы будут танцевать спотыкаясь, как во сне?
– Вам не повезло, – отвечал Виктор. – Но когда будете приглашать кого-нибудь, обращайте внимание на прическу. Чем она будет скромнее, тем дама будет танцевать изящнее.
Джузеппе последовал совету – все оказалось именно так.
– В чем же тут дело? – спросил он у друга. Виктор ответил хмуро:
– Спросите у вашей следующей партнерши.
– Почему вы не танцуете?
Виктор рассеянно посмотрел на Рибаса и сказал:
– Я могу уехать раньше. Вы доберетесь на извозчике?
– Да. Конечно.
Расспрашивать Виктора о его хандре он не стал: и так все было понятно. Влюбленный во фрейлину императрицы, княжну, которую он романтично именовал княжной С, Виктор искал ее на балу, но не находил. Экосез Джузеппе пропустил, разделив одиночество друга. Дама, открывавшая с Нарышкиным бал, танцевала с юным, но не очень поворотливым морским офицером. Огонь бриллиантов в ее рыжих волосах невольно манил взор неаполитанца, и к тому же Рибас оценил легкость ее движений, даже озорство, которое заключалось в том, что она исполняла фигуры с неохотной тщательностью и капризно посматривала на неумолкающего флотского кавалера. Чтобы скрыть свою заинтересованность, Рибас спросил у Виктора о ее партнере.
– Это Николай Мордвинов, – отвечал Виктор. – Знаменит тем, что он сам себе адъютант.
– Как это может быть?
– Получил мичмана и сделался флигель-адъютантом у собственного отца. Правда, он еще командует придворной яхтой «Счастье», на которой имел несчастье прокатиться наследник Павел и вылететь за борт.
– Ваши сведения не точны, – сказал оказавшийся рядом Григорий Кушелев. – Сам себе адъютант пошел на повышение и назначен генерал-адъютантом к адмиралу Ноульсу.
– Превосходно, – хмурясь отвечал Виктор. – Теперь Мордвинов выкупает и адмирала.
«Коти-льон!» – возвестил на весь зал хохочущий Нарышкин, и Джузеппе поспешил, чтобы пригласить рыжеволосую незнакомку, но теперь осуществить намерение было не так-то легко, потому что шталмейстер добавил: «С играми!», и в центре зала слуги поставили стулья, на которые сели дамы. Оркестр на хорах играл, но, чтобы пригласить кого-либо на танец, требовалось преодолеть некоторые препятствия. Как объяснил неофиту Виктор, хозяйка игры держала на платке предметы, принадлежащие дамам: булавки, заколки, колечки. Нужно было взять один из предметов и угадать кому он принадлежит. Долгоруков угадал сразу, и со словами: «Лихую борзую ни одна лиса не проведет» повел танцевать даму в голубом. Петр Пален ошибся, и ему велели стать на колени и отбить десять поклонов, которые весело отсчитывал весь зал. Ошибся Григорий Кушелев, ему вручили щипцы для нагара со свечей и приказали с их помощью выпить чарку водки. Ошибся Леонтий Бенигсен, и ему вменили в обязанность танцевать котильон с тяжелым креслом.
Когда Джузеппе решился попытать счастья, игра переменилась: теперь нужно было разгадать жесты дам, пантомиму, мимику лица. Рыжеволосая очаровательница вытянула руку, потом согнула ее в локте, прижала к сердцу и замахала обеими руками, как будто призывала к себе кого-то. И тотчас Николай Мордвинов, генеральс-адъютант, опустился перед ней на одно колено и сказал:
– Вы звали рыцаря – он у ваших ног.
Юная соседка рыжеволосой захлопала в ладоши:
– Нет, не угадал! Дайте ему веер – пусть обмахивает дам!
В следующем претенденте Рибас с удивлением узнал графа Андрея Разумовского. О его возвращении в Петербург он не слыхал.
– Я отвечу вам жестом, – сказал граф Андрей и, как герой-любовник на сцене, раскрыл объятья.
– Но что это означает? – спросила рыжеволосая хмурясь.
– «Я в пустыню удаляюсь от прекрасных здешних, мест», – пропел граф.
– Не верно! – воскликнула хорошенькая соседка рыжеволосой. – Пойте этот романс дальше!
Граф Андрей пел, и пел превосходно. Ему аплодировали. Рибас решился, вышел к дамам и сначала продекламировал на латыни, а потом перевел на французский:
– Артемида, чье сердце устало на долгой охоте, просит лань и медведицу полог шатра распахнуть!..
– Да, но почему лань и медведицу? – спросила одна из дам.
– Но они сопровождают Артемиду повсюду, – отвечал Джузеппе.
– Котильон ваш, – сказала рыжеволосая, вставая. – Правда, мой жест означал всего лишь: здесь так душно, прикажите слугам открыть окна.
Присутствующие зашумели: ответ был так точен и поэтичен, что дама должна была выполнить какое-нибудь желание Джузеппе.
– Сейчас у меня нет желаний, кроме котильона, – сказал он. – Но я подумаю.
Вблизи ее волосы были темнее, отливали старинной бронзой, бриллианты на золоченных нитках покачивались в такт музыки.
– Берегитесь, – сказала она. – Артемида превратила Актеона в оленя.
– Причина. Тут важна причина ее поступка, – сказал Джузеппе.
– Он оспорил ее мастерство в охоте.
– Нет. Он увидел ее купающейся.
Она пристально посмотрела на Джузеппе:
– Артемида убила Ориона за то, что он оскорбил ее.
– Нет, только за то, что его полюбила другая.
– Кто вы, знаток мифов?
– Иосиф Паскуале Доминик де Рибас, неаполитанец, к вашим услугам. В Италии меня называют Джузеппе. В Испании – Хозе. Не знаю, как меня стали бы называть в Шотландии, куда я ехал к родственникам, но случайно оказался здесь, чтобы вы дали мне имя.
– Будьте Иосифом.
– Почему?
– Вам не повредит, если вы станете прекрасным.
– Если мои усилия окупятся, я готов на этот тяжкий труд.
– Тогда прекрасным вам не стать никогда.
– Отчего же?
– Тяжкий труд портит лицо.
«Ничего не скажешь – у нее отточенный язычок. Она не только хороша, но быстра умом. У нее миниатюрная фигурка, а переливающееся темно-зеленое платье, расшитое белыми кувшинками, говорит о вкусе. Может быть, только черные зрачки слегка раскосых глаз чересчур остры, как и ее язычок, но она чертовски обольстительна…» Он внимательно присмотрелся к выражению ее лица и как-то сразу понял, что она читает его мысли и довольна произведенным впечатлением. Рибас, нареченный Иосифом, решил продолжить начатый разговор:
– Но тяжкие труды, когда они в удовольствие, преображают и в лучшую сторону.
– Истинный труд требует самоотречения, – парировала она.
– Самоотречение – христианская добродетель, – напомнил он.
– И вы найдете в нем удовольствие?
– Пока я с удовольствием констатирую, что аскетизм вы не жалуете, – сказал, улыбнувшись, Рибас.
– Да, но не как Монтень.
– Мишель Монтень призывал жить согласно природе.
– Природе и разуму, – уточнила она.
«Умна, легка в танце, естественна… Мне выпала удача танцевать с богиней», – восхищался в мыслях счастливый Иосиф. Но котильон кончился.
– Проводите меня к моей компаньонке, – попросила богиня.
– К какой именно?
– Глори, – отвечал богиня, чему-то улыбнувшись. – Она сидела рядом со мной.
Но когда они подходили к Глори, Рибас увидел, что с ней говорит Виктор, и задержал свою даму.
– По-моему, мы можем помешать Глори.
– Да, – согласилась богиня. – Пусть поговорит. Ей всего шестнадцать, она воспитанница Смольного. Присутствуя так поздно на этом балу, нарушает все правила благочинных учениц.
– Если вы покровительствуете ей, у нее все будет в порядке. Меня огорчает только одно: я не знаю вашего имени.
– В наше время – это святотатство. Меня зовут Анастази, Настя, Анастасия, Бэби и Биби.
– Я выбираю первое имя. Кто вы, Анастази?
– Сегодня? – она спросила серьезно.
Он подумал и сказал:
– Если было вчера и будет завтра, то ограничимся сегодняшним вечером.
– Сегодня я черкешенка.
– Прекрасно. Но как мне расценить это?
– Отправляйтесь на Азов, откуда я родом, там живут черкесы, я – их княжна.
– Кем же вы были вчера?
– Монахиней из Вены.
– А позавчера?
– Парижской актрисой.
– Кем вы будете завтра?
– Десятой и младшей дочерью бедного петербургского художника.
– Вашему воображению нельзя завидовать – оно совершенно, – проговорил восхищенный неаполитанец.
– Виктор – ваш друг? – спросила Анастази, поглядывая в сторону Глори.
– Смею надеяться, да. Мы вместе приехали из Италии.
– Я заметила, он очень меланхоличен.
– Вы наблюдательны. Впрочем, «Анатомия меланхолии» наверняка вам известна.
– В свое время я была без ума от Бертона. Правда, его сравнение жизни с театром не назовешь оригинальным. Но он пошел дальше, когда заявил, что в этом спектакле жизни участвуют одни безумцы, а движет ими вселенская глупость.
– Но прав ли он, что укрылся от вселенского зла и фанатизма только в меланхолии? – спросил Рибас. – На мой взгляд, возможностей проявить свой ироничный скепсис гораздо больше.
– Ну что же, – сказала она благожелательно и серьезно, – и вы заинтересовали меня.
Подбежала сияющая Глори, Анастази объявила, что они не останутся на ужин и уезжают. Рибас проводил дам до кареты, помог подняться в нее, но спрашивать, как это было бы уместно в обычном флирте: когда же буду иметь счастье снова видеть вас, где, на каком балу – не стал, лишь поклонился, и тройка умчала богиню и ее компаньонку.
Ощущая легкое головокружение, Джузеппе вернулся в нарышкинский дом и отыскал графа Андрея к тому времени, когда гостей приглашали пожаловать к столу.
– Вам сегодня повезло больше, чем мне, – сказал неотразимый красавец-граф. – Мне пришлось петь, вам – танцевать.
– Зато, как я знаю, вам повезло в морских сражениях.
– Да, после вашего отъезда я командовал фрегатом и, между прочим, произведен в капитаны.
– Несчастные турки! – воскликнул Рибас. – Египетские берега и корсары Магриба наверняка пришли в смятение, узнав о вашем производстве.
– Не советую вам иронизировать, – в тон Джузеппе сказал юный граф Андрей. – Перед вами камер-юнкер ее величества.
– Искренне поздравляю. Но думаю, больше всего обрадовались этому назначению ваши кредиторы.
– Как бы не так, – отвечал граф, смеясь. – Я все равно живу в долг. – Потом он посерьезнел: – Где вы остановились в Петербурге?
– У Витторио.
– Это кстати. Хорошо, что я знаю, где вас сыскать в случае чего. Может быть, в скором времени мы окажемся полезными друг другу.
– Говорите сейчас. Вы же знаете – я всегда к вашим услугам.
– Сейчас еще не время, – многозначительно отвечал граф. – На днях я уезжаю в Гатчину готовить переезд туда цесаревича Павла. Мы с ним были дружны в детстве, я теперь – его доверенное лицо.
Многозначительность и последние слова юного графа заставили Рибаса задуматься, но у стола уже выстроилось человек двадцать слуг с блюдами и хозяин бала громогласно объявлял кушанья: «Змеи в собственном яде!.. Мухоморы под жабьими лапками!.. Мыши в лопухах!» Гости ахали, морщились, ужасались, но, конечно же, притворно, потому что змеи оказывались золотистыми угрями, мухоморы боровыми грибками, а блюда с земляными орехами, которые по-ученому назывались картофелем, дымились ароматным паром.
И после танцевали котильоны с играми. Состязались: кто оригинальнее искривит физиономию, и Джузеппе узнал, что и при дворе это состязание в моде, а матушка-императрица умела не только двигать ушами, но и обладал талантом шевелить лишь одним ухом. Столкнувшись в ломберной с Прокопием Демидовым, Рибас просто ахнул: лицо Прокопия Акинфовича оказалось исписанным углем ото лба до подбородка.
– Уговорились штрафы виста не мелом на доске писать, а на лице углем, – пояснил старичок и побежал к зеркалу свериться: верна ли запись?
Отъезд очаровательной Анастази сделал бал обычным, а шутки пресными, и Джузеппе тщетно искал Виктора, чтобы узнать о богине все, но тот, видимо, уехал не сказавшись, да и сам Джузеппе вскоре отправился на Васильевский, где эконом встретил его ворчанием, но Рибас не обратил на это внимание, ибо думал о графе Андрее.
От Виктора Рибас знал, что наследник Павел Петрович в прошлом году стал совершеннолетним, но его восемнадцатилетие ничем особенным отмечено не было, даже обычными производствами в чинах при дворе. Сам Павел Петрович сделался генерал-адмиралом – чин Алехо Орлова, но командовал наследник всего лишь кирасирским полком. Наставник Павла канцлер Никита Панин не уставал напоминать о давнем обещании императрицы: как только сын ее войдет в возраст, то начнут его приобщать к государственным делам. Поговаривали, а старо-вельможные дворяне и рассчитывали, что незаконно прикогтившая престол мать возьмет да и уступит место сыну – сыну убиенного царя Петра III, а, значит, наследнику, имеющему все права. Но… но кто же не знал при дворе, что наследника Павла Петровича следовало бы называть Павлом Сергеевичем, ибо имелись догадки, что родила его Екатерина от красавца из клана Салтыковых – Сергея.
Правда, Рибаса занимала не столько тайна рождения Павла, сколько многозначительность графа Андрея, подсказывающая одно: во дворце что-то происходит. Если учесть: Павел ненавидит Орловых и боится их, а Орловы теперь в немилости – что из этого следует? Если учесть, что сам канцлер Никита Панин и его брат генерал Петр – наставники и друзья Павла, то… что из этого следует? Только одно: путь к престолу для Павла открыт именно сейчас. Есть только одна помеха – мать. Если учесть… Если предположить…
Он водрузил на голову бумажный колпак, постель была холодна… Надо сказать Виктору… Если учесть…
Казалось, он спал минуту, но когда поднял голову, мартовский золотой денек светил в окна. Эконом топтался у дверей, сообщил, что хозяин не ночевал, а сообщив, не уходил, продолжая топтаться, смотрел в пространство и сообщал пространству: что ни день велики расходы на веселые сборища, двадцать ведер французского вина на пятьдесят рублей месяц назад куплено, а его уж нет. И нет, чтобы на соседнем Андреевском рынке покупать сыр голландский по шесть рублей пуд – вместо этого посылают на Невский за пармезаном, а он вдвое дороже. Лапшу сами делать можем, а все одно покупаем итальянскую по рублю фунт. А на той неделе за пять фунтов индийских птичьих гнезд двадцать рублей не пожалели. В доме коффе на год припасено, ан нет – подавай чай, а он в пять раз дороже коффе…
Джузеппе весело спросил кофе, велел седлать лифляндского трехлетка и спустя получас выехал со двора верхом без определенной цели. «Ах, поскакать бы сейчас вместе с Анастази вглубь острова, обогнуть церковь Благовещенья, смеяться и говорить, говорить…» У церкви он не увидел ни души, на тропке к Галерной газани среди кустов и редкого леса спугнул зайца. «Впереди весна, а я все еще осматриваюсь в Петербурге, – думал он. – Дел здесь никаких да и никто не предлагает дел. Судя по всему, Виктор живет не по средствам. Впрочем, здесь все живут не по средствам и не берут это в расчет».
Он повернул к Неве, на рысях достиг Псковского подворья, поскакал по берегу, минуя винные магазейны… Со льда Невы поспешно убирали Исакиевский мост – скоро ледоход. Возле кадетского корпуса, куда, быть может в неурочный час примчался генерал Бецкий, Джузеппе резко остановил лошадь: дело было найдено. Да, именно так – он осчасливит Петербург вторым мостом, но не наплавным, а постоянным! С инженерными расчетами придется повозиться, но игра стоила свеч. Минуя церковь Святой Екатерины, он мысленно помолился, хотя церковь числилась лютеранской, но ее название подсказывало: «Свой мост я посвящу ей и назову именем Екатерины».
Виктор к этому времени вернулся, пил в кабинете чайный деготь, а Джузеппе, как все влюбленные, выложил ему все вперемежку и сразу: без Виктора не было бы этого утра, Анастази прекрасна, восхитительна, он Раб Виктора, а Екатерининский мост – дело решенное.
Затем, устыдившись своего эгоизма, спросил:
– Как вы нашли компаньонку Анастази – юную Глори?
– Глори? – Переспросил Виктор и рассмеялся: – А! Глафиру Алымову. Приходится лишь сожалеть, что я так бесконечно стар для нее.
– Да она в вас влюблена!
– Может быть.
– Тогда оставьте чай, Витторио. Выпьем французского и вы расскажете мне, умоляю, о моей богине.
– Об Анастасии Ивановне? Хорошо, – отвечал Виктор. – Должен вам сразу сказать: крепитесь. Ибо ваша прекрасная богиня Настя Соколова – приемная дочь Бецкого.
Нева вскрылась пятого апреля, а пятнадцатого Рибас скакал по вновь наведенному мосту с Кадетской набережной к Адмиралтейству, делал частые остановки, бросал в воду щепки и высчитывал скорость течения воды. Наплавной Исакиевский мост был практичен, стоял на двадцати плашкотах и, по наблюдениям Рибаса, держал до шестнадцати тяжелейших подвод с камнем. За два часа его можно было развести весь, но уходило пять-шесть дней, чтобы поставить вновь. Все эти сведения новоявленный мостостроитель черпал в разговорах с мостовыми будочниками, с которыми изъяснялся, подготовив заранее вопросы на русском и медные деньги. Содержание моста обходилось до двадцати тысяч в год, и при царице Елизавете взымались мостовые деньги: копейка с пешего, две копейки с конного, пять с кареты. Но как только Екатерина, тогда еще великая княжна, родила сына Павла, мостовые сборы отменили в честь рождения цесаревича.
Мостостроительные затеи неаполитанца переплетались с новостями: Павла Петровича, вместо приобщения к государственным делам, решили женить, и добрый друг канцлера Никиты Панина датский посланник Ассебург подыскивал ему в Европе невесту. Но вдруг и мост, и эхо дворцовых слухов – все отошло для Рибаса на второй план. Негоциант Бертолотти из овощной лавки «Болонья» сообщил, что у него брали итальянские сыры для графа Сограмозо – посланника древнего мальтийского ордена святого Иоанна Иерусалимского, прибывшего в Петербург через Вену и Берлин.
– Клянусь, – говорил Бертолотти, – тот, кто заказывал сыры, по выговору был неаполитанец.
Затем – вот случай! – все сложилось неожиданно удачно: Виктор, устроивший эконому сцену относительно состояния своих фраков, объявил Рибасу, что от имени масонов – астрейцев он едет пригласить рыцаря Сограмозо в ложу петербургской «Астреи».
– Вы – масон? – удивился Джузеппе.
– А откуда бы я знал все и вся? – пожал плечами Виктор.
– Вы не откажете мне, если я буду сопровождать вас в качестве молчаливого адъютанта и слуги? – спросил Рибас.
Они приехали к Сограмозо, и молчаливый адъютант выступил в роли переводчика: Виктор, якобы, плохо говорил по-итальянски, Сограмозо долго излагал историю своего ордена, основанного в 1113 году, когда рыцари устроили госпиталь для паломников в святые Палестины.
– Я привез вашей императрице письмо от гроссмейстера ордена – говорил Сограмозо. – Мы готовы вместе с Россией решать польский вопрос.
– Но почему именно польский? – спросил Рибас.
– Мы хотим основать там наш приорат.
Среди присутствующих неаполитанцев не было. Вечером Виктор рассказывал о собрании в масонской ложе:
– Он говорил, что Россия богата всем, а орден Иоанна нищ, но богат духом. И нет сомнения: будущее России и Мальты – это общее будущее.
То же самое граф Сограмозо говорил и наследнику Павлу, юношеское воображение которого пленили обыденный рыцарский плащ с восьмиконечным голубым крестом на спине и романтическая формула речей. Екатерина передала мальтийцам богатейший в Польше майорат князей Острожских. Сограмозо уведомил об успехе миссии бывшего наместника мальтийцев в России маркиза Кавалькабо, еще раз встретился с Виктором и его адъютантом и отбыл в Польшу с охранными письмами Екатерины.
– Когда граф был в ложе, с ним был итальянец, – вспоминал Виктор. – Кажется, его звали Калуччи.
– Карлуччи?! – воскликнул Джузеппе. – Небольшого роста, суетливый, кричит невпопад…
– Роста небольшого, это да. Но об остальном не скажу с уверенностью.
«Карлуччи! Неужели тот самый капитан, который был при моей последней стычке с Диего Ризелли? Видел ли он меня?»…
– Вам нужно непременно вступить в ложу «Астреи», – говорил Рибасу Виктор. – Правда, раньше наша массония была попроще: с вечера заседали, а потом до утра пили. А теперь у нас все, как у англичан: капли в рот не берем.
Что оставалось делать? К Бецкому он решил явиться с готовой идеей моста через Неву и переводами трудов Гальяни на французский. Виктор советовал ставить мост от Зимнего дворца к Петровской крепости, чтобы избавить Екатерину от необходимости преодолевать Неву на гребных катерах. Рибас нанял лодку-рябик и отправился осматривать берега. У Зимнего дворца воды Невы уже плескались о гранитные набережные. За их строительством, конечно же, смотрел Бецкий. А вот и его дом, мимо которого бегут вызлащенные кареты к Летнему саду, откуда доносилась громоподобная музыка.
Рибас оставил своих гребцов на берегу и поднялся на набережную, где в толпе мещан узнал, что в Летнем, сегодня хозяйничают юные выпускницы Смольного монастыря: танцуют, показывают живые картинки, представляют французскую комедию и всем желающим дают объяснения о скульптурах, будь-то «Вакх и Меркурий» или «Венера спящая». А играет в саду великий оркестр роговой музыки Григория Орлова.
О том, чтобы посетить праздник смолянок, речь идти не могла: высокие сапоги Джузеппе были в грязи, и он было решил спуститься к своим гребцам, но из проезжавшей мимо открытой кареты послышался звонкий смех, он оглянулся – карета остановилась. Анастази стояла в ней, повернувшись к Рибасу.
– Уж не топиться вы собрались, мой кавалер? – весело спросила она, и он сразу ощутил, что Анастази рада встрече и ответил в тон:
– Когда Парис подолгу не видит Елену, его все время тянет к воде.
– Неужели так велики препятствия, чтобы не видеть Елены?
Рибас подошел ближе, жестом указал на Неву:
– Он живет на Васильевском. Река их разъединяет. Поэтому он решил строить мост и сейчас выбирает место для него.
– Так молод и так предприимчив. Браво, – сказала она. – Но вы не шутите?
– Второй месяц занимаюсь этим мостом.
– Тогда вам нужно непременно повидаться с Иваном Ивановичем Бецким. Он заведует императорскими строениями.
– Я не представлен ему.
– Нет ничего проще. Я поговорю с ним и вас известят.
Она сделала знак кучеру, улыбнулась, опустилась на сиденье и карета умчалась.
Кирьяков и Виктор шестого июня, в день рождения Рибаса, устроили «скромный ужин с марцифановыми и печерскими пирогами». Петруччо, осознав влюбленность Джузеппе в воспитанницу Бецкого, сказал коротко:
– Женись. Горя не будешь знать.
– Да, – подтвердил Виктор. – Когда богини начинают покровительствовать в делах, на них женятся.
– Я не думал об этом.
– У вас все впереди, – заверил Виктор. – Конечно, партия отличная. Анастасия Ивановна – любимая камер-фрау императрицы. Образована, умна. Каждый день при дворе. Присовокупим к этому влияние Бецкого. Да, весьма скоро вы не будете нуждаться в моих услугах.
– Я обременяю вас, но я обязан вам всем.
Виктор грустно покачал головой:
– Вот вам пророчество: вы женитесь, и все будут говорить, что вы женились на деньгах. Бецкий обеспечит вам карьеру. Вы станете сибаритом, ленивым барином, для которого пустяки имеют вселенское значение, а великие дела вызывают раздражение. Вспомните тогда этот разговор. Я почему-то думал, что вы созданы господом совсем для другого.
Сомнения Виктора Рибас беспечно отнес к чувству ревности: Сулин привык заботливо опекать неофита, а тот уже выходил на собственную стезю. Однако перед визитом к Бецкому Виктор придирчиво осмотрел экипировку Джузеппе, отверг фрак, настоял на легком голубом полукафтане, выбрал парик и пудру под вздохи эконома, что пудра нынче дороже лошадей.
В покрытой коричневым английским лаком коляске визитер отправился привычным путем из шестой линии мимо церквей, рынка, канатной фабрики к Неве. Кучер, в подаренной круглой итальянской шляпе, гордо посматривал на квасников, торговцев гречневиками, которых по дороге попалось необычно много. Любопытствующие расходились с берегов после необычного зрелища: десятка два верблюдов, впряженных в бечеву, протащили по Неве недостроенный корабль.
Миновали Исакиевский мост, обогнули Адмиралтейство и выехали на площадь, где стоял Гром-камень. На Большой Исакиевской Рибас заехал на почтовый двор – писем из Неаполя не оказалось. Зимний дворец был тих и пуст – двор недавно снялся в Царское. Коляска весело летела по Миллионной до Царицына луга, где у Лебяжьей канавки стоял дом в два высоких этажа и один низкий с двумя башенками по углам. Джузеппе, прихватив с собой книги, вошел в первый этаж, где его встретил сонный слуга, а две девицы, выбежав из одних дверей, смеясь, скрылись в других. Джузеппе ничего не успел сказать слуге, как по лестнице сошел человек средних лет в синем кафтане.
– Иосиф де Рибас? – осведомился он.
– Да.
Синекафтанный вдруг заулыбался и с трудом выговорил по-итальянски:
– О, как давно я не встречался с вами! Я – Хозицкий. Секретарь. Марк Антонович.
– Весьма приятно, – с недоумением отвечал визитер.
– Мне всегда было приятно. Особенно вчера. Я получил письмо из Москвы, – продолжал странную абракадабру секретарь, приглашая жестом следовать за собой. Они поднимались по парадной лестнице. На втором этаже через раскрытые двери зала и кабинета сновали слуги, шла уборка помещений.
– Идемте, – сказал секретарь по-итальянски и добавил многозначительно:
– Иван Иванович висит в саду.
«Прекрасно. Сейчас мы посмотрим, как он висит. Но что все это значит?»
– Он сегодня давно там, – продолжал Марк Антонович. – У него родилось много желтых детей.
Нет, секретарь был серьезен и на сумасшедшего не похож. Они прошли анфиладу комнат, куда-то поднялись по скрипучей лестнице и вдруг послышался визгливый с хрипотцой голосок: «Жан! Я вас обожаю, Жан!»
Это было сказано по-французски. «Куда он ведет меня и свидетелем какой сцены мы сейчас станем?»… Но секретарь растворил последнюю дверь и они оказались в саду-оранжерее. Спиной к ним стоял человек в таком широком маслянистого зеленого шелка шлафроке, что в нем поместились бы еще и Джузеппе, и секретарь.
– Иван Иванович, у нас гость, – сказал Марк Антонович.
Бецкий повернулся. Высокий лоб, серо-голубые спокойные глаза, усталое, но для его лет моложавое лицо, капризные губы, парик без кошелька… Рибас поклонился. В ответ тень улыбки и быстрый французский говорок:
– Очень рад, как поживаете, с чем хорошим к нам пожаловали?
На какой вопрос отвечать в первую очередь? Но ответить ему не дали:
– Взгляните, какая прелесть…
На столе стояла корзинка, в которой копошилось десятка два цыплят. «Желтые дети» – вспомнились слова секретаря.
– А вот и кувез!
Кувезом – наседкой оказался большой ящик с фитильной лампой для обогрева.
– Любопытная новинка, – сказал Бецкий. – Эта наседка способна родить столько, сколько положишь в нее яиц. Как вам это нравится?
– Превосходно, – неопределенно ответил Рибас.
– Появились на свет сегодня, к вашему приходу. Как вы нашли Алешу?
– Алешу?…
– Кажется, вы перевозили его из Лейпцига в Италию.
Вот оно что! А Джузеппе и думать забыл об этом. Впрочем, если Иван Иванович и в самом деле имеет отношение к рождению императрицы Екатерины, то Алеша ему внук… Вопрос вполне уместен.
– Я расстался с ним в пизанском доме осенью прошлого года, – отвечал Рибас. – Тогда мальчик был здоров, загорел, мы с ним часто бывали на побережье. Он бойко говорит по-немецки, немного хуже по-французски, а итальянский схватывал на лету.
– На лету? Чудесно.
– Очень живой, с хорошими музыкальными данными мальчик.
– С музыкальными? Как это хорошо. Мне говорили, что он к вам весьма привязан.
«Кто мог говорить? Ах, ведь Алехо Орлов был в Петербурге!»
– Как вы живете? Что хорошего поделываете? – продолжал Бецкий, и Рибас коротко обрисовал свою теперешнюю жизнь. И под конец, когда Бецкий сел в жесткое кресло у стола, передал ему книги Гальяни.
– Если в вашей библиотеке нет их, я с удовольствием вам презентую.
– Это очень кстати. Очень. Расскажите о себе, о своей семье.
Рибас рассказал, и в ответ услыхал генеральский голос:
– Майор де Рибас, все это весьма похвально. В ваши годы вы – майор, участвовали в сражениях, интересуетесь трудами философов.
– «Дух человеческий в его развитии» Фердинандо Гальяни я перевел на французский, – сказал Рибас.
– Зачем же вы это сделали? – как бы осуждая спросил генерал.
– Русским я еще не владею, но изучаю.
– Прекрасно. У вас перевод с собой?
– Он у переписчика. Как только будет готов…
– Непременно! – сказал генерал и добавил, по всей вероятности, в ответ своим мыслям: – Это будет сюрприз.
Но объяснять, что за сюрприз и кому, не стал, а вместо этого Рибас услыхал длинную речь-жалобу о том, что заботы Ивана Ивановича велики и многотрудны.
– Кроме кадетского корпуса, воспитательного дома, управления строениями, на мне стекольный завод, мраморные ломки на Урале, добыча драгоценных камней, янтаря в Прибалтике. Ах, некогда не только поехать в загородный дом в Царском, некогда вздохнуть. А сейчас мраморный дворец начат строительством. Да еще и себе надумал строить дом, тут по Неве, рядом. Прокопий Демидов просит художников прислать в Москву. Вчера от него было письмо. Он упоминал в нем о вас.
Джузеппе вспомнил бестолковые слова секретаря. «Оказывается! Я ни сном, ни духом, еду сюда, а тут обо мне в письмах упоминают!»
– Настя мне говорила, что вы решили посвятить себя строительству моста через Неву, – продолжал Бецкий.
– Посвятить себя – это громко сказано, – отвечал Рибас. – Просто произвожу некоторые расчеты, делаю опыты.
– А мы как раз хотим объявить конкурс на проект такого моста, – сказал Бецкий и, видимо, удивившись своей мысли, добавил: – Диву даюсь, как все у вас кстати! Оставайтесь обедать. Марк Антонович! – позвал он, и секретарь появился в зарослях магнолий. – Проводите майора в кабинет и покажите-ка ему, пожалуй, наше «Праздное время».
Кабинет с мраморными бюстами, дубовыми панелями, столом с каменной доской шлифованных самоцветов, картинами, книгами хранил раз и навсегда установленный порядок и покой. «Праздное время в пользу употребленное» оказалось тонким журнальчиком кадетского корпуса. Рибас перелистал несколько номеров. Тут встречались статейки, озаглавленные «О чести», «О надежде» и, видимо, носившие нравоучительный характер Встречались стихи, подписанные А. П. Сумароков, статьи о фарфоре и водяных мехах. Заскучавшего гостя заинтересовала лишь историческая статья о Дон Карлосе, когда в кабинет вошла Анастази, которую вслед за Бецким Рибас решил называть Настей.
– Как вы тут? – спросила она совсем по-домашнему. – Сейчас будем обедать. Столовая рядом. Вы, майор, произвели впечатление на генерала.
– Объясните, прошу, почему секретарь мне сказал, что Иван Иванович висит в саду?
– Как? Висит? – засмеялась она. – Он плохо знает итальянский, и видно, все перепутал. У нас висячий зимний сад. Вот он и сказал… что генерал висит!.. – она рассмеялась.
За обеденным столом присутствовали: знакомая Джузеппе Глори – Глафира Алымова, ее подруга по Смольному, дежурный кадет, секретарь, Настя, сам Бецкий и его сосед-граф Иоан – Эрнест Миних – шестидесятипятилетний член Совета кадетского корпуса. Блюда оказались довольно пресными, вино отменным, а удивили крупные сочные персики из собственной оранжереи Бецкого, поданные на десерт.
– Как вам понравилось наше «Праздное время»? – спросил генерал, но Рибас не спешил с ответом, потому что заметил: ответов тут часто не ждут, и Бецкий продолжал: – В прошлом году мы праздновали сорокалетие корпуса. Кадетов мы готовим не только для войн.
Они изучают латынь, европейские языки, живопись, музыку, мифологию, архитектуру и даже бухгалтерию. У нас отличный ботанический сад, арсенал, архитектурные и медицинские каморы, галерея с живописными картинами.
– А что, с галицинского фрегата картины не подняли? – спросил Миних.
– Подняли. Но они никуда не годятся, – отвечал Бецкий и пояснил Рибасу: – Представьте, моя компаньонка ведет весьма дорогостоящую войну, но тут мы узнаем о продаже картин голландских мастеров…
Слуга поставил перед Иваном Ивановичем кофейник, а Джузеппе понял, что под компаньонкой Бецкий имел в виду императрицу.
– Голицын, наш посол в Гааге, писал, что голландские шедевры нельзя упустить. Кроме того: какой широкий жест перед лицом Европы! Мы ведем войну с неверными, но и не забываем о вечном искусстве, пополняем эрмитажную коллекцию. Моя компаньонка отпустила из казны шестьдесят тысяч золотых. А галеот, на котором перевозили картины, возьми да и утони у финляндских берегов!
– Он утонул сам по себе? – спросил Рибас.
– В бурю наткнулся на скалу.
– Обидная история.
– Да, еще бы, – печалился камергер. – Зато в семидесятом на мое имя мы приобрели отличную коллекцию Троншена. В ней восхитительный Караваджо. Потом Дидро полтора года вел переговоры о собрании картин Тьера, и она обошлась моей компаньонке в 460 тысяч ливров.
Граф Миних потер свой короткий нос и вдруг прыснул смехом в ладонь.
– Что с вами? – спросила Настя. – Будьте милосердны, дайте и нам повод посмеяться.
– А какую шутку ваша компаньонка сыграла с кучером! – воскликнул тонко Иоан-Эрнест.
– Да! Славно, славно, – подхватил Бецкий. – Кучером моя компаньонка называет своего надменного врага – французского министра Шуазеля. Как вы, верно, знаете, он после Чесмы отставлен. Ему на жизнь не хватало, и что же вы думаете? Стал продавать коллекцию своих картин с аукциона.
– Обнищал! – кивал седой головой Миних. – Хоть на паперть с протянутой рукой.
– Ну и чтобы он не умер на паперти, мы купили картин на сотню тысяч ливров. И среди них два прекрасных полотна Мурильо – «Мальчик» и «Девочка».
– «Мальчика», чтобы Шуазелю карточные долги уплатить, – Тонким голоском сквозь смех произнес граф. – А «Девочку», чтобы ему на курочек осталось.
– Резонанс этой покупки в Европе был замечателен, – закончил Бецкий.
«О чем бы здесь не говорили, постоянно думают о резонансе в Европе», – отмечал Рибас.
– Вы были в Эрмитажной галерее? – спросила его Настя.
– Увы, нет. Но мечтаю побывать.
– Сейчас самое время, – сказал Бецкий. – Двор в Царском. Я напишу вам записку смотрителю. Ах, все расходы в военное время обременительны, – продолжал он, вздыхая и попивая мелкими глотками кофе. – Фальконе за свою скульптуру запросил неслыханно много. И Дидро на новое издание «Энциклопедии» хочет шестьдесят тысяч и двенадцать лет. А я все не решаюсь ни на эти деньги, ни на этакие годы.
– Поэтому вы и заслужили от Дидро прозвище «нерешительный сфинкс», – сказала Настя.
– Быть сфинксом в глазах Европы совсем не дурно, – вступился граф.
– Но весьма обременительно, – сказал Иван Иванович и обратился к Джузеппе: – Вам, майор де Рибас, я советую продолжить занятия мостом через Неву в кадетском корпусе. У нас отличный натуральный кабинет, оптическая камора. И покои вам для занятий определим. – Улыбнувшись, добавил: – Сфинск распорядится.
Затем майора просили бывать запросто, и он уехал с записками смотрителю Эрмитажной галереи, полковнику-инспектору кадетского корпуса и корзиной с десятком цыплят, выведенных сфинксом с помощью кювезы.
Несколько последующих недель были заполнены приятными и быстрыми событиями, сменами впечатлений. Полковник Андрей Яковлевич Пурпур принял Джузеппе в пустом Меньшиковском дворце учтиво, показал кабинеты, покои для занятий, приставил солдата для услуг. Затем продекламировал:
– Мудрость и молодость редко совместно бытуют. Молодость жаждет, мудрость взирает спокойно. – И продолжал прозой: – милости прошу бывать у меня. Мой дом рядом, за кадетскими флигелями.
– Но где же ваши кадеты? – спросил Рибас. – Я не встретил ни одного.
– Они стоят летним лагерем здесь же, на Васильевском, – отвечал Пурпур. – Земли возле галерной гавани принадлежат корпусу.
Рибас отвез Бецкому французский перевод Гальяни и были принят в салоне Анастази. Теперь не Виктор Сулин просвещал неофита, а сам неофит рассказывал вчерашнему наставнику любопытные новости двора, но зато Виктор одаривал Джузеппе своим тонким анализом.
– Императрица блестяще решает шахматную партию в три хода, – говорил Виктор, подытоживая новости Рибаса.
По его мнению, первый ход состоял в том, что она издала рескрипт о «выздоровлении» бывшего фаворита Григория Орлова и предложила ему приступить к своим должностным обязанностям.
– Но только не в спальне, – смеялся Виктор. – Там обосновался Васильчиков, креатура канцлера Панина. Второй ход был подготовлен исподволь. Еще в конце апреля императрица послала приглашение ландграфине Гессен-Дармштадской прибыть в Россию с дочерьми Амалией, Луизой и Вильгельминой. Последняя была назначена в супруги сыну Павлу.
Третьим ходом она намечала не просто отдалить, а раз и навсегда разъединить воспитанника и воспитателя – Павла и канцлера Никиту Панина. Но непредвиденные события, которые могли бы стать и концом Екатерины, разрубили узел третьего хода.
Как ни странно, события эти коснулись и Джузеппе.
Во-первых, занимаясь в кадетском корпусе расчетами моста, он частенько отдыхал и гулял по берегу Невы, и однажды чуть не был раздавлен открытым экипажем, запряженным двумя лифляндскими скакунами.
– А чтоб тебя! – закричал седок, когда экипаж едва не перевернулся, и в седоке Рибас узнал графа Андрея.
– Не меня, а тебя черт побери! – воскликнул Джузеппе.
– Прости. И не поминай лихом. Все кончено! – Отвечал граф Андрей обреченно, и экипаж умчался. Оставалось лишь недоумевать.
Во-вторых, когда бы Джузеппе ни приходил к своему покровителю, ни самого Ивана Ивановича, ни очаровательной Насти не заставал дома. Дворецкий неизменно отвечал, что уехали, что ничего не знает.
В-третьих, он получил пригласительный билет на маскарад в Петергоф. В конвертике была записка от Насти: «Приезжайте, мой кавалер, и будьте в белом домино с красным капюшоном».
Виктор позвал портного и помог с костюмом.
– Жаль, что я не смогу быть с вами, – сказал он. – Вас приглашают на маскарад в честь невесты Павла.
Действительно, еще в июне начались иллюминированные празднества: ландграфиня Гессенская привезла в Любек дочерей и среди них Вильгельмину. На Ревель-ском рейде ее встречала эскадра из трех судов. Фрегатом «Быстрый» командовал Андрей Разумовский и, как кое-кто говорил, название фрегата соответствовало тому, как взялся обхаживать невесту Павла граф Андрей.
Из окон парадного зала кадетского корпуса Рибас наблюдал необычную суету у Зимнего дворца. За открытой шестиместной каретой императрицы следовал нескончаемый кортеж. Движение пульсировало то в сторону Смольного, где, очевидно, воспитанницы блистали перед гостями в вольтеровских пьесах, а то вдруг центр движения перемещался к Летнему саду, расцветившемуся фейерверками. Находиться среди праздных зевак Рибас не захотел, и вот сейчас, получив неожиданное приглашение в Петергоф и примеряя домино, сказал другу: – Я попрошу, чтобы вас пригласили.
– Никогда и никого не просите за меня.
Маскарад был назначен на 29 июня, в день тезоименитства Павла, и, когда Рибас прибыл к Петергофскому дворцу, он остро ощутил, что затеряется среди тысяч приглашенных. Такого празднества, такого стечения народа, стольких оркестров и столов, накрытых под сенью дерев, он не ожидал. Нечего было и думать, чтобы попасть во дворец, откуда отдавались незримые команды: когда поднимать бокалы, когда бить пушкам, когда взметнуться в небо фонтанам и ракетам.
Нет, здесь представить себе было невозможно, что Россия ведет кровопролитную войну с турками на Дунае и Средиземном море, куда пришли еще две эскадры, и линейные корабли «Граф Орлов» и «Чесма» состояли в их числе. Нет, петергофские салюты гремели не в честь эскадры Коняева и графа Войновича, что сожгли семь турецких фрегатов под Патрасом. Из праздничной круговерти вряд ли виделось кому-то, что корпуса Румянцева воюют за Дунаем, а суда Войновича принуждают далекий Бейрут к сдаче.
Здесь, в парке, живописно раскинулись палатки с угощениями. Сверкал хрустальный бассейн в форме буквы «Е». А внутри хрустального вензеля плавали радужные тропические рыбки. Верхний парк напоминал великосветский бивак. Офицеры-гвардейцы съезжали по каскаду «Шахматная гора» с бокалами вина в руках, и, кому удавалось не расплескать его, получали легкие поцелуи дам. Свинцовые скульптуры Большого каскада укоризненно мокли под вспыхивающими водными струями.
Джузеппе с кем-то пил шампанское, с кем-то перебрасывался фразами, обходил танцующих стороной и потерял всякую надежду увидеть предмет своего обожания. Однако возможность эта увеличилась, когда в водоворот тысяч масок влился яркий цветной костюмированный поток из дворца – ее величество пожелала насладиться картиной фейерверка. Многих трудов, толчков, недовольного шипения, извинений стоило Рибасу приблизиться к этому потоку, оказаться возле царской свиты и вдруг услыхать веселый мужской голос возле своего уха:
– Белое домино, не одолжите ли мне тысячу ливров на карманные расходы?
– Вам придется подождать полчаса, пока я не выиграю нужную вам сумму, – отвечал Рибас.
– За полчаса я истрачу вдвое больше! – отвечал, смеясь, граф Андрей, и Рибас не успел сказать: «Но ведь для вас все кончено, граф!», как тот исчез в толпе, которая вынесла Рибаса перед ясны очи вельможного старца в шитом золотом кафтане, а на его лентах сияли звезды, похожие на уменьшенные копии морских звезд; Иван Иванович Бецкий всплеснул руками:
– Куда же вы пропали, мой дорогой? Что поделываете хорошего, мой дорогой? Жаль, что Мельхиор Гримм не напишет об этом бале в своей «Литературной корреспонденции» – Европа знавала балы, но они там никогда не были так сердечны. Однако Гримм скоро приедет, празднества еще грядут во множестве. Кстати, в каких вы отношениях с графом Андреем Разумовским?
– Я был с ним при Чесме.
– А здесь?
– Изредка видимся.
– Изредка. Кхм. Вот как. Ну, прощайте.
И он поспешил за свитой. «Что все это значит? – спрашивал себя Джузеппе. – Почему после вопроса о Разумовском он так сухо распрощался? Может быть, мне лучше уехать?»
Ночной фейерверк над фонтанами большого каскада воссиял цветным сказочным сном. Несть числа было крикам, возгласам, возбужденным лицам, а тени дерев тревожно метались по земле.
– Я надеялась увидеть вас раньше, мой кавалер.
Розы в волосах, платье, тканное цветами, перехваченное под грудью золотым пояском, в руке букетик – Рибас поцеловал руку богини Флоры.
– Конечно же, я искал вас, – сказал он. – И, признаться, совсем потерял надежду.
– Если вы ее имели, она была не очень велика.
– Среди тысяч незнакомых людей, да еще когда они в масках, можно надеяться лишь на чудо.
– Только не говорите, что оно случилось.
– Нет, случилось не чудо, а то, что должно было случиться.
Она взяла его под руку, и они спустились в нижний парк, где на аллеях стояли слуги с факелами. – Кто вы сегодня? – спросил Джузеппе.
– Всего лишь бедная девушка, которая случайно попала сюда.
– Но этой бедной девушке так идет наряд Флоры.
– Увы, бедным девушкам к лицу любой наряд.
Она уверенно вела его куда-то и не оставляла без ответа ни одну из его фраз. Наконец, они вышли к пристани, где многие гости брали лодки с гребцами. Без обычных в таких случаях «ахов» и «охов» Настя ступила на неверное днище и села на диван, обитый кожей. Лодка была о двух веслах, украшена лентами, с навесом, с которого свешивалась цветная бахрома. Гребцу Рибасу лишь оставалось взяться за весла, но уже после двух десятков взмахов он вытащил весла, положил их на борт, пересел к богине и обнял ее.
– Разве сейчас май? – отчего-то шепотом спросила она.
– Я не знаю который час, а уж о месяце и речи нет.
– Флора только в мае позволяет обнимать себя.
Ах да, он забыл, празднества в честь Флоры иногда устраивались в Неаполе в начале мая, и флоралии эти были откровенны в любви. Значит?… Богиня не противилась его поцелуям, он пересадил ее к себе на колени, финские воды кружили лодку. Только на мгновение Джузеппе очнулся, уколовшись о шипы розы.
Потом она бросала цветы в черную воду. Наверху, на побережье, догорал костер петергофского бала. Звезды иногда показывались в просветах низких туч.
– А вы знаете, – сказала Настя, – мой воспитатель подозревает, что и вы в числе заговорщиков.
– Как? Какой воспитатель? О каких заговорщиках вы упомянули? – удивился он.
– Иван Иванович предполагает, что вы участвовали в заговоре против его компаньонки.
– Первый раз об этом слышу! Правда, я что-то такое подозревал, чувствовал. Бецкий на балу говорил со мной о графе Андрее. И сухо распрощался. Ради бога, объясните.
Он почти не видел ее лица в темноте, и время от времени ему казалось, что с ним говорит сивилла.
– Многие считают, что императрице давно пора уступить престол сыну. Но как бы не так! Кто же добровольно отказывается от жизни? Ведь, если она уступит – ее или заточат в крепость, или казнят. За ней достаточно грехов для этого. Что до меня, то мне нравится ее театр.
– Театр?
– Сейчас объясню. Когда она заняла престол, наобещала бог весть что. Канцлер Никита Панин все ждал, что она введет в стране конституцию. Представляете? В этой стране! На что он надеялся? Но наследника он готовил именно к этому. И преуспел, потому что Павел размазня. Подвержен влиянию тех, кто в данную минуту перед ним. При смене лиц меняются и его убеждения. И вот, когда канцлер поведал ему о надежных людях, что вместе с конституцией возведут его на трон, он эту конституцию подписал. Правда, сначала попросил списки надежных людей. А среди них были и князь Репнин, и брат канцлера фельдмаршал, и ваш Разумовский, и митрополит Гавриил, и кинягиня Дашкова… Недаром она теперь в Москве, и ей запрещено возвращение даже к бракосочетанию наследника. Одним словом, в заговоре состояли еще два доверенных секретаря канцлера – Фонвизин и Бакунин. Последний струсил и все открыл Григорию Орлову. Передал ему списки заговорщиков. Конечно же, Орлов побежал к императрице. И вот тут начался театр. Я хорошо знаю Екатерину Алексеевну. Она это умеет. Был вызван Павел. Герой заговора валялся в ногах у матери. Клялся ей в любви. Проклинал свою опрометчивость. Орлов, верно, уж послал нарочных по крепостям готовить казематы и призвал палачей. Но императрица поступила как великая актриса: бросила списки заговорщиков в огонь. И сказала при этом, что прощает всех, кроме канцлера Панина. Ему она дала благодарственный рескрипт, пять тысяч душ и всего лишь удалила от сына. Каков театр?
– Понимаю. Ведь копию со списков заговорщиков успели снять, – кивнул в ответ Рибас.
– Скорее всего, это так.
– И они до конца дней обречены жить в страхе.
– И в собачьей преданности.
– Если это театр, то актриса рассчитала все.
Настя обняла его за шею и пощекотала за ухом:
– А теперь признавайтесь, мой кавалер, какова ваша роль во всем этом?
«Не говорить же ей, что Разумовский ждал оборота дела, чтобы известить меня о том, о чем я не имел понятия? Граф Андрей приберегал меня на тот случай, когда дело станет жарким. Как бы я поступил? Очевидно, не задумываясь, принял бы его сторону. А исход предприятия мог быть плачевен».
Насте он сказал:
– Ни к заговору, ни к его участникам я не имею никакого отношения.
– Это скучно, – проговорила она разочарованно.
– Вы не любите императрицу?
– Я? Я в ней души не чаю.
– Но тогда…
– Жизнь при дворе так глупа и однообразна, что любые встряски живительны. Но я уверена: императрица при любых встрясках одержит верх. Ею руководит божественное провидение.
Он обнял ее, и они забыли о заговорах, об этой ночи, о времени.
Когда они проснулись, уже светало. От неудобного, но божественного под глубоким небом ложа, тело ломило, и они решили возвращаться. Но, увы – весел, которые Рибас опрометчиво оставил на борту лодки, не было! Он безуспешно пробовал подгребать к берегу рукой, пробовал выломать банку, нашел черпак, но берег не приближался. Только к полудню за ними прислали гребной катер. Настя перешла на пего и отправилась в каюту.
К Петергофской пристани подошли через час. Настя успела отдохнуть, смеялась над нечаянным приключением. Однако без последствий оно не осталось. Когда они поднялись в верхний парк, то Рибас увидел приближающуюся к ним со свитой императрицу. Смущение, стыд, растерянность сковали его. Бог мой, только не так, не в таком виде, не при таких обстоятельствах он хотел бы впервые предстать перед Екатериной! Собственное положение казалось ему унизительным. Может быть, пройдут мимо? Не заметят? Какое там! Настя сама легко побежала вперед к императрице. Поклонилась. О чем-то оживленно заговорила. В его сторону смотрели. Нужно было идти на мешкая.
Свита вокруг императрицы занималась делами странными, веселыми и непонятными. Мальчики-пажи налетали на вельмож с прутиками, как с саблями, изображали страшные сабельные удары, и свитские вскрикивали: «Ай, мне отрубили руку! Ах, я исхожу кровью!» Обер-шталмейстер Лев Нарышкин повалился на траву с криком:
– Я обезглавлен!
Рибас стоял неподалеку, в стороне, наблюдая за происходящим. Лев Александрович сложил руки на груди:
– Умираю без покаяния.
– Свечку-то ему в руки дайте! – весело советовала Екатерина.
В сложенные на груди руки шталмейстера пажи воткнули гриб. Двое вельмож сели рядом с «покойником» и окуривали его дымом из трубок. Нарышкин чихал – императрица хохотала:
– Да такому герою никаких наград не жалко.
– А вот ему орден Александра Невского! – воскликнула Настя и возложила на грудь Льва Александровича клок сена.
– Георгия седьмой степени ему дайте! – смеялась императрица.
На Рибаса никто не обращал внимания. Пажи, отпевая шталмейстера, пели детскую французскую песенку. Потом начались похороны, и первый «ком» сена бросила в «могилу» Екатерина. Затем Льва Александровича завалили сеном и принялись уминать холм-копну, повалились на шталмейстера кучей-малой, он взвыл, вывернулся, вскочил весь в сене и с криком: «Надоело умирать, буду снова воевать!», оседлал ветку и поскакал на ней меж деревьев.
– Отчего же вы так неосмотрительны? – вдруг услыхал Рибас голос Екатерины, обращенный к нему. Он поклонился:
– Иосиф де Рибас, ваше величество… – к вашим услугам…
Услыхав ответ, Екатерина расхохоталась так, что даже Нарышкин с удивлением обернулся.
Рибас в растерянности бормотал:
– Только моя неосмотрительность… позволила мне… видеть вас…
– Для этого следовало бы иметь лучший повод, – сказала, отсмеявшись, Екатерина. – Иначе я без фрейлин останусь. – Она обняла Настю за талию и продолжила путь по аллее, громко объявив свите: – Верно, теперь в колчане Амура не только стрелы, но и весла.
Все засмеялись. Рибас чувствовал себя уничтоженным. Оставшись, наконец, один, он бросился разыскивать свой экипаж, повторяя одну и ту же фразу: «Позор и унижение! Позор!»
Даже столкнувшись лицом к лицу с Андреем Разумовским, он не пришел в себя.
– Да что с вами, Джузеппе? – спросил граф Андрей.
Рибас коротко поведал о случившемся.
– Поздравляю вас, – рассмеялся Разумовский.
– С чем?
– Да вы скоро женитесь.
Джузеппе махнул рукой и направился к экипажу. Мысль о женитьбе взволновала его, но была тотчас отброшена – для женитьбы нужны были немалые деньги.
На Васильевском он зажил затворником, не откликался на увещевания и подтрунивания Виктора, который сообщал, что государыня приезжала в Петербург, посетила строящийся Исакиевский собор, мраморный дворец. В августе после миропомазания невеста Павла Вильгельмина получила имя Натальи, что было отмечено представлением итальянской оперы «Антигона» и пышным празднеством на спуске корабля «Святой пророк Иезекиль».
Иллюминации в столице сделались привычными, праздники сменялись торжествами, но Виктор смог вытащить захандрившего вконец Рибаса из дома лишь в день бракосочетания Павла и Натальи, когда от средних ворот Зимнего дворца до церкви Казанской Божьей матери сплошной шеренгой выстроились полки лейб-гвардии. Рибас ни к чему не проявлял интереса.
– Вы заставили императрицу рассмеяться, – говорил Виктор. – Многие сочли бы это началом карьеры.
– Я не шут! – восклицал Джузеппе. Раньше воображение рисовало ему, что он будет представлен Екатерине в ореоле неких славных дел, а он предстал перед ней со щетиной на щеках, скверно одетым да еще при таких позорных обстоятельствах! Нет, все кончено. Следует подумать об отъезде в Италию. Отец писал, что в Неаполе все идет своим чередом, а вражда клана Ризелли не проявляется ни в чем.
А пока он купил у разносчика книг за двадцать копеек «Оду» на бракосочетание Павла, и Виктор переводил высокоторжественные и непонятные стихи, обращенные к Павлу Петровичу и Наталье Алексеевне.
Хандра кончилась в начале октября, и не великолепный фейерверк на площади возле Летнего дворца был этому причиной. Рибас получил записку от Насти, в которой она удивлялась его отсутствию и беспокоилась: не болен ли он? Нет, он не помчался в дом Бецкого немедля, а решил появиться там не с пустыми руками и снова занялся расчетами моста через Неву.
Утром следующего дня он пешком отправился в кадетский корпус, чтобы продолжить свои занятия, но был остановлен караульным, который объяснил, что в корпусе идет прием в честь какого-то французского генерала. На плаце гремел оркестр. Кадеты показывали французу чудеса шагистики. На кадетском ипподроме готовились к вольтижировке. На следующий день, когда в классах начались занятия, Рибас сидел в натуральном кабинете за чертежами моста. Вдруг пришел дежурный капитан и пригласил его в кабинет Бецкого: Иван Иванович изъявил желание видеть неаполитанского майора.
Через бывшие меньшиковские покои, в которых стены и даже потолок были облицованы сверкающим голубоватым голландским кафелем, Рибас прошел в кабинет, где матово светились ореховые панели, а Бецкий сидел перед секретером под портретом Петра I. Рибас поклонился.
– Рад видеть вас в добром здравии, генерал.
Но Бецкий молчал, испытующе смотрел на вошедшего, слегка повернув к нему голову, отчего складки шеи накрыли шитый золотом ворот кафтана. Рибас, наконец, решился и дрогнувшим голосом, мучаясь собственной непоследовательностью, произнес:
– Я имею честь просить руки вашей воспитанницы, генерал.
– Вы говорили об этом с ней? – последовал суровый вопрос.
– Почитаю своим долгом сначала узнать ваше мнение.
Генерал вздохнул, раскрыл табакерку, но табак нюхать не стал.
– Все зависит от Насти, – сказал он. – Как она решит, так тому и быть. Приезжайте к нам завтра, официально, в три часа. – И генерал заулыбался, стал прежним, приветливым Иваном Ивановичем: – Что поделываете хорошего? Продолжаете свои занятия? Это превосходно. Почему я вас не видел вчера?
– Но вы принимали в корпусе какого-то генерала.
– Генерала? – удивился Бецкий. – Кто вам сказал?
– Караульный.
Бецкий засмеялся:
– Я обязательно скажу Дени, за кого его тут приняли солдаты. Вчера в корпусе был мой друг-философ Дени Дидро. Он гостит в Петербурге по личному приглашению императрицы. Представьте, по дороге из Парижа Дени даже не заехал в Берлин – так он не любит Фридриха. Мельхиор Гримм обязательно напишет об этом. Европа должна знать, кого предпочитают философы и куда они стремятся даже на склоне лет.
Виктор Сулин согласился сопровождать Рибаса во время официального визита, но сказал:
– Со стороны может показаться, что вы выбираете легкий путь. Действительно, Бецкий богат. У Настасьи Ивановны прочное положение при дворе. Но я предвижу для вас немалые трудности.
– Какие именно? – спросил Рибас.
– Всему свое время. Но не удивлюсь, если в один прекрасный момент вам захочется все бросить и бежать.
– Бог мой! – воскликнул Рибас. – Объясните ваши предположения!
– Все начнется с двух перемен: перемены подданства и религии.
Действительно, когда на следующий день в три Виктор и Рибас были в домашнем кабинете Бецкого и после ничего не значащих фраз секретарь Марк Антонович был послан за Настей, Иван Иванович благодушно сказал кандидату в женихи:
– Этому браку будет много препятствий. Сейчас явится первое.
Препятствие в лице Насти явилось в голубом платье-полонезе. Две голубые ленты в отливающих медью волосах казались Рибасу вымпелами чистоты и покорности.
– Душенька, майор просит твоей руки, – объявил Бецкий.
Настя ответила просто и не выказывая волнения:
– Я согласна. Но… – Она повернулась к жениху. – Получили ли вы разрешение на брак от вашего отца?
– Я напишу ему сегодня же.
– Вы должны знать, – продолжала твердо Настя, – я не смогу стать католичкой.
– Православная и католические верования – религии христианские, – отвечал Рибас, – и я готов пойти вам навстречу.
– Прекрасно, похвально, – говорил Бецкий жениху, как ученику-кадету. – Сделаем это не откладывая, пока отец Илиан не ушел.
Все направились в домашнюю церковь Бецких, где отец Илиан велел жениху преклонить колена на синюю бархатную подушечку и приступил к совершению обряда. Через десять минут миропомазанный Иосиф Михайлович де Рибас двадцати трех лет предстал перед невестой, графом Иоаном Минихом, Бецким, Виктором и секретарем. Иосифа Михайловича поздравляли, желали многие лета, обнимали и лобызали. Иван Иванович взял руки жениха и невесты, соединил их и сказал:
– Иосиф Михайлович, встаньте-ка перед образом лицом на восход, вот так. Я отдаю вам руку моей любимой Насти, которая для меня дороже всего на свете. Берегите ее и не давайте в обиду. А ты, Настя, уважай и люби будущего супруга своего.
Затем вернулись в кабинет и расположились в креслах по-домашнему.
– Итак, мои дорогие, то, что сейчас произошло, по русскому обычаю называется «ударили по рукам», – сказал Бецкий. – Еще нам предстоят сговор и свадьба.
– И разрешение на свадьбу императрицы, – добавила Настя. – Ни фрейлины, ни камер-фрау не могут без ее позволения выйти замуж.
– Да-да, – кивал Бецкий. – Время сговора мы назначим, но жених может и сейчас знать, что, кроме обычного приданого, я даю за Настей тридцать тысяч золотом и этот дом.
– Как? – удивилась Настя. – Но где же вы будете жить?
– Ведь я строю для себя дом рядом, так как предвидел этот день давно, – отвечал Иван Иванович.
– Вы останетесь подданным короля Обеих Сицилии? – спросил у жениха граф Миних.
– Да, – твердо отвечал Рибас, ибо обсудил все заранее с Виктором. – Я думаю, это не помешает бракосочетанию и не составит препятствий.
– Вас не интересует карьера при русском дворе? – спросил граф.
– Конечно же интересует, – отвечал жених. – Но пока я предпочел бы остаться подданным короля Фердинанда.
– Этим вы ограничиваете свои возможности, – сказал граф. – Вы способны занять высокое положение при дворе, если станете российским подданным.
– Я, вероятно, переменю свое теперешнее решение, но позже, – твердо заявил Рибас.
Виктор категорически настаивал на том, чтобы он не менял подданство. «От русского двора каждый день можно ожидать сюрпризов, – говорил он. – Россиянина в любой миг могут взять под микитки и показать, где раки зимуют. Неаполитанское подданство защитит вас. Но когда вам предложат место в Сенате, – добавил он смеясь, – тогда и решите окончательно».
– Остается одно, – сказал Бецкий. – Какое поприще вы намерены избрать в Петербурге? От себя скажу, что место на кадетском поприще и чин капитана вам обеспечены, Иосиф Михайлович.
– Благодарю вас, но, простите, мне нужно подумать.
Еще неделю назад он согласился бы сразу, но теперь узнал, что Алексей Орлов едет из Италии в Петербург, и решил дождаться его: Алехо мог предложить более заманчивую службу. Вечером Рибас написал отцу. Утром отправил чертежи и расчеты моста в Академию. Следовало спешить, так как Виктор объяснил, что на сговоре жених должен одарить невесту подарками, среди которых должны быть и бриллиантовые вещи. Положение невесты к этому обязывало.
Может быть, не без содействия Бецкого, но приглашение в Академию для обсуждения проекта моста последовало довольно быстро, и Рибас отправился в старое здание Петербургской Академии на Васильевском. Хотя путь был близкий, кучер чертыхался и ругал дорогу. Она была с такими рытвинами и ухабами, что пешеходы преодолевали их, как опасные крепостные рвы. Рибас заранее навел справки и узнал, что директором Академии состоит один из братьев Орловых – Владимир – при эфемерном президентстве гетмана и фельдмаршала Кирилла Разумовского – отца графа Андрея. Дела в храме наук были запущены донельзя, господа академики собирались крайне редко, а гимназисты-дворяне, учившиеся при Академии, едва умели читать.
В нетопленном сыром конференц-зале собрались несколько профессоров и до десятка молодых адъюнктов. Надворный советник и конференц-секретарь Иоган Эйлер представил Рибаса собравшимся и познакомил его с профессорами. Доклад мостостроителя был короток:
– Если господа просмотрели мои расчеты и чертежи, то мне нечего больше прибавить к ним. Я жду вопросов и с удовольствием отвечу на них.
Последовало долгое молчание, после которого берлинский анатом Фридрих Вольф, неизвестно для чего притащившийся на заседание, щуря близорукие глаза, ко всеобщему увеселению присутствующих спросил:
– А что же это за такие большие флаги посередине моста?
– Простите, но это не флаги, – отвечал Рибас. – Это паруса, с помощью которых средняя часть моста будет разводиться, чтобы дать возможность свободному проходу судам с высокими мачтами. Ворота моста будут раскрываться по течению сами, а против течения закрываться с помощью парусов.
– А если ветра не будет?
– По данным вашей же Академии на Неве в году не наберется и десяти дней, когда стоит полный штиль, – объяснил Рибас.
Сама идея с парусами вызвала одобрение. Маклебургский математик Ульрих Эпинус и библиотекарь Академии Семен Котелньиков, отлично знавший математику, высказались о тщательности расчетов. Молодые адъюнкты набросились на Рибаса стаей: «Шестиопорный мост не выдержит натиска льда. Место выбрано неудачно. Наплавной Исакиевский надежнее и дешевле». Рибас возражал, но окончательно дело решил надзиратель академического физического снаряда Людвиг Крафт. Он был придворным учителем и как раз спешил к урочному времени, а поэтому сказал лаконично:
– Господа, расчеты и чертежи хороши, но совершенно необходим макет моста. Без него нам нечего ломать копья.
На этом и порешили. Две недели в мастерской кадетского корпуса новоявленный мостостроитель сооружал модель. Когда она была готова, он представил ее в Академию, но на заседание явилась половина того числа академиков и адъюнктов, что собиралась в первый раз. Сторож Академии, нанятый за полтину, усердно дул мехами в паруса, и средняя часть модели моста, опирающаяся на колесики, легко закрывалась. Собравшиеся вновь отложили окончательное решение, потребовав добавки в расчетах. Раздосадованный и разочарованный мостостроитель махнул на все рукой.
– А вы думали, что они сразу дадут вам медаль и десять тысяч к свадьбе? – пожимал плечами Виктор Су-лин. К огорчению Рибаса он собирался к отъезду в свое псковское имение.
– Но к свадьбе вы вернетесь? – спрашивал Рибас.
– К свадьбе? – переспрашивал Виктор. – Впереди Рождество. Потом великий пост, во время которого не женятся. Когда вернусь, даст Бог, и ваша свадьба состоится.
Алексей Орлов приехал в середине декабря. Виктор к этому времени уехал из Петербурга. Выждав два дня, Рибас отправился к Орлову, но его адъютант сказал:
– Вряд ли Алексей Григорьевич сможет вам что-то предложить. Мы и сами не знаем, что ждет нас завтра. Во всяком случае, пока лишь решен наш отъезд в Москву.
– А оттуда? В Италию?
– Вероятно.
Итак, оставалась одна возможность – служить под началом будущего тестя в кадетском корпусе. Но служба эта была не по душе майору-самниту. Занимаясь проектом моста в кабинетах корпуса, он вдосталь насмотрелся на возню ротных капитанов с кадетами пяти возрастов. Капитаны выполняли обязанности дядек-воспитателей и тщательно старались блюсти устав, составленный самолично десять лет назад генералом Бецким, принявшим руководство над Кадетским Шляхетским корпусом.
Здесь учились-воспитывались дети дворян с пяти-шестилетнего возраста, а родители давали подписку в течении пятнадцати лет обучения не брать свои чада домой. Двадцать четыре предмета, которые полагалось изучить кадету, были разложены на пять возрастов. Малолетним отделением – мундир василькового цвета – командовала мамка-управительница. Второй возраст – до двенадцати лет – мундир голубой. Третий – до пятнадцати лет – мундир серый. Четвертый и пятый возрасты переходили в ведение офицеров, обучавших военному искусству. Мундиры зеленые с лосиным.
Когда Рибас оставался ночевать в корпусе, в шесть утра его будила труба. Ротные капитаны заменяли кадетам отца и мать: умылось ли чадо, как позавтракало, почему отказалось от обеда, набедокурило в классах, обтрясло яблоню в саду, подралось с враждебным кланом кадетов-артиллеристов… И так до девяти пополудни, когда били зорю ко сну. Это ли занятие для двадцатитрехлетнего майора-неаполитанца? Нет, он грезил блестящим началом карьеры. А семидесятилетний генерал Бецкий вручил горячему мечтателю тоненькую книжечку, изданную в типографии Кадетского корпуса:
– Изучите, мой друг, составленное мной «Наставление воспитателям» и подавайте пример и все правила благородной природы.
Генерал сочетал регламент с благородными мотивами: посредством Кадетского корпуса, школы при Академии художеств, воспитанниц Смольного, над которым он шефствовал, и несчастными из Воспитательного дома, которых он пестовал, Бецкий страстно мечтал вывести во всех этих кювезах Людей Новой Породы и руководствовался тезисом Джона Локка – от добрых чувств к развитию разума.
– Все это можно только одобрить, – говорил Рибас Насте. – Но…
– Это не ваша стезя? – нежно спрашивала невеста.
– Неужели он рассчитывает дожить до результатов своих трудов?
– Будьте ему преемником.
– Я?!
– Да-да. Для вас хоть и благородно, но скучно. Что же делать?
Рибас как мог затягивал свое вступление в корпус. Этому способствовали рождественские балы, хваткие морозы и то, что Ивану Ивановичу теперь было не до него. У Бецкого появился соперник в лице сына лютеранского пастора из Регенсбурга Фридриха Мельхиора Гримма. Бецкий не раз поминал его, и Гримм прибыл в Петербург в дни бракосочетания Натальи-Вильгельмины и Павла. Он был великолепно принят императрицей, обласкан, устроен по-царски. Что и говорить: литератор и мыслитель состоял в личной переписке и королем польским, и со шведской королевой, и с Фридрихом II.
– Конечно, это человек широчайших интересов, – брюзжал Иван Иванович. – Но вряд ли он способен возглавить российский департамент ума.
– Но его прочат в первые и постоянные советники вашей компаньонки, – говорила Настя.
– Ах, я думаю, это ненадолго, – отвечал Бецкий.
– За ломберным столом он теперь постоянный партнер императрицы. Она каждый день приглашает его в свои покои для бесед, – сообщала Настя.
– Он отлично понимает, что его корреспонденты-монархи в Петербург ему писать не будут. Тут начинается политика. А европеец не позволит себе отдать всеевропейскую известность даже за баснословное жалование.
Конечно, в послеобеденное время, когда Бецкий читал императрице вслух из Гельвеция или Вольтера, а Екатерина вязала, генерал умело интриговал против Гримма. Но и сам Фридрих Мельхиор вежливо отказывался от неслыханных петерубргских благ, а потом сказался весьма больным, и врачеватели прописали ему Италию. Иван Иванович вздохнул свободнее и уделил освободившуюся часть своего времени будущему зятю.
Получив записку от генерала, Рибас не поспешил тотчас отправиться к нему, а дождался вечера, настоенного на морозе с ветром, укутался в подаренную Алешину шубу и в возке через замерзшую Неву покатил по привычному пути. В прихожей дома Бецкого слуга доложил, что у господ гости: у Настасьи Ивановны внизу, и у Ивана Ивановича в кабинете. Рибас поднялся во второй ярус, в кабинете никого не нашел, а из библиотеки слышались голоса.
У многочисленных застекленных шкафов красного дерева, в которых Бецкий хранил коллекцию медалей, рядом с Иваном Ивановичем стоял высокий, весьма худой и пожилой человек в ярко синем кафтане с простыми пуговицами. Когда он резко повернул к вошедшему свою яйцеобразную голову, парик с крохотной косичкой едва удержался на своем месте, и мужчина тотчас поправил его, улыбнулся тонкими губами, а лицо его приняло выражение бесконечной и заведомой приветливости к Рибасу.
– Это жених Насти Иосиф Михайлович де Рибас, – отрекомендовал Бецкий и представил незнакомца: – Господин Дени Дидро.
– Вы счастливейший из людей, мсье де Рибас, – возвестил Дидро, поклонившись. – Быть женихом столь очаровательной, столь прелестной, столь разумной, столь образованной, столь подвижной умом и восхитительной женщины – это ли не удел избранников судьбы.
– Благодарю, – Отвечал Рибас, впрочем, ему не понравилось множественное число слова «избранник».
– Моя коллекция медалей пополнилась еще одной, – сказал Бецкий. – Вот она. Признаюсь, мне было весьма лестно получить ее в Сенате из рук генерал-прокурора князя Вяземского.
Дидро рассматривал медаль сквозь увеличительное стекло, а Рибас невооруженным глазом, подойдя к философу сбоку. На одной стороне медали было отчеканено изображение Бецкого, о котором Дидро сказал:
– Здесь, Жан, вам сорок лет и ни месяцем больше. Но вы все равно похожи на себя сегодняшнего.
На другой стороне изображалось здание воспитательного дома, перед которым стоял ни больше ни меньше, как памятник Ивану Ивановичу, а к его постаменту дети прикрепляли щит с вензелем «И. Б.». На все это благосклонно взирала женщина, олицетворяющая благодарность, а надпись свидетельствовала, что Бецкий удостоен такой чести «За любовь к отечеству».
Философ положил медаль на место без расспросов. Бецкий показывал и Чесменскую, сообщив, что Рибас участвовал в сражении, и медаль на бракосочетание Павла. Потом из рук секретаря принял новые издания петербургских журналов «Парнасский щепетильник», «Вечера», «Живописец» и передал их философу. Дидро перелистал крохотные журнальчики, но высказался о медали в честь Бецкого:
– Надо было, чтобы гравировщик изобразил на вашей медали кадета. С барабаном или на лошади. А, может, со скрипкой в руках. Эти мальчишки недурно пели и музицировали, когда я был у них.
– A каковы ваши впечатления о кадетском корпусе? – спросил Рибас, не для того, чтобы поддержать беседу, а чувствуя себя обреченным служить под началом Бецкого.
– Я поражен, – отвечал Дидро. – Гельвеций утверждает, что все европейские народы теперь пренебрегают физическим воспитанием. Я написал ему, что на Петербург его утверждение не распространяется.
Вдруг, заслышав женские голоса в кабинете, ни слова не говоря, он быстро вышел из библиотеки. Бецкий и Рибас последовали за ним, и увидели философа совершенно в другом обличье. Он смеялся, целовал руку госпожи Софи де ля Фон, а затем Настину, потом снова госпожи Софи, а у Насти то левую, то правую. Третью, анемичного вида и близоруко смыкающую веки женщину, представили Рибасу как госпожу Вандейль, дочь философа. Тем временем истый француз со словами: «Ваши улыбки растопят все снега» целовал пальчики жены доктора Клерка, который походил на жену тем, что был так же остролиц и имел на носу белую, будто обмороженную горбинку.
– Вы совсем забыли нас, – говорила госпожа Софи. – А беседовать с вами истинное удовольствие.
– Я должен сделать выбор! – восклицал философ. – Мои постоянные колики происходят от продолжительных бесед или от дурной воды?
– Причина ваших колик – вода, но не плохая, а петербургская, – сказал доктор Клерк.
– Ах, если бы знать, я прихватил бы с собой сотню галлонов воды из Сены!
– Что-что, а вода из Сены не переводится в этом доме, – сказал Бецкий, указывая на круглый столик в углу с шампанским и вазами, в которых покоились медовые груши, краснобокие яблоки и свежая со слезой клубника. Секретарь Марк Антонович откупоривал «Воду из Сены».
– Когда я приехал, – заговорил с бокалом в руке Дидро, – ваша императрица подарила мне этот цветной костюм вместо моего обыденного темного, теплую дорогую шубу и муфту и оплачивает мои расходы. Вы расходуете на меня свое время, драгоценное тепло общения, расцвеченное вашим вниманием. Поэтому мой тост – за ваши расходы, тепло и внимание. Пусть короли завидуют нам!
Госпожа де ла Фон округлила глаза, предвкушая узнать тайну.
– Говорят, ваш друг Фальконе был с вами нехорош в тот день, когда вы приехали.
– Все устроилось, – отвечал Дидро.
– Но он выгнал вас, больного, из своего дома!
– К нему приехал сын. Я не мог у него остановиться. Зато теперь живу у Симона Нарышкина, посла, щеголя, русского парижанина. Правда, меня рано будит изобретенная им роговая музыка, но я не в претензии.
– По Петербургу ходят легенды о ваших встречах с императрицей, – сказала Настя.
– Я говорю с ней с погоде, о политике, об искусстве писать драмы и о горнорудном деле, о видах на урожай, о живописи и о войне.
– И о Клоде Рюльере? – спросила Настя.
– Да, моя маленькая Анастази! – он вдруг бросился к Насте и сел на пол у ее ног. – И об этом щекотливом деле я говорил с вашей императрицей. Ведь когда Рюльер написал свои анекдоты о времени восшествия на престол великой Катрин, мне было поручено купить у него эти анекдоты. Но Рюльер не писатель, а капитан-драгун с тремя тысячами ливров дохода. Я предложил четыреста дукатов за его труд, он запросил двадцать четыре тысячи ливров!
– Но стоят ли его анекдоты такой суммы? – спросила Настя.
– Я не дал бы за них ни су.
– Почему же за анекдотами была объявлена такая охота?
– Тайна и неизвестность – вот что зачастую руководит поступками людей и направляет их интересы. – Он вскочил, схватил головку Насти костлявыми руками, она испуганно дернулась, а философ продолжал:
– Ах, прелести этой женщины способны вскружить головы тысячам смертных!
– Вы о государыне? – спросила жена доктора.
Философ подбежал к ней, потрепал по плечу:
– Да-да, конечно! Она велика на троне. Трон для нее мал. У нее душа императрицы Рима, а чары Клеопатры!
– Как вы меня испугали, – произнесла Настя, придя в себя. – Недаром говорят, что императрица приказала при ваших беседах ставить между собой и вами столик. У нее не проходят синяки от ваших щипков и похлопываний.
Дидро расхохотался, запрокинул голову:
– Синяки? Браво, Анастази. Ваша непосредственность очаровательна. Но где ваш жених? – Он обнаружил Рибаса позади себя, вручил ему яблоко, и, как будто продолжая давний спор, спросил: – А как вы все-таки относитесь к браку, молодой человек?
– Я собираюсь жениться, – улыбнулся Рибас.
– Вот напасть! – вдруг вскричал философ. Рибас был поражен: не потребовать ли от этого господина объяснений? Но Дидро продолжал:
– Церковь блюдет и рождение, и брак, и смерть. Что за напасть, – он развел руками. – Нам предлагают догмат нерасторжимости брака, а он противен непостоянству, лежащему в основе натуры человека. – Он схватил Рибаса за руку повыше локтя, это было больно, а философ заглянул в глаза Рибаса: – Разве можно жить в аду?
– Нельзя, – отвечал Рибас, высвобождаясь.
– Римляне позволяли развод! – воскликнул Дидро. – После развода должен быть позволен и второй, и третий, и десятый брак!
Он говорил с таким напором, что присутствующие смеялись, как на представлении. Опешивший Рибас сказал:
– Не хотите ли вы, чтобы я развелся, не женившись? Для десятого развода надо приобрести хоть какой-нибудь первоначальный опыт.
– Отлично сказано, – ответил философ, взял грушу и надкусил ее. – Но вам так много еще предстоит. – Он сел рядом с де ля Фон и заговорил с ней, забыв о женихе: – Многие светлые головы спотыкались о понятие чести. И даже теряли свои головы. Но вот анекдот, который наверняка рассказывают друг другу воспитанницы Смольного. Одна куртизанка была очень горда собой. Она говорила: «Я весьма важная персона, так как занимаю целых двадцать мужчин, а стало быть я спасаю честь, по крайней мере, девятнадцати женщин!»
Затем снова говорили о мучивших Дидро коликах, о том, как он встретился с Рафаэлем, Рембрантом, Веронезе – с их картинами – в Эрмитаже, как картины эти в семнадцати ящиках три месяца лежали на берегу Сены и философ караулил их, пока капитан Мартен на своей «Ласточке» не увез их, а Екатерина прислала философу соболий мех на шубу. Особенно горд Дидро был тем, что у своего соседа по парижскому дому маркиза Канфлана, гуляки и волокиты, купил за тысячу экю две жалкие картины, но когда их расчистили, оказалось, что чутье не обмануло знатока: это был отличный Пуссен, за которого сразу предложили десять тысяч ливров.
Естественность Дидро поразила Рибаса. «Возможно, я впервые вижу совершенно свободного человека», – предположил он. Европейски известный автор романов, трактатов, один из создателей «Энциклопедии» покорил молодого человека своей простотой и необыкновенностью. «Ему можно простить все».
Наконец, пришло письмо и три тысячи золотых от Дона Михаила из Неаполя. Отец призывал к осмотрительности, передавал приветы сеньору Бецкому и благословлял брак с Настей. Мать приписала, что комнаты в их неаполитанском доме уже приготовлены для молодых. Вечеринка с офицерами кадетского корпуса закончилась картами в комнате Рибаса. Ему сказочно везло, и было решено мчаться через метельную Неву на Итальянскую улицу и достойно закончить вечер в доме Вирецкого, где игра шла в любое время суток.
Лакей принял шубы. В первом зале на хорах играло инструментальное трио, а у стен за ломберами царил степенный национальный английский вист. В буфетной выпили розсолису и прошли в следующий зал, где шла азартная игра господ, которым деньги жгли карманы.
Начали брелан впятером – с двумя неизвестными – итальянцем и датчанином, подсевшими к столу, когда Рибас и два кадетских офицера заняли ломбер. Сначала игра не ладилась, бреланы не шли, и чтобы изменить партию, переменили колоду карт, Рибасу пришли три десятки – брелан, его никто не перебил, потом три туза – с тем же результатом. Затем три его дамы датчанин покрыл тремя королями. И снова игра стала скучна, бреланы не выпадали.
Однако, карточная фортуна вдруг начала вертеть свой калейдоскоп случайностей, бреланы посыпались, как из неведомого рога, имя которому рок. Ах, откуда только она преподнесла Рибасу три брелана «фавори» подряд – три валета, которые перебивали любые карты. Жених хватал ртом табачный смрад, в кончиках пальцев покалывало, а раздражало лишь то, что датчанин держит руку позади шеи и теребит непрестанно чересчур длинную косичку парика.
Потом игра выровнялась. Поочередно выигрывал каждый. И вдруг невероятно начало везти итальянцу. Через получас Рибас остался с ним за ломбером тет-а-тет. А к двум часам пополуночи Рибас встал из-за стола, подчеркнуто вежливо кивнул соплеменнику, подчеркнуто прямо вышел из зала в буфетную, выпил розсолису и без копейки в кармане отправился со своими партнерами-неудачниками на Васильевский.
Раскаяние, стыд, угрызения совести, укоры протрезвевшего ума навалились на него утром такой тяжестью, какую нельзя было вынести без бокала тепловатого тошнотворного вина. Он проиграл все деньги, присланные отцом. О каких подарках невесте теперь могла идти речь? Медленная казнь раскаянием продолжалась до вечера. Он дал себе зарок: никогда больше не садиться за ломберный стол. Утром подал прошение о зачислении капитаном в корпус, схватил ящичек, обитый красной кожей, и отправился к будущему тестю.
Бецкому, очевидно, уже донесли о крупном проигрыше Рибаса, но, узнав, что молодой человек принял его предложение о зачислении в кадетский корпус, Иван Иванович позвал Настю, нюхал табак, чихал и благодушно объявил:
– Мы не будем спешить со сговором. Свадьба все равно состоится не раньше мая. Так что…
– Вот мой подарок невесте, – сказал Рибас и открыл ящичек, в котором на красном бархате покоилось два десятка древних гемм – сокровища его матери. Иван Иванович всмотрелся, изумился, взял ящичек и убежал с ним в библиотеку.
– Как вы себя чувствуете? – спросила Настя.
– Сейчас лучше.
– Завтра нас примет императрица. Прошу вас, наденьте мундир кадетского капитана. Все решится в одну минуту.
– Хорошо.
Из библиотеки с увеличительным стеклом в руке вышел Бецкий.
– Это поистине царский подарок, – сказал знаток. – Он превосходит все, что можно ожидать. Ваши антики бесценны, капитан.
Но все же сомнения относительно женитьбы не оставляли молодого человека: «Конечно же, лучшей супруги, чем Настя, и желать нельзя. А мне всего двадцать три. Я ничего не достиг, не успел, не сделал. Женитьба подводит определенные итоги, а у меня не было даже начала».
На следующий день в двенадцать Бецкий, Настя и Рибас поднялись во второй этаж Зимнего дворца. Зеленый кафтан был непривычен новоиспеченному капитану. На ногах по штибель-манжетам сияло по двадцать вызолоченных пуговиц. Талию стягивал золототканый шарф в два перехвата с пышными кистями. Серебряный нагрудный офицерский знак светился позолоченными насечками.
Императрица сидела в рабочем уголке эрмитажной галереи за шлифовальным станком. Один из дежурных адъютантов нажимал на педаль ногой, перед Екатериной вращался войлочный круг, обмазанный зеленой мастикой. Она брала из корзинки неотшлифованные самоцветы и прижимала их к вращающемуся кругу. На простое холщевое платье императрицы был надет зеленый, как и мундир Рибаса, передник.
Настя и Рибас остановились в пяти шагах от Екатерины, Бецкий вышел вперед.
– Капитан настаивает на том, чтобы все-таки превратить мою любимую бэби в русалку, – сказала с улыбкой императрица.
– Его благословил на этот подвиг Посейдон, – развел руками генерал.
– Ну, что же, если не обошлись без мифологии, брак должен быть удачным. – Она посмотрела на засверкавший в ее руках самоцвет. – Вы, капитан, решили шлифовать свои достоинства на поприще воспитания моих кадет?
– Укажите мне любую службу и я буду счастлив исполнять ее, – отвечал жених.
– Иван Иванович читал мне ваш перевод из книг аббата Гальяни. Что вы скажете о его трудах?
После неожиданного вопроса Рибасу пришлось напрячь память. Наконец, он сказал:
– На мой взгляд, ваше величество, главная мысль аббата состоит в том, что дух человеческий не только испытывается превратностями жизни, но и представляет собой самостоятельную субстанцию, независящую ни от каких жизненных реалий.
– Что вы знаете о Гальяни?
– Только то, что он состоял советником коммерческого суда. Правда, мой отец написал мне об одном анекдоте. Гальяни был во Франции и говорил по-французски, вставляя итальянские слова. Одна дама возмутилась этому и поправила его. Гальяни сказал: «Вся Европа говорит на обнищавшем французском языке. А я подаю ему милостыню».
Екатерина улыбнулась, слегка выпятив губы, и стало заметно, что ее открытое миловидное лицо портит чересчур маленький рот. Рибас продолжил:
– Мне кажется, ваше величество, достойным внимания тезис Гальяни: увидеть в одной судьбе историю человеческого рода.
– Да, – согласилось ее величество. – И за примерами недалеко ходить.
Скорее всего, она имела в виду собственную персону, но другой пример в облике сына незванно явился пред ее очи. За ним следовал встревоженный опекун-воспитатель Салтыков.
– Ах, я просил, как я просил… – задыхаясь от волнения и капризно кривя губы, сказал Павел.
– Что такое, мой друг? – удивилась мать.
– Я просил не отсылать в армию капитана конного полка Лезье.
– Но он непристойно вел себя в последнее время.
– У меня бы он исправился.
– Готовится летняя кампания, мой друг. А офицеров в армии большая нехватка.
– Он отличный наездник. Я наметил его в командиры моей конной роты. Я просил за него.
– Ну, хорошо, – уступила мать. – Я велю вернуть его.
Слепой случай дал Рибасу шанс, и он тотчас решил воспользоваться им:
– Ваше величество, если в армии не хватает офицеров, я готов служить, если это будет угодно вашей милости.
Павел взглянул на Рибаса, кивнул матери и удалился вместе с Салтыковым из галереи. Екатерина посмотрела на Бецкого. Тот молчал.
– А что скажет невеста? – спросила императрица.
– Как вам будет угодно, ваше величество, – отвечала невеста дрогнувшим голосом.
– Бэби, я даю тебе разрешение на этот брак, – резюмировала императрица. – Но свадьба все одно будет не раньше лета. Поэтому вас, капитан, я посылаю в армию.
Но еще тридцать пять дней Рибас числился по кадетскому корпусу, а в конце марта был назначен в армию фельдмаршала Румянцева волонтером. Петруччо Кирьяков, отправляющийся на юг с обозом солдатских кафтанов и сапог, весьма обрадовался такому попутчику.
6. Вечный мир 1774
Через Новгород и Смоленск, оставив в стороне Москву и Киев, обоз Кирьякова за месяц пути достиг начала великих степей. Запаслись водой. Кирьяков перекрестился:
– Дай бог, чтобы никто не встретился на пути.
На протяжении трехсот верст до самого Буга наткнулись всего лишь на несколько ветхих лачуг, в которых не было ни воды, ни еды и никаких удобств, кроме водки.
За Бугом стали попадаться провиантские команды, состоявшие из оборванных и голодных солдат. В разговорах с офицерами выяснялось, что армия Румянцева в кампанию 1774 года способна лишь обороняться. В самом деле: как только зимнее затишье кончилось и войска вылезли из хат, мазанок, землянок, траншейных нор, вид российского воинства был ужасен. И обносились, и изголодались. Но из Петербурга скакали курьеры Военного Совета с фантастическими предписаниями: переправиться через Дунай, идти на Варну, овладеть Балканами. Фельдмаршал Румянцев отвечал: «Выступить армия может, но разве что в полной наготе».
Скот, полковые лошади от зимней бескормицы пали количеством неисчислимым. Подвоз продовольствия был дальним. Да и откуда подвозить? Складские магазины истощились. Рассчитывали пополнить запасы на польской территории, которая после раздела Речи Посполитой стала российской, но не тут-то было. Не только паны, но и крестьяне бежали в австрийскую часть Польши подальше от военных тягот. Австрийский правительственный кабинет распорядился беженцев встречать хорошо и даже платить им в день семь крейцеров.
У драгуна киевского полка Рибас купил статного серой масти арабского скакуна. Назвал его Наполи.
– Всего пятьдесят рублей? – удивлялся Кирьяков. – Но это же чисто полковничья лошадь. Она вдвое дороже. Хотя, верно, арабские тут оттого дешевы, что степных метельных морозов не могут переносить.
Но разве думал волонтер, что среди теплых майских степей его застанет зима? Казалось, не слякотный Петербург он оставил, а сама твердь земная повернулась. и оказался он в невиданных местах, где день скачи, два умайся в седле – а все одно: степь, ленивые костры, редкие встречные всадники да пустячные разговоры. Но вдруг весенней черной вьюгой налетела на обоз татарская конница и подожгла несколько возов стрелами с серой. Налетела, но хорошо, что сгинула в степи: отбиваться от нее – труд тяжкий и кровавый.
Тушили возы с обмундированием. Кирьяков отправился с авангардом на разведку дорог. В его отсутствие подошла провиантская команда поручика-грека Ивана Пеллегрини.
– Откуда идете?
– С поста из-под крепости Хаджибей. Командир у нас поручик Веденяпин.
– А крепость под турками?
– Наша.
Солдатам дали каши. Поручик Пеллегрини у костра рассказывал, как пленен был знаменитый в этих краях серб Семен Зорич:
– Под его командой было две тысячи конных, семьсот пехоты и семь пушек. А в плен взяли вот в такой же вылазке, только за сеном.
Рибас распорядился выдать посту при Хаджибее двадцать пар сапог, поручик Пеллегрини благодарил и тут же с добычей поспешно уехал. И вовремя, потому что вернувшийся Кирьяков ругался:
– Их, алырников тут тьма! Что мы в армию Каменского привезем, если всем сапоги раздавать?
Отдельный корпус генерал-поручика Михаила Каменского стоял лагерем под Измаилом, выставив караулы по Дунаю. На один из таких караулов и наткнулся обоз Кирьякова. Слава богу – к своим вышли. Но какового же было удивление Рибаса, когда в гусаре, нежившемся на берегу под весенним солнцем, он с трудом узнал подполковника Леонтия Бенигсена.
– Куда вы исчезли с бала у Нарышкиных? – спросил Бенигсен, как будто бал закончился вчера.
– Да вот, решил прокатиться к Дунаю, – ответил в тон Рибас.
– Долго же вы катались.
Гусары рассказали, что слухи об оборонительных боях кончились: пять полков уже переправились через Дунай. Переправлялись на мелких судах – разлив Дуная затопил села и снес мосты, наведенные на протоках. Полки кавалерии задержались на левом берегу до появления подножного корма. Бенигсен посоветовал волонтеру проситься в полк Розена:
– Это наш полк. С гусарами не пропадете.
Кирьяков отправился отыскивать интендантов, чтобы сдать обоз, а Рибас, кое-как экипировавшись под гусара, поскакал в лагерь Каменского, где был встречен штаб-офицером, и тот сказал, что генерал сейчас должен вернуться с прогулки. И действительно, Каменский подъехал к крыльцу одноэтажного сельского дома верхом в сопровождении двух офицеров.
– Принц Вальдекский и принц Голштинский, – пояснил Рибасу штаб-офицер и доложил генералу о прибытии обоза с обмундированием.
– Они бы еще к зиме армию одели, – сказал Каменский и, увидев Рибаса, спросил: – Это еще что такое?
Волонтер Рибас успел экипироваться как гусар лишь на четверть. Кивер с кистями не украшал его голову и сапоги имели раструбы выше колен, а гусару полагалось носить короткие, до половины икры, полусапожки. Но зато уж дулам с золотыми частыми галунами и мантия с меховой опушкой, которые помог достать Бенигсен, были безукоризненны. Оставалось представиться:
– Волонтер Иосиф де Рибас, господин генерал, прибыл в ваше распоряжение.
Принцы Вальдекский и Голштинский пили у крыльца парное молоко из глиняных кружек, переговаривались на немецком, а генерал вдруг закричал на волонтера:
– Снять все гусарское! В кордегардию отправлю! Где служил до армии?
– В шляхетском кадетском корпусе капитаном.
Каменский сел на вынесенный адъютантом из хаты стул:
– Так! И кадетские капитаны в армию пожаловали. – Он засмеялся, закашлялся, вытирал рот платком. – А я, капитан, тоже из кадет. Как там, секут розгами нашего брата?
– Нет, не секут.
– А как же наказывают? – удивился генерал.
– Лишают подушки на ночь.
Каменский усмехнулся:
– А в мое время было стыдно дать кадету менее ста розог.
Воспоминания смягчили гнев генерала, он не отправил волонтера в кордегардию под стражу набираться ума, определил в полк Розена и приказал переменить сапоги. Через час волонтер доложился Розену, и тот направил его к гусарам подполковников Любимова и Бенигсена, где Рибаса приняли, как своего. В шатровой палатке гусары возлежали на соломе и говорили о штабах, о том, что турецкий султан ведет переговоры с Румянцевым и величает его славным меж князьями, подпорой великих людей, великолепным, славным, любезным и высоким другом.
– Но главное, – сказал Бенигсен, – султан все свои послания заканчивает словами: «да будет конец ваш, достопочтимый друг, благ и радостен!»
Говорили о том, что к осени турецкая война вообще должна кончиться, и приехавшему воевать волонтеру было странно слушать эти разговоры. Но гусары четвертого года службы хотели лишь скорого дела и конца всему. Однако за эти годы, а особенно в зимние месяцы, многие из них завели романы с местными смуглыми куконочками – и не было конца и края разговорам об армейских романах.
– Вот поедем мы к куконам, любить будем с перезвоном, – пел майор Ляпунов. Рибасу пророчили, что успех у здешних дам ему обеспечен.
Но к ночи получили приказ: кавалерии корпуса Каменского переправляться через Дунай. Утром заводили в лодки косящих глазом коней, сетовали, что нет мостов. Бенигсен, побывавший в штабе Румянцева, который расположился выше по Дунаю, вспомнил, что возле Журжи мост наведен.
– Генерал Гудович отличный мост навел, – рассказывал подполковник.
– Что говорить – он в Кенигсберге инженером выпущен. И мост навел, и батареи рядом поставил, и турецкие суда колотит, как орехи.
Рибасов скакун Наполи показал характер – выпрыгнул из лодки за серединой реки, течением его снесло версты на две, и пока волонтер искал его, гусары Каменского из-за недостатка корма для лошадей ушли к озеру Дуруклар, где волонтер и догнал их. О неприятеле ничего не было известно: где его главные силы, куда переместились, где поджидают?
Впервые Рибас участвовал в сухопутной войне, и война эта казалась ему странной. Короткие дневные переходы. Устройство на ночь. Только обжились лагерем – снова короткий переход без боя, без видимого неприятеля. Правда, доходили известия, что где-то под Туртукаем разбита пятнадцатитысячная турецкая армия в долгом июньском бою; стало известно, что триста всадников и двести янычар вышли десантом на судах из Очакова и напали на русский пост у Черного Тилигульского брода и на пост поручика Веденяпина при крепости Хаджибей. Турок отбили. Волонтер вспомнил о сапогах, выданных поручику Пеллегрини.
Леон Бенигсен ничем не подчеркивал перед гусарами своего материального превосходства и не кичился богатейшим отцовским наследством, на которое он мог без ущерба экипировать и платить жалование целому полку. Но иногда он щедро платил маркитантам, и они доставляли гусарам изысканное венгерское, молдавские сыры и пригоняли барашков, и начинались пиршества, которые среди гусар назывались «леонтиями».
Впервые волонтер услыхал имя генерал-майора Суворова, когда тот переправился через Дунай у Гирсова. Суворов был подчинен Каменскому, и полки его должны были идти в задунайскую глубь параллельным маршем с полками Каменского. Однако и при такой тактике неприятель ничем не обнаруживал себя. Что делать? Корпус остановился. Каменский и Суворов съехались на совет.
К этому времени Рибас узнал, что Кирьяков определен в мушкетерский полк, роты которого стояли в карауле при штабных палатках. Не зная пароля, он отправился навестить приятеля, но караулы расставили так плотно, что волонтера взяли на прицел как лазутчика. Час он просидел под нещадным жарким солнцем, пока не пришел мрачный и злой Кирьяков.
– Жрать нечего, – говорил Петруччо, попивая принесенное Рибасом гусарское вино. – Месячный запас пшена и сухарей на исходе. А вроде собираемся двести верст до Варны по жаре идти. Дороги видел? Два конных не разъедутся.
Каменский и Суворов совещались о том же, о чем говорили в войсках. Послали курьера к Румянцеву, изложив свой план: для успокоения петербургских предначертателей и для обмана турецких разъездов отправить к Варне небольшой отряд, а главными силами идти к Балканам, к Шумле – в сей крепости ставка султанского визиря Муссин-Заде. Уж что-что, а это было известно точно. Взять ставку визиря – цель. А за Шумлой открывается дорога до самого Андрианополя. Варна – для маскировки. Шумла – цель.
Волонтер и Кирьяков расположились под сторожевым навесом, и Рибас видел издали, как из штабной шатровой палатки выскочил низкорослый юркий человек в генеральском мундире и побежал к солдатской палатке на невысоком холме, в которой и скрылся. Через некоторое время он появился, обнаженным по пояс, чресла его прикрывала холщевая тряпица, спустился с холма и, не раздумывая, прыгнул в заводь ручья.
– Суворов, – сказал Кирьяков. – Говорят, как турок, на гвоздях спит. Приехал, узнал, что у нас блохи, свою палатку поставил отдельно. Велел ров вокруг нее вырыть и водой наполнить, чтобы блоха имела к его расположению, как турок, водную преграду. По утрам своих адъютантов прыгать через шпагу заставляет. А прыгать так: держишь шпагу двумя руками и перепрыгнуть ее надо из рук не выпустив. Кто не может – из адъютантов гонит.
Генерал-майор Суворов, а теперь он вовсе не был похож на генерала-майора, а скорее на некую мокрую курицу со вздыбленным хохолком, отплескался в заводи и убежал в свою палатку.
– Сноровистый, – продолжал Кирьяков. – Наш Каменский на что чудак – на рекогносцировке стихи читает, в нужнике поет. А Суворов, говорят, ночью каждый получас вскакивает и велит докладывать: что слышно о неприятеле.
Румянцев одобрил план обоих генералов, однако, приказал на Варну отправить сильную партию, чтобы турки уверились в маневре. Но перед визирской Шумлой предстояло одолеть две крепости – Кузлуджу и Эни-Базар, а параллельного хода войскам Суворова и Каменского не получалось: дороги были узки и приспособлены лишь для одноконных крестьянских повозок. И все-таки войска выступили и с холмов возле крепости Кузлуджи увидели большой турецкий лагерь.
Бенигсен, изучая с сусарами карту местности, определил:
– Теперь между нами и крепостью Кузлуджу только Дюмерманский лес. Генерал Суворов со своими гренадерами уже там. Проскакать двадцать верст передовых турецких позиций для нас – дело пустяк. Да не выйдет ничего. В лесу одна просека. А потом урочище-дефиле, где может пройти только пехота.
Но на утренней заре золотой трубач подал сигнал, и гусары ринулись к Дюмерманскому лесу. Достигли его скоро и спешились. Прислушивались. Неясный гул стоял над лесом и над урочищем, наполненном войсками. Потом вдруг послышались раскаты грома, и спустя четверть часа из леса стали выбегать окровавленные и обезумевшие солдаты и казаки. Одни безмолвно валились на поляне, другие, сбивая с ног гусар, бежали толпой, не ведая куда. Рибас был свидетелем Чесменского вулкана, но здесь, рядом, в светлый божий день, животные крики, стоны и вой парализовали его. Бритый казак, сжимая расколотый в кровавых сгустках череп, упал у его йог. Арабский скакун взвился на дыбы.
– Да что же там?! – не помня себя, кричал Рибас.
Бенигсен расспрашивал легко раненого унтер-офицера. Тот рассказал, что донские пешие казаки первыми вышли из урочища, но были встречены таким ружейным и орудийным огнем, что побежали назад, смяли харьковских егерей, которые не успели сдвоить ряды и уступить место для отступления. В урочище взопрела такая мирная без выстрелов каша, что все побежали вспять.
– Где генерал Суворов? – спросил Бенигсен.
– Заворачивает казаков.
К часу пополудни Суворову удалось сосредоточить пехоту в лощине при выходе из урочища. Идти дальше без артиллерии не имело смысла, но орудия перетаскивали на руках с превеликой медленностью. Вдруг с окровавленным исцарапанным лицом прибежал поручик от Суворова:
– Справа обходят!
Подполковник Любимов взмахнул саблей, гусары разом прыгнули в седла, и кони вынесли их на пригорок справа. Но куда же скакать дальше? Лес, заросли. Выбирали звериные тропы, и началось невиданное сражение, но не с турками, а с чащами, низкими ветвями, кустами. Через четверть часа гусары остались без киверов. Они сверкали золоченными бляхами на ветвях и валялись на земле. Ментики, так романтично развивающиеся за спиной в степных просторах, теперь намертво цеплялись за кусты и выдергивали гусар из седел. Хозяйственные унтеры спешивались, чертыхались, проклинали все на свете и собирали свое и чужое добро.
Гусарские сабли так и остались в бездействии, но, заметив движение конницы, турецкая пехота откатилась от правого фланга. Розен приказал возвращаться. Прискакали на поляну перед урочищем, где новый курьер Суворова кричал, что теперь обходят слева. Гусары сбросили наземь дуламы с галунами, ментики с мехом, но и на левом фланге сражение с лесными чащобами повторилось. Были и раненые. Кто напоролся на сучья лбом, кто загубил лошадь в овражных ямах. Один гусар выбежал навстречу волонтеру, зажимая ладонью вытекающий глаз.
Казалось, этому безумию не будет конца. Но к четырем пополудни Суворов выкатил из урочища двадцать орудий и дал залп. Каре пехоты тронулось. Высокие синие шапки артиллеристов замелькали перед лагерем турок. Штаб Каменского прибыл к урочищу, генерал-поручик распорядился:
– Гусарам скакать в дефиле.
В четверть часа они миновали проклятое место, но орудия Суворова еще три часа били по позициям турок, а уж потом волонтер понесся к пустым земляным валам Кузлуджу – турки бежали. К восьми вечера приехал Каменский, генералы собрались на совет. Утром было объявлено, что убито пятьсот турок, сто взято в плен, захвачено сто семь знамен и двадцать девять орудий. Потери в русских полках составили семьдесят пять нижних чинов и четыре раненых офицера. Поверить всему этому волонтер просто не мог.
– Да в этом ли дело? – отмахнулся от сомнений Рибаса Кирьяков, повалившись на трофейный зеленый сенпик. – Ты знаешь, что генерал Суворов отстранен и заменен Милорадовичем?
– Как?!
– Вытолкали в шею.
– Его гренадеры остановили казаков. Его пушки обеспечили все дело.
– Но он не положил победу к ногам Каменского, а сам сообщил о ней Румянцеву. Да еще хотел не останавливаться здесь, а на плечах турок взять Шумлу со ставкой визиря.
– Но ведь только так и надо было действовать, – горячился Рибас. – Я думал, что мы сегодня же выступаем.
– У наших генералов тактика не военная, а придворная, – зевая, отвечал Кирьяков. – Если бы генерал-майора не остановили, кому жезл? Кому вся слава? Ему. Нет, Каменский до этого никогда не допустит.
– Но здравый смысл?…
– Ищи ветра в поле.
– Значит, мы не наступаем?
– Каменский приказал отдыхать неделю, – взбивая сенник, отвечал Кирьяков. – Провианта мало.
– Да где же его взять, как не в Шумле?
– Румянцев пришлет. Вот и ждем.
Фельдмаршал Румянцев был разгневан. Писал Каменскому, что не дни и часы, а моменты решают дело. А Каменский не только упустил момент, но и намертво стоял лагерем, и войска доедали остатки провианта. В конце недели бездействия в лагерь под Кузлуджи прибыли подводы, и интендант побежал в штаб с ведомостью на 3388 четвертей сухарей. Каменский, очевидно, засовестился и отправил полторы тысячи четвертей в отряд Суворова, у которого провианта не было вообще. Суворова с этим отрядом отправили с глаз долой, но с задачей оседлать дорогу между Шумлой и Варной.
Досада и раздражение всем происходящим, а вернее, непроисходящим, так удручали Рибаса, что, участвуя в сражении при селении Эни-базар против пятитысячной конницы Дагесналы-сераскир-паши, он скакал на своем арабчонке, как во сне. Подполковник Любимов с двумя эскадронами обошел селение и врезался в тыл рукопашной схватки. Волонтер, стиснув зубы, рубил саблей направо и налево. Страшная кровавая сабельная работа кончилась к вечеру. Путь на Шумлу был открыт. Рибаса до ночи рвало кровью, пока Бенигсен не влил в него водку, и волонтер заснул.
Наутро пришел проводник, и полковник Розен поднял полк на марш в обход визирской Шумлы. Но на следующий день авангард наскочил на неприятеля силы неисчислимой. Решили повернуть назад, но были встречены турецкими пушками. Полк оказался в окружении. Спешились в поле, костров не жгли и ждали своей участи. Бенигсен повалил проводника на землю и отсек ему голову. А на следующее утро сюрприз: никакой турецкой рати вокруг. В чем дело? Разведчики возвращались из поисков, не обнаружив даже признаков неприятеля.
И только прискакавший штаб-офицер Каменского разъяснил ситуацию. Визирь Муссин-Заде, удрученный поражением при Кузлуджи, не стал дожидаться в Шумле появления русских, а вывел двадцатитысячное войско и окружил полк Розена. Полк был обречен. Но визирь медлил, предполагая, что перед ним вся девятитысячная армия Каменского. А когда в визирском тылу замаячили гренадеры основных сил, он вернул свои войска в Шумлу.
Еще вчера обреченный на гибель полк воспрянул, двухдневным маршем обошел ставку визиря и захватил дорогу на Адрианополь. Огни славы замаячили перед волонтером де Рибасом. Бенигсен поставил по заветной дороге пять постов по сто человек и вернулся в предгорье у Шумлы, где волонтер заботливо чистил щеткой своего коня.
– | Зачем нам визирь? Зачем нам его ставка? – вопрошал Рибас, окатывая скакуна водой из кожаного ведра. – Собрать бы несколько полков. А дорога на Константинополь открыта.
– Константинополь? А зачем он нам? – пожимал плечами подполковник Бенигсен. Рибас в изумлении выронил ведро.
– Да вы что, подполковник? Объясните, наконец, зачем эта война?
– Война? – Бенигсен отобрал у волонтера щетку и принялся чистить сапожки. – Война, как всегда, ведется только для мира. И для мира, на выгодных для России условиях.
С этим волонтер никак согласиться не мог, но задумался.
Тем временем полки Каменского маневрировали у визирской ставки под Шумлой. То сбивали турецкие посты. То захватывали провиант. То начинали траншейные работы, а потом вдруг бросали их и пятились от крепости. «Зачем?» – спрашивал волонтер. – Не лучше ли собрать войска в одну когорту и двинуть ее на Константинопольские мечети. Дорога за нашими передовыми постами свободна». Но шестого июля Каменский получил приказ Румянцева и курьерами распространил его в полках: не предпринимать никаких существенных военных действий. С турками идут переговоры о мире. Беннгсен оказался прав: командование интересовала не окончательная победа, а выгоды.
Стало известно, что визирь Муссин Заде подписал договор о мире и, минуя русские посты, отправился в Константинополь к султану. Рибас, отбывший с донесением к Каменскому, не был свидетелем проезда, но когда вернулся в передовые отряды, с дальних постов Адрианопольской дороги прискакал казак, спешился и сообщил:
– Визирь помер.
Столь неожиданное и важное известие не оставляло времени уточнять: была ли смерть Муссин Заде естественной или противники мира помогли ему встретиться с аллахом – Бенигсен и Рибас поскакали курьерами к ставке Румянцева в Кучук-Кайнарджи. На ночевку стали у левого крыла флага Суворова, где волонтер безуспешно пытался разыскать Кирьякова. У костра офицеры гренадеры вели разговор о вечном мире.
– Если замирились, то уж навечно, – сказал один. – И турки устали воевать. Четыре лета в крови.
– Что с того, – возражал другой. – Суворов говорит: мир вечный, как таракан запечный. Топни сапогом – он и затрещит. У турок польские части против нас стоят. Им замиряться не с руки.
– Да всей Европе не с руки. Там спят и видят, чтобы мы тут вместе с османами костьми легли. У вечного мира век короток.
На вопрос Рибаса о Кирьякове, гренадеры переглянулись.
– Не тот ли это капитан, что в засаду попал?
Слово за слово, и Рибасу стало ясно: Петруччо Кирьяков, незабвенный грубоватый душевный приятель ливорнских, чесменских и лейпцигских дел погиб уже после заключения мира от ружейного огня из засады, когда его рота искала в окрестностях Эни-базара неотравленные колодцы. Удрученный этой печальной новостью, волонтер отказался от поминальной чарки и лежал без сна до утра. Но что поделаешь? Эта нелепая война увенчалась не менее нелепой смертью человека, который не успел стать другом, но надежность которого заменить было некому.
Лагерь Румянцева при Кучук-Кайнарджи напоминал веселый, пьяный и праздный улей. С десятого июля, когда был подписан вечный мир, не переставая играли оркестры и прибывали от армий генералы и офицеры, столы, расставленные между палаток, постоянно обновлялись блюдами, винами и тостами. Адъютант фельдмаршала подробно расспросил курьеров, но в голубую шатровую палатку Румянцева не допустил. Во-первых, тут уже знали о смерти визиря, а во-вторых, считали, что мир – дело вполне решенное, и султан на попятную не пойдет, ибо турецкие войска уже не способны ни к каким действиям, кроме молитв и пиршеств с бараньим чоп-кебабом.
В офицерской круговерти вокруг штабных палаток волонтер повстречал петербургских знакомцев. Пили за черно-оранжевую ленту над золотым с белой эмалью крестом Святого Георгия, что украсил грудь майора Петра Палена. Юрий Владимирович Долгоруков усадил волонтера за стол, предложил:
– Выпейте за единственного среди нас генерал-аншефа!
– Но где же он?
– Посмотрите на меня и не ошибетесь. На меньшее после столь тяжких трудов и лишений я не согласен.
Название небольшого селения Кучук-Кайнарджи драгоманы переводили как малый Горячий источник. Воинство, собравшееся здесь, имело большие виды на производство в чинах и награды. Россия по двадцати восьми артикулам Кучук-Кайнарджийского мира получала в вечное и непрекословное владение земли между Днепром и Бугом, крымские крепости Еникале и Керчь, Кинбурн да еще пятнадцать тысяч мешков пиастров, что составляло четыре миллиона пятьсот тысяч рублей.
– Нам чины да кресты, – говорил волонтеру Долгоруков. – А Румянцеву рога.
– Как мне понимать вас?
– Рога изобилия! – хохотал князь.
Румянцев в день подписания вечного мира получил от визиря табакерку с драгоценными камнями, табакерку золотую в бриллиантах и яхонтах, пояс с алмазами и смарагдами, золотые часы, два богато убранных коня и кармазиновую индийскую ткань. Покойный визирь был одарен кинжалом с финифтью, бриллиантами и золотыми часами, золотой табакеркой с синей финифтью и бриллиантами, часами с репетициею, мехами лисьими завойчатыми боковыми, горностаевыми; получил сорок соболей без хвостов и сорок соболей якутских. Может быть, приближенные визиря, получившие всего лишь перстни и лисьи лапчатые и чамровые меха, возревновали да и отправили его на свидание с Магометом? Кто знает.
Генералы получили убранных коней. Драгоманы по двести – пятьсот червонцев. Солдаты российские получили мясо в походные котлы и водку.
Волонтер де Рибас получил возможность слушать обо всем этом рассказы и задуматься о своей дальнейшей судьбе.
Вечером крепостной театр Румянцева представил господам офицерам переделку французской пьесы, которую назвали «Александр на Дунае». Актер, игравший полководца, старался во всем подражать главнокомандующему Румянцеву, на что Петр Пален сказал:
– Александра Македонского должен был бы представлять подполковник Михаил Кутузов. Он так похоже изображал Румянцева, что тот смертельно обиделся и отослал подполковника в Крым.
В полдень следующего дня прискакал генерал-майор Иван Гудович, отличившийся при Журже. Он тяжело слез с коня, захромал, мрачно выпил, поднесенную Долгоруковым чарку и, перефразируя латынь, заявил собравшимся офицерам:
– Пью – эрго сум! Пью, следовательно, существую. Румянцев хворал, но генералы съезжались к нему обсудить очередность отвода войск за Дунай. Вечером Рибаса отыскал солдат из канцелярии и вручил ему два письма. Одно от отца из Неаполя. Виктор Сулин переслал это письмо из Петербурга в армию. Дон Михаил удивлялся, что сын ничего не написал о свадьбе, интересовался подробностями и обстоятельствами семейной жизни Джузеппе. Дома все спокойно, братья растут, старший Эммануил учится в артиллерийской школе. Второе письмо от Насти пестрело сожалениями о его отъезде в армию, намеками об открывшихся возможностях блестящей карьеры при дворе и описанием июньского праздника Святой Троицы, когда ее величество угощало офицеров-измайловцев в честь их храмового дня. Не без кокетства Настя сообщала, что «самый великий из свободных людей и самый свободный из великих» Дени Дидро прислал ей сердечный привет из Гааги.
Намеки о блестящей карьере при дворе не были загадкой: уж год, как Петербург шептался, судачил и перемывал косточки новому фавориту самодержицы – Григорию Потемкину, который, кстати, тоже служил в армии Румянцева волонтером, после чего, откровенно попросился в адъютанты к Екатерине, очаровал умом, обольстил статью и был приближен настолько, что попросту поселился при дворце. А новый фаворит – это означало и множество новых лиц при дворе, которым виды на карьеру открывались, как врата земного рая.
Рибас остро сожалел, что нет рядом Витторио, с которым он посоветовался бы обо всем. Но возвращаться в Петербург, чтобы стать капитаном при кадетах, волонтер не хотел.
Часто посещая штабных фельдмаршала Румянцева, он сошелся с двумя подполковниками – Петром Зава-довским и Александром Безбородко, и как-то за картами, когда пили вино между талиями, Безбородко сказал:
– Вот незадача: австрийская армия перешла свои границы и занимает придунайские княжества.
– Это слухи? – спросил Рибас.
– Нет. Был курьер от генерала Борка. Австрийцы хотят покровительствовать Молдавии.
– А попросту отхватить даровые земли, – сказал Завадовский.
– Главное: как они это делают! – рассмеялся двадцативосьмилетний Александр. – Совершают дневные марши, а к вечеру впереди войск выставляют пограничные столбы с австрийским гербом!
– Они хотят вовлечь нас в военные действия, – сказал Рибас.
– Румянцев решил ответить мудро: по трактату Валахия и Молдавия возвращаются Порте Оттоманской, так что пусть турки и разбираются с австрийцами. Завтра курьер уезжает к Борку.
Узнав это, Рибас извинился, оставил игру и поспешил к Каменскому, прибывшему в Кучук-Кайнарджи. Цирюльник брил его в тени шелковицы, когда волонтер обратился к нему с просьбой:
– Генерал, семейные обстоятельства требуют от меня скорого отъезда в Италию.
– А как же петербургские кадеты? Останутся без такого молодца?
– Осенью я вернусь в Петербург.
Каменский нахмурился.
– Так что же, прикажешь, чтобы я тебе дал подорожную в Неаполь?
– Нет. Мой неаполитанский паспорт при мне. Сейчас отправляется курьер к Борку. Прошу позволения сопровождать его, а уж австрийцы, надеюсь, не задержат на границе неаполитанского подданного.
В конце августа Рибас заночевал в гостинице «Золотой феникс» в Вене. Не имея рекомендательных писем ко двору, он решил не являться и к русскому посланнику. Последний непременно сообщил бы о его визите в Петербург, а волновать Бецкого и невесту волонтер не хотел.
За сто золотых он продал своего скакуна, пересел в почтовую карету и направился в сторону Адриатики. Из Венеции морем добрался до Равенны, где слег в гостинице с жестокой лихорадкой, а когда дело пошло на поправку, обнаружил, что бессовестно ограблен во время болезни. Расследование ни к чему не привело. Хозяин гостиницы отнес Рибасов перстень ювелиру, и волонтер нанял экипаж до Ливорно. Но на развилке дорог в пригороде Пизы велел кучеру свернуть в холмы, к палаццо Алехо Орлова.
У знакомых ворот стояли двое часовых. Не выходя из экипажа, Рибас спросил по-русски:
– У себя ли граф?
– У себя они, – обрадованно ответил солдат. – Сейчас доложу, барин.
Кучер снял нехитрую поклажу волонтера и положил ее у ворот. Рибас вошел во двор, но второй часовой окликнул его:
– Барин! Нельзя туда.
Из палаццо вышел высокий без парика черноволосый офицер и, любезно улыбнувшись, представился:
– Генеральс-адъютант его превосходительства Иван Христинек. С кем имею честь?
Рибас объяснил. Любезность адъютанта сбежала с лица вместе с налетевшим октябрьским ветерком.
– Его превосходительство вряд ли сможет принять вас.
– Болен?
– Уезжает.
– Я в чрезвычайно затруднительном положении, – сказал волонтер. – Поэтому прошу доложить обо мне.
– Боюсь, что я не смогу этого сделать.
«Чего испугался этот генеральс? – недоумевал Рибас. – Не думаю, чтобы Орлову досаждали люди приехавшие с театра военных действий. Может быть, у Алехо дама?»
Не обращая внимания на адъютанта, волонтер прошелся вдоль стены дома. Возле конюшен солдаты выгружали с подводы корзины с маслинами. У бокового входа в палаццо женщина в чепце-беретто принимала корзины, придирчиво осматривала, жестами показывала: какую вносить в дом, какую оставить. Когда она выпрямилась и взглянула на Рибаса – он, наконец, узнал ее. Это была Сильвана. Она ничуть не удивилась подошедшему волонтеру. Удивлялся и досадовал поджидавший ухода Рибаса адъютант:
– «Тосканский лавр» переехал в это палаццо? – спросил Рибас женщину.
Сильвана поклонилась, щеки ее вспыхнули румянцем.
– Я здесь экономкой.
– А твой брат?
– По-прежнему в Ливорно.
– Я остановлюсь у него.
Сильвана ничуть не изменилась. Смуглое продолговатое лицо с чеканно правильными чертами по-прежнему излучало приветливость и материнскую женственность. Рибас не узнал Сильвану только потому, что совершенно не ожидал увидеть ее здесь. Подошел адъютант Христинек и надменно произнес:
– Если вам еще что-то нужно, задавайте вопросы мне.
Рибас засмеялся:
– Воздух Италии поистине удивителен. С тобой или чересчур любезны, или усердно напрашиваются на ссору. Советую вам немедленно выбрать что-нибудь одно, генеральс.
Христинек выпучил глаза и не знал, что отвечать.
Орлов в синей накидке с золотистым воротником вышел из палаццо. Из дальнего угла двора к нему вынеслась красно-лаковая карета с вызолоченными вензелями. Кучер с трудом осадил резвую тройку английских скакунов. Рибас остановился в пяти шагах от Орлова, тот узнал его, ничего не сказал, даже не кивнул на поклон волонтера. Адъютант открыл дверцу. Орлов, шагнув на ступеньку, повернул голову в сторону волонтера и коротко приказал:
– Садись. – И влез в карету первым. Рибас подошел, вырвал дверцу из рук опешившего генеральса и захлопнул ее за собой.
– Ну, говори, – сказал Орлов, когда в окошке кареты замелькали желтеющие холмы пизанских виноградников. Рибас без околичностей поведал о своих петербургских предприятиях. Алехо кривил напудренное лицо. Бецкого назвал крокодилом лисьей породы. Об окончательной отставке брата-фаворита сказал:
– Или застрелится, или сопьется.
– В армии мне говорили, что он жениться хочет.
– Сколько я его знаю, он только то и делает, что женится, но без венца. – Орлов о чем-то задумался и вдруг спросил: – Ты когда приехал?
– Только что.
– Никуда не заезжал?
– Сразу к вам.
– А поклажа твоя где?
– У ворот, возле часовых.
Алехо помолчал, что-то обдумывая, потом, видимо, одобрив свои мысли, сказал:
– Это хорошо. Сиди в карете и не высовывайся.
Остановились за мостом через ручей у стены средневекового замка. Орлов вышел из кареты, крепко припечатав за собой дверцу. Снаружи послышались женские голоса. По-итальянски почему-то говорили стихами. На русском сказали, что Александра Львовича, увы, как раз нет дома. По-французски защебетали, что счастливы, что граф будет владеть ими беспредельно. Голоса удалились. Рибас привычно и обреченно обдумывал свое положение. Вспоминал, как в Ливорно судьба и Витторио Сулин свели его с Орловым, как он, Рибас, почти нехотя знакомился с русскими, как закружила его круговерть приключений, а теперь он оказался в полной зависимости от того, что скажет и что предложит ему Алехо Орлов. Конечно, добраться до Неаполя не составило бы труда, но явиться домой с пустыми карманами… Если бы знать… Фрегат «Король Георг» не остался бы без пассажира… Он заснул. Очнулся от крика:
– Гони в Скучное!
Орлов ввалился в карету, в окошке которой закачались сумеречные холмы. «В какое Скучное мы едем?» – встряхнувшись от сна, удивился Рибас. Но вспомнил, что подмосковное имение Орлова зовется Нескучным и, верно, Скучным он именует свое пизанское палаццо.
– Что на Дунае? – спросил Алехо, как будто и не было у него только что свидания с любовницей. О распре генералов под Шумлой отозвался, как о кабаньей возне, ругал петербургский Военный совет и его оглядку на Европу, говорил, что если воевать стреноженными, то российскую кровь вприкуску с дипломатией будут хлебать все, кому не лень.
Подъехали к воротам палаццо. Рибасову поклажу, видно, уж занесли в дом. В кабинете Орлова генеральс-адъютант Христинек зажигал свечи, и мраморные бюсты римских мыслителей нахмурили тенями свои лица.
– Иван, скажи, чтоб комнату приготовили для гостя, – указал Алехо генеральсу и тот вышел. Орлов достал пачку бумаг, бросил их на стол:
– Читай. – И оставил Рибаса одного.
Волонтер сел за стол, прочитал на первом листе: «Манифест». Содержание «манифеста» излагалось на французском: «В духовном завещании императрицы Всероссийской Елизаветы, сделанном в пользу дочери ее Елизаветы Петровны, сказано: «Дочь моя, Елизавета Петровна, наследует мне и будет управлять так же самодержавно, как и я управляла…»
Рибасу было над чем задуматься. Оказывается! Кроме Пугачева, провозгласившего себя Петром III, появилась еще одна претендентка на Российский престол – дочь покойной императрицы Елизаветы – принцесса Елизавета! Где составлен сей манифест? Рибас заглянул в последние листы документа – он был написан в Турции! Во всяком случае, сама принцесса указывала, что находится на турецкой эскадре. Итак, в России – Пугачев, в Турции – принцесса Елизавета… «Божию милостью мы, Елизавета Вторая, принцесса Всероссийская, объявляем всенародно, что русскому народу предстоит одно из двух: стать за нее или против нее. Мы имеем все права на похищенный у нас престол и в непродолжительном времени обнародуем духовное завещание блаженной памяти императрицы Елизаветы Петровны, и те которые откажутся принести мне верноподданическую присягу, подвергнутся заслуженному наказанию на основании законов, поставленных самим народом…»
На следующих листах Рибас обнаружил письмо новоявленной наследницы к Графу Орлову и прочитал его дважды, отметив, что послание составлено тонко, с умом и знанием натуры человеческой. Начинала претендентка безаппеляционно: «Принцесса Елизавета Вторая Всероссийская желает знать, чью сторону примите вы, граф, при настоящих обстоятельствах?» Потом шли сетования на то, что сама принцесса много претерпела, была сослана в Сибирь, ее пытались отравить… После этого она делала торжественное заявление: «Долг, честь, слава – словом, все обязывает вас стать в ряды ее приверженцев». В союзниках принцессы упоминались многие монархи и султан Оттоманской империи. Принцесса умело льстила Орлову: «Если вы не захотите стать за нас, мы не будем сожалеть, что сообщили вам о своих намерениях. Прямодушный характер ваш и обширный ум внушают нам желание видеть вас в числе своих… Время дорого. Пора энергично взяться за дело, иначе русский народ погибнет. Сострадательное сердце наше не может оставаться покойным при виде его страданий… Удостоверяем вас, граф, в каких бы обстоятельствах вы ни находились, во всякое время вы найдете в нас опору и защиту».
Волонтеру оставалось лишь догадываться: по какой причине Орлов знакомит его с документами, опасность которых была велика без преувеличений. Все выяснилось за ужином в узком кругу, когда Рибас познакомился с крепко скроенным, широкоплечим и низкорослым подполковником-сербом на русской службе графом Марком Ивановичем Войновичем. Ужин походил на обычную офицерскую пирушку – Алехо никогда не чванился в кругу своих офицеров, и они подтрунивали над его недавней связью с тосканской поэтессой.
– Что же нам с этой Елизаветой Второй делать? – спросил Орлов, раскуривая трубку. – Императрице я написал. Послал «манифест» и письмо принцессы. Копии для себя снял. Ей богу, никогда не задумывался: были у покойной императрицы Елизаветы и Алексея Григорьевича Разумовского дети или нет. Кого это интересовало? А вот поди ты, говорят, были. И фамилию им дали по сельцу Таракановка – Таракановы!
– Не знаете, что делать? – переспросил Войнович. После сытной индейки и вина он полулежал в кресле, тасуя только что распечатанную колоду карт. – А пригласить ее сюда и обтараканить в банк-фараон.
– Тут не поймешь: откуда приглашать и кого? – сказал Орлов. – Кто она такая? Где ее искать?
– Ну, что она обольстительная дама – это ясно, – категорично заявил Войнович и добавил: – А то, что за ней стоит мужчина, вообще не подлежит сомнению.
Конт-адмирал Грейг угощал всех сюперфин-кнастером, гостиная заблагоухала тончайшими табачными ароматами. А Грейг ворчал:
– Эта птичка хочет высоко летать, да пошиб у нее низок. Консул Дик говорит, что она дочь булочника из Киля. Начала с того, что в Галландии разорила какого-то купца и сбежала от него в Лондон. А в Лондоне, это сэру Дику известно доподлинно из дипломатической почты, она в три месяца пустила по миру барона Шенка. И вы думаете, барон был в отчаянии? Он у разных лиц назанимал ей целое состояние и бежал вместе с ней в Париж.
– Славно! – воскликнул граф Войнович.
Среди этих сытых и довольных жизнью людей, людей с определившейся судьбой и положением, Рибас ощущал себя чужаком. И который раз, как и при Чесме, в Петербурге, на Дунае, он задавал себе один вопрос, один и тот же вопрос: каково его значение в среде этих людей, зачем он здесь? И вопрос оставался без определенного ответа. Теплым осенним вечером, в прекрасном палаццо, в кругу блестящих офицеров он не мог даже сказать: что он будет делать завтра. Но никто из присутствующих не догадывался о его настроении и не мог предположить, что он встревожен и мучим неизвестностью. Перед собой они видели молодого человека с изящными манерами, смешливого, ценящего остроту. Когда захотели узнать его мнение о претендентке на престол, он не полез за словом в карман, рассмеялся и сказал:
– Все дочери булочников одинаковы. Рано или поздно они ставят в печь деликатные пироги. Одна беда: они не умеют управлять жаром, и пироги чаще всего пригорают.
В карты играли далеко за полночь, и Рибас неожиданно и ко времени выиграл тридцать червонцев. У себя в комнате он застал Сильвану. Она была чем-то раздосадована, не отвечала на его нежности и он догадался:
– Ты ездила в Ливорно?
– Да. Ведь ты сказал, что остановишься у Руджеро. Я только что вернулась.
– Прости. Но мое положение таково, что утром я не знаю, где окажусь ночью.
– Дела Руджеро плохи. Он хочет выдать меня замуж.
– Что же поделаешь.
– Тебя не было целых два года. Если бы ты приезжал чаще, Джузеппе.
– Прости. Я скажу тебе откровенно. Не нужно на это надеяться. Но если судьба распорядится так, что я останусь в Италии, мы будем видеться, но не больше.
– Молю деву Марию, чтобы судьба распорядилась именно так.
На следующий день в час пополудни Христинек позвал его к Орлову. Марк Войнович вошел в кабинет Алехо следом. Орлов встретил их в малиновом шлафроке.
– Тебе завтра на фрегате плыть к Паросу, – сказал, зевая, Орлов Войновичу. – Там на якоре стоит английское судно, а на нем живет любопытная персона женского пола. Приехала из Константинополя и надо же – целое судно для себя наняла. Живет широко. По тысяче пиастров платит корабельщику. Стало мне известно, что персона эта хочет увидеться со мной. Если она та самая Лизавета Вторая, употреби все средства, возьми ее и привези в Ливорно. А ты… – он обратился к Рибасу. – Скачи в Венецию. Из Рагузской республики туда вернулся князь Радзивилл. Князь из тех поляков, что нам неприятели. Конфедерат. А уж они, если знают о самозванке Таракановой, без внимания ее не оставят. В их кругу объявилась какая-то графиня Пиннеберг. Узнай: что она такое. Поможет тебе в розысках англичанин Монтегю. Найди его. Бумаги тебе приготовят.
У генеральс-адъютанта Рибас узнал, что бумаги будут готовы к завтрашнему утру, и решил съездить с Войновичем в Ливорно. Капитан торопился на рейд к русским кораблям, чтобы все подготовить перед отплытием. Они сели в экипаж, и два верховых, сопровождающих графа, резво подскакали к ним.
– Рибас-паша! – Крикнул один из верховых, и волонтер узнал старшего матроса со своего посыльного судна «Лазарь» турка Афанасия Кес-оглы. Второй верховой был Федор Флаганти, послушник с Периго. Улыбками, жестами, криками они приветствовали своего бывшего командира.
– Достопочтимый Рибас-паша, вы к нам, на фрегат?
Войнович и Рибас переглянулись.
– Нет, я еду к родственникам в Шотландию, – отвечал Рибас-паша. – А юнга Бицилли с вами?
–. Он служти у Грейга, – отвечал Флаганти.
Экипаж тронулся. Верховые сопровождали его.
– Как к вам попали мои молодцы, господин подполковник? – спросил Рибас.
– При Лагосе у меня были большие потери, – отвечал Войнович. – Ваши молодцы оказались у меня с пополнением.
В битве при Лагосе отряд капитана Войновича потопил шесть турецких судов, а три взял в плен.
– Поиски Таракановой я советую вам начать с газет, – сказал Войнович. – Мне говорили, что в них много писали о князе Радзивилле.
– Орлов не получает венецианские газеты?
– До появления самозванки в этом, видно, не было надобности.
Не успели проехать и версты, как экипаж догнал и остановил всадник, оказавшийся генеральс-адъютантом Христинеком.
– Его превосходительство гневается. Вам незачем ехать в Ливорно.
Простившись с Войновичем и бывшими подчиненными, Рибас вернулся в палаццо, поднялся к себе, написал письмо отцу, велел солдату позвать экономку и вручил Сильване письмо для отправки в Неаполь.
Утром с постным выражением лица генеральс Христинек вручил волонтеру бумаги и кредитный лист с печатью Орлова в банк Дженкинса. В экипаже волонтера подвезли к почтовой станции в Пизе, и Рибас, по документам Лучано Фоджи, негоциант, нанял удобную коляску, и полетела за спину итальянская земля в осенних садах и рощах. Новоиспеченный негоциант Лучано Фоджи был грустен. Выслеживать какую-то авантюристку – это ли занятие для офицера, в мыслях истекающего кровью в славной римской когорте? Вместо патрицианских приемов, триумфальных арок – почтовая коляска ни шатко ни валко переваливала с холма на холм, спускалась в ущелья, дергалась на бревнах сельских мостов. «Может быть, все бросить, – думал он, – получить у отца часть наследства, купить цитронный сад и собирать свои триста тысяч померанцев в год, заняться торговлей…» Рибас усмехнулся: гипотетический негоциант Лучано Фоджи начал с места в карьер свою неожиданную материализацию.
7. Княжна Тараканова 1775
Через несколько дней он был в Венеции, остановился в гостинице «Голубая Адриатика» и у словоохотливого хозяина спросил старые газеты. Хозяин направил его в кофейный дом напротив, где вместе с кофе подавали любые газеты. К вечеру Рибас знал и мало, и много. Графиня Пиннеберг появилась в Венеции еще в мае. Князь Радзивилл приезжал к ней с блестящей свитой. Затем последовали балы, роскошные выезды, фейерверки, торжественные прогулки в гондолах. У графини, как восторженно писали газеты, была не просто свита, а двор с гофмаршалом и собственноручно утвержденными орденами. И, наконец, городская газета намекала, что графиня Пиннеберг тщательно скрывает, что она дочь бывшей русской императрицы Елизаветы. Восторг, обожание, удивление не замедлили последовать. Но главное: Елизавета Вторая, если это была она, жила в доме французского посланника! Если это так – дипломатия французского двора поддерживала претендентку на российский престол.
На следующий день негоциант Лучано Фоджи разговаривал с секретарем французской миссии о видах на урожай цитронов, а когда спросил: не запахнет ли вновь в доме посольства необыкновенной пудрой графини Пиннеберг, секретарь сказал:
– Мы от ее «пудры проветрили наши помещения навсегда.
– За что же такая немилость?
– Не понимаю вашего любопытства.
– Графиня щедра и не торгуется. Какой купец упустит такую покупательницу.
– Если вы хотите спать спокойно, ищите других покупателей, – сказал, хмурясь, секретарь.
Безуспешно Рибас разыскивал англичанина Монтегю, который в свое время переслал Орлову манифест и письмо самозванки. Ждать помощи было неоткуда. Два дня, потраченные на то, чтобы сблизиться с обитателями загородного дома, где остановился конфедерат Карл Радзивилл, прошли впустую. Дом напоминал крепость. Тех, кто ее осаждал, рассматривали в узкую дверную щель и говорили, что не принимают.
Крестьяне в траттории, куда зашел Рибас, ругались и обвиняли поляков в воровстве кур и индюков. Видно, денежные дела польской партии были неважны. На десятый день после отъезда из Пизы Рибас все еще не знал, каким образом выведать: в Венеции ли особа, именующая себя графиней Пиннеберг, но неожиданно гостиничные знакомства привели его в салон бывшего ливорнского негоцианта Уго Диаца, а точнее в салон его жены Сибиллы.
– Я собиралась писать Орлову, – сказала она, раскладывая пасьянс. – Но он так обошелся со мной…
Главнокомандующий дал ей отставку, не возложив на любовницу ни одного карата.
– Я не терплю общества женщин, – продолжала Сибилла, – но с Алиной я коротала время с удовольствием.
– С Алиной Пиннеберг?
– Да. Но она вовсе не Пиннеберг. Просто князь Лимбург снабдил ее документами на это имя.
– Князь Лимбург?
– Он владетельный государь графства Оберштейн.
Имена сыпались, как из рога изобилия. Итак, Алина, Элеонора, принцесса Арвская, принцесса Владимирская, графиня Пиннеберг, султанша с интимным прозвищем Али-бебе – как только не именовала себя в доме Уго Диаца соискательница русского престола. В том, что это именно она, сомнений не оставалось.
– Ребенком ее сослали в Сибирь и коварно отравили, – повествовала Сибилла. – Но знахарка спасла ей жизнь болотными травами. Правда, Алина с тех пор очень мило косит, но и это ей чрезвычайно идет. Из Сибири отец отправил ее в Персию, к шаху. Конечно же, этот государь предложил ей сделаться шахиней. Но она набожна и не отреклась от Христа. Переоделась в мужское платье, объездила всю Европу, присматривая: где бы купить подходящее графство. Князь Лимбург страстно добивался ее руки.
– Она купила у него графство Оберштейн, – кивнул Уго Диац.
– И тут же заложила его, чтобы иметь наличные средства.
– Средства эти она переправила своему брату маркизу Пугачеву, – добавил муж.
– Пугачев – генерал, оратор и очень хороший математик, – сказала жена.
– Его предначертания: освободить народы из хижин Сибири, – заявил муж.
– Герцог Ларошфуко сказал, что головку Алины превосходно украсит русская корона, – улыбнулась Сибилла.
– Сейчас она в Венеции?
Об этом супруги Диацы ничего не могли сказать наверняка. Им было точно известно, что обожатель принцессы князь Радзивилл недавно вернулся в Венецию из Рагузы – столицы Рагузской республики в Далмации. Отправился он туда вместе с принцессой, но вернулась ли она? Сибилла сказала, что мельком лишь видела сестру Карла Радзивилла графиню Моравскую.
Рибас не писал Орлову, наивно предпочитая в скором времени депешировать о победном конце своего поиска, чем ежедневно сообщать о трудностях, как это делали обычно в его положении, чтобы увеличить размеры милостей и вознаграждений. Наконец, у него созрел план.
Крестьянину возле загородного дома князя Раздвилла он дал монетку и письмо принцессе. Сам поспешил исчезнуть, ибо в письме сообщал, что некий банкир Рикко проездом в Венеции и будет иметь честь вручить лично графине Пиннеберг десять тысяч золотом от ее должника барона Иоганна Клейна. Графиня может получить эти деньги в течение трех дней в полдень в гостинице Дожей на Большом канале.
В гостинице Дожей Рибас снял роскошные покои на имя банкира Рикко. Затем отправился в банк Дженкинса и по кредитному листу Орлова оформил документ, по которому графиня Пиннеберг могла получить десять тысяч. На следующий день с утра возле гостиницы Дожей появились подозрительные личности. Расспрашивали о банкире Рикко, которого, увы, не было в его покоях – уехал с неотложными визитами. В полдень никто за деньгами не явился.
В полдень следующего дня из гондолы на Большом канале высадился десант поляков. Они шумно ворвались в вестибюль – Рибас едва унес ноги через черный ход, а из своей гостиницы «Голубая Адриатика» послал полякам записку: «Господа! Обстоятельства вынуждают меня быть осторожным. Должен заметить, что вас слишком много для такого щекотливого дела. Я вручу деньги графине, которую должен сопровождать ее доверенный человек. Прошу вас извиниться перед хозяином и не забыть дать на чай служителям. Всегда к вашим услугам – банкир Рикко».
Десант поляков был неожиданным для Рибаса. Что они могли сделать с ним? Вытряхнуть из него деньги и скрыться? По всей видимости, плачевное финансовое положение могло их толкнуть на что угодно. Но на следующий день его банкирские условия поляки выполнили в точности. Дама в английской шляпке на высокой прическе и в уместной для начала декабря меховой горностаевой накидке вышла из гондолы в сопровождении мужчины. Модная муфта-барабан повисла на руке дамы, когда она протянула другую руку кавалеру, помогающему ей преодолеть крутые ступеньки. Кавалер ее представлял собой тип изящного пажа в накидке цвета парижской грязи. В ушах кавалера сверкали бриллиантовые сережки.
Прибывших проводили в покои банкира, и тот предстал перед ними во фраке цвета неспелого яблока. Рукава фрака были круглыми, то есть скроенными так, что руку в них невозможно выпрямить при всем желании – это говорило о глубокой праздности путешествующего банкира. Он склонился в поклоне:
– Я счастлив, графиня, предстать перед вами с такой приятной миссией.
– Что графиня должна сделать, чтобы покончить с этим? – спросил кавалер, рассматривая пространство вокруг Рибаса.
– Сущий пустяк. Я не имел чести знать графиню раньше, а поэтому нужно, чтобы кто-нибудь удостоверил ее личность. Это необходимо – дело идет об известной сумме.
– Я граф Гржездецкий. Я удостоверяю ее личность, – сказал кавалер, а Рибас заподозрил, что сережки в его ушах сверкают поддельными бриллиантами.
– Увы, но я и вас не имею чести знать, – сказал «банкир».
Изящный кавалер побагровел:
– Что все это значит, черт побери!
– Ради бога, простите. Но я по своей наивности предполагал, что графиню будет сопровождать князь Радзивилл, которого здесь все знают.
Прибывшие переглянулись.
– Нам нужно посовещаться, – сказал Гржездецкий.
– Не смею вам мешать.
Рибас-Рикко вышел в соседнюю комнату. Его позвали через минуту.
– Вы намерены выдать нам деньги наличными или документ на них?
– Разумеется, документ.
– Мы хотим ознакомиться с ним.
– Я с удовольствием покажу его графине, – Рибас пригласил даму в соседнюю комнату, где предъявил кредитный лист. Женщина обстоятельно изучила документ.
– Когда вы видели моего должника барона Клейна? – спросила она о несуществующем в природе человеке.
– Ах, в Париже на версальском балу в честь ангелов-покровителей королевского престола, – без запинки отвечал «банкир». Они вернулись к графу, и женщина слегка кивнула ему, после чего тот заявил:
– К сожалению, князь Радзивилл сегодня занят неотложными делами. Он посетит вас завтра в это же время.
– Разумеется вместе с графиней?
Гржездецкий не удостоил «банкира» ответом, кивнул и вышел со своей спутницей из покоев. Через десять минут «банкир» Рикко прекратил свое земное существование. Рибас расплатился за него в гостинице, а поклажи, кроме шкатулки и кредитного листа у «банкира» не было. Рибас прошел квартал по набережной и сел в карету, где Сибилла Диац всплеснула руками и воскликнула:
– Ах, это не она!
– Я тоже это понял.
– Но вы никогда не видели Алину!
– У этой дамы нет и намека на косоглазие.
– Как же вы вручите деньги Алине?
Рибас, естественно, не посвящал Сибиллу в истинность своих действий. На следующий день Карл Радзивилл вошел в гостиницу Дожей, сопровождая вчерашнюю даму. Рибас лишь мельком взглянул на них из кареты, дал знак кучеру, и тот погнал во весь опор к банку Джекинса, где Рибас ликвидировал следы своей нехитрой банковской операции, и через получас отплыл из Венеции на торговом судне, державшем курс на Рагузу. Но как только судно вышло из Венецианского залива, паруса обвисли, и два дня галеот дрейфовал у мыса Промантаро. Затем после суточного перехода Адриатика встретила корабль противным ураганным ветром с юга, и капитан почел за благо укрыться в порту Зара.
День шел за днем, но стихия не унималась. Из порта Зара по Далматинскому берегу до Рагузы было верст двести, но никаких дорог. В конце концов лишь на двадцатый день, под Рождество, Рибас оказался на рагузском плато и поспешил из порта в центр города. Устроившись в гостинице, он интуитивно отправился во французское консульство и не ошибся. Весельчак-консул де Риво несказанно обрадовался нечаянному рождественскому гостю. Грек драгоман-переводчик Андре Альтести, напротив, смотрел настороженно.
– Вы еще спрашиваете: останавливалась ли в Рагузе принцесса Пиннеберг! – воскликнул консул. – Бог мой, я ей уступил свой дом! Такой женщине я уступил бы всю Далмацию.
– По распоряжению из Версаля? – улыбнулся Рибас.
– В этом-то все и дело! Я предоставил графине свои аппартаменты, а сам съехал в курятник. Это было в июне, и Версаль аплодировал моей дипломатической предупредительности. А в ноябре Версаль грозил мне всеми божьими карами за то, чему аплодировал в июне! Представьте, из Парижа потребовали, чтобы я выселил наследницу русского трона хоть на улицу. Вы не догадываетесь – почему?
Рибас догадывался. Собственно, в какой-то степени, он сам был виновником своих теперешних поисков, ибо и он в гусарской атаке окружал Эни-базар, рвался к визирской Шумле, а все это привело к заключению Кучук-Кайнарджийского мира. И как только султан ратифицировал его, все европейские дворы отвернулись от самозванки. В Рагузе, по словам консула, она награждала орденами своих любовников, а прихоти ее исполнялись, как в восточных сказках. Как-то она пожаловалась князю Радзивиллу, что ей надоело лето, и на следующее утро она бегала по саду, который был завален снежными сугробами – снег привезли с гор. Но где же теперь эта любительница зимних развлечений средь летнего зноя? Де Риво развел руками, пригласил к столу и пожелал, чтобы один из бобов, запеченных в рождественский пирог, достался гостю на счастье.
Когда Рибас отправился в гостиницу, его догнал драгоман-переводчик Андре Альтести.
– У меня стесненные денежные обстоятельства, – сказал он.
– Чем я могу помочь вам? – спросил Рибас.
– Напротив. Это я могу помочь вам в ваших поисках.
– Сколько? – без обиняков спросил Рибас.
– Двести ливров.
В гостинице Альтести получил требуемое и объявил:
– Княжна пересекла Адриатику, чтобы пересечь Италию и оказаться в Неаполе.
– Вы в этом уверены?
– Я ни в чем не уверен, – сказал Альтести. – Но любовник вашей Елизаветы Второй капитан Гассан сказал мне, что у графини есть неаполитанский паспорт, и она отправляется в Неаполь.
Зимние зюйд-осты оставляли одну возможность: пересечь Андриатику, высадиться в Анконе и поспешить через Флоренцию к пизанскому палаццо Орлова. Так Рибас и поступил, благо нашлось попутное судно, а в попутном ветре недостатка не было.
На флорентийской дороге в окрестностях Пизы нищие бежали за открытым летним экипажем, странно выглядевшим для января. В экипаже расположились две фигуры, закутанные в меха. Время от времени мужчина распахивал шубу, брал поднос и бросал с него горстями конфеты для нищих. Рибас, стоявший у обочины из-за поломки кареты, узнал в мужчине Орлова. Тот, проезжая мимо, крикнул:
– Добро пожаловать, господин покойник!
Затем экипаж Алехо развернулся и подобрал Рибаса вместе с поклажей.
– Познакомься-ка с сеньором покойником, – предложил Орлов своей спутнице.
Она высунула из мехов острое личико и, смеясь, сказала:
– Ах, граф, у вас даже и покойники совсем живые.
– В чем, собственно, дело? – спросил, обозлившись на все на свете, Рибас.
А дело было в том, что еще в конце декабря Орлов сообщал императрице Екатерине, как он ищет самозванку Тараканову: «От меня вскоре после отправления курьера ко дворцу вашего величества, послан был человек для разведывания об оном деле, и тому уже более двух месяцев никакого известия о нем не имею, и я сомневаюсь об нем, либо умер он, либо где удержан, что не может о себе известить, а человек был надежный и доказан был многими опытами в его верности». Хорошо только, что в курьерской почте старались без нужды не называть имен, иначе Настасья Ивановна давно и совершенно преждевременно оплакивала бы жениха.
– Нашел? – спросил Орлов у Рибаса, пренебрегая присутствием дамы.
– Нашел.
– Где она?
– В Неаполе.
– Был там?
– Собираюсь.
Орлов кивнул, обнял спутницу – красавицу, жену богача Давыдова. Алехо называл ее Лаурой, а она сразу поставила ушки на макушке и стала капризно допытываться: кого нашел в Неаполе сеньор покойник? Орлов, смеясь, отвечал, что речь идет о редкой мраморной скульптуре дельфийской Пифии-предсказательнице.
– Знаем мы эти пифии, – сказала красавица. – Сегодня она пифия, а завтра с вами ужинает.
– Поужинать с этой пифией я и сегодня бы не отказался, – отвечал Орлов, подмигивая Рибасу, и тот подумал, что русские ведут точный счет фаворитам своей императрицы, но подсчитать: сколько имели фавориток ее вельможи – для этого понадобилась бы целая канцелярия.
Когда Алехо завез свою Лауру в ее пизанский дом и распрощался с ней, Рибас доложил о своих поисках. Орлов нахмурился.
– Тут дело такое, – сказал он. – Если злодейка была бы в Рагузе, я отправился бы туда с моим флотом. И потребовал бы от рагузского Сената ее выдачи. Попробовали бы они отказать! На этот случай императрица разрешила мне бомбардировать город. А вот в Неаполь не с руки нам с пушками являться. Так что поезжай-ка туда.
– А каковы известия об особе с острова Парос? – спросил Рибас. – Войнович вернулся?
– С пустыми руками.
Орлов жаловался на нездоровье, играл с Христинеком в бильярд, много пил и давал инструкции Рибасу. Курьеры привезли известие о том, что самозванная Елизавета Вторая позаботилась и о своих сторонниках в России – написала первоприсутствующему в Сенате Никите Панину о себе и своих намерениях. А Сенат Рагузы сделал запрос в Петербург о мнимой престолонаследнице, и Никита Панин выразил удивление такому запросу, назвав Елизавету Вторую побродяжкой.
Генеральс Христинек, криво усмехаясь, вручил Рибасу письмо от отца. Печати были сломаны – письма вскрывалось. Дон Михаил требовал немедленного приезда сына в Неаполь. Но это «немедленно» писалось два месяца назад.
В Ливорно Рибас посетил английского посланника сэра Джона Дика. Секретарь, с которым пять лет назад не состоялась дуэль, был отставлен от должности. О Елизавете Второй сэр Дик сказал:
– В Рагузе она ждала, что султан пригласит ее в Константинополь. Но ратифицированный мир положил конец ее надеждам, партия проиграна – поэтому булочница и мечется. В Неаполе непременно посетите английского посланника Гамильтона. Он бывал здесь, и с Орловым накоротке.
Жена сэра Дика миловидная Джен страдала от жестокой простуды, грелась у камина, но рассуждала о возможном конце Елизаветы Второй: четвертуют ли ее, отрубят головку или сожгут заживо.
Отыскивая в порту подходящее судно на Неаполь, Рибас столкнулся с Марком Войновичем и отправился с ним в «Тосканский лавр». Обслуживал их брат Сильваны Руджеро.
– Только присутствием русской эскадры я держусь на плаву, – жаловался папский соглядатай. – Русские офицеры щедры и привлекают посетителей.
– Я поживу у вас недели две, – сказал Рибас только для того, чтобы скрыть от Руджеро свой отъезд в Неаполь.
– Ваше присутствие для меня будет неоценимым! – воскликнул доносчик и поспешил отдать распоряжения слугам. Войнович облегченно вздохнул и приступил к рассказу о своем вояже.
– Моя Елизавета Вторая оказалась всего-навсего константинопольской купчихой. Нагородила она мне три короба с верхом. И с Людовиком она в переписке. И с султаном Ахметом политические, вопросы обсуждает. А вся политика состояла в том, что купчиха продавала французские чулки в султанском серале. Смазлива, ничего не скажешь. Просто просилась в мою каюту, чтобы я ее к Орлову в своей постели доставил. Я думаю, что султан расчет имел: еще одну любовницу главнокомандующему предложить. Так сказать, со своего двора. А через нее иметь надежные сведения. Но не та это птица, из-за которой Орлы головы теряют.
Когда Рибас оказался на палубе голландского судна, отправляющегося в Неаполь, то увидел своего старого знакомца – фрегат «Король Георг». Он сноровисто швартовался в ливорнском порту. Рибаса посетило грустное чувство, как от давней и забытой потери. Юность, время грез о славе спартанского царя Леонида, мудрости Фемистокла при саламинской морской битве – эта юность незаметно кончилась. Но он до сих пор не обрел своих Фермопил, где в числе трехсот спартанцев так сладко умереть за свободу. Он не нашел своего пути в Персию, не заключал союза с Афинами и не основал города, как это сделал Александр в дельте Нила. «Александру тогда было двадцать пять! Это мой теперешний возраст, – ненавидя себя, думал он. – И ровным счетом ничего не сделано. Все мелко, глупо, бессмысленно, недостойно. Я зачем-то гоняюсь за женщиной, против которой могущественная держава готова выставить свой флот!..»
Он решил, что всего лишь узнает, где в Неаполе остановилась претендентка на русский престол, сообщит Орлову, а остальное – не его забота.
В таможне Неаполя он предъявил бумаги на имя негоцианта Лучано Фоджи, на боковой улочке, ведущей от Корсо к окраинам, снял комнату и отправился к английскому посланнику Гамильтону. Посланник принял его незамедлительно. Он был высок, порывист и так чем-то взволнован, что во время разговора с Рибасом переставил и передвинул все предметы, которые находились на столе в его кабинете. После обмена любезностями, визитер заговорил о главном.
– Орлова весьма интересует дама, которая недавно прибыла в Неаполь и, возможно, живет под именем графини Пиннеберг. Она выдает себя за наследницу, дочь покойной русской императрицы Елизаветы.
– Я так и знал! – воскликнул Гамильтон, и Рибасу показалось, что посланник от волнения начнет переставлять и мебель.
– Она в Неаполе?
– Представьте: я, я помог ей уехать из Неаполя!
– Куда?
– В Рим.
– Ну, это не такой дальний край света.
– И пальцем не пошевелил бы, если бы знал, что за этим кроется!
Он рассказал, что к нему явилась скромная, слабая, больная женщина. Очаровала его своей непосредственностью и типично английской простудой. Он дал даме рецепт адмиральского грога. Растопил камин. Отвел душу в разговорах обо всем на свете.
– Конечно, я не мог ей отказать. И просила она об сущем пустяке. Нет, я должен уточнить: для начала она просила о сущем пустяке – о содействии. Оно заключалось в том, чтобы помочь графине с паспортом на проезд в Рим. Для иностранцев это хлопотно. А я как раз собирался к министру Тануччи и замолвил о ней слово. Паспорт выдали и она тотчас уехала. Я не предполагал, что возможны международные осложнения из-за такого пустяка! Скандал.
– Пока не вижу к этому оснований.
– Но на той неделе я получил от нее письмо из Рима! Черт побери, она интересовалась мнением нашего кабинета об Екатерине II, просила у меня семь тысяч в долг и подписалась – Елизавета Вторая! Тогда я ничего не понял.
– Письмо у вас?
– На всякий случай я отправил его Орлову с моим человеком на фрегате «Король Георг».
«А фрегат швартовался в Ливорно в то время, когда я отплывал в Неаполь, – вспомнил Рибас. – Значит, Орлов уже знает о местопребывании Таракановой».
Гамильтон был удручен тем, что невольно помог самозванке получить паспорт. В случае непредвиденных осложнений это грозило его карьере. Рибас как мог успокоил дипломата, съездил в порт и отправил Орлову письмо с подтверждением, что Елизавета Вторая уехала в Рим. Алехо наверняка уже направил туда своих людей. Волонтер решил, что на этом его миссия кончена и в сумерках поспешил в отчий дом.
Из-за новой решетки вокруг дома Рибас не сразу осознал, что нанятый экипаж прибыл к месту. Старший слуга припал к руке волонтера и сказал, что генерал в постели, болен. Рибас вошел в покои отца – от постели побледневшего дона Михаила встала мать, ахнула и упала в кресло в глубоком обмороке.
– Мы ждали не тебя, – сказал Дон Михаил.
Служанка терла виски донны Ионы уксусом, приводя ее в чувство. Когда мать пришла в себя, и все поверили, что вернулся Джузеппе, и успокоились, Рибас спросил у отца:
– Вы ждали не меня, но кого?
– Эммануила.
– Где он?
Пятнадцатилетний ученик колледжа Эммануил де Рибас исчез неделю назад. Скорее всего, придирки, наказания были тому причиной. Но он не пришел домой. Джузеппе спросил:
– Отчего же с ним так жестоко обращались?
Мать, не ответив, ушла на свою половину. Отец приподнялся на подушках и хриплым голосом сказал:
– Все из-за тебя, Хозе. Ты пренебрег службой королю.
– Но в России я встречал немало итальянцев. Их не преследуют.
– Ты – майор. И ты отказался выполнить просьбы генерала Риоса.
– Стать шпионом? И это говоришь мне ты?
Эммануил учился в колледже вместе с братом Микеле, который был моложе его на год. И хотя отец сказал, что Микеле ничего не знает, Джузеппе на следующий день встретился с ним в колледже.
– Эммануил вообще хотел бежать к тебе, в Россию, – сообщил Микеле.
– И он говорил об этом серьезно?
– Конечно.
– А тебя в колледже не обижают?
– Мне намекнули, что придет и моя очередь.
Два последующих дня в доме Дона Михаила завтракали, обедали и ужинали по заведенному распорядку. Отец присутствовал за столом. Между ничего не значащими обыденными фразами напряжение было столь велико, что Джузеппе брало отчаянье. Младшие братья – пятилетний Андре и семилетний Феликс – не давали волонтеру ступить и шагу, чтобы не схватить его за руку и не увлечь в детскую. Свою десятилетнюю сестру, которую мать не выпускала из своих покоев, Рибас видел лишь в обеденное время.
Днем Рибас разъезжал по Неаполю в надежде встретить Эммануила или что-нибудь узнать о нем. Но известие пришло от великого сообщества неаполитанских слуг. Из дома в дом, через рынок, по цепочке они судачили о молодом Рибасе, пока весть не достигла ушей старшего слуги, и он вошел в библиотеку, где Джузепне просматривал газеты, и сказал:
– Эммануила видели в портовых тратториях в обществе майора Карлуччи.
Да, тот самый капитан Карлуччи, что во время дуэли Джузеппе и Ризелли вызвался стреляться с Рибасом, дослужился до майора. Но почему Эммануил был в его обществе? Что все это значит? Джузеппе зарядил два пистолета, пристегнул шпагу и отправился в порт. Обойдя многие из тратторий, он не нашел тех, кого искал. На следующий день он повторил вылазку в порт, но лишь на четвертый день, сидя в темном углу траттории «У двух львов», он увидел брата, вошедшего с шумной компанией молодых офицеров, среди которых были Диего Ризелли и Карлуччи.
Оставаясь незамеченным, Рибас видел, что брат его чуть ли не прислуживает Ризелли: громко подзывает слуг, громко повторяет распоряжения Диего за столом, выкладывает на его тарелку золотистые сардины. Вот в чем дело! Ризелли приблизил к себе юнца с очевидной целью: иметь при себе брата своего врага на побегушках, а, может быть, и развратить его. Наблюдать за веселой компанией у Рибаса не оставалось сил. С пистолетами в обеих руках он подошел к их столу, все повернулись к нему, он взвел курки, тихо сказал:
– Эммануил, у входа тебя ждет мой экипаж.
Юнец, растерявшись, встал, нерешительно взглянул на улыбающегося Ризелли.
– Иди! – крикнул Рибас. Эммануил повиновался.
Рибас обратился к Ризелли: – Вам впредь я советую иметь дело только со мной. И если вы не последуете моему совету, курки моих пистолетов не останутся взведенными.
Пятясь, он достиг входной двери, выскочил из траттории, втащил Эммануила в экипаж, и кучер погнал лошадей по крутому подъему из порта. Молча, искоса Рибас поглядывал на брата. «С чего начать разговор? Как далеко зашли его отношения с компанией Ризелли?»
– Ты знаешь, что Ризелли мне неприятель?
– Да. Но он сказал, что будет покровительствовать мне. Ты далеко. А мной помыкают.
– Ручаюсь, что за глаза он смеется над тобой. Пойми, он приблизил тебя, чтобы кровно досадить мне. Оскорбить меня и нашу семью.
– У меня нет сил терпеть издевательства в школе.
– Умей поставить себя! Не оставляй без последствий и намека на оскорбление. До выпуска тебе придется терпеть три года. А там… клянусь, ты будешь рядом со мной.
Рибас переговорил с отцом и матерью, и Эммануилу не досаждали расспросами и выговорами. Через два дня он отправился в колледж, а на прощанье сказал Рибасу:
– Я потерплю. Но только ради того, чтобы потом быть вместе с тобой.
На следующий день, не посоветовавшись с отцом, Джузеппе нанес ответственный визит в палаццо первого министра Бернардо Тануччи. Дон Михаил считал, что отставка Тануччи дело решенное, ибо он не поладил с королевой Марией-Каролиной. Но сеньор все еще состоял первым министром при Фердинанде IV, и Рибас отправился к нему в предобеденное время, рассчитывая застать его дома. Расчет оправдался. Министр носил парик без кошелька, напудренные волосы волнами спадали на плечи. Вопрос Рибаса имел дальние цели, и после краткого вступления он сказал:
– России известно ваше стремление сделать Неаполь сильной державой. Но каковы ваши намерения в отношении России?
Выслушав вопрос, сеньор Бернардо говорил с четверть часа. Рибас запоминал основные положения его речи: ограничить римское влияние, лелеять связь с Испанией, выгодно торговать со всеми, в том числе и с Россией.
– Я бы пошел и на установление дипломатических отношений с Петербургом, – в заключение сказал первый министр.
С Фердинандо Гальяни Рибасу повидаться не удалось – он был в отъезде.
С тревогой на сердце Рибас отплыл в Ливорно. Что дальше? Какую карту предложит ему колода судьбы? Комната в «Тосканском лавре», нанятая еще перед отъездом, ждала его. Брат Сильваны Руджеро сообщил любопытную новость:
– Генерал Орлов теперь в Ливорно. Весь город только и делает, что судачит о его романе с какой-то графиней.
– И она живет здесь?
– Неподалеку от дома английского консула.
Значит, Орлов сумел выманить Елизавету Вторую из Рима. Как это ему удалось? В канцелярии Орлова Рибас отчитался в расходах и сдал кредитный лист в банк Дженкинса. Наличных денег оставалось мало, но волонтер рассчитывал на вознаграждение генерал-адмирала… Тот встретил его с явным невниманием, ушел из кабинета, ничего не сказал, и Рибас полчаса дожидался возвращения вельможи. Алехо вернулся в кабинет в английском костюме для верховой езды.
– Я спешу на прогулку с известной тебе особой, – сказал он, рассматривая свое отражение в зеркале. – Ты за эти месяцы совершил отличное путешествие на мои деньги.
– Как? – задохнулся от возмущения Рибас. – Я выполнял ваше небезопасное поручение.
– Я тебе дам тысячу, – сказал Орлов. – Правда, эту тысячу следовало бы дать Христинеку, который привез графиню из Рима.
– Ну так и сделайте это!
– Не горячись.
– Я отказываюсь от ваших денег. – Рибас повернулся, чтобы уйти.
– Ты мне еще будешь нужен! – Орлов повысил голос, достал из секретера увесистый кожаный мешочек и вложил его в ладонь волонтера. – Когда окажешься в моих чинах – отдашь! – Засмеялся он. – Завтра я даю обед графине. Ты мне понадобишься. Через два часа я вернусь.
Последовав за Орловым, Рибас увидел ту, из-за которой исколесил столько верст. На белом скакуне она предводительствовала свитой – небольшим отрядом всадников, следовавших за Елизаветой Второй прогулочным аллюром. На коне она сидела по-мужски. Кожаные лосины очерчивали прелестные формы гибких ног. Из-под алой короткой накидки виднелись перламутровые рукояти двух небольших пистолетов. Белая шляпа с широкими кружевными полями не скрывала лица, а лицо… Оно показалось волонтеру лицом юной и давно умершей египетской царицы. Лицо отражало наслаждение и ровным шагом скакуна, и низким зимним солнцем, и вниманием ливорнской толпы. Прошло всего несколько мгновений, всадники удалялись к южным воротам, но видение этого юного самозабвенного лица оставалось в глазах тех, кто его увидел, надолго, если не навсегда. Рибас, после проезда небесной сильфиды, вдруг остро ощутил печаль, и Марку Войновичу пришлось потрясти его за плечо, чтобы привести в чувство.
– Ну… вы пропали, – сказал, улыбаясь, Войнович.
– О, да, – отвечал волонтер.
Они уединились в «Тосканском лавре», и граф рассказал о несравненной женщине то, что знал от Христинека.
В Риме графиня Пиннеберг поселилась на Марсовом поле в доме некоего Жуяни и вела уединенный образ жизни по двум причинам: у нее открылась чахотка и не было средств к существованию. Поэтому блистательная свита и двор Елизаветы Второй сократились до трех верных поляков, которые меняли имена, как перчатки, и служанки по имени Франциска. Одному из поляков, Станишевскому, он же Доманский, графиня задолжала крупную сумму, но страстный конфедерат не требовал ее возвращения, ибо изысканная спальня графини была предпочтительнее погашенного долга.
– Все оборачивалось против нее, – говорил Войнович. – И Кучук-Кайнарджийскнй мир, и поимка Пугачева.
– Маркиз проиграл свою ставку? – спросил Рибас.
– О каком маркизе вы говорите?
– О Пугачеве.
Марк Иванович рассмеялся:
– Он такой же маркиз, как она – принцесса Азовская. Генерал Суворов посадил его в клетку, и в Москве вашего маркиза зверски казнили. Но каков полет у нашей принцессы – диву можно даваться! Как вы знаете, папа Клемент XIV умер, и до сих пор в Ватикане сидит взаперти конклав кардиналов для выбора нового папы. И, представьте, наша Елизавета решила ни больше ни меньше, как помочь стать папой кардиналу Альбани, протектору польского королевства! Но он тоже сидел взаперти. Правда, сообщаться с конклавом можно через особое окошко, но только не дамам. Ни под каким видом! И тогда Елизавета решила переодеться в мужское платье. Ее едва остановили. Если бы открылся обман, вышел бы неслыханный скандал. Но проныры-поляки все-таки сумели войти в сношения с Альбани. И вы знаете, что ему обещала наша обворожительница? Петербург и Прибалтику она отдаст, так и быть, Екатерине II, а на остальной территории российской введет католичество! Каково? Не мудрено, что кардинал, которого прочат в папы, благосклонно отнесся к ее благим намерениям.
– И все-таки Орлов сумел добиться своего! – воскликнул волонтер.
– Он открыл ей неограниченный кредит, – сказал Войнович. – Но главное – это флот. Она рассчитывает располагать и Орловым, и его флотом.
– Он с ней в связи?
– Несомненно.
– И не поддался ее чарам?
– Еще как поддался.
– Не исключено, что он поверит ей и пойдет с ней до конца?
– Об этом ходят слухи.
Орлов вернулся через три часа, и его вместе с Рибасом дожидался петербургский курьер. Вскрыв почту и ознакомившись с ней, генерал-адмирал вызвал волонтера.
– Я хотел употребить тебя здесь в тонком и щекотливом деле, – сказал он. – Но обстоятельства изменились. Отправишься в Лейпциг и проследишь за доставкой в Петербург своего приятеля Алексея Шкурина, – Орлов склонился над полученной депешей и прочитал из нее: «Оного привезти в Санкт-Петербург скоро, скрытно и без ущерба для здоровья».
«Очевидно, русская цезариня волнуется: сыну уже тринадцать. Небезопасно оставлять его в Европе», – подумал Рибас и спросил:
– А завтрашний обед?
Орлов усмехнулся:
– Хочешь поглядеть? Хорошо. Прогонные получишь. в канцелярии.
На следующий день в три пополудни вызолоченная карета остановилась у дома Орлова, и два статных поляка помогли сойти на грешную землю голубоглазой весталке в голубом плаще с серебряными звездами. Ее ввели в палаццо под звуки виолы и лютни. Она заняла кресло-трон, и царственное платье, царственное декольте, царственная головка и руки сияли и, казалось, тонко позванивали половинчатыми и целыми жемчугами и бриллиантами. Орлов представлял своих офицеров и приближенных, и адмирал Грейг с постным выражением лица целовал руку булочнице. Поклонившись и припав к руке обворожительной женщины, волонтер на мгновение ощутил себя в лугах с дурманящим сознание маковым цветом.
Обеденный стол имел пять перемен блюд, и апогеем насыщения явились толщиной в лошадиную шею гигантские угри. Даже Рибас-неаполитанец отродясь не видывал этаких чудищ. Тосты в честь ее величества не заставляли себя ждать. Панегирики и шампанское делали свое дело, и щеки ее величества вспыхивали румянцем.
– Еще недавно под нашими крыльями можно было найти тени сомнений, – заговорила она грудным сказочным голосом. – Но теперь черные тени накрыли ту особу, что обманом присвоила себе наш престол. Теперь Габсбурги, Версаль, Пруссия, Испания, Султан, королевская Польша – все на нашей стороне. Вечный мир понадобился моей противнице только потому, что народ русский гибнет в нищете и убогости. С вами, господа, с вашим флотом вы призваны Богом спасти его. Ваша миссия не легка, но богоугодна, а посему нет сомнения в успехе.
После обеда и краткого отдыха вереница карет и экипажей направилась в ливорнский театр, где давали оперу «Демофонт» российского композитора Максима Березовского. Маэстро учился в Болонской академии и следом за четырнадцатилетним Вольфгангом Амадеем Моцартом был избран в число академиков. Имя его золотыми буквами высекли на мраморной доске, а на стене церкви Сан-Джакомо рядом с портретом Моцарта был написан и его портрет. Об опере «Демофонт» говорили, как о триумфе Березовского перед его отъездом в Россию.
Орлов закупил все ложи в театре. Сподвижники Елизаветы Второй шумно приветствовали увертюру. Рибас не следил за нехитрым сюжетом, написанным, впрочем, судя по программке, Пьетром Метастазио, который обеспечивал текстами знаменитейших маэстро – Гайдна, Глюка, Генделя и Моцарта. Рибаса захватило совершенство музыки. И не его одного – в глазах ее величества стояли слезы и, возможно, в мыслях она уже назначила Максима Березовского своим придворным капельмейстером.
После театра Рибас не отправился со всей честной компанией в загородную прогулку. Из пизанского палаццо приехала Сильвана, чтобы в очередной раз проститься с любовником. Утром без стука в комнату «Тосканского лавра» ввалился Марк Войнович и с возгласом: «Все кончено!» без сил повалился на Рибасову постель. Сильвана поспешно вышла, а спустя некоторое время слуга принес апельсиновый сок для страдающего от вчерашних возлияний графа. Едва он пришел в чувство, Рибас спросил:
– Что кончено? Что вы имеете в виду?
– Птичка заперта в клетке, – отвечал Войнович.
Выяснилось, что вчерашняя загородная прогулка не состоялась. Ее величество вдруг пожелала посетить свой флот, стоящий на рейде. Эскадра салютовала будущей самодержице, прошла кильватерной колонной мимо фрегата, где для Елизаветы Второй затевался парадный ужин, во время которого гости исчезали один за другим, пока незнакомые ей офицеры не объявили, что она арестована вместе с верными поляками, а фрегат снялся с якоря и вышел в открытое море.
В почтовой карете Рибас выехал из Ливорно, но дорога без таких попутчиков, как Кирьяков и Витторио, была скучна. От Лейпцига предстояло повторить уже знакомый путь до Петербурга, но теперь по европейским трактам за каретой бежала весна.
8. Венчание, неудачи, великий маг и выстрел в упор 1775–1773
Алеша несказанно обрадовался возможности уехать из Лейпцига. Он хорошо говорил по-немецки и французски, в русских склонениях спотыкался. Привязанность его к сеньору Джузеппе во время путешествия по Пруссии и Австрии упрочилась. Испанский посланник в Вене Магони, приятель Дона Михаила, принял Алешу за младшего брата Рибаса, который шутя называл подростка Алексеем Григорьевичем, водил по музеям и соборам, объясняя принципы романского и готического стилей.
В Петербург они приехали в середине июня. Город выглядел опустевшим и провинциальным – императрица и двор пребывали в Москве, где предстояли июльские торжества в честь заключения Кучук-Кайнарджийского мира. Рибас гадал: в Петербурге ли Настасья Ивановна, но секретарь Марк Антонович, встретивший их у крыльца, оповестил жениха по-итальянски:
– Сеньора Анастази бывать Москва.
Бецкий не соизволил сойти в первый этаж, но поджидал Рибаса и Алешу на верхней площадке лестницы и был в парадном кафтане, как при встрече иностранных послов.
– Я так рад, мой друг, – сказал он по-русски, положив руки на плечи Алеши. – Как вы доехали?
Выслушав ответ, повторил вопрос сначала на французском, потом на немецком, остался доволен бойкими ответами, повел Алешу в кабинет, выслал оттуда дежурного кадета, секретаря, велел прибывшим устраиваться в креслах и приступил к изложению печальной повести. – Вы, верно знаете, мой друг, что ваша бедная матушка умерла в одночасье, когда вы родились. На все воля божья. Ваша матушка была весьма дружна с императрицей Екатериной и перед смертью просила ее позаботиться о вас, принять участие в вашей судьбе. Велики дела ее величества императрицы Екатерины и велико ее сострадание и милосердие, но она не хотела, чтобы о ее протекции знали в Европе, а посему вы пребывали там под фамилией Шкурин. Истинная же ваша фамилия – Бобринский, по названию имения, вам принадлежащего.
Торжественность минуты прервал визг из угла кабинета. Там стояла корзина, из которой пытался выбраться щенок спаниеля.
– Это тебе, мой друг, – перешел на «ты» взволнованный встречей со своим возможным внуком вельможный дед.
Обеденный сюрприз явился в виде июльских арбузов. Иван Иванович с Рибасом был сух и лишь уведомил его о высочайшем повелении: быть при Алексее Бобринском в кадетском корпусе в прежнем капитанском чине, о чем следовало снестись с генерал-поручиком корпуса Пурпуром.
Летняя спокойная Нева, заросшая травой набережная на Васильевском, неказистые кадетские корпуса и величественное лицо Андрея Яковлевича Пурпура, встретившего экипаж у Меньшикова дворца – все это было теперь по-домашнему знакомо Рибасу, и возвращение получилось на радость приятным: генерал-поручик продекламировал из Гомера:
– Весело, путник, зайди к нам, от сердца тебя угостим мы. Беды свои нам расскажешь, трапезу нашу изведав.
– Поздравляю вас с новым чином, – сказал Рибас.
– Знаете новость? – спросил Пурпур.
– В Петербурге начались гонения на красивых женщин?
– Это было. Еще при императрице Елизавете. Она указами запрещала быть на балах красивее ее. У нас учрежден греческий кадетский корпус и гимназия. А шефом назначен генерал Мелиссино, теперешний директор артиллерийского корпуса.
Новость радовала тем, что греки, воевавшие против турок и прибывшие в Петербург вместе с эскадрой Грейга, не брошены на произвол судьбы. Греческий архипелаг по условиям мира оставался во владении султана, и месть османов восставшим грекам была неслыханно жестока.
Генерал-поручик приготовил для прибывших несколько комнат во флигеле за Меньшиковым дворцом и проводил их туда. Плац и коридоры оглашались шумом воспитанников-кадетов, и Рибас спросил:
– Учения в летних лагерях отменены?
– Готовимся высокоторжественно отметить день заключения мира с турками, – отвечал Пурпур.
Устроившись в несколько дней во флигельных покоях, Рибас с Алешей отправился к Витторио, к Виктору Сулину, и тот, выслушав рассказы и сетования Рибаса, сказал:
– Я вижу, вы растеряны. Жизнь сузилась до обязанностей капитана кадетского корпуса. Ну, что же, прожить жизнь с одной идеей почти невозможно. Или вы уже не вспыхиваете при словах Афины, Агамемнон, Эллада?
Они сидели в креслах в саду, за конюшнями, куда Алеша пошел посмотреть лошадей Виктора.
– Конечно, сейчас не те времена, когда персы бежали с Эллады при марафоне, – сказал Рибас. – Но, черт возьми, должно же быть у человека то, что согревает душу.
Виктор, по своему обыкновению, пророчествовал:
– Вас ожидают нелегкие испытания. Многие люди захотят смеяться над вами. Многие заподозрят вас во всех смертных грехах.
– Я обречен на Петербург?
– Надо иметь терпение.
– Во имя чего?
– Хотя бы во имя своих представлений о собственном предназначении. Нести свободную Элладу в собственном сердце – этому можно посвятить жизнь. Но мне грустно от того, что вас оболгут, и вы узнаете о таких наветах, что пожалеете о парусах, под которыми собирались в Ирландию.
– Но почему вы не говорили об этом раньше, при первой нашей встрече в Ливорно?
– Тогда я думал, что вы обычный искатель приключений.
Виктор собирался к отъезду в Москву, а оттуда в путешествие на Урал. А теперь, понизив голос, он сказал:
– Ваша княжна Тараканова в мае привезена в Петербург.
– Не может быть! – воскликнул Рибас. – В Берлине и Вене мне говорили, что она сбежала с корабля и прекрасно живет в Бордо.
– Скорее всего, эти слухи распространяются нарочно, – отвечал Виктор. – Грейг привез ее в Крондштадт. А оттуда самозванку тайно перевезли в Петербургскую крепость.
– И что же?
– Не проходит и дня, чтобы генерал-губернатор Голицын не навещал ее. А записи допросов отсылают в Москву спешной курьерской почтой.
– Ее пытают?
– Этого не скажу. Она больна. Впрочем, Голицын способен на все. Его называют человеком-недоразумением. Он бежал от Фридриха еще под Кунерсдорфом. Чуть было не провалил начало турецкой кампании, на при этом сумел прослыть героем Хотина. Он умелый интриган. И будет делать все, чтобы императрица в московском Коломенском была им довольна.
Из конюшен вернулся Алеша, и друзья сочли за лучшее не продолжать при нем опасный разговор. Подросток был в серой форме кадета – цвет третьего воспитательного возраста. Кадету этих лет предстояло постигать военную и гражданскую архитектуру, латынь и бухгалтерию. Но все это лишь предстояло. А пока после завтрака Рибас и Алеша в длинной веренице экипажей с кадетами мчались по проторенной дороге – мимо Зимнего дворца, Летнего сада через Прачечный мост, мимо, Пустого рынка, и по Воскресенской улице проезжали Шпалерную мануфактуру и церковь Воскресения Господня и всех Скорбящих, где рядом теперь наводился второй наплавной мост через Неву – Воскресенский. Кадеты не сворачивали на него, а держали прямо к сладостной цели – Смольному монастырю, где проходили спевки, репетиции и завязывались славные романы с прекрасными созданиями в костюмах из пиесы «Скромницы из Саленсии».
Десятого июля скромницы из Смольного одолели тот же путь в обратном направлении, в Шляхетском корпусе при стечении знати, съехавшейся из летних усадеб во главе с генерал-губернатором князем Александром Голицыным, кадеты в честь годовщины вечного мира показывали символический полувоенный Пролог под названием «Торжество победы, причиненное от отечественной любви». Гремел оркестр. Кадетские собаки выли на нечаянно озаривший их жизнь великолепный фейерверк.
К вечеру в числе почетных гостей Рибас и Бобринский были приглашены в темный кадетский сад, где в конце аллеи кадет-Аполлон вручил генерал-губернатору Голицыну ключ от таинственной двери, замыкающей аллею. Рибасу показалось, что Голицын при этом вздрогнул. «И есть от чего, – подумал Рибас. – Не так ли Голицын каждый день приходит к дверям крепостного каземата, где содержится тайная узница, по выражению Екатерины, «всклепавшая на себя имя» престолонаследницы Елизаветы Второй».
Вот и вздрогнул генерал-губернатор, прежде чем отомкнуть дверь аллеи – но за ней не стонала беспомощная красавица, а вспыхнуло разом сто свечей в ротонде. Она разделялась по числу знаков Зодиака на двенадцать частей, и гости, согласно своим небесным созвездиям, занимали столы. Сначала Рибас отыскал Алешин зодиакальный символ – Овен, где они угостились яствами из оранжерей Бецкого. Потом отправились к столам под Рибасовым знаком Близнецов и пили прохладительные напитки из фонтанов. Триумфальная арка над ротондой задыхалась от ароматов цветов. И грянул бал до зари.
Каждое отделение кадетов состояло под присмотром четырнадцати воспитателей, да еще обслуживало их до двухсот крепостных слуг. В отделение третьего возраста полагался инспектор-майор, и генерал Пурпур назначил Рибаса вторым инспектором в капитанском чине. После торжеств кадеты перебрались в летний лагерь, где солдаты успели накосить сена для кадетских конюшен. Вольная, но скучная жизнь угнетала капитана. Поразмыслив и предвидя последствия, он занялся странным делом: увозил Алешу из лагеря в свои корпусные покои, расставлял на шахматном столике фигуры и настойчиво обучал подростка древней игре. Успехи были не велики, но сутью игры кадет овладел. Затем Рибас съездил на почтовый двор и через канцелярию корпуса заказал итальянские газеты. Когда они стали приходить, капитан вручал пятачок почтовому солдату и усаживался изучать вести из Рима, Неаполя, Милана. За еженедельным обедом у Бецкого итальянские новости весьма занимали вельможу, и он одобрял капитана:
– Составляйте для меня доклады по Италии, Иосиф Михайлович.
В декабре по зимнему тракту императорский двор шумно въехал в Петербург, и Рибас тотчас отправился к Настасье Ивановне. В ее покоях первого этажа мебель светилась позолотой, серебряные витые жирандоли-подсвечники сияли десятками веселых свечей, и казалось, что Настя поджидает общество блестящих офицеров, и оно явилось в лице капитана-жениха. Он поцеловал ей руку. Потом осторожно обнял. Гирлянды искусственных цветов свисали от ее талии по платью до самых туфелек.
– Часто ли ты вспоминал меня? Но только не говори, что дня не проходило. Мне все известно. Ты по всей Европе гонялся за самозванкой.
– Напротив. Я всего лишь сделал одну поездку по ее следам.
– Говорят, ты завел с ней роман, чтобы привезти ее в Петербург.
– Я только раз видел ее в Ливорно!
– Ты был с ней в театре.
– Там я ее видел мельком.
– Когда мужчина говорит, что видел женщину мельком, не значит ли это, что он ушел от нее под утро?
Она ревновала, и это капитану нравилось.
– Ты знаешь, она умерла, – вдруг сказала Настя, высвобождаясь из его объятий. Рибас не мог слова вымолвить, Настя продолжала:
– Конечно, все говорят, что изверг Голицын замучил ее, и государыня поэтому дала ему отставку.
– Но… узнали: кто она такая на самом деле, откуда?
– Она даже на исповеди перед смертью не сказала правды. Но всем известно, что настоящая княжна Тараканова живет и здравствует. Правда, собирается в монастырь. Алексей Орлов в Москве изучал послания ее и установил, что многие из бумаг написаны почерком графа Шувалова. Но императрица считает, что игру в престолонаследницу придумал князь Радзивилл.
– Значит, теперь схватят его?
– Какое там. На безденежьи он помирился с королем Понятовским, ему вернули польские имения, живет в Несвиже, развратничает, бражничает, купается в золоте. Но не в этом дело. Мнимая княжна Тараканова в Петербургской крепости успела родить сына! И установить от кого – невозможно было из-за несметного числа ее любовников.
«Только не от Алехо Орлова, – подумал Рибас. – Он был любовником уже беременной женщины».
– Но какова судьба ее сына?
– Говорят, он умер при родах.
– Теперь в России следует ожидать появления престолонаследника князя Тараканова, сына Елизаветы Второй, – сказал Рибас.
– Вполне возможно, – отвечала Настя. – Со времени смерти Петра III прошло тринадцать лет, а, кроме Пугачева, Петров Третьих уже поймали больше дюжины.
– Удивительная страна! – воскликнул капитан и подумал: «А что, собственно, я знаю о своей невесте? Официально – воспитанница Бецкого. А Виктор Сулин говорил, что она воспитывалась в Париже у актрисы Клермон! Кто же она на самом деле? Незаконная дочь Бецкого? Черкешенка? Дочь обремененного детьми художника Соколова? А Бецкий – и сам незаконный сын князя Трубецкого! А Алеша Бобринский – незаконный отпрыск императрицы… Хороша компания! Я вращаюсь в обществе незаконнорожденных… и не удивлюсь, что всю историю поимки Таракановой в конце концов припишут мне».
– Что хорошего в Петербурге? – спросила Настя с интонациями Бецкого.
– Осенью были гребные гонки по Неве. Приз в тридцать рублей выиграла крондштадтская береговая команда.
– В Москве на Ходынском поле построили почти настоящие корабли, – сказала Настя. – И десятого июля повторили вашу Чесменскую битву. Ах, 'было много дыма, и я так неудачно сидела, что почти ничего не видела. Орлов получил от государыни титул Чесменскаго, серебряный сервиз, шестьдесят тысяч и похвальную грамоту. К его миллионам эта похвальная грамота, как пятое колесо в телеге.
«Должен ли я отдавать Орлову тысячу рублей?» – подумал Рибас.
Затем они поднялись к Бецкому и обсудили приготовления к свадьбе.
– Я даю за Настенькой, как вы знаете, каменный дом с мебелью, и еще золотой и серебряный сервизы, драгоценности, иконы… Вот, взгляните, Иосиф Михайлович, полная опись приданого… Может быть, вы хотите, чтобы я объявил о приданом при свидетелях?
– Зачем?
– Так принято.
– Оставим этот обычай для других домов и свадеб. Настя сказала, что ей нужно для приготовлений не менее двух месяцев, а там великий пост… Она хотела обновить гардероб по последним европейским модам.
– У меня все пестрит, а сейчас повсюду в моде одноцветные платья. Предстоит каторжная работа над свадебным. Портнихи несносны. – Она обратилась к Рибасу: – Я хочу, чтобы вы шли под венец в статском. Поэтому золотые часы непременны. Сейчас в Европе выйти в свет мужчине неприлично, не имея хотя бы пары часов на брелоках или широких плетеных снурках!
Бецкий и Рибас обменялись едва заметными улыбками. Жених надеялся только на то, что к весне мода переменится. Иван Иванович заявил не без тревоги и торжественности:
– Послезавтра государыня ждет вас с Алешей у себя. Заезжайте за мной к десяти, и я отвезу вас во дворец.
Настя, возбужденная неотложными заботами, сказала, что в своих покоях переменит мебель, потому что вычурное барокко отживает, и даже для деловых приемов теперь требуется интимный интерьер. Затем она взяла жениха под руку, увела вниз, к себе, и принялась ему выговаривать за его спешный отъезд в армию в прошлом году:
– Неужели вы не хотите сделать карьеры при дворе? В России важен момент, а не армейские геройства. И вот вам пример. Григорий Потемкин, волонтер, в феврале прошлого года попросился в адъютанты Екатерины. Стал им. В марте – он полковник преображенцев. Выжил из дворца фаворита Васильчикова с почестями и сервизом. В апреле получил польский орден Белого Орла и отечественный Александра Невского. Поселился в Зимнем, и Екатерина не называла его иначе, как судариком. Назначила сударика Новгородским генерал-губернатором. Сделала вице-президентом военной коллегии, кавалером ордена Андрея Первозванного. И все это за один год! И при этом он груб, грязен, ходит па Зимнему босой, не мытый, не чесаный, грызет ногти. Императрица в уставе для посетителей Эрмитажа специально для него писала: «быть веселым, однако ничего не портить, не ломать и ничего не грызть!» Любит ананасы и редьку с клюквой. Пресыщен донельзя. Но и способен на все. Екатерина была без ума от генерал-поручика красавца Петра Голицына. И что же? Потемкин велел некоему Петру Шепелеву придраться к Голицыну и вызвать его на дуэль.
– И что произошло?
– Тот на дуэли и убил Голицына!
– Я не понимаю, – сказал Рибас. – И ты хочешь, чтобы я служил у этого человека?
– Я просто рассказываю тебе, как в России делают карьеру.
Через день Бецкий вел Рибаса и юного Бобринскога анфиладами Зимнего дворца. Мимо зеленокафтанных гигантов-гвардейцев в римских шишаках со страусовыми перьями прошли в кавалергадскую залу, где к удивлению Рибаса было довольно людно. Бецкого приветствовали, и он отвечал таким движением головы, которое замечалось лишь при напряженном внимании. Не останавливаясь в кавалергардской, они проследовали к дверям тронного зала, у которых застыли два кавалергарда в синих бархатных мундирах и латах кованного серебра.
У дальней стены тронной Екатерина сидела на вызлащенном стуле, разговаривала о чем-то с фрейлинами, среди которых Рибас увидел Настю. Когда подошли, разговор смолк. Екатерина внимательно посмотрела на сына, протянула ему руку. Он поклонился, опустился, на одно колено и поцеловал руку, звонко чмокнув губами. Мать улыбнулась, дотронулась до его русых волос, Алеша встал, отступил на шаг.
– Иван Иванович, – искусно сдерживая волнение, обратилась к Бецкому императрица, – разве моих кадетов вы одеваете теперь во все серое?
– По уставу это цвет третьего возраста, – отвечал, поклонившись, вельможа. – Ио если вы хотите изменить цвет, я изменю устав.
– Нет, не нужно. Ведь я, помнится, подписывала ваш устав, посему не стоит менять цвет. – Она посмотрела на Алешу затуманенным сентиментальным взором, обернулась к фрейлинам: – Как хорошо я знала мать этого молодого человека… Я часто поминаю ее теперь. – И снова обратилась к сыну. – Но память о наших близких не только в поминаниях, но и в трудах наших. Хорошо ли тебе в корпусе?
– Да, ваше величество.
– Верно, после Лейпцига не так вольготно?
– Я привыкаю, ваше величество.
– Капитан, – обратилась она к Рибасу. – Вы новому воспитаннику Петербург-то показали?
– Не только Петербург, – отвечал капитан. – В ваше отсутствие мы побывали и в Царском, и в Петергофе. А в январе собираемся на охоту.
Из дверей во внутренние покои императрицы вошел обер-шталмейстер Лев Нарышкин. Императрица встала. Аудиенция была закончена. Екатерина спросила у Нарышкина:
– Готов ли выезд, Лев Александрович?
– Не только лошади готовы, но и вся природа ждет вашего выезда, ваше величество! – озорно и отнюдь не подобострастно ответил Нарышкин.
– Ну что же, сейчас мы все вместе и отправимся, Иван Иванович, – сказала императрица Бецкому.
Уже в карете среди кортежа Екатерины, мчащегося по укатанному снежному насту, Рибас думал: «Почему она обставила встречу с сыном именно так? Ведь могла бы принять его приватно, а не на людях. Но у нее, видно, все рассчитано. Официальной аудиенцией она пресекла пересуды. Но встреч накоротке не избежать». В Смольном императрице так пришелся по душе театр воспитанниц, представлявший комедию «Высокомерный» и комическую оперу «Мнимый садовник», что она обещала непременно приехать и завтра. Наследник Павел сопровождал мать, но без жены Натальи – она была беременна и хворала. Рибас заметил, что Павел, увидев рядом с Бецким юного кадета, коротко и удивленно посмотрел на него, а уж потом разглядывал без стеснения. «Знает ли он, что это его брат?» – спросил себя Рибас.
Предположение, что встречи Екатерины с сыном накоротке состоятся, оправдались через два дня. Бецкий примчался в кадетский корпус и увез Рибаса и Алешу в Зимний. В Эрмитажной галерее Бецкий высокопарно рассуждал о живописи, когда в будничном платье-полонезе а ля либертэ, с подобранным шлейфом вошла Екатерина. Это, по всей вероятности, означало, что встреча будет доверительной, почти семейной. Рибас удивился тому, что продумано даже платье, ведь сын-кадет вряд ли мог это понять и оценить. «Значит, она оделась, не рассчитывая на понимание сына, а, скорее, по привычке одеваться соответственно своим намерениям», – решил Рибас.
Она взяла сына под руку, легким кивком дала понять Бецкому и капитану, что идти за ней не следует, и направилась с кадетом вдоль галереи. Бецкий подозвал Рибаса к рабочему столу с образцами полудрагоценных камней и стал перечислять каверзы и препоны, которые терпел от сенатских крючкотворов.
– Представьте, я прошу для уральских заводов пятьдесят тысяч, а они дают пятнадцать!
– Почему же вы не скажете об этом императрице? – удивился Рибас, а Иван Иванович тут же воспользовался возможностью дать совет будущему зятю и назидательно изрек:
– Никогда не просите ее ни о чем, а особенно о таких мелочах, которые решаются в Сенате.
Екатерина вернулась и сказала сыну:
– Теперь Иван Иванович покажет тебе самоцветы. – Кивком пригласила следовать за собой Рибаса. Когда отошли достаточно далеко, сказала:
– Мальчик привязан к вам. Не скрою, его судьба мне не безразлична. Но вы, верно, нигде не учились воспитывать детей.
– У меня трое младших братьев, – отвечал капитан. – Старшему шестнадцать. Он мечтает о Петербурге, если вы, разумеется, будете столь милостивы и примите его в службу.
– Мы будем милостивы, – отвечала самодержица. – Вы должны бывать у меня по вторникам во вторую и четвертую неделю каждого месяца и посвящать во все дела Алеши. Если случится что-нибудь особенное, приходите и в неурочный час. Я довольна вами.
Капитан поцеловал монаршью длань и решил, что настал подходящий момент, чтобы сказать:
– Ваше величество, королевство Обеих Сицилии по сравнению с вашей державой страна маленькая. Но в Италии она – одно из самых больших государств. В Неаполе я виделся с первым министром Тануччи, и он высказал мне свое желание установить с Петербургом дипломатические отношения. Беседа носила приватный характер. Я не был никем уполномочен вести ее. Министр не поручал мне довести до вашего сведения содержание этой беседы. Но, поразмыслив, я пришел к выводу, что государственной тайны в моей беседе с Тануччи нет. Наоборот, я был бы рад, если мое сообщение послужит пользе обоих государств.
О, императрица сразу поняла, куда метит капитан, и взглянула на него по-новому, с любопытством.
– Канцлер Панин предпринимал шаги к сближению, но ни одно из итальянских государств не откликнулось на них, – сказала она. Помолчав, спросила: – Каковы могут быть теперь практические шаги и с чьей стороны?
– Я мог бы написать Магони – испанскому послу в Вене, он мне приятель. Написать неофициально и, как бы между прочим, сообщить ваше мнение.
– Которого вы еще не знаете, – сказала Екатерина и направилась к Бецкому и Алеше. Они сидели за инкрустированным шахматным столиком и передвигали фигуры из слоновой кости.
«Она определила мой удел: быть при ее незаконно рожденном сыне и только!» – с досадой подумал Рибас. Императрица восторженно наблюдала за игрой Алеши с Бецким. Она страстно любила шахматы. Сыграла с сыном три партии, и одну намеренно свела к ничьей.
– Кто тебя в Лейпциге учил играть? – спросила она сына.
– Я научился здесь. У Иосифа Михайловича.
– Превосходно, – сказала Екатерина, не взглянув на Рибаса. Распорядилась накрыть для гостей чайный столик и ушла.
Через час все оказались в Смольном, где воспитанницы потрафили чудесному настроению императрицы во французской комедии и балете так, что через Бецкого она дала распоряжение:
– Пусть живописец Левицкий изобразит юных служительниц Мельпомены в театральных костюмах. – А Рибасу, прощаясь, сказала: – Мы с одобрением относимся к вашей дипломатической затее.
Рибас съездил на почтовый двор и отправил письмо Магони в Вену. Затем последовали самые разнообразные и непредвиденные события, чередующиеся с тягостным ожиданием. Как и в прошлом году, свадьбу отложили до весны. Настя выписывала из Голландии парижскую мебель. Алеша прилежно учился и часто обедал с Рибасом у Бецкого. Наконец, пришло письмо от Магони, в котором он как бы мимоходом сообщал, что дипломатическое колесо завертелось. Рибас доложил об этом Екатерине, а она высказала свое удивление не менее удивленному Бецкому:
– Почему ваш капитан, участник сражений на Дунае, до сих пор капитан?
Пока шло производство Рибаса в майоры, в Петербурге замелькал повседневный черный плащ с восьмиконечным крестом графа-мальтийца Сограмозо. Для намерений Рибаса это было как нельзя кстати. Нечаянную, но дружескую встречу Сограмозо со своим бывшим переводчиком с итальянского Рибасом заметили при дворе. Императрица состояла в переписке с новым гроссмейстером мальтийского ордена Эммануилом де Роганом.
– Увы, – мне придется уехать из России, – говорил Сограмозо рассеянно, – я так этого не хочу.
– Могу я чем-нибудь помочь вам? – спросил Рибас.
– Увы. Маркиз Кавалькадо от имени ордена сообщил мне, что слишком накладно содержать постоянных министров и при российском дворе, и в Англии, и в Берлине. К несчастью, наш орден имеет не только достоинства, но и долги. Я написал о моем положении в Рим, Папе. Он покровительствует нашему ордену. Но могу лишь повторить, увы, уехать придется. Правда, императрица высказала сожаление, и я предложил остаться в Петербурге и быть послом за собственный учет. Но мне указали, что за собственный счет здесь живут только частные лица.
К этому времени при кадетском корпусе стал давать спектакли итальянский театр, и Сограмозо с Рибасом наслаждались танцами несравненной балерины Росси, посещали ее и ее мужа балетмейстера Лепика, восторгались их двухлетним сыном Карлом, который начал танцевать раньше, чем ходить. Карлу Росси прочили великое балетное будущее, но, как известно, судьба рассудила иначе.
Деятельность Сограмозо в Польше и России была высоко оценена в сенатской записке, и Екатерина наградила его десятью тысячами, а на записке написала: «Обыкновенно сверх денег дается еще подарок, а как граф Сагромозо к тому поведением своим более имеет право, то выберете табакерку с бриллиантами». Но все-таки в студеную зиму граф простился с масонами, Петербургом и Рибасом и отбыл на Мальту отнюдь не в мальтийской накидке, а в собольей шубе, не осененной восьмиконечным крестом. Его отъезд был не с руки Рибасу, но успокаивало соображение: при дворе отметили склонность кадетского капитана к делам дипломатии и его умение строить отношения с послом сколь далекого, столь и великого магистра де Рогана.
Вскоре после отъезда мальтийца жена наследника Павла Наталья-Вильгельмина разрешилась от бремени мертвым ребенком и скоропостижно скончалась. Зная об отвращении императрицы к распущенности Вильгельмины, в петербургских гостиных зашептались об отравлении. Врачи говорили об искривлении стана Вильгельмины, изъяне, который она тщательно скрывала, но он и явился причиной смерти при родах.
На балу у Разумовских граф Андрей был бледен, как полотно, и, как и три года назад, говорил Рибасу:
– Все кончено, капитан. Не сносить мне головы.
На расспросы не отвечал, но вскоре стало известно, что Павел от неутешного горя чуть ли не лез на стены, и Екатерина безжалостно показала ему любовную переписку покойной с графом Андреем, успевшим стать генерал-майором. Павел кричал, что он лично четвертует вчерашнего друга, и Разумовского спешно выслали сначала в Ревель, а потом в его малороссийские поместья. Траур по умершей был коротким. В начале апреля торжественно встретили прусского принца Генриха, а 21-га апреля, когда весь Петербург съезжался поздравить императрицу с днем рождения, Бецкий поздравил Рибаса с производством в майоры.
Двор императрицы, Бецкий, Настя, Иоанн Эрнест Миних, Рибас переехали в Царское село, где в загородном доме Бецкого состоялся совет, посвященный предстоящему венчанию. Настя, вернувшаяся из царскосельского дворца, объявила:
– Ее величество соизволило пожелать, чтобы венчание состоялось в здешней дворцовой церкви.
Рибаса мучил вопрос: кого из друзей пригласить на венчание, кто будет держать венец над ним и невестой? Витторио уехал на Урал, Разумовский сослан. Может быть, генерал-поручик Андрей Пурпур заменит их? Но следом за Настей в гостиную вошел статный, величественный даже не в служебное время гофмаршал Григорий Никитович, и выяснилось, что все уже решено.
– Дамские персоны будут в белом, кавалеры в цветном платье, – объявил гофмаршал и обратился к Миниху: – Ваша почетная обязанность – держать венец невесты. А вас… – он повернулся к Рибасу, – осчастливлю венцом я.
Оказалось, что уже определены гости, их число, места и обязанности. Предполагалось, что на венчании будет присутствовать прусский принц Генрих, и гофмаршал рассказал о приеме Генриха в покоях Петемкина в Зимнем дворце:
– Лиоли был в ударе, и его скрипка творила чудеса. Правда, прием едва не испортила полковая музыка, но принцу показали турецкий конский убор, а полковую музыку в это время убрали. За ужином танцевали молдаване. Лев Нарышкин разрезывал дичь, передавал слуге, тот – пажу, паж – камер-пажу, камер-паж – принцу.
Простившись с невестой, Рибас уехал в Петербург, где поручил себя заботам кадетского портного-француза. Алеша готовился к майским экзаменам, но каждый час бежал в сад и катался на карусели, которая осталась после посещения кадет принцем Генрихом. Это посещение совпало с четырнадцатилетием Алеши, и оно было отмечено скачками в кадетском манеже, вольтижировкой, концертом, очередным щенком от Бецкого, походным столовым прибором от матери и английским ружьем от Рибаса.
На досуге, которого всегда оказывалось в избытке, майор Рибас полулежал в кресле с газетами и констатировал, что его вступление в семейную жизнь отмечено наводнением в Лотарингии, разорением виноградников, непризнанием Венецианской республикой римского Папы, ужасным землетрясением на Мальте, ожиданием войны Испании с Португалией из-за стычек португальцев в Америке с испанскими подданными и отменной выучкой сорокатысячной армии Сардинского короля.
Двадцать седьмого мая он приехал в Царское село к одиннадцати, и возле придворной церкви его встретил озабоченный гофмаршал Григорий Никитович:
– Как можно! Сейчас начнется литургия, императрица на хорах!
– Я опоздал на собственную свадьбу? – весело спросил жених.
– Идемте-идемте.
В церковь они вошли вовремя – из покоев фрейлин в первом этаже тайный советник и кавалер, его сиятельство граф Миних вывел невесту, когда Рибас с гофмаршалом поднялись по ступенькам с улицы. Как сказал бы Витторио, на Насте было два вида одежды: белое атласное платье-роброн и бриллианты. Темные волосы с медным отливом уложены в ля петит курон – малую корону. За невестой следовали фрейлины и придворные. Рибас секундно взглянул на хоры. Там, высоко, в бело-золотистом проеме под ангелами он увидел три бюста – шелково-пышный императрицын, кремово-фрачный принца Генриха и бело-замшевый колет кирасирского полка наследника Павла. Последний смотрел не вниз, где начиналась церемония, а прямо перед собой на иконостас.
Венчающихся поставили на венчальное место, покрытое малиновым бархатом с золотыми позументами и бахромой, и духовник Екатерины протопресвитер Иоанн Панфилов начал браковенчание обыкновенным порядком. Обручающимся дали свечи как знак неугасимой любви и чистоты. Отец Иоанн крестообразно кадил фимиамом, и бас его заполнил церковь до самого плафона с изображением Вознесения Христа. Пряный запах фимиама напомнил Рибасу о благочестивом Товии, который возжег сердце и печень рыбы, чтобы дымом и молитвой прогнать демонов, враждебных браку. В молитве отца Иоанна поминались целомудренные Исаак и Ревекка. Когда дело дошло до обмена кольцами, Иоанн Панфилов, доброжелательно задававший вопросы, вдруг с недоумением посмотрел на жениха и даже отступил на полшага, отчего золототканные ризы его заиграли бликами свечей – какой-то посторонний звук достиг ушей наместника господа – это пара швейцарских часов-луковиц, на которых категорически настаивала Настя, своим мелодичным звоном обозначили наступление полудня.
Священник взял венцы, лежащие перед алтарем, передал их отцу Иоанну, а тот Миниху и гофмаршалу, которые вознесли венцы над головами Рибаса и Насти, и раздалось пение псалома «Блаженны все, боящиеся Господа». Венцом муж уподоблялся царю – становился главой жены и потомства. Венчающиеся испили из общей чаши красного вина в знак общего владения и пользования имущества.
Начался благодарственный молебен, и певчие несказанно (божественно вознесли к хорам «Тебе Бога хвалим». Придворные и фрейлины подходили к обвенчавшимся с поздравлениями. Высоких особ на хорах уже не было, и гофмаршал распорядился следовать через малую среднюю парадную лестницу во второй этаж дворца, где гости рассредоточились в малиновой столовой и предъянтарной, а новобрачные прошли в янтарную комнату, убранство которой прусский король Фридрих Вильгельм I подарил Петру I.
Все ждали появления императрицы. Рибас рассматривал мозаичные изображения пяти чувств, янтарные тюльпаны, головки, раковины, зеркала в янтаре, отсветы серебряной фольги. Комнату осенял венецианский плафон-аллегория «мудрость, охраняющая юность от соблазнов любви». Мудрость эта присутствовала здесь живьем в лице Ивана Ивановича Бецкого, который любовно поглядывал на дело своих рук, но не на Настю или Рибаса, а на янтарные вазы, бокалы, шкатулки, янтарные кубки, ларцы, коробочки, янтарные канделябры, шахматы, модели парусников и миниатюрный янтарный замок – на свою лепту, которой он пополнил великолепие этого несказанного чуда света, снаряжая экспедиции за солнечной смолой Балтийского побережья.
В этой комнате, в ауре могущественного талисмана здоровья, новобрачные вдруг молодо и озорно заулыбались друг другу, радужные блики играли на их лицах – а вокруг светились бледно-желтые и красно-коричневые янтари и крайне редкие драгоценные голубые, белые и зеленые. Недаром в Риме янтарный кубок можно было обменять на здорового молодого раба, а крашеный красный янтарь ценился дороже золота.
Появился гофмаршал, задержавшийся с распоряжениями, и увел молодых в соседнюю комнату.
– Ее величество назначила встречу в предъянтарной, – сказал он шепотом.
Из покоев Павла, через картинную и янтарную комнаты явилась Екатерина в сопровождении принца Генриха и свиты. Наследник Павел отсутствовал.
– Вот и ты, Настя, покидаешь меня, – сказала Екатерина. – Будь счастлива, бэби.
Невеста поцеловала руку императрицы. Приобретя мужа, она теряла положение камер-юнгфер. Жених припас короткую благодарственную речь:
– Общение с вашим императорским величеством всегда радостно. Счастлив каждый смертный, не обойденный вашим вниманием. Но гнездо, свитое под вашим покровительством, всегда будут посещать радость и счастье.
Через малиновую и парадную комнаты, кавалерскую столовую все были введены в просторную двухсветную галерею, где стол на тридцать четыре куверта напоминал сказочный луг, и Скавронские, Нарышкины, Голицыны, Горды, Врейхи, Вяземские и прочие, и прочие усаживались на штофные малиновые стулья из красного дерева. Рибас и Настя оказались визави с прусским посланником Сольмсом и гофмаршалом Врейхом. Встал Бецкий, и небесная духовая музыка смолкла. Тайный советник и кавалер говорил о человеческих достоинствах, воплощенных в российской монархине, и провозгласил ей многие лета.
Обед прошел чинно и без общих для всего стола разговоров. Новобрачные сидели от ее величества в четвертой паре. Мундшенк Екатерины подавал питье принцу Генриху и молодым, а кушаньями их обеспечивал форшнейдер. Речи говорили граф Миних и граф Шувалов. Но чему удивился жених, так это присутствием за обедом Алехо Орлова. Граф Чесменский ни с кем не говорил, был не только угрюм, но и коварен: сумел передать подслеповатому Бецкому блюдо-обманку, и тот тщетно пытался съесть фарфоровую вишню, чем вызвал всеобщее веселье.
Перед кофе Рибас произнес благодарственно-прощальную речь. Екатерина, окинув всех благосклонным взором, удалилась в свои покои. Принц Генрих допил кофе и отправился в покои Павла. Гости стали расходиться. Молодых свели в парк, усадили в открытую карету, и они отбыли в царско-сельский загородный дом.
Через два дня Настя, побывавшая во дворце, спросила Рибаса:
– А ты знаешь, за кого я вышла замуж?
– За бедного и преследуемого неаполитанца, – отвечал он.
– Еще хуже, – смеясь сказала она. – Я вышла за некоего капитана Иозефа Дубаса! Именно так записано в камер-фурьерском придворном журнале.
– Прекрасно, – отвечал он. – Мои недруги, заглянув в этот журнал, никогда не догадаются об истине.
Рибаса весьма заинтересовал обычай послесвадебных визитов. Посещение влиятельных лиц как нельзя кстати соответствовало его сокровенным планам пере; хода на дипломатическую службу. Он составил список, и первым в нем стояло имя Потемкина, который на свадьбе не присутствовал. Настя на это лишь рассмеялась:
– Ты опоздал. У императрицы сейчас на первых ролях Завадовский.
– Петр Завадовский? Подполковник?
– Теперь он генерал-майор. И кабинет-секретарь Екатерины.
– Я играл с ним в карты на Дунае. Он был причислен к штабу Румянцева.
– А теперь причислен в стан фаворитов и занял покои Потемкина в Зимнем!
– Но… что же с Потемкиным?
– Уехал в Новгород инспектировать войска.
Рибас вспомнил, что Настя скептически относилась к возможностям армейских офицеров сделать блестящую карьеру при дворе, и сказал об этом.
– Тут дело случая, – отвечала жена. – Просто понадобились свежие люди, а Румянцев рекомендовал Завадовского и его приятеля Безбородко.
– Александра? Я познакомился с ним в Кучук-Кайнарджи.
– Теперь он статс-секретарь императрицы.
Но вскоре после этого разговора Настя узнала, что вернулся Потемкин, вновь околдовал императрицу. Завадовского отправили в Малороссию и дали на прощанье восемьдесят тысяч, пять тысяч рублей пенсии, две тысячи польских крепостных, восемьсот российских и серебряный сервиз, стоимостью в восемьдесят тысяч. Настя объявила, что готова нанести визит Потемкину.
– Екатерина подарила ему Аничков дворец, сто десять тысяч на меблировку, – перечисляла она. – Он стал князем Римской империи с титулом Светлейшего. Мать его, Дарья, теперь статс-дама. Ко двору приближены его сестры и племянницы. Он награжден прусским орденом Черного Орла, датским орденом Слона, шведским Серафима.
Но к ее крайнему удивлению муж отказался от визита.
– Мне не с чем к нему идти, – сказал он. – Этот человек ненасытно честолюбив, в чем я ему помочь ничем не могу. Прийти просто так, отдать дань послесвадебному обычаю? Он воспримет меня как человека, желающего присоединиться к его удаче. Мне нечем поразить его воображение и пресыщенность. К таким людям идут, имея вселенские идеи.
Отчасти эти мысли Рибаса нашли подтверждение при встрече с Александром Безбородко в Царскосельском парке. Это был уже не тот молодой непосредственный офицер, а сановник, разговаривающий снисходительно как особа, приобщенная великих тайн. Когда речь зашла о Потемкине, Рибас спросил:
– Князь удостоит неисчислимых почестей, по что заботит его?
– Хан Шахин Гирей и заселение края, размерами равного Франции, – отвечал Безбородко. – Турки высадились в Крыму, в Кафе и посадили там своего хана Девлет-Гирея. Хан Шахин-Гирей, благоволящий России, просит помощи.
– Это война?
– Светлейший не хочет ее. Для устройства и заселения Новоросии потребен мир.
Все это было далеко от планов Рибаса, но и визиты к Льву Нарышкину и генерал-прокурору Вяземскому не способствовали их осуществлению. Канцлер Никита Панин оказался человеком с пухлыми щечками и живыми детскими глазами. После поздравлений за обеденным столом, Рибас спросил без обиняков:
– Если Неаполь выскажется за сближение с Петербургом, вы пойдете на обмен посланниками?
– Разумеется, – отвечал сановник. – Но до этого далеко.
Майору кадет впору было бы спросить: «Не назначите ли вы меня в это посольство?» Но действовать приходилось исподволь. Он снова написал Магони в Вену и обсуждал с женой: уместно ли молодым навестить наследника Павла? Но и тут Рибас опоздал. Майская свадьба Насти и Рибаса словно открыла шлюзы матримониального петербургского потока.
Павел, совсем недавно похоронивший жену-изменщицу, умчался в Берлин, где участвовал в военных учениях Фридриха II и посватался к голубоглазой принцессе Софье-Доротее. Екатерина присмотрела ее еще во время сватовства Вильгельмины. Но обнаружилось препятствие: Софья-Доротея оказалась помолвленной. Тогда экс-жениху тут же вручили от Екатерины подарки, десять тысяч пенсиона, и он вернул слово, данное Софье. Все устроилось.
Следующей жертвой Гиминея пал бывших фаворит Григорий Орлов, который после небольшого клерикального скандала женился на своей двоюродной сестре восемнадцатилетней Екатерине Зиновьевой. Многие считали эту свадьбу противозаконной. Но Зиновьева была дочерью петербургского коменданта, императрица сделала ее своей статс-дамой, наградила орденом Святой Екатерины, и разговоры утихли. Тем временем Алехо Орлов присматривал невесту в Москве. Невеста же Павла Софья-Доротея вскоре прибыла в Петербург, ее миропомазали и нарекли Марией Федоровной. Во время бракосочетания остепенившийся и женатый сатир Григорий Орлов держал венец над головой Павла, а Бецкий над головкой юной Софьи-Доротеи – Марии Федоровны. Затем последовали нескончаемые балы, гулянья, фейерверки и маскарады.
Лето и осень пролетели в один миг. Для Рибаса ничего не изменилось. Писем из Вены не было. Муштра и казарменный распорядок не касались Алеши Бобринского. Рибас жил с ним в корпусе на особом положении. Завтракали они в своих комнатах. После занятий обедали у Бецкого. И после одного из обедов Рибас узнал от Насти, что сети Гименея опутали и самого Ивана Ивановича!
– Как? Ему уже семьдесят один, – не верил Рибас. – Но он отлично сохранился! – восклицала удрученная Настя.
– Кто же его избранница?
– Ты не поверишь. Глори Алымова. Девятнадцатилетняя Глафира Алымова закончила Смольный первой ученицей, получила денежную награду, белую ленту с двумя золотыми полосами и была произведена во фрейлины не чаявшей в ней души императрицы. Главное – одержимый страстью Иван Иванович поселил ее у себя во флигеле, откуда часто разносились окрест небесные звуки арфы, на которой Глафира играла не хуже, чем Терпсихора на лире.
– Но она знает о намерениях Ивана Ивановича? – спрашивал Рибас жену.
– Еще бы! – восклицала, задетая за живое Настя. – Она, представь, сама говорила мне, что считает себя предметом всех его мыслей и чувств. Тогда я сказала, что он знает ее с семилетнего возраста, когда ему было под шестьдесят! Но она отвечала, что никто в мире не полюбит ее так, как он, с такой страстью. Более того, Иван Иванович поклялся матери Глори перед ее смертью, что никогда не бросит любимое чадо, будет опекать и женится на ней!
– Невероятно.
– Невероятно другое. Глори хочет видеть Ивана Ивановича своим мужем, отцом, благодетелем и ребенком!
В доме на дворцовой набережной закипал вулкан, и это было надолго. И дело состояло не в том, что Настя ревновала, а в том, что она теряла привычное положение хозяйки дома. Этого Настя перенести не могла и, конечно же, начались мелкие интриги, от которых Рибас бежал в корпус. Но во время великого поста на одном из обедов у Бецкого он узнал такое, что могло вышибить его из седла.
Началось с безобидных нападок Насти на Мельхиора Гримма, который вновь объявился в Петербурге на бракосочетании Павла. На обеде присутствовали генерал-прокурор Вяземский, Эрнст Миних, Алымова, Алеша, секретарь Хозиков, преподаватель кадетского корпуса Лехнер и дежурный кадет.
– Для меня лично ханжество нестерпимо, – заявила Настя, поддев вилкой брюссельскую капусту. – Но что. же это? Мельхиора Гримма снова уговаривают остаться в Петербурге, занять любую должность… – Она посмотрела на Бецкого и этим дала понять, чью должность может занять Гримм. – Ему сулят баснословные деньги. А тем, кто неутомимо трудится, не обещают ничего.
С Настей никто не спорил. Она была беременна. Но Алымова все-таки сказала ей в пику:
– К Гримму прислушиваются многие государи Европы.
– Прислушиваются, но не слушают! – возбужденно парировала Настя. – Мне, к примеру, пишут из Англии, Дании, но я не публикую эти письма в своей «Литературной корреспонденции» и не сплетничаю публично о государях.
– Я, помнится, познакомился с Гриммом в салоне мадам Жоффрен, – сказал Бецкий. – И, помнится, Гельвеций называл его ловцом душ.
– Это тонкое искусство, – сказала Алымова.
– Это искусство, от которого в России есть икона святого Нифонта – прогонителя бесов, – ответила Настя.
– Воистину так, – неожиданно поддержал ее Лехнер. – Из Европы и в наш шляхетский корпус много порчи идет. Кадеты играют в карты и в бильярд на деньги.
Это был камешек в огород Рибаса. Майор закрывал глаза на то, что и Алеша играл на деньги. Когда педант Лехнер заглядывал в кадетские спальни, воспитанники поспешно прятали карты. Рибас почувствовал необходимость высказаться на эту тему.
– Все общество, и даже самое высшее, играет, – сказал он.
– Да! – воскликнул Лехнер и с такой злобой взглянул на Рибаса, что тот удивился. Лехнер продолжал: – Но это порок! А у нас некоторые потакают ему, растлевая души.
– Ах, оставьте, – сказал генерал-прокурор Вяземский. – Я вчера проиграл императрице девяносто рублей. Завтра буду отыгрываться. Ваши воспитанники должны быть готовы к жизни, чтобы не проигрывать.
Лехнер не отвечал, но Рибас понял, что в корпусе у него появился несомненный и злобный враг.
– Что пишут из Италии, милейший Иосиф Михайлович? – спросил Бецкий, переводя разговор в другое русло, и Рибас коротко сообщал, что в Неаполе «испанская партия» отступает, первый министр Тануччи вынужден подать в отставку, а королева стремится к независимости во всех делах. Главную новость он выложил перед Бецким как козырь в виде миланской «Литературной газеты», недавно присланной отцом вместе с письмом. Дон Михаил случайно обратил внимание на фамилию Бецкий в этой газете, удивился: писали о тесте его сына. Среди необозримых трудов Ивана Ивановича были и два томика о воспитании молодого поколения. Труд сей издали в Амстердаме под редакцией Дидро. А миланская «Литературная газета» напечатала о книге хорошую рецензию. За столом ее зачитали вслух, Бецкого поздравляли, а генерал-прокурор сказал:
– Все это весьма кстати, так как есть новость. Неаполитанский король первый из итальянских государей высказал желание завести с нами дружеские сношения через министров-послов.
Рибас был ошеломлен. Не выказывая своего волнения, он спросил:
– Когда же Фердинанд высказал это желание?
– Осенью.
– А как это стало известно?
– Через испанского посланника в Вене, – отвечал Вяземский.
Так, Магони сделал свое дело, а Рибас, затеявший все это предприятие, ничего не знал о результатах! Его обошли. О новости, кровно интересующей его, он узнает случайно. Императрицу Рибас видел почти каждую неделю, но она лишь интересовалась успехами Алеши.
– Будет ли обмен послами между Неаполем и Россией? – спросил он.
– Конечно, – ответил Вяземский.
Новость радовала и удручала тем, что кто-то не хотел, чтобы он, Рибас, был причастен к дипломатии Неаполя и России. Значит, надежда стать в Неаполе российским посланником, неосуществима? Кто приложил к этому руку? Ризелли? Кто-то в Петербурге? Нет, так просто он не откажется от своих намерений.
Через несколько дней, собираясь в Зимний дворец, он вдруг услыхал от Алеши:
– Мне дали понять, что государыня вовсе не была приятельницей моей матери.
– А кем же? – Рибас давно был готов к тому, что рано или поздно Алеша узнает истину.
– Мне намекнули, что она моя мать.
«Что ответить ему? Он давно не ребенок. В апреле исполнится пятнадцать».
– Пойми. Всегда найдутся люди, которые из коварства натуры или из зависти захотят покончить с хорошим отношением к тебе императрицы. Если ты дорожишь ее добротой и доброжелательностью, ни с кем не говори об этом. Пока для тебя это самое лучшее.
– Но скажите: она – моя мать?
– Ты все узнаешь в свое время. А пока, если подобный разговор возникнет не по твоей воле, сумей пресечь его.
В Зимнем императрица играла с Алешей в бильярдной и откровенно любовалась ловкостью сына.
– Поздравляю вас, майор, – сказала она Рибасу. – Неаполь и Петербург скоро обменяются посланниками. Нам стало известно, что Фердинанд IV направляет в Петербург Франческо де Аквино князя Караманико. Знаете ли вы что-нибудь о нем?
– По правде говоря, – ответил не сразу Рибас, – я знаю от отца, что князь Караманико далек от практических дел. Вряд ли его увлечет это назначение.
– В этом мы ему поможем, – улыбнулась Екатерина.
«Теперь или никогда, – решил Рибас. – Надо, как Потемкин, просто попросить ее и сказать: «Я, ваше величество, мечтаю стать вашим посланником в Неаполе. Ведь даже Мельхиору Гримму перед его отъездом в Париж вы дали чин статского советника с содержанием в. две тысячи в год». Для начала он сказал:
– Очень важно, ваше величество, кто из России отправится посланником в Неаполь.
– О, эта персона хорошо известна и всем дурным, и всем хорошим, что в ней есть. Мы решили послать в ваши края молодого графа Андрея Разумовского. Правда, пришлось составить для него подробные инструкции, чтобы его увлечения не помешали ответственной миссии.
Все было кончено! Граф Андрей получил шестнадцать статей наставлений из Сената, пять тысяч прогонных денег, восемь тысяч годового жалования, четыреста рублей на канцелярские расходы, выехал из родового Батурина в Вену и надолго застрял там, благо знакомств, развлечений и романтических связей венский двор представлял в избытке. Посол из Неаполя князь Караманико ни в Петербурге, ни в Вене так и не появился.
Но надежда не оставляла Рибаса. Ведь при графе Андрее, полномочном после-министре, полагалось быть секретарю. Так что существовала еще возможность для майора прибыть в Неаполь с дипломатической охранной грамотой, с которой наверняка посчитаются Ризелли. Но для этого нужно немедленно отправиться к канцлеру Панину, что он и сделал. Сенатский секретарь объявил, что Никита Иванович отбыл на неопределенный срок в свои поместья. Иностранными делами, как сказал потом Бецкий, ведает теперь весьма недалекий Иван Остерман и весьма осмотрительный статс-секретарь Екатерины Александр Безбородко.
На следующий день Рибас собрался к знакомцу по Кучук-Кайнарджи, бывшему подполковнику Безбородко, но неожиданный визит Антонио Джики прервал сборы и положил конец всем его намерениям. Антонио наполнил рибасовы кадетские кельи шумом, смехом и восклицаниями:
– Я только что из Италии! Коптил небо в Ливорно! Чистил перья остаткам российского флота вместе с Иваном Ганнибалом.
Он был во фраке песочного цвета с веером складок сзади.
– В каком ты чине?
– Майор, как и ты. Но угадай: куда я еду из Петербурга?
– Зная независимость твоего характера, предполагаю, что ты отправляешься в Америку. Прошлым июлем там приняли «Декларацию независимости», – отвечал Рибас.
– Нет! Я еду к подножию благословенного Везувия, в Неаполь! Представляю отвисшие челюсти неаполитанских шулеров, когда я заявлюсь туда в качестве секретаря при русском посланнике графе Андрее!
Последние надежды рухнули. Джика получил отличные рекомендации Орлова-Чесменского, успел опередить Рибаса с представлением от Сената, на котором Екатерина написала: «Пусть займет сию должность», получил тысячу двести рублей годового содержания и умчался в Вену, где незамедлительно присоединился к «скромным» развлечениям воспрянувшего духом графа Андрея Разумовского.
Итак, устремления на поприще дипломатии кончились ничем. К тому же, словно в насмешку, в Петербурге заговорили о мосте через Большую Неву… Академия Наук праздновала свой юбилей, и механик Кулибин выставил на всеобщее обозрение модель моста, над которой он работал несколько лет. Модель была в десять долей от истинной ширины Невы и состояла из настила бревен, каждый верхний ряд которых при строительстве выдвигался вперед, пока не соединялся посередине с бревнами, наводимыми с другого конца-моста. Мост представлял из себя безопорную, но весьма крутую арку. Модель держала соразмерные ей тяжести, что «действительными опытами изведано было». Академики решили, что она «совершенно доказательно верна для произведения ея в надлежащих размерах». Весь Петербург поспешил посмотреть на дело рук механика, как на чудо света. Рибасу мост понравился гениальной простотой. А Петербург насмотрелся, навосхищался игрушкой, потом ее снесли в подвал и окончательно похоронили на дровяном складе Академии.
Досада на собственную нерасторопность, упущенная возможность достойно вернуться в Неаполь, отошли на второй план, когда утром в покои кадетского корпуса вбежал дежуривший у Бецкого кадет и выпалил:
– Поздравляю вас, господин майор! Ночью у вас родилась дочь!
Рибас помчался на Дворцовую, и Настя, на редкость легко перенесшая первые роды, сказала безапелляционно:
– Мы назовем ее Софьей и дадим ей воспитание, достойное ее имени.
Посыпались поздравления. Софью крестили в церкви Зимнего дворца. Императрица с охотой выразила желание быть крестной матерью ребенка. Рибасу она сказала при этом:
– Хорошо, что у бэби родилась девочка. У меня в них большая нужда. В империи почему-то все одни солдаты рождаются.
Отцовские обязанности господина майора были невелики, но с рождением Софьи в доме на Дворцовой воцарился мир и покой. Бецкий души не чаял в новорожденной, его страсть к юной Глафире поутихла, и звуки арфы из флигеля приобрели окраску тревожных раздумий и печали.
Фавориты Екатерины, несмотря на постоянное главенство светлейшего Потемкина, продолжали свое шествие через покои императрицы. Настя, вернувшись после прогулки из Летнего сада, объявила:
– У нас новый фаворит.
– Кто на сей раз скрашивает одиночество моей компаньонки? – вопросил Бецкий, не прекращая наслаждаться ароматным французским супом.
– Некто Зорич.
Рибас смутно помнил это имя и спросил:
– Не тот ли, что попал в плен к туркам на Дунае?
– Именно он. – Отвечала Настя, присаживаясь к столу. – Он жил в Константинополе, вернулся при размене пленных, за молодцеватость взят в лейб-гвардию и, вроде, был адъютантом у Потемкина. Но соль вот в чем. Едва Потемкин уехал губернствовать в Новороссию, как Григорий Орлов свел красавца-гусара с Екатериной, и этим отомстил своему ненавистнику Потемкину. Зорич теперь в орденах, и генерал-майор, и адъютант государыни, и корнет кавалергардов. Спешите, господа, поклониться новому фавну-гусару!
Но Зорич недолго блистал при дворе. Потемкин вернулся, стал теснить молодца, тот вызвал его на дуэль, а перепуганная императрица откупилась от Зорича тысячами крепостных, подарила местечко Шклов, где гусара уже ждал миллион рублей собранного дохода. На небосклоне фаворитов вставала звезда девятнадцатилетнего Александра Ланского, которым руководил Потемкин, а сорокавосьмилетняя Екатерина приглядывалась к его мужественному стану и прекрасному цвету лица. Свежесть лица Ланской унаследовал от своих польских предков, а стан сформировал в конной гвардии.
Жизнь Рибаса, жажда собственного дела и собственной удачи тонули в домашних пересудах, ничтожных корпусных дрязгах. Поэтому господин майор со всех ног поспешил к вернувшемуся из путешествия по Уралу Виктору Сулину: теперь было с кем посоветоваться обо всем. Виктор, разбирая коллекцию минералов, выслушал рассказ о перипетиях жизни Рибаса и высказался определенно:
– Прежде, чем начинать попытки сделаться дипломатом, вам, Джузеппе, надо было вступить в масонскую ложу.
– Вы серьезно?
– Конечно. Сейчас в Петербурге масонских лож больше, чем ямщиков. Елагинская ложа, Дубинская, «Урания», Розенберга, Рейхеля. А люди в них какие – князья Гагарины, Репнины, Куракины. Я уверен: будь. вы масоном, братство непременно помогло бы вам.
Рибас задумался. Виктор вручил ему книгу Сен-Мартена «О заблуждениях и истине», велел изучить ее.
Над библией мартинистов Рибас зевал несколько, дней и вернул книгу Виктору со словами:
– Это не для меня.
– Конечно, – согласился Виктор, – тут галиматьи изрядно. Но если вы все еще хотите оказаться дипломатом в Неаполе, лучших покровителей вам не найти. Я советую вступить в шведскую ложу князя Гагарина.
– Почему?
– В Швецию недавно ездили Розенберг и князь Куракин и они были посвящены там во все степени масонских тайн.
Оказывается, в Петербурге шла бурная и неведомая Рибасу жизнь. Вздохнув, он согласился вступить в ложу больше из любопытства, чем из уверенности в помощи масонов. Передав Виктору вступительный сторублевый взнос, в один из вечеров он приехал в гагаринский особняк, где его оставили наедине с незнакомым человеком в алой накидке. Незнакомец завязал Рибасу глаза, взял за руку и куда-то повел. Шли долго, кружили на месте, поворачивали, пока Рибас не услышал вопрос:
– Зачем вы вступаете в наше братство?
Виктор предварительно учил его ответам, но теперь Рибасу вдруг захотелось отвечать по-своему.
– Чтобы вместе попытаться хотя бы определить: что истинно, а что ложно.
– Что есть истина?
– Это то, что мы ищем, но не находим.
– Зачем вам тщета этих поисков?
– Я не знаю. Возможно, такова натура человека.
– Что есть человек?
– Разве можно ответить на этот вопрос в двух словах?
С него сняли кафтан и обнажили грудь, сдернули рубашку к плечам. Сняли с пояса часы, с левой ноги башмак, вывернули карманы и обнажили левое колено. Снова повели куда-то с завязанными глазами, дали в руки молоток и приказали ударить о дверь, которую он нащупал свободной рукой, три раза, после чего дверь, неприятно заскрипев, отворилась. С него сняли повязку и закрыли в темнице, где на столе светился череп и лежала книга. Он пробыл тут довольно долго, рассеянно перелистывая книгу, оказавшуюся Библией, и удивляясь собственной впечатлительности и необычному душевному состоянию. Вдруг за спиной послышался голос:
– Читайте со страницы, на коей раскрыта книга сия.
Он прочитал: «После чего Иисус вышел и увидел мытаря, именем Левия, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: следуй за мною. И он, оставив все, встал и последовал за ним».
– Истолкуйте прочитанное, – послышался голос.
– Слово бывает всемогущим, – отвечал Рибас.
– Что вы думаете при этом?
– Есть ли в вашей ложе сборщик податей?
– Вы бедны?
– Нет.
Он три раза оказывался в темницах, открывающихся после троекратного стука молотком. Его заставили прыгать с завязанными глазами через ямы, преодолевать рвы. Потом ввели в прохладное и, видимо, большое помещение, где, как он понял, было много людей. Его расспросили: кто он и откуда, сняли повязку – возле своей обнаженной груди Рибас увидел три меча, а по груди текла кровь. Когда и кто рассек кожу он не мог понять. Густеющую кровь соскребли в чашу, протерли грудь губкой и он повторял за кем-то слова клятвы:
– Жертвую именем и жизнью во имя братства. Присягаю братству, присягаю тайнам, присягаю навечно. Изменю – предам душу вечному проклятью, а тело – смерти от суда братьев.
Ему велели выйти и одеться. Когда он вернулся, его провели по ковру со странными узорами, среди присутствующих он не мог узнать даже Виктора – свет шел из черепа на столе, где лежали молоток, линейка и циркуль. Незакомые люди троекратно обнимали Рибаса, затем указали его место и объявили, что он возведен в степень учеников и товарищей. Потом начался странный разговор, в котором новообращенный не мог уловить никакого смысла, но вдруг почувствовал себя уставшим, как от тяжких трудов.
Вступление в гагаринскую ложу оказалось удачным, так как король шведский Густав III сразу после этого прибыл в Петербург. Придворные яхты вместе с фрегатом «Святой Марк», которым командовал далеко не святой знакомец Рибаса по Италии Марк Войнович, встречали шведского цезаря у Березовых островов. Марк Иванович недавно вернулся из Ливорно, и Рибас только намеревался встретиться с ним.
Екатерина приняла короля в тронном зале. Бецкий сопровождал его в Академию художеств, Петергоф и Ораниенбаум, где демонстрировал успехи в живописи и строительстве. Густава III чрезвычайно заинтересовало то обстоятельство, что отец Бецкого Иван Трубецкой был пленен шведами под Нарвой в 1700 году в числе 780 офицеров, прожил в Швеции восемнадцать лет, пробовал бежать и за его поимку назначили четыре тысячи, посадили в стокгольмские казематы, но именно в это время появился на свет мальчик, которого воспитывала не мать-баронесса, а Ирина Нарышкина, законная жена Трубецкого, приехавшая к плененному мужу в Стокгольм из терема. Ваня учился в шведском кадетском корпусе, стоял на часах при шведском знамени и ходил в ночные караулы.
Густав III весьма тепло отнесся к полушведу Ивану Ивановичу.
– Ваша академия – величайшая в мире. Ваши дворцы сравнимы лишь с эллинскими, – рассыпался в похвалах король. В шляхетском корпусе Густав онемел: кадеты маневрировали, стреляли, рыли ретрашементы, брали крепость. Это были учения, но завтра все могло быть по-настоящему.
Ночью, тайно, Густав посетил гагаринскую ложу, где масон Рибас слушал его речь, посвященную не столько нравственному самопознанию, сколько необходимости приобщать к шведско-масонским догматам цезарей мира сего. Позже Виктор сказал:
– Он встречался с Павлом, передал ему масонские книги с явной целью сколотить крепкую прошведскую партию в Петербурге.
Бецкий по-своему истолковал визит короля:
– Густав приезжал, чтобы мы помогли ему сберечь шведскую Померанию от притязаний Фридриха II. Наследник Павел жаловался Никите Панину, что король нелестно отзывался о его кумире – Фридрихе.
Так или иначе, но вступление Рибаса в ложу ничем не сказывалось на его карьере. Более того, оно было ознаменовано неслыханной ночной бурей. Утром кадеты прилипли к окнам, стараясь разглядеть любское судно с яблоками, вынесенное на Васильевский отров. Другой купеческий корабль бушпритом въехал в Зимний дворец. По Невскому ходили шлюпки, плавали дома и заборы, а одна изба переплыла Неву. В саду кадетского корпуса буря разметала беседки, павильоны, гроты. В Летнем саду, где регулярный стиль сменился пейзажным и деревья перестали подрезать, их вывернуло с корнями. Многие скульптуры погибли. «Венеру Таврическую», которую еще Петр I выменял на мощи святой Бригитты, успели спасти.
Со шпиля собора Петра и Павла ураган сорвал крылатого ангела, и очевидцы утверждали, что он перелетел Неву и спрятался в покоях императрицы. Генерал-фельдмаршал Голицын из необозримых просторов своей фантазии извлек идею: устроить в городе фонтаны, «кои вытянув воду с улиц, кидали бы ее в облака». Но государыня усомнилась: если не будет ветра, «ожидать надлежит великих дождей». Одним словом, фонтаны так и не заработали, но мысль у людей била ключей.
Этого нельзя была сказать о жизни майора Рибаса. Правда, вскоре его возвели в степень полноправного брата ложи, посвятив в масонские символы и иероглифику. Фигурой прямоугольника обозначалась сама масонская ложа, длина которой от востока до запада, ширина от севера до юга, высота от земли до неба, глубина – от земли до ее центра. Это знаменовало всеобщность и универсальность масонства. Ложу часто называли Соломоновым храмом, ибо он возвел его не только для последователей Моисея, но для людей всякого вероисповедания. Рибас узнал, что ему предстоит познать невидимое через видимое, духовное через телесное.
Объяснились и странности обряда посвящения. Лишение кафтана и ценностей означали ничтожность внешнего блеска. Необутая левая нога – символ дружбы и взаимопонимания. Обнаженное колено олицетворяло собственное бессилие и надежду на братство. Линейка означала равенство, циркуль напоминал о необходимости управлять своими действиями, молоток – символ молчания, повиновения, совести. Все это было любопытно, но Рибас путался в значениях наугольников, лопаточек, семисвечников, диких камней, колонн, ступеней, столбов, гробов, костей, чертежных досок и… пеликанов. Правда, легко запомнил, что круглая шляпа означает равенство, а где равенство – там уж и свобода.
– Не смейтесь, – увещевал Рибаса Виктор. – Это все внешнее. А первое старание масонов состоит в том, чтобы разбудить общество, заронить в него зерна недовольства окружающим, увлечь стремлением к лучшему. Масоны содержат на свои деньги студентов, посылают учеников заграницу, открывают народные училища, издают книги, журналы, создают библиотеки, защищают униженных, голодных и обездоленных. Для теперешнего состояния России все это неоценимо.
– Но как я могу участвовать во всем этом? – спрашивал Рибас.
– Вы уже участвуете своими денежными взносами, – отвечал Виктор.
Два обстоятельства отвлекли на некоторое время господина майора от масонских забот. Первое состояло в том, что в корпусе его назначили цензором, в обязанности которого входило составлять списки кадетов с отметками их успехов перед экзаменами, чтобы экзаменаторы были осведомлены «к чему природа их приглашает». У цензора голова шла кругом от минимальных и максимальных баллов, изобретенных Бецким. За знание грамматики полагалось воспитаннику от одного до девяносто восьми баллов. За успехи в физике и арифметике от одного до ста двадцати. А за российское письмо почему-то начислялись баллы от одной восьмой до двух. Цензор складывал число баллов и определял лучших кадетов. Алеша Бобринский был не в их числе.
Второе обстоятельство, весьма важное для новоиспеченного цензора, заключалось в том, что в Петербург, наконец, прибыл первый неаполитанский посланник Муцио де Гаэта герцог Сан-Никола. Дон Михаил писал сыну, что герцог Сан-Никола с большой неохотой согласился вступить в эту должность. Образованнейший человек, он предпочитал книги живой беседе и любил уединение. Выждав, пока пройдут официальные приемы, Рибас отправился к посланнику.
Сан-Никола оказался обаятельным человеком с внимательно-улыбчивым лицом. Встретил Рибаса без парика, в шлафроке, темные вьющиеся волосы, зачесанные назад, подчеркивали необычайно высокий лоб. После нескольких фраз на итальянском, герцог спросил на чистейшем русском:
– Давно ли вы живете в России?
– Шесть лет, – машинально ответил Рибас и спросил в свою очередь:
– Вы знаете русский?
– К несчастью. Да, к несчастью, выучить любой язык для меня не составляет никакого труда, – отвечал герцог. – Когда королева узнала об этом, меня и назначили послом в Россию. Правда, в Вене я взял несколько уроков у графа Разумовского.
– Поразительно. Вы будете иметь успех у русской императрицы.
– Я его уже имею, – грустно сказал Сан-Никола. – На ближайшие полгода я приглашен на все праздники, торжества и балы. Ни одного свободного дня!
– Для вашей миссии это прекрасно.
– Но не лично для меня. Я заинтересовался совершенно неизвестной в Европе российской словесностью и хотел бы переводить труды русских сочинителей. Вы знаете Хераскова?
– Нет.
– Я тоже. Воспитанник императрицы Александр Ланской дал мне несколько его сочинений. Весьма занимательно.
Стол герцога был завален русскими книгами, газетами и журналами, среди которых Рибас заметил только что начавшие выходить «Санктпетербургский вестник» и «Санктпетербургское еженедельное приложение».
«Не удивлюсь, что в скором времени неаполитанский посол заткнет за пояс весь дипломатический корпус», – подумал Рибас.
– Я знаю вашу историю, – вдруг заявил Сан-Никола. – И, чтобы меж нами не было недоразумения, скажу больше: Ризелли встречался со мной в Неаполе и просил об одолжении: узнать и сообщить ему, что вы делаете в Северной Пальмире, чем живете и каковы ваши намерения.
– Благодарю вас за откровенность.
– Мне написать ему о вас?
– Как вы сочтете нужным.
– Я думаю, это стоит сделать, – сказал, раздумывая, герцог. – Ваше положение при русском дворе прочно. Вас ждет блестящая карьера. Ризелли пора прикусить язык. Им пора знать, что у вас высокие покровители.
– Благодарю.
Сан-Никола принял приглашение отобедать у Бецкого, а Рибас в мыслях повторял слова герцога: «Вас ждет блестящая карьера», – и восклицал про себя: «На черт побери, на какой стезе я ее совершу, если все, что я ни начинаю, кончается ничем!»
У наследника Павла родился сын, и восприемницей его была венценосная бабушка, а в доме Бецкого не без иронии читали аллегорические стихи из «Санктпетербургских ведомостей»: «В счастливых областях России, чрез плод от Павла и Марии, с Олимпом свой ровняют край». Плод нарекли Александром, и Настя заявила, что имя выбрано вследствие нежных отношений Александра Ланского и императрицы.
Герцог Сан-Никола сделался любимцем Екатерины, а уж «воспитанник» Ланской в нем души не чаял. Своему статскому советнику Мельхиору Гримму императрица писала в Париж: «Я вовсе не буде рада отъезду дюка Сан-Никола. Он сделался близким другом генерала Ланского. Уходя, он запирает его на ключ у себя в библиотеке с тем, чтобы по возвращении с ним видеться… мне бы хотелось, чтобы неаполитанский двор не отзывал его отсюда».
Петербургский климат вмешался в отношения неаполитанского посланника и Екатерины. И, несмотря на милости государыни, климат брал верх. Сан-Никола бомбардировал Неаполь письмами с просьбой отозвать его и скрашивал томительное ожидание переводами нравственно-воспитательных эссе Екатерины, которые она сочиняла для своего внука Александра. Государыня восхищалась тем, что Сан-Никола «говорил по-русски, как русский», поэтому и его переводы из Хераскова знатоки считали столь изящными, сколь и точными.
«Вас ждет блестящая карьера», – часто вспоминал Рибас слова Сан-Никола. «Уж не поприще ли масонства, где я уже имею учеников», – усмехался он. Бецкого пока вполне устраивало, что его зять вхож в Зимний, с успехом опекает Бобринского и имеет славу находчивого человека. Но это никак не устраивало господина майора, и у него возник простой план. Русские офицеры для лучшей выучки часто направлялись в Англию, где их определяли во флотские службы. Николай Мордвинов, над которым на памятном балу подтрунивали, что он сам себе адьютант, теперь плавал у берегов Америки… и свежие норд-осты воображения наполнили нетерпеливые паруса господина майора.
Он отправился к Бецкому, почти бегом взбежал на второй этаж, но увидел постное лицо секретаря Хозикова. В доме было непривычно тихо.
– Что случилось? – спросил он у секретаря.
– Умер, – был ответ.
– Кто умер?
Марк Антонович всплеснул руками, махнул в сторону кабинета и, ни слова не говоря, раскрыл перед ним двери. «Господи, да неужели…» – мелькнуло в голове Рибаса, но Бецкий сидел за столом, опустив голову на руку. Через минуту выяснилось, что умер Вольтер. Известие о смерти великого отшельника-энциклопедиста пришло только что, и Бецкий объявил в доме траур. Говорить с ним об отъезде в Англию не имело смысла. Иван Иванович собирался к императрице в Царское село, говорил, что племянница Вольтера продает его вещи, а, главное, библиотеку.
– Я думаю, она купит ее, – говорил Бецкий. – И украсит Эрмитаж прекрасной гужоновской скульптурой моего незабвенного друга.
Проводив безутешного Ивана Ивановича к карете, Рибас отправился по Дворцовой набережной пешком и увидел напротив Зимнего ошвартованные галеры. Среди офицеров и суетящейся команды он различил знакомую крепко скроенную фигуру Марка Войновича. Обрадовавшись встрече, они коротко переговорили, и вечером Марк Иванович был у Рибаса в кадетском. За ужином вспоминали Италию.
– На своей «Славе» я из Средиземного плавал в Черное море, – рассказывал Войнович. – До самой Тавриды и назад через Босфор и Дарданеллы. Конечно, для турок мы выставили коммерческую цель плавания. Но на самом деле наши сканечные журналы – клад для Адмиралтейства. И берега, и проливы в них подробно описаны.
В Петербурге Войнович состоял среди офицеров на шлюпке ее величества. О проекте Рибаса отправиться в Англию отозвался скептически. Все время говорил о» Тавриде, Крымском ханстве, сетовал:
– Жаль, что Алексей Орлов отошел от дел. Потемкин суетлив. Орлов в Новороссии быстро бы навел порядок.
– В корпусе мне совсем невмоготу, – сказал Рибас. – Нет, я отлично устроен. Но… Что вы мне посоветуете?
– Конечно же, Новороссию, – убежденно ответил Войнович. – Это клад для людей, ищущих дела.
Непредвиденные события заставили на время забыть о всех планах. Письмо Дона Михаила о приезде Эммануила задержалось в пути, и брат свалился на Рибаса, как снег на голову.
– Ты мне обещал, что я буду рядом с тобой. Я приехал.
Рибас откровенно любовался Эммануилом. Они не были похожи. Волевое, но отнюдь не лишенное приятного обаяния лицо господина майора, его стать, в которой угадывалась большая физическая сила – все это Рибас унаследовал от отца. Эммануил, напротив, мягкими чертами лица, хрупкостью юношеской фигуры напоминал мать. Рибас поселил его у себя в корпусе, начал хлопоты по устройству брата в какую-нибудь службу и тут впервые пригодились его масонские связи. Генерал масон Мелиссино, которому замолвили слово о брате масона Рибаса, принял его поручиком в кадетский корпус. Эммануил был в восторге, и брат отвез его на кадетском тарантасе через Тучков мост на соседний Петровский остров, где у реки Ждановки расположились неказистые строения артиллерийского корпуса, а на плацу стояли четыре пушки в красных лафетах. Служба брата началась в роте воспитанников первого возраста.
С приездом брата господин майор ясно осознал: минуло три года! И чем они были заполнены? Составлением бесконечных списков кадет, масонскими бдениями, визитами Екатерины к Бецкому, во время которых воспитанники корпуса представляли французские оперы-комик, посещениями оперного дома, где арапчонок Азор играл африканского вельможу и раздавал особые билеты, по которым доверенных лиц пропускали в покои Екатерины, а там у карточных столов стояли ящики с бриллиантами, каждый в один карат, и при игре в макао, когда выходила девятка, выигравший брал из ящика один бриллиант… Три года пролетели, а вспоминались лишь неудачи, бесконечные дождливые дни, эрмитажные собрания, на которых статс-секретарь Безбородко внимательно прислушивался к беседам, и если кто-то говорил: «На Волге поймали сома, а в нем нашли гусли, ногу в сафьяновом сапоге и коробочку с толчеными французскими мухами от укуса бешеных собак», такого господина вели к императрице, он повторял свою историю, и с него брали десять копеек медью за вранье, деньги опускали в специальную копилку, которой заведовал статс-секретарь. При этом Екатерина говорила:
– Люблю послушать превосходное вранье.
– Тогда пригласите в Эрмитаж первый департамент Сената и будете довольны, – отвечал Безбородко, а государыня смеялась: первый департамент заведывал полицией.
В эти годы Гименей перестал тревожить стариковский сон Бецкого. Настя сумела отдалить от него юную Глафиру, и генерал отвел ее под венец. Она вышла замуж за Алексея Ржевского – человека статского и сочинителя стихов. В эти годы Алеша Бобринский превратился в шестнадцатилетнего замкнутого и скрытного юношу, изучающего военные науки и закон божий, и легко краснеющего на балах под взглядами юных смольнянок. В эти годы неаполитанец де Рибас одолел крепость под названием русский язык и узнал весь Петербург. Но заглядывая себе в душу, он находил беспокойство и неудовлетворение.
Начало 1779 года не предвещало никаких перемен. Потемкин дал маскарадец в Аничковом дворце, где галерею обставил тропическими растениями и ароматными цветами «разных родов в чрезвычайном множестве», а на обеденном столе поставил «монумент в достопамятство города Херсона, воздвигнутого великой Екатериной».
В марте случилось неожиданное. Разыскивая свой экипаж возле оперного дома, Рибас был остановлен женщиной, которая отворила дверцу наемной кареты и сказала по-итальянски:
– Прошу вас о помощи.
– Всегда к вашим услугам.
Лицо женщины скрывала полумаска.
– Мне сейчас нужно ехать на маскарад, – сказала женщина, волнуясь. – Не могли бы вы поехать со мной?
Что и говорить – через секунду майор был в карете.
– Хочу спросить лишь об одном, чтобы отправиться с вами хоть на край света, – сказал он галантно. – На ваш маскарад можно пройти без костюма?
– О да, – она вдруг рассмеялась в круглую меховую муфту. Рибас удивился. Ехали молча. Затем женщина сказала:
– Не волнуйтесь. Мой край света совсем недалеко.
Карета остановилась, кавалер помог женщине выйти и увидел, что они остановились у дома Чичерина, возле овощной лавки итальянца Бертолотти. Женщина вошла внутрь и Рибас поспешил следом. Остро запахло пряностями и кофе. Лавка оказалась переоборудованной в кондитерскую. А из кухни вышел Руджеро – хозяин ливорнского «Тосканского лавра»! Женщина сняла полумаску, рассмеялась и растерянный кавалер узнал Сильвану.
– Черт возьми, где я?! – воскликнул господин майор.
– Подай гостю стул, – сказал Руджеро сестре. – Сеньора не держат ноги.
– «Тосканский лавр» переехал в Петербург?
– Я купил у Бертолотти его лавку, – ответил Руджеро. – Открыл кондитерскую. А название «Болонья» оставил.
Нечего и говорить, что Рибас засиделся здесь до полуночи. Тунцы и тосканское вино были великолепны, общество Сильваны неожиданно и приятно, только болтовня Руджеро о ливорнских новостях наводила на раздумья. По его словам, он выгодно продал свое заведение в Ливорно, на купеческом судне с солеными лимонами прибыл в Петербург, где и основал свое дело. Рибас не сомневался, что кто-то ссудил его необходимыми средствами, но воспоминания и тосканское с легкостью рассеяли тени подозрений. В полночь Сильвана вышла вместе с ним, он остановил ямщика.
– Ты будешь приходить? – спросила она.
– Непременно. Но скажи, Руджеро по-прежнему занимается тем, чем занимался в Ливорно?
– Наверно, – тихо ответила женщина.
– Он велел тебе привезти меня?
– Но я хотела тебя видеть. Прости за шутку с маскарадом, Джузеппе.
Следующее мартовское событие поразило Рибаса еще больше. Алеша брал уроки фехтования у итальянца Кумачино, прошедшего парижскую школу дуэлей. В три пополудни Рибас со своим воспитанником должен был отправиться на очередной обед у Бецкого, но Алеша задерживался. Господин майор отправился за ним и у дверей фехтовального класса услышал:
– Хорошо парировал тиерс!.. Не спешите. Держите корпус. Хорошо, чистым фланконадом!.. Отдохнем.
Это был голос Кумачино, занимавшегося с Алешей.
– Давно ли вы были у императрицы? – спросил Кумачино.
– Во вторник на прошлой неделе. – Отвечал Алеша.
– Обеспокоено ли чем-нибудь ее величество?
– Да. За шесть лет здесь построено всего семь кораблей.
– Мало, – сказал Кумачино. – А разве в Кронштадте не строят?
– А там всего шесть. Правда, ее величество была довольна, что в Архангельске строят восемнадцать кораблей и целых семьдесят галер.
Рибас замер: Алеша говорил о том, что составляло государственную тайну. Чем объяснить такое любопытство учителя фехтования?
– Но ведь и на Азове строят суда, – продолжал Кумачино.
– Я не знаю, – отвечал Алеша. – Но кажется, там много галиотов и мелких судов.
Рибас вошел в класс. Кумачино поклонился и отпустил ученика. Когда ехали к Бецкому, Рибас спросил:
– Кумачино хороший учитель?
– О, да, – восторженно отвечал воспитанник.
– Ты с ним дружишь?
– Мы разговариваем. Он много рассказывает о Париже.
– Как ты думаешь, какого он мнения обо мне?
– О вас мы не говорили. Кумачино мечтает служить при дворе, и его все там интересует.
«Может быть, разговор о строительстве флота случаен?» – подумал Рибас. С Бецким перед обедом он говорил о возможностях своего перевода в один из Новороссийских полков и поверг генерала в изумление:
– Чем вы недовольны, друг мой? Вас ценят при дворе, я доволен вами. Отчего вам не сидится в Петербурге?
– Как подумаю, что скоро в корпусе экзамены и снова придется заниматься писарским трудом…
– У меня для вас сюрприз, – отвечал Иван Иванович. – В корпусе вакантна должность надзирателя, и вы займете ее. А это чин подполковника.
«Ну что же, – подумал Рибас, – в России в армию увольняются чином выше. Значит, я уволюсь полковником. Это не так плохо».
На Святой неделе на сцене кадетского корпуса начало свои представления итальянское общество актеров. Придворный театр открылся лишь двадцать седьмого апреля, когда великая княгиня София-Доротея-Мария Федоровна разрешилась от бремени вторым сыном – Константином Павловичем. Любимец неаполитанского посланника Сан-Никола Херасков блеснул при дворе комедией «Ненавистник», высмеивавшей русские нравы на французский манер. В комедии герой Змеяд хотел жениться на хорошенькой Прияте, но любящий ее юноша Милад разрушал козни Змеяда под именем Стовида. Герцога Сан-Никола Рибас в театре не увидел – посланник болел.
Дождливое лето показалось Рибасу долгой зимой, но к августу его не только произвели в подполковники, а еще торжественно в парадном зале бывшего Меньшикового дворца в присутствии инспекторов, членов Совета корпуса, кадетов старшего возраста наградили золотым эмалированным восьмиконечным мальтийским крестом Иоанна Иерусалимского. Для Рибаса это был поистине сюрприз, ибо награждение держалось в тайне до самого последнего момента, и господин подполковник оценил старания Бецкого удержать его в Петербурге. Правда, после церемонии Рибас спросил у Ивана Ивановича:
– Что все это значит?
– Вы, мой друг, – отвечал генерал, – достойно споспешествовали установлению добрых отношений России с мальтийскими рыцарями.
– Когда же это было?
– Когда посланник великого магистра Рогана маркиз Сограмозо пребывал в Петербурге.
Итак, господина подполковника наградили рыцарским крестом за веселые ужины у танцовщицы Росси и прилежные посещения балета вместе с маркизом Сограмозо. Впрочем, Иван Иванович был более озабочен покупкой картин из коллекции премьер-министра Англии Роберта Уолпола, чем устройством любезного ему зятя. Из замка Хоутон-Холл прибыло сто девяносто восемь картин с английскими портретами и драгоценными фламандцами. Двор явился в Эрмитаж восхищаться «Пиром у Симона Фарисея» Рубенса, «Жертвоприношением Авраама» Рембрандта и «Птичьим концертом» Иорданса.
Рибас изредка бывал в кондитерской «Болонья», виделся с Сильваной, но связи с ней не возобновил по не совсем понятным для самого себя причинам. Смутные предчувствия удерживали его от этого шага, да и у Сильваны в кавалерах-итальянцах недостатка не было. Подозрения относительно учителя фехтования ничем не подтверждались, хотя господин подполковник постоянно расспрашивал Алешу о нем.
Слякотным ноябрем в благодатной столовой дома Бецкого, о которой лучше сказать, как об оазисе изысканных ароматов, слышался возмущенно-возбужденный говорок Насти:
– В городе давно ходят слухи о приезде Калиостро, а он, оказывается, уж давно в Петербурге!
– Где же он обосновался? – спросил Рибас, слышавший о Калиостро в ложе.
– Да совсем рядом, на Дворцовой, в доме генерал-поручика Виллера.
– Мне писали из Парижа об этом гражданине вселенной, – невнятно сказал Бецкий, тщательно пережевывая нежное мясо молодого козленка. – Говорят, он даже гнилую осину может превращать в золото.
– Это великий человек, великий врач, великий знаток душ, – страстно заявила Настя и сокрушалась, что граф Калиостро медлит с визитом.
– Мне писали, что в Прибалтике он представился как полковник-испанец, – сказал Иван Иванович.
– Ваш скепсис в данном случае неуместен, – протестовала Настя. – В его ложе, единственной в Европе, очень много женщин.
– В ложе или на ложе? – старый ловелас посмеялся игре слов.
Из дальнейших восклицаний, споров и утверждений Рибас узнал многое о человеке, который своими познаниями и чудесами покорил Лондон и Париж, а теперь пребывает в Петербурге с женой Лоренцой после того, как в курляндской Митаве переговорил с усопшими душами. В столице российской он ведет уединенную жизнь отшельника-химика и врача.
– Он вылечил двести человек из разных сословий и ни с кого не взял ни гроша за свое искусство, – утверждала Настя.
На другой день господин подполковник узнал, что жена отшельника очаровательная Лоренца была с визитом у Насти, и выяснилось, что заезжий врач живет на земле вот уже четыре тысячи лет, что в Германии он поднимал на ноги мертвецов и что самой Лоренце сорок, а выглядит она восемнадцатилетней смольнянкой, потому что ее муж владеет философским камнем и элексиром молодости. Рибас подумал, догадался и спросил:
– Ты купила камень или склянку элексира?
– Лоренца мне презентовала ее!
Нечего и говорить: Рибас стоял за то, чтобы Настя была молода и очаровательна вечно. Подвиги таинственного отшельника могли поразить кого угодно. Шарлотте фон Рекке, знатной девице-курляндке, он представил невероятное и опасное наслаждение беседовать с мертвецами и обещал, что со временем она будет употреблена для духовных путешествий по планетам, будет возведена в степень защитницы земли, а потом, как испытанная ученица, вознесется еще выше.
– Неужели императрица не удостоила его чести быть принятым при дворе?
– Ах, ее ум слишком практичен для того, чтобы понять все это, – был ответ.
Великий и скромный тысячелетний житель обители земной утверждал, что Моисей, Илия и Христос были создателями множества миров и что то же самое будут делать его ученики и последовательницы. Нужно только совершить первый шаг: отречься от всего вещественного и материального. В Курляндии он преподавал магическую демонологию по книге Моисея, и, не имея никаких доходов, жил в невероятной роскоши. После ужина имел обыкновение облегчать жизнь своих слуг и выбрасывать немытые золотые тарелки в окно. Нет, он не был царем Мидасом, который к чему не прикасался – все обращалось в звонкий металл, но размеры жемчужин и драгоценных камней мог увеличивать, когда того пожелает.
Бецкий заволновался, когда узнал, что Калиостро мог из ничего делать янтарь и плавить его. Для пополнения янтарной комнаты таланты мага пришлись бы как нельзя кстати.
Ивану Ивановичу стало известно, что курляндцы решили избрать Калиостро своим герцогом вместо Петра Бирона, которым были недовольны, и встревоженный Иван Иванович решил все открыть Екатерине во время послеобеденных чтений, но успокоился известием о том, что в семействе графов Медемов Калиостро признался, что он не только не Калиостро, но даже и не граф, а великое лицо, которому пока нельзя открыть истину человечеству. Но тайно от всех домашних Бецкий встретился с великим мистиком, пил с ним кофе с печеньем, говорил недолго, а потом объявил Хозикову, Насте, Рибасу и Миниху:
– Я могу сказать одно. Его французский плох, а итальянский вульгарен.
Тем не менее петребургские масоны заволновались: секретарь Екатерины Елагин полновластно завладел вниманием Калиостро, а охотников приобщаться графских тайн было множество. Тихой сапой маг и мистик приобрел вес в Петербурге. Светские дамы за элексир молодости платили большие деньги. Ажиотаж нарастал, и в конце концов в среде масонов стали распространять билеты на встречу с основателем египетской ложи. Один билет Рибас вручил своему ученику-масону корпусному лейтенанту Ливио, а с двумя другими отправился к Виктору Сулину.
– Ну, что же, едем, – сказал путешественник. – Впрочем, я не сомневаюсь, что ваш египетский масон из одного ряда с братьями Пелье, что живут на Большой морской у графа Остермана и возвращают зрение киевским слепцам, которых они в глаза не видели.
По дороге в елагинскую ложу Виктор рассказывал:
– Мне говорили, что барон Гейкинг посетил Калиостро. И тот предложил барону вызвать дух его умершего дяди. И этот дурак-барон согласился. Но с условием: как только дух дяди появится, он в него выстрелит из пистолета.
– И что же?
– Конечно, Калиостро отказался. Духи – его собственность, а кто же позволит палить из пистолета в свою собственность?
– А в лаборатории елагинской ложи, – рассказывал в свою очередь Рибас, – Калиостро варил в тигле ртуть с красным перцем. Потом тигель запечатали гипсом, через три дня вскрыли – а там серебряный слиток с прожилками золота.
– Чуду подобно.
– Но граф остался недоволен. Сказал, что в другой раз все будет наоборот: золото с прожилками серебра!
– Но что вас заинтересовало в этом человеке, Джузеппе?
– А то, что он не создал чуда света, не издал книгу, поразившую всех мудрецов, не разрушил Вавилон, но имеет всеевропейскую славу. Чем он этого достиг? И почему, имея средства купить подходящее герцогство, не хочет жить на покое.
Масоны на этот раз собрались не в тайной темнице, а в просторной зашторенной, скудно освещенной зале. Тут были и испанский посланник Нормандец, и неаполитанский Сан-Никола, и прусский Герц, и генерал Мелиссино, и статс-секретарь Безбородко – одним словом, весь цвет столицы. Публика в ожидании перешептывалась, как на похоронах. Елагин поставил на черный бархат стола хрустальный сосуд-шар с водой и оставил зажженными три свечи, и все замерло, когда из внутренних покоев появился небольшого роста человек в платье-балахоне из тяжелого шелка мышиного цвета. На платье от плеч до пят были вышиты непонятные фигуры-символы и иероглифы – сочно-красные, как раны. С головы свисали золото-парчевые ленты, схваченные на затылке венком из цветов, осыпанных драгоценностями. На нагрудной ленте изумрудного цвета изображались разного рода жуки. На красношелковом поясе висел широкий рыцарский меч с рукоятью в форме креста. Человек заговорил тихим голосом, в котором слышались обертоны глубины и мощи.
– Честь, мудрость, единство. Благотворительность, благоденствие. Великие тайны и вселенская благодать! Покорность! Ум! Страсть! – Голос овладел вниманием публики, мощь его росла. – Мы! Мы, Великий Кофта! Единственный на земле Великий Кофта. Ясновидящий и гроссмейстер великого египетского масонства. Мы даем знать вам о нашем присутствии! Воплощение богов на земле. Миры дают нам знаки. Мы познаем их. Мы стремимся. Мы здесь, и никто не разлучит нас с миром – ни время, ни злые силы, ни смерть.
Из воздуха, из свечного полумрака на стол посыпались медные и серебряные треугольники, лопатки, осьмиугольники, молотки, кубы, мертвые головы, отвесы, глобусы… Все это, как бы не имея веса, мягко опускалось на стол. Наместник Великого Кофты поднял хрустальный сосуд со стола, вода окрасилась голубым, и все увидели, что внутри сосуда сияет звезда. Но вдруг атмосферу безмолвного изумления разрушил чей-то голос:
– Там не вода!
Десятки голов разом повернулись к негодяю – это был ученик господина подполковника Ливио, вертопрах и ловелас. Калиостро без сил рухнул в кресло. Миновала минута – шиканья смолкли.
– Подойдите ко мне, – приказал Калиостро. Ливио осторожно приблизился. Калиостро встал, взял сосуд и выплеснул на Ливио воду. Все ахнули, засмеялись. Ливио жалко улыбался и отряхивался.
– Мне мешают, – сказал Калиостро. – Мне мешают, но помешать не могут. Сегодня я не смогу извлечь из небытия души умерших. Займемся живыми.
Он усадил Ливио в кресло и осыпал его такой площадной бранью на французском, итальянском и немецком, что все оторопели. В итальянских фразах Рибас явственно различил сицилийский акцент. Завеса таинственности спала, и Рибас увидел перед собой располневшего широкоплечего мужчину с толстым загривком и низким лбом. Он походил на карлика с беспокойным взглядом и суетливыми жестами. Широкий нос, мясистые губы, влажные от слюны, лицо темно-красное, ручки и ножки в непрестанном движении.
– Чью тень из числа тех, кто здесь не присутствует, вы хотели бы вызвать?! – вскричал Калиостро, обращаясь к Ливио. – Напишите! – Он передал ему пергамент и карандаш. Ливио что-то написал, маг стоял к нему спиной и командовал: – Сожгите пергамент на свече!
Ливио исполнил повеление, а чародей схватил пепел пергамента, растер его в ладонях и посыпал им голову лейтенанта.
– Пройдите сюда! – Он вывел Ливио за занавес, натянутый меж колонн, выхватил меч и принялся рассекать, рубить и жалить мечом пространство.
– Что вы видите в полнейшем мраке, который вокруг вас? – вопрошал маг.
– Юношу в красном плаще, – отвечал Ливио из-за занавеса.
– Где он находится?
– В лесу…
– Что на земле?
– Отверстая могила.
– Мысленно попросите юношу, чтобы он показал вам тень того, кого вы хотите видеть.
– Я вижу! – Через секунду раздался испуганный голос лейтенанта.
– Где он? – спросил Калиостро.
– Он лежит на полу… на ковре…
– Кого еще вы видите?
– Больше никого не вижу.
– Мысленно попросите юношу, чтобы ему помогли!
– Да! – воскликнул Ливио. – Я вижу людей, слуг… Они его поднимают, несут… Укладывают в постель…
– Что он делает?
– Закрывает руками глаза… ему больно…
– Попросите юношу, чтобы боль несчастного прошла!
– О, да! Он садится в постели. Улыбается.
Калиостро взмахнул мечом, вывел из-за занавеса бледного Ливио, а потом замертво, спиной повалился на стол. Его подняли, усадили в кресло. Он пришел в чувство, деловито достал из складок балахона пергамент, передал его Елагину со словами:
– Здесь написано имя человека, тень которого я вызвал. Пошлите тотчас к нему курьеров, узнайте, что с ним, не нужна ли помощь?
Курьеров послали. Ливио сел позади Рибаса и шепнул ему:
– Я вызвал тень Ивана Ивановича.
– Бецкого? – поразился господин подполковник. – О дева Мария!
«Иван Иванович вчерашний день действительно чувствовал себя неважно. Что с ним могло случиться? – думал Рибас, поглядывая на Калиостро. – Этот человек несомненно обладает даром месмеризма – тайной силой внушения, о которой писали в «Ведомостях». Этой силой он и покорил Лондон и Париж. Но он одержим, а поэтому никогда не остановится, чтобы жить в роскоши и покое».
Курьеры вернулись. Имя Бецкого было объявлено. И курьеры сообщили, что с генералом случился приступ, его нашли на полу кабинета, отнесли в спальню, он ненадолго лишился зрения – одним словом, все произошло так, как «увидел» Ливио, руководимый жрецом египетского масонства.
Калиостро объявил, что на сегодня все кончено, продолжения не будет из-за смертельной опасности, которая угрожает не ему лично, а кому-то, находящемуся в зале, кого он определить не может из-за присутствия темных сил.
Слухи всколыхнули город, как буря семьдесят седьмого года. Говорили, что великий мистик вызывает тень Моисея и вместе с ним увлекает присутствующих во вселенские сферы. Передавали, что жене Елагина он увеличил жемчуг до размеров яблока. Правда, Рибас вспомнил, что Калиостро за день до описываемых событий пил с Бецким чай с печеньем. К вечеру Иван Иванович почувствовал себя плохо… Неужели он всыпал генералу в чай какое-нибудь снадобье? Так все рассчитать?
Как-то проезжая по Дворцовой набережной мимо дома генерала Виллера, где жил Калиостро, Рибас увидел несколько карет и толпу. Верховодил придворный врач Роджерсон и доктор Клерк.
– Что здесь происходит? – спросил Рибас у Клерка.
– Мы пришли выразить негодование этим шарлатаном, – отвечал доктор. – Он выписывает чудовищные рецепты, которых нет в цивилизованных аптеках. Он взялся лечить обреченного ребенка, которому может помочь только Бог.
Сражение с петербургскими врачевателями Калиостро выиграл самым невероятным способом. Он предложил, чтобы они приготовили для него яд. А он, в свою очередь, приготовит яд для них. Затем англичанин Роджерсон должен был принять яд Калиостро, а тот выпить склянку со снадобьем англичанина. Чья возьмет – тот и прав. Достопочтимые лекари двора категорически отвергли это предложение: дуэль на ядах противоречила всем известным кодексам дуэлей.
Ребенок, которого взялся спасти Калиостро, был грудным, десятимесячным, и радость матери не поддавалась описанию, когда через две недели ей показали здоровое дитя. Но показали на секунду, чтобы не сглазить. Отец дитяти сразу предложил лекарю тысячу золотом, но тот с возмущением отверг деньги. Калиостро стали называть графом Фениксом, и он изредка показывал здоровое дитя то матери, то отцу, при чем каждый раз увеличивал время свиданий. Это было странно. Однако, через месяц Калиостро вручил сына матери, а отец «забыл» в кабинете лекаря пять тысяч.
Но тут и поползли слухи, что вместо десятимесячного дитяти родителям был возвращен двухгодовалый ребенок да к тому же еще оказавшийся девицей. Объявили следствие. Но такое тайное, что не верилось: как же это наместник вселенских сил, получивший образование в южной части египетской пирамиды, признался, что он подменил ребенка. А на вопрос: «Куда же вы дели останки невинного дитяти?» ответил прямо:
– Я его сжег. Сжег, когда производил опыты полигенезиса – возрождения из очистительного огня. Ребенок возродился, но повзрослевшим и изменившим пол. А уж когда заговорили, что жена Калиостро Лоренца, урожденная княгиня Сан-Кроче, частенько выходит от Григория Потемкина под утро, наступил финал: графа Калиостро, гишпанского полковника, выслали из столицы.
Под предлогом безопасности христианского населения Крыма было поведено вывести с полуострова тридцать две тысячи греков и армян. Их выход из Тавриды отнюдь не напоминал выход евреев из Египта – с насиженных мест силой сгоняли тысячи семей в южные степи и Приазовье. Война в Тавриде казалась неизбежной. Для Рибаса существенным было то, что Потемкин потребовал неукоснительного выполнения рескрипта трехлетней давности: всем государственным поселениям в Новороссии создавать легкоконные и пикенерные полки. Офицеров не хватало, и Рибас подал прошение о переводе в армию.
Но снова непредвиденные обстоятельства возникли на его пути. У дверей фехтовального класса, куда он опять пришел за Алешей, Рибас услыхал беседу Кумачино с учеником, но теперь уж о делах неаполитанских.
– Вчера у императрицы говорили, что граф Разумовский, наконец, приехал в Неаполь, – говорил Алеша.
– А что его задержало в Вене? – спросил Кумачино.
– Любовные похождения, – отвечал ученик.
– Ну, я думаю, что и в Неаполе граф не даст промаха с королевой Каролиной, – засмеялся Кумачино, а потом сказал: – В Неаполе спокойно. Фердинанд объявил о нейтралитете во внешней политике. Интересно, как отреагирует на это Россия.
– Я слыхал, что и мы будем нейтральны.
– Не может быть! – воскликнул учитель фехтования.
– Но об этом много говорили вчера.
Через секунду Кумачино рассмеялся:
– Значит для любовных подвигов графа Разумовского путь открыт! Продолжим занятия. Ан гард!
Рибас обдумывал услышанное.
Но вдруг дверь класса распахнулась, из нее выглянул Кумачино и переменился в лице. Он все понял, через силу улыбнулся и сказал ученику:
– За вами пришел господин подполковник.
Но окончательно сомнения Рибаса рассеялись лишь тогда, когда в этот же день он увидел Кумачино, выходящим из кондитерской «Болонья» в обществе Руджеро. У Сильваны, с которой он заехал проститься, Рибас спросил:
– Часто ли к вам заходит этот итальянец?
– Нет. Но бывает, – отвечала она.
– Он дружен с твоим братом?
– У них коммерческие дела.
Рибас тотчас поехал в корпус, зашел в комнату Кумачино и не застал в ней учителя. Все в комнате говорило о поспешном бегстве. Рибас заторопился в Меньшиковский дворец, в канцелярию, где встретил генерала Пурпура.
– Вы уезжаете, – сказал Андрей Яковлевич, – да еще наш опытный фехтовальщик только что подал прошение об отставке.
– Где он?! – воскликнул Рибас.
– У него в Вологодской губернии заболела невеста, – отвечал Пурпур. – Она там у какого-то помещика гувернанткой, и господин фехтовальщик решил уехать не откладывая.
Конечно же, шпион бежал. «Бог с ним, – подумал Рибас. – Мое прошение о переводе в армию, несмотря на увещевания Бецкого и ссору с женой, удовлетворено. Можно и ехать». Но Пурпур положил перед ним исписанный лист и сказал:
– Читайте.
Это было подметное письмо, в котором Рибас обвинялся хоть и не во всех смертных, но во многих грехах. Оказывается, он не платил карточные долги, непристойными анекдотами развращал кадет, пренебрегал обязанностями, неумеренно пил и даже обложил воспитанников данью взамен хороших отметок.
– Конечно, все это клевета, – сказал Пурпур. – Но ваш поспешный отъезд в армию могут превратно истолковать.
«Вряд ли Кумачино успел приложить руку к этому пасквилю», – подумал Рибас и вспомнил своего недоброжелателя:
– Уверен: это подлость Лехнера! Он восстанавливает против меня воспитанников.
– Доказательств нет. Я советую вам повременить с отъездом.
Тем временем многое менялось в судьбе сослуживцев Рибаса по турецкой компании. Марк Войнович получил назначение командовать Астраханской флотилией. Петр Пален стал полковником Ямбургского полка. Леонтий Бенигсен в киевском легко-конном полку стоял на кордонах у Могилева. Григорио Кушелев из комиссии по описанию войны на Средиземноморье ушел в отставку в чине капитана.
Семнадцатилетний Алексей Бобринский записывал в своем дневнике конца 1779 года:
9 ноября, вторник. Г-жа Рибас со своею девочкою и новою кормилицею приходила навестить мужа. В корпусе была опера.
19 ноября. Рибас сказал мне, что он подал просьбу об отставке, так как видит, что кадеты недовольны им.
11 ноября. Он мне сказал, что мы поедем на волчью охоту.
15 ноября. Ничего не было, кроме того, что по словам Рибаса, князь Орлов сказывал Ея Величеству о том, что я ничего не учусь и что Бецкий очень на то сердится.
17 ноября. Я обедал у Бецкого. Я имел честь видеть Ея Величество в Эрмитаже. Г-жа Рибас очень хвалила Дурова за то, что он так хорошо играет в трагедии. Ея Величество по-видимому в очень хорошем расположении духа. Г-жа Рибас рассказывала Великому князю историю с г. Ж.
19 ноября. Катался в санях. Нынешний день сняли мост. По реке шло много льдин. У нас обедал г-н Росси. Он играл с Рибасом и Ребиндером, и Рибас проиграл 150 рублей.
20 ноября. Росси опять обедал и опять играл, и Рибас проиграл 60 рублей.
3 декабря. Рибас возвратился в бу2 часов утра. Бецкий в первый раз посетил нас в нашем новом помещении. Между прочим он мне сказал, что Ея Величество пожаловала 2000 рублей на мебели и что мы должны отправиться в Эрмитаж, чтобы вместе видеть Ея Величество.
4 декабря. Ничего не было замечательного кроме того, что мы с Рибасом ездили в санях к Бецкому; мы были также у г-жи Рибас. Бецкий назначил по воскресеньям быть собранию родителей.
5 декабря. Была итальянская опера для кадет, где был его превосходительство г-н Пурпур со своею дочерью.
6 декабря. Была репетиция трагедии, которую будут играть в Воскресенье. Рибас мне сказал, что я похож на сатира. Он мне сообщил, что князь Орлов посылал к Бецкому просить, чтобы ему приехать посмотреть нашу новую квартиру в корпусе.
13 декабря. После обеда я был в Эрмитаже, чтобы иметь честь видеть Ея Величество и благодарить ея за подарок, который она изволила мне пожаловать, после чего мы были у девиц Энгельгард, где и оставались, пока не пришло время идти смотреть оперу «Лючину».
15 декабря. Я обедал у Бецкого с Рибасом, и Рибас просил, чтобы я написал следующий примерный счет: 200 аршин шестяной материи – 100 р. Биллиард 100 р. Два зеркала 60 р. Бронзовые ручки 66 р. Разные другие вещи 50 р. Словом, всего на 626 руб. Я позабыл многое из этого счета. Бецкий дал мне 200 руб.
20 декабря. Рибас сказал мне, что Ея Величество изволила мне подарить 1000 руб. и что мне придется получить из этих денег только 800 рубл. Кадеты ходили в Немецкий театр смотреть русскую оперу «Несчастие кареты».
Рибас и Алексей переехали в новые покои в корпусных флигелях, и, после получения подметного письма, господин подполковник ввел строгий учет денежных сумм воспитанника. Столкнувшись с тщедушным Лехнером в длинном кадетском коридоре один на один, Рибас схватил его за лацканы, поднял в воздух и придавил к стене со словами:
– Если пасквили будут еще иметь место, я прошибу вашей головой это препятствие.
Но как удивился господин подполковник, когда узнал, что после его отъезда при Алексее назначен состоять Лехнер! Императрица утвердила его на этом поприще. Рибас спорить не стал: воистину – свято место пусто не бывает, но порой его занимают наши враги.
Больше подметных писем не было. Но кадеты по-прежнему выказывали свое недовольство господином подполковником. Собственно, это происходило из-за бесхарактерности стареющего Бецкого. Он то разрешал бывать родителям воспитанников в корпусе, и вереницы карет подъезжали к дворцу Меньшикова, то запрещал. Тогда их встречал Рибас и объявлял новое распоряжение генерала: свидание отменяется. Естественно, это вызывало негодование и обращено оно было на Рибаса.
Настя, узнав, что муж определен в Мариупольский легкоконный полк, спросила:
– Где это? Не в Индии ли?
– Если ты все-таки азовская княжна, то это недалеко от мест твоего детства, – рассмеялся Рибас. – Что передать твоим родственникам, если я их вдруг встречу?
– Я давно сирота, – вздыхала Настя.
В армию Рибас увольнялся полковником. Мартовским вечером, после первого солнечного дня, он предстал перед женой в новой форме. Легкоконным полкам предписывалось иметь экипировку драгун, а поэтому на господине полковнике ладно сидел белый мундир с золотым аксельбантом, из-под черного с желтой оторочкой галстука виднелся бирюзовый камзол, кюлоты цвета камзола у колен охватывали раструбы сапог с вызолоченными шпорами. Галун на шляпе, кокарда, кисти, эфес палаша, ножны – все сверкало золотом, в одной руке полковник небрежно держал перчатки, в другой гранатовые четки, к которым был прикреплен мальтийский крест – так рыцари Иоанна носили его в семнадцатом веке. Настя мысленно ахнула, но вслух сказала:
– Все-таки не забывай, что ты муж, а не жених.
Она повела его к Бецкому, и генерал объявил, что пригласит художника из Академии, чтобы сделать живописный портрет воина перед походом.
Воин отправился в Зимний, в Эрмитаж, где в обществе императрицы увидел послов, вельмож, офицеров. Все шло, как обычно. Безбородко штрафовал за вранье. Екатерина играла в шахматы с прусским посланником. Неаполитанский посланник дюк Сан-Никола говорил Рибасу:
– Англия с потерей американских колоний враждует с Францией и Испанией. И захватывает корабли нейтральных стран. Так что объявление Россией политики вооруженного нейтралитета я считаю мудрым шагом.
– Но Неаполь настроен мирно, – в свою очередь говорил Рибас. – Поддержит ли он нейтралитет вооруженный?
– Это большая игра, – отвечал Сан-Никола. – К сожалению, мы зависимы от политических ветров из Испании и Франции.
Безбородко пригласил полковника к императрице.
– Я вижу перед собой человека, которому все удается, – сказала она окружающим ее придворным. – Кажется, года три назад я приняла его капитаном в корпус, теперь он полковник. Мы хотели, чтобы у его жены родилась дочь – так и случилось. Он кавалер мальтийского креста. Скажите, господа, кто перед нами?
Господа мялись, медлили. Екатерина, почему-то недоброжелательно взглянула на Рибаса и объявила:
– Перед нами свободный и удачливый человек.
Она не протянула ему руку, а отпустила кивком головы. «В чем я удачлив и от чего свободен?» – думал Рибас.
На следующий день он отправился из корпуса верхом к Виктору Сулину, чтобы проститься с ним, но застал друга в сборах.
– Я составлю вам компанию до Москвы, – объявил Виктор обрадованному Рибасу. – А там посмотрим.
День был теплым, капельным, и Рибас на свою беду решил проехаться верхом по Васильевскому острову. Линиями мимо церкви Благовещенья выехал к мелколесью и, обнаружив накатанную дорогу, дал коню шпоры. Проехав версты две, увидел мужиков, везущих на санях гроб к Смоленскому кладбищу. Повернул, поехал шагом, подставив лицо закатному солнцу. Говорил сам с собой: «Характер не переменишь, и если я из непоседливых, надо следовать характеру. Иначе начнется хандра. Мне двадцать девять, я еду в армию, и если я в самом деле свободный и удачливый господин, судьба предложит мне свои возможности». После этого следовало сказать «Аминь», но он уж был шагах в двадцати от мелколесья, вечерело, и вдруг в кустах блеснуло огнем, раздался пистолетный выстрел и пуля сбила с господина полковника шляпу с золотым галуном.
Конь прянул в сторону. Рибас едва удержался в седле, но стегнул лошадь плеткой, развернул и направил прямо на кусты. Оттуда выскочил человек в зеленой накидке. В руке пистолет. Одной рукой человек схватился за дерево, другую, вооруженную, стал поднимать, прицеливаясь. Но вдруг одна нога его провалилась в снег по колено. Человек потерял равновесие, неестественно согнулся вперед, отталкиваясь ладонью от наста, но ладонь утонула в снегу. И в это время конь с Рибасом пронесся над нападавшим.
Проскакав саженей двадцать, Рибас повернул коня вспять. Человек на снегу не шевелился. Рибас подъехал ближе, соскочил с коня, обнажил палаш и осторожно приблизился. Нападавший никак не отреагировал на это. Рибас склонился над ним, увидел размозженный подковой лошади лоб и узнал учителя фехтования Кумачино. Глаза его закатились. Темные сгустки крови сползали с бровей на щеки, и полковник понял, что Кумачино мертв. Не ведая, что делать дальше, Рибас некоторое время стоял над ним.
«Доехать до первого дома, рассказать о случившемся, вызвать полицию? Но тогда… придется слишком многое объяснять». В кустах, где в начале нападения стоял Кумачино, он нашел пистолет и вдавил его сапогом в снег. То же самое сделал и с другим пистолетом, из которого Кумачино не успел выстрелить. Затем вскочил в седло, объехал окрестности и нашел лошадь, привязанную к дереву. На ней учитель и приехал сюда, чтобы устроить засаду. Рибас отвязал ее, стегнул плеткой и лошадь понеслась в сторону Невы. И Рибас посчитал, что самым благоразумным будет уехать отсюда.
«Очевидно, он следил за мной от самого дома Виктора. Но что толкнуло его на этот отчаянный шаг? Боязнь, что при встрече я его арестую? Последний разговор с Алексеем Кумачино вел о Неаполе. О нейтралитете. Шпион был подослан, чтобы узнать о нем и каким-то образом помешать? Он человек Ризелли?» Эти вопросы оставались без ответа.
Теперь отъезд в армию был не только желательным, но и в какой-то мере спасительным. Кто знает, к чему приведет следствие, когда труп Кумачино обнаружат. Его пистолеты нужно было взять с собой», – подумал Рибас, но возвращаться не стал. Естественно, о происшедшем он не рассказал никому, и никакие сообщения, что Кумачино нашли, в корпус не поступали. Может быть, у него не было при себе никаких бумаг? Как бы то ни было, но через два дня Рибас и Виктор в полную оттепель и распутицу выехали из Петербурга по московскому тракту.
9. Полк в Новоселице 1779–1781
Даже Виктору Сулину Рибас не рассказал о случившемся на Васильевском перед отъездом, хотя скучная дорога до Москвы не раз представляла такую возможность. В Москве они приехали на Басманную к дому Прокопия Демидова, который не оставлял своим вниманием ни Бецкого, ни Рибаса, частенько присылал из старой столицы домашние настойки из малины, ежевики, рябины и крыжовника, неизменно указывая секретарю Хозикову: сколько бутылок отправить Потемкину, а сколько оставить Бецкому и Рибасу.
Бывая в Петербурге, Прокопий Акинфович по-старохватски, как он говорил, волочился за Настей и своеобразно давал взятки вельможам. Встретившись с Елагиным, он взял у него перстень, вышел в отхожее место и там его выбросил. А перед Елагиным извинялся, говорил, что обронил случайно и тут же платил за перстень двойную цену: взятка была дана.
И теперь, когда подъехали к дому на Басманной, они увидели Прокопия Акинфовича, катающегося верхом на тщедушном человечке в овчине. Миллионер «подъехал на скакуне» к гостям и объявил:
– Я в Петербург скачу, а вы ко мне? – он соскочил с несчастного, и тот хрипло сказал:
– Час вас катаю, Прокопий Акинфович. Пить хочу.
– А принесть ему вина в моей саксонской чаше!
Чашу принесли, тщедушный человек напился и тут же с размахом разбил драгоценный саксонский фарфор о ступени крыльца. Демидов опешил, но потом вдруг бросился целовать тщедушного человечка и объяснил гостям:
– Ему сорок тысяч позарез надо. А дать ему сорок тысяч!
Двери в дом миллионера сверху, чуть ли не на половину высоты оказались забиты досками, гостям пришлось нагибаться, чтобы войти в дом, где и другие двери имели точно такой вид. Демидов снова объяснил:
– Намедни у меня знатная ассамблея была. Гордая знать съезжалась. Вот я их и заставил возле каждой двери мне поклоны бить!
Он велел приготовить приезжим комнаты, за обедом угощал русскими кушаньями: богатыми щтями с курами, свиным лбом под хреном и щтявным квасом, пенившимся, как шампанское. Во время обеда заезжий купец был поставлен у стены с приказом: не моргать час – тогда просьбу его о ссуде Демидов обещал удовлетворить. Возле купца он поставил камердинера, и тот смотрел: не моргает ли купец, а сам Прокопий подбегал к нему, махал руками у его лица, чтобы купец не выдержал испытания.
– Это что, – говорил Демидов, возвращаясь к столу. – У меня один малый взялся целый год в постели пролежать. Его кормят, поят, а он лежит. Я ему, если год выдержит, десять тысяч дам. Четвертый месяц уже лежит, негодяй. Хотите взглянуть?
Гости отказались, а наутро решили осмотреть Москву да и уехать от хлебосольного сумасшедшего барина. Но и после того, как побывали в Кремле, проехались по улицам-садам, на Никитской вновь столкнулись с чудачествами Демидова. Прокопий Акинфович сидел в экипаже, кучер которого и два форейтора были в очках. Это еще куда ни шло, но и замученный мерин, впряженный в экипаж, ковылял по улице в громадных очках. Этим Прокопий смеялся над московскими модниками, носившими очки при хорошем зрении.
В Киеве путники не задержались, а за Миргородом дорога вдоль реки Хорол шла прямо на Кременчуг – столице Потемкина. Но ближе к Голтве стали попадаться войска, и от лейтенанта-драгуна путники узнали, что генерал-аншеф Юрий Владимирович Долгоруков вывел своих легкоконников на учения. Шатер его стоял у слияния Хорола и Голтвы. Узнав своих приятелей по Средиземноморью, Долгоруков по своему обыкновению сказал без обиняков, широким жестом указав на войска:
– Театр готов. Представление начнется в срок. В зрителях я нуждаюсь.
За ужином он удивлял не меньше, чем Прокопий Акинфович. Абсолютно серьезно доказывал необходимость пополнить Смольный монастырь девицами из султанского сераля, говорил о том, что собрал роту драгун, в которой все левши и убеждал, что турецкие бани в русских селах сейчас самая необходимая вещь. Рибас даже подумал, что он пьян совершенно, но Юрий Владимирович проявил трезвый ум и память, сообщив, что бывший командир Рибаса по Дунаю Каменский губернаторствует, Суворов в Астрахани готовит персидский поход, а Гудович стоит с полками в Малороссии.
На учения они не остались, а через день въехали в Кременчуг. Потемкина тут не было. Он роскошествовал в Северной столице, а в южной кременчугской от его канцелярии то и дело по ступенькам сбегали курьеры, прибывали новые, суетились – складывалось впечатление, что за околицей идет война. Канцелярский полковник принял Рибаса холодно и путанно объяснил:
– Ваш полк сейчас на реке Самаре, в местечке Новоселица, это возле Екатеринослава Первого на Кильчени, но теперь он зовется Новомосковск.
Рибас ничего не понял, попросил карту, и выяснилось, что из-за нездорового местоположения при впадении реки Кильчени в Самару город Екатеринослав начали строить заново, на Днепре. А бывший Екатеринослав переименовали в Новомосковск, в нескольких верстах от которого выше по течению реки Самары и располагалась Новоселица. Там и стоял Мариупольский легкоконный полк.
В это время в окнах канцелярии мелькнула открытая коляска, а во дворе спешивались до десятка всадников. Ординарец доложил канцелярскому полковнику, что из Херсона прибыл генерал Ганнибал, и вскоре друзья услыхали в коридоре его быстрый громкий говорок.
– Вот где встретиться довелось, – сказал Иван Абрамович, сразу признав своих давних знакомцев, и тут же обрушил на канцеляристов поток упреков и требований. Через час, устроившись в комнате каменного дома напротив, Рибас зашел в канцелярию, где Ганнибал все еще изливал свою досаду на нехватку в Херсоне плотников, столяров, черепичников, конопатчиков, пильщиков и красильщиков. Два года назад Ганнибал начал строительство Херсона, а мастеровых недоставало, материалы задерживались у Днепровских порогов, где судоходство было возможно лишь в паводки. Не задерживаясь в Кременчуге, Ганнибал отправлялся именно на пороги, чтобы лично распечь офицеров за медлительность взрывных работ. Рибас и Виктор поехали с генералом.
– Кругом беда, – говорил Ганнибал. – Лес, барки из Новомиргорода с кирпичей держат пороги. Сахарный завод Масленникова встал – тростник не привезли. На Бахмутских соляных варницах дров нет. Крестьяне бегут. Раньше сюда, в Запорожскую сечь бежали. А как сечь разрушили да сожгли, отсюда бегут. И, главное, как бегут! Потемкин распорядился: если беглые вернутся из-за кордона – им полное прощение, свобода, освобождение от податей. Поэтому крестьяне да казаки сначала за кордон империи бегут, а оттуда уже назад и – вольными становятся.
Скопление судов у порогов было велико. Лодки связывались вереницами, впрягали лошадей и тащили волоком многие версты. На Днепре, в пенных бурунах на самой быстрине едва виднелись плотики, чудом заякоренные, а с плотиков солдаты долбили в камнях отверстия, вставляли в них железные трубки с порохом, поджигали фитили и рубили якоря, чтобы успеть до взрыва унести ноги.
Виктор решил заночевать, а потом вместе с Ганнибалом сплавляться по Днепру в Херсон, а Рибас вернулся в Кременчуг и с пополнением в десять хорошо экипированных конников через мосты на Ворскле и Орели достиг Новомосковска, имея попутчиком купца в премьер-майорском чине Михаила Фалеева. Купец в военном чине? Как такое могло быть?
– Светлейший Григорий Александрович дает чины не за дворянство, а за дела, – объяснял Фалеев. – У меня тут кожевенная и свечная фабрики. Будете иметь нужду – всегда к вашим услугам.
В Новоселице о приезде полкового командира уже знали, господа офицеры собрались у каменного дома, где плац зарос буйной травой, и по очереди представлялись:
– Секунд-майор Иван Волков… Карл Вильсен – премьер-майор… Премьер-майор Михаил Рахманов…
– Надеюсь на ваше усердие и помощь, – отвечал Рибас и объявил сбор полка.
– Некого сейчас собирать, господин полковник, – отвечал Иван Волков. – Рядовые на полях, на работах.
– Собрать через три дня, – приказал Рибас.
Принимать полк было не от кого. Бывший командир Изотов умер в Крыму от оспы. Рапорт о состоянии полка привел Рибаса в уныние, а когда он проверил полковую кассу, то пожалел, что нельзя арестовать покойного командира. Назначив адьютантом грузина-поручика Ивана Баратаева, Рибас вместе с ним поселился в каменном доме в центре села. Через три дня полк, имеющий по списочному составу девятьсот человек, выстроился на плацу количеством вполовину меньшим. При конях было девяносто человек, остальные пешие. Одеты были кто во что горазд, палашами вооружена одна треть, коротких прусских карабинов, положенных по уставу, не было ни у кого. Рибас смотрел на неровный строй и почему-то вспоминал лихих петербургских барабанщиков-драгун в бирюзовых кафтанах с крыльцами и белоснежными обшлагами и лацканами.
Из ведомостей Рибас знал, что бывший командир получил на покупку двухсот строевых лошадей десять тысяч, но ни денег, ни лошадей в конюшнях не было. Предполагаемые учения пришлось отменить. Солдаты чинили казармы, приводили в порядок плац, расположились в палатках, которых оказалось в избытке. На следующий день явилась делегация от греков-переселенцев. Старшина Ксидис просил отпускать солдат на полевые работы.
– Мы платить будем. Ваше высочество останется довольны.
– Платить не надо, – отвечал Рибас. – Сыщите мне полотна и сукна, чтобы полк экипировать.
Через полмесяца из Кременчуга прислали пятьдесят палашей. Недостающие ковали в местной кузне из сабель. Доставленное сукно не соответствовало уставному цвету, было голубоватым, а не белым, но полковник закрыл на это глаза. Он посылал отряды охотников в степи для отлова одичавших лошадей и пополнял ими конюшни. На офицерских собраниях, которые стали обыкновением в доме Рибаса по субботам, самый старший по возрасту сорокалетний премьер-майор Карл Вильсен говорил:
– Нашему полку еще повезло, что нет в нем офицеров из вербовщиков.
Капитан Андрей Сухотин, начавший службу еще в шестидесятом капралом артиллерии, пояснял:
– Вербовщики как получают чины? Навербовал в поселенцы триста человек – присваивают майора. Сто пятьдесят – капитана. За восемьдесят человек – поручика. Но что это за офицеры?
– Зато нажива у них большая, – добавлял двадцатишестилетний премьер-майор Михаил Рахманов. – За иностранца, годного к службе, вербовщик получает три рубля. За русского или поляка – по полтора.
Рахманов был из потомственных дворян, имел в отличии от остальных три тысячи душ, одевался с иголочки. Карты далеко за полночь, поездки к новопоселенным помещикам, флирт с их дочерьми не мешали полковнику пополнять полковую кассу путем нехитрой экономии. Рядовые зачастую кормились по дворам поселенцев, а провиантские деньги Рибас платил кузнецам и портным. Средства на содержание лошадей под обоз и артиллерию, которой и в помине не было, пополняли кассу. Рибас строил казармы – мазанки на десять человек, крытые камышом. Под конюшни использовал узкие овраги, перекрытые бревнами и дерном.
В начале июля сносно экипированный полк выступил на учения на берег реки Самары, где она поворачивала к мифическому городу Павлограду, в котором насчитывалось пятьдесят жителей, а среди них один купец.
На летней ярмарке, одной из четырех в году, продавались железные изделия из Тулы, шелк из Польши, вина и фрукты из Крыма. В ярмарочной толпе можно было увидеть армян в шароварах, в длинных рубахах, схваченных в талии широкими поясами, на которых висели кошельки. Бедняки в плоских барашковых шапках, зажиточные в каракулевых, узкобородые левантийцы в желтых халатах и даже турки в белых и зеленых чалмах наводнили ярмарочную площадь. Рибас удивился присутствию купцов-турок и приказал старшего привезти к себе. Выяснилось, что они из Таганрога, имеют фирман от Потемкина, давно перешли в русское подданство и завели фабрику золотой парчи. Потемкин дал им тысячу на обзаведение, а хозяину фабрики Афанасию-Кес-Оглы даже назначил жалование триста рублей в год. Господин полковник не ослышался: это был его старый знакомый по Средиземноморью. Рибас передал ему привет и купил у перепуганных купцов десять саженей золотканной парчи для Насти.
Одни заботы уходили, но появлялись новые, которыми господин полковник занимался до осени – устраивал пороховой склад, заложил гарнизонный сад, посылал искать влажные луга для посевов овса, наряжал солдат с лошадьми молотить хлеб, который молотили туг древнейшим способом: вкапывали столб, к которому крепили веревку, а к свободному концу привязывали нестроевых лошадей. Кони ходили по кругу и копытами вымолачивали зерна арнаутки.
В сентябре из Крыма прибыл дежурный офицер генерала де Бальмена. Полк Рибаса хоть и не блеснул перед ним выучкой, но реку форсировал умело. Рибасу давно было пора представиться своему непосредственному начальству, и он вместе с дежурным офицером степями отправился к Мариуполю, откуда на купеческом судне пересек Азовское море и высадился в крепости Еникале по соседству к Керчью. Генерал де Бальмен был сыном графа, убитого в шведскую войну 1741 года, а род свой вел от шотландской фамилии Рамзаев. В десять лет – сержант, в двадцать – подполковник. В турецкую кампанию брал Бендеры и Кафу. Перед Рибасом он разоткровенничался и сетовал:
– Мы тут с ног сбились, стараясь исполнить приказы Потемкина. Что ни день – новый приказ. Войска прибывают. Купцов тут больше тысячи – из Кафы, Архиппелага, Воронежа и Тулы. Что ни день – обер-комендант Борзов с докладом: греки сварятся с армянами, албанцы несут петиции на грузин. Татарские мурзы строят козни, а мы им строим мечети. Потемкин требует ко всем относиться с лаской и хлебом-солью, а надо бы сечь их, как запорожцев в семьдесят пятом!
Де Бальмен участвовал в экспедиции генерал-поручика Текели, когда громили Запорожскую сечь. Но теперь в Крыму политика требовала изворотливости.
– А солдаты все в работах и мрут сотнями, – говорил с досадой генерал.
– Я готов привести свой полк в Тавриду, – предложил Рибас.
– Зачем? – искренне удивился де Бальмен.
– Ваши гарнизоны ослаблены. Если турки выступят…
– Не выступят. Суворов на них страху нагнал. Они с нами торговать начали.
– По-вашему, войны не будет?
– У султана и без нас забот хватает. Он три года подряд пробовал спровоцировать в Тавриде войну, поставить своего хана. Но в прошлом году ему пришлось подписать изъяснительную конвенцию, что Крым независим. Меня беспокоит другое. – Генерал передал Рибасу листок с аккуратно переписанным текстом: – Это «Челобитная крымских солдат к Богу».
В челобитной Екатерину называли поганой женой, ради которой солдату умирать не с руки. «Избавь нас, владыка, от многих божков, исторгни нас от вредных и тяжелых оков», – обращался к господу неизвестный автор. А потомок шотландцев сказал потомку ирландцев:
– Смотрите, чтобы этого у вас не завелось.
Рибас вернулся в Новоселицу, где его уж с неделю поджидал Виктор Сулин.
– В Херсон приезжал курьер из Петербурга, – сказал он. – Я хотел написать вам, но Иван Абрамович с оказией отправил меня в Кременчуг. Ваша жена больна.
– Я получил от нее два письма. Она писала о беременности, но ни слова о болезни.
– Курьер случайно говорил с доктором Роджерсоном. Ваша жена при смерти.
Полк был готов к зиме. Рибас написал прошение де Бальмену, и Виктор, собравшийся в Керчь, взялся прошение доставить. Господин полковник немедля отправился в Петербург.
Он ждал самого худшего. Остро вспомнил бал, на котором они познакомились, флирт, досадное происшествие на Балтийских водах в Петергофе, он снова клял себя за проигрыш денег, которые отец прислал тогда на свадьбу. Настя, богиня Флора, черноглазая черкешенка, мать его Софи умирает? Всю дорогу до Петербурга он не мог в это поверить. И судьба смилостивилась: в доме на Дворцовой он застал Настю в постели, бледную и обессилевшую после тяжелых родов. Через несколько минут отцу показали и дочь, которую нарекли Катей.
– Это в честь императрицы, – сказала Настя, слабо улыбаясь. – Если бы не она, ты не застал бы меня в живых.
Счастливому отцу наперебой рассказывали, что Иван Иванович из-за крайне тяжелого состояния Насти не бывал во дворце для послеобеденных чтений императрице, и тогда она сама заехала к нему, а узрев печаль и сумерки в доме роженицы, распорядилась позвать лучшую повивальную бабку, потребовала передник и сказала: «Все мы здесь только люди, обязанные своим появлением на свет чьей-то помощи». Оставила все неотложные дела, прошла в покои Насти, ободрила ее, велела терпеть и оставалась до тех пор, пока бэби не родила.
Рибас, не откладывая, написал императрице благодарное письмо и отправил его с лакеем во дворец. Через несколько дней, перед Рождеством его вызвали в Зимний, императрица была благосклонна к нему, допустила к руке и повелела снова быть при Алексее Бобринском: Лехнер не справился со своей миссией – восемнадцатилетний воспитанник во всем проявлял леность, нерадивость и вялость.
Эммануил из кадетского корпуса перевелся в артиллерийский полк. Рибас бывал у него в офицерских казармах, ссужал деньгами и советами. Настя поправлялась, но как она изменилась! Рождение второй дочери не только не смягчило ее резкий нрав, безапелляционность суждений, а наоборот – порой она бывала даже груба. У нее появилась неожиданная ревность ко всему, что делает муж. Прошлогодний отъезд Рибаса в армию она теперь называла не иначе, как «армейским прелюбодейством», а один из первых вопросов при встрече был:
– В самом ли деле хороши татарки в Тавриде? Говорят, русские офицеры от них без ума.
Напряженные, граничащие с возможностью ссор отношения тяготили Рибаса, но он терпел, объясняя все тем, что человек, побывавший на краю гибели, не может остаться прежним. Он старался чаще ночевать дома, а не в корпусе, но почти каждый вечер Настя устраивала небольшой домашний спектакль, в котором она играла роль женщины, которой то пренебрегают, то обходятся неучтиво, то надоедают.
– Почему ты сегодня дома? Разве Нарышкин не пригласил тебя в общество низких девиц? Я велю подать карету – ты мечтаешь сесть за карты! Мне не нужно никаких жертв!
Ее энергия теперь искала выход в неуемном высмеивании всех и вся, а порой случались истерики. Свое положение Рибас называл осадным, и когда оставался ночевать в корпусе, наутро Настя частенько являлась в его покои, подозрительно щурилась и, не обнаружив следов ночных вакханалий, принималась с удвоенной энергией язвить.
Генерал Пурпур при встрече в корпусе сказал Рибасу:
– А вы знаете, что наш фехтовальщик Кумачино был найден убитым на Васильевском? При нем нашли два пистолета. Он, видно, отстреливался.
– Его невесте в Вологодскую губернию сообщили?
– Не нашли. Там нет невест-итальянок. Темная история.
Рибас не спешил навестить Сильвану, но в великий пост, когда он ехал с Алексеем в санях в корпус, возле Исакиевского моста увидел ее. Беличья шуба и муфта женщины были запорошены снегом – видно, она долго дожидалась его. Рибас спрыгнул с саней и велел Алексею ехать дальше без него.
– Как ты узнала, что я вернулся? – спросил он.
– Брат сказал.
– Вот как!
– После твоего отъезда они собирались, говорили о тебе.
– Кто же это – они? И что говорили?
– Итальянцы, сеньоры. Они говорили, что ты за что-то должен поплатиться.
Рибас задумался. И предложил:
– Невзначай скажи Руджеро, что ты со мной виделась. Но у меня совершенно нет времени. Я скоро снова уезжаю.
Он проводил Сильвану до извозчика и пошел через Неву по мосту, продуваемому ветром со снегом. «Конечно, смерть Кумачино они связали со мной, – думал он. – Наивно полагать, что они оставят меня в покое. Но открыто обвинить Руджеро в соглядатайстве нельзя. Нет доказательств. Да и быть замешанным в такой истории – чересчур опасно. Найдется немало охотников меня же и обвинить во всем».
Когда Рибас был в армии, Екатерина встречалась с австрийским императором Иосифом II в Могилеве, он тайно приезжал в Петербург под именем графа Фалькенштейна. Высокая политика вершилась, пока новоселицкий полковник выкраивал деньги на драгунские шляпы. Заручившись поддержкой Иосифа, Екатерина, по настоянию Потемкина, отказалась от подготовки Персидского похода. Потемкин лелеял мысль о присоединении Тавриды и Кубани к империи. Об этом Рибас знал из разговоров в Эрмитаже, и, верно, сподручные Руджеро дорого бы заплатили за такие сведения.
Уже семь лет Россия не вела изнурительной войны. И, как следствие, дворянство обуяла страсть к заграничным путешествиям. Но не для всех они заканчивались благополучно. В Лозанне от чахотки умерла двадцатилетняя жена бывшего фаворита Григория Орлова Екатерина Зиновьева. Конечно же, в салонах заговорили об отравлении, самоубийстве, удушении. Один Григорий Орлов был неутешен, вернулся в Петербург, где пошли сплетни, что самый вероятный отец Алексея Бобринского часто закрывается в своей спальне, глотает бриллианты и сходит с ума.
Во время очередного обеда у Бецкого, когда обсуждали странности парижской моды и разные способы рвать зубы в российских деревнях, Иван Иванович объявил:
– Я получил двадцать пять тысяч и начинаю строить каменный забор вокруг сада кадетского корпуса.
Эта новость дала обильную пищу беседе, ибо архитектор Фельтен как раз возводил многими осуждаемую решетку вокруг Летнего сада. Но тут из дворца вернулась Настя и рассказала о новости поважней:
– Императрица решила отпустить Павла в заграничное путешествие.
Все были поражены.
– Она не отпустила его на войну с турками. Он просился в Новороссию, в Тавриду… – сомневался Миних. – А теперь – за пределы империи? Уж кто будет рад, так это прусский император, кумир Павла.
– А Пруссию и Берлин императрица исключила из его вояжа, – сказала Настя, и Рибас понял, что это связано с концом панинской политики, ориентировавшейся на Пруссию. Настя продолжала: – Он поедет через Псков, Могилев на Вену, через Польшу. Уж курьеров по всему пути отправили.
– А кто в его свите? – спросил Алеша.
– Назначены Салтыков с женой, Юсупов и Куракин. Священник Самборский, – отвечала Настя и, посмотрев на мужа, не преминула съязвить: – Императрица могла бы назначить в свиту и кое-кого из полковников, если бы они осторожнее вели себя с татарками в Тавриде.
Рибас молчал, ибо теперь ревность жены имела под собой почву. Как-то офицеры-французы, состоящие в русской службе, пригласили его в салон певицы Аннет Давиа – женщины незамужней, образованной и очаровательной настолько, что кавалеры звали ее Ми-ми, и это означало: милейшая-милейшая Давиа. Роман с хозяйкой салона начался с ничего не значащих любезностей, но не замедлил вспыхнуть так, что о нем заговорили. Заговорили с завистью. Соперниками Рибаса были и камергеры, и лейб-гвардейцы, и сановный Бибиков, и обер-шталмейстер Нарышкин. Господин полковник беспечно вверил себя Купидону, забыв об узах Гименея. Страсть Аннет была настолько сильна, что она, не выдерживая и краткой разлуки, тайно приезжала к любовнику в корпус, и Рибасу представлялась возможность забыться от мнимых неудач в честолюбивых помыслах и от буднично-затрапезной, а порой и тяжелой атмосферы в доме на Дворцовой.
Как-то, заглянув в комнаты своего воспитанника и успокоив кинувшегося на грудь борзого пса Анзора, Рибас нашел Алексея Бобринского в слезах.
– В чем дело, мой друг?
Вместо ответа кадет старшего пятого возраста протянул Рибасу бумагу с императорским вензелем в углу. На листе цветной тушью был изображен неведомый Рибасу родовой герб.
– Великолепно. Кому он принадлежит? – спросил Рибас у воспитанника, – и тот протянул ему письмо:
– Прочтите!
Алексей не обращал внимания, что Анзор треплет зеленый мундир брошенный на постель. Взглянув на письмо, Рибас узнал почерк Екатерины. Она писала: «Алексей Григорьевич! Сим письмом дозволяю употреблять присланный герб, который я вам и потомству вашему жалую». Причина слез выяснилась – кадет плакал от благодарности.
В гербе Алексея без труда угадывались части Ангальтского герба матери: красная городская стена с идущим по ней медведем в золотой короне, двуглавый орел посередине и надпись: «Богу слава, жизнь тебе».
– Я сегодня получил еще пять писем, – сказал Бобринский, отгоняя Анзора, принявшегося лизать его лосины.
– От кого, если не секрет?
– От ее величества, – сказал сын о матери, а мать в письме обращалась к сыну: «Алексей Григорьевич!» – и вот, что она писала: «Известно мне, мать ваша была угнетаема разными неприязнями и сильными неприятностями, по тогдашним смутным обстоятельствам, спасая себя и старшего своего сына, принуждена нашлась скрыть ваше рождение, воспоследовавшее 11 числа апреля 1762 года…» Не затуманились ли и глаза матери, когда она писала: «Как вы мне вверены были, то я старалась вам дать приличное вашему состоянию воспитание…» Далее она сообщала, что при выпуске из корпуса Алексей сможет получать проценты со своих многотысячных сумм, положенных в банк Воспитательного дома, а через десять лет станет распоряжаться и всем состоянием.
Конечно, Рибас понимал, что откровенность Алеши вызвана минутой, в которую он его застал. Находясь в корпусе на особом положении, он не имел настоящих друзей или юношеских привязанностей. Да он и не искал их. Мальчишеское обожание Рибаса давно кончилось. Господин полковник теперь был при нем всего лишь сопровождающим при выездах из корпуса. Кадет давно уж знал, кто его мать, стал еще более скрытен, подозрителен, да и общение с ханжой-Лехнером не прошло даром.
В этот же день Рибас получил письмо, написанное по-итальянски. Неизвестный просил о встрече в заведении «Берлин» на Невском перспективе рядом с домом купца Озерникова в два пополудни в следующую среду. Не видя причин для отказа, переговорив с негоциантом Бертолотти, заинтригованный Рибас явился к назначенному времени. Зал заведения «Берлин» оказался обставленным добротной мебелью. Над каждым столом висели тяжелые балдахины-шторы, создающие уединенность для тех, кто пришел сюда заключить сделку или обсудить деловые предложения. Аккуратный господин лет сорока в синем кафтане, обшитым серебряным гарусом, встал из-за стола и представился:
– Сеньор Августо, с вашего разрешения.
Сеньор был не только любезен, но еще и смотрел на визави с неподдельным участием и даже печалью, которая объяснилась, когда он сказал:
– Ах, я так сочувствую вам, что вы попали в весьма скверную историю. Более того, я почел бы за счастье для себя помочь вам. Дело – пустяк. Но для вас оно очень важно. Я совершенно случайно стал обладателем бумаг небезызвестного вам покойного Кумачино. В них довольно часто встречается ваше имя.
– В какой связи?
– Он записывал все новости, сведения, которые вы рассказывали ему. Они касаются дипломатии, политики, и многие не подлежат огласке. Попади они не в мои руки, вам это могло бы весьма повредить.
– Сколько же вы за них хотите? – улыбнулся Рибас, ясно поняв, кто перед ним.
– Только из чувства глубокого уважения к вам, сочувствия к соплеменнику – десять тысяч.
– Для меня это слишком большая сумма, – сразу же ответил Рибас, а его собеседник сделал вид, что задумался, и сказал то, что он давно обдумал:
– Я – коммерсант. И я с удовольствием верну вам бумаги Кумачино без всякой выплаты. Но коммерсанту так порой необходимо знать немного больше, чем знают все.
Как истый игрок Рибас вел своего партнера к сюр-купу – перебивке старшей картой, но при этом дружелюбно спросил:
– Другими словами, вы хотите занять место Кумачино?
– О, нет! – испугался или сделал вид сеньор Августе – Нет!
Рибас с радостью успокоил его:
– Простите, ну конечно же, Кумачино покойник. Я не имел в виду, чтобы и вы последовали его примеру. Напротив. Очевидно, вы хотели бы встречаться со мной и я бы вам рассказывал немного больше, чем знают все.
– Мы итальянцы. Мы должны помогать друг другу.
– О, это святой долг! – воскликнул Рибас. – Но, может быть, за свежие новости, за очень важные сведения вы могли бы мне и приплачивать?
– Конечно. В разумных пределах.
Пришла пора положить старшую карту. Но не только старшую, но и не существующую в природе. Теперь Рибас смотрел на сеньора с участием и печалью.
– Действительно, Кумачино кое-что узнал от моего воспитанника, – сказал он. – А в своих бумагах ввел вас в заблуждение, утверждая, что сведения получил от меня. Я не хочу говорить о покойнике плохо. Но у него, видно, были свои цели. Однако, вот беда: я его застал именно в тот момент, когда он получал эти сведения. Мой воспитанник человек чести и всегда это подтвердит. Со своей стороны я вызвал Кумачино к себе, чтобы арестовать его. – Рибас выдержал паузу. – Но вы знаете, почему я этого не сделал? Кумачино, чтобы не быть арестованным, сообщил мне имена людей, которых так интересовали эти сведения.
– Вряд ли он был искренен, – усомнился сеньор Августо.
– Возможно, – мягко улыбнулся Рибас. – Но вот досада! В этом списке я нашел ваше имя!
Сеньор в ответ сам полез в силки:
– Быть не может! Мое?!
– Да, сеньор Джачинто Верри. Ваше.
О, теперь это был совсем другой человек. Растерянность, злость, испуг, оторопь – все это читалось на его лице.
– Я думаю, – сказал Рибас на прощанье, – что вы больше никогда не обратитесь ко мне с подобными предложениями. Я советую вам оставить Петербург.
Возвращаясь в корпус, он проклинал свое бессилие: «Этот аккуратный сеньор не задумается и в следующий раз выстрелит в меня. Но я не могу поступить с ним просто: сдать властям. Что будет с братьями в Неаполе? Кто выручит меня здесь, если возникнут подозрения в мой адрес? А они возникнут – для этого охотники найдутся». Но свою игру с Джачинто Верри он вспоминал не без удовольствия. Он начал ее весьма просто: попросил негоцианта Бертолотти, который был ему обязан поставками вин ко двору, посетить заведение «Берлин» с часу до двух пополудни и присмотреться к итальянцам, которые будут там находиться. Бертолотти знал многих, если не всех, и когда Рибас входил в заведение, негоциант успел шепнуть: «Джачинто Верри, дворянин из Неаполя. Приехал недавно. Других итальянцев нет».
Наследник Павел с женой Марией Федоровной отправился в свой вояж. Прощаясь с детьми, Мария Федоровна трижды падала в обморок, и в карету ее отвели фрейлины. Павел пестовал свою мнительность и до самого Васильково на границе с Польшей плохо спал. Он ждал самых разнообразных бед вплоть до очередной попытки его отравить. Вместо этого Екатерина прислала графу Северному, под этим именем Павел ехал за кордон, письмо, в котором предлагала вернуться. Но на польской границе графа Северного уже встречал король Станислав-Август.
Рибас не мог предположить, что отъезд Павла, роман с восхитительной Давиа, сплетни и зависть скоро отзовутся на его судьбе. В один из вечеров в салоне Давиа играли нанятые музыканты и собирались гости. Мими просила Рибаса быть за хозяина и принимать гостей. Прибыл сановный Бибиков, Офицеры отстегивали в прихожей шпаги. Лев Нарышкин явился на бал с прислугой, которая внесла его в зал. Обер-шталмейстер сверкая бриллиантами на лентах шитого золотом кафтана, кричал что-то несвязное, лез ко всем целоваться и спорил на свой бриллиантовый эполет, что станцует любой танец на одной ноге.
А в прихожую ввалился и скинул шубу молодой артиллерийский лейтенант, в котором Рибас с изумлением узнал своего брата. Эммануил, махнув рукой Джузеппе, тотчас поспешил к Давиа, целовал ей руки и не отходил ни на шаг весь вечер. Но в разгар суматошного веселья Рибас отозвал брата в сторону и спросил:
– Ты давно знаком с хозяйкой?
– Спроси лучше: почему я не был с ней знаком раньше? – засмеялся брат.
– Тебе не советовали держаться от этой дамы подальше?
– Мне? – усмехнулся Эммануил. – Я вызову каждого, кто мне это посоветует.
Если бы Рибас мог заглянуть в дневник Алексея Бобринского, он поразился бы обилию отчетов о балах, обедах и сплетнях. Но наиболее скрупулезно воспитанник делал записи о своем воспитателе. О вечеринке у Давиа Бобринский записал по рассказу Лехнера, который собирал все сплетни: «Они ужинали и пьянствовали, как свиньи. О, люди, люди, как вы развращены!» И далее: «Нынче в первый раз после двух недель Рибас обедал дома… Девица Давиа провела вечер и ночь у Рибаса… Рибас болен, что воспрепятствовало мне обедать у Бецкого…» Впрочем, последняя запись объяснялась приказом императрицы: Алексею без Рибаса было запрещено выезжать в свет. На людях он проявлял неловкость, порой попадал впросак, говорил невпопад, а матери немедленно и с удовольствием об этом докладывали.
После Рождества императрица призвала перед свои светлы очи воспитателя:
– Я недовольна вами. Отчего известное вам лицо, человек во всем обеспеченный, уподобляется нищему и дожидается подачек от вельмож, которые потом над ним и смеются?
– Ваше величество, без моего ведома к этому его склонили его недоброжелатели.
– Ну так не спускайте глаз ни с них, ни с известного вам лица.
«Известное лицо» – так мать называла сына в чьем-либо присутствии. А дело состояло в том, что Лехнер посоветовал Алексею первого января по русскому обычаю отправиться в санях вместе с кадетскими товарищами наносить визиты разным господам. Генерал-прокурор Вяземский и фельдмаршал Голицын выставили кадетам угощение и одарили деньгами. Потемкин заставил их дожидаться полчаса в приемной, а фаворит Ланской, как раз совершавший туалет, отделался от кадет двумя небрежными фразами. Венценосная мать была раздражена, а сын записывал в дневнике:
«4 января. Меня приглашали на концерт к Хераскову, но я не поехал, потому что утром Рибас сказал мне, что Государыня сердилась на Бецкого, зачем он пускал меня на Новый год с поздравлениями к большим господам, и что, следовательно, и нынешний день мне нельзя быть у Хераскова.
5 января. Ничего не было. Рибас обедал дома.
6 января. Большой праздник. Я был приглашен на нынешний день к Апухтину, но пришлось отказаться. Рибас еще в карете говорил мне, что Государыня решительно не желает, чтобы я принимал эти приглашения. Рибасша ездила в театр смотреть балет под названием «Дон Жуан».
7 января. Вечером заезжала Рибасша и вместе с мужем отправилась на придворный балет».
На следующий день Рибас приехал к Давиа, но в прихожей ее новая служанка не только не приняла шубу визитера, но и сказала, что госпожа не принимает.
– Вы, верно, не знаете, кто я, – сказал Рибас.
– Госпожа никого не принимает.
– Больна?
– О, нет, – служанка помедлила и шепнула: – У нее господин Рибас.
Первым помыслом было: ворваться к Давиа и вывести ее на чистую воду. Она прикрывается его именем, принимая любовников! Но он скоро сообразил, что этим морозным деньком у Давиа находится его брат! Господин полковник на секунду остолбенел, потом нахмурился и вышел вон. «Глупейшее невообразимое положение! Надо встретиться с Эммануилом. Но что я ему скажу?»
Солдату-привратнику своих покоев в корпусе Рибас приказал не пускать к себе ни брата, ни известной особы Давиа. Его трясла лихорадка, он лег, велел задернуть занавеси, просил греческого корня элениума с медом, выгнал встревоженного корпусного доктора, отказался от лекарств.
– Вы притворяетесь! – не верил ему Алексей. – Вы не хотите ехать со мной во дворец!
Черствость молодого человека поразила воспитателя. Горя от лихорадки, он провел ночь без сна, утром сел в постели и спросил малиновой воды, а слуга сказал, что и Алексей слег. Настя и дочь госпожи Лафон приезжали их проведать. Алексей капризничал, а потом кричал зашедшей к нему Настасье Ивановне:
– Все знают то, о чем вы не догадываетесь! Вы слепы. Вас водят за нос.
– Ты бредишь. Надень меховой жилет. У вас по утрам холодно.
– Я брежу? Вы смешны!
На следующий день кадет, дежуривший у Бецкого, рассказал Бобринскому, что Рибасша называла Алексея негодяем, щенком, сопляком, упрямым мужланом, неучем и презренным человеком. Алексей затаил месть, и, когда почувствовал себя лучше, отправился на обед к Бецкому, где многим нашептал об отношениях Давиа и Рибаса, а за столом Шувалов открыто сказал обо всем Насте. Она краснела, бледнела и, может быть, впервые не знала, что отвечать. Вернувшись, Алексей безжалостно заявил все еще больному Рибасу:
– Ваша жена знает о Давиа все!
– От кого?
– Об этом все только и говорили за обедом!
С тревогой ждал Рибас посещения жены. Забылся, а очнувшись сказал:
– Мне не в чем упрекнуть себя. Я всего лишь старался перебороть судьбу. На душе у меня так и осталось одно сокровенное дело. Если мне придется его исполнить, я умру спокойно.
Алексей надменно усмехался, говорил о недругах Рибаса в корпусе, и господин полковник в горячке, встав на постели, кричал:
– Я вызову их! Шпагу!
Алексей намеренно изводил больного, но утром, испугавшись, расспрашивал Рибаса о его сокровенном деле, а услыхать о рибасовых Фермопилах ему не пришлось – явилась Настя.
Рибас ожидал сцены, но вот странность: жена говорила с ним мягко, покорно соглашалась во всем, привезла ему книги… Это поразило больного. Когда ее подозрения ни на чем не основывались, она уверенно говорила о его изменах, а теперь, получив доказательства, сникла, была растеряна и молчалива. «Она любит меня и не хочет терять. У меня нет человека ближе, чем она. Я должен переменить жизнь. Изменить все», – казнился Рибас.
Неизвестно, чем бы кончился визит Насти, но вдруг явился дежурный кавалергард из дворца с вопросом к больному:
– Государыня изволит знать: отчего вы не были вчера в Эрмитаже. Но вы можете не отвечать. Причина мне понятна.
Муж и жена удивились этому визиту, говорили о нем, несть числа было предположениям. Настя ушла, и Рибас раскрыл одну из принесенных ею книг. Это было «Сентиментальное путешествие» Лоренца Стерна. Он читал до тех пор, пока не закрыл последнюю страницу.
Через несколько дней еще слабый после болезни Рибас поспешил в Зимний. Секретарь Безбородко провел его в кабинет. Императрица сидела у окна, поглаживая голову сеттера, преданно смотревшего на ее величество.
– Наши птенцы растут, – сказала она. – Вы уже ознакомились с планами путешествия известного вам лица?
Бобринскому после окончания корпуса предстояло год странствовать по Российской империи, а потом для пополнения образования выехать заграницу: Варшава, Вена, Италия, Париж.
– По-моему, Иван Иванович составил отменный план, – ответил Рибас.
– Мы желаем, чтобы вы сопровождали известное вам лицо в путешествии, – сказала императрица.
«В этом и состоит причина моего вызова во дворец?» – разочарованно подумал Рибас. Однако, дни во время болезни убедили его в недобром отношении к нему Алексея, и господин полковник решился на шаг, который мог стоить ему немилости.
– Ваше величество, я искренне польщен, что вы вверяете мне того, о ком так сердечно заботитесь. Но обстоятельства таковы, что я почел бы благом для известного лица не быть с ним рядом во время путешествия.
– Отчего же? – недоуменно спросила Екатерина, и Рибас стал пространно говорить о том, что он опекает известное лицо много лет, что оперившимся птенцам в тягость видеть рядом тех, кто ранее наставлял и исправлял их ошибки. При достижении определенного возраста необходима смена лиц. О, как ее величество мудро поступила, когда при великом князе Павле Салтыков занял место Панина.
– Но я готов исполнить любую вашу волю, – закончил он.
– Вы говорили о путешествии с известным вам лицом? – нахмурилась мать.
– Нет, но…
– Так поговорите с ним.
Кивком головы она отпустила Рибаса.
Через несколько дней он спросил у Бобринского: как тот отнесется к тому, если они отправятся в путешествие вместе? Алексей задумался и ничего не ответил. Конечно же, пойти против воли Екатерины – поступок чрезвычайный, но предстоящий вояж с Алексеем сулил непредсказуемые повороты и осложнения. Правда, возможность побывать в Италии – соблазн великий, ехать же куда бы ни было с сыном царицы, который тебя крайне невзлюбил – уж это избави бог. К тому же скрытный и молчаливый кадет вдруг проявил такую неуемную страсть к карточной игре, что даже господин полковник диву давался. В лейб-гвардейских казармах Алексей проиграл шесть тысяч и не смог расплатиться. При этом был Ливио – подопечный Рибаса в масонской ложе. Он и явился, чтобы передать претензии выигравшего гвардейца. На первый случай Рибас вручил ему пятьсот рублей и сказал, что карточный долг будет покрыт взносами таких же сумм. Это было против правил, но гвардеец согласился. Денежные подарки императрицы сыну вскоре избавили неудачливого игрока от постыдного долга.
В мае, после нашумевшего пожара на Садовой, когда там сгорел рынок, лейб-гвардии поручик Алексей Бобринский вместе с тремя выпускниками Шляхетского корпуса, профессором Озерцковским, полковником Бушуевым и слугами уезжал в Москву. Накануне, обливаясь слезами, он простился с матерью. У дома Бецкого стояли три экипажа. Забыв об обидах, Алексей целовался с Настей. Когда Рибас обнял поручика, то вдруг ощутил, что это прощание надолго, если не навсегда, и пожалел, что не уезжает с ним: как бы там ни было, но за эти годы Бобринский стал частью его жизни и частью не малой.
Алексей уезжал, лишившись сразу двух отцов. Отец названный – Григорий Шкурин, тот самый, что споспешествовал скрыть рождение сына императрицы, умер. А истинный отец – Григорий Орлов сошел с ума. Его братья, чье богатство оценивалось в семнадцать миллионов и в сотню тысяч крепостных, увезли его от петербургских пересудов в Москву.
Рибас помог Насте переехать с детьми в Царское село. Бецкий был занят хлопотами по изготовлению памятных медалей к двадцатилетию восшествия Екатерины на престол, к долгожданному открытию памятника Петру Великому и к юбилею коронации императрицы. Праздники грянули со всей российской роскошью и размахом. Рибас написал о них Бобринскому, но ответа не получил.
Фейерверки, балы, гулянья, зажаренный бык на деревянной горе, осаждаемый чернью, фонтаны с вином, повышения в чинах, щедрые награды – все это было знакомо. Но в юбилейные дни императорские милости не коснулись его, о чем Настя не преминула сказать:
– Если бы ты поехал с Алексеем, в Москве тебя настигло бы известие о производстве в бригадиры.
Но медаль Рибас все-таки получил, когда по Исакиевскому мосту вместе с кадетами перешел Неву и остановился на площади, где предстояло торжественное открытие монумента. С двух часов пополудни сюда стекались войска. Августовский день был пасмурен, с Невы тянуло туманом. Со свитой прибыл Потемкин. Его офицеры выстраивали преображенцев у спеленутой белым полотном статуи. Кадетские офицеры томились от вынужденного безделья и выспрашивали у осведомленного Рибаса:
– Во сколько же обошелся памятник?
– Он стоил императрице более, чем четыреста тысяч, – отвечал Рибас, припоминая, что накануне Бецкий сокрушался, что один Фальконе получил за памятник около ста тысяч.
– А где же скульптор?
Фальконе, к радости Бецкого, уехал из Петербурга четыре года назад. К радости – потому что Ивану Ивановичу весьма не нравилась работа скульптора. Фальконе хотел простоты, Бецкий – аллегории, ссылаясь на то, что Петр предпочитал аллегорические композиции. На площадь вышли измайловский, бомбардирский, второй артиллерийский полки. В рядах последнего Рибас увидел Эммануила. Брат не был у него все лето. Очевидно, и ему стало известно об отношениях полковника и Давиа.
Наконец, пятнадцатитысячное войско замерло после команды фельдмаршала Голицына. В четвертом часу на дивной лошади явился полковник преображенцев – Екатерина. Тотчас хлопнула ракета, покровы с памятника спали – и словно из недр лахтского гром-камня вырвался, вознесся над площадью Великий Петр. Войска склонили знамена, все замерло, а из тумана, словно по знаку свыше, блеснул солнечный луч, встреченный криками «ура», подъемом флагов на судах по Неве и пальбой пушек Адмиралтейства и Петровской крепости.
Скульптура в тысячу сто пудов казалась легкой, парящей. Фальконе одел Петра в «свою» одежду. На императоре было подобие русской рубахи, а с плеч ниспадала складками ткань-драпировка. Бецкий гневался, когда впервые увидел эти «одеяния», но сумел отстоять лишь римские сандали на ногах Петра. Изваяние головы императора, трижды отвергаемое Бецким и Екатериной, исполненное по эскизу Калло, теперь уверенно и гордо держалось на плечах Петровых. Калло избрали в Академию, и первая женщина-академик получила десять тысяч ливров пожизненной пенсии. Конечно, всем припоминался пожар в мастерской Фальконе, когда металл вырвался из формы, а подручный Хайлов спас скульптуру. Бецкий тогда кричал: «Боги не хотят этого мерзкого изваяния!»
А теперь Иван Иванович торжественно преподнес Екатерине с десяток самых различных медалей в честь открытия монумента. Императрица в свою очередь одарила компаньона золотой медалью, отчеканенной по ее собственному заказу. Распорядители торжества стали разносить серебряные медали офицерам и жетоны рядовым. При этом вышла заминка. Девяностовосьмилетний моряк Матвей Дерезин, который вступил в службу Петру еще в 1715 году, получив от Екатерины золотую медаль, хотел как-то приспособить ее к своему капитан-командорскому кафтану. Но ни булавок, ни винтов для этого на медали не было. Матвей уронил награду, недоумевал:
– Как же сие отличие на ленте носить?
– На атласной подушечке медаль держат, – ответил Бецкий.
– Да неужто теперь и подушечки к груди прикладывают? – изумился сподвижник Петров.
На одной стороне серебряной медали, врученной Рибасу, была изображена августейшая соорудительница памятника. На другой – сам монумент, по случаю открытия которого издали манифест, прекращающий все десятилетние тяжбы, освобождались должники, проведшие в тюрьмах пять лет, прощались государственные растраты до шестисот рублей.
У графа Миниха говорили об аресте приближенного к Павлу влиятельного Бибикова, а потом Фонвизин читал свою комедию «Недоросль». Больше всех смеялась Настя. Бецкий комедию не одобрил:
– Вы, Денис Иванович, в финале должны были представить вашего недоросля в кадетском корпусе, где он и географию познал, и языкам выучился. Вот это была бы правда. А так только зубоскалите и на наши раны соль сыпете.
Рибасу комедия понравилась, за исключением аллегорических фамилий персонажей. С отъездом Алексея Бобринского он редко бывал во дворце, волна сплетен, вымыслов, выдумок о полковнике поднялась высоко. Стоило ему отчитать родителя, пытающегося умыкнуть сына-недоросля из корпуса, как отовсюду слышались жалобы, что Рибас притесняет русских, а угодлив лишь с иностранцами. Стоило похвалить на учениях действительно способного дальнего родственника Потемкина или Олсуфьева, как злые языки начинали судачить, что он в лепешку готов разбиться ради сильных мира сего. Стоило заплатить карточный долг Алексея, как поползли слухи, что именно он, Рибас, дает кадетам в долг и берет большие проценты. Надо было на что-то решаться, а не ждать отставки. Но подать прошение о переводе в армию он не успел – последовал вызов в Зимний дворец.
10. По следам Павла Петровича 1782–1783
Почти до самой польской границы Рибас ехал, как курьер, ибо только так представлялось возможным избежать тягостных задержек с лошадьми на станциях. А к почмейстерам Варшавы и Вены он запасся рекомендательными письмами. Это почиталось за обыкновение и не могло вызвать подозрений.
Собственно, всю неделю после вызова к императрице он занимался собиранием рекомендательных писем от разных лиц для поездки заграницу. А теперь, уже подъезжая к Варшаве, он вспоминал встречу с Екатериной и в который раз изумлялся неожиданным поворотам в судьбе. Он отправился в Зимний, ясно сознавая, что его ждут великие неприятности; но вот странность: все вышло наоборот! Екатерина приняла его в бриллиантовой, где стояли застекленные шкафы с драгоценностями, табакерками, эполетами в алмазах, инкрустированными тростями, золотыми часами. При необходимости искусные вещицы здесь дарились достойным. Екатерина отослала секретаря Безбородко за какими-то бумагами, осталась с Рибасом наедине. Разговор начался неожиданно.
– Кажется, ваш отец болен? – спросила она.
Об этом из последнего письма Дона Михаила знала только Настя, но она не встречалась с императрицей, да и нигде не бывала последнее время. Следовательно, переписка перлюстрировалась.
– К несчастью, это так, ваше величество, – отвечал он.
– И вы хотели бы повидаться с ним.
– О, конечно!
– Вам представится эта возможность. – Она села за столик, столешница которого переливалась шлифованной яшмой и цветными камнями. – Но вы должны оказать мне одну услугу, о которой никто не должен знать. Официально я отпускаю вас заграницу навестить семью, отца. Но по пути вы исполните мое поручение. Увы, оно касается великого князя Павла. Нам стало известно, что в Вене, а, может быть, и во Флоренции он вел себя неосторожно. Кое-какие государственные секреты стали известны лицам, которые не должны были о них и догадываться. Мы знаем о письме тосканского герцога Леопольда своему брату императору Иосифу в Вену. Это письмо нас чрезвычайно интересует. Оно было написано после встречи герцога Леопольда с великим князем.
Не составляло труда понять, что императрице нужны доказательства вины Павла в разглашении государственных тайн. Но для чего именно они были ей надобны? Может быть, для того Павел и был выпущен заграницу, чтобы такие доказательства появились? Екатерине пятьдесят три года, Павлу – двадцать восемь. Она боится за престол?
В Варшаве Рибас не думал задерживаться. Щегольски одетый, как и подобает отдыхающему от трудов тяжких путешественнику, в зале гостиницы он играл в добропорядочный вист, интересовался достопримечательностями, оформлял подорожную на Вену, куда стремился с нетерпением. Однако, через российского посла он получил приглашение на бал во дворец к Станиславу-Августу, где удивился вниманию к своей особе иностранных послов-министров. Пришлось задержаться, посетить неаполитанского консула, обедать с испанскими и луккскими дипломатами, говорить о поражениях Англии в Америке, о конце российской ориентации на Пруссию и о попытках Англии и Франции, истощенных войной, заручиться поддержкой России. Эти визиты сразу ввели его в курс европейских дел.
В Вене, устроившись в гостинице, он поспешил к русскому посланнику Дмитрию Голицыну, который принял его любезно, пригласил в портретную, а в ней на музыкальный вечер, и удивился вопросу Рибаса, сказал:
– Граф Северный дважды был в Вене. Один раз совсем недавно по дороге в Никольсбург. А в первый раз… в декабре прошлого года?… – Он вспоминал, теребил перламутровые пуговицы бархатного кафтана, приказал подать кофе, послал за секретарем, а между делом говорил: – О графе Северном до сих пор говорят в Вене. Представьте, он изъявил желание быть в театре, чтобы посмотреть шекспировского Гамлета. У нас в России «Гамлет» теперь под запретом. – Он многозначительно посмотрел на собеседника. – Императрица не велит ставить сию пиесу на театрах. Правда, при покойной Елизавете Петровне труппа Волкова представляла «Гамлета» в сумароковской переделке. А теперь запрет. Одним словом, случилась незадача. Венский актер Брокман взял да отказался играть роль принца датского в присутствии Павла!
– Что за причина? – спросил Рибас.
– Вот именно! Разве это не честь играть перед российским наследником престола?
– Инкогнито Павла было так широко открыто?
– Какие могут быть секреты в Вене? Одним словом, Брокман наотрез отказался играть и сказал: «Я не берусь играть из-за непредвиденных последствий. Ведь если Павел будет на спектакле, то в этот вечер в театре окажутся два Гамлета! Один на сцене, другой – в зале». Когда об этом сообщили императору Иосифу, он пришел в восторг и велел выдать Брокману за своевременную предусмотрительность пятьдесят дукатов.
Этот анекдот мало интересовал Рибаса, но он выслушал его со вниманием, чтобы сказать:
– Ее величество была весьма удивлена, узнав, что император Иосиф сообщил Павлу об основании союза между Австрией и Россией.
Эти слова Рибас произнес всего лишь предполагая о такой возможности, но Дмитрий Михайлович ответил удрученным согласием:
– Да, да.
– Союз был заключен в тайне от других держав.
– Да! – воскликнул Голицын. – Но император Иосиф и предположить не мог, что императрица держит сей. союз в тайне и от сына!
– И теперь этот союз ни для кого не тайна?
– Как знать. При мне граф Северный о нем ни е кем не говорил.
Секретарь Голицына сообщил, что Иосиф провожал Павла из Вены девятого января. С тех пор прошел почти год. Павел через Триест, Венецию, Падую, Болонью и Анкону прибыл в Рим и почти сразу после отдыха отправился в Неаполь, где не задержался из-за присутствия там ненавистного бывшего друга и посла Андрея Разумовского. Вернулся в Рим. Жил две недели. Встречался с Джананджелло Браччи – папой Пием VI, который стал папой в памятном Рибасу семьдесят пятом году, потеснив Альбани – протеже Елизаветы Таракановой. После этого Павел поехал в Тоскану, где и встретился с герцогом Леопольдом.
Итак, на все про все у Павла до встречи с Леопольдом ушло около двух месяцев. Следовательно, их встреча состоялась где-то десятого-двадцатого марта. После этого Леопольд и написал письмо, так интересующее императрицу. Все эти расчеты нужны были Рибасу для того, чтобы не наводить справки ни в Риме, ни во Флоренции. Любой вопрос о графе Северном там тотчас бы взяли на заметку.
Голицын прекрасно знал, что зять Бецкого вхож в дворцовые покои, и Рибас избрал ключом общения с посланником таинственность и намеки. Кто мог знать о письме Леопольда? Канцлер Кауниц? И Рибас, ничего не объясняя, сказал:
– Ее величество настоятельно советовала мне познакомиться с австрийским канцлером. Это великий ум.
– Завтра он будет в манеже, – отвечал Голицын.
Антон Венцель Кауниц состоял канцлером еще со времен Марии-Терезии. Ему шел семьдесят второй год, и страсть к верховой езде сменилась поездками в манеж. Рибас увидел его в открытой коляске и был представлен. Кружевное жабо канцлера, скрывая старческую шею, выглядело великолепным букетом. В манеже офицеры объезжали лошадей-трехлеток.
– Как вам нравятся английские скакуны? – гордо спросил канцлер, как будто лично имел причастность к воспроизводству этой породы. – Мне говорили, что и Петр Первый на монументе Фальконе взвивается свечой именно на английской лошади.
– Тот, кто вам это говорил, льстил англичанам, – отвечал Рибас – Фальконе, скорее, произвел скульптурное скрещивание лошадей различных пород.
Это понравилось Кауницу. Он благосклонно вспомнил с своем давнем споре с княгиней Дашковой о личности Петра.
– Она называла его деспотом, отнявшим свободу как у дворян, так и у слуг. Но я остался при своем мнении: великие дела всегда требуют принуждения.
Но из бесед с Кауницем Рибас, тонко плетущий нити разговора в нужном направлении, ничего не узнал о письме герцога Леопольда. Дело не сдвинулось ни на дюйм и за обедом, на котором присутствовали фельдмаршал Ласси и юные офицеры – принц де Линь – сын бельгийского герцога на австрийской службе и подпоручик Эммануил граф Шенон, которого отрекомендовали как потомка кардинала Ришелье. Но Рибаса мало интересовал вспыхивающий от смущения французский граф, и он незаметно переводил беседу к делам благословенной Флоренции и к герцогу Леопольду, но безуспешно.
Тогда он решил попытать счастья в почтовом управлении, где задал несколько вопросов чиновнику, плечи которого напоминали меловые утесы из-за пудры, осыпавшейся с парика.
– Я жду письма из Тосканы. Итальянская почта приходит в определенные дни?
– В понедельник, среду и пятницу.
– Сегодня пятница, а для меня ничего нет. Мой тосканский родственник мог отправить письмо герцогской почтой. Где я могу справиться о нем?
– В канцелярии двора.
– У кого?
– Обратитесь к Леонарду Гаеру. Это мой двоюродный брат. Мы – потомственные почтальоны.
Леонард Гаер оказался копией своего кузена, но без пудры на плечах. Рибас представился ему негоциантом Лучано Фоджи, сокрушался о том, что должен был приехать в Вену еще в марте, но попал в переделку – таможня задержала партию товара. Тут же придумал имя своему мифическому родственнику, назвал его графом Конфорти, которому тосканские курьеры оказывали услуги, и спросил:
– А может быть, тосканский курьер, что был в марте, сейчас в Вене? Я расспросил бы его: была ли мне депеша или нет. Может быть, он помнит.
Тосканского мартовского курьера в Вене не оказалось.
– Вы не знаете его? – спросил Рибас.
– Конечно знаю, – отвечал Гаер. – Это капитан Скрепи. Он арестован.
– Что же с ним случилось? – испугался за неведомого капитана Рибас.
– О, это темное дело.
– Ну, бог с ним. Видно, граф Конфорти мне так и не написал.
На следующий день Рибас уехал в Триест, а через две недели его багаж осматривали у городских ворот Флоренции, а точнее, не осматривали вовсе – он заплатил привратникам, чтобы не ехать в таможню. При этом командир поста не просто принял взятку, но и поторговался о ее размерах. Итальянцы не изменились – дукаты здесь по-прежнему брали верх над законами.
В гостинице «Цветы Флоренции» он снял комнаты. Русских постояльцев здесь не было. В первом этаже жили англичане – сетры Патридж и Генриетта Кобле и их брат Том. Рибас отправился на почту, где выяснил, что из русских во Флоренции получают письма князь Волконский, его секретарь и некто Квитко. Волконский принял Рибаса в саду, где у беседки стояла единственная мраморная скульптура Пана. Петербургские новости вызвали приязнь князя и он сказал:
– Я представлю вас к двору через первого министра. Но не поступайте так, как князь Вяземский.
– Объясните мне ваш совет.
– С прискорбным удовольствием, – отвечал князь. – Вяземский явился к первому министру, представьте, в круглой шляпе и английском наряде, что само по себе неприлично. Уговорил, чтобы его принял эрцгерцорг Франц, сын Леопольда… Пришло назначенное время, а Вяземского нет как нет! Послали за ним в гостиницу. И узнали, что он укатил в Ливорно с женщиной, которую разыскивает полиция, потому что она сбежала от мужа, прихватив все бриллианты.
«Неисповедимы пути господни!» – мог воскликнуть Рибас, завидев в саду Волконского Николая Мордвинова, который десять лет назад был «сам себе адьютант», а теперь, судя по всему, капитан флота.
– Какими вы ветрами во Флоренции? – спросил Рибас. Мордвинов замешкался с ответом, смутился.
– В паруса капитана дует амур, – сказал Волконский. Рибас узнал, что в эскадре вице-адмирала Чичагова, прибывшей из Крондштата в Ливорно, Николай Мордвинов командует кораблем «Царь Константин», что он представлен к званию капитана первого ранга. Когда же Мордвинов услыхал, что Рибас остановился в гостинице «Цветы Флоренции», все выяснилось окончательно, ибо лицо офицера зарделось румянцем и он поспешно спросил:
– Вы познакомились с англичанками, сестрами Кобле?
– Не успел, – отвечал Рибас.
– И не пытайтесь, – сказал, смеясь, Волконский. – Патридж замужем, а Генриетта – предмет страсти капитана.
– Оставьте, оставьте, – замахал руками капитан.
– Но ведь вы только из счастья видеть ее приехали во Флоренцию.
– И не жалею, – вдруг твердо сказал Мордвинов. – К чему скрывать, эта женщина свела меня с ума. Вчера я был в галерее Пиити. О, Генриетта – это вылитая мадонна Сассаферато, богиня, несравненная женщина.
Офицер был влюблен, высокопарен и даже надменно смотрел на собеседников, не приобщенных к его восторгам.
– Женитесь, – сказал Рибас.
– Он приехал тайно, – сказал Волконский. – И только издали наблюдает за своей мадонной.
– Уж если вы избегаете ее, – Рибас развел руками, – но следуете за ней, значит, скоро сделаете ей предложение.
– Никогда! – горячился капитан.
– Сделать предложение мадонне – это кощунство, – подчеркнуто серьезно говорил князь.
От Волконского Рибас отправился в старую часть города, где была городская тюрьма. Начальник ее, капитан, отличался легкой хромотой и большой словоохотливостью.
– У вас содержится бывший герцогский курьер Скрепи? – спросил Рибас.
– Кто у нас только не содержится, – начал капитан и стал перечислять арестованных, давал им характеристики и попутно выносил собственные приговоры.
– Я должен Скрепи триста дукатов и хотел бы с ним переговорить об этом, – сказал Рибас. Хромоногий начальник расхаживал по каменному полу и перечислял цены: сколько надо уплатить за свидание с тем или иным заключенным.
– Но я не имею желания видеться со всеми вашими подопечными. Сколько стоит Скрепи?
– Десять процентов от вашего долга ему.
Рибас вручил тюремщику тридцать золотых, и ему назначили свидание на завтра в десять. Он снова отправился на городскую почту, без труда узнал, где живет жена Скрепи и поспешил к ней. Паола Скрепи, обитательница убогих меблированных комнат прихода Святого Луки, всплеснула руками:
– Наконец, хоть кто-то заинтересовался судьбой моего мужа! Я, сеньор, ждала этого часа, потому что мой муж ни в чем не виновен.
– Но в чем его обвиняют?
– О, когда человек при такой должности, им интересуются все. И Рим, и французы, и англичане. У моего мужа доброе сердце, и он не мог никому отказать.
– Он не мог отказать, когда кто-то изъявлял желание заглянуть в переписку герцога Леопольда? – догадался Рибас.
– Да. Но все эти господа так мало платили! – воскликнула жена мошенника.
– Когда его арестовали?
– В апреле.
– Прекрасно, – сказал Рибас, ибо его расчеты подтверждались.
– Что же в этом прекрасного, если он не успел передать мне ни гроша, и я с детьми нищенствую.
– Я должен вашему мужу некоторую сумму. Завтра я увижусь с ним.
– Как?! Вы знаете, где он? – изумилась Паола.
– В тюрьме. Разве вы не навещаете его?
– Но он еще в конце апреля бежал оттуда!
Настала очередь изумляться визитеру. Но времени для этого было в обрез: начальник тюрьмы, получив взятку, наверняка отправился с докладом во дворец.
– Писал ли вам муж? – спросил Рибас.
– Неделю назад я получила письмо из Неаполя. Но без адреса.
– Я как раз еду в Неаполь.
– О, я соберусь мигом. Дети у сестры.
Рибас вспомнил о предполагаемом визите к тосканскому двору и усмехнулся: как и князь Вяземский он бежит из Флоренции с женщиной. Оставив экипаж на соседней с гостиницей улице, он осторожно подошел к «Цветам Флоренции». Кажется, все спокойно. Подняться во второй этаж и захватить оставленные вещи – дело минуты. Но когда он спускался по лестнице к выходу, услыхал голос хозяйки:
– Сеньор Лучано как раз у себя.
– Проводите нас, – потребовал властный голос.
Рибасу пришлось войти в покои первого этажа, занимаемые англичанами. Женщина лет двадцати пяти испуганно взглянула на него. Он прижал палец к губам и через балкон выскочил из гостиницы.
На заставе их не задержали, но Рибас не вздохнул с облегчением: жена незадачливого курьера говорила без умолку весь путь через Рим в Неаполь. В Риме они не остановились в гостинице, а сняли комнаты неподалеку от дома Жуяни на Марсовом поле, где восемь лет назад останавливалась самозванка Елизавета Тараканова. Расспрашивать о ее римской жизни Рибас не стал, осмотрительно заплатил за неделю вперед, собираясь завтра же уехать, и, как всякий путешественник, отправился лицезреть вечный город. Завидев знакомые и навсегда запечатленные пропорции Собора Святого Петра, он не смог сдержать улыбки: вспомнил, как Настя, передавая впечатления Павла от Рима, откидывала назад голову, закатывала глаза и восклицала, подражая наследнику: «Здешнее пребывание наше было приятно со стороны древностей!» Павел возжелал, чтобы архиепископ московский в таковом же соборе в Москве служил.
Рибас не отказал себе в удовольствии побывать на вилле Фарнезе, полюбоваться фресками Рафаэля, а в зеленом дворике увидел суетящихся слуг – из подвалов дворца они с превеликим трудом вытаскивали мраморную глыбу.
– Новая находка? – спросил он у служителя.
– О, нет. Этот мрамор лежал в подвале и о него споткнулась русская путешественница. Ей было так больно, что она решила купить этот камень.
– Вам неизвестно имя путешественницы?
– Княгиня Дашкова.
– Когда же она была здесь и изволила споткнуться? – спросил Рибас.
– Полгода назад. Ее поверенный нашел мастеров, чтобы распилить эту глыбу.
Мрамор казался обычным, но светился зеленым и оливковым. «Странное приобретение», – подумал Рибас.
В Неаполе он поместил Паолу в гостиницу и посоветовал сразу же начать расспросы о муже-курьере. В отчий дом решил явиться к обеду и застал семейство за столом, на котором ароматно дымились артишоки по-итальянски с травами, перцем, ветчиной, и после объятий, восклицаний и радостного удивления Рибас с удовольствием обедал в кругу семьи. Конечно же, сразу посыпались вопросы об Эммануиле, писем от которого не было уж полгода. Здоров ли? Не собирается ли жениться? Бывает ли при дворе? Пьет ли горячее молоко на ночь? Рибас отвечал коротко: здоров, не собирается, бывает, на ночь пьет, но что?
Феликс и Андрэ учились в колледже. Микеле, которому пошел уже двадцать третий год, был в отъезде в Мессине по делам Военного ведомства, в котором служил. Сестра Камилла стала совсем невестой. После обеда кофе и трубки подали в кабинет, где Джузеппе уединился с отцом. Дону Михаилу исполнилось шестьдесят восемь. Осенью он страдал от приступов головной боли, но сейчас, в предрождественскую неделю, выглядел моложе своих лет.
– Я тебе писал об англичанине Актоне, – сказал отец. – Король его пригласил как дельного морского офицера реорганизовать флот. Но теперь он прибрал к рукам и всю сухопутную армию. Он сын врача. Служил у тосканского герцога Леопольда.
– А что Ризелли? – спросил как бы между прочим Рибас.
– Здесь был из Петербурга полковник Иаков Ланской. Кажется, он приближен к вашей императрице?
– Его брат Александр приближен так, что большей близости не бывает, – рассмеялся сын.
– Поэтому, видно, в театре Иаков был приглашен в королевскую ложу вместе с Ризелли.
– С Ризелли?
– Он свел дружбу с Ланским и они повсюду появлялись вместе.
«Досадно, – подумал Рибас. – Говорил ли с Яковым Ланским Ризелли обо мне? Не заполучил ли я нечаянно еще одного недоброжелателя в лице брата фаворита Екатерины?»
– Через два года я выйду на пенсию, – сказал Дон Михаил. – Не думаю, что она будет большой. Но казино в Портичи я рассчитываю сдавать на дукатов двести дороже.
Граф Разумовский встретил Рибаса в кабинете посольства, где мраморный стол был завален бумагами, нотами, скрипичными струнами и обсыпан табаком. Расспросив о петербургских новостях, граф зевнул:
– Все было бы хорошо, если бы не три обстоятельства. Во-первых мне приходится писать отчеты Панину длиной в версту. Во-вторых, я упустил прекрасную скрипку Амати. Ее из-под носа увел этот проныра – английский посланник Гамильтон. И, в-третьих, это, разумеется, Джон Френеис Актон.
– Мне кажется, что Актон – самое серьезное обстоятельство, – сказал Рибас.
– О! Внимание королевы Каролины теперь раздвоено. Она смотрит на меня, но видит его. Она говорит со мной, но разговаривает с ним. Но, признаться, я рад этим каникулам в отношениях с королевой. В любви она не знает границ, как и в политике. Но больше всего меня тревожит другое. Она сверх меры неосмотрительна. У нее пропали мои письма!
– Украдены?
– Кто знает! В истории с Павлом я пострадал именно из-за писем, которые имел неосторожность писать его первой жене.
– Павел был тут. Как нашла королева графа Северного?
– Сказала, что нашему Северному она не завидует.
– Ты виделся с ним?
– Разве в Петербурге еще об этом не чешут языки?
– До моего отъезда об этом не говорили.
– Заговорят! – Он взял скрипку, сверкнувшую лаком, стал что-то наигрывать и говорил в паузах: – Тут для него сняли отличный дом с видом на залив и Везувий. Я посоветовал, чтобы в его спальне повесили портрет Фридриха, а слуг одели в прусские мундиры. Я рассчитывал, что все давно забыто и встретил его у дома. А граф Северный, завидя меня, так затопал ногами, что лошади чихали от пыли. Он схватил меня за руку, потащил в дом, растолкал встречающих… А когда мы оказались в зале, он, представь, брызжет слюной, обнажает шпагу и предлагает мне сделать то же самое! Только я хотел сказать, что хочу его рассмотреть, пока он жив, вбегают полковник Бенкендорф, Куракин, Юсупов, берутся за руки и становятся между нами. Я решил не участвовать в этом хороводе и ушел.
– И никаких последствий?
– Сплетни.
– А где твой секретарь Антонио Джика?
– В Ливорно. Отправился к русской эскадре.
И вот тут Рибас решил задать вопрос, ради которого пришел:
– Говорят, Павел имел конфиденциальную беседу с герцогом Леопольдом в Тоскане о русских делах. Что слышно об этом в Неаполе?
– Будь осторожен, ибо ты слишком любопытен. Скажу, что знаю. Прусский посланник со времени посещения Павла ходит гоголем, австрийский ведет со мной нудные разговоры о гарантиях нашей внешней политики.
Паола в поисках мужа обходила гостиницу за гостиницей, но пока без результата, и, встретив рождество в кругу семьи, Рибас поехал к дому английского посланника Гамильтона, но особняк выглядел сумрачно, окна занавешены. На стук дверного молотка слуга лишь приоткрыл дверь.
– Мы никого не принимаем. Траур по умершей жене сэра Вильяма.
– Я ничего не знал. Я недавно в Неаполе, – сказал Рибас.
– Господин посол уехал два часа назад вместе с его святейшеством аббатом Гальяни за город, к себе на виллу.
На вилле Ангелика Рибас увидел Гамильтона в саду в обществе аббата и статуи Карменты-прорицательницы. Выслушав соболезнования, посланник представил его аббату, который сразу вспомнил о давнем письме Рибаса и был обрадован встрече. Он походил не на аббата, а скорее на философа с проницательным взором, случайно одевшего сутану. Гамильтон ушел в дом отдать распоряжения.
– Как здоровье русской императрицы? – вдруг спросил аббат. – Она не больна? Как себя чувствует? Сколько ей сейчас?
– Пятьдесят три.
– Вы приехали в Неаполь в момент знаменательный! – воскликнул аббат, взмахнув четками. – Я передал свои «Рекомендательные записки» генералу Актону. Они о немедленном вступлении Неаполя в Лигу нейтральных государств, которую возглавляет Россия. Два года я ждал, что моим советам последуют. И, слава Богу, дождался. Правительство и королевская чета одобрили Союз с Россией.
– Я поздравляю вас и спешу поздравить себя, – сказал Рибас. – Служа России, я остался подданным Неаполя.
– Официально документ называется «Акт, которым его величество король Обеих Сицилии приступает к системе морского нейтралитета, принятой в пользу свободы торговли и мореплавания».
– Документ отправлен в Петербург?
– Да. Наш посол Сан-Никола подпишет его и вручит императрице. Поэтому я и спросил о ее здоровье. Теперь надо молиться о ее хорошем самочувствии.
Прежде, чем проститься, Гальяни пригласил Рибаса к себе:
– У меня как раз будет Антонио Мареска герцог Серракоприола. Его прочат послом в Россию вместо Сан-Никола, и я поддерживаю его кандидатуру.
Герцог Серракаприола оказался совсем молодым человеком. От отца Рибас узнал, что он добивается новой должности. Знать Неаполя не хотела сближения с Россией и осмеяла протеже Гальяни. Говорили, что он неопытен и неуклюж в свете. С юношеской непосредственностью герцог спрашивал Рибаса:
– Обязательно ли являться перед русской императрицей в шубе? Разрешено ли послам танцевать на балах? Должна ли моя жена целовать руку императрице? Не стану ли я вассалом Екатерины, если поцелую руку ей?
Рибас смеялся, успокаивал молодого красавца, понравившегося ему обаянием и простотой. Но позже герцог задавал те же вопросы в Вене императору Иосифу II, который сказал ему: «В этом мире целуют так много разных предметов. Почему не поцеловать и руку императрицы?»
В этот день Рибас нашел Паолу Скрепи в кофейном доме в обществе плохо одетого мужчины. «Уж не содержит ли она его на мои деньги?»
– Где вы пропадаете, сеньор, я уж не знала, что и думать, – запричитала женщина. – Завезли меня сюда и бросили, как мой правоверный. А я узнала кое-что для вас, чтобы вы не мучились угрызениями совести и отдали долг мне, а не моему муженьку. Он жил тут у почтовика на Корсо и уехал в Париж.
– Парижский адрес он не оставил?
– Оставил. Но как же я?
Рибас вручил Паоле часть «долга» взамен парижского адреса курьера Скрепи и поехал домой. На крутом спуске кучер вдруг стал осаживать лошадей – они оскалили зубы, развернув головы в стороны – от резкой остановки Рибас чуть не вылетел из коляски и увидел, что дорогу им преградили трое верховых. Один подскакал к вышедшему из экипажа Рибасу. Это был Ризелли. Простонародная куртка белого сукна расстегнута, а лосины столь узки, что, верно, требовалось несколько слуг, чтобы снять их с хозяина. Он запрокинул голову в шляпе с фазаньими перьями и рассмеялся:
– Какая встреча после стольких лет! Скажу вам сразу: за давностью наша юношеская дуэль потеряла для меня всякую остроту. Теперь нам самое время соответствовать своим годам.
– Это не лишне, – отвечал Рибас. – Впрочем, для меня все обернулось иначе: я каждый день ощущаю последствия того, что было в юности. Мое теперешнее положение – все еще результат того, что случилось когда-то.
– Разве ваше положение теперь столь незавидно? – Ризелли гарцевал на лошади.
– Отнюдь, – отвечал Рибас. – И вы это отлично знаете. Но жизнь моя могла сложиться совсем иначе.
– Таковы законы жизни, – сказал Ризелли и объехал вокруг собеседника. – Невзначай растоптанный цветок может прорасти мечом. За все приходится расплачиваться.
– Цветок никто не хотел топтать. Только лелеять. А вот высокомерие и безнаказанность ведут к его гибели. Ваш клан, Ризелли, был сильнее, поэтому вы до сих пор употребляете аллегорию о мече.
– Был сильнее? – усмехнулся Ризелли. – Разве что-то изменилось?
– Да. Вы и теперь сильны, – спокойно отвечал Рибас. – Но меня это не затрагивает.
– Неужели? Жизнь любого смертного висит на волоске.
– Любого, – согласился Рибас, – значит, и ваша тоже.
– Не будем упражняться, в логике, когда дело ясно, как созревший плод. На вашей совести верный мне человек.
– Он на вашей совести, Диего. Я только в неведении: каковы ваши цели?
Ризелли подъехал к собеседнику почти вплотную – его шпага на поясе была в полусажени от Рибаса.
– Мы верны Неаполю Бурбонов, – отвечал он. – Сближение с Россией – это измена. Если мы не договоримся сейчас – берегитесь.
Пришло время блефовать, и Рибас сказал:
– А я советую беречься вам. Мне было легко получить список ваших людей в Петербурге. Если с головы кого-либо из моих родственников упадет хоть волос, эти списки станут известны.
Он вернулся в экипаж и велел кучеру ехать не мешкая. Ни Ризелли, ни его люди не преследовали Рибаса.
Итак, «обмен любезностями» с Ризелли поставил точку на пребывании в Неаполе. Но чтобы подчеркнуть свою независимость от враждебного клана и дать понять, что он совершенно свободен в своих действиях, Рибас побывал вместе с графом Андреем на балу в Казерете. На плацу возле дворца экзерцировали липороты под присмотром самого Фердинанда.
– Вот так с самого утра, пока не начнут спотыкаться, – сказал граф Андрей.
Гости дождались появления королевы, которая, не выходя из кареты, приняла рапорт супруга. Фердинанд явился в театральную залу со свитой офицеров, которые на ходу вытанцовывали, а потом представили собравшимся живые картины похода Аргонавтов. Сам Фердинанд-Язон впрягал в плуг меднокопытных быков-офицеров и засевал поле зубами дракона. Королева скучала в ложе в кругу приближенных, среди которых выделялся ее новый фаворит-красавец с холодным взором генерал Актон. Но заполучив золотое руно, Фердинанд заставил ахнуть всех присутствующих: его аргонавты сдвинули щиты над головами, и король взбежал по ним в ложу королевы и упал к ее ногам.
Последовали танцы, на которых Рибас не остался – люди Ризелли видели его и этого было достаточно.
С попутным ветром через неполных трое суток Рибас достиг Марселя, в почтовом экипаже устремился на Север, к Лиону, и на третью неделю пути прибыл в Париж. В Сент-Жерменском предместье на улице Жакоб он, к своему удивлению, нашел «Отель Модена», где в столь памятной ему книге «Сентиментальное путешествие» Лоренца Стерна останавливался его герой – иронично-рассудительный Йорик. Все здесь было, как описывал Стерн. Скворец в клетке кричал «Я не могу выйти», и, увидев лавки возле гостиницы, Рибас гадал: в какой из них Йорик считал пульс очаровательной хозяйки. В нанятом экипаже Рибас поспешил к Лионской заставе, где с трудом отыскал постоялый двор «Галльский петух», но Скрепи не застал. Ему описали внешность Скрепи и указали кофейню, в которой при неярких свечах флорентийский курьер играл в кости, все время требовал от хозяина вина и, решив, что он может нагрузиться сверх меры, Рибас подошел к нему и сказал по-итальянски:
– У меня к вам важный разговор.
– Да? И что же? – громко спросил Скрепи.
Рибас улыбнулся, сделал многозначительное лицо и вышел из кофейни. Довольно быстро и Скрепи, пошатываясь, последовал его примеру.
– Что вам? – спросил он хрипло.
– Я имел честь видеть в Неаполе вашу жену, и она передает вам, что дети в добром здравии.
– И вы за этим меня позвали?
– Не только. Вы, верно, забыли, что в Неаполе я проиграл вам сто дукатов. Не в моих правилах не платить долги.
– Да? Отлично! Идемте, я угощу вас по-королевски.
– Но вы понимаете, что я мог бы и не разыскивать вас в Париже.
– Да. Но раз вы тут…
– Ваша судьба изменилась из-за того, что курьерскую мартовскую почту вы показали некоему лицу.
Скрепи вмиг протрезвел.
– Что вам нужно?
– Мне нужно знать содержание мартовского письма герцога Леопольда к императору Иосифу в Вену. Только и всего. Конечно, я не думаю, что с этого письма вы сняли копию. Но ведь вы могли заглянуть в него.
– Пойдемте-ка выпьем.
– Вы понимаете, что мне требуется?
– Письмо я помню! Отлично помню. И знаете почему? Мне за копию с него дали сто пятьдесят дукатов. Забавное письмецо. Там много было о русском дворе.
– Пересказ содержания не стоит таких денег, – сказал Рибас.
– Если знать, я снял бы копию.
– Договоримся вот как. Вспомните и запишите все, что было в том письме. Очень подробно.
– Приезжайте завтра. Этак в два пополудни.
Но на следующий день никто не играл в кофейне в кости, а хозяин «Галльского петуха» сказал, что Скрепи съехал, не заплатив. Проклиная себя, Рибас поехал к Мельхиору Гримму лишь для того, чтобы передать письма и поклоны Бецкого. Гримм показал Рибасу прошлогодний выпуск своей «Литературной корреспонденции», где Рибас прочитал о Павле: «Великий князь производил впечатление, что знает французский двор, как собственный. В мастерских наших художников (в особенности, он осмотрел с величайшим вниманием мастерские Греза и Гудона) он обнаружил такое знание искусства, которое сделало его похвалу весьма ценной для художников. В наших лицеях, академиях своими похвалами и вопросами он доказал, что не было ни одного рода таланта и работ, которые не возбудили его внимания».
Гримм явно льстил сыну Екатерины, когда восклицал: «Образованный ум! Утонченное понимание обычаев и языка!» Но в ответ на сомнения Рибаса Гримм сказал:
– У меня сложилось впечатление, что когда Павел Петрович хочет, он умеет обворожить. Но вот что странно. Вскоре великого князя как будто подменили. Он стал сумрачен и нелюбезен. Поразительное превращение!
– Когда это случилось?
– В июле прошлого года.
Тогда был арестован Бибиков. Его письмо к спутнику Павла по путешествию Александру Куракину перлюстрировали и нашли в нем анекдоты о Потемкине и его венценосной любовнице. Гнев матери настиг Павла в Париже, поэтому и произошла с великим князем такая перемена. Гримм рассказал, что Людовик спросил у Павла: «Правда ли, что вы не можете ни па кого положиться в своей свите?» Павел отвечал: «Я был бы очень недоволен, если бы ко мне привязался какой-нибудь пудель. Прежде, чем мы оставили бы Париж, мать моя велела бы бросить его в Сену с камнем на шее!»
Увы, все это было бы весьма интересно, если бы сделка со Скрепи состоялась. Курьер исчез бесследно, правда слуга «Отеля Модена» сказал Рибасу, что какой-то господин наводил о нем справки. Рибас расспросил слугу подробнее – на флорентийского курьера интересующийся им господин не был похож.
На следующий день Рибас отправился с письмами Бецкого и Насти к Дидро. Привратница высокого дома с мансардами сказала, что господин Дидро чуть ли не тридцать лет живет в четвертом этаже, и Рибас поднялся по грязной лестнице к дверям философа, которые открыла служанка, сообщившая, что хозяин болен. В кровати под балдахином лежал семидесятилетний худой, кожа да кости, старик. Он силился узнать вошедшего и переспрашивал:
– Из Петербурга? Полковник де Рибас?
– Я зять Ивана Бецкого, муж его воспитанницы Настасьи Ивановны.
Лицо Дидро вмиг преобразилось, он сел в постели, свесил босые ноги и точно попал в домашние туфли.
– Вы женились на очаровательной женщине! Поздравляю. Как же, я отлично помню наши вечера с доктором Клерком.
Он читал письма, а Рибас видел перед собой тень живого человека. Яйцевидную голову его удлинял красный с синей кисточкой колпак. Глаза навыкате с пожелтевшими белками подолгу оставались неподвижными.
– Как только мне станет лучше, мы непременно отправимся с вами по парижским салонам, – сказал старик. – Мне нужно встать, чтобы не умереть в своей постели. Я решил, что непременно умру на лестнице, когда буду подниматься к себе.
– Отчего вы не снимете квартиру в первом этаже?
– Это хлопотно. Моя библиотека этажом выше.
Рибас предполагал узнать мнение энциклопедиста о российской политике вооруженного нейтралитета, о продолжении торговли меж Россией и Америкой, о восходящей звезде Вашингтона, о предстоящих переговорах в Версале, где предполагалось обсуждать независимость Соединенных Штатов… Но Дидро вдруг рассмеялся:
– Удивительное свойство приобрели мои зубы. Вы знаете, я могу их вытаскивать изо рта, как желуди, а потом вставлять на место.
Потом он говорил об умнице Насте, о мужском уме княгини Дашковой, с которой провел несколько вечеров в бытность ее в Париже. Узнав, что Рибас остановился в отеле, в котором жил когда-то Лоренц Стерн, Дидро сказал:
– Времена его «Сентиментального путешествия» прошли. Теперь весь Париж зачитывается «Опасными связями» – романом бывшего артиллериста Шодерло де Лакло. Возьмите – он у меня там, на столике. Я его вам дарю.
Не было смысла уезжать из Парижа тем путем, который избрал граф Северный. Знаменательных встреч в больших городах у Павла не произошло. Лишь в Брюсселе после оперы в присутствии баронессы Оберкирх, Куракина и принца де Линя Павел рассказал, как лет десять назад, прогуливаясь по ночному Петербургу, он встретил на одной из улиц Петра Великого, который пошел рядом и сочувственно говорил: «Павел! Бедный Павел! Я тот, кто примет в тебе участие. Я желаю, чтобы ты не был привязан к этому миру, потому что ты в нем останешься недолго». Павел не только слышал каменную поступь рядом, но еще и ощущал адский холод в левом боку – с этой стороны как раз и шел Петр Первый. На прощанье великий предок сказал: «Прощай, Павел. Ты снова увидишь меня на том же месте». И вот – там теперь стоит монумент Петру. Узнав это, Павел лишился чувств. Принц де Линь в ответ на рассказ Павла сказал, что после изрядного ужина и крепкого табака лучше не гулять по холодным ночным улицам.
В Монбильяре, Спа, Аахене эту историю рассказывали, и она обрастала фантастическими подробностями. А Рибас, узнав о ней, подумал: не знал ли ее венский актер Брокман, когда отказался играть Гамлета перед Павлом.
В день отъезда из Парижа он окончательно решил держать путь туда, куда Екатерина не пускала сына ни под каким видом – в Пруссию. Вещи были собраны. Провожатые отсутствовали. Но возле экипажа Рибас увидел поджидавшего его мужчину, в котором с трудом узнал курьера Скрепи. Он был прилично одет, трезв и спокоен.
– Я наблюдал за вами эти дни, – сказал Скрепи. – При первой встрече я посчитал, что вы подосланы из Тосканы. – Он показал Рибасу документ, под которым стояла его подпись, а на красном сургуче виднелся оттиск перстня-печатки.
– Это то, о чем вы меня просили. И, разумеется, вы вернете мне ваш долг.
Рибас заплатил, а в экипаже тотчас принялся изучать документ. Скрепи свидетельствовал, что познакомился с содержанием письма герцога Леопольда Тосканского к брату Иосифу в марте 1782 года по дороге в Вену. Он не ручается за точность написания фамилий, которые упоминались в письме, но суть послания передает близко к оригиналу. Герцог Леопольд писал, что граф Северный весьма осудил завоевательную политику своей матери и утверждал, что Россия не должна больше вести войн. Она так велика, что приобретение новых земель не дают возможности для создания регулярного государства. Управлять огромной территорией из Петербурга становится невозможным. Неурядицы, бунты, хаос – все это следствие обширности земли русской. Абсолютная монархия во всей ее полноте невозможна, а поэтому общество склонно к ограничению власти монархов, а нужно ограничить территорию, чтобы заботливо внутри нее жить. Павел был готов на все, чтобы занять престол и разделаться с камарильей Потемкина. Он считает, что все придворные подкуплены венским двором, который не есть образец для России.
«Подкуплены? – удивлялся герцог Леопольд. – Мне об этом ничего не известно». «Ну, так я назову тех, кого подкупил ваш брат, – отвечал Павел. – Это князь Потемкин, секретарь императрицы Безбородко, Воронцовы, второй министр в Голландии и некто, чья фамилия имеет начало на Боку…» Павел называл всех этих людей с радостью, потому что хотел, чтобы в Европе знали, кто они такие. Как только у него будет власть, он их всех во главе с Потемкиным высечет, разжалует и выгонит.
Итак, главное сделано, поручение императрицы исполнено, но тут-то Рибас и стал сомневаться: не слишком ли опасное дело он довел до конца, каковы будут последствия, когда он вручит документ Екатерине?
В Берлине он задержался для отдыха и осмотра города, а затем отправился в Потсдам, где в приемной императорского дворца нашел Фридриха-Адама фон Шлиц Герца, графа, вручил ему рекомендательное письмо. Граф принял подателя письма вежливо, но не радушно. Отвел в зал приемов, где императора дожидалось множество людей. Ждали с полчаса, чтобы минуту лицезреть Фридриха Великого. Престарелый император делал усилия, чтобы держаться бодро. На его орденской ленте Рибас заметил застывшую каплю от яичного желтка.
– Все вы хотите присутствовать на маневрах моих войск, – сказал император, опираясь на трость. – Великолепно. Маневры состоятся в Магдебурге. Замечательно. Прощайте, господа.
Маневры в Магдебурге походили на ожившие красочные батальные картинки. Линейный строй разворачивался мгновенно, повороты боевых порядков и охваты с флангов конницей были молниеносны. В поле под раскидистыми дубами возле палаточных хором состоялся обед. За маршальским столом, куда усадили и иностранцев, имеющих чины не ниже полковничьего, и статских наблюдателей, разговор шел о достоинствах маклебургских, гишпанских и персидских лошадей. Секретарь русского посольства Мальцев шепнул Рибасу, что вчера его посетили два господина и предложили намекнуть Рибасу, что они готовы принять его в масонскую ложу Нью-Йорк. Рибас посмеялся и отрицательно покачал головой. Вступить в масонские ложи ему предлагали и в Париже, и в Гановере. Путешественники часто возвращались в Россию членами многих масонских лож. Это было обыкновением. Только успевай раскошеливаться при вступлении.
Из Берлина через Кенигсберг он направился к Российской границе. В Кенигсберге играл на крупные суммы, спустил почти все – оставалась сотня талеров, когда офицер-лекарь высыпал гору золотых монет и предложил играть макао под прессом. Риск был велик. Рибас кивнул, при сдаче получил счастливую девятку, а к концу игры немец-лекарь выпрашивал назад свои две тысячи таллеров. Приятели его увели, проклиная все на свете, а Рибас нарочито громко сказал, что ночью ему, видно, придется спать с заряженными пистолетами. Но все обошлось.
11. Снова великая идея 178З
Кадетский корпус встретил полковника тишиной и казарменными запахами. Воспитанники еще не вернулись из летних лагерей. Анзор прыгал на грудь Рибаса и лизал руки. Настя, дочери, Бецкий и двор были в Царском, но господин полковник не спешил отправиться туда. Одолевали сомнения: как поступить с документом бывшего тосканского курьера Скрепи? Не воззрения Павла на политику матери вызывали эти сомнения. Павел ясно заявлял, что разжалует, высечет, выгонит Потемкина. Явиться с таким известием к императрице? Ведь речь шла о самом близком ей человеке, которого она любила, восторгалась им, беспредельно доверяла. Ничего не стоило вообразить, как предмет ее страсти и обожания будут прилюдно сечь! И этого она не простит никому, а тем более сыну, которого почитала дураком. А что будет с курьером, доставившим такой неприятный документ?
Посоветоваться оказалось не с кем. Виктор Сулин находился третий год в Крыму. За новостями Рибас отправился к генералу Пурпуру.
– Брат ваш Эммануил уволился в армию еще весной, – сказал Андрей Яковлевич. – Не дождался вас. Как императрица подписала манифест в апреле о присоединении Крымского ханства к России, так он и уехал.
– Крым присоединен? – переспросил Рибас.
– Манифест обнародуют, когда туземцы присягу на верность дадут.
– Наследник Павел Петрович в Царском?
– У него родилась дочь Александра, – отвечал Пурпур. – Живет на Гатчинской мызе, в бывшем дворце Григория Орлова. Наследник завел себе там войско. Выписывает конников из Малороссии. Каждый день – учения.
– А чем кончилась история с арестом Бибикова?
– Сослан в Астрахань. А Куракин в свою саратовскую деревню.
Эта новость была решающей. Если уж любимцы Павла, позволившие себе в частной переписке неодобрительно отозваться о Потемкине, сосланы, то что же будет, когда императрица ознакомится с документом Скрепи? Ее гнев может иметь непредсказуемые последствия. Она слишком многое прощала сыну, начиная с заговора 1773 года. Воображение рисовало Рибасу арест Павла, заключение его в крепость, ссылку, смуту. Нет, документ Скрепи он не покажет императрице! Конечно, неудавшаяся миссия вызовет неудовольствие Екатерины, но он постарается сделать доклад о европейских дворах, их политике и настроениях как можно более красочным, обстоятельным и остроумным.
Он заехал на Дворцовую набережную, в своем кабинете спрятал документ Скрепи в потайной ящичек секретера и отправился в Царское. Настя дала ему побыть с шестилетней Софи, отослала кормилицу с Катрин в дом и, по своему обыкновению, начала с места в карьер:
– Поздравляю тебя! Твой Бобринский отличился в Варшаве. Напился. Полез драться. Вызвал кого-то на дуэль. Я всегда говорила, что этого несносного мальчишку нельзя выпускать заграницу.
– Не было дня, чтобы я не писал ему, – заговорил Бецкий из тени двух берез, где он отдыхал в кресле. – Но все наставления без должной опеки никуда не годны. Ошибка в том, что вы не поехали с ним. Мужлан полковник Бушуев за все ответит в Петербурге, когда они вернутся. Обязательно напишите Алеше письмо. Хорошее доброе письмо, как вы это умеете.
– У императрицы новая фрейлина – племянница княгини Дашковой, – продолжала Настя. – Представь, княгиня после танцев во дворце осталась в бальной зале и заявила Потемкину, что не сдвинется с места, пока ее племянница не станет фрейлиной. И добилась своего. Себе она ничего не просила, но императрица купила ей дом покойного банкира Фредерикса на Английской набережной за тридцать тысяч. Ее сын уже подполковник. Ей дали из казны две с половиной тысячи душ и поместье Огинского. Каково? Дашкова в благодарность предлагала стать прачкой императрицы, а ее величество назначила ее директором Академии наук.
Рибас вспомнил, что в своей поездке повсюду сталкивался со следами пребывания Дашковой в Европе, вспомнил отзыв о ней Дидро и воспринял эту новость как должную, хотя и небывалую. Но Настя негодовала, пересказам сплетен не было конца, пока Бецкий не показал проект-рисунок новой медали на приобретение Крыма, Тамани и Кубани. Подпись под картой этих местностей гласила: «Приобретены без кровопролития». Бецкого заботило не только строительство Здания Эрмитажного театра, но и два падения с лошади. Нет, падал не вельможный старец.
– Императрица отобедала у нас в июле, – объясняла Настя. – И отправилась на встречу с Густавом III в Фридрихсгам. Важно было заручиться его поддержкой в крымских делах. Но о какой поддержке могла идти речь, если Густав сам не удержался на скакуне, упал и сломал руку. А совсем недавно – второе падение. На этот раз на учениях с английской лошади упал генерал Ланской. Ее величество в отчаянии. К тому же Потемкин болен. От прилипчивых болезней из Херсона уехал в Кременчуг.
Год 1783 ознаменовался не только неловкими падениями. Умер в отсутствие Рибаса Никита Панин, а вместе с ним целая эпоха надежд на конституцию и перемены. Павел убежал от смертного одра бывшего наставника, размазывая слезы по щекам. Страшной смертью умер некогда блистательный фаворит Григорий Орлов. Перед смертью он стал носить старинные боярские одежды, прилюдно ругал Екатерину, бегал от мерещившихся кровавых теней, «пачкал свое лицо своими собственными извержениями, которыми он и питался, подобно Иезекилю». Но императрицын двор уже не поминал о почившем на погосте села Отрадное Серпуховского уезда фаворите. Двор готовился к балам, фейерверкам и празднествам в честь дня рождения Павла.
– О тебе пущена скверная сплетня, – сказала Настя, когда они остались наедине. – Все говорят, что ты обыграл Бобринского в карты, и он выплачивал тебе ежемесячно по пятьсот рублей.
– Я вызову любого, если услышу об этом!
– Говорят, у Ливио есть какая-то расписка…
Рибас тотчас уехал в Петербург, но Ливио не нашел и отправился ночевать в корпус. Наутро он писал Бобринскому:
«…мне стыдно даже говорить вам об этом в подробности, но да будет мне позволено рассказать вам об одном оскорблении, чтобы дать вам понять об остальных. Говорят, что я обыграл вас и принудил расквитаться, уплачивая по пятьсот рублей в месяц. Вы знаете, в чем дело. Однако, приказ об этой уплате существует у Ливио. Как же мне оправдаться от этой напраслины? После этого вы не будете удивляться, что в городе поверили другим выдумкам, например: что я развращаю молодых кадет и делаю из них непотребных людей, что я ворую и граблю казну заведения. Представляю вам рассудить, милый Бобринский, каково мне это. Нахожу утешение только в моей невиновности. Но еще более буду утешен, получая от времени до времени известия о вас; по крайней мере на ваши письма я мог ссылаться. Ах Боже мой! Никогда я не думал, что буду иметь в том нужду.
…Я охотно прислал бы вам рекомендательные письма во всю Италию к особам, которые могли быть вам полезны; но не знаю, будет ли это вам приятно. Стану ожидать вашего решения, чтобы прислать все в Венецию, Булонь или Турин, как вам заблагорассудится… Ежели вы будете иметь случай разговаривать с князем Кауницем, то засвидетельствуете ему мое глубочайшее почтение, чем меня очень обяжете. Тысячу любезностей от меня министрам Английскому, Луккскому, Неаполитанскому, а также и Испанскому посланнику. Прошу сказать мой поклон полковнику Бушуеву и всем вашим товарищам. Желаю всем совершенного здоровья и много удовольствия.
Оставайтесь всегда дружны и будьте готовы прощать друг другу небольшие проступки, потому что мир и согласие в обществе составляют счастие на этом свете…»
В полдень вместе с офицерами гвардии Ливио сам заехал в корпус, сказал, что впервые слышит о расписке, удивился тому, что Рибас до сих пор не привык к расхожим домыслам, и предлагал немедленно отправиться туда, где ломберные столы рассохлись без карт, вина и Рибаса.
Он вернулся в Царское и утром, обдумывая визит к императрице, гулял по аллеям, как вдруг был сбит с ног налетевшими на него пажами. Над поверженным стояли Лев Нарышкин и Ланской.
– Никак это турецкий лазутчик, – сказал Нарышкин.
– А вязать его и вести к командующему! – приказал фаворит.
Рибас понял, что участвует в шутовском развлечении, которые часто устраивались во время прогулок Екатерины. В это утро были привезены дрова для царскосельских каминов, но они оказались сырыми. На поляне из них выстроили высокие колодцы, чтобы просушить, как следует. И во время прогулки Ланской устроил побоище среди этих поленниц. Сооружались крепости, редуты. Воинством Нарышкина – фрейлины, граф Чернышов, престарелые генералы – командовал внук императрицы Александр. Воинством Ланского, которое состояло из статс-дам, генерала Львова, родственника Суворова камергера Олешева, предводительствовал внук Константин. Сражавшиеся стороны шли на приступ, валили поленницы, скромный Олешев оказался погребенным под ними, и рижский граф Эльмпт приказал тащить его за ноги хоронить. Олешеву отдавали почести, отпевали, императрица смеялась так, что в изнеможении садилась на землю, ей сооружали из поленьев трон. Отличившихся награждали берестяными лентами и орденами.
Из пажеской курточки соорудили Рибасу чалму, посыпали его лицо золой из трубок и подвели к императрице.
– Пойман нами черный турок из Константинополя.
– Давно сего турка жду. Пусть просит пощады!
– Никогда! – театрально закричал «турок». – Нет бога выше Аллаха и Магомет наместник его на земле!
– Отрубить неверному голову, – решил дело граф Эльмпт.
Из поленьев соорудили помост, «палач» Нарышкин взмахнул над шеей жертвы топором-поленом, пажи ладонями били дробь по своим животам. Екатерина взмахнула платком:
– Прощаю сего турка в честь рождения внучки Александры!
В три пополудни за Рибасом прибежал паж и сказал, что ее величество приглашает его в грот у озера. Все прошло так, как предполагал Рибас. Он с сожалением говорил императрице о неудавшейся попытке узнать содержание письма Леопольда к Иосифу и красочно поведал о встречах в Европейских столицах. Если Екатерина и была недовольна, то ничем это не выказала. К гроту подошли Ланской и Павел с женой. Екатерина не отпускала Рибаса, он лишь отступил в сторону.
– Мы сейчас говорили о том, чтобы Гатчину объявить городом, – сказал Павел.
– Ну, что же – дело пустяк, – отвечала Екатерина. – Мы в Новороссии столько мест городами объявили, что посмотришь на верстовой столб, то и город. Теперь и монетный двор князь предлагает устроить в Феодосии. За тысячу верст деньги из Петербурга везти – накладно выходит. Город Гатчина – это ли забота? На Юге хлеба мало, дров нет, топографов никак не пошлем, крестьяне бегут. Придется рекрутский набор объявить да запретить от него деньгами откупаться.
Павел – Рибас читал по его лицу – торжествовал: на приобретенных землях одни непорядки! Знал ли он, что некто Шляпников, а потом сын пономаря Григорий Зайцев объявили себя народу Павлами Петровичами – избавителями россиян от дворянских притеснений? Но настоящий Павел Петрович, – взглянув на Рибаса, вдруг сказал:
– А ведь теперь итальянцев в Крыму в кандалах держат. Что вы на это скажете?
Рибас знал, что русский консул в Ливорно Мочениго присылает из Италии в Новороссию партии колонистов – торговцев, ремесленников, моряков. Но последняя партия отличилась тем, что среди итальянцев нашлась шайка, которая в Черном море убила капитана, захватила фрегат «Борисфен», чтобы начать пиратские разбойные дела. Но фрегат был задержан, а его пассажиры в железах доставлены в Ахтиар.
– Жаль, что в своем путешествии я не побывал в Ливорно, – отвечал Рибас. – Я посоветовал бы русскому консулу быть осмотрительнее, когда он набирает людей.
– Разбойник сидит в Ливорно и разбойниками Россию наводняет, – сказал Павел.
– Уроды всегда являются нежданно, – нахмурилась Екатерина. – Да слава Богу, есть кому их принудить к исправлению. – Кивком она дала понять Рибасу, что больше не нуждается в его присутствии.
Ничто не удерживало Рибаса в Петербурге, и он подал прошение об увольнении в армию, в свой мариупольский легкоконный полк. Медаль, которую готовил Бецкий на присоединение Крыма и Кубани, точнее ее надпись: «Присоединены без кровопролития» – не соответствовала реальным событиям. Суворов обильно проливал кровь ногайцев под Ейском, склоняя их присягнуть Екатерине, за что получил орден Святого Равноапостольного Князя Владимира Первой степени. Татарская знать в Крыму дала присягу на плоской вершине скалы Ая Кая под Карасу-базаром, но турецкие эмиссары склоняли татарские племена к пролитию русской крови.
Рибас рассчитывал выехать в полк после Рождества по зимнему тракту, но немаловажное обстоятельство задержало отъезд. Солдат почты принес в корпус и вручил господину полковнику подметное письмо, написанное по-итальянски. «Известно ли вам, что жена ваша прелюбодействовала во время вашего отсутствия в Петербурге? – читал Рибас. – Спросите у нее о переписке с любовником Валентином Жемери Дювалем. Вы узнаете для себя много интересного. Переписка эта готовится к публикации, а жена ваша дала на это свое согласие».
За обедами он краем уха слыхал о некоем Дювале из Вены. Как поступить? Сжечь письмо и все оставить без последствий? Уехать и забыть? Но если переписка и в самом деле не блеф и будет издана? В доме на Дворцовой набережной он стал бывать лишь по необходимости. Слушать постоянные пересуды Насти стало невмоготу. На одном из вечеров в Эрмитаже, куда его пригласили с женой, в свите Павла он вдруг увидел Григорио Кушелева, рассказ которого о российских Робинзонах был до сих пор памятен. Они разговорились.
– В семьдесят девятом я уволился в чине капитана-лейтенанта, – говорил Григорио. – Пребывал в уединении в своей деревне. Но из моего анахоретства вывел одно: надо жить, а, значит, служить. Я недурно рисую и черчу, с этими талантами меня представили великому князю. Но надеюсь быть при его малой флотилии на озерах.
Они вспомнили о товарищах прежних лет. Петр Пален командовал ямбургским полком, Леонтий Бенигсен – киевским легкоконным. Кушелев виделся в Петербурге с капитаном Николаем Мордвиновым.
– Чем кончился его роман с мадонной Генриеттой? – спросил Рибас.
– Он уволился заграницу с сохранением жалования, – отвечал Кушелев. – Отец оставил ему приличное состояние, так что не удивлюсь, если он женится на англичанке.
Новая смерть осенила начало 1784 года. Сердечный друг, утешитель императрицы, цветущий красавец Александр Ланской вдруг слег, жалуясь на горло, и в неделю сгорел в страшных муках в присутствии Екатерины. Конечно же Настя не замедлила сказать:
– Это дело рук Потемкина. Он отравил Александра точно так же, как в прошлом году свел в могилу Григория Орлова, опоив его пьяной травой.
– Нет столицы, где так лелеют сплетни, как в Петербурге, – отвечал Рибас.
– Скорее, здесь именуют сплетнями то, что есть истина, – заявила Настя.
– Тогда… что вы скажете об этом? – Он вручил ей подметное письмо. Жена прочитала, не изменившись в лице и не колеблясь, сказала:
– Я подобные письма о вас не показываю вам, а бросаю в огонь.
– Точно так поступил бы и я. Но что это за переписка с Жемери Дювалем? Он, кажется, в Вене заведует императорским кабинетом медалей?
– Заведовал, – уточнила Настя.
– Кто же он сейчас?
– Покойник, – сказала Настя. Она опустилась в кресло, печально склонила голову на руку. – Вот уже семь лет, как он умер. Я познакомилась с ним двадцать лет назад. Княгиня Голицына, у которой я воспитывалась, скончалась в тысяча семьсот шестьдесят втором году. Иван Иванович взял меня к себе и увез из Парижа в Петербург. Но мы остановились в Вене. В театре ложа Дюваля и наша были рядом. Там мы и познакомились.
– А потом переписывались?
– Разумеется.
– Значит, сведения о публикации переписки – это не выдумка?
– Друг Дюваля взялся издать заграницей его произведения.
– И письма?
– Да. Он написал мне, что просит разрешения опубликовать переписку. И я не нашла причины отказать ему.
– Почему я узнаю об этом только сейчас?
– Тебя не было в Петербурге, когда я давала разрешение на публикацию.
Она отвечала убедительно, логично, и, может быть, именно поэтому он не верил ей.
– У тебя было много времени и возможностей рассказать мне обо всем!
– Я хотела сделать тебе сюрприз, – улыбнулась она. Рибас был взбешен:
– Сюрприз в виде переписки, подобной письмам из «Опасных связей»?
В ответ она откровенно рассмеялась:
– Герои Шодерло де Лакло безнравственные, но обаятельные светские чудовища. И все они наказаны автором. Виконт де Бальмонт убит на дуэли. Президентша де Турвиль умирает. Может быть, ты хочешь, чтобы меня, как маркизу де Мертей, обезобразила оспа и чтобы я ослепла на один глаз из-за моей переписки?
– Вы обязаны были показать ее мне! – закричал Рибас.
– Совершенно не предполагала, что она вас заинтересует, – нарочито удивилась Настя, разводя руками. В ответ он твердо заявил:
– Я не скажу с тобой больше ни слова, пока ты не представишь ее мне.
– Но у меня нет копий…
Он не стал слушать и уехал в корпус. Впрочем, он недолго изводил себя сомнениями и худшими предположениями. Все тот же неизвестный автор подметного письма прислал ему пробный оттиск двух небольших томов произведений Жемери Дюваля. Сопроводительное письмо Рибас отложил в сторону и поспешил сосредоточиться на изучении трудов венского любовника жены.
Его несколько смутила и охладила биография Дюваля, написанная им самим. Когда Валентин Жемери познакомился с Настей, ему было шестьдесят восемь лет.
Однако, вспомнив роман семидесятилетнего Бецкого и юной Глори, Рибас пожал плечами: все могло быть! В биографию он углубляться не стал, лихорадочно перелистывал книги в поиске писем жены, обнаружил послания разным лицам, трактат о медалях, собственноручные картинки автора… Но вот мелькнуло имя Насти – Дюваль называл ее Биби.
Начало несколько успокаивало: Дюваль восхищался Украиной, ее ловкими мужчинами, гигантами-быками и землей, плодоносящей круглый год. Но в ответ Настя упрекала его в долгом молчании, ликовала, что он здоров, как юноша, называла посланцем небес и подписалась: «Безмерно преданная вам, страстная и нетерпеливая Биби». В ответном письме Дюваль называл себя австралийским пастухом, который любит Настю так, как если бы был связан с ней брачными узами. Затем он заявлял: «Вам не угрожает проводить ночи в одиночестве. Но вы тем более избежали бы этого, не родись мы в столь разное время: я слишком рано для вас, вы слишком поздно для меня. Но конечно же, какой-нибудь красавчик блондин это возместит». Настя утешала своего корреспондента, посылала пятьдесят восемь серебряных медалей, голубую лису и пакетик белого чая.
Письма 1773 года могли быть интересны лишь историку, изучающему политические настроения во время русско-турецкой войны. Но вот Дюваль заболел и сообщил, что в жизни его удерживает лишь возможность продолжать пользоваться любовью Насти. «Не умирайте, я так вас люблю, – отвечала она. – У вас много поводов еще пожить: война с турками не кончилась, и вам следует дождаться ее конца. Более того, будущий блондин, который должен стать моим супругом, также заслуживает того, чтобы вы позаботились о своем здоровье. Нужно же узнать, какой я буду хозяйкой, должно быть, очень забавно буду выглядеть в этой роли, но она стоит того, чтобы поглядеть на это. Итак, мой друг, никакого безразличия, никакой угнетенности. Снимите эту тяжесть с моих плеч. Мой дорогой философ, вы будете жить. Я так и слышу, как вы говорите: что это моя Биби заговорила, как Сивилла? Все потому, что никто на свете не желает более вашего выздоровления, как Биби, которая вас привязала на всю жизнь».
«Сочувствие больному – это по-христиански, – думал Рибас. – Но почему меня она называет блондином? Судя по датам, я как раз в то время сделал ей предложение!»
Далее Настя писала: «М. К. не преминул сообщить мне о победе, которую вы одержали над миледи Г. – достойной дамой. Меня это не удивляет, все в ваших руках. Сердце же ваше, как вы говорите, уже завоевано на Севере. Биби это очень лестно».
В этом Рибас усмотрел прямые аналогии с «Опасными связями» Шодерло де Лакло: вроде бы находящийся между жизнью и смертью Дюваль походя овладевает некоей миледи Г.! Или это только лишь уловка Насти, чтобы больного поднять с постели? Но из следующего письма стало ясно: когда он, волонтер, мчался в сабельной атаке на Дунае, его богиня Анастази была очарована неким Дюком де Брагансом!
Запоздалая ревность? Нет, он был в смятении от вероломства наивной, как ему всегда казалось, хоть и считающей себя умудренной во всем жены. «Нетерпеливая, страстная, всегда ваша…» – и это будет опубликовано? Это разойдется по всей Европе о его жене, матери двух его дочерей? Это будут читать в салонах Парижа, Италии, Вены и Петербурга?
Из кадетского корпуса он приехал в дом на Набережной, секундно увидел встревоженное лицо жены, скрупулезно распорядился, что необходимо взять в дорогу. Иван Иванович… Несчастный, вконец ослепший старик. Когда он выезжал, то руку его привязывали к руке кучера, чтобы тот дергал за веревку, если мимо проезжал знакомый камергер_ и нужно было кланяться. На мраморный столик перед Настей Рибас положил записку и поднялся к Бецкому, чтобы обнять его на прощанье. В записке он предлагал жене: «Напишите издателю о запрещении публиковать переписку, иначе мы не увидимся более». Когда он вернулся, жена лишь сказала: «Поздно». И он уехал.
В Москве Рибас остановился на отдых в гостинице, отказавшись от мысли заехать к старохвату Прокопию Акинфовичу. В Киеве виделся с Юрием Владимировичем Долгоруким – тот командовал соединением легкоконных полков. В Кременчуге на крыльце канцелярии Потемкина Рибаса встретил премьер-майор. Он был невысокого роста, без парика, полноват, русоголов и толстощек.
– Василий Степанович Попов, начальник канцелярии светлейшего, – отрекомендовался он и доброжелательно продолжал: – Ваш полк, Иосиф Михайлович, из Крыма вернулся, стоит в Новоселице. Генерал-майор вашего полка Михаил Кутузов переведен шефом Бугского егерского корпуса. Рапорт Кутузова о состоянии полка я вам сейчас передам.
– Скажите, майор, Потемкин в Кременчуге? – спросил Рибас.
– Да. В добром здравии и хорошем расположении духа. Если хотите повидать его – спешите. Все может перемениться. Я вас провожу.
Как это ни странно, но за все годы возвышения Потемкина Рибас видел его лишь на официальных приемах и балах. В эрмитажных собраниях князь поглядывал на бойкого кадетского офицера, но и только. Случая для общения не представилось. Теперь же Рибас приехал в полк, в армию, главнокомандующим которой был светлейший князь. Одноэтажный большой дом с колоннами и десятками покоев гудел, как улей. Куда-то спешили офицеры, где-то играла музыка, слуги в ливреях надменностью не уступали столичным.
Премьер-майор Попов позвал Рибаса в кабинет. Тут было царство мраморных скульптур, сияющих драгоценных столешниц, обитых голубым бархатом кресел. Григорий Александрович – статный, высокий, в рубашке с ослепительным жабо, зеленых кюлотах и в мягких юфтяных малороссийских красных сапожках – стоял у окна и ел что-то из тарелки.
– Надолго к нам, полковник? – спросил он, продолжая свое занятие.
– Как будет угодно вашей светлости.
– Мне будет угодно, чтобы насовсем, – сказал князь, встряхнув головой с каштановыми волнистыми волосами.
– Я в полном вашем распоряжении.
– В прошлый раз ты что-то тут не задержался.
– Болела жена, а потом ездил в Неаполь.
– А что в Неаполе говорят о нашем Греческом Проекте?
Отвечать было нечего, ибо Рибас не знал о существовании такого проекта.
– Я встречался с английским посланником Гамильтоном, аббатом Гальяни, будущим послом в России герцогом Серракаприолой, – отвечал Рибас, – мы говорили о многом, но Греческий Проект не упоминался. Признаться, я и сам ничего не знаю о нем.
Изящным движением Потемкин вытер тонкие губы платком с монограммой «Е», вышитой, по всей вероятности, руками ее величества, и сказал:
– Видно, когда ты был в Неаполе, о нем еще ничего не знали. – Князь сел в кресло, закинул ногу на ногу, покачивал красным сапожком. – Турки считают себя избранным народом, который подчинит себе весь мир. Конечно, Крым они потеряли. Вельможи со всем имуществом бегут. Но турки полагают, что все это лишь временная немилость к ним Магомета. А что это значит? Только одно: скоро гнев Магомета кончится, и весь мир будет у ног османов. А это война, Убей гяура, убей христианина! Вреди ему! – вдруг закричал князь. – Убей, и Магомет обласкает тебя. Если же погибнешь под знаменем Магомета – пророк дарует тебе Седьмое небо! И дадут тебе там жен, соответственно твоим подвигам! Тут вражда навеки. А как с ней покончить? Только тем, что искоренить османскую веру в избранность их народа. А на руинах Порты восстановить греческое государство. Возродить свободную Грецию.
Рибас с восторгом смотрел на князя. Давние юношеские мечты не только возвращались, но и реально были воплощены в Проекте, о котором, верно, уж говорят по всему миру.
– Признаться, ваша светлость, то, о чем вы говорите, меня не только волнует, но и искренне восхищает, – сказал он. – Дать свободу Греции, возродить былую славу Афин и Спарты – что может быть благороднее?
– Вот и превосходно, – сказал Потемкин. – Приходи-ка ко мне сегодня обедать.
И Петербург, и сплетни, и наветы, и предстоящая публикация переписки жены – все это отошло на второй план. Через два дня Рибас уехал в Новоселицу, в полк. Предстояли большие дела, осененные заманчивой мироносной великой идеей.
Часть вторая От любви до заговора
1. Крымская золушка, неаполитанский маркиз и война 1787
Мягкой украинской зимой февраля 1787 года в гостиной кременчугского дома Василия Попова – Базиля – шла игра в старинный Гальбцфельф. Робберы были короткими, быстрыми – играли трое: Базиль за банкомета, понтеры – Рибас и адъютант Потемкина Рибопьер. Базиль сдавал по две карты, если кто-то набирал 9, 19 или 29 очков, тот и выигрывал, взяв прикуп или без него. 8, 18 или 28 очков – тоже было весьма не дурно. Небольшие ставки и свободная игра без записи позволяли говорить на любые темы.
За прошедшие три года многое переменилось в жизни господина полковника мариупольского легкоконного полка. Уж не было той остроты и того восхищения, которые овладели им после памятного разговора с князем Потемкиным. Увы, Греческий Проект предполагал новые разделы земель и народов. Австрия рассчитывала на Истрию, Сербия на венецианскую Далмацию. Франции предназначался Египет. Россия получала влияние в новом государстве – Дакии, в котором должны были объединиться Молдавия, Валахия и Бессарабия. Кроме того, трон свободной Греческой империи прочили внуку Екатерины Константину Павловичу.
И вдруг всколыхнулся от великой вести Новороссийский край: монархиня собралась посетить новоприобретенные земли и Тавриду. Поселенцы, войска и племена – все засуетилось и заметалось в приготовлениях. В конце января Потемкин уже встречал Екатерину в Киеве. Стоит ли говорить, что встреча сопровождалась пушками, приемами и пышными балами. Правда, в свите императрицы среди иностранных послов и вельмож гордо маячил новый фаворит Дмитриев-Мамонов, но для Потемкина он не шел в счет: сам князь и приблизил его к Екатерине.
Пока в Киеве шли торжества, Попов вызвал Рибаса из Новоселицы для подготовки перехода полка в Кременчуг. Доброжелательный и всегда ровный в отношениях с людьми Базиль происходил из духовенства, учился в Казанской гимназии и преуспел в правителях московской канцелярии Долгорукого-Крымского, после смерти которого стал служить у Потемкина, побывал секретарем при собственных делах Екатерины, теперь споспешествовал князю, чтобы тот не ударил в грязь лицом во время монаршьего путешествия.
– Вот вскроется Днепр, станет судоходен, – говорил игрокам-понтерам Базиль, – и флотилия императрицы пойдет вниз по реке. Вот тогда и начнутся главные заботы.
Рибас после сдачи карт получил восемнадцать очков – фигуру и восьмерку, надеялся на выигрыш, но Базиль прикупил и открыл фигуру, пятерку и четверку – девятнадцать. Он рисковал рублем – и получил от Рибаса рубль. Но зато Рибопьер, частенько прикладывавшийся к графину с вином, проиграл Рибасу четыре. Базиль продолжал банковать, ловко проделывал «брюле ле карт» – «сжигал» карты, что означало верх полной колоды положить под ее испод, а Рибас спросил:
– Но почему императрица выбрала такое время года для путешествия? Осенью она болела. И теперь, в стужу, в такую дальнюю дорогу?
– Надо же когда-нибудь и на новые пределы собственной империи взглянуть, – отвечал Рибопьер.
– Ей пятьдесят восемь. Отнюдь не молодые годы, – сказал Рибас.
– А вот ты это ей и скажи, – смеялся Рибопьер.
Попов дружески улыбнулся, покрутил лысоватой головой и напомнил:
– Объявляйте ставки, господа. Но предварительно в карты не смотреть.
В это время пришел начальник интендантского управления барон Бюлер, сразу включился в игру – правила это дозволяли – и сказал:
– Что только не напридумывают! Пошел слух, что светлейший хочет отделить свои края от России, сделаться таврндским царем и завести себе там гарем!
– Открываем карты, господа! – намеренно пресекал опасный разговор Базиль, но когда снова заговорили о Потемкине и императрице, объявил перерыв в игре, сложил с себя обязанности банкомета и сказал:
– Пусть лучше-ка Осип Михайлович расскажет, как он в карты у Зорича играл.
Зорич, бывший фаворит императрицы, был теперь владетельным царьком в Шклове, где держал три театра, собственный кадетский корпус на четыреста воспитанников и основал единственную в мире Академию картежной игры. В Академии преподавали лучшие знатоки Европы, профессора своего дела. О, тут играли и в «триумф», и в «лабет», и «откуп», и «кюльбас», «брускем-биль», и «брискан», и в «кумушку», и в «гок», и в «пок». Зорич был азартен и крайне самоолюбив, но никакой проигрыш не мог пошатнуть его несметных богатств. Впрочем, шкловский Мидас делал ставки сообразно капиталам своих партнеров.
– У меня правило, господа, – сказал Рибас в ответ на предложение Базиля. – В игре не совмещать два греха: вино и карты. Азарт требует ясной головы, иначе демоны азарта могут наслать на тебя безумие. В тот вечер, когда я был в выигрыше, Зорич сел играть против меня и вдруг поставил сто тысяч. Я сказал ему, что таких денег не имею и играть не могу. Тогда он, господа, взял и прировнял мои десять тысяч к своим ста. Я не соглашался, но он настаивал. Что ж, его самонадеянность и заносчивость меня задели. Стали играть. Но каковы бывают причуды Фортуны! У меня от моих тысяч оставалось две сотни, но на них я выигрывал его девяносто пять! Потом все менялось – я снова оставался почти ни с чем, а потом снова выигрывал.
– Колоду надо было поменять, – сказал Рибопьер.
– Меняли, и не раз. И тасовали щедро. Меняли не только карты, но и игру. Пробовали и «фараон» и «макао», и «горки» – а результат один – никто не может выиграть! Меж нами договор был: кончить, когда я проиграю все десять тысяч, а он – все сто. И никак! Уж утро. Профессор Академии за соседним столом письмо в Париж пишет о таком небывалом случае, а нас Фортуна продолжает за нос водить.
– Чем же кончилось? – спросил барон Бюлер.
– Я предложил играть в «пикет».
– И что же?
Рибас улыбнулся, развел руками и ничего не сказал.
– Выиграл, – ответил за него Базиль. – Но Зорич правилу Осипа Михайловича не следовал: усердно смешивал карты с вином. Дело под утро, а «пикет», сами знаете, требует внимания большого. А какая уж тут сосредоточенность, если Зорич носом клевал.
– Надо было выспаться, а вечером снова начать, – сказал Рибопьер.
– Это против договора, – отмахнулся Бюлер. – Так не играют.
– Мы разошлись, – сказал Рибас. – Но я, господа, подумал, что благородно будет и мне приравнять сто тысяч Зорича к моим десяти. Значит, я выиграл у него десять тысяч, а не сто. И девяносто тысяч я ему с лакеем отослал.
– Зря, – сказал Бюлер. – Он миллионер. Что ему сто тысяч?
– Миллионер, а скуповат, – сказал Базиль. – Девяносто тысяч принял, но велел сказать, что выполнит любое желание Осипа Михайловича. – Базиль рассмеялся. – И пришлось выполнить на посмешище всего Шкло-ва!
– Какового же было желание? – спросил Рибопьер.
– Зорич у себя завел такой порядок, – отвечал Попов. – С утра запрягают тридцать экипажей, и они разъезжают по Шклову целый день только для того, чтобы любой дворянин мог сесть и ехать куда ему угодно. Во г Осип Михайлович и пожелал, чтобы одного коня в этих экипажах назвали Семеном!
Офицеры расхохотались: Зорича звали Семеном.
– С тех пор, кто в Шклов ни заезжает, требует экипаж с Семеном, – смеялся Базиль. – А если конь на конюшне, то ждут: вот Зорича запрягут, и поедем!
Утром Рибас уезжал в Новоселицу. Возле полковничьей кареты его поджидал адъютант, но Попов отозвал Рибаса в сторону и тихо сказал:
– Что касается ваших вопросов: почему императрица зимой выехала из Царского, объясню. Предполагалась срочная встреча с императором Иосифом. А теперь дела задержали его в Вене. Говорю вам потому, что знаю, как вы извелись в Новоселице в ожидании стоящих дел.
Надежно схваченные льдом Ворсклу и Орель карета Рибаса легко миновала по санному пути, не выезжая на ветхие мосты. Полковник смотрел на них с тревогой: вести полк в Кременчуг придется в апреле, когда льда, верно, уж не будет. Выдержат ли мосты до тысячи всадников с обозом? В Новомосковске на реке Кильчени решили заночевать. Еще недавно Новомосковск назывался Екатеринославом, но из-за гиблости места Екатеринослав перевели на правый берег Днепра, а хиреющий Новомосковск встретил путников большим шумом на площади. Слышались крики, надсадная ругань. Рибас послал адъютанта узнать: в чем там дело, и тот скоро вернулся, смеясь:
– Вербовщик везет полсотни молодых баб в Крым. Там за каждую ему обещали по пять рублей. Но здешние холостые украинцы заплатили вербовщику Шмулю Ильевичу по шесть рублей и начали выбирать себе будущих хозяек. И ничего не выбрали. Потребовали деньги назад. А Ильевич вернул им по пять рублей. Рубль, говорит, за просмотр. Вот и стали его бить. А он кричит: за осмотр девок да еще с битьем – это по два рубля с вас!
Посмеялись. К ним подъехал на открытых санках один из купцов Фалеевых – Михаил и пригласил ночевать у него. За обильным столом с французской померанцевой водкой, неисповедимыми путями оказавшейся в заснеженных краях, Рибас сделал выговор приказчикам Фалеева:
– Красных кож обещали. А все не везут.
– Перепорю всех, – сказал Фалеев. Тонким лицом он походил на отца, которого Потемкин, к неудовольствию дворян, сделал премьер-майором и правой рукой в торговых делах. У Фалеевых были и поместья, и земли, и водяные мельницы, и заводы, да еще в придачу торговая компания «Жамес и Сиднев», владеющая судами в Крыму. Впрочем, англичанина Жамеса и тульского купца Сиднева Фалеевы оставили только в названии компании, а доходное дело вели сами.
Рибасу хотелось привести мариупольцев на встречу Екатерины в портупеях, перевязях, подсумочных и епанечных ремнях красной кожи, а не черной, как у прочих. Но после застолья в жарко натопленных покоях он теперь думал не об этой романтической затее, а о том, что ему сказал Попов перед отъездом. Было очевидным: присоединение Крыма к России турки не простят. Подготовка к войне вдвойне очевидна. И если при этом императрица, забыв о хворобах, едет на встречу с австрийским императором, значит, нужны срочные переговоры и союз в предстоящей войне.
За эти годы ссора с женой из-за опубликованной переписки с Дювалем потеряла остроту, их отношения восстановились разлукой и письмами. В них, и в письмах Бецкого легко читалось, что теперешний вершитель русской политики, дунайский знакомец Рибаса Александр Безбородко холоден ко всему английскому. За этим угадывалось: Англия не только толкает Порту к нападению, но и, верно, продает ей медные пушки и новые корабли. Людовик XVI был занят внутренними проблемами, от которых лишь морщился, а со всей страстью предавался только двум родам государственной деятельности: охоте и слесарному делу. Последнее он обожал. Если день проходил без охоты и слесарни, он записывал в своем дневнике: «Ничего».
В прошлом году, когда Рибас играл у Зорича, умер в начале марта Фридрих Великий. В Екатеринославских полках заговорили о том, что новый прусский король Фридрих-Вильгельм немедленно начал интриговать в Константинополе с аглийскими целями: столкнуть Порту и Россию, пока у последней нет союзников. Екатерина теперь не зря спешила на юг. Но еще поговаривали, что Фридрих-Вильгельм обещал султану втравить в будущую войну и шведов. А для этого были основания. Густав II еще со времен своего магдебургского падения с лошади не унял обид, претензий и великого самомнения. Слова Екатерины, что Александр Македонский не падал по своей оплошности с коня, наверняка достигли ушей мнительного Густава.
Об одном Рибас мог только догадываться: каковы амбиции во всей этой политической талии его родного Неаполя? Увы, Дон Михаил, глава неаполитанского рода Рибасов, умер. Известие о его смерти достигло Джузеппе спустя полгода. Горечь утраты разделить было не с кем. Виктор Сулин жил в Севастополе. Рибас написал о смерти отца Эммануилу – брат к этому времени стал капитаном и стоял с полком в Крыму под Керчью. Младшие братья готовились к военной карьере в Неаполе и писали редко.
С тех пор, как Рибас получил из Королевства Обеих Сицилии последнее письмо от Андрея Разумовского, о политической жизни Неаполя вестей не было. Недаром граф Андрей беспокоился, что королева Мария-Каролина неосторожна с его письмами: через придворную даму ©ни попали к испанскому послу, разразился скандал, и Екатерина перевела графа Андрея в Венецию. Послом в Неаполе стал полусумасшедший меломан Павел Скавронский. Отец его был душевнобольным. Умерев, оставил баснословные богатства, и сын женился на племяннице Потемкина, жил заграницей, музицировал, сочинял ералаши, пока не дозрел до дипломатической должности. Но и в своем посольском доме продолжал говорить с гостями речитативом.
За эти годы умер Дидро. Умер, как писала Настя, после весьма умеренного обеда в новой квартире, которую ему через Гримма наняла Екатерина. Свою новую обитель в отеле «Безон» он величал дворцом, но прожил в нем всего две недели. Императрица передала его вдове тысячу ливров, что составляло пенсию на пять лет вперед.
Солнечная оттепель разбудила полковника утром. Молодой Фалеев, прощаясь, поставил в карету презент – корзину с французской померанцевой и обещал проследить за доставкой кож. До Новоселицы путь был недолог, но Рибас уж не думал ни о предстоящих будущих заботах, ни о делах дипломатов. Теперь он с удовольствием представлял, как примет рапорт дежурного офицера, зайдет к себе, переоденется и отправится в дом полкового капельмейстера, где с нетерпением ждала его прелестная Айя.
Встреча с ней произошла два года назад при стечении самых разных обстоятельств. Приехав в Кременчуг по делам полка, Рибас встретил там Марка Войновича, подивился появившейся у капитана степенности, важности. Марк Иванович говорил со значением:
– Я командую эскадрой в Севастополе, а все приходится просить. Хлопотал об отводе мне земли в Крыму.
– Отказали?
– Нет. Но стоило мне попросить, Потемкин ругался, что Крым разворовали. Николай Мордвинов шесть тысяч десятин получил на Южном берегу. Я просил вдвое меньше. А Попов отхватил себе тридцать тысяч десятин. Даже юнгфера Пересухина у нас земли имеет.
Услыхав о Мордвине, вспомнив его флорентийскую мадонну-англичанку, Рибас спросил:
– А что Мордвинов? Женился? Где он?
– Назначен старшим чином Черноморского адмиралтейства, – сумрачно отвечал граф. – Пребывает в Херсоне. Женился, но жену с собой, кажется, не привез.
После присоединения Крыма к России татарам была обещана неприкосновеность имущества и владений. Но многих склоняли к отъезду мурзы и турецкие посулы, и татары бросали дома, виноградники, сады и уезжали в Турцию. Бывшие ханские земли и большая часть степного Крыма оказались свободны. И, когда Рибас говорил об этом с Войновичем, услыхал знакомый голос:
– И вы Крымским собственником хотите стать, Джузеппе?
Это был Виктор Сулин. Он ничуть не изменился, восторгался Тавридой и советовал Рибасу:
– Вам надо непременно иметь земли в этом сказочном краю.
– Чтобы купить, денег нет, – отвечал Рибас.
– Где вы видели охотников покупать, если светлейший князь и бесплатные ордера на землю дает? Греки у нас селятся в Балаклаве, Аутке. Кубанцы в степях. Четыре тысячи церковников в Новороссию пришло и никто без земли не остался.
Одним словом, Рибас тут же через Попова получил ордер на полторы тысячи десятин в Акмечетском (Симферопольском) уезде. Правда, Попов сказал:
– Когда камеральное описание земель будет закончено, тогда межевые планы выдадут.
Но все-таки неожиданно для себя Рибас сделался землевладельцем, испросил отпуск и отправился в Крым вместе с Виктором. В канцелярии Ак-мечети ему предложили тысячу тридцать девять десятин удобной земли и сто семьдесят пять неудобий при деревне Биюк-Сюрен, куда они отправились, прихватив с собой переводчика-толмача. Встретил их татарский староста и указал дом с садом, который Рибас мог занять. Но господа расположились на лужайке возле зарослей кизила. Адъютант разжег костер, из аула явилась шумная депутация с барашком.
– Требуют, чтобы староста разделил на всех имущество мурзы, – сказал толмач.
– Пусть разделит, – отвечал новоявленный землевладелец.
Родственники старосты были этим возмущены. Его противники неумело кланялись землевладельцу и привели из селения девочку-подростка в темных нищенских одеждах.
– Они дарят ее вам в жены, – объяснил толмач.
Она была худа, для татарки высока ростом, упиралась, закрывала лицо платком, но ее подвели к Рибасу, заставили кланяться.
– Поздравляю, – сказал Виктор. – Сеньора хоть куда.
А сеньора, немного освоившись, принялась хлопотать у костра. Толмач объяснил, что она дочь грузинки из гарема местного князька, сбежавшего в Очаков, зовут ее Анаида, живет в селении из милости. За трапезой девочка прислуживала, принесла миску с водой, чтобы господин землевладелец совершил омовение. Рибас подарил ей золотой и они уехали в Севастополь, где Войнович пригласил их сопутствовать ему в крейсерстве между Ахтиаром и Козловым. Дом графа был на противоположной стороне от Севастопольской пристани. После завтрака друзья вместе с Войновичем на гребном катере приплыли к пристани, где дежурный офицер доложил, что утром солдаты поймали татарку, которая то что-то высматривала на верфи, то заглядывала в окна казенных домов. А окликнули – пыталась бежать.
– Я ее расспрашивал – молчит, – сказал дежурный офицер. – Велел запереть ее в якорном сарае.
– Пусть посидит, – сказал Войнович – Вернемся – расспросим.
– Золотой рубль при ней нашли, – сказал офицер.
Виктор и Рибас переглянулись.
– Сеньор, не вашу ли это жену в якорной сарай посадили? – засмеялся Виктор.
Да, это была испуганная, покорная, обрадованная спасением Анаида. Войнович, узнав ее обстоятельства, отправил ее в свой дом на попечение жены. Вернулись они через полмесяца, так как продлили свое крейсерство до самой Кинбурнской косы. Во время обеда жена Войновича ввела в столовую девушку, в которой было невозможно узнать несчастную Анаиду. Перед пораженными гостями предстала стройная, темноволосая синеглазая красавица.
– Добрый день, – сказала она, тщательно выговаривая слова, и смутилась, потупила взор. Мужчины онемели, а жена Войновича, смеясь, сказала:
– Она не только красавица, но и умница. Все хватает на лету. Вы когда уезжаете, Осип Михайлович?
– Через пару дней, – ответил Рибас, а жена Войновича перешал на французский:
– Она считает, что обязана всюду следовать за вами. Но уж вы ей скажите, чтобы она оставалась здесь. А еще лучше – прикажите. Мы к ней привыкли.
С чувством сожаления полковник исполнил все, что от него требовалось. А через год Виктор привез Анаиду в Новоселицу.
– Так уж пришлось, – сказал он. – Она объявила, что уедет к вам сама.
Вот так и появилось в жизни Рибаса это поразительно нежное и пугливое существо. Способностей она была необыкновенных. Довольно бойко говорила по-русски и даже вставляла в свою речь французские заученные фразы. Но что оставалось делать? Рибас поселил ее в доме полкового капельмейстера, и Айя, как девушку по-домашнему звали Войновичи, учила с капельмейстером грамоту, читала, вела хозяйство и была счастлива, когда господин полковник брал ее с собой на прогулки. Полковые офицеры оказывали ей особое почтение. Не было ни одной ярмарки, с которой ей не привозили подарки. Когда Рибас болел и не мог есть из-за воспаленного простудой горла, Айя грела на кухне мешочки с песком, несла их полковнику и сидела на полу возле постели, а смотрела на Рибаса так, что он начинал понимать древний обычай, когда цветущая жена почитала за счастье быть заживо погребенной вместе с умершим воином.
Полковые романы – отнюдь не редкость. И Рибас ездил с офицерами на приемы в окрестные имения, где в провинциальных жеманницах недостатка не ощущалось. Молодая вдова Катрин Васильчина, владелица имения под Новоселицей, жила в нем с тетушками и молоденькими наперсницами. Офицеры благоговели перед Катрин, а ее фантазиям удержу не было. То объявлялась охота на степных лисиц с помощью луков. То предлагалось найти в стогу сена записку Катрин, и офицеры дружно брались за дело.
– Зачем вы предложили им это? – спрашивал Рибас.
– Награда – мой поцелуй, – смеялась обольстительница. – А заодно они переворошат сено и оно высохнет.
– Кому же адресована записка?
– Вам, всем и никому, – отвечала Катрин. – В ней всего лишь строка из Овидия.
Тайные офицерские романы в степной провинции ни для кого не составляли секрета. Но Анаида, Айя, Аида, Наяда, как он ее называл, любила Рибаса открыто, страстно, выказывала ему преданность, не стесняясь никого, и связь с ней господина полковника приняли в Новоселице как нечто само собой разумеющееся, и девушка расцвела в непосредственную, обаятельную, прелестную женщину, которая могла бы составить счастье любому, даже светскому человеку. «Что стало бы с ней в татарском селении Биюк-Сюрен, не появись я там почти случайно?» – спрашивал себя Рибас. Но здесь же задавал себе и другой вопрос: «Что будет с ней, когда моя жизнь переменится, когда я уеду в Петербург?»
Полковой священник отец Михаил крестил девушку, дал ей имя Анна, отчество выбрал по своему имени – Михайловна, а фамилию записал Князева, узнав, что мать ее была женой князя. Сколько ей было лет, она не знала, но священник, взглянув на высокую грудь девушки, женский стан, тут же и определил: «Семнадцатый год девка без православной веры живет».
В конце декабря, уезжая в Кременчуг, Рибас ощутил неожиданную холодность любящей его женщины. Она не знала, что он скоро уедет, и ее отчужденность нельзя было объяснить ревностью. На его расспросы не отвечала, почти не бывала у него. Но теперь, возвращаясь после почти трехмесячного отсутствия, Рибас почувствовал радостную приподнятость от предстоящей встречи, клял себя за невнимательность к преданной Наяде и решил в предстоящий поход полка в Кременчуг взять Айю с собой.
В Новоселице дежурный премьер-майор Карл Вильсен доложил, что в полку все спокойно, но случилось три происшествия. Конник первого эскадрона напился пьян и его нашли замерзшим на берегу Кильчени. Двое солдат силой напоили до смерти поляка, привезшего бочку водки, и оправдывались тем, что водка была, как вода, а шинкарь продавал ее, как крепкую двойную: вот и попробовали на нем ее крепость. Унтер Савельев, бывший на постое в семье ремесленника-грека, вдруг переломал у хозяев всю мебель и стал рубить стены. Содержится под арестом и не помнит того, что творил.
Уже дней десять Рибаса ожидало письмо из Петербурга, от жены, и он удивился: почему письмо не попало к нему в Кременчуге. Послание Насти он отложил на потом, назначил на завтра офицерский сбор и поспешил к Айе. Но на крыльце его догнал Карл Вильсен и сказал по-русски с акцентом:
– Уефала Анья. В началье генваря уефала. До сих пор нет.
Как? Куда уехала?… Но расспрашивать офицера Рибас не стал, заставил себя улыбнуться и сказал:
– Да. Я знаю.
Подробности он узнал через четверть часа, когда вошел в дом капельмейстера. В комнатах, где жила Айя, все осталось, как прежде. Альков застелен зеленым бархатом, выложенные изразцами печи натоплены.
– После Рождества она как будто заболела, – рассказывал капельмейстер. – А потом как-то зашел проезжий казак, из бывших запорожцев. Сказал, что переночует у меня, хоть я его и не пускал. Человек он богатый, веселый. Переночевал, а утром она пожитки собрала да и уехала с ним.
– Что за казак? Куда уехала? – нетерпеливо спрашивал Рибас.
– Да кто знает? Он и про Крым говорил, и про свой дом где-то на Днепре. Много он ей рассказывал. Видно, много повидал.
– А имя его?
– Если бы знать, спросил бы. Казак да казак. Но не из простых. Пояс серебряный. У пистолей дерево позлащенное.
– Велела она мне что-нибудь сказать?
– А как же. Чтобы не беспокоились. Что так надо.
Конечно же, в полку уже знали обо всем. Он отправился к себе, солдату велел топить баню, адъютанту оповестить господ офицеров о вечеринке с французской померанцевой и стал читать письмо жены. Из него узнал, что Бецкого все забыли, как забывают добродетель, когда она становится привычной. Дочери росли. Старшая мечтала стать смольнянкой. Как бы между прочим, Настя сообщала, что Безбородко увлекся некой девицей Давиа. Об этом романе много говорят. Вершитель политики России настолько ценит ее певческий талант, что его жена однажды увидела на певице свои бриллианты, после чего императрица распорядилась выслать певицу из Петербурга.
В конце письма Настя писала о «Трактате дружбы, мореплавания и торговли» между Неаполем и Россией, который был передан императрице перед ее отъездом на Юг. Это была важная новость для полковника. Посланника Скавронского и официальных лиц от короля Фердинанда Безбородко ждать не стал и уехал вместе с императрицей. Это удивило неаполитанского посла герцога Серракаприолу, но теперь Рибас знал: встреча с Иосифом была важнее. Впрочем, Скавронский, по всей вероятности, поедет следом за императрицей. Рибас решил непременно повидать его, чтобы перед отъездом посланника в Неаполь передать с ним деньги для матери.
Полковые будни ознаменовались примеркой новой формы, которую Потемкин вводил в войска уже несколько лет. Рибасовы конники щеголяли в коротких куртках вместо кафтанов, панталоны в обтяжку сменили на удобные штаны, треуголки – на поярковые каски с султанами из конского волоса. Потемкину нужно было стать Президентом Военной Коллегии, чтобы отменить в армии пудру, косу, букли. Во многих садах Новоселицы чучела обзавелись обновой – прусскими париками. Но по сути в армии мало что менялось. Конечно, ружья теперь не имели прямых лож для удобства держать их во время смотра – начали думать о том, что из таких ружей прицельно не выстрелишь. И в прикладах не выдалбливали камеры, в которые клали черепки, чтобы при исполнении ружейных приемов каждый удар производил громкий звук. Перемены не коснулись обеспечения войск. Полковым командирам приходилось убывших выдавать за присутствующих, вести тайную бухгалтерию, чтобы полки имели божеский вид.
Купец Фалеев сам сопроводил обоз с кожами в Новоселицу, угощал отменной стерлядью, говорил:
– В марте еду в Херсон. Повезу из Крыма ковры для встречи императрицы. Вашему воинству ковров не надобно?
Воспользовавшись случаем, Рибас отправил с Фалеевым в Кременчуг письмо Базилю:
«29 февраля. Как поживаете, предорогой друг? Знаете ли, что привычка проводить время с вами, сделала для меня меньше сносным тех, с которыми прежде здесь был довольно хорош. Не прощу вам того, что вы мне сыграли штуку, приучив меня к вашему обществу, ваша совесть ответит за скуку, которою страдаю здесь. Для довершения неудач, я нашел свою клетку пустою: единственная птичка, которую там оставил, воспользовалась моим отсутствием, дабы поместиться у какого-то запорожца. В окрестностях тоже находится соловей… но эти птички требуют много забот в их кормлении, а это не по моей части. Пользуюсь выездом г. Фалеева, чтобы поговорить с вами; но это будет только на минутку, ибо я боюсь отнять у вас время, которое вы посвящаете киевским красавицам, а особенно госпоже канцелярии. Мне очень нужно вас о многом спросить и многое сказать… Граф Скавронский прибудет ли в ваши края перед отъездом в Неаполь? Я имею просьбу к нему, которая для меня очень важна».
Под Кременчугом Мариупольский полк расположился на берегу Днепра в двух верстах от уреза воды, как приказали, чтобы не тревожить ясны очи императрицы кострами и непарадным лагерным бытом. Утром командующий Кременчугской дивизией генерал-аншеф Суворов произвел смотр полкам. На Совете сказал коротко:
– Первым от легкой конницы пойдет Мариупольский. А за ним – Павлоградский и Полтавский. Где полковник мариупольцев? – и, найдя глазами Рибаса, кивнул ему: – Благодарю-благодарю!
Царский караван судов из восьмидесяти галер медленно приближался к Кременчугской пристани. Ахнули пушки, грохнули оркестры, и Рибас попридержал переступившего с ноги на ногу английского скакуна. Издали полковник видел декоративно сияющего Потемкина, знакомые лица послов – австрийского Кобенцля, французского Сегюра, принцев Нассау и Ангальта. Важное, но какое-то кукольное лицо Екатерины выражало восторг и милостиво улыбалось. Архиепископ Екатеринославский, родом вятич, переводчик Мильтона и член Российской Академии отец Амвросий говорил речь от имени смиренной паствы божией.
По всей вероятности, перемена средств передвижения – с галеры на карету не прошла бесследно для императрицы, она поспешила в генерал-губернаторский дом и скрылась в его покоях, когда мимо по улице браво шли екатеринославские кирасиры, гремели оркестры и легкие конники салютовали палашами. Разместив полк в лагере, Рибас переночевал в палатке, а утром первого мая верхом прискакал к генерал-губернаторскому дому. В саду Базиль представил его принцу Нассау-Зигену.
– Вы полковник мариупольцев? – переспросил Нассау. – Завидую вам. Я в России до сих пор без должности. До приезда сюда я был на испанской службе и командовал плавучими батареями в Гибралтаре. А теперь выполняю мелкие поручения князя: занят устройством сел, садов, чтобы везде достойно встречали императрицу.
Потомок древнего рода Оттонов и Нассау Оранских, в родословной которого были и короли Англии и германские императоры, кивнул в сторону дома:
– Там опять хлеб-соль, речи, иконы. По-моему в Кременчуге никто не успокоится, пока не приложится к руке монархини.
Принц Ангальт, гуляя по аллеям, занимался странным делом: сходил с дорожки и пробовал вырвать из земли то дерево, то куст.
– Принц! – окликнул его Нассау. – Не сомневайтесь: в Кременчуге все настоящее, уверяю вас. К стволам не привязаны ветки. А цветы персика – не крашеная бумага. Это ранний сорт.
– Почему вы так уверены? – сомневался Ангальт.
Нассау расхохотался:
– Уверен потому, что я этот сад не устраивал!
В это время всех отвлекли всадники в черных одеждах, высоких папахах. Кинжалы воинов были в серебряных ножнах. Всадники спешивались у крыльца.
– Это тоже местные жители? – спросил Нассау.
– О, нет, – ответил Рибас. – Скорее, это кавказцы.
– Ваша правда, – сказал Попов. – Это депутация Осетинского народа и Кабардинских племен. Прибыли просить императрицу о крещении. – Повернувшись к Рибасу он тихо промолвил: – Обязательно зайдите ко мне после маневров. – И поспешил к депутации.
– Как прошла встреча на Днепре с королем польским? – спросил Рибас у принца.
– Бедно, – отвечал Нассау. – Король Станислав ждал императрицу в Каневе три месяца и успел промотать три миллиона.
Обед, на который были приглашены генералитет, все полковые командиры и чиновники не ниже шестого класса, был дан в специально выстроенной зале под оркестр и малороссийское хоровое пение. За десертом исполняли ораторию Джиованни Сарти. Сочинитель руководил исполнением лично и делал это так же вкрадчиво, как интриговал в кругах придворных музыкантов. Екатерина несомненно отметила присутствие Рибаса за столом, потому что, когда встретилась с ним на мгновение взглядом, на лице монархини мелькнула тень озабоченности.
«Увидев меня, она вспомнила о Бобринском, – подумал Рибас, и был недалек от истины. Екатерина и у Бецкого не бывала из-за того, что воспитатель будущего гармоничного человечества не смог привить эти гармоничные черты ее тайному сыну. Алексей прожигал жизнь в Париже и наотрез отказался вернуться в Россию. Правда, в письмах к матери он выказывал гражданскую преданность и постоянно жаловался, что его оставили в Париже без гроша. Мать потребовала от Бецкого, чтобы он неукоснительно высылал Алексею проценты с его капиталов, а именно тридцать тысяч в год.
На это, как писала Настя, оскорбленный старец ответил, что банкир Сутерленд не представляет никаких квитанций от Бобринского – намек на то, что Алексей попросту проматывает или проигрывает деньги. Бецкий напомнил, что парижский беглец получал неукоснительно по 37645 рублей в год, и что он может впредь иметь эти деньги любым другим путем, минуя самого Бецкого. Мать не обратила внимания на выволочку старца, жаловалась в Париж Мельхиору Гримму и просила не оставлять Алешу без присмотра и денег.
Подумав о том, что императрица за веселым застольем вспомнила о сыне, Рибас не мог предположить, насколько он был прав. Даже с галеры, плывущей по апрельским водам Днепра, Екатерина находила время писать о сыне Гримму в Париж. Ей было прискорбно, что Алексей в долгах, проиграл в несколько вечеров свой доход за два года, но при этом, непоследовательная, как всякая мать, называла сына скрягой, но мотом. «Отныне, – писала она, – Бобринский будет получать лишь десять тысяч. А остальное – в уплату долгов. Посоветуйте ему поехать в Англию! Там найдутся русские корабли! Если у него нет денег па дорогу – дайте ему наперехват до тысячи червонцев. Он умен, отважен, но лентяй и распущен… но все это со дня на день может измениться к лучшему…» Мать, обольщалась надеждами, сын в Париже поочередно попадал из нежных объятий кокоток в ловкие руки шулеров. Будущее его предугадать было невозможно.
После обеда Потемкин представил Екатерине невиданный фейерверк, который высветил необыкновенные миражи, дали и виды. Наутро Суворов руководил маневрами сорока пяти эскадронов, которые на рысях брали крепость. Гренадеры и мушкетеры показали отменную выучку в построениях в линию, в колонну, в каре. После маневров Рибас встретился с посланником в Неаполе Павлом Скавронским. Тот нес околесицу невероятную. Узнав, что Рибас неаполитанец, пообещал:
– Я приглашу вашего отца на свой концерт.
– Увы. Он умер.
– А как вам понравилась оратория Сарти?
– Он старался угодить императрице.
– Мой лакей угодит лучше, – заявил Скавронский. – Итальянцы портятся в России. Итальянцы должны жить в Италии. Другой такой страны нет. Я обязательно послушаю домашних музыкантов вашего отца. А вы знаете, что Сарти – убийца? Своими интригами и скверной музыкой он довел до самоубийства маэстро Березовского. Сарти – итальянец. И должен жить в Италии. Вы, кажется, из Австрии?
Рибасу показалось, что Скавронский пьян, но тот трезво рассуждал о гении Моцарта и сказал, что Моцарт просто расплакался, когда услыхал его, Скавронского, сонату. «Немудрено», – подумал Рибас и отказался от мысли что-либо поручать посланнику.
Поздним вечером Рибас прискакал к дому канцелярии, где увидел освещенные окна. Базиль был встревожен.
– Рассчитывал отдохнуть с вами за картами… Но только что получено известие, что Иосиф II в Херсоне.
– Превосходно, – сказал Рибас.
– Да. Но он не хочет ждать императрицу там. Князь приказал послать в Херсон надежного человека. Курьерский экипаж у крыльца, Осип Михайлович. – Он передал полковнику пакет. – Это депеши Мордвинову. Поезжайте. Наши курьеры неуклюжи. Свитские пьяны. Главное: все сделать, чтобы Иосиф дождался императрицу в Херсоне. Займите его своим вниманием, как вы это умеете. С Богом.
Курьерские тройки унесли полковника в майскую ночь Украины. Лошади менялись без промедления. Рибас понимал встревоженность Потемкина: князь не хотел, чтобы Иосиф увидел на дорогах из Херсона то, что он не приготовил для него и очей императрицы. Пять ночей и дней скакал полковник на юг. В пятнадцати верстах от Херсона на реке Ингулец лодок не оказалось, и Рибас переплыл на другой берег на неоседланной лошади и вскоре спешился перед херсонским адмиралтейством. Николая Мордвинова он попросту не узнал. Вместо статного офицера, каким он его помнил, предстал грузный, обрюзгший и нестерпимо неторопливый старший офицер адмиралтейства. Только обстоятельно осведомившись о цели Рибаса, он сказал:
– Их величество Иосиф Второй австрийский давно отбыл на встречу с императрицей.
– Когда?! – воскликнул Рибас.
– А зачем вам знать сие? – Мордвинов сел за стол. – Вот прочитаю депеши светлейшего и, если вам положено, тогда и скажу.
Что было делать? Никто не уполномачивал полковника ехать за австрийским императором следом. Раздосадованный Рибас ждал. Наконец, Мордвинов сказал:
– Ну, что же. Попов вас отлично рекомендует и пишет, чтобы я прислушался к вашим советам, как лучше принять императрицу. – Он тяжело вздохнул. – Жду ваших советов.
– Сначала я осмотрю город, – сказал Рибас.
В это время в кабинет вошел инженер-полковник Корсаков, с которым Рибас был шапочно знаком в Петербурге.
– Николай Семенович, – начал Корсаков не чинясь, – как же мы дома возле новопостроенного дворца приведем в божеский вид, если вы опять всех плотников распорядились на верфь гнать?
– Домов императрица навидалась и в Петербурге, – отвечал Мордвинов. – А верфь на Черном море будет видеть первую.
– Но мне ответ держать за дома.
– Возьмите вольнонаемных плотников.
– Чем я им платить буду?
Перепалку прервал адъютант, сообщивший, что из Константинополя привезли давно ожидаемые цветные паруса. Рибас вышел из Адмиралтейства и отправился осматривать город. В крепости стояло несколько десятков добротных домов. В торговой пристани на судах развивались только турецкие и русские флаги, но разноязыкая речь всей Европы слышалась отовсюду. Объяснялось это тем, что в Черном море разрешалось плавать только российским и турецким судам, но Потемкин дал право поднимать российский флаг на судах дружественных стран. Остановившись в доме для офицеров, неподалеку от дома Корсакова, где тот жил с женой – сестрой Мордвинова, Рибас отправился на верфь.
По дороге он видел дома с садами и они производили бы приятное впечатление, если бы не великое множество землянок. Вырыты они были повсюду и кое-как прикрыты тростниковыми крышами. Возле трактира данцингского купца Витте полковник стал свидетелем свары меж хозяином и его соотечественниками-сектантами менонитами-анабаптистами, которые не хотели платить. Солдаты гнали на работы каторжников, и многие из них были в цепях. Возле верфи расположилась рота пехотного Курского полка, солдаты, морщась и балагуря, ели лимоны, не очищая кожуру. Капитан роты объяснил:
– Весь апрель резали в плавнях камыши. Половина роты больных. Лекари велели есть итальянские померанцы. Интендант покупает на рубль сто плодов.
На верфи готовились к спуску два линейных корабля и. фрегат. Мордвинов оказался тут. Увидев Рибаса, сказал с явной насмешкой:
– Вы мне советы готовы давать? Жду не дождусь.
И невооруженным глазом любой заметил бы, что корабли построены из сырого леса, но советовать просушить его теперь… – верх бессмыслицы.
– Почему пушки поставлены лишь у одного борта? – спросил Рибас.
– А на другой борт орудий нет! – вдруг закричал в ответ Мордвинов.
– Как бы суда при спуске не перевернулись, – заметил Рибас.
– А мы на другой борт мешки с песком навалим!
Давать советы старшему офицеру флота больше не хотелось, но все-таки Рибас сказал о землянках и посоветовал немедля шить палатки.
– Тут двадцать четыре тысячи нижних чинов, – устало сказал Мордвинов. – Где их разместить, как не в земле?
Но уже на следующий день палатки стали появляться, и окрестности приобретали довольно живописный вид. Рибас собирался вернуться в Кременчуг, но прибывший курьер сообщил новость: императрица, наконец, встретилась с Иосифом в местечке Новые Кайдаки и едет в Херсон. Город заканчивал последние приготовления перед встречей. На переправу через Ингулец Рибас отправился вместе с офицерами Александрийского эскадрона.
На берегу гремел оркестр, выстроились войска. Императрица и Иосиф вышли из кареты и направились к украшенной цветами галере, кормой которой управлял Мордвинов. Когда их величества, Потемкин и свита оказались на другом берегу, Рибас подошел к Попову.
– Все, слава Богу, обошлось, – сказал Базиль. Князь получил важное известие и велел вам быть в Херсоне. – Его позвали к свите и он ничего не успел объяснить.
Карету их величеств к городу сопровождали эскадроны и мещане в седлах. После молебна в новопостроенной церкви Святые Великомученницы Екатерины высокие гости прошли во дворец, где Потемкин представил им племянника польского короля и российского посланника в Турции Булгакова, прибывших накануне.
Вечером на военном форштадте в офицерских домах только и говорили об известиях, которые привез из Турции посланник Булгаков. Кременчуговские карточные партнеры Рибаса барон Бюлер, Попов, адъютант Рибопьер забывали делать ставки, обсуждая константинопольские дела.
– Войне не быть по трем причинам, – говорил Базиль. – Во-первых, Махмут-паша Скутарийский враждебен Константинополю. И собирает армию. Во-вторых, у османов кругом полный развал. Порядка никакого. Даже на флоте обедают кто когда захочет, а не по команде. В-третьих, у них все на корысти держится. Каждый паша выдумывает десятки глупых должностей для чиновников, чтобы эти должности продавать и покупать себе жен.
– Поэтому война может начаться хоть завтра! – горячился Рибопьер.
– Покойник Фридрих Великий говорил: «Турки за деньги продадут и свой коран!»
– У них казна пуста, – замечал Бюлер.
– Вот именно! – подхватывал Базиль. – Булгаков говорит, что прошлогодний доход в восемьдесят миллионов султан уж по ветру пустил.
– Черт с ними, с османами! – восклицал Рибопьер. – Потемкин делает ставку на то, что христиан в Порте в три раза больше, чем мусульман.
Рибас ждал, когда Базиль, наконец, скажет ему о причине, по которой Потемкин приказал ему остаться в Херсоне, и Базиль удовлетворил его нетерпение:
– Князя известили, что завтра неаполитанская депутация прибывает, и вам, Осип Михайлович, велено быть при ней.
На расспросы Базиль отвечал, что депутация официальная, от короля Фердинанда, возглавляет ее маркиз Галло. Едет он для уточнения статей торгового договора и изъяснения дружеских чувств.
На следующий день депутация прибыла в трех запыленных каретах. Рибас представился маркизу, показал отведенные покои. Галло спросил:
– Давно ли вы живете в России?
– Почти пятнадцать лет, – ответил полковник. Щуплый, низкорослый, резкий в движениях маркиз вдруг поморщился и воскликнул:
– И этим все сказано!
Рибас был в недоумении: что имеет в виду Галло? Однако, маркиз, ничего не прибавив, отправился переодеваться. Но это недоразумение отчасти разъяснилось, когда среди прибывших Рибас увидел своего давнего знакомца, который так неловко в заведении «Берлин» пытался продать бумаги покойного Кумачино. Да, это был Джачинто Верри, представленный Рибасу как один из секретарей маркиза. Верри зачем не выказал того, что они знакомы, и Рибас подумал: «Простое поручение сопровождать депутацию может мне многого стоить».
Императрица приняла Галло во дворце и милостиво выслушала приветствия, заверения и любезности в свой адрес. В ответ она сказала:
– Торговый договор будет хорош как для Неаполя, так и для Петербурга. Мы даже полагаем, что для Неаполя он будет более выгоден. Мы пошлины для ваших купцов уменьшили втрое, чем вы это сделали для наших. Разрешили платить пошлину не золотом, а земской медной монетой. Дали много преимуществ против купцов других стран. Если у вашего короля остались сомнения относительно статей договора, подайте о них сведения моему секретарю.
В ответ Галло рассыпался в ничего не значащих любезностях, а Екатерина кивнула Храповницкому и он подал ей на бархатной подушке перстень с очень крупным бриллиантом.
– Примите сей дар в знак того, что наши слова не будут расходиться с делами нашими.
Вечером на балу маркиз беседовал с иностранными послами, показывал перстень. Любуясь им, он сказал французскому посланнику Сегюру:
– Этот подарок о многом говорит. Но еще и о том, что в варварских странах не знают цену своим бесценным вещам.
Рибас ужаснулся тому, что услыхал. Завтра же слова маркиза станут известны многим и миссия Галло может с треском провалиться. Поэтому Рибас непрошено вступил в беседу, сказав:
– Ни в одном дворе Европы нет такой коллекции, которой владеет императрица. Более того, она знает в них толк.
Но Галло упрямо вел свою миссию к краху, заявив:
– Если бы это было так, то расстаться с любым экземпляром коллекции для нее оказалось бы невозможным.
Обед на девяносто кувертов с музыкой и пением показался маркизу плохим театром. Свою путаную застольную речь он закончил словами:
– Сегодняшний день и это невиданное царское застолье напомнили мне о нравах и обычаях далекого прошлого.
Наутро Базиль Попов сказал Рибасу, что Екатерина распорядилась: неаполитанской делегации следует осматривать Черноморские порты, не сообразуясь с ее собственным маршрутом. Это была немилость, которую маркиз принял как дарованную свободу передвижений. Генералитет и дворяне, почитавшие себя с Европой на «ты», раздражались при одном имени Галло. Дипломаты открыто говорили, что Галло перепутал века, что он знает историю России лишь до опричнины. Рибас проклинал свою обязанность быть при неаполитанцах: всеобщее недовольство маркизом в какой-то мере распространялось и на него.
Спуск на воду линейных кораблей «Владимир» И «Иосиф» и фрегата «Александр» благополучно состоялся под гром пушек и оркестров. Посыпались награды, чины, милости. Потемкину Екатерина пожаловала кайзер-флаг как главному командиру Черноморского флота. Войнович, с которым Рибас не успел повидаться, привел свою эскадру из Севастополя и вместе с Николаем Мордвиновым был произведен в контр-адмиралы. Инженер-полковник Корсаков удостоился ордена Святого Владимира третьей степени. Императрица отпустила из казны десять тысяч на посадку леса. Нижние чины получили по наградному рублю.
Полковник Рибас получил еще одну возможность убедиться в собственном невезении и немилости фортуны к его судьбе. Еще не кончились торжества, а он на палубе фрегата отправился с депутацией Галло, пожелавшей осмотреть крепость Кинбурн. Как только на берегу широкого Днепровского лимана появлялась пристань или сторожевой казачий пост, секретари Галло спешили к Рибасу и сопровождавшему офицеру с вопросами:
– Что там? Город? Крепость? Войска?
Все ответы записывались, в картах местности делались пометки. Джачинто Верри не вступал с Рибасом ни в какие разговоры и держался в стороне. В Кинбурнской крепости, занявшей неширокую длинную косу от берега до берега, маркиза интересовало и численность войска, и количество домов, и ширина земляных валов и хлебные припасы. Все это было странно: дружественная миссия неаполитанской делегации оборачивалась сбором сведений.
Тщательно осмотрев Кинбурн, маркиз вернулся в Херсон и, не мешкая, отправился в Крым. К этому времени путешествующая императрица уже возвращалась из Севастополя и остановилась в Карасу-базаре. Галло поспешил туда, но по пути заболел. Рибас нашел для больного и его свиты подходящее помещение в близлежащем селении и верхом отправился в Карасу-базар, который вскоре встал на горизонте множеством мечетей и отстроенной православной церковью.
Проезжая палаточный городок мушкетерского полка, на окраинах которого паслись овцы и верблюды, Рибас спросил, где можно напоить лошадь, и его направили к колодцу, где, не веря своим глазам, он увидел Эммануила. Брат, голый по пояс, обливался колодезной водой, и Рибас, ничем не выказав своего присутствия, последовал его примеру – жара стояла необычайная, и он спешился, разделся, подошел к брату сзади и выхватил у него кожаное ведро. Эммануил опешил, не понимая, откуда тут мог взяться Джузеппе, и они, мокрые, смеющиеся, обнаженные по пояс, обнялись.
– Как? Откуда? Почему не написал? – обрадованно спрашивал брат.
– А ты? Давно здесь?
– Встречали императрицу, когда она в Севастополь ехала. А теперь провожаем. Идем ко мне. Тут недалеко. Рассказывай!
Они вошли в палатку. Эммануил сокрушался:
– Мне нечем тебя угостить. Вот козье молоко – отлично освежает. Ты надолго?
– Как распорядится Потемкин.
На свежем сеннике Рибас увидел аккуратно разложенную форму Эммануила и заметил новенький сверкающий орден Святого Владимира.
– Ты награжден? Когда?
– Полмесяца назад, после маневров перед императрицей.
– Поздравляю. Ты просто молодец, капитан!
– Не капитан, а секунд-майор, – небрежно поправил брат.
Примерно час они говорили обо всем. Эммануил в Карасу-базаре командовал артиллеристами, приданными мушкетерскому полку.
– Мы тут воюем, – смеялся он. – Что ни час – приветствуем кого-нибудь из пушек. А то во время трапезы ее величества залпами отмечаем тосты.
– Он взглянул на часы и стал одеваться. – Мне пора к орудиям. Они при ставке Потемкина. Я тебя провожу.
Условившись с братом встретиться вечером, Рибас отыскал Попова. Тот, выслушав сетования полковника, сказал:
– Не повезло вам, Осип Михайлович. Но кто же знал, что маркиз Галло так поведет себя.
– Как бы мне избавиться от труда сопровождать его? – спросил Рибас.
– Я доложу князю. Идемте.
В синем со звездами шатре Потемкин сидел в кресле перед корзиной ранних вишен. Ел вишни одну за одной, выщелкивая косточки пальцами в сторону полога. Расстегнутая на груди рубашка была в пятнах.
– Не собирается ли маркиз восвояси? – спросил он Рибаса.
– Пока не сосчитает все корабли, гарнизоны, полки, вряд ли, – ответил Рибас.
– Не турецкие ли шпионы твои неаполитанцы?
– Я думаю, они от того так дотошны, что хотят представить королю точное соотношение сил на Черном море, – дипломатично сказал Рибас.
– Каким путем они хотят уезжать? Сушей, на Вену? – спросил князь.
– Нет. Через турецкие проливы на Неаполь.
Потемкин встал, позвонил в колокольчик. Появились два камердинера и стали облачать князя в шитые золотом одежды, а он при этом говорил полковнику:
– Меня не беспокоит, что депутация Галло чересчур интересуется всем. Пусть смотрят, считают, записывают. Турки и без них глаза и уши тут имеют. Не испугали бы они только своими сведениями короля Фердинанда. Он и сейчас некоторые свои порты закрыл для наших судов. А в другие разрешил входить только трем русским судам одновременно. – Уходя, князь лишь сказал: – Жди.
Только к полуночи Рибас пришел к палатке брата, где его ждал стол с татарской ежевичной водкой, фруктами, а на костре дымил котел с чорбой. Екатерина наградила Галло тремя тысячами золотых рублей и ратифицировала «Трактат дружбы, мореплавания и торговли».
– Значит, теперь ты останешься здесь? – обрадовался Эммануил.
– Увы. Еду с маркизом в Севастополь.
Они говорили о младших братьях, условились, что напишут им и посоветуют приехать в Россию и вступить в русскую службу. Узнав, что Джузеппе будет посылать деньги матери из Севастополя, Эммануил заставил брата взять и от него пятьсот рублей. Эммануил много пил, хвастал успехами у керченских дам и заявил, что в случае войны отправится в самое пекло, так как палить между тостами ему надоело. Утром они простились.
В Севастополе все повторилось: не было канатного сарая или порохового погреба, куда не заглянули бы люди маркиза Галло. Джачинто Верри откровенно посмеивался, поглядывая на сопровождавшего неаполитанцев Рибаса. Затем Галло объявил, что объедет на фрегате порты Тавриды, а Рибас, сказавшись больным, освободил себя от этой поездки и отправился к Войновичу, где застал Виктора Сулина.
Он не успел ни о чем расспросить Виктора, как Войнович, распорядившись об обеде, сказал:
– Жаль, что вы не были здесь двадцать второго. Пойдемте-ка, – предложил он, они вышли из дома в сад, и Войнович указал вверх на Инкерманскую гору, где белело одноэтажное здание. – Представьте, в этом летнем дворце обедали их величества, свита, посланники. В зале мрачно, неуютно. Южные окна занавешены. Глянешь в другие – там скалы, дикие неприглядные места. Посмотреть не на что. Что за блажь: принимать государей в таком гиблом месте! Но Потемкин все рассчитал. Только гости без музыки заскучали, только пригубили вина – занавеси на южных окнах раскрылись по волшебству, сами собой, и музыка грянула, гости – к окнам. А там – Дивная картина на майском море! На рейде, на серебряной ряби – сорок судов! Говорят, у англичанина Фиц-Герберта икота началась. И тут же кончилась от испуга, когда «Слава Екатерины» дала залп.
Войнович продолжал живописать, как был допущен к руке императрицы, как мальтийцы преподнесли Екатерине пальмовую ветвь и как снова начал икать англичанин, когда бомбардирское судно «Страшный» с пяти выстрелов поджег городок, специально выстроенный на рейде.
– Но Потемкин и огорчил Екатерину, – сказал Виктор. – Когда она поехала любоваться Байдарской долиной, то на пути встретила… кого бы вы думали? Амазонок! Да, женскую роту греческой дивизии Балаклавского батальона.
– Чем же могли огорчить амазонки? – пожал плечами Войнович. – Для наших краев это великолепный сюрприз!
– А тем, что не своим прямым делом заняты, – смеялся Виктор. – В Новороссии мужского населения втрое больше, чем женского. Так что амазонок взяли с собой в Бахчисарай, и свитские офицеры усердно начали исправлять эту ошибку Потемкина.
Войнович ушел в дом, Виктор рассказывал о себе:
– Живу здесь рядом. Снял дом у флотской вдовы. Привожу в порядок записи своих путешествий. По русским понятиям тружусь, а вообще-то сибаритствую. Как вы?
Рибас рассказал.
– Не хочется возвращаться в Новоселицу? – спросил Виктор.
– Я не знаю места, в которое мне хотелось бы возвращаться, – сказал Рибас. – Честно говоря, встреча с соотечественниками выбила меня из колеи. Я отвык от неаполитанской вздорности и кичливости. Да, провести в Новоселице три года – эти испытание на выдержку. Но я рассчитывал на совсем другие результаты. Я выполнял поручение Потемкина быть при Галло, и это же поручение помешало мне стать бригадиром. Дело не в чине, но жизнь как-будто остановилась. Оглядываясь назад, остается удивляться и пожимать плечами: что бы я ни начинал – все заканчивается неудачей.
– Вы полковой командир блестящего полка, вам дают ответственное поручение, – начал было Виктор, но Рибас прервал его:
– Не то, не то. Я по натуре обстоятельный человек. Если что-то начинаю, то обдумываю все до мелочей, стараюсь предвидеть последствия. Но сами посудите: с дипломатической карьерой ничего не вышло. Глупое масонство не помогло. Поездка в Европу по поручению Екатерины кончилась ничем. Полк мой отмечен, но я уже семь лет всего лишь полковник. В чем все-таки дело? Может, в моей связке нет каких-то ключей? Может быть, во мне много, как бы это выразиться, чересчур самого себя? Служа при Потемкине, надо чуть-чуть быть Потемкиным? А моя игра слишком самостоятельна и, когда идет к выигрышу, кто-то передергивает карты?
– Не знаю, что вам ответить, – сказал Виктор. – Все это жизнь, и мы на нее обречены.
– Мне кажется, если ничего не произойдет в ближайшее время, я потеряю вкус к такой жизни, – ответил Рибас.
Он поселился у Виктора, читал, жил анахоретом, бродил по побережью. Депутация Галло после дотошного осмотра Керчи вернулась в Севастополь, и маркиз на фрегате под русским флагом заспешил в Константинополь. На прощанье он горделиво сказал Рибасу:
– Моя миссия выполнена чрезвычайно удачно. О вашем участии в ней будет известно в Неаполе.
И Джачинто Верри, наконец, высказал то, что было у него на уме все это время:
– В Петербурге, полковник, вы отказались от денег за такое дело, которое здесь были вынуждены выполнять бесплатно по распоряжению своих начальников. Не находите ли вы это странным?
– Нахожу, – ответил Рибас. – Думаю, вы обрадуете Ризелли и тех людей, что стоят против сближения Неаполя и России тем, что я сэкономил им тысячу золотых.
Перед возвращением в Кременчуг Рибас неожиданно получил письмо от Насти, которое заботливый Базиль переслал в Севастополь. Как всегда, жена писала о бедах Бецкого, об его отчаяньи, что средства, собранные на открытие университетов в Пскове, Пензе и Екатеринославе недостаточны, а открытие народных училищ в двадцати пяти губерниях вряд ли когда-либо состоится из-за воровства. На университеты Петербургское городское общество собрало всего тридцать две тысячи.
За дружеским ужином в честь отъезда, Рибас, похвалив мясо молодого козленка в вине, угостил Войновича и Виктора рассказом из письма Насти о Калиостро. Во-первых, в Петербурге до сих пор пользовался успехом спектакль «Обманщик», в котором Калиостро под именем Калифалкжерстона был зло высмеян вместе с «мартышками» – масонами-мартинистами. Пьеса принадлежала перу самой императрицы. Во-вторых, бывшая примерная ученица мага издала в Европе книгу, в которой великий духовидец предстал перед Европой мошенником. И, в-третьих, сам Калиостро чуть ли не год просидел в Бастилии из-за скандала с ожерельем французской королевы, которое он заполучил, чтобы увеличить жемчужины, а в результате ожерелье попросту исчезло. Но суд не мог доказать вины Калиостро. Он был выслан в Англию и оттуда проклял и королеву, и Людовика XVI. Он издал книжку, где предрекал гибель королевской четы и прорицал, что в скором времени ненавистная Бастилия будет разрушена.
Друзья посмеялись над прорицаниями великого мага. В это время в столовую вбежал дежурный флотский офицер и единым духом выпалил:
– В Константинополе нашего посла Булгакова призвали на Совет. Потребовали, чтобы мы вернули Турции тридцать девять соляных озер в Кинбурнском уезде. И чтобы отдали голову молдавского господаря, который укрылся в России. Иначе они объявят войну.
– Откуда эти новости? – спросил Войнович.
– Курьер от Булгакова привез.
– Где он?
– Как только прибыл в порт, потребовал экипаж и ускакал к Перекопу. Булгакову дали для ответа всего месячный срок.
– Когда?
– Пятнадцатого!
– Сегодня семнадцатое, – сказал Рибас. – В оба конца от Константинополя до Петербурга за месяц никакому курьеру не доехать.
– На это, видно, и был расчет, – сказал Виктор.
– Значит, это война, – сказал Рибас.
2. Под знаком Марса 1788
– Что в Севастополе? Не получены ли новые известия от Булгакова из Константинополя? – спросил Потемкин. Он сидел перед Рибасом в своем Кременчугском кабинете и сумрачно взирал на только что прибывшего полковника.
– Известий новых нет, – отвечал Рибас. – Флот в ремонте. Войнович меняет оснастку. Наново крепит мачты.
– А раньше как мачты держались? – нахмурился князь.
– Для торжеств при встрече императрицы крепления были годны, – отвечал Рибас. – Но теперь все приходится переделывать в спешке. Конечно, лес, из которого суда построены, уже не высушишь. – Потемкин смотрел на полковника с гневом, но тот продолжал говорить все, как есть. – Все пушки на бортах разных калибров. Это надо сразу исправить. Одно дело – салюты, совсем другое – сойтись на выстрел с неприятелем. Главная беда – мало линейных кораблей.
Потемкин был в шлафроке цвета неспелого яблока, сидел в кресле, широко расставив ноги. Помолчав, сказал:
– Без двадцати линейных и войну начинать не стоит.
Рибас продолжал:
– Я не по своей воле с маркизом Галло побывал в крепостях и портах. Амбары и складские магазины пусты. Да к тому еще неурожайный год. Если срочно запасы не пополнить, к зиме в войсках начнется голод. А устройство войск в гарнизонах из рук вон плохо.
– Ко времени ли ты так заговорил? – спросил князь, покручивая на толстом пальце массивный перстень.
– Обстоятельства не позволяют говорить иначе.
Потемкин посмотрел в окно, вздохнул, потом вдруг сказал:
– Поздравляю тебя с чином бригадира, полковник.
Рибас не успел произнести положенные слова благодарности, как в кабинет вошли адъютант Рибопьер и Базиль Попов. Рибопьер склонился к Потемкину, что-то прошептал на ухо. Князь отмахнулся:
– Говори громче. Бригадира Рибаса я назначаю дежурным при своей ставке.
Так Рибас получил чин бригадира, что приравнивалось к статскому советнику пятого класса и капитан-командору на флоте, да еще был назначен на неожиданную для него должность.
– Султан не стал дожидаться ответа из Петербурга, – сказал Попов. – Только что прибыл курьер из Херсона. Туда пришло итальянское судно, верно, последнее, что прошло под нашим флагом проливы. Купцы рассказывают, что дом нашего посланника в Константинополе разгромлен, а сам Булгаков заключен в Семибашенный замок. Султан объявил, что все прежние договоры с нами не имеют силы. Турки кричат о походе в Крым.
– Но манифеста о войне нет? – спросил Потемкин.
– Это дело дней или часов, – сказал Рибопьер.
Князь встал. Кабинет его с малиновой обивкой мебели, громадной картиной с обнаженной нимфой и с певчими птицами в фигурных клетках скорее походил на непритязательный салон. Но разговор был столь серьезен, что на несоответствие с обстановкой никто не обращал внимания.
– Не только Порта, но и мы не готовы к войне, – сказал Потемкин. – Дивные дела: как могут воевать государства, к войне неприуготовленные? Только большая нужда может к этому подвигнуть. У нас этой нужды нет. У османов тоже. Значит, англичане и французы турок торопят. Официального союза с Австрией у нас нет. Поэтому Порта и спешит, пока мы в одиночестве, пока наш флот не силен. Да еще неурожай! Когда в Европе грызутся христиане, султан говорит: «Что мне до того, свиньи ли пожирают собак или собаки свиней». На сии грубости Европа закрывает глаза, лишь бы нас поскорее стравить с турками. Но все они просчитались. Союз с Австрией у меня вот где! – Он сжал кулак в перстнях и добавил: – Через неделю созываю Совет.
Князь оказался прав – из Вены уже летело письмо курьерской почтой Иосифа II – Екатерине: «Получив известие, что один из слуг Ваших в Константинополе посажен в семибашенный замок, я, другой слуга Ваш, посылаю против мусульман всю мою армию».
На Совете среди генералов присутствовали Суворов, Долгоруков и Мордвинов. Потемкин сообщил о том, что Турция дала манифест о войне, сказал о союзе с Австрией, назначил Суворова начальником Кинбурн-Херсонского района. Затем обратился к Долгорукову:
– Ты, Юрий Владимирович, под Полтавой перед императрицей потешный бой показывал со шведами. И всех шведов перебил. А как по-настоящему воевать думаешь?
Юрий Владимирович ответил, как всегда, серьезно:
– Вы, ваша светлость, будете Петром Первым. А я для вас шведов всегда найду.
Никакого плана предстоящей кампании не было. Как поведут турки войну никто не знал. Но Потемкин решил опираться на две армии, которые еще предстояло сформировать. Екатеринославскую армию он взял под свое начало, назначив ей действовать на Кубани, в Крыму и в районе Буга. Вторую армию должен был сформировать опытный Румянцев-Задунайский в районе Киева. Левым флангом ей предписывалось опираться на армию Потемкина, правым поддерживать австрийцев. Беспокоило отношение к войне Польши, но начальник пограничной стражи поляков князь Потоцкий обнадеживал своими симпатиями к русскому двору.
Рибасу придали хорошо экипированную конную роту с пятью офицерами, и он то встречал прибывавшие полки, то принимал рекрутов, то отправлял конников принимать зерно, которое привозили из внутренних губерний. В Екатеринославе Фалеев привел к нему пятерых купцов:
– Хотят взять подряд на доставку и закупку хлеба.
– Откуда везти думаете?
– Да придется издалека. К Москве ехать надо.
– А в Польшу ехать за хлебом есть охотники?
Таковых не нашлось. Интендант барон Бюлер послал туда солдат с ямскими кучерами. Но все равно восьмидесятитысячной армии Потемкина в скором времени грозила бескормица. Доложили князю. Он объявил подушный сбор хлеба. С каждой души – три четверти ржи, полтора гранца крупы. Деньги из армейской казны текли рекой. Князь встревожился:
– Завтра последнюю рубашку придется на провиант выменивать. Отчего хлеб так дорог?
Этот же вопрос бригадир Рибас задал свалившемуся, как снег на голову, Афанасию Кес Оглы. Фабрику турецкого атласа он давно продал, занимался выгодными подрядами. Предаваться воспоминаниям было недосуг. Кес сказал:
– Сейчас, Рибас-паша, я вам приведу тех, из-за кого хлеб дорог.
Спустя четверть часа он притащил за шиворот двух купцов к экипажу бригадира.
– Это перекупщики. По дорогам хлеб скупают, а в Кременчуге запрашивают за него втрое.
Купцы же кричали, что первый перекупщик – сам Кес. Их отправили под розги. Афанасию Рибас-паша пригрозил:
– Смотри, Кес. Потемкин приказ издал: всех перекупщиков в кандалы.
– А я теперь подрядами на хлеб не занимаюсь, Рибас-паша. Я железо из Тулы везу.
Пекарни работали и день и ночь. Из свежевыпеченного хлеба тут же сушили сухари – их рукотворные горы, укрытые рогожей, скапливались у пекарен. Местом сосредоточия армии Потемкина был объявлен Ольвиополь на Буге. Туда первым делом отправляли хлеб. Но то не хватало фур, то волов. Потемкин вызвал бригадира:
– Поезжай в Херсон и в Ольвиополь. Готовь складские магазейны. О том, что увидишь и услышишь – сообщай.
В экипаже в сопровождении двух десятков легкоконников, проехав верст сто степью, под Александрией Рибас догнал рессорную коляску, в которой, привалившись на бок, спал генерал-аншеф Суворов. Заслышав голоса, он проснулся, пригласил бригадира к себе и приказал солдату-кучеру:
– Геть, геть, гони!
И понеслись экипажи по степи вдоль берега Ингульца.
– Коли вот так на турка не поспешим – быть беде, – сказал генерал-аншеф. – А спешим мы, как рак пятится.
– Вы в Херсон?
– И в Кинбурн! – Он надолго замолчал. Рибас недоумевал: зачем он понадобился генералу-аншефу? А тот, не отвечая на рассказы Рибаса о Новороссийских делах, заговорил о своем:
– Коли не упредим – застрянем, как мужик в колдобине. Распри – вот чего боюсь. Граф Румянцев – фельдмаршал. В первую турецкую Потемкин у него в волонтерах ходил. А теперь граф под Потемкиным ходит. Война таких счетов не понимает.
– Зато Румянцеву императрица дала право производить в чины до полковника, – сказал Рибас.
– Как бы считаться не начали! – генерал вдруг тонко рассмеялся. – А знаете, кто у турок главнокомандующий? Великий визирь! Пышно звучит. Да визирь этот совсем недавно в Египте зерном торговал. Никогда никем не командовал. А теперь у него под ружьем двести тысяч.
– Двести? – Рибас был поражен числом неприятеля.
– Больше. Больше! Но что с того? Мы под Кузлуджи дрались один против пяти.
– А я был под Кузлуджи, – сказал Рибас.
– Вот как. А что же я вас не помню?
– Я был волонтером в корпусе Каменского. Под Кузлуджи мы после вас пришли.
– Рад, рад, – сказал генерал. – И Каменский сейчас со своей дивизией к Бугу идет. А ваших мариупольцев, бригадир, я в Кинбурн на судах буду переправлять.
Так за разговорами, воспоминаниями на биваках миновали степь. В Херсоне возле Адмиралтейства расстались. Рибас устроил свою команду и а военном форштадте, тут же поселился и сам в отведенном ему каменном доме. Вместе с инженер-полковником Корсаковым осмотрел хлебный складской магазейн, условился, что завтра же начнут строить еще один, а когда решил встретиться с Мордвиновым, снова столкнулся на дворе Адмиралтейства с Суворовым.
– Вот что вам знать должно, – сказал генерал-аншеф. – В Очакове до двадцати тысяч турок. Поезжайте вверх по Бугу. Как там войска? Князю сообщите. Как бы османы на Ольвиополь не пошли.
Мордвинов был на Днепровском лимане, в Глубокой пристани, и Рибас немедля отправился по левому берегу Буга на Вознесенск и Ольвиополь. Останавливался у сторожевых постов, расспрашивал: не видно ли больших войск на правом берегу? Не ставят ли орудия? Не пытаются ли мосты наводить? Повсюду отвечали, что видели только конные турецкие разъезды. За Ингулом стали говорить о вырезанных турками казачьих постах. Понуждать офицеров строить хлебные магазины не приходилось – строили, рыли амбары, обкладывали камнем-дикарем, крыли камышом. Вернувшись в Херсон, Рибас сел было писать депешу Потемкину, но от адъютанта узнал, что князь три дня, как в Херсоне.
Потемкин с удобствами расположился во дворце, в котором недавно принимал императрицу. Августовский зной совсем не ощущался в прохладных покоях. Из дальних комнат слышался женский смех и звуки скрипки. Только что кончился обед, но князь отослал бригадира в столовую:
– Гусь жилистый, а куропатки с охлажденным белым хороши. Ешь. Потом в кабинет приходи.
Рибас с наслаждением ел и пил, а князь, по горькой иронии случая, отдавал распоряжения адъютанту Рибо-пьеру, чтобы в госпиталях не кормили лакомой пищей – белым хлебом, курами, яйцами, молоком.
– Все одно хворым лакомая еда не достается, – говорил князь. – Ее лекари едят да любовницам носят. Приказываю в госпиталях давать говядину, щи, сбитень, уксус.
Через получас бригадир докладывал Потемкину о бугских делах.
– Рекруты как? – спросил князь.
– Много больных. Многие бегут. Рекрутские деньги у них унтера отбирают – вот с голоду и от побоев бегут.
Потемкин тяжело, безысходно вздохнул:
– Коли из трех рекрут один солдат будет получаться, Россия скоро без мужика останется.
Доклад Рибаса шел при генералах. Они сидели у стен, курили трубки, переговаривались. Суворов отсутствовал. Мордвинов расположился в кресле, не курил, напряженно чего-то ждал. Потемкин расхаживал по кабинету, говорил как бы сам с собой:
– Главные силы к Ольвиополю подходят. Но как переправляться через Буг и к Днестру идти, если Очаков останется у нас в тылу? Первое, что должно совершить – взять сию крепость. А потом уж до зимы выйти к Днестру.
После этих слов посыпались упреки и вопросы в адрес Мордвинова:
– Как Очаков без флота брать? Адмирал есть, да корыто худое. Флотские оседлали якоря, как баб, и ни с места!
Вдруг послышался смех и в раскрытые двери заглянула княгиня Долгорукова – высокая прическа, бриллианты, платье, расшитое цветами мака.
– Я велю, Григорий Александрович, не пускать к вам офицеров, – сказала лукаво. – Кровь они вам портят, а мне настроение на весь день. Обещали на кораблях поплывем, турок смотреть.
– А зачем плыть? Вот они сами сюда пожалуют, тогда и насмотритесь вдоволь, – сказал Потемкин. – Среди них отменные красавцы есть – не нам чета. Как увидите, так мусульманками все станете.
– Будет ли балет вечером? Танцоры никак не едут.
– Коли не приедут, буду сам для вас танцевать.
На следующий день князь отправил Рибаса в Кинбурн. Корабли «Иосиф» и «Александр» и фрегат «Владимир» Мордвинов повел в Днепровский лиман, но достичь они смогли лишь Глубокой пристани, где стали на якоря для устранения течей и неисправностей. Мордвинов, сбившийся с ног от отсутствия то одного, то другого, сказал бригадиру раздраженно:
– Нет у меня ни яхты, ни галеры, чтобы вас в Кинбурн переправить. Да и поздно: турецкий флот там.
– По случаю знаю, что казачья лодка везет ружья в крепость, – сказал Рибас. – На ней и отправлюсь.
В сумерки казаки помолились и взялись за весла. Шли под самым берегом с частыми остановками, вслушивались в августовскую ночь. За пять верст до крепости, завидев на лимане силуэты турецких кораблей, лодка направилась к косе, зашуршала бортами о камыши и пристала к топкому берегу. Хорунжий Алексей Высочин распорядился ружья сносить на сухие места и отправился с Рибасом к крепости. Бригадир не только вымок, но и был по пояс в гряз». Возле западного вала Высочин свистнул. Часовой на валу закричал:
– Пароль!
– Тихонько, служивый, – сказал Высочин. – Пароль – «Князь Александр». Со мною господин бригадир к генералу-аншефу. Где он?
– На северной стене. В палатке.
Суворов, разбуженный адъютантом, послал солдат выгружать и переносить в крепость ружья. Светало. Кое-как почистившись и умывшись, Рибас сообщил последние новости.
– Пойдемте-ка на вал, – сказал Суворов. Когда они взобрались на северный земляной вал, еще не поросший травой, бригадир понял, почему генерал-аншеф расположился рядом в палатке, а не на квартире в крепости: три турецких корабля, один фрегат и множество мелких судов стояли в лимане против крепости. Между ними и берегом стояли фрегат «Скорый» и бот «Битюг». Этим наличие морских российских сил тут исчерпывалось.
– Уж третий день вот так, – сказал Суворов. – Подошли. Бросили якоря. И молчат. Чего хотят?
Турецкие корабли стояли фронтом, в линию. Среди мелких судов Рибас насчитал шесть фелюк, пятнадцать галер. Сообщил об этом Суворову.
– Голубчик! – воскликнул генерал-аншеф. – Посчитайте точнее. Я Мордвинову донесу.
Рибас, припоминая весь свой средиземноморский опыт, распознал один брандер-бот – он был без вооружения, с бочками нефти на палубе. Возле него покачивались семь лансон и шесть шебек.
– Знатно, – одобрил Суворов. – Мы Мордвинова этим счетом поторопим.
Рибас был польщен. Они спустились к палатке, сели на камни завтракать. Ели казацкий кулеш с разварной говядиной. Генерал крупно резал лук, который аппетитно хрустел в его зубах.
– Перед боем ваши соотечественники римские легионеры всегда ели лук, – сказал Суворов. – Бодрость от него.
– Вы думаете, будет бой?
– Для того мы здесь. Но если наши корабли не подойдут, не бой будет. Ад.
– А где мои мариупольцы? – спросил Рибас.
– Они на Буге. Жду.
Ад начался после полудня. Пушки с турецких кораблей громом ахнули под безоблачным небом. Но целью их была не крепость, а два русских судна. Помочь им генерал-аншеф ничем не мог: крепостные ядра не достигали места боя. Суворов велел адъютантам считать залпы, расхаживал по валу, опустив голову. Через три часа фрегат «Скорый», сделав пятьсот восемьдесят выстрелов, потеряв мачту, получив пробоины, обрубил якоря и медленно двинулся в глубь лимана. За ним пошел и бот «Битюг». Турецкие галеры и мелкие суда начали преследование, но бот отбился и скрылся за горизонтом. Турецкий флот остался в лимане в бездействии.
Вечером Рибас собрался возвращаться в Херсон. Хорунжий Высочин уже ждал его. Генерал-аншеф на прощанье сказал:
– Адмиралу обо всем доложите. И второго адмирала – Войновича, надо из Тавриды сюда. С эскадрой. Убеждайте в этом князя. Если тут спокойно будет, я завтра сам отправлюсь Херсонскую Академию торопить.
Херсонской Академией генерал-аншеф называл Мордвинова и адмиралтейство. В Глубокую пристань бригадир прибыл с восходом солнца, адмирал еще изволил почивать. Рибас оставил ему записку и на гребном катере поспешил в Херсон, где Потемкина не застал – князь отбыл к войскам.
На следующий день Суворов уж был в Херсоне. Узнав, что бригадир едет следом за Потемкиным, наскоро написал князю: «Увенчай Господь Бог успехами высокие ваши намерения, как ныне славою «Скорого» и «Битюга», и соблюдали ваше дражайшее здоровье… Херсонский пехотный полк выступил для формирования… Смоленский драгунский на середине пункта, отсюда к Глубокой и теперь довольно. Глубокая ограждена. Адмирал трудится, я туда сегодня съезжу, к Бугу же недосуг. Вчера поутру я был на броде Кинбунской косы, на пушечный выстрел. Варвары были в глубокомыслии и спокойны… О прочем донесет вашей светлости Осип Михайлович…»
У дежурных офицеров и генералов при Потемкине жизнь была истинно цыганской. Выполнил одно поручение князя – здесь же скачи триста верст с другим. Из тыла – к Очакову, из Херсона – на Буг – весь сентябрь бригадир провел то в экипаже, то в седле, то в казачьей лодке. Приобрел столовый и письменный серебряные походные приборы. Прослышав, что Кинбурн атакован турецким флотом, написал Суворову с дороги. Узнав, что кинбурнцы потопили пятидесятичетырехпушечный корабль и повредили фрегат, поздравил генерал-аншефа, а в ответ получал его короткие письма.
Возвращаясь с Буга в Херсон, бригадир заехал к себе на военный форштадт переодеться и столкнулся на крыльце с Виктором Сулиным. Друзья обнялись.
– Я не один, – сказал Виктор.
– О чем речь, Петр! – Рибас окликнул адъютанта. – Распорядись об ужине. Что в Крыму?
– Войнович вышел на поиски турецкого флота, – отвечал Виктор. – Вышел с простым приказом: найти его, где бы он ни был, и разбить.
– Идемте в дом, – предложил бригадир, но Виктор был чем-то смущен, не торопился последовать приглашению.
– Вы извините, Джузеппе, – сказал он. – Я искал в Херсоне другой дом, но сейчас его и за золото не найдешь.
– Вы будете жить у меня хотя бы потому, что на тысячу верст окрест никто не называет меня Джузеппе, – сказал бригадир.
– Я не один, – многозначительно повторил Виктор, а Рибас, обрадованный его приездом, шагнул в сени:
– Уж не с султаном ли вы приехали?…
В первой комнате, адъютантской, солдат мыл пол. Вторая – кабинет и гостиная, покрытая ковром, по которому летом на верфи ступала императрица, была пуста. Ковер этот на торжествах попортили пятнами, и интендант Бюлер презентовал его бригадиру. Рибас заглянул в спальню, никого там не обнаружил, вернулся в кабинет и только тут, за углом выбеленной печи, заметил Айю.
«Вот с кем приехал Виктор! Но ведь он знает всю историю с ней. Почему же он привез ее сюда? Откуда привез? Что все это значит?» Бригадир опустился на стул у стены, взглянул на женщину. Раскаяние? Смущение? Этих чувств он не читал на ее лице. Напротив! Вместо настороженности или хотя бы стыдливого румянца он читал в ее лице торжество. «Да неужели распространенное европейское бесстыдство, милая светская наглость смогли найти почву в душе бывшей девочки из татарского селения? Чем она горда? Отчего так торжественноспокойна?» В зеленом платье с глубоким декольте, с изящной бархатной ленточкой на шее, с осанкой царицы и неожиданным прямым озорным взглядом глаз-озер она была хороша, как прежде.
– Я была в Крыму, – заговорила она столь знакомым мягким, грудным, всегда тревожащим Рибаса голосом. – Войновичи мне сказали, что вы искали меня.
– Разве? – он пожал плечами. – Я всего лишь интересовался: не закрыты ли вы снова в якорном сарае? – Она звонко рассмеялась, а он сухо потребовал:
– Прошу вас объяснить ваше появление здесь.
– Но я ваша жена.
– Оставим это, – мрачно сказал бригадир. – Вы давно не девочка из Биюк-Сюрена, которая ничего не понимает. Теперь вы понимаете все и, может быть, даже излишне много.
– Это грех?
– Грех пользоваться этим, – сказал он машинально И тут же укорил себя: она может подумать, что ее красота и обаяние неотразимы, что ее появление желанно. «Нет, она чертовски умна и уже поняла, что ее исчезновение ощутимо ударило меня в сердце. Как поступить? Отправить адъютанта искать для нее комнаты? А сейчас? Ужинать с ней и Виктором? На что она жила почти год? Да, капельмейстер говорил, что казак, с которым она уехала, был из состоятельных…»
Он с трудом переборол желание сказать, что она не может оставаться здесь ни минуты. «Наоборот, – подумал он, – надо просто отнестись к ней по-приятельски»:
– Хорошо. В конце концов, все меняется, – сказал он веселым тоном. – Изменились и наши отношения. Я сейчас не принадлежу себе и заехал сюда случайно.
Но провести ее не удалось.
– Вы так рады моему приезду, что не знаете, как вести себя, – сказала она с улыбкой. – «Откуда, из какой жизни, из каких читанных романов она выучилась такому тонкому пониманию обстоятельств? И почему снова она так гордо смотрит, как будто это я бросил ее на перепутье, а теперь вернулся? Нет, этому нужно положить конец, немедленно». Он встал:
– Я должен ехать. Меня ждет князь.
Она не ответила. Он вышел из дома. Экипаж еще не распрягли, и бригадир окликнул солдата-ездового:
– Отправляемся! Во дворец.
Виктор быстро подошел к нему, волнуясь, сказал:
– Я встретил Анну Михайловну в Ахтияре. Вы не довольны нашим приездом?
«Для него она Анна Михайловна! Боже мой… нашим приездом!»…
Бригадир через силу улыбнулся.
– Ужинайте. Мне нужно к князю.
В покоях Потемкина было сумрачно, окна занавешены, свечи редки. Слуги говорили шепотом, изъяснялись знаками, это походило на траур. В приемной Рибас нашел одного Попова.
– Что случилось?
– Ради бога, тише, – сказал Базиль. – Пришло известие, что наш севастопольский флот погиб. Попал в страшную бурю.
Новость поистине была удручающей. Марк Войнович погиб? В это бригадир не мог поверить. Теперь понятно, отчего такой траур в херсонском дворце.
– Если бы только траур, – продолжал Базиль, – Князь написал императрице, что войну проиграл и отказывается от командования. Просит заменить его Румянцевым.
– Но зато я привез хорошее известие, – сказал Рибас – Суворов под Кинбурном отразил нападение десяти тысяч турок. Опрокинул их, сбросил в море. Я сейчас из Глубокой пристани, подробностей не знаю, но от генерала-аншефа будет курьер.
– Немедленно пойдемте к князю! – воскликнул Попов.
Потемкин лежал в кровати под балдахином, вперив взор в полутьму.
– Что еще? – слабо спросил он.
– Победа, ваша светлость! – Объявил Рибас – Генерал-аншеф Суворов уничтожил при Кинбурне турецкий десант.
– Значит, завтра они высадят там новый, – вяло сказал князь.
– Не смогут! – горячо возразил бригадир. – Их было десять тысяч. Разбиты наголову, сброшены в море.
– Где депеша? – Князь сел в постели.
– В пути, – сказал Рибас – Я только что из Глубокой. Туда привезли первых раненых.
– Курьер прискачет – вместе с ним придешь ко мне. Ступайте.
Ночевать бригадир остался во дворце. Курьер приехал утром. Князь читал сообщение Суворова вслух, обливаясь слезами: генерал-аншеф был серьезно ранен, многие полки остались без офицеров. Потемкин сел писать ответ. Написав, велел дать Рибасу яхту, чтобы бригадир незамедлительно отправился на лиман, к Кинбурну. На словах сказал, что генерала-аншефа представит к ордену Андрея Первозванного.
К себе Рибас не заехал, хотя с тревогой думал: что там, ждут ли его? На берегу Глубокой пристани наспех поставленные палатки заполнили раненые из Кинбурна.
– Суворов здесь? – спросил бригадир у лекаря.
– В Кинбурне. Ранен картечью под сердце.
По рассказам офицеров Рибас легко представил себе картину боя первого октября. Все могло кончиться катастрофой. Ночью и с рассвета первого турецкий флот бомбардировал крепость. Кинбурнская коса от крепости до мыса напоминает восьмиверстовую гусиную шею. С мыса и ждали десант, но он высадился с другой стороны крепости. На эту уловку генерал-аншеф не поддался: десант был шумный, ложный, а со стороны мыса тем временем высадился за сваями основной, сгрузил мешки с песком, за которыми укрылся и начал рыть ложементы – неглубокие траншеи и ставить рогатки.
К часу пополудни на гусиной шее косы турки вырыли пятнадцать рядов ложементов, и только тогда крепость дала общий залп. Гренадеры вышибли неприятеля из десяти ложементов, эскадроны и запорожские казаки мчались вдоль берега, чтобы не мешать пехоте, у которой все офицеры были убиты или ранены, началась паника или отступление. Суворов с небольшим отрядом, никого не останавливая, вышел на косу, и новую волну атаки решил крик: «Братцы! Генерал там! Генерала забыли!» И пехота повернула.
Бой проходил под обстрелом турецкого флота. Два лансона подошли к самому берегу и били картечью. Крепостные пушки подожгли один из них, другой потопили. Галера «Десна» пошла на левый фланг турок – и семнадцать их судов отступили, убоявшись того, что «Десна» – брандер, начиненный нефтью. Суворова ранило, его понесли в крепость.
«Солнце было низко – я обновил сражение в третий раз», – вспомнил бригадир слова из донесения Суворова. Батальоны вновь пошли в штыки, Мариупольцы и Павлоградцы обнажили палаши. Турок выбили из всех ложементов, но деваться им было некуда: их суда отвалили от берега, чтобы янычары не помышляли о бегстве. Наступила ночь без луны. Гренадеры палили во тьму наугад и на крики о пощаде: «Аман!»
Яхта бригадира причалила к берегу возле крепости. Генерал-аншеф лежал в своей комнате на сеннике, в лице ни кровинки. Рана под сердце оказалась не тяжелой – картечь лишь рассекла кожу, но он еще был ранен дважды в руку. Рибас передал депеши князя, сказал об ордене Андрея Первозванного.
– Не дадут, – вздохнул Суворов. – Недруги мои взбунтуются.
Рибас возражал: слово князя крепко.
– Не пришлось бы мне с вами, Осип Михайлович, разговаривать, если бы не гренадер Новиков, – сказал Суворов. – Подо мною в бою коня убило. Я казаку кричу: «Стой! Коня мне!» А казак оказался турецкий, и меня вязать хотели. Да Новиков отбил…
Генерал затих, забылся. Потом писал ответ и представления к наградам. С вала в зрительную трубку Рибас смотрел на усеянную телами косу. Из пяти тысяч трехсот турок ранеными спаслось всего триста. Суворов докладывал князю о ста тридцати шести убитых русских, но в лазаретах от ран умерло еще более ста. И среди них – премьер-майор Мариупольцев Карл Вильсен. Рибас переночевал в Кинбурне. Утром генерал-аншеф позвал его.
– Я недели две на коня не смогу сесть. Но скажите князю, что лазутчик донес: из Очакова после Кинбурна население бежит. Там сейчас всего тысяч шесть гарнизона. Пусть поспешит.
В Херсоне, подъехав к дворцу, Рибас послал в свой дом адъютанта на рекогсносцировку, а сам отправился к Потемкину. Тот, услыхав, что в Очакове гарнизон малочислен, нахмурился:
– Спешит генерал-аншеф. У турок там флот.
Попов обрадовал бригадира вестью о том, что Войнович не погиб: эскадру его пять дней носила по морю стихия, утопила вместе с командой фрегат «Крым». Корабль «Слава Екатерины», на котором держал флаг контр-адмирал Войнович, потерял мачты и бушприт, «Святой Павел» – грот, бизань и форстеньгу, но в Севастополь они смогли дойти. А корабль «Мария Магдалина» был прибит бурей к Константинопольскому берегу и сдался туркам.
– Капитан оказался предателем, – сказал Попов.
– У них, верно, ни руля, ни мачт не было, – возразил Рибас.
– Он должен был взорвать судно.
– Я был в Средиземном при меньших бурях, – сказал Рибас. – После них порох никуда не годился. Сырым порохом судно не взорвешь.
– Капитана надо обменять на пленных и судить, – не унимался обычно добродушный Базиль. Он был произведен в бригадиры. И Рибас заметил:
– Можно понять неприязнь морских, офицеров к сухопутным бригадирам. Вы знаете, Базиль, что остается, когда трюмы полны водой? Остается молиться. Надо обрадовать Суворова тем, что эскадра Войновича спаслась. Я напишу ему.
Вместе с адъютантом ко дворцу Потемкина пришел Виктор Сулин.
– Я уезжаю в Кременчуг, – сказал бригадир.
– Вы не хотите видеться с Анной Михайловной? – спросил Виктор.
– Потемкин требует, чтобы я ехал сейчас же. На Днепре строят галеры, но медленно. Надо торопить.
– Вы избегаете ее. И зря. Она предана вам. Что ей сказать?
– Пусть живет по совести.
– Уверен, она не уедет. Будет ждать вас, – сказал Виктор.
– Прекрасно. Я вернусь месяца через два.
– Я собираюсь в Петербург.
– Найдите меня в Кременчуге.
Но в Кременчуге они не встретились: Рибас был на верфях, Виктор оставил ему записку, в которой уведомлял, что Анна Михайловна в Херсоне.
Не только дежурные офицеры Потемкина не сидели на месте, но и он сам, забыв хандру, разъезжал повсюду. Вернувшись в Херсон, бригадир узнал, что князь побывал у Суворова в Кинбурне, под Очаковым, а теперь собирается в Елисаветград. Бригадиру предстояла встреча с Айей, но он оттягивал эту минуту, расспрашивая Базиля Попова о новостях.
– Представьте, Суворов оказался прав, – говорил Базиль, – генералы, по старшинству выше его, строили козни, чтобы орден Андрея Первозванного ему императрица не дала. Но князь настоял.
– А что на Кубани?
– Полная виктория. В ставке шаха даже взяли десять тысяч пудов коровьего масла.
Рибас сел писать поздравительное письмо Суворову, а Базиль говорил под руку:
– Кого вы прячете от всех в своих херсонских покоях? Я видел ее издали. Хороша, как райский цветок. Мы все считаем, что затворничество вовсе не к лицу такой красавице.
И Рибас со смутным чувством на душе поехал домой, где все повторилось: Айя стояла у печи в кабинете-гостиной, открыто, радостно и в то же время гордо смотрела на него. И бригадир понял: именно эта гордость оскорбляет его. Он усматривал в гордости беглянки цинизм. Будь она, покорной, повинись – все было бы иначе.
– У меня все собрано и я уезжаю, – сказала она. – Не беспокойтесь. Я только хотела увидеть вас.
– Дело давнее, – начал он, – но почему все-таки вы уехали тогда, из Новоселицы? Скажите, хотя бы для того, чтобы прибавить к моему опыту и этот случай.
– Я была больна.
– И это – причина не дождаться меня и уехать? Может быть, просто – казак оказался неотразим?
– Он помог мне.
– В чем?
– Я не хотела стеснять вас, обременять моим тогдашним положением.
– Каким именно? – удивился он.
– Я должна сказать вам, Джузеппе… Позвольте мне называть вас так, как Виктор. Я должна сказать вам, что у вас родился сын.
Он не поверил. Но здесь же понял: не верить ей нельзя. Причина открытого счастья и гордости в облике и глазах женщины мгновенно объяснялись. Сын? Она уехала, чтобы родить…
– Когда? – хрипло спросил он.
– В мае, двадцать третьего.
– Как назвали?
– При крещении ему дали имя Михаил. В честь вашего отца.
Бригадир не знал, что сказать, был огорошен, чувствовал себя виноватым, но именно поэтому воскликнул:
– Как вы могли?! Зачем же было уезжать?
– Я не хотела ничем стеснять вас.
Двадцать третьего мая? Кажется, тогда он встречался с братом в Карасу-базаре.
– Где же он? – спросил Рибас.
– В Новоселице.
– На кого же вы его оставили?
– Я нашла кормилицу.
В комнате было жарко натоплено, хотя декабрь за окном стоял на редкость теплым.
– Скажите, чтобы здесь проветрили, – попросил Рибас – Я переоденусь. – Он прошел в спальню, потом позвал адъютанта. – У нас сегодня гости, Петр.
– В данцингском трактире наблюдается отменное венгерское, – сказал адъютант.
– Отлично. Прибавим к нему баранину по-итальянски. Скажи повару: приправ не жалеть. Если купит ногу, пусть травы зашьет в нее. Впрочем, он знает.
Айя с тревогой наблюдала, как бригадир собирается к отъезду во дворец. Чтобы успокоить ее, бригадир с улыбкой сказал:
– Об ужине я распорядился, Анна Михайловна.
В ответ она счастливо рассмеялась.
Во дворце в приемной общество внимало приехавшим: юному австрийскому принцу де Линю и высокородному Нассау-Зигену, который в мае жаловался Рибасу на отсутствие службы, а теперь, как шепнул Базиль, уверенно метил в адмиралы Днепровского флота.
– Вы осадили Очаков? – спрашивал Потемкина юный де Линь. – Он еще не пал? Мы успели?
– Помилуйте, принц, – князь разводил руками, как купец на ярмарке. – Да там восемнадцать тысяч гарнизона. У меня в целой армии столько не наберется. Если Бог не поможет, я пропал.
– Как? – удивлялся принц, принимая вранье князя за чистую монету. – А победа под Кинбурном? Турецкий флот ушел из-под Очакова! Я верно знаю: вы осадили крепость.
– Куда! – вздыхал князь. – Дай Бог, чтобы татары не пришли и не порубили войско.
– Да где же татары?
– Повсюду. У Аккермана сераскир с корпусом в двенадцать тысяч. В Бендерах, в Хотине.
– Но наша стодвадцатитысячная армия уж в Венгрии. Император потребовал от султана разоружиться немедленно! – С жаром говорил принц и требовал Очаков, как заветную игрушку лично для себя.
– В кинбурнском сражении среди убитых француза нашли, – сказал князь, хмурясь и переводя разговор на другую тему. – Императрица велела: если живых возьмем – ссылать их в Сибирь, чтобы другим неповадно было у турок служить. – Теперь он обратился ко всем присутствующим:
– Объясните мне тайну мадридского двора! Французы клянутся, что туркам помогать отныне не будут. А вот англичане османов кораблями обеспечивают. Скажите-ка, отчего же наш кабинет английскую линию держит? Ласкает англичан за то, что они туркам флот пополняют?
Ответы посыпались разные. Предположили, что английские суда плохи. Говорили, что французы вредят больше: их инженер Лафит-Клава укрепляет Очаков. Потемкин, не соглашаясь, качал головой.
– За верный ответ даю дюжину «Токайского», – объявил князь.
Вечером, когда к Рибасу явились Бюлер, Рибопьер и Базиль с дамами, солдат от князя доставил бригадиру дюжину «Токайского». Айя ставила бутылки на стол. Баранья нога по-итальянски удалась на славу. Друзья шумели, требовали объяснений:
– Как же так? Никто не ответил на загадку князя! Не водите нас за нос, бригадир!
Все объяснялось просто. Потемкин, не дождавшись ответа, отправился в свои покои. Рибас догнал его и сказал только одно слово:
– Гибралтар.
– Молчи, – ответил князь приказом.
Однако, «Токайское» не забыл прислать. Вечер удался. Айю не смутило присутствие незнакомых офицеров и дам, она быстро выучилась играть в «мушку», отважно прикупала, «забывчивому» Рибопьеру весело записывала ремизы. Когда гости разошлись, бригадир сказал:
– Как жаль. Все это могло быть двумя месяцами раньше.
На следующий день у дворца Рибас увидел карету с вызлащенными крестами на дверцах – к Потемкину приехал архиепископ Амвросий. В зале для приемов были генералитет и контр-адмиралы Мордвинов и Войнович. Последний, очевидно, приехал только что, ибо Рибасу не успели сообщить, что Марк Иванович в Херсоне.
– Стихии не приемлют освященные православной церковью корабли, насылают на них бури и невзгоды по причине единственной, – говорил архиепископ. – Око Божье всевидяще, а слух Божий не приемлет названия русских судов.
Адмиралы переглянулись: неужели божий гнев могло вызвать название «Слава Екатерины»?
– Значит, переименуем корабли? – спросил Потемкин. – Обведем вокруг пальца стихии?
– Господу нашему будет это угодно, а флоту во благо.
– Если флоту и Господу угодим, то давайте смотреть списки всех святых и выбирать новые имена, – сказал Потемкин.
Линейный корабль «Слава Екатерины» был переименован в «Преображение Господне», а фрегат «Победа» в «Матвей Евангелист». Тридцатишестипушечный языческий «Перун» – 'В «Амвросия Медиоланского». Знаменитый бот «Битюг» стал «Спиридоном Тримифутским», а галеот «Верблюд» – «Святым Алексеем».
После официального приема Рибас подошел к Войновичу:
– Когда вы приехали? Милости прошу остановиться у меня.
– Я уж два дня, как в Херсоне. Живу у Мордвинова, – сухо отвечал Войнович.
– Как? И не зайти ко мне?
– Увы, был недосуг, – ответил Марк Иванович и поспешил в обеденную залу.
Это означало одно: Мордвинов успел нашептать графу о близости Рибаса к Потемкину, а князь не жаловал обоих контр-адмиралов. Грустно было терять старого приятеля, с которым столько связано в прошлом. Но, может быть, все это связано лишь с неудачей на море? Бригадир надеялся на возобновление дружбы.
Петербургский курьер вручил ему письмо от жены. Оно, как всегда, начиналось сведениями о благодетеле Иване Ивановиче, который не получил удовлетворения от того, что здание Академии Художеств, наконец, отстроено. Настя не преминула осудить неведомый Рибасу портик и высказалась о неуместности скульптур Геркулеса и Флоры. В Петербурге говорили о смерти жены неаполитанского посланника Антонио Мареска герцога Серракаприолы, но сплетен не было: все сошлись на том, что ее убил не муж, а климат. Герцог, по мнению Насти, обладал двумя недостатками: молодостью и неотразимым обаянием, и его роман с Анной Вяземской, дочерью генерал-прокурора, ни для кого не составлял секрета. Рибас без внимания отнесся к сообщениям жены, к тому, что к Бецкому приезжал представиться некий голландец Франц де Волан, потому что дальше Настя писала об Алексее Бобринском.
Она осторожно называла его «небезызвестный вам «Б» и выражала удивление, что за пьянство и беспримерный разврат за границей он получил очередной чин капитана гвардии. Мать получила и оплатила все его долговые расписки. Предложила сыну сесть в Англии на русский корабль и участвовать в военных действиях в Средиземноморье. Но этот негодяй «Б» явился в Лондон окончательно помешанным, наделал долгов, говорил с секретарем Воронцова настолько несвязно, что его пьяное безумие стало известно матери. Она посчитала все его расходы и вышло более ста тысяч в год. Ее терпение кончилось. К тому же неустанный корреспондент Мельхиор Гримм сообщил, что капитан Бобринский, вернувшись в Париж, возжелал возглавить полк и отправиться с ним брать крепость Очаков. Это было кстати. Мать обещала Алексею любой полк, и он воинственно устремился к российской границе, на которой его схватили, отправили в Ревель, где он жил под присмотром без горячительных напитков, карт и женщин.
Узнав об этом, бригадир вздохнул с облегчением: может быть, и необъявленная опала, которой его подвергала императрица вот уже четвертый год, кончится? Дочитывая письмо в канцелярии Попова, Рибас вдруг увидел под окном коляску, из которой вышел брат Эммануил. Судя по тому, что поклажи в коляске было много, брат приехал надолго. Бригадир вышел на крыльцо и они обнялись.
– Приехал проситься под Очаков, – сказал Эммануил. – Надеюсь на помощь вашего превосходительства.
– А что же в Крыму? – спросил его превосходительство. Брат махнул рукой:
– Каховский меня отпустил. Потемкин в Херсоне? Мне самому к нему идти, или ты сначала проведешь рекогносцировку?
– Сначала все хорошенько обдумаем.
Памятуя об истории с певицей Давиа, бригадир не поселил брата у себя, а нашел ему комнату в военном форштадте. Затем при удобном случае доложил о брате Потемкину, и тот распорядился: быть секунд-майору при его штабе. Однако Эммануил надеялся, что со временем ему дадут батальон.
Зима прошла спокойно, поездки по Украине с поручениями светлейшего стали для дежурного бригадира обыкновением, но теперь, возвращаясь в Херсон, он всякий раз ощущал душевный подъем и спрашивал себя: «Может быть это и есть счастье?» Не единственное, но счастье, потому что и первые годы жизни с прелестной Анастази были счастьем не меньшим. Но скоро окрыленные радостью возвращения в Херсон кончились: заболел сын. Об этом сообщила из Новоселицы жена капельмейстера, и Айя спешно стала собираться. Он проводил ее до схваченной льдом переправы через Ингулец. Айя не спрашивала: когда он приедет повидать сына, хочет ли он этого, приедет ли вообще, а, может быть, ей с сыном приехать в Херсон? Это казалось странным. «Она что-то решила или что-то предчувствует», – подумал Рибас и стал уверять: как только представится возможность, бросит все дела и приедет в Новоселицу.
После ее отъезда, бригадир стал печален, философствовал, и все это отозвалось в его письмах к генерал-аншефу Суворову, который зимовал в Кинбурне. Рибас писал ему о том, что теперь, подобно древнегреческому Пиррону, воздерживается от суждений об истинном и ложном, рассуждал о вечности, сравнивал кинбурнские письма генерал-аншефа с откровениями апостола Иоанна на острове Патмос, вспоминал героев «Иллиады» царя Нестора и Одиссея-Улисса и о том, как Юпитер хладнокровно созерцал Троянскую войну.
Кинбурнский адресат писал в ответ: «Вы меня чаруете, шевалье: Ваше письмо от 2 марта мне мило. Пирронизм не по мне, уж коли выбирать заблуждение, выберу стоицизм… Если Вы вкусите сладость чистого благочестия, Вы не променяете мой Патмос и на трон… Поровну мудрости и осторожности ни у кого нет: Нестор мудр, Улисс – осторожен; подчиненный, даже патриот, всегда найдет, в чем упрекнуть и мудрого и осторожного… Старуха бормочет, ребенок лепечет, петух поет – зачастую без смысла и причины. На другой день после равноденствия я почувствовал себя крепче и осуждал свои недостатки, будто сторонний. Что ж осторожность! За нею хитрость и коварство, и всяческие уловки на лад идут. Рассудок мой о сем знает, мысль же сего бежит, душою клонюсь я к Нестору. Коли постигнешь незыблемое равновесие Юпитера, надобно иногда уповать на судьбу, презрев свободу воли. Мудростью побеждайте гордыню и скупость. Вы навсегда пребудете прекрасным трубадуром, любимцем граций…»
Екатеринославская армия Потемкина числом до ста тысяч медленно, но верно оставляла винтер квартиры и выходила на бугские позиции, сосредотачиваясь в районе Ольвиополя для перехода Буга и осады Очакова. Стодвадцатитысячная армия Иосифа II стояла в кордонной системе, изобретенной генералом Ласси и растянула свой фронт от Хотина до Адриатики. Турецкий визирь это отлично видел и направил свои войска числом сто восемьдесят тысяч к Софии, чтобы разделаться с армией австрийцев по частям. Войсковые офицеры заглазно корили Потемкина за то, что Очакову он придает слишком большое значение.
В очередной поездке дежурный бригадир Рибас встретил на степной дороге коляску генерала Долгорукова.
– Все дороги ведут в Рим, – сказал Юрий Владимирович, – и на них даже изредка встречаешь итальянцев!
– Которые говорят по-русски, – в тон ответил Рибас.
– Скажите, отчего мой корпус не может сделать без команды светлейшего и шагу? – спросил генерал. – Мне указывают делать такие малые переходы, что они похожи на пытку степью. Все чересчур медленно, не смотря на то, что я презентовал князю смирную, но быструю лошадь.
– Верно, у этой лошади успел испортиться норов, – сказал бригадир.
– Ручаюсь вам, ее опоили англичане при штабе князя! – Отвечал Долгоруков.
И все-таки, за зиму для Молоха войны было сделано изрядно. Взяли пятьдесят тысяч рекрут в пехоту и восемь тысяч на флот. Служба в армии теперь поощрялась денежными наградами, а коннику за три года службы сверх срока давали серебряную медаль, за шесть лет – золотую. Все городские мещане были обращены в военное состояние по образцу казачьего войска, но с наименованием казаков пеших. Мещане выбирали себе атаманов. Вооружались пиками и широкими ножами. Им по-казачьи стригли волосы, обучали строиться в лаву, по кучкам и в рассыпку. Они осваивали массовую атаку в ножи, наподобие турецкого юриша – удара янычар с ятаганами. Потемкин разъезжал из полка в полк, входил во все мелочи и даже составлял депеши о том, как лечить нижние чины от поноса.
Многократно Потемкин направлял Рибаса в казачьи войска. Бригадир проверял губернии, обязанные выставлять по одному казачьему полку; бывал в ямских селах и раскольничьих поселениях, снаряжавших конников. Нередко Рибас встречал и проверял экипировку бывших запорожцев. Около восьмидесяти тысяч их жило в устье Дуная. Они люто ненавидели петербургские власти за разорение Сечи. Но Потемкин предложил им такие выгоды, что многие бежали с Дуная в Новороссию и под Херсоном в Алешках основали кош, собравший до двадцати тысяч казаков под началом бывшего есаула войска запорожского, а теперь секунд-майора Сидора Белого. Этих казаков стали звать Верными. Потемкин слал им знамена, которые Суворов и Белый освещали в церкви Великомученницы Екатерины.
Постоянные разъезды то со штабом Потемкина, то с его адъютантами притупили чувство разлуки с Айей, и бригадир писал Базилю Попову: «Я все это время был столь занят головою и сердцем, что было невозможно вам писать, тем более, что не имел ничего занимательного вам сообщить; Князь дал батальон моему брату. Все здесь благополучно. Поручаю себя продолжению вашей дружбы. Мое почтение г. г. Рибопьеру и Бюлеру, для которого вот два письма от принца Нассау».
Генерал Долгоруков недаром говорил об англичанах при штабе Потемкина. Одного из них князь представил Рибасу в Елисаветграде по-французски:
– Поль Джонес – второй во всей Англии моряк. – А по-русски сказал: – Я не знаю, кто у них там считается первым, но этот пират мне нравится. Он англичанин, а потопил столько английских судов, что нам и не снилось. Я назначил его командовать парусным флотом на Днепровском лимане. Сопровождай адмирала повсюду.
Рибас, к своему удивлению, был отрекомендован Поль Джонесу как командир гребной флотилии, входящей в состав гребного флота. Когда знакомились с морскими картами, Джонес задавал короткие и дельные вопросы. У Попова бригадир уточнил свои теперешние полномочия и узнал, что принц Нассау назначен командовать всем гребным флотом, а Рибаса определили к малым гребным судам и казачьим лодкам. Странным было то, что никакого морского чина князь бригадиру не дал.
Наутро Рибас отправился с англичанином в Херсон. Джонес выехал с двумя адъютантами, поваром, тремя капитанами и девицей Вирджинией Лейтон, которую представил коротко:
– Вирдж.
– Попутный ветер, – сказала Вирдж.
«Попутный ветер» – это было ее прозвище. В раскаленной зноем степи они обгоняли растянувшиеся в дневных переходах полки, и не было не только попутного, но никакого вообще ветерка, но на лице Джонеса не выступило ни капли пота. Вирдж щеголяла формой морского офицера. Волосы подобраны под шляпку, напоминающую мушкетерскую поярковую каску. Ее повсюду принимали за мужчину.
– Вы родились в Англии? – спросил бригадир у адмирала.
– Адмирал не англичанин, – сказала Вирдж.
– Но мне отрекомендовали его, как англичанина.
– Это оскорбление, – заявила Вирдж.
– Я – шотландец, – подтвердил Джонес.
– Родственники моей матери жили в Шотландии, и в Ирландии, – обрадовался Рибас – Фамилии Дункан или Пленкет вам ничего не говорят?
– Поль – шотландец, – повторила Вирдж.
– Но и я говорю о Шотландии.
– Поль еще мальчиком сбежал на Американский континент, – сказала Вирдж.
Джонесу шел сорок первый, бригадиру в этом году исполнялось тридцать восемь.
– А чем вы занимались в Америке? – спросил Рибас.
– Он торговал рыбой, – ответила Вирдж.
– А во время войны?
– Топил англичан, – сказал Джонес.
Выяснилось, что адмирал возглавил флотилию в шесть судов и весьма успешно противостоял английским эскадрам.
– Я их топил не только у американских берегов, – с удовольствием вспоминал Джонес – Всего с одним восемнадцатипушечным корветом я высадился у берегов Северной Англии в Вайтгафене, сжег немало судов. Да! После высадки в замке графа Селкирка и ночью можно было читать без свечей.
– Но почему вы жгли суда, а не брали их в плен?
– У меня не было людей. Поэтому в Ливерпуле мне не удалось помочь хорошо освещенному ночному чтению. Но думаю, на британском побережье моим именем до сих пор унимают расшалившихся подростков.
Он засмеялся неожиданно и сипло, а Рибас окончательно осознал опасность своей миссии при адмирале. В назначении шотландца командовать парусной флотилией не было ничего необычного. Грек Панайот Алексиано командовал линейным кораблем «Святой Владимир», Войнович был из сербов. Грейг – англичанин. Но Джонес, как видно, имел славу корсара, разорял английские берега, и с его назначением никогда не смирятся англичане на русской службе, даже если Потемкину его рекомендовала сама императрица. И все враги Джонеса станут недругами бригадира.
Неприятности начались в Херсоне, когда Мордвинов показывал Джонесу верфь и причалы, где стояли три судна.
– Брандеры оборудуем, – объяснял Мордвинов.
– Как? Они до сих пор здесь, а не при эскадре?! – возмутился корсар.
– Подвоз плох. Ждем нефть.
– Немедленно брандеры на лиман!
– Такелаж неполон.
– Если брандеры до вечера не будут в Глубокой пристани, я подумаю, что вы воюете на стороне турок! – вскричал корсар.
– Я вам не подчиняюсь, – нехотя сказал Николай Семенович. – Командуйте на кораблях, а там увидим, кто на чьей стороне.
На яхте отправились в Глубокую, шотландец никак не мог успокоиться, обещал отдать Мордвинова под суд. Вирдж подлила масла в огонь:
– С такими помощниками попутного ветра не жди.
Конечно, Джонес был кругом прав. И Рибас с грустью думал о медлительности флотских, о мелочах, которые порой решают дело. Но за годы жизни в Новороссии он со многим смирился: край обживался второпях, а война прибавила путаницы. Шотландцу Джонесу это никак не помешает беспрекословно требовать то, что его эскадре положено. В этом были свои плюсы. Минусы скажутся во взаимоотношениях людей. И предположения бригадира тотчас подтвердились.
В Глубокой пристани Джонес увидел пушки без лафетов, сваленные в грязь.
– Что это?!..
– Лафеты еще не доставлены, – отвечал дежурный офицер.
– И это… это, когда турецкий флот рядом?! – задохнулся от возмущения корсар. Подошли офицеры, прибывшие с кораблей, представились.
– Через час всем парусным судам сняться с якоря для эволюции в лимане! – приказал Джонес. Алексиано, как самый опытный моряк, бивший турок в прошлую кампанию в Египте, сказал:
– Это невозможно. На моем корабле не хватает парусов.
– Каким судном изволите командовать?
– Шестидесятипушечным, – намеренно неполно ответил Алексиано.
– Название своего корабля вы забываете сразу, как только сходите на берег? Неужели вам не приходилось плавать, не имея и половины парусов?
– Когда я жег турок под Бейрутом, я берег свои паруса.
– Отлично. Но сейчас вы увидите, как можно совершать эволюции, не имея треть парусов. Я поднимаю свой флагманский вымпел на вашем судне.
– Я освобожу для вас и свою каюту, – сказал Алексиано и направился к шлюпкам.
Парусные эволюции после этой стычки прошли, не имея успеха у офицеров. Но Джонес был доволен:
– Командиры хорошо выучены, и я это узнал за какой-то час, – говорил он принцу Нассау. – Офицерам таких команд можно простить их дерзости.
– Но извинительна ли некоторая грубость по отношению к ним, адмирал? – вопрошал Нассау, часто моргая от волнения и напрягая скулы острого лица.
– Если мою требовательность тут принимают за грубость, я буду груб, – отвечал корсар. – Скажите-ка, есть под Кинбурном неприятельские суда?
– Вы хотите отправиться к Кинбурну?
– Немедленно.
– Это безрассудно.
– Конечно. Поэтому к Кинбурну отправлюсь лично я, а не флот.
Но пришлось остаться до утра, потому что Алексиано и несколько офицеров съехали со своих кораблей. Они не хотели слушать никаких увещеваний. Рибас с курьером послал срочный рапорт Потемкину, в котором умолял князя дать немедленный приказ всем офицерам вернуться на корабли. С этим же курьером он послал записку инженер-полковнику Корсакову с просьбой прибыть в Глубокую. Расчет был прост: Корсаков и Алексиано в Херсоне дружили домами, и Рибас надеялся, что Корсаков сумеет призвать друга к благоразумию.
Вечером в каюте на «Святом Владимире» Джонес, Рибас, Нассау и Вирджиния играли в национальный английский вист.
– Азартные игры я запрещу, – объявил корсар. – Азарт мне нужен на палубах, а не за ломбером.
Однако Вирдж ухитрялась и в спокойном висте быть азартной. Ходила маленькой картой от третьей дамы, даже партнеру не показывала сильной масти, но тем не менее сделала несколько больших шлемов. Когда после очередного роббера партнеры менялись, говорила неизменно:
– С попутным ветром, господа.
Во время перерыва Нассау сказал Рибасу:
– А вы знаете, ваш брат отличился.
– Эммануил? Как же?
– Был с частью своего батальона посажен на фрегат и отправлен на рекогносцировку под Очаков. А там уговорил капитана напасть на одинокое турецкое судно. Едва не захватил его. Пушки с крепости помешали.
На адмиральской яхте к полудню следующего дня Рибас и Джонес прибыли в Кинбурн.
– Коли адмирал здесь, значит, и корабли скоро увидим! – воскликнул Суворов, повел Джонеса на вал, откуда был виден турецкий флот у Очакова. – Когда адмиральский шлейф увидим здесь? – спросил генерал-аншеф.
– Три фрегата будут крейсировать у крепости с завтрашнего дня, твердо отвечал корсар и предложил: – Прогуляемся к мысу?
– Готов быть провожатым, – сказал Суворов.
Прогулка вышла долгой и утомительной. Генерал-аншеф с интересом приглядывался к неутомимо шагавшему по песку корсару. Восемь верст шотландец прошел, не останавливаясь, не разговаривая, размахивая зрительной трубкой в руке. Рибас почувствовал внезапную резкую боль в коленях и отстал. Когда бригадир вышел на мыс, Джонес насчитал в районе острова Березань семнадцать линейных кораблей турок. В это время от Очакова в лиман вышло десятка два турецких судов.
– Двадцать одно, – уточнил Джонес – Пять линейных… Две бомбарды. Семь фрегатов… у ближних по тридцать две пушки. У дальних…
Заполночь возвратились в Глубокую. Рибас писал Попову: «Поль Джонес, мне кажется, тоже заметный, человек, может сделать много добра. Я чувствую сильную боль и страдаю в то время, как вам пишу. Только что я убедил Алексиано оставаться на одном корабле с Поль Джонесом. Я завтра еду в Херсон и употреблю все мои старания, дабы ускорить выслать все нужное адмиралтейству».
Вскоре на адмиральском совете решили всему флоту идти к Очакову и стать в линию на якоря в шести верстах от турецкой флотилии, что и было исполнено к шестому июня. Гребной флот расположился ближе к правому берегу лимана. Позади парусного, стоявшего на левом фланге, бросил якоря резерв – галеры, брандеры, плавучие батареи. Турки лишь издали наблюдали за действиями русских.
Ранним утром седьмого Рибаса, ночевавшего в каюте «Святого Владимира», разбудили голоса и топот ног на палубе. Он оделся и вышел. У борта стояла лодка, в которую спускались Нассау и Джонес. Рибас поспешил следом, не обращая внимания на боль в ногах.
– Как говорит Суворов, наступил пастуший час? – спросил бригадир.
– Замечено движение турок у берега.
Туман вползал в лиман со стороны моря. Гребцы налегли на весла, и через получас Нассау из лодки спрашивал у Алексиано, находящегося на борту галеры:
– Что у вас справа? Посылали узнать?
– Турки на веслах! До двадцати судов.
Поль Джонес не поверил, но остальные капитаны подтвердили: турки совершают маневр вдоль берегов.
– Прижимайте их к берегу! – вскричал корсар.
На одной из галер Рибас увидел брата, помахал рукой, но тот не заметил. Туман рассеивался, и можно было насчитать до тридцати османских судов. Пушечная Дуэль началась, когда до неприятеля было расстояние в два выстрела. Ядра шлепались в воду. А лодка с адмиралами понеслась назад, к парусному флоту, где тоже загрохотали пушки. Адмиралы перешли на «Святой Владимир», Рибас приказал высадить его на галеру «Десна». Капитан Ломбард, посверкивая Георгиевским крестом за недавние горячие дела, скомандовал:
– Идти на сближение!
– Держаться в линии! – напомнил непременное правило линейной атаки Рибас.
Пушечная дуэль длилась более часа. Гребная флотилия Рибаса, опередив парусники, выстраивалась по галере «Десна» в линию. Возле турецких многопушечных судов бригадир увидел легкую лодку – «кирлангич», сновавший от судна к судну. Рибас наблюдал за ней в зрительную трубку и заметил, как с турецкого флагмана в кирлангич сошел турок, которого приветствовали турки-матросы. «Может быть, это сам Гассан-паша, – подумал Рибас и, когда галеры, казачьи лодки и батареи начали сближаться с неприятелем, прокричал на ухо капитану:
– Наша цель – кирлангич! Там капудан-паша! Повторять не пришлось – капитан сам стал за руль.
Легкие пушки своими ядрами уже достигали кирлангич, и он понесся под защиту флагмана.
– Уходит! – закричал капитан. – Прибавить весла!
– Сушить весла! – перебил его команду бригадир и вовремя: со стороны русских парусников огонь ослаб, потому что четыре галеры чересчур вышли вперед из линии и мешали вести стрельбу. Рибас приказал спустить шлюп, догнать галеры и вернуть их в линию, но тут же отменил приказ: слева «Десну» обошла лодка, на которой инженер-полковник Корсаков догнал вышедшие вперед галеры и остановил их.
К этому времени подошли казачьи дубы, которым перед боем Рибас предписал стоять слева, у Кинбурнской косы. Линия, наконец, выровнялась, и пушечная дуэль возобновилась с прежней силой. Адмиральский турецкий корабль был осажден малым рибасовым флотом, как огромная крепость жалящими шмелями. Ядра турок с высоких бортов не вредили казачьим дубам, а «Десна» своим огнем сбивала с турецкого борта английские мортиры, рвала оснастку, но поджечь адмиральский корабль не удавалось. К нему уже спешили на выручку две галеры, по которым бригадир приказал ударить из всего, что могло стрелять и, спустя мгновение, обе галеры одна за другой взлетели в небо обломками. Восторженное «А-а-а!» раскатисто разнеслось над русскими судами. И вдруг флаг на фор-брам-стеньге турецкого адмиральского судна приспустился.
– Сдаются? – спросил капитан.
– Может быть, крепления перебиты, – предположил Рибас. – Не прекращайте пока огня.
Но через получас был спущен флаг и на адмиральском гроте. Бригадир взглянул на другие турецкие суда. – и они спустили флаги на гротах. Матрос-пушкарь, из греков, сказал бригадиру:
– Так и при Чесме было. Сдаются турки.
Рибас приказал прекратить обстрел и отправил казачий дуб с донесением к Нассау. Но в это время от турецкого флагмана отвалил кирлангич и направился в сторону Очакова.
– Они спасают своего Гассана!
Пушки на галере ожили, грохнули залпом, а турецкий флот рубил якорные канаты и при попутном ветре стал уходить за своим капудан-пашой. Их преследовали, пока ветер не унес дым боя, и стало видно несметное число малых турецких судов. В эту минуту бригадир снова почувствовал резкую боль в коленях, присел на лафет.
– Вы ранены? – спросил капитан, всматриваясь в побелевшее лицо Рибаса.
– Нет. Это пройдет.
К галере подошла яхта с Поль Джонесом и Нассау.
– Поздравляю! – крикнул корсар. – Два судна на вашем счету!
Рибас с трудом перешел на яхту и сказал адмиралам: – У меня день рождения шестого. Но отмечать было некогда. А сегодня шампанское за мной!..
Его свели в кокпит. Вирджиния налила вина. Боль в ногах стала адской. Он выпил. Покачнулся, схватился за переборки.
– Вы не шотландец, – сказала Вирдж. – Вы даже не потомок ирландцев.
– Почему? – он слабо улыбнулся.
– На них вино не действует так мгновенно.
На яхте бригадира отправили к Бугу, где на пристани Станислава, часто останавливаясь, он сошел на берег сам, доковылял до первого дома, где размещали раненых, упал на постель и потерял сознание. Очнувшись и не почувствовав облегчения, велел прибывшему адъютанту ехать за доктором Ван-Вунцлем, который находился в Херсоне. Утром бригадир писал Базилю Попову:
«9 июня. Станислав. Болезнь моя принимает плохой оборот, любезный и почтенный друг. Вчера я послал в Херсон за Ван-Вунлцем, которого жду каждую минуту. Там я оставил дела в хорошем положении. Ожидают через два дня прибытия флота из Севастополя. Капитан-паша много пострадал в последней битве; и даже думаю, что он или ранен или убит. Наши пушки стреляли чудесно и метили в него».
Доктор Ван-Вунцль приехал на следующий день, осмотрел ноги больного, расспросил и сказал:
– Это ревматические боли. Нужен покой. Перебирайтесь в Херсон – будете под моим наблюдением.
Адъютант Петр привел солдат с носилками и, потупясь, сказал:
– Вынужден вас огорчить. Ваш брат ранен.
Рибас ощутил холод под сердцем, но лишь спросил:
– Что с ним?
– Его жизни ничто не угрожает. Но…
– Говорите.
– Ему оторвало кисть руки.
Бригадир повернулся к стене. «Это проклятье! Чье-то проклятье приносит нам несчастья. Судьба сдает заведомо битую карту именно в тот момент, когда она же представляет случай с ней поспорить. Бедный Эммануил! Мои страдания по сравнению с его – ничто».
И в Херсоне боли в ногах не проходили. Отвлекали от них лишь редкие посетители. Жена Алексиано явилась с генералом от артиллерии Меллером-Закомельским, которого задержал в Херсоне приступ лихорадки. Бригадиру был бы приятен этот визит, если бы не злоязычие жены Алексиано о Поле Джонесе.
– Он корсар без бога в душе. Приказал эскадре мужа быть постоянно в выстреле от турок. Видит бог, со своими подручными он перережет офицеров и уведет наш флот к туркам!
Меллер помалкивал. Впрочем, они скоро ушли. Рибас расспросил навещавших его флотских офицеров и они подтвердили: русский флот держится в непосредственной близости от турецкого. Бригадир написал Попову:
«14 июня. Херсон. По присланным письмам вы увидите, что снова черт вмешался между Нассау и Джонесом; но любят ли они друг друга или нет, это не наше дело, лишь бы не страдали люди, состоящие под их командою, и благо государства. Убедите Князя отдать приказ обоим: занять соединенную крепкую позицию и не приближаться столь к неприятелю, не имея намерения открыто с ним драться, потому что находясь в столь близком расстоянии, надо быть всегда наготове и иметь зажженными фитили; малейшее движение неприятельского судна достаточно, чтобы встревожить всю эскадру; а подобные беспокойства утомляют, наскучают и отнимают бодрость в командирах, которые теряют доверие к своим начальникам и проч.
Если господь возвратит мне здоровье, я надеюсь, что они поладят, и мы дадим большую окончательную битву неприятелю; а нам только то и нужно. Сегодня мой хороший день и чувствую себя лучше ради присмотра, которым пользуюсь здесь. Генерал Меллер прислал мне вишен и барбарису, очень для меня полезных. Я превратился в скелет и силы меня оставили».
Через день в спальню Рибаса заглянул адъютант:
– Супостат на пороге.
Вошел Мордвинов. Рибас удивился, предложил сесть, но адмирал встал у окна и заговорил, не глядя на Рибаса:
– Забудем о недоразумениях меж нами. Я иногда готов кричать от бестолковости моих подчиненных. Разве не по этой же причине Очаков не осажден в середине лета? Разве не по этой же причине в лимане до сих пор нет севастопольского флота? Джонес и Нассау ладят, как кошка с собакой. А мы вынуждены с нашим горе-флотом мыкаться по воде, изображая кипучую деятельность в выстреле от неприятеля.
– Как? Шестичасовый бой с неприятелем вы считаете изображением деятельности? – изумился Рибас.
– Избави бог. Дуэль была знатная. Турки оплошали: чуть ли не шестьдесят судов ввели в лиман. Где им было развернуться?
– Разве об этой ошибке нам нужно сожалеть?
– Завтра поумнеют. Вот я о чем.
– Но это будет завтра! А седьмого они отступили. Разве это не победа?
– Не такая это, видно, победа, если Потемкин послал в Петербург известие о ней не с генералом, а всего-то с унтером!
Не мог Мордвинов смириться с успехом Джонеса. Рибас подивился злобе, исказившей лицо Николая Семеновича, позвал адъютанта:
– Петр! Подай мне склянку. Я последнее время слышу столько гадостей, что могу пить лекарство, не морщась.
Мордвинов вышел, не простившись.
Явился курьер с почтой, Рибас усадил его обедать и стал читать письмо от Суворова. Генерал-аншеф ничего не знал о болезни бригадира, а так как между ними было условлено: писать друг другу не реже трех раз в месяц, Суворов сердился на Рибаса, осуждал его за увлеченность Руссо и отсылал к божествам мудрости – даймонам Сократа:
«Если вы мне не пишете, то и я вам писать не буду. Позабудем об общем деле, станем думать о самих себе – в этом вся добродетель светского человека. Ищите мудрости Жан-Жака, и Вы утопитесь в бутылке миндального молока. Ученики его станут Вас прославлять. Воздвигнут Вам гробницу над бездной ничтожества с громкой надписью: «Здесь лежит великий» – не знаю кто. Но прежде такой славной смерти взбеситесь, пишите глупости, и вы увидите, что это принесет более пользы государству, нежели все красоты себялюбия. Коли Вас уже нет в здешнем мире, пусть явится ко мне Ваша тень. А коли Вы еще тут, следуйте Даймону Сократа.
Я писал Вам об этом после Вашего отъезда. Вы уехали внезапно, я Вас ждал, Вы не возвратились, и то, о чем совещались мы, остается недоконченным…»
Бригадир написал генерал-аншефу с своих печальных делах, взялся было за очередное письмо Айе, от которой до сих пор не было вестей, но курьер уж отобедал, и Рибас написал Базилю:
«16 июня. Херсон. Едва я вчера подписал письмо Князю, как меня охватил озноб и лихорадка, продолжавшиеся 12 часов. Насилу я избавился от них к полуночи. Впрочем, доктор доволен совершившеюся переменою. Я ничего не ем, принимаю все, что велят, чтобы не иметь упрека на совести. Но я решил, что если через 6 дней мне нельзя быть под Очаковым с вами, то лучше готов умереть. Стоит ли в самом деле жить, если нельзя пользоваться таким блестящим случаем. Если по воле Божьей я вернусь скоро к флоту, то отвечаю, что обе эскадры будут действовать заодно… Мой курьер сказал мне, что Князь все эти дни были очень не в духе от нетерпения касательно моста. Ай, бедный барин! Как дурно ему прислуживают; но я надеюсь, что несмотря на все, он. успеет, и что враги его лопнут от досады».
Именно в этот день, 16 июня, началось решающее сражение на лимане. Оно продолжалось более двух суток, и донесения курьеров походили на сказку: восемь кораблей и фрегатов турок было сожжено и взорвано, пятидесятипушечное судно взято в плен. Гассан-паша снова бежал с адмиральского корабля, а его команда сдалась. Суворов поставил батареи на Кинбурнской косе и разбил семь гребных судов. Тысячи пленных и убитых. Переправу через Буг сухопутных войск осложнила буря с ливнем невиданной силы, но войска уже обкладывали Очаков.
Курьер, посланный бригадиром в Кинбурн, вернулся с письмом брата: Эммануил продиктовал его. Сообщал, что не хочет уезжать из крепости, опасается нагноения раны. Но когда дело пойдет на поправку, не намерен оставлять армию и просит, чтобы Рибас протежировал ему перед Потемкиным: не причислять его к инвалидам – и безрукий не будет в тягость, если голова на плечах цела.
Двадцать первого в полдень Рибас услыхал переполох у дома, захлопали двери, послышались громкие голоса, а в спальню, где на подушках лежал больной, вошел веселый Потемкин.
– Все бока отлеживаешь, бригадир? – спросил он, шутливо грозя пальцем. – Да. Два обстоятельства в жизни всегда некстати: болезнь и слабый пол. Второе, правда, бывает хуже болезни, но приятнее. Парил ноги?
– Доктор не советует.
– Не слушай. Иди в баню и парься. Хотя… может, тебе и вредно – мяса на костях мало. Что же ты так отощал? Не кормят?
– Ем, что дают.
– Я тебе пирогов пришлю. Говори, что надо? Чего не достает, чтобы на ноги подняться да танцевать?
– Вот просьба, – Рибас передал князю письмо брата. Потемкин пробежал его глазми, аккуратно свернул и спрятал в рукав кафтана, сказав:
– Хорошо. Знаешь о нашей победе? Сладость не без горечи. Кошевой атаман Белый тяжело ранен. Я ему чин полковника послал.
– Что на Буге? – спросил Рибас.
– Да я уж императрице написал: не дожди бы эти проклятые, мы давно были бы под Очаковом. Но у Ад-Жигола наши конники соединились с шестью батальонами, которые вы с лимана выслали. Я в Херсоне наездом. Сейчас в Станислав. Чтобы завтра же встал! Иначе всю кампанию проморгаешь. – Уходя, сказал: – Я тебе пришлю свое лекарство – к ордену Святого Владимира представлю!
На следующий день бригадир встал, боли прошли, но он еще был слаб. «Вчера я имел удовольствие видеть у себя Князя веселым, здоровым, наконец, таким, каким я его видел в лучшие минуты, чему я был рад и доволен», – написал он Попову и отправился на казачьем дубе в Глубокую пристань, где сразу же попал в атмосферу обострившихся отношений между Нассау, Джонесом и Алексиано. Амбиций каждому из них было не занимать. Теперь спорили и о том, кто сыграл главную роль в сражении, после которого часть турецкого флота оказалась блокированной под Очаковом, а сам Гассан-паша бросил якорь за островом Березань.
В Кинбурне бригадир навестил брата. Он лежал среди других раненых офицеров в доме, похожем на сарай. Но здесь было прохладно по сравнению с уличным зноем.
– Дева Мария, от тебя осталась тень, Иосиф, – сказал Эммануил, садясь в постели. Правая рука, замотанная белым холстом, висела на ремне, перекинутом через шею.
– Речь не обо мне, – сказал бригадир. – Как ты?
– Из меня вылилось полведра крови. Но теперь даже не сочится. И мухи не так донимают, как раньше. Значит, рана очистилась.
– Поезжай в Херсон. Мой дом и доктор в твоем распоряжении. Я предупредил.
– Хорошо. Ты говорил с князем?
– Да. И передал твое письмо. Он отнесся к нему благосклонно. Теперь все зависит от тебя. Ты встаешь?
– По необходимости. Учусь писать левой рукой.
– Сможешь сегодня вечером поехать со мной в Глубокую?
– Лучше через пару дней. Когда встаю, все перед глазами идет кругом.
Бригадир повидался с Суворовым, который гневался на инженер-полковника Корсакова за то, что тот поспешил выдать его план штурма Очакова Потемкину. Рибас узнал, что кошевой атаман Сидор Белый не дождался производства в полковники – скончался от ран и похоронен со всеми почестями.
По истечении трех дней бригадир отправил брата в Херсон, и нахлынуло множество мелких, но неотложных дел. Курьеры привезли новую неутешительную весть о Севастопольской эскадре. Войнович из-за жестокой непогоды был вынужден вернуться в Севастополь.
– Похоже, что они могут вызывать шторм тогда, когда захотят, – сказал на это Нассау.
К первому июля армия Потемкина охватила Очаков полукольцом. Правый фланг упирался в море, левый – в берег лимана. Потемкин стал здесь лагерем, занял высоты, разместил дивизию в балках. Первая рекогносцировка показала, что флот под стенами крепости вооружен пушками крупного калибра. Нассау, Джонес и Рибас были призваны на совет.
– Я организую ложную атаку с северо-запада у моря, – предложил Потемкин. – Там уже насыпают сильную батарею. Как только я начну, вы, господа моряки, выбьете флот неприятеля из-под стен.
В этом бою русские истребили девять турецких судов, пять взяли в плен. Флота под Очаковым у Порты больше не было. Рибаса поразила внезапная смерть грека Понайота Алексиано. Он только что получил чин контр-адмирала, на флоте его любили, и вдруг – полный энергии и сил умер не в бою, а в своей каюте. «Поистине, судьба не разбирает, а бьет в лет самых лучших», – думал бригадир о смерти Алексиано.
Суворов с гренадерами переправился из Кинбурна через лиман и занял позиции на левом фланге. Здесь и высадился из лодки Рибас, чтобы направиться в ставку и просить Потемкина о переводе в войска, осаждавшие крепость.
Суворов встретил бригадира сетованиями:
– Хотят крепость взять правильной осадой. А в чем правильность? Ждать да людей терять? Истинная правильность всегда в неправильности. – Четырехугольник крепости хорошо просматривался с высоты, генерал-аншеф указывал на укрепленные ворота и называл их: – Гассан-пашинские, стамбульские, бендерские, кривые и водяные. За водяными воротами ров до лимана не доходит. Тут слабое место. Тут и брешь – батарею ставить! Я князю говорил. Да слух княжеский плох стал.
Ставку князя бригадир услыхал издалека: изящный котильон доносился до биваков. Спустя несколько минут перед глазами Рибаса предстал сказочный городок из веселых малиновых, голубых, желтых шатров и палаток. Справа стояла наблюдательная деревянная вышка, на которой к своему удивлению, бригадир увидел капельмейстера Сарти: под вышкой на скошенном островке среди лебеды и репейника играл оркестр. Рибас, запрокинув голову, крикнул Сарти:
– Вы руководите оркестром на очень высоком уровне!
Сарти захохотал, спустился на землю. Рибас сказал весело:
– Но, дорогой Сарти, по-моему, вы, как Цезарь, делаете сразу несколько дел. И руководите оркестром, и наблюдаете за неприятелем, и даже служите ему отличной мишенью.
Сарти вмиг посерьезнел, поджал губы, сказал:
– Кроме указанных занятий, я сочиняю тут музыку.
– Я бы удивился, если бы это было не так! – воскликнул бригадир. – Минареты Очакова вдохновляют не только Марса в латах, но и Клио с флейтой.
– О, это будет Очаковская симфония! – провозгласил Сарти.
– Уверен, – продолжал подтрунивать Рибас. – Как только вы ее исполните, турки разбегутся из Очакова куда глаза глядят.
Оставив Сарти обдумывать двусмысленный комплимент, бригадир подошел к площадке под натянутой парусиной, где на лавках, покрытых бархатом, восседали штаб-офицеры, дамы, генералитет, сновали слуги, курьеры и аромат пудры, душистой воды смешивался с табачным дымом. Потемкина тут не было. Базиль Попов обнял Рибаса, шепнул:
– Вы не вовремя. Никаких советов князю. Сыт по горло.
Статный Рибопьер подтвердил:
– Светлейший не в духе. Кутузова выгнал. Меня отчитал ни за что.
– Бокал вина бригадиру! – объявил Бюлер, останавливая слугу.
Рибас молча выпил.
– Лучший тост с утра, – сказал Попов.
По углам этой импровизированной гостиной стояли мраморные изваяния обнаженных богинь. Столы с закусками и фруктами чередовались с ломберными. На пальме висела обезьяна и бросала на головы проходящих карты. Герой отважных рекогносцировок и успешных вылазок Петр Пален шумно приветствовал Рибаса, предложил тотчас сесть за ломбер, но из голубого в золотых звездах шатра вышла в костюме амазонки наперсница светлейшего Екатерина Долгорукова и обратилась к генералу Максимовичу:
– Полковник, прикажите Сарти повторить котильон.
Генерал Максимович безропотно повиновался. Долгорукова показала всем блюдо с драгоценностями:
– Господа! Среди этих поддельных драгоценностей есть одна настоящая жемчужина. Князь велит вам найти ее. Кто не угадает – будет ухаживать за нашей обезьянкой. А кто попадет в цель – поедет в Петербург курьером о взятии Очакова.
– Я и не заметил, как князь покорил эту крепость! – воскликнул де Линь.
Подходили многие, но сделаться кавалерами обезьянки охотников не находилось.
– Эта задача не для нас, – сказал Базиль.
– Увы, я знал ответ еще поручиком в самнитском полку, – сказал Рибас.
– Спорю, что это не так! – воскликнул Петр Пален.
– Не спешите облегчить свои карманы, – улыбнулся бригадир и подошел к княгине. – Екатерина Дмитриевна изволила сказать, что перед нами поддельные драгоценности, но истинную, блистательную, неотразимую жемчужину видно и невооруженным глазом – ею может быть только сама княгиня.
Присутствующие были разочарованы простотой ответа. Княгиня ушла в шатер. Генералы переговаривались о льстивости итальянцев, которым впору быть кавалерами в салонах, а не командовать флотилией. Тем временем Рибаса позвали в шатер, который оказался двойным и внутри веяло благословенной прохладой. По деревянному вощеному полу катались, покусывая друг друга, две пегие гончие. Потемкин сидел в низком кресле под картиной, на которой Пан играл на свирели.
– Малиновой воды хочешь? – спросил князь, быстро обсмотрев вошедшего.
– Благодарю. Я выпил вина только что.
– С чем пожаловал? Выкладывай, советуй: как штурмовать крепость?
Памятуя наставления Базиля, Рибас развел руками, сказал:
– Мне бы кто посоветовал, как на воде жить и мокрому не быть.
– На сушу хочешь? – Потемкин вздохнул, отпил малиновой воды из кружки. – Где от тебя польза, там и будешь. – Он покопался в шкатулке. – Вот тебе твой «Святой Владимир». Заслужил. Носи. Он за сражение седьмого.
Рибас принял орден, поклонился, а в шатер вбежал встревоженный Рибопьер:
– Ваша светлость, османы вылазку на позиции Суворова затеяли.
– А что же я не слышу?
– Оркестр играет.
– Остановить.
Музыка смолкла – стала слышна ружейная трескотня.
– Какие будут распоряжения? – спросил Рибопьер.
– А разве Суворов их не отогнал?
Пален заглянул в шатер:
– До двух тысяч турок вышло из крепости! Рубятся!
– Коня!
С повозкой лекаря Рибас добрался до батальонов Суворова, где все было кончено. Турки откатились за вал. Генерал-аншеф сидел на походном стуле. Из-под повязки на шее сочилась кровь.
– Опасно ли вы ранены?
– На палец бы пуля в сторону – я с вами не говорил бы сейчас.
Под знойным солнцем на серой земле повсюду лежали убитые в зеленых мундирах.
– Беда, – вздыхал Суворов. – Больше трехсот человек легло. Правильная осада!
К вечеру Рибас перевез генерал-аншефа в Кинбурн на излечение. Потемкин, наконец, решил возвести несколько передовых батарей, и в августе с них подожгли Очаков. В отместку османы предпринимали дерзкие вылазки. Шеф бугского егерского корпуса Михаил Кутузов снова получил ранение в голову. Пуля опять попала в глаз, как и в прошлое крымское ранение. Поскользнулся при строительстве батареи и накололся на собственную шпагу и тут же скончался инженер-полковник Корсаков, и Суворов, забыв на него обиды, писал Рибасу: «Отечество теряет в нем человека редкого» и добавлял о своем здоровье: «Грудь моя болит более всего. Шея медленно заживает».
Из писем жены и Виктора Сулина Рибас знал, что Европа не только ждала, чем кончится дело на Юге, но и пристально следила за событиями на Севере, где вконец разбушевавшийся шведский король Густав III ввел войска в Финляндию, осадил памятный падением с лошади Фридрихсгам и стал писать приглашения на завтрак в Петербурге, объявив миру, что достойно закончит дело Карла XII. Настя писала, что императрица на это заметила:
– Шведский король достойно приведет Швецию к гибели.
Петербургская гвардия на извозчиках отправилась на войну. Флот Густава крейсировал возле Красной горки. Настя писала, что не только слышна стрельба, но в комнатах пахнет порохом.
Конечно, это было преувеличение. Конечно, как писал Виктор, все понимали, что Густав получил от султана изрядный куш, чтобы не допустить эскадру Грейга в Средиземное море. Но Грейг и решил дело: блокировал королевский флот в Свеаборге, а шведские офицеры взбунтовались против своего короля и отвели свои части из-под Фридрихсгама. К тому же Дания объявила войну Швеции, но Пруссия и Англия забила в дипломатический набат, и датчане помирились с Густавом на восемь месяцев…
На этом военно-дипломатическом фоне и продолжалась осада Очакова. Флот теперь нес потери не столько от османов, сколько от осенних бурь, а Рибас получил распоряжение Потемкина: захватить остров Березань, что напротив Очакова. На острове стояла хорошо укрепленная крепостца турок. К ней нужно было разведать подходы, и Рибас послал курьера к верным казакам. Через час к яхте бригадира причалила казачья лодка, из которой на Тулубу легко выпрыгнул рослый Антон Головатый, ставший после смерти Сидора Белого атаманом коша.
Он был в мягких сафьяновых сапожках, синем кетмене, смушковая шапка на бритой голове – круглая, как у архимандрита, а сабельные ножны «играли» чеканкой и камнями. Узнав, что приглашен на совещание, черноусый атаман бойко спросил:
– Как у князя, значит, будем малиновую воду пить? Ему эта вода, может, впрок, а для нас слишком крепка.
Рибас рассмеялся и сказал в тон:
– Я предложу вам исключительно слабый напиток, Антон Андреевич. Он прожигает железо и растворяет медь, а поэтому годен лишь для питья.
На столе в каюте он расстелил собственноручно изготовленную карту устья лимана, очаковского берега и острова Березань.
– Фельдмаршал приказал взять этот островок у турок, – сказал Рибас.
– Возьмем, если отдадут.
– А отдадут?
– Если сердито попросим.
– Берега круты, – показал на карте бригадир. – Сам остров, как крепость. Но должно же быть место, где можно высадиться?
– Только вот здесь, – Головатый показал на карте.
– Почему именно здесь?
– А тут у них стоит батарея. Значит, слабое место.
– Надо бы это разведать, – сказал бригадир. – Промерить глубины. Узнать: сильна ли батарея. Какие там пушки. Можно ли к берегу подойти на галерах?
Договорились о дне и часе ночной вылазки к острову. Условились держать связь. Английскую горькую водку Головатый не одобрил. Послал казака в лодке за горилкой. Закусывал переспелым арбузом и хлебом, на который густо мазал коровье масло. Учил бригадира этой закуске, и Рибас, отведав, заподозрил, что кошевой атаман отчасти гурман. Головатого и в глаза и заглазно казаки называли Соломоном, но в уместности этого прозвища бригадир убедился, когда его сотрапезник сказал:
– Много казаков может полечь на острове. Надо так сделать, чтобы у них был прямой интерес взять его.
– Князь при успехе дела всех наградит.
– Так-то оно так, – Головатый крутил смоляной ус – Но сейчас уж листопад. О чем казак думает? Где зимовать придется. Пусть Потемкин распорядится, что казаки на Березани устроят свой кош, куреня поставят. За свой курень, даже если его еще и нет, другая война будет.
Рибас обещал снестись с князем. Позже Головатый доносил, что вокруг острова великие мели и подводные камни, которых нет только возле турецкой батареи. Бригадир приплыл от очаковского берега к кинбурнскому, и был встречен в шатре атамана обильным столом.
– Поставим кош на Березани, угостим вас, бригадир, гетьманским борщем. А сейчас не взыщите – вот кулеш, вот шпундра.
Узнав, что на столе и печенка с чесноком, и караси в сметане, а шпундра – это кабанья грудинка в свекольном квасе, бригадир развел руками:
– В пехотных полках и каше рады, а у вас такие яства.
– В плавнях добываем, – ответил Головатый. – Вчера двух кабанов взяли. А караси эти уж нам надоели.
– Разрешил вам князь ставить кош на Березани, – сообщил Рибас, и атаман повеселел:
– На березанский обед приглашаю! Султанских блюд не обещаю, но мясные пальчики будут. У меня повар – крещеный турок.
Условились брать остров двумя подходами. Сначала на мель выйдут казачьи лодки, схлестнутся с батареей, а потом Рибас подведет галеры. И седьмого ноября под моросящим рассветным дождем начали дело по плану. Двадцать дубов с легкими пушками устремились в лоб на батарею, на которой шесть медных английских гаубиц не заставили себя ждать – окутались дымом, эхо пальбы раскатилось над темной черноморской волной, картечь жалила нещадно. Казаки не отвечали. С палубы галеры в трех милях от острова Рибас наблюдал в зрительную трубку крепость, где поняли, что предпринимается десант, и через палисады и вал к батарее скатилось до роты зеленых фесок.
Как только зашуршал песок под днищами, с дубов ударил пушечный и ружейный залп, крестясь у бортов, выхватывая сабли, казаки прыгали в воду и под картечью бежали к берегу, у кромки воды падали, поджидали отставших, и Головатый поднял сотню на приступ.
Бригадир не стал дожидаться исхода сабельной рубки, повел галеры к острову. Две из пяти тотчас сели на мель. Схватка в ложементах при батарее еще продолжалась, когда Рибас приказал бить пушкам с галер, целясь по валу, чтобы отрезать возможную помощь из крепости. А крепостные батареи, не считаясь с тем, что бой на берегу не угас, стали бить и по своим и по чужим – остатки зеленых фесок хлынули за вал. С трех галер бригадир обстреливал крепость три четверти часа. Затем велел выпустить три ракеты в сторону Очакова, сошел в лодку, на ней добрался до мелководья и пошел к берегу по пояс в холодной воде, которую рябила шипящая картечь.
– Зачем ракеты? – спросил Головатый, когда Рибас лег рядом в ложементе.
– Три фрегата сейчас от Очакова подойдут. Потери большие?
– Человек двадцать с богом беседы ведут.
После вынужденного ноябрьского купанья многих тряс озноб и захваченный матросами бригадира бочонок водки пришелся кстати.
– Маловато нас для штурма, – сказал Головатый. – А сидеть тут до ночи – горилки не хватит.
– Готовь атаку, – сказал бригадир. – Дождемся фрегатов и под их пушки пойдем.
Но когда фрегаты приблизились и загрохотали пушки больших калибров, на валу крепости появился турок с белым флагом на пике.
– Сдаются или выманивают? – сомневался Головатый.
– Пошли охотников на проверку.
Казаки-добровольцы вернулись с известием, что крепость сдается при условии, если гарнизон выпустят в Очаков. Рибас тотчас послал в главную квартиру Потемкина гонца, и тот вернулся после полудня с приказом: требовать безусловной сдачи. Турки раздумывали до первого залпа с фрегатов и сдались. Двухбунчужный Осман-паша вывел на вал триста двадцать солдат гарнизона. Удача объяснялась тем, что турецкий флот ушел к румельским берегам и что осажденные опасались: ядра с фрегатов попадут в минные погреба, доверху наполненные порохом. В трофеи зачислили двадцать одну пушку и две тысячи четвертей муки.
Головатый связывал бечевой одиннадцать зеленых знамен, чтобы везти их в ставку, когда бригадир почувствовал адскую боль в ногах, схватился за плечо атамана.
– Что? – спросил тот.
– Ноги…
Головатый усадил бригадира на землю, подозвал казаков и они отнесли Рибаса в лодку, где были раненые, которых отправляли в Кинбурн. «Надо благодарить судьбу, что болезнь вернулась тогда, когда дело было сделано» – думал бригадир. В Кинбурне его поместили в комнату при лазарете без печи, а из окна дуло. Кинбурнский лекарь осмотрел ноги, покачал головой: это надолго. Прослышав о беде к Рибасу зашел выздоравливающий Суворов.
– Я еще в июле предлагал взять Березань, – сказал он. – А дождались холодов. О Максимовиче знаете?
Страшную повесть выслушал бригадир от генерал-аншефа. Генерал-майор Максимович, тот самый, что ходил у любовницы Потемкина в полковниках, дежурил на левом фланге у Лимана, не выставил пост охраны и османы изрубили пятьдесят человек. Головы убитых солдат, барона Аша и самого Максимовича насадили на пики и поставили на валу. Это была месть за Березань. Потемкин приказал отрубить головы убитых турок и привезти их в лагерь. Здесь они лежали горкой, но мало кто пришел посмотреть на них, и к вечеру их засыпали землей.
– Где мой полк? – спросил бригадир, когда Суворов собрался уходить.
– В Збурьевске, на Лимане, – ответил генерал-аншеф. – Но вам нужен полный покой. Выздоравливайте. Я буду заходить.
От Базиля Рибас получил короткую записку о том, что за Березань его ждут почести. Базиль советовал немедля отправиться в Херсон. От лекаря бригадир узнал, что Эммануил в Кинбурне, лежит в забытьи из-за открывшейся раны руки.
– Я повидаю его и немедленно отправлюсь к своему полку, – заявил Рибас лекарю.
– Я запрещаю вам сей шаг, – сказал лекарь и обещал призвать на помощь генерал-аншефа. Рибас писал Базилю Попову:
«16 ноября. Примите мою чувствительную благодарность за четыре строчки, которые вы мне написали; этого было очень довольно, чтобы успокоить меня на время; однакож, я не думаю жить в Херсоне, и хотя чувствуемые боли в коленях требуют, чтобы я туда отправился для нужной мне помощи, но я решил следовать за полком; таким образом я не буду в армии в числе тех, которые наслаждаются покоем, когда другие страдают… Я печален и даже очень, но не несчастья меня мучат; чины и почести не могут меня тронуть… я должен думать об искалеченном брате, об отсутствии друзей, о печальных обстоятельствах, от которых все страдают, и о трагическом обороте, который принимает конец этой войны».
К вечеру ударил неожиданно ранний и невиданный для этих мест мороз. На следующий день лиман сковало льдом, и курьеры приехали на санях. Эммануил зашел всего на минуту – спешил с курьером уехать на очаковский берег. Братья обнялись. Невольные слезы покатились по щекам бригадира.
Заходили офицеры. Головатый принес сливовицу. Сказал, что после доброй чарки бригадир начнет танцевать. Сообщил, что неподалеку во льду стоит судно «Святой Владимир», на котором кончаются припасы. Бригадир занялся письмами.
«20 ноября. Кинбурн. Находя себя каждый день все хуже по причине сырой и холодной квартиры, какую я здесь занимаю, – писал он Базилю, – я прошу его светлость в рапорте при сем прилагаемом, дозволение догнать свой полк в Збурьевске, чтобы там лечил меня мой доктор; сделайте милость, мой добрый и достойный друг, помогите, чтобы я получил приказ оставить Кинбурн, или по крайней мере напишите мне о том, чтобы я мог уйти отсюда, ибо меня задерживают силою почти, а без этого я бы уже уехал.
Велите написать приказ, чтобы дали всю нужную помощь кораблю «Владимир»: людей, водки и провианта, что ему нужно… Этакий холод и замерзший Лиман! Я дал бы охотно свою жизнь, чтобы переменить зрелище. Великий Боже, помоги нам!.. Головатый остался на этой стороне через мороз… Мой брат уехал сухим путем, страдая сильной болью в руке. Он поехал в Станислав, чтобы оттуда выслать батальон к вам.
23 ноября. Кинбурн. Ваше письмецо от 21 числа очень обрадовало меня, мой дорогой бригадир. Я вполне признателен за дозволение его светлости следовать за полком или возвратиться на главную квартиру, и прошу быть моим адвокатом, передав ему мои благодарения. Болезнь моя не дозволяет принять ни то, ни другое предложение. Я отправляюсь на некоторое время в Збурьевск по той причине, что не имею сил здесь оставаться… Что я буду делать в глазной квартире, если Князь не может употребить меня в войне. Мое перо слабо и оно ему не нужно… Благодарю вас за кибитку, которую вы мне прислали; принимаю ее сердечно, ибо переезжая к вам я пропал бы от мороза, не зная, где приютиться. Шлю посуду мою и все, что имею, отправляю с офицером в Херсон, чтобы искать денег у жидов, если продовольственная комиссия их не имеет; поелику здешние полки не имеют ни гроша, а деньги нужны для похода…»
Шестого декабря в Збурьевск, куда перебрался бригадир, пришла долгожданная весть: Очаков пал. Разрушенная долгой осадой крепость была взята за час с четвертью. Потемкин высидел свою победу. Но из двенадцатитысячного турецкого гарнизона только четыре тысячи сдались в плен. Оружия взяли столько, что солдаты меняли его на водку и продавали возами. Говорили, что Потемкин снова в тяжких трудах, потому что приходится засыпать амбары жемчугом, золотом и серебром.
Войска спешно откатывались на прошлогодние зимние квартиры. Казаки Головатого зазимовали на Березани в землянках и татарских войлочных юртах. Эммануил остался в Херсоне, а Рибас догнал зимний санный поезд Потемкина под Ольвиополем и вместе со штабом отправился на Север, имея конечной целью Петербург. В Кременчуге в офицерском доме, куда из кареты перенесли бригадира для отдыха, он пил чай с печеньем, когда вошел Базиль и объявил:
– Вас хочет видеть дама. Она настолько хороша, что мне пришла в голову мысль: почему все, что случилось с вами, не случилось со мной?
Это была Катрин Васильчина, новоселицкая устроительница сюрпризов и необычных развлечений. Что она приготовила на сей раз? Катрин вошла, не сняв лисьей шубы, а только распахнула ее, открыв платье зеленого атласа, и присела у постели Рибаса.
– Ах, я кажется не ко времени…
– В сутках нет минуты, когда вы были бы не ко времени, – отвечал больной. – Я рад. Какие у вас новости?
– Я уж месяц, как из Новоселицы. Жду наше отважное воинство здесь. Объявлена неделя балов.
– Первый котильон за мной, – сказал бригадир. – А что в Новоселице?
Катрин с необъяснимым испугом смотрела на него, потом отвернулась и сказала:
– Для вас новости нехороши… Вам писали…
– Ничего не получал. Говорите.
Женщина помедлила и сказала:
– Она умерла. – После долгого тягостного молчания продолжала: – Эпидемия чумы докатилась с Юга и до наших краев.
– А Миша? – дрогнувшим голосом спросил Рибас.
– Жив. Если позволите, я возьму его к себе, – сказала Катрин и поднялась. – Я зайду к вам завтра.
На следующий день бригадира увозили в Киев, чтобы показать тамошним докторам. Он передал большую часть наличных денег Катрин и просил заботиться о Мише. Она обещала.
3. Иногда выигрывают не садясь за карты I789
Покорителей Очакова в городах и весях встречали торжественные колокола, пушки, толпы. Но нигде подолгу не задерживаясь, санный поезд князя въехал в Царское село в начале февраля. Его встретила гвардия у сияющих в сумерках Мраморных ворот, иллюминированных веселыми фонарями, украшенных лаврами, испещренными стихами. Путь от Царского до Петербурга освещался факелами и кострами. Потемкин въехал в Зимний, занял свои прежние покои, а кибитка бригадира проследовала по Дворцовой набережной к дому Бецкого.
Пока Рибас отдавал распоряжения о поклаже, пока раздевался, из своих покоев по коридорам через флигель пришла Настя и, заметив трость в руке мужа, спросила:
– Ты до сих пор нездоров?
Секретарь Марк Антонович явился тут же. После женитьбы на дочери Демидова Настасье Прокофьевне он выглядел щеголем, блеснул фразой на итальянском:
– Мы вас тотчас поставим на колени!
Смеющимся Рибасу и Насте пояснил по-русски:
– Вылечим наливками Прокопия Акинфовича.
Бригадир знал о смерти Демидова три года назад, недоумевал, но секретарь вновь пояснил:
– Благодетель умер, но наливочка его живет. Дюжину бутылок припас.
– Боюсь, что после дюжины я не только не встану, но потребуются значительные усилия, чтобы не упасть, – сказал бригадир.
Чопорная англичанка привела дочерей. Двенадцатилетняя Софья в скромном платье смольнянки второго возраста была похожа на мать лицом, но отнюдь не живостью характера, а девятилетняя Катенька, унаследовавшая черты бригадира, напротив, щебетала безумолку, тут же стала раздевать привезенных отцом ярмарочных кукол в нарядах турчанки и эфиопки, топала ножками, требуя восточных сладостей и учила страшую сестру, как отца надо называть по-английски. Когда дочерей увели, Настя сказала:
– Я хочу Соню взять на время из Смольного. Ей двенадцать. Это страшный возраст.
– Но ты и раньше мне писала о ее возрасте тоже самое, – удивился Рибас.
– До ее замужества этот эпитет не изменится, – отрезала жена и объявила, как будто муж только что вернулся с прогулки по набережной: – Завтра мы идем в оперу. В Эрмитаж.
– Не знаю, смогу ли я.
– Мы приглашены. Опера – сочинение ее величества.
– Она теперь сочиняет и музыку?
– Увы. Но медведь, наступивший императрице на ухо, сделал ее весьма чувствительной к слову. Она написала стихи. А музыку – Мартини.
– Мартини?
– Ему покровительствует Храповицкий.
Такое приглашение, когда автор оперы – протеже секретаря Екатерины, а стихи писала она сама – подобно приказу. Настя обрадовалась подаркам, особенно нефритовым ожерелью и браслетам, но наблюдая за походкой мужа, воскликнула:
– Как ты неуклюже ходишь!
– Тебя это не должно смущать, – ответил бригадир. – Некоторые перемены после долгого отсутствия извинительны. Моя походка теперь может иллюстрировать легенду.
– Легенду?
– Да. О командоре. Меня, правда, еще не убили, но тяжелой поступью я уже обладаю.
– Ты сможешь подняться к Ивану Ивановичу?
– Сегодня остерегусь.
– Но и он не спускается вниз.
– Придется нам пока обмениваться записками.
– Он так хотел тебя видеть.
– Мы позовем художника из Академии. Он нарисует мой портрет. А ты и Марк Антонович дополните его словесными описаниями.
Позже Рибас говорил с тестем коротко и при странных обстоятельствах. Бецкий, поддерживаемый с обеих сторон слугами, стоял наверху у края лестницы, а бригадир приковылял к началу лестницы в вестибюле.
– Вас обязательно должен осмотреть Роджерсон, – говорил сверху Бецкий.
– Вы все еще лечитесь у него? – спрашивал снизу Рибас. – Боюсь, если я обращусь к нему, мы никогда не пожмем друг другу руки. Все, что мне нужно, это – покой, хорошая пища и свежие фрукты.
– Я вам тотчас пришлю персики и зеленые огурцы. Заказывайте все, что есть в оранжерее. Настя вам скажет. Как жаль, как жаль.
На следующий день Рибас почувствовал себя лучше и поднялся к тестю в кабинет. Говорили о смерти графа Миниха, последовавшей в прошлом году.
– С кончиной наших друзей умираем и мы сами, – изрек Бецкий. Потом принялся промывать косточки графа Ангальта, которого императрица назначила в кадетский корпус:
– Ангальт хоть и зовется Федором Евстафьевичем, но по-русски не изъясняется. Это я не в укор, бог с ними. Но семена, мною взращиваемые, теперь топчут. Рассадник новых людей превращен в казарму. Никакого уважения к воспитателям. Да и сам Ангальт дает им прозвища, а воспитанники эти прозвища в окна кричат.
Бецкий уж пятый год как был отставлен из директоров и не преминул попенять Рибасу в том, что он уехал в армию, вместо того, чтобы теперь стать генерал-директором кадетского корпуса. Вспомнив о Бобринском, вздохнул:
– Меа кульпа, меа максима кульпа – моя вина, моя большая вина. Алеша вселил в меня уверенность в своей самостоятельности. А оказалось, что птенец-то не оперился.
– Женитьба не пошла ему впрок?
– О, напротив. Влияние жены-баронессы велико. Он купил имение. Прислал мне собственный трактат против пьянства и азартных игр. В нем много сердца.
– Он бывает в Петербурге?
– О, нет. Дорога сюда ему заказана.
После оперы «Олег» императрица заострила свое перо против короля Густава III, и опера «Горе-богатырь» имела шумный успех в придворных кругах. Этим же вечером в Эрмитаже генералитет Потемкина был допущен в руке императрицы. Когда подошла очередь Рибасу приложиться к державной длани, он шел к Екатерине столь медленно, что ее рука на несколько секунд осталась без дела, повиснув в воздухе.
– Простите, ваше величество, мою неловкость, – сказал бригадир.
– Я знаю о вашей болезни, – сказала она. – Если все в армии так неловки, что взяли Очаков, то следует эдакую неловкость лишь приветствовать.
Наследник Павел присутствовал при церемонии и по собственному выбору некоторым генералам кивал. Бригадир обошелся без этого знака внимания. С дунайским приятелем Александром Безбородко, который теперь исполнял обязанности руководителя Коллегии иностранных дел, Рибас перемолвился несколькими фразами о неаполитанском после Антонио Мареска. Александр Андреевич сказал о нем:
– Он серьезен в делах, как англичанин, нравом весел, как француз, а гостеприимен, как русский.
Секретарь Екатерины Храповицкий почел своим долгом говорить с бригадиром о том, что придворным актерам жалованье не плачено за шесть лет и добавил:
– В своем докладе императрице я просил триста двадцать тысяч для выплаты им жалованья. Иначе из балетной труппы сбегут Пика и Росси. Они отменно талантливы и в сравнение не идут с некоторыми певичками, которых нам пришлось выслать.
Это был грубый намек на давнюю связь Рибаса с певицей Давиа и на то, что служительница Мельпомены едва не разорила Безбородко. Бригадир не полез за словом в карман:
– Если актерам не платить за шесть лет, они становятся талантливыми в других занятиях.
Среди свитских Павла Рибас заметил Григория Кушелева, но переговорить с ним не успел, однако, зная, что Кулешев сопровождал Павла на шведской войне, убедился: положение капитана при наследнике прочно. Началась опера. Ее достоинства мешала оценить бригадиру постоянная боль в ногах. «Горе-богатырь» все время попадал впросак, музыка Мартини показалась однообразной, но придворные аплодировали дружно и благодарили монархиню за труды на театральном поприще. Лишь Потемкин хмурился, и во время разъезда из кареты в карету несся легкий слушок: князь недоволен оперой и ушел из Эрмитажа первым.
– Очаковские морозы не сослужили службу вкусам князя, – 'Сказала Настя в карете. – Конечно, если бы императрица представила в горе богатыре султана, а Потемкина, как истинного богатыря, он был бы в восторге.
Тщеславие князя было общеизвестно. Считалось, что и осаду Очакова он дотянул до метелей и морозов, чтобы только избавиться от Нассау, Джонеса и других советчиков и прослыть единственным покорителем крепости. Но бригадир сказал о другом:
– Пьеса императрицы вовсе не о короле Густаве.
– Да она про любого дурака!
– Вот именно. Поэтому актер, исполнявший партию этого горе-богатыря, чем-то напомнил мне Павла.
Настя задумалась, а потом воскликнула:
– Да-да! В самом деле!
Бригадир не знал всех обстоятельств, и Настя усердно принялась его просвящать. Еще в сентябре 1787 года Павел настаивал на своем отъезде в Кинбурн. Мать не хотела создавать Потемкину новые трудности, но еще больше она не желала, чтобы сын приобрел ореол воина. Павел нервничал, кричал: «Лучше бы сказали, что меня не хотят пустить, чем волочить!» А мать «волочила» дело, кормила обещаниями. «Уж в Европе известно, что я собираюсь в поход!» – настаивал Павел. На это императрица отвечала: «Если вы не поедете, Европа поймет, что вы чтите свою мать». Но в мае 1788 года она сдалась: пусть едет! И тут весьма кстати открылась война со Швецией. Павел снялся со своим гатчинским отрядом в Финляндскую армию Мусина-Пушкина; О последнем говорили, что неповоротлив, как мешок. Свой отъезд Павел прекрасно обставил. Написал завещание, указания о престолонаследии, последнее слово сыновьям.
Жена Мария Федоровна рыдала. Ее фрейлина и пассия Павла – Нелидова – получила от отъезжающего воина записку: «Знайте, что умирая, я буду думать о вас».
«Теперь я крещен!» – воскликнул Павел, проехавшись со свитой возле крепости Гекфорс, откуда шведы постреливали. Но война для него обернулась войной с медлительным Мусиным-Пушкиным, над которым Павел всласть издевался вместе с командиром гатчинцев Штейнвером и дежур-капитаном Кушелевым. Двоюродный брат Густава III Карл Зюдермландский, отлично осведомленный о вражде Павла с матерью, предложил через секретного курьера встречу с Павлом, чтобы обсудить виды на ближайшее будущее. Павел отказался, но был немедленно отозван матерью в Петербург. Газетам и дипломатам было указано: умалчивать воинственный порыв сына-воина.
Догадка Рибаса оказалась верной. Потемкин советовал императрице не разрешать публичное представление оперы. Иван Иванович после рассказов об опере вдруг повел разговор совсем по другому руслу:
– Моя контора императорских строений недаром весь год занималась странным делом: во всех дворцах веревки, на которых висят фонари, заменяли цепями.
– И что же? – спросил Рибас.
– В прошлом году эрмитажный фонарь рухнул в нескольких шагах позади императрицы.
– И конечно же, все шептались о Павле и его приверженцах?
– А теперь пойдут слухи о нем, как о горе-богатыре.
Потемкин, не одобрив оперу, не становился в число гатчинцев. Скорее, он рассудил, что России, ведущей войну и на Севере, и на Юге, совсем нежелательна придворная склока, и «Горе-богатырь» к публичному исполнению не рекомендовали.
Размеренная жизнь, вольготное времяпровождение, дары оранжереи Бецкого делали свое дело, бригадир чувствовал себя лучше. Утром до полудня он был занят газетами и почтой, читал новый журнал «Почта духов», издаваемый Иваном Крыловым. В двух письмах от матери из Неаполя повторялся один и тот же вопрос: что с Эммануилом? Рибас как мог успокоил ее письмом, о своих недомоганиях не упоминал и поостерегся в очередной раз звать младших братьев Андре и Феликса в Россию. Они служили при военном ведомстве. Гвидо в чине капитана обосновался в гарнизоне Мессины. Сестра Константа вышла замуж и переехала в провинцию, где ее муж управлял имением.
После полудня бригадир принимал визитеров. Посыльный к Виктору Сулину вернулся с известием, что тот скоро приедет в Петербург из Пскова. Адмирал Поль Джонес и Вирджиния навестили бригадира.
– Я ничего хорошего не жду от Петербурга, – сказал Джонес. – Здесь испытывают слабость к англичанам, К которым я ничего не испытываю, кроме неприязни, если сказать мягко.
– Петербургский ветер не дует в наши паруса, – сказала Вирдж.
Играли в вист. Настя отозвалась о Джонесе, как о переодетом мужлане. Да, пират был хорош на флоте, но не в светской гостиной.
– А вы знаете, что написал нам принц Нассау о вас из Варшавы? – спросила Вирджиния.
– Очевидно, я не имею об этом понятия только потому, что вы мне не показали еще его письма, – улыбнулся бригадир.
– Он пишет, что его выжили из-под Очакова только потому, чтобы вам передать команду над флотом.
– Я слыхал об этом, – ответил бригадир. – И снова удивляюсь его предположению.
– Но так и нужно было бы сделать, – сказал Джонес.
Рибас проводил их до прихожей, и не успели они выйти, как слуга сказал, что его спрашивает какая-то женщина, и в прихожую в сопровождении кучера с корзиной вошла в заснеженной шубе Сильвана. Обычно смуглое лицо ее было бледно от мороза, но глаза флорентийки тепло и радостно засветились, когда она увидела Рибаса.
– Джузеппе, а мне сказали, что ты совсем плох и даже не ходишь…
– Верь тому, что видишь, – ответил бригадир. – Раздевайся. Идем в гостиную.
– О, нет.
Он заставил ее снять шубу, ввел в гостиную, где она просидела с четверть часа, вздрагивая, когда за дверью слышался шум. Рибас узнал, что лавка ее процветает, что у Руджеро есть знакомства в таможне и связи с итальянскими купцами.
– Вышла ль ты замуж? – спросил Рибас, а Сильвана вдруг принужденно рассмеялась:
– Я вышла бы за того красавца, с которым познакомилась в Ливорно двадцать лет назад.
Бог мой! С тех пор, как он впервые увидел ее в «Тосканском лавре» прошла целая жизнь! Но, казалось, Сильвана ничуть не изменилась и все так же была хороша. Поистине – флорентийские женщины не стареют.
– Ты все-таки плохо ходишь, – сказала она уже в прихожей. – Я привезла тебе вино с цикутой. Обязательно пей натощак и на ночь.
Неаполитанский посланник был единственным, кому нанес визит Рибас. Герцог Серракаприола, женившийся на дочери генерал-прокурора Вяземского (допрашивавшего в свое время Тараканову) принял бригадира весьма сдержанно. Может быть, посол с досадой вспоминал свою наивность, когда в Неаполе расспрашивал Рибаса о ритуале целования руки Екатерины? Или люди Ризелли успели «охарактеризовать» бригадира должным образом? Ведь герцог слыл человеком добродушным и веселым. Но с Рибасом он заговорил о делах торговых:
– Я считаю свою миссию в Петербурге не очень удачной. Посудите сами. Торговый трактат подписан, но он не действует, как должно. Мы везем из Неаполя оливковое масло, изюм, лимонный сок, свежие и соленые лимоны. Но везем на судах Англии или Дании. Флот Неаполя оставляет желать лучшего.
– Зато доходы наших негоциантов велики, – отвечал Рибас. – На них со временем и корабли начнут строить.
– Доходы? Пошлина уменьшена лишь в Черноморских портах. А там из-за войны нет возможности получать эти доходы!
«Вот оно что, – догадался бригадир, – герцог сейчас пожелает узнать: долго ли продлится война с турками? По его мнению, офицер штаба Потемкина, это должен знать». И действительно, герцог спросил:
– Возможен ли мир на Юге в этом году?
– Когда дело касается Порты, ничего нельзя сказать наверняка, – ответил так и не состоявшийся дипломат Рибас, а Антонио Мареска стал интересоваться состоянием войск, планами будущей кампании, рекрутскими наборами.
– То, о чем вы меня. спрашиваете, составляет тайну государства, – сказал Рибас и заметил, что в глазах герцога мелькнул испуг. Еще бы! Дипломат, выведывавший стратегические сведения у офицера бригадирского чина – это ли не подозрительная личность? Успокаивать герцога Рибас не стал, а тот, наконец, взялся выказывать себя гостеприимным хозяином, представил жену Анну, угощал беспошлинным итальянским вином и разговор свернул на незначительные темы.
Вернувшийся из Пскова Виктор обнял бригадира, заметил, что тот погрузнел совсем, как русский барин, и сказал:
– Угадайте, о ком первом я услыхал, когда приехал в Петербург?
– Теряюсь в догадках.
– О вас. Рассказывают анекдот: Потемкин так долго стоял под Очаковым, что у Рибаса ноги отнялись.
Бригадир смеялся.
– Когда ваши записки о путешествиях появятся в книжных лавках?
– Только после того, как я отправлюсь в мир иной, – отвечал Виктор.
– Я обречен, – разводил руками бригадир. – Я не дождусь.
Настя в присутствии Виктора не была столь безапелляционной. Болезнь мужа, его малую подвижность она превратила в некий культ. Но он явился не результатом успокоенного чувства собственности: муж при ней и не отлучается на сомнительные пиршества в среде гвардейских офицеров. Нет, она философствовала перед Виктором:
– Ах, теперь миновали те благословенные времена, когда на балах коллекционировали остроты, когда прилюдно восхищались предметом страсти. Вспомните тот бал, Виктор, когда я вас впервые увидела. Вы смотрели на юную Глори так, будто она ожившая Наяда, и не обращали внимания на косые взгляды. Теперь на балах мужчины томны, как девицы на выданье. Очарование прежних балов ушло. Интимный немногословный кружок близких людей – вот теперешний стиль. И мой муж соответствует ему, как никто.
Она старательно подбирала людей, которые составили бы этот кружок, но по-настоящему бригадир чувствовал себя счастливым, когда знакомил Виктора с Базилем Поповым, Рибопьером и Бюлером. Малый азарт за ломбером не мешал дружеским разговорам. Базиль читал стихи Екатерины, посвященные Потемкину:
О, пали, пали – с звуком, треском — Пешец и всадник, конь и флот! И сам со громким верным всплеском Очаков, силы их оплот!– Стихи звучные и с треском, – смеялся Виктор.
– Но сейчас императрице не до стихов, – говорил, вхожий в окружение малого двора Павла, Бюлер – Сейчас каждый день слезы.
– Да по какому поводу?
– Монархиня днями лежит в постели, всех от себя гонит.
– Новости плохи?
– Любовник Мамонов стал плох.
– Нездоров?
– Здоров, но который уж месяц холоден. Не на шутку увлекся княгиней Щербатовой. Потемкин устал сводить и мирить императрицу и Мамонова.
– Ожидается смена фаворитов?
– Да какие-то братья Зубовы зачастили в Зимний.
– Ей шестьдесят, – округляла черкесские глаза Настя. – Верно, Павел Петрович от всего этого и уехал в Гатчину.
– Уехал, и все вздохнули с облегчением, – сказал Рибопьер. – Сами посудите: он суров, как египетский фараон. Сажает под арест, если задерживают завтрак.
– Куракин с ним или, по-прежнему, выслан? – спросил Рибас.
– И Куракин, и Растопчин – все дружки вместе, – отвечал Бюлер. – Но они умеют ладить и с женой Павла, и с его фавориткой Нелидовой.
– Говорят, она некрасива, – сказал Рибас.
– Совершенно дурна, – заявила Настя. – Высокомерна. Не говорит, а изрекает. Черезвычайно экзальтированна. Но это и нравится Павлу. Любая ее пустая фраза – для него – откровение. Что говорить, если турчонок-брадобрей Кутайсов подает Павлу советы, которым он следует в войне с матерью.
Со стороны могло показаться, что офицеры ведут пустячные разговоры светских салонов, но под кажущейся беззаботностью все они испытывали тревогу: императрице шестьдесят, она часто болеет, и случись что с ней – будущее страны и их будущее виделось неясно.
В конце марта Виктор пришел к бригадиру довольно рано и спросил:
– Вы знаете Де-Лицына?
– Нет. Кто таков?
– Побочный сын бывшего вице-канцлера Голицына.
– Чем знаменит?
– Тем, что вы обыграли его в карты, – ответил Виктор.
– Что вы говорите! Занятно. И сколько же я у него выиграл?
– Семьдесят тысяч.
– Черт возьми! – воскликнул бригадир. – Где же мой выигрыш? Почему он не отдает его мне?
– Потому что он застрелился.
– Печально. Но и неосмотрительно с его стороны: застрелиться, не отдав карточного долга.
Но бригадиру было уже не до шуток. И Виктор подтвердил его опасения: несчастный Де-Лицын застрелился из-за крупного проигрыша, а выигрыш молва приписывала бригадиру-неаполитанцу.
Настя, вернувшаяся из Зимнего дворца, воскликнула:
– Поздравляю! Ты обыграл Де-Лицына?
Виктор объяснил ей все обстоятельства, она сказала: – Отец этого несчастного пожаловался императрице. Все говорят, что Рибас обыграл его сына и довел до могилы.
Хоть бригадир и привык: как только он оказывался в Петербурге, молва приписывает ему бог весть что, однако новость была неприятной. Предстояло производство в чинах за Очаков и бои на лимане.
– Видно, кто-то не очень хочет, чтобы вы были отмечены, – сказал Виктор.
И Рибас, не раздумывая, отправился к Потемкину.
Приемная светлейшего как всегда оказалась наполненной генералами, чиновниками, просителями, прожектерами, лицами неизвестного рода и звания. Сам Потемкин сидел перед настольным зеркалом за фигурным красного дерева барьером, из-за которого был виден чуть выше пояса. Ловкий кауфер расчесывал, дотрагивался ладошкой, пропускал сквозь пальцы, поправлял, укладывал, распушивал, приглаживал прекрасные от природы волосы фельдмаршала. В приемной стоял говорок толпы, состоящей из людей, хорошо знающих друг друга. Борзые и легавые псы сновали меж ними. Рибас прошел через ряды сановников, камергеров, офицеров, и со всех сторон слуха его достигали обрывки разговоров:
– Перемирие с турками… если выпустят посланника Булгакова… Итальянский буфф высылают в Сибирь… Решено: Очаков взорвать и сравнять с землей… Балетную труппу убавили… Румянцев остался без армии… Он теперь в своих Вишняках займется вишнями… Прежний визирь смещен… Гардемарин из Морского корпуса посылают в Севастополь… У Иосифа II кашель с кровью…
Четверть, получас минули – кауфер священнодействовал над головой князя. Орлиный его глаз косил, видел все.
– Поди сюда!
Юрий Владимирович Долгоруков спешно идет на голос.
– Что пришел?
– Хочу откуп питейный взять.
– Бери.
– Нет слов моей благодарности.
– Нет слов – молчи.
– Куракин хочет в дело со мной войти.
– В дело? Да он домом своим управлять не способен.
Юрий Владимирович, понимающе кивает, отходит от барьера, как от раскаленного жерла. Орлиный глаз вспыхивает, нацеливается, выхватывает из толпы просителя:
– Поди сюда!
Юрий Владимирович тем временем мнет кружевной платочек в потной ладони, говорит бригадиру:
– Вы о землях?
– Нет.
– Говорят, Мордвинов весь Крым скупил. Даже на жену купчие оформляет.
– Бог с ним.
– Не хотите ли питейный откуп взять?
– Нет.
– Конечно, конечно, если вы по семьдесят тысяч за вечер выигрываете!
Заскользил озабоченно-счастливый князь по натертому полу, а Рибас подумал: «Верно, вот такая торгово-военная биржа всегда и оценивает, покупает, берет в дело чьи-то сражения и бои».
– Поди сюда!
Бригадир подошел.
– Ты что здесь?
– Я хожу с трудом и сижу дома безвыездно. А говорят: выиграл состояние да еще со света сжил проигравшего.
– И я слыхал. Защиты ищешь? Против слухов защиты нет. Плюнь. Скоро уезжать, а творится бог весть что. Сегюр и французы все наши секреты туркам продают. Пруссаки и англичане готовы на императрицу покушение произвести…
Базиль Попов положил перед Потемкиным на столик из яшмы долгожданное, заветное письмецо, которое светлейший поцеловал, блаженно улыбнулся. Письмецо было от Прасковьи Андреевны Потемкиной, урожденной Закревской, супруги внучатого братца светлейшего – Павла Сергеевича Потемкина… Павел Сергеевич теперь генерал, кавалер многих орденов… Ему князь покровительствует.
«Передо мной человек, скучающий от власти над людьми, – думал Рибас. – Он пресыщен почестями, утомлен ласками женщин, избалован их уступчивостью. Он жаждет лишь небывалого, невозможного, невиданного. Греческий проект – его прихоть? Он ищет обновления чувств. Он, пятидесятилетний, страстно, идеально влюблен…»
– Все пошли прочь!
Выкатывался из приемной золотошитый народец, а князь уж читал, ласкал глазом слова, брал цветной лист золотообрезной бумаги и писал: «Жизнь моя, душа общая со мною! Душа души моей… Коли б ты могла видеть, что я к тебе чувствую, отдала бы ты справедливость любви, какой на свете не бывало. Целую от души ручки и ножки твои прекрасныя, моя радость!»
Екатерина сердилась, что составление планов военной кампании затягивается.
В апреле она утвердила представления о чинах и наградах. Светлейший был осыпан щедротами неслыханными: получил фельдмаршальский жезл с алмазами и лаврами из драгоценных камней, медаль со своим чеканным профилем, орден Александра Невского с солитером, золотую шпагу с алмазами на золотом блюде и сто тысяч на достройку Таврического дворца.
Рибас, как и многие бригадиры, получил чин генерал-майора. На балу по случаю производств и наград новоиспеченный генерал-майор свиделся с давними дунайскими, а потом и очаковскими приятелями. Петр Пален за Очаков получил генерала и Георгия третьей степени.
– Когда на Юг? – спросил Рибас.
– Пока остаюсь здесь против шведов воевать, – отвечал Пален.
Леонтий Бенигсен получил бригадира и собирался на Украину к изюмскому полку.
От офицеров штаба корпуса новоиспеченный генерал-майор узнал странную новость: генерал-аншеф Суворов не включен в списки действующих генералов на кампанию 1789 года, и поспешил к дому Суворова, где застал генерала в сборах.
– Еду! – объявил возбужденный генерал-аншеф. – Враги отстранить хотели. Да не удалось это им. Вчера получил ордер князя: наискорее отправляться в Яссы принимать войска.
– Но почему в Яссы?
– Турки в междуречье Прута и Серета ведут активный поиск. Булгаков молодец! В Стамбульском кабальнике заперт, а сумел донести: турки свои действия в Молдавию и Валахию переносят. Едемте со мной, генерал!
– Я человек подневольный, – ответил Рибас.
– Ну, даст Бог, увидимся.
В начале мая достигло Петербург известие, что турецкий султан Абдул Гамид почил в бозе. Наследовал ему Селим III. План предстоящей кампании Потемкина был предельно прост: вытеснить турок из мест, ими занимаемых – из Кишинева, Бендер, Каушан, Хаджибея, Аккермана, Килии, Измаила… Для этого армию Румянцева и Потемкина объединили в одну. Под общим командованием Потемкина, она теперь состояла из пяти дивизий. Первую вел сам светлейший, вторую Долгоруков, третью Суворов, четвертую генерал-поручик Гудович, пятую генерал-майор Ферзен.
Императрица субсидировала кампанию шестью миллионами, и шестого мая дежурный при штабе Потемкина генерал-майор Иосиф де Рибас выехал с князем на Великие Луки и Смоленск. С дороги он писал Базилю Попову, который тоже стал генерал-майором:
«9 мая. Смоленск. Мы приехали вчера вечером… Князь здоров и очень весел. Его приняли здесь с самыми удовлетворителными выражениями общей радости. Город был иллюминирован; весь город сбежался к карете и тащил ее до дворца; пушки стреляли и проч. Мы помещается при дворце, в эту минуту там танцуют на парадном бале; я совершенно лишняя там мебель, потому что ноги распухли у меня, как бочки. Я с удовольствием заметил, что дворянство этой губернии образованно и скромно, чего я не нашел в больших городах России. Все спрашивают меня о вас, и я отвечаю, что вы в дороге.
Известия о подвигах наших корсаров доставили большое удовольствие Князю, и он отправляет Ея Величеству подлинный отчет Войновича… Меня выбранили немного за то; что я не взял подорожных бланков и большой печати.
22 мая. Кременчуг. Мой генерал!.. Честь имею уведомить вас, что мы прибыли сюда 19 числа в 4 часа утра здравы и невредимы. Князь, слава Богу, очень здоров, в прекрасном духе, вероятно оттого, что у нас нет ни копейки и что мы по уши в долгах. Он пишет безостановочно всюду приказы, курьеры скачут во все стороны на счет кошелька Василия Васильевича (племянника князя) и моего, но оба они на исходе… Мы уезжаем в Ольвиополь, Елисаветград и Херсон, а оттуда нам угрожает поселение в Ольвиополе… Полки теряют много от медленности переправы через Днепр. Наводнения громадные начались, а средств не достает. Приезжайте, мой друг, приезжайте ради Бога, ибо во всех делах застой. Я вас ожидаю, как мессию, по разным причинам, и не я один составляю эту Синагогу.
13 июня. Ольвиополь. Князь желает, чтобы сюда перевезли как можно скорее все лежащее сукно в Елисаветграде, как и то, которое привезут туда. Он велит так же, чтобы ложи от 500 ружей, какие он приказал выбрать, чтобы были вычищены, почернены и натерты воском. Я передал это поручение тому майору, который доставил вам слитки золота. Князю лучше, но он ничего не ест; воздух здесь отличен».
Давно снявшись с зимних квартир, армия Потемкина и в мае все еще двигалась к линии Буга. Князь не спешил – его беспокоила Речь Посполитая, откуда посланник Штакельберг прислал курьера с известием: польский Сейм требовал удалить с польских территорий русский войска, ликвидировать провиантские склады и, главное, запретил полкам Потемкина следовать по посполитским землям.
С Эммануилом генерал-майор встретился в Ольвиополе и вздохнул с облегчением: брат не только смирился с потерей руки, но, казалось, забыл, что у него вместо кисти деревяшка на ремнях.
– Одна беда: карты тасовать трудно, – сказал он и спросил: – Знает ли главнокомандующий, что поляки продают хлеб туркам?
Эммануил исполнял обязанности обер-квартирмейстера, много разъезжал и продолжил уверенно:
– Я сам на брацлавской дороге видел подводы. За Уманью с помещиком говорил. Он не скрывал, что имеет от турок большие выгоды. На постоялом дворе польские офицеры метали банк и расплачивались турецкими деньгами.
Этим сведениям не было цены, и Рибас отправился с братом к Потемкину. Однако тот лишь скупо поблагодарил Эммануила и ласково отпустил. А Рибасу сказал:
– Мне императрица еще в мае писала: накажи поляков тем, что ничего у них не покупай. А они, оказывается, и продавать не собираются! Какой тут с ними союз может быть? Турки нам с помощью всей Европы вредят. Европа за греческую свободную тунику голосует на словах. А на деле они эту тунику готовы ей на голову задрать. Польша против нас выступит – никто в Европе палец ке согнет.
Впервые за эти годы Рибас услыхал из уст князя напоминание о Греческом проекте. Рибасов юношеский мираж о радуге свободной Эллады за эти годы успел потускнеть, но он оставался где-то на самом донышке памяти, заваленный ежедневными неотложными делами.
Внезапно Потемкин переменился к генерал-майору. Не звал в шатер, не давал поручений и через Базиля Попопова передал, что отсылает Рибаса к Очакову для наблюдений и рапортов в штаб.
– Конечно, у меня были упущения, – сетовал Рибас. – Но почему он меня отсылает? Какие могут быть жаркие дела на Днепровском лимане, если армии нацелены идти на Дунай?
– Под Очаковом турецкий флот, – напомнил Попов.
– Но Юзуф-паша скапливает на Дунае стотысячное войско и не поведет его берегом моря к Очакову, когда наши силы будут в Молдавии.
Попов отмалчивался. Рибас терялся в догадках. «Впрочем, – успокаивал он себя, – Очаковское направление не из худших. Турецкий флот может высадить там десант». Утром Потемкин вызвал генерал-майора к себе и неожиданно ласково, как это он умел, не приказал, а попросил поторопить Войновича с вооружением судов, непременно проверить батареи на Кинбурнской косе и ремонт очаковских бастионов. В сопровождении адъютанта Петра, двух курьеров и казаков генерал-майор с легким сердцем выехал к устью Буга, где сел в казачью лодку и скоро был под стенами Гассан-пашинского замка Очакова.
4. Повторить Чесму 1789
С командующим очаковским воинством генералом Гудовичем Рибас не имел короткого знакомства. Мельком видел его еще в 1774 году в Кучук-Кайнарджи, а потом, спустя десять лет в Херсоне, после эпидемии холеры, когда Гудович получил орден Александра Невского и отправился на покой – губернаторствовать на Тамбовщине и Рязанщине. А теперь Рибас расспрашивал казаков, чьи лодки числом до двадцати стояли у Очаковских стен: где найти генерала.
Гудович жил не в крепости, а в уцелевшем каменном доме с садом на форштадте. Рибас увидел грузного, с виду ленивого, барина в шлафроке. Барин сидел в кресле под кустом кизила и тяжело дышал, хотя день для июня был ветреным и нежарким. После знакомства заохал:
– Жара. Дышать нечем.
– Напротив, сегодня ветрено, – сказал Рибас, а в ответ услыхал:
– Да-да, жара. Видно, по неотложным делам вас прислал сюда князь в этакую духоту.
– Сегодня крепкий зюйд-ост.
– Пекло!
– Но для этих мест прохладно.
– Да, раз вы тут бывали, то знаете, что такое раскаленная сковорода.
Оставалось недоумевать.
Приехал курьер с почтой. Настя писала, что и Поль Джонес не избежал петербургских наветов. В салонах говорили о том, что корсар изнасиловал десятилетнюю девочку Катю Гольцварт, дочь немецкого эмигранта. Джонес был возмущен, писал об интриге Людовику XVI, Екатерине II, Потемкину. В конце концов обвинение с корсара сняли, он командовал Балтийской флотилией, потом запросился в отпуск, был прилюдно в Эрмитаже допущен к руке императрицы и с сохранением всех своих российских наград и званий отправился в Европу…
Рибас устроился в Гассан-пашинском замке. С верхней его площадки на горизонте были видны передовые турецкие суда. Из дальнейших бесед с Гудовичем он выяснил, что бастионы чинят с поспешанием, ретрашементы засыпают, снабжение достаточное, окромя пороху, которого тут всего шестьсот пудов.
Через день утром генерал-майора разбудил знакомый громкий бас подполковника Головатого, который распекал за что-то казаков, устраивавших на берегу дежурный пост. Рибасу он обрадовался, сказал, что в коше на Березани казаки перезимовали отменно, и пригласил к обеду.
– Осенью не удалось – занедужив пан генерал. Едем хоть сейчас.
Но генерал-майора уже ждала у берега яхта, которую прислал за ним Марк Войнович. Корабли его эскадры стояли в устье Буга и снаряжались медленно, а уж стояла вторая половина июня. Пожав руку Рибасу на палубе «Иосифа», Марк Иванович сказал:
– Вас прислали, чтобы вы нас торопили. А я, пользуясь нашей с вами дружбой, попрошу: этого делать не нужно. Все идет своим чередом. Из Херсона и Глубокой припасы и пушки доставляются. Правда, пришлось тридцать лафетов назад отправить – не те прислали. Мои ежедневные рапорты Мордвинову мне уже снятся. Если еще вмешаетесь и вы, получится обратный результат.
Да, уж кто-кто, а Рибас знал строптивый и непоследовательный нрав Мордвинова. Стоило его задеть, и корабли не будут готовы и к августу. Оставалось осмотреть «Иосиф», «Марию Магдалину» и побывать на бомбарде «Святой Константин». Войнович не сопровождал Рибаса: махнул рукой – сам все увидишь. Генерал-майор побывал везде и решил, что будь тут Поль Джонес, или Потемкин, Войнович бы несдобровал. За полдня с грузовых барок на корабли переправили всего три единорога.
За обедом на «Иосифе» присутствовал капитан Кефалино, начальствовавший над гребной флотилией и обеспокоенный предположением, что Рибас прибыл сменить его в этой должности. Гость хвалил турецкие бобы в красном соусе, а Кефалино угостил блюдом-сюрпризом, которое доставили с его галеры. Блюдо оказалось пудингом из сотни раковых шеек, запеченных в масле на углях. Наслаждаясь пищей морских богов, Рибас успокаивал Кефалино:
– Ваше блюдо настолько отменно, что никто не в состоянии сменить вас при флоте, капитан.
Кефалино гордо ответил:
– Мой флот никогда не будет кормить раков на дне лимана.
– Да, – согласился Войнович. – Это не произойдет хотя бы потому, что вы всех раков выловите до первого сражения.
Кефалино обижался, а Рибас сказал, что способ обойти нерасторопность Мордвинова находится у них под ногами. В ответ на расспросы он напустил на себя таинственный вид, а через два дня, договорившись с Головатым, взял у него несколько запорожских лодок с казаками и вывел их в лиман. А еще через три дня казаки вытащили с затонувшего судна «Таганрог» пять пушек тридцать шестого калибра и перевезли их к эскадре Войновича. Потом доставали со дна ядра, якоря. Рибас отправил Потемкину свой проект извлечения со дна затонувших турецких лодок-лансонов для пополнения гребной флотилии. Князь был в восторге. Дело пошло.
Но Войнович все-таки не спешил выводить корабли из устья Буга. А тем временем турки предприняли рекогносцировку к Березани, несколько часов беспрепятственно крейсировали вокруг острова. Рибас холодно сказал Войновичу:
– Конечно, можно ждать, пока последний шпангоут осмотрят ваши капитаны, но стоит ли ждать, когда турки пожалуют к вам?
Кефалино соблазнял генерал-майора и брезолью по-испански с пахучими травами и сладкой фенхельной водкой, но обедать Рибас не остался. Утром следующего дня под стены Очакова пришли два линейных корабля и фрегат. К ним присоединились три десятка казачьих лодок, и турецкий флот сразу снялся с якоря и ушел за остров Тендра подальше от греха.
Однако, Войнович был взбешен тем, что последовал чьей-то указке. Он ждал эскадру из Севастополя, но корабли Ушакова так и не показались на горизонте. Теперь Марк Иванович уж не звал генерал-майора обедать, кричал, что Ушаков отсиживается в Тавриде, а ему, Марку Ивановичу, за все отвечать. Рибасу вспомнился иной, смуглый, порывистый молодой капитан Войнович, когда они пятнадцать лет назад искали Тараканову на Средиземноморье. Теперь он был болезненно честолюбив и перевод из Севастополя считал незаслуженной карой. Рибасу пришлось официально предложить ему составить план действий на случай нового появления турок у Березани и ничего не делать на авось.
Но Марк Иванович отмахнулся и от официального требования. Говорил, что в Дубоссарах Потемкин окружил свой Эдем садом в английском вкусе, двумя хорами роговой музыки и женщинами на любой сорт и вкус – какая уж тут война!
От Катрин Васильчиной Рибас имел лишь одно письмо в Петербурге, писал ей, но она вдруг собственной персоной пожаловала в Очаков. Генерал встретил ее, когда она осматривала крепость в сопровождении офицера.
– Бог мой, как вы здесь? Давно? Почему я ничего не знаю? – спрашивал он.
– Я вам ничего не скажу, пока вы мне не покажете флот, – сказала она.
Это была прежняя сумасбродка из Новоселицы. Рибас обещал ей показать все и с тревогой спрашивал о сыне.
– Милый черноволосый мальчик, – отвечала она. – С ним нянчится моя тетушка. Здоров.
– Хватает ли вам средств для его воспитания?
– Вполне.
– Я как раз собирался написать вам, что положу на его имя деньги в Киевский банк. Где вы остановились?
– Я приехала на войну, – ответила она сурово. – На войне живут в шатре.
Действительно, она привела его к синему шатру, поставленному на форштадте. С ней были слуги, повар.
– Что все это значит? – спросил генерал.
– Это значит, что я отныне в походе с армией. Полк из Новоселицы ушел. Мне стало скучно. И вот я здесь.
– Боюсь, что наши офицеры теперь совершенно забудут о войне, – сказал он.
– Каждое утро я буду напоминать им о ней, – обещала она.
Их роман развивался стремительно и не имел сюжета. На палубе бригантины, направлявшейся в Кинбурн, Катрин взяла Рибаса под руку и увлекла в каюту, где упала в его объятья, а в постели принялась упрашивать:
– Отдайте команду матросам! Велите держать путь к турецким берегам!.. Станемте корсарами!
– Но это всего-навсего разбой, – увещевал Рибас.
– Что угодно, только не Новоселица.
Сумасбродствам ее не было границ. С Головатым она ездила на Березань и подполковник говорил потом Рибасу:
– Это бес в юбке. Хотела, чтобы я обрил ее, как казака!
Войнович брал ее на учебные стрельбы. Офицеры вечерами собирались у ее шатра. Игру в шары она предложила играть ядрами. Заставляла читать псалмы, и если кто-нибудь спотыкался при чтении, то покупал у маркитантов серебряные крестики, которыми она награждала своих почитателей. Рибасу она предложила:
– Пошлите меня в ставку Потемкина курьером.
– У меня нет новостей, которые были бы достойны такого курьера, – ответил генерал.
– Изобретите их!
– Моя фантазия меркнет перед вашей.
– Ловлю вас на слове.
Одному офицеру она шепнула, чтобы приходил к ней в пять утра. Счастливчик не замедлил явиться и был точен, но увидел еще троих счастливых соискателей, но все вместе они не увидели ни Катрин, ни ее шатра. Проказница укатила из Очакова в неизвестном направлении.
«Неужели она отправилась в ставку князя? – думал Рибас. – Но с какой вестью? Слава богу, что у нее есть тетушка, которая смотрит за сыном». И он тут же написал ей.
Кто, кроме Катрин, удивил генерала, так это вчерашний тамбовский генерал-губернатор Иван Гудович.
Рибас неожиданно для себя стал его частым гостем. Произошло это после того, как он увидел Ивана Васильевича, сидящего на одеялах в тени дома, играющего на скрипке. Странная это была картина. Полки на пригорке только что отужинали. Солнце валилось на Запад в степи. Жара ушла. Гудович, обливаясь потом, пил квас, ругал солдата за плохо натопленную вчера печь и играл Альбиони.
– Эту скрипку я купил еще в Кенигсберге, – сказал он на хорошем немецком. – Я там учился со своим дуралеем.
– С кем?
– С братом Андреем. Разве вы не знаете, что он был любимцем убитого императора Петра III? Тот, когда отрекался от трона, так и сказал: «Хочу, чтобы мне оставили Воронцову, собак и Гудовича».
Адъютант Петр был тотчас послан за «Розсолисом» – итальянской водкой с анисом, гвоздикой, мускатным цветом и померанцем. Гудович выпил, покачал головой:
–. Это «Розсолис ди популо»?
– Что вы имеете в виду? – рассмеялся Рибас. – Разбавленный?
– Поддельный, – серьезно отвечал Гудович. – Есть пять способов делать в России ваш розсолис и гораздо дешевле, чем в Италии. Например, с амброй и белком яйца.
Это сообщение привело Рибаса в восторг, и под южным июльским небом на одеялах, привалившись головой к седлу, он много узнал о Гудовиче. Брат его Андрей со дня переворота 1762 года безвыездно жил в деревне. Самого Ивана Васильевича Екатерина подвергла трехнедельному аресту и отправила в Астрахань полковником.
– А через два года в Польше я сажал на престол Понятовского, – вспоминал Гудович. – Мне тогда было чуть больше двадцати. Потом и Хотин, и Кагул. Генерал-майором меня пожаловали в двадцать девять лет. Я тогда со своими донцами нечаянно Бухарест взял.
Рибас задал неосторожный вопрос:
– Императора Петра III убили с негласного одобрения Екатерины?
Гудович, подумав, ответил по-своему:
– Андрей большие надежды в науках подавал, а судьба выпала подавать императору пиво с утра. Если бы не Екатерина Алексеевна – белая горячка и России, и императору, и брату моему была бы финалом.
Иван Васильевич знал латынь, немецкий, итальянский, со знанием дела говорил об охоте, а в свое время формировал первые легкоконные полки.
– У меня двадцать два полка в подчинении было, – говорил он, настраивая скрипку. – Нет, ваш «Розсолис» не поддельный, если я эдак разговорился!
Черное июльское небо в холодных кострах созвездий раскинулось над генералами. В ближних стойлах фыркали лошади. Неожиданным паролем для дальнейшего сближения явилось слово «Чесма». Узнав о причастности к ней Рибаса, Гудович помолился, велел зажечь костер да принести «Бургундское» и объяснил, что это настоящее «Бургундское», а не подделка из красной смородины, воды и водки.
Если бы не ряд обстоятельств, Рибас в превосходной степени оценил бы сближение с Гудовичем. Но каждый день из Очакова через Тузлы к устью Тилигульского лимана отправлялись партии казаков. С полковниками Головатым и Чепегой они вели рекогносцировку, считали суда турок под Хаджибеем и приводили пленных. И как ни настаивал Рибас, Гудович пленных задерживал у себя, а не отсылал к Потемкину, как это было положено. Упрямство Ивана Васильевича казалось непреодолимым.
Кроме того, к войскам прибыли генерал-майор Илья Безбородко – брат всесильного теперь Александра, бригадир Шереметьев и генерал Мекноб. Вкупе с Гудовичем они ни в грош не ставили приготовлений Войновича и смеялись над учебными стрельбами на кораблях: один звон в ушах! Войнович в долгу не оставался. И главное, обе стороны – и сухопутная и морская – писали соответствующие рапорты в ставку Потемкина, отчего Рибас опять оказался между двух огней и надежда на скорый отъезд гасла.
Но и дел было сверх меры. Рибас допрашивал пленных, отсылал их к Гудовичу, принимал и отправлял курьеров, ездил к батареям на Кинбурнскую косу, бывал на судах, следил за подъемом затонувших лансонов, вел им список, помогал устраивать новые полки и писал рапорты, рапорты, рапорты, а кроме них, еще и рекомендательные письма молодым людям, которые осаждали генерал-майора просьбами о принятии в службу.
В июле вернулся из поиска с тремястами казаков полковник Чепега. Малоразговорчивый, не любивший красного словца, он коротко доложил, что был в деле под Бендерами, где узнал о вылазке четырехсот турецких конников и стал преследовать их. Догнал на мосту через Днестр, атаковал, бился с ними пять часов и не отступал, хотя османы выслали из крепости янычар в подкрепление. Мост Чепега держал до подхода легких регулярных войск и загнал турок в Бендеры. Он взял в бою два знамени и сорок пленных. Вечером на Очаковских холмах полковнику салютовали пушки и разбудили его, спящего в лодке, к началу пира.
Этим вечером Рибас играл, и ему на удивление не везло.
– Завтра вы поднимете со дна лимана лансон, полный золота, – пророчествовал генералу Илья Безбородко. Но в лансоне, кроме вздувшихся трупов, двух мортир и порченной мебели ничего не обнаружили.
Вся армия праздновала победу Суворова под Фок-шанами. Пять тысяч русских и двенадцать тысяч австрийских войск разгромили тридцатитысячную армию се-раскера Мустафы-паши. Рибас отправил Суворову письмо с поздравлениями, но ответа не было. Впрочем, ходили слухи, что дивизия генерал-аншефа отрезана татарской конницей у Каушан.
В конце июля судьба Рибаса определилась окончательно: его назначили командовать передовым корпусом в армии Гудовича. Генерал был этим чрезвычайно доволен. Правда, Гудович продолжал писать донесения подчиненному ему генералу, как будто тот все еще представлял в армии ставку. Второго августа Рибас писал Базилю Попову:
«Спешу, любезный друг, известить вас о большом сражении, продолжавшемся от 5-ти до 1/2 второго часа, между всеми легкими турецкими судами в числе 41, против 18 наших, т. е. 13 крейсеров и 5 лансонов. Стычка началась тем, что турки хотели разведать о. Березань со своими легкими кирлангичами. Греки не хотели им того дозволить… Это сражение было одно из самых горячих и упорных. Не знаю, были ли убитые, но наши стоят все под Березанью, тогда как неприятель стал на якоре у Тендры, в 10 верстах от Кинбурна».
Но о битве второго августа сухопутные генералы имели собственное мнение: «Войнович мог побить Гуссейн-пашу. Но не довел дело до конца, струсил, убежал». Рибас пытался им объяснить, каков был ветер, его направление, но генералы не хотели слушать и, главное, писали свои рапорты Потемкину. Генерал-майор не выдержал и в свою очередь написал князю:
«Милостивый государь! Я умоляю Вашу Светлость не обращать никакого внимания на другие донесения, кроме графа Войновича по отношению к морю. Вчера было только одно сражение с неприятелем. Оно продолжалось между 4–5 часов утра и продолжалась как яростная перестрелка до 11 с половиной часов. Зрители с сухого пути отправились обедать. А наши крейсеры и лансоньг бились в линии до 1/2 второго».
Потемкин, вместо того, чтобы находиться при войсках на Днестре, вдруг предпринял поездку в Тавриду, а на обратном пути прибыл в Очаков. Встречали его оркестры, пушки и невиданный под Днестровским небом обед. Повар грека Кефалино превзошел себя. Среди прочих блюд были и бараньи хвосты в сарацинском пшене, и бекасы в паштете, и дрозды, и голуби в рединготах. Князь выказывал благосклонное внимание и к бекасам и к сотрапезникам.
Рибас сказал сопровождавшему Потемкина барону Бюлеру:
– Князь производит впечатление несказанно влюбленного человека.
– Это не те слова. Он влюблен до умопомрачения.
– Новый объект?
– Нет, цель вся та же. Любезная дочка Прасковья обещала приехать в действующую армию.
На военном совете армии Гудовича было предписано готовиться к выступлению на Днестр.
– Но с турками, Ваша Светлость, как слышно, ведутся переговоры о замирении, – сказал Гудович.
– На мир надейся, да сам не плошай, – отвечал Потемкин. – Суворов при Фокшанах осман расколотил, вот они о мире и заговорили. А визирь собрал стотысячное войско у Галаца против принца Кобургского и молдавской армии Репнина. Так что идти вам брать крепость Хаджибей, а там к Днестру повелеваю.
После отъезда Потемкина передовому корпусу Рибаса придали казачьи лодки Головатого, которые подкрепили канонерками и довооружали. Рибас перенес свою ставку в Тузлы, ближе к Хаджибею. Уже к пятнадцатому августа все было готово к выступлению, но окончательного приказа князь все не отдавал. Потянулись дни ожидания. Генерал-майор писал Базилю Попову:
«18 августа. У нас ничего нового. Я отправляю с курьером Алексеем кубанского мурзу, который хочет видеть князя.
20 августа. Из новостей могу сообщить, что один турецкий кирлангич ходил заглянуть, что делается в Лимане. Надеюсь, что вскоре мы сделаем это у турецких берегов.
27 августа. Посылаю вам пленного турка, минуя генерала Гудовича, который продержал бы его бог знает сколько. Сказать правду, я на мели…
30 августа. Все это время я знакомился с местностью Тилигула и Куяльника. Все находящиеся у нас карты неверны; я вам скоро пришлю одну очень хорошую… Посылаемые казаки отправятся через вершины р. Куяльника».
Тридцатого черная кошка пробежала меж Гудовичем и Рибасом. Казачий разъезд Головатого у Тилигульского брода передал Рибасу двух пленных турок из самой крепости Хаджибей, и он поспешил доставить их Гудовичу. Пленных допросили. Они назвались Омер-ага и Сали Хавос-баши. Показали, что сами были отправлены из крепости за языком. Командует в Хаджибее двухбунчужный Ахмет-паша. В крепости двести янычар. Восемь десятифунтовых пушек. Капитан Гуссейн-паша, который командует флотом при Хаджибее, спешит доставить в крепость тридцатифунтовые пушки, мортиры и янычар. Вокруг крепостного замка вырыт ров глубиной в человеческий рост и шириной полтора аршина. Ров углубляют рабочие, присланные из Измаила. Их пятьдесят человек.
– Надо этих пленных немедленно отправить к Потемкину, – сказал Рибас.
– Пусть у меня посидят, – ответил Гудович. – Еще допросим.
– Тогда отправьте хоть одного! Князь поймет, что крепость надо брать немедля, и отдаст приказ.
– И с приказом успеется.
– Но мои полки уже у Тилигульского брода!
– Превосходно.
– Им недостает артиллерии. А в Очаковской артиллерийской команде совершенно без дела находятся пять единорогов. Прикажите дать их Головатому.
– Прикажу, – неопределенно обещал Гудович.
– Иван Васильевич, – вскипел Рибас, – я весьма доклей вами, как командиром. Но всему есть предел.
– А вот пленный Омер-ага говорит, что ваших казаков уже побили и отправили в Хаджибей!
– Он говорит это со слов своего начальника Ахмет-паши, который ложью воодушевляет янычар в Хаджибее!
– Отправляйтесь-ка в корпус и пересчитайте своих людей!
Раздосадованный Рибас встретился с Войновичем. держал с ним долгий совет о совместных действиях, и Марк Иванович горячо поддержал план генерала. Рибас уехал к Тилигулу. Первого сентября повеление на штурм Хаджибея было получено. Гудович доносил Потемкину:
«6 сентября. Я с главным корпусом второй части прибыл на песчаный брод к Тилигулу в 4 марша. Дал войску отдых, снесся с передовым корпусом, который пере правился через устье Тилигула, кроме осадных орудии которые у устья и завтра рано через Тилигул переправятся… Тульский пехотный полк 4 числа со мною соединился. Впрочем, флот неприятельский стоит на том же месте под крепостью и на сухом пути все благополучно.
7 сентября. Господин генерал-майор и кавалер де Рибас из числа доставленных к нему от полковника войска Донского Машлыкина шестнадцати человек рыболовов, перебежавших к нам добровольно от Аккермана, выбрав лучших атамана Максима Юрченко и липовинца Поликарпа Иванова, препроводил их сей день ко мне…
10 сентября. Теперь осталось мне переходить последний Куяльник… и оттуда еще сорок пять верст до Гаджибея».
8 количестве верст генерал-поручик ошибался – карты у него оставались неверны. Потемкин в Кишиневе читал его донесения и отправлял императрице подробные рапорты, сопровождаемые Валерианой Зубовым – братом блистающего в Петербурге фаворита Александра Зубова. Екатерина писала в ответ: «Помози, Боже! Жду теперь от флота и от корпуса, к Хаджи-бею посланного, вестей».
Военный совет имел быть в балке меж двух холмов верстах в восьми от крепости. Тут стояла неказистая хата поселянина-степняка. Генерал Илья Безбородко сидел на лавке, привалившись к стене, а трубку покуривал изящно, словно в петербургском салоне, а не в хате, пропахшей навозом. Бригадир Шереметьев со скучающим видом поглядывал в оконце и каждый раз спохватывался: сквозь бычий пузырь ничего не было видно. Генерал Мекноб перечитывал письмо из Петербурга, в котором сообщалось об успехах русского флота в войне со шведами и о недовольстве двора Мусиным-Пушкиным, войска которого топчутся на месте, ведут «ленивую» баталию.
Полковник Троицкого пехотного Хвостов и Рибас вошли последними, и генерал-поручик Гудович не стал дожидаться, пока они усядутся, покашливая, объявил:
– Завтра, господа, Святой праздник – день Воздвижения Креста Господня, и следовало бы наши дела расположить так, чтобы Гаджибей взять.
Все давно было говорено-переговорено еще под Очаковом: полки Гудовича выступят за час до рассвета, достигнут передовой корпуса Рибаса и окружат крепость. Но Гудович, как вчерашний Тамбовский генерал-губернатор, обстоятельно предложил:
– Взглянем-ка, господа, еще раз на схему крепостного замка.
Стряхнув с мундира просыпавшийся табак, Илья Безбородко со знанием дела принялся толковать о каменном пятиугольнике крепости.
– Главное, господа, я не вижу в нем изъянов. Окружен рвом, который недавно углубили на два человеческих роста. В вершине пятиугольника – бастионная башня. Рядом с ней внутри крепости пороховой погреб. О нем следует помнить. На противоположных от бастиона углах – две круглые башни, а меж ними ворота. Считаю, что при высоте стен в четыре человеческих роста, следует, как и решили, обкладывать замок со всех сторон. Лестниц хватит. Я проверял.
– Надо учесть и длину стен, – сказал Мекноб.
– От четырехугольной бастионной башни до круглых башен – шестнадцать сажен, – ответил Безбородко.
– Да! – подхватил бригадир Шереметьев. – И между круглыми – одиннадцать сажен. Я подсчитал: чтобы первый приступ был удачен, надобно две тысячи человек. Только лестницы подавай!
– Если гарнизон позволит, – сказал, раскуривая трубку Безбородко. – И флот турецкий с пушками под самым замком. А там ведь пятьдесят кораблей!
Османских судов больших и малых стояло под Хаджибеем по вчерашним сведениям тридцать семь. Но на преувеличение генерал-майора никто не обратил внимания. Флот – сила, на него гренадеров на приступ не пошлешь. Да и с Ильей Андреевичем приходилось считаться и Гудовичу: как никак – младший брат Александра Безбородко – первого докладчика императрицы.
– Осадные и полевые орудия Меркеля поставим на берегу. Авось флот отгоним, – сказал Гудович. – Да и адмирал Войнович вдруг нечаянно проснется и со своей эскадрой подойдет!
Многие засмеялись. Сухопутные генералы Войновича не любили по-прежнему.
Предвечерние сентябрьские отсветы зарниц сделали все вокруг нереальным. Хвостов и Рибас спускались из балки, держа строптивых скакунов-донцов на поводу. Вдали, в версте, зеленой слюдой необычно светилось море, особенно у берегов. Солнце уж упало за Куяльники, луны не было, сумерки сгущались.
– Что за черт! – воскликнул Хвостов, вглядываясь в светящийся морской окаем.
– В эту пору оно и в прошлом году светилось, – сказал Рибас.
– А мои троицкие крестятся и молебен требуют, – вздохнул Хвостов.
Кто-то шел им навстречу. Постепенно они различили на идущем красный кафтан с черными отворотами. Над кафтаном белело лунообразное лицо. Это был Меркель.
– Вам, майор, повеление, – сказал Рибас, когда они поравнялись. – Ведите свои осадные и полевые к нам.
– Куда именно?
– Отсюда к замку до первого холма. Вас встретят. Тут верст пять. Когда будете?
– Даст бог, часа за два. Собраться надо.
Сойдя из балки, они подтянули подпруги донцов, вскочили в седла и весело поскакали к чернеющему вдали холму. Из балок, оврагов и кустарника в сумерках начали появляться солдаты и их унтеры. Весь день они пролежали в укрытиях, а с темнотой поднялись. Костров не жгли. Сухарей пока было вволю. Слева все еще изумрудно светилось море, но небо неожиданно быстро затянуло тучами и пала тьма.
К палаткам в зарослях под холмом они выехали на свет свечи, предупредительно зажженной адъютантом Курдимановым. Прежнего Петра Канчиелова, бывшего адъютантом с Новоселицких времен, но заленившегося, Рибас отправил в полк. Курдиманов принял коней, сказал, что все спокойно, и Рибас с Хвостовым вошли в палатку.
Капитан Трубников и пехотный поручик Белян при свече играли в карты. Тотчас бросили.
– С чем сегодня? – улыбнулся Рибас Беляну.
– Куропатки, господин генерал.
Белян появился в их лагере вчера. Принес двух зайцев, которых ухитрился зажарить днем на костре без дыма. В его роте сержант-херсонец умело спроворивал зайцев силками. Капитан Трубников третьего дня задержал двух конных татар из прикрепостного селения Хан и привел их не к Гудовичу, а к Рибасу. Впрочем, генерал-майор отлично понимал, почему именно сегодня Белян и Трубников явились в расположение его лагеря – это был лагерь передового корпуса армии.
Курдиманов накрыл «стол» на расстеленной на полу палатки рогоже. Кто присел. Кто прилег. Выпили остатки итальянского «Розсолиса». Куропатки успели остыть, но все не ели с полудня, и мясо казалось особенно отменным, да и было таковым.
По палатке вдруг застучали сотни кадет-барабанщиков. Это внезапно начался дождь. Все слушали его, но никто не сказал ни слова, потому что дождь был не только некстати, но вовсе ни к чему. Замок Хаджибей стоял на высоких глинистых склонах. Только полковник Хвостов, раскуривая трубку, прислушиваясь к дробному стуку, нарушил молчание:
– Ничего. Там кустарник крепкий.
Рибас накинул на плечи плащ-епанчу, завязал тесемки у шеи. Белян и Трубников были готовы идти с ним.
– Вы, Белян, останьтесь, – сказал Рибас подпоручику, но увидев при свете свечки юное, совсем девичье лицо Беляна, добавил: – Знаете, где казаки расположились? Пойдите туда. Пусть к двенадцати ко мне на совет пожалуют. И донские, и черноморские.
Адъютант и майор Трубников вышли за ними в непроглядную темень. Втроем, оскальзываясь и чертыхаясь, шли почти наугад, пока не появилась возможность ориентироваться на морской прибой, едва слышный, но они шли на его шелест.
– Иди вперед, – сказал Рибас адъютанту.
– Да я помню. Я выведу, – сказал Курдиманов.
И верно – вывел точно к изгибу залива, в котором были видны редкие огни турецкого флота.
– Вот на этом перешейке орудия Меркеля поставим, – сказал Рибас. – Запоминайте, капитан.
Но вся эта никчемная скрытность начинала раздражать его. С десятого сентября он с тремя конными, тремя пешими полками черноморских казаков, с Троицким полком Хвостова и гренадерами Воейкова шел ночными маршами. Одного человека спрятать трудно, а уж целый корпус в безлесой местности провести к цели незаметно – дело немыслимое. Стоило пройти морем одному турецкому лансону – и все открыто. В замке и на османском флоте наверняка уже знают о всех передвижениях и держат ухо востро.
– Огни зажигать вон там, левее. – Он махнул в темноту рукой. – Три фонаря.
– Я дежур-капитанам показывал место, – сказал Курдиманов. – И для огней, и для орудий.
– То было днем. А если в темноте ошибетесь…
Он не договорил, потому что место для орудий Меркеля и для огней эскадре Войновича указал еще вчера, но оплошность была бы роковой.
Под непрекращающимся дождем вернулись в лагерь и, когда ливень усилился, вошли в палатку.
– Пропади все пропадом, – ругался Хвостов. – Недаром море светилось. Правы оказались солдаты: надо было молебен отслужить.
– Завтра отслужишь по тем, кто до утра не доживет, – сказал капитан Трубников.
Хвостов ушел в соседнюю офицерскую палатку. Оттуда доносились приглушенные голоса.
– Что там? – спросил Рибас.
– Игра идет, – ответил адъютант.
– Во что?
– Макао. Наши и два секунд-майора.
– Кто такие?
– Сандерс из Лифляндского егорского. И Осипов из Ряжского.
Рибас их не знал. Из офицерской палатки доносился смех.
– Это, верно, Люберх банк по две карты метает, – с усмешкой сказал адъютант. Капитан Люберх слыл недотепой.
«Пойти к ним и сесть в число понтеров? – раздумывал Рибас. – Нет, этим летом мне слишком не везло, чтобы испытывать судьбу и сегодня. Да к тому же кто-то подъехал…»
В палатку вошел Гудович. На шитом золотом мундире ни капли дождя – видно, приехал в карете.
– Что скажете, Осип Михайлович? Дождь-то какой. Как тут у вас?
Рибас доложил.
– Татары, которых вы мне намедни прислали, говорили, что берега здесь с ручьями. А в дождь да в сильный прибой так песок пересыпает – сущее болото. Посылать ли Меркеля с орудиями? Как бы он со своей осадной не утонул.
Рибас достал тяжелую луковицу часов, открыл крышку, поднес к свече.
– Меркель должен быть здесь с минуты на минуту. Я передал ему ваше приказание, как только вышел от вас.
Гудович развел руками:
– А я по такой злой темноте и не видел его артиллеристов, пока ехал к вам.
– Иван Васильевич, за крепостью стоит маяк, – сказал Рибас. – С него могут подать сигнал турецкому флоту. Может быть, послать туда отряд с генералом Безбородко?
– Что нам сигналы с маяка? – Гудович пожал плечами. – С первым выстрелом из пушки с крепости на флоте все поймут. Ну, хорошо. В пять я выступаю.
Гудович уехал. Адъютант вернулся из офицерской палатки.
– Кто в выигрыше? – спросил Рибас.
– Лифляндец Сандерс. Тащит девятку за девяткой.
Имея привычку ничего не делать на авось, Рибас велел адъютанту подать бумагу и чернил и стал составлять предписание к штурму. Он работал до тех пор, пока адъютант не доложил, что прибыл майор Меркель. Лунообразное лицо возникло за откинутым пологом.
– Господин генерал-майор, я с пятью полевыми. Остальные в пути, но недалеко. – Он не вошел в палатку, а за его спиной маячило в отсвете свечи лицо Трубникова.
– Трубников покажет вам, где ставить артиллерию На перешейке, – сказал Рибас. Адъютанту велел выслать Дежурных офицеров встречать отставших артиллеристов: – Пусть сразу ведут на место.
Дождь не прекращался. Четыре осадных орудия благополучно, как доложил Трубников, заняли свое место на берегу. Но тьма стояла такая, что две полевые пушки в повозках, которые двигались солдатской тягой, пропали. Их искали до двенадцати. Они ушли правее по широкой долине меж холмов. Когда орудия нашли и вернули, генерал-майор распорядился зажечь на берегу три огня.
– Да следите, чтобы не погасли под дождем.
Есаул войска Донского Кумшацкой прибыл первым.
Кутался в овчину. Его знобило.
– Нездоров?
– Сыро. Вот и продрог.
Полковники черноморских казаков Чепега и Белой пришли вместе. Чепега молча сел на рогожу. Белой шумно здоровался. Секунд-майору гренадеров Воейкову сказал, что завтра обменяется с ним одеждой – отдаст свой чекмень, а сам обрядится в его зеленый кафтан. Рибасу на совете не доставало Соломона – Антона Головатого. Он, узнав, что казачьим полкам передаются пять трехфунтовых единорогов, поскакал в Очаков, обещал быть сегодня, но запаздывал.
– Господа офицеры, выслушайте мои распоряжения к штурму Хаджибейского замка, – громко сказал Рибас.
План состоял в том, что генерал-майор разделил свою пехоту на две части. Каждая включала две роты Николаевских гренадеров и две Троицкого пехотного с резервами. Первая часть под командой полковника Хвостова должна была слева охватить замок и овладеть оным, взойдя по лестницам. На правом фланге двум полкам черноморских казаков предстояло отвлечь внимание осажденных.
Второй части под командованием секунд-майора Воейкова с полком казаков долженствовало занять предместье – форштадт– и препятствовать отходу неприятеля.
Батарея из четырех осадных и двенадцати полевых орудий уже установлена на перешейке возле залива с тем, чтобы вести огонь по турецким судам.
– Для эскадры графа Войновича зажжены три огня на берегу, – заканчивал Рибас. Вечером ветер был благоприятен. Сейчас усилился. Но я уверен, что граф уж где-то поблизости.
Без лишних вопросов офицеры разошлись в свои части, только Белой посетовал, что обозы отстали, а в них прокисает горилка. Каждые пятнадцать минут к палатке пробирались посыльные с берега и, увы, сообщали одно: трех ответных огней в море, означающих подход эскадры, нет как нет.
Конечно, за столько лет знакомства Рибас видел, как сильно переменился Марк Войнович. Его ореол победителя турок при Лагосе потускнел. Теперь граф стал язвителен, осторожен, сухопутные генералы до сих пор пеняли ему, что второго августа он не сжег турецкие суда. Но недаром генерал-майор весьма долго говорил с контр-адмиралом на рейде под Очаковом о совместных действиях утром четырнадцатого. Чесменский огненный вулкан был памятен Рибасу. Но при Чесме русских орудий на берегу не было. Так что с приходом эскадры графа под Хаджибеем может состояться вторая Чесма.
Давно кончился дождь, но три огня в море так и не появились. К четырем утра Рибас перестал ждать их, пристегнул шпагу и вышел из палатки.
– Сбор, господа, – сказал он дежурным офицерам, и те исчезли во тьме поднимать назначенные к штурму части. Два офицера представились генерал-майору. Это были секунд-майоры из Ряжского полка Осипов и Сандерс Лифляндского егерского. Они просили дозволения участвовать в деле.
– Нет, – сказал Рибас. – Ждите подхода войск с рассветом.
Недовольные и разочарованные офицеры отошли во тьму. Впереди колони с фонарями в руках ждали сигнала к выступлению офицеры рот. Рибас подошел к ним, спросил весело:
– Так что, господа, будем действовать только холодным оружием?
– Для нашего же блага, – отозвался Хвостов.
– Ну так дадим в этом слово, – сказал Рибас.
Колонны тронулись. Казаки сразу ушли вправо. Рибас шел рядом с Хвостовым. Скользя по глинистым местам, на ощупь пробираясь через мокрые глыбы скал, сползшие то тут, то там по склонам, перешептываясь, помогали друг другу, сдерживали желание вскрикнуть, когда под ногами оказывалась пустота. Пехота Хвостова приближалась к последнему оврагу перед замком.
Вдруг тьма и тишина оглушительно загрохотали, второй оглушающий удар был менее неожидан, третий, они восприняли громкими хлопками справа.
– Казаков обнаружили, – сказал Хвостов.
– Почему же они не отвечают? Они должны отвечать! Белян!
Подпоручик тотчас скатился к генерал-майору по склону.
– Вот вам случай, – сказал Рибас. – Поднимитесь по оврагу вверх. Передайте мой приказ казакам: шуметь, как только это они умеют.
– Я с ним, – сказал Трубников, и оба зашуршали в крепких овражьих зарослях.
– Правого фланга не ждать, – сказал Рибас.
– Пошел! Пошел! – уже кричал Хвостов, так как грохот пушек справа усилился.
Когда колонна стала пересекать овраг, над головами солдат резко раскололась тьма, лопнул воздух, а громовой удар рассыпался жалящей все вокруг картечью. Но генерал-майор смотрел в противоположную от пушек сторону – там, на турецких судах, один за другим появились огни. Мористее была тьма – огней эскадры Войновича не видно. И снова, материя под именем тьма, затрещала и лопнула. Рибас удивился, увидев рядом Трубникова. Когда тот успел вернуться?
– Наверху сильный ветер, – сказал Трубников. – Из-за него и пушек казаков нам не слышно.
– Ветер?… Где Белян?
– Здесь где-то.
Солдаты карабкались вверх по склону, хватаясь за кусты, съезжали вниз, поднимались. Из замка били не только пушки, но и летели факелы – осажденные обеспечили себе отменную видимость, так что последние сажени преодолели рывком, только несколько лестниц застряло в слишком густом кустарнике, и трое гренадер без касок выдергивали их оттуда.
Когда генерал-майор оказался наверху, то увидел, что лестницы не только приставлены к стенам, но по ним уж взбираются его офицеры. В свете факела Рибас увидел неуклюжего капитана Карла Люберха. Он карабкался по лестнице так невозмутимо, как будто решил посмотреть старую мебель на своем чердаке. Пехотный капитан Воинов, стоя на лестнице, отбивался шпагой от турка. Небо на краешке востока стало серым, силуэты турецких судов выступили из тьмы. Они выстроились вогнутой от залива подковой. Силуэтов иных судов видно не было. Эскадра Войновича не пришла, а на турецком линейном вспыхнули огни, ядро под ногами генерала сочно шлепнулось в глину и не разорвалось.
Несколько баркасов с турками отвалило от берега. Их упустил Воейков, занимавший форштадт. Белян кстати оказался рядом, и Рибас отправил его к Воейкову поторопить секунд-майора. Потом, как и Трубников, вскарабкался по лестнице на стену, пробежал до круглой башни – бой шел внутри замка, и Рибас, обнаружив ступени, спустился туда, где со всех сторон в полутьме слышались крики, возгласы «Оман!», стоны. Стараясь достичь каменной лестницы, на Рибаса набежал янычар. Выпад со шпагой в руке остановил его. Генерал стоял согнувшись, ожидая нового нападения, но увидел закопченное лицо Хвостова.
– Кончено, – сказал полковник.
– А казармы?
– Там и в комендантском доме заперлись. Но это уж пустяки.
– Пусть толмач им скажет, что мы имеем приказ не задерживаться здесь и через четверть часа взорвем пороховой погреб.
Он прислушался и с удивлением отметил, что турецкий флот прекратил стрельбу. Чтобы выяснить причину, Рибас немедленно поднялся на стену. Серое предутрье над морем позволяло хорошо рассмотреть османские суда. Батарея Меркеля на многих из них разбила оснастку, кое-где на палубах дымило. Турецкий флот снимался с якоря. «Неужели Гуссейн-паша решил увести свои суда?» Рибас обернулся – увидел рядом несколько офицеров. Конечно же у всех на устах был вопрос: где же наш флот? Внизу, под стеной появился Белян:
– Воейков взял форштадт в штыки! Он уже на другой стороне!
Рибас с офицерами перешел на другую стену, и они увидели, что местность под стенами наполнена русскими войсками. Тем временем, из казарм и комендатского дома выходили янычары, бросали оружие на землю, шли к стене, где садились на корточки и, охватив головы руками, ожидали своей участи. Капитан Волков вел по двору замка богато одетого турка. Рядом шел толмач.
– Ахмет-паша! – крикнул снизу Волков Рибасу.
– Спроси-ка у него, – сказал генерал толмачу, не спускаясь со стены, – не ждет ли он десант с флота?
Толмач перевел вопрос и нескладно пояснил ответ:
– Он ничего не ждет. Из Аккермана помощи ждали.
– Много ли войска в Аккермане?
– Две тыщи они говорят.
Другие пленные называли цифру от шестисот до шести тысяч. Рибас поворотился лицом к морю – замысел Гуссейн-паши стал ему ясен: турецкие суда не собирались уходить в море. Они перемещались по заливу вправо.
– Трубников! – крикнул генерал, и капитан поспешил к нему. – Добудь коня и во весь опор к Меркелю! Батарею снять. Поставить правее замка. Афронт перед их флотом. Только живо!
Лошадь капитану. быстро сыскали в пристройке к замку, помогли спуститься в овраг, а потом и к берегу, и капитан без седла ускакал к батарее. От казаков прибыли сотники Лапин и Сеняпин. – Наперебой докладывали:
– Из крепости их много убежало! И со Слободки. Тикали, аж пятки сверкали. Пан полковник приказал ударить, а как мы ударили, они аж сели! Некуда им бежать было.
Рибас обратился к стоявшему рядом капитану Люберху:
– Карл Иванович, снеситесь с Воейковым. Пусть уводит солдат и казаков с берега.
Офицеры в недоумении переглянулись: неповоротливому Люберху что-то поручают? Но генерал запомнил лицо капитана, когда он взбирался по лестнице, и теперь был уверен: этот человек исполнит приказ с толком.
– Кто с флагом на башню взобрался? – спросил он у офицеров.
– Сандерс.
Лифляндец чинно поклонился Рибасу и гордо отвернулся. Что ж, победителей не судят. Двух дежурных офицеров генерал послал к подходившим частям Гудовича, чтобы не вышли к берегу. И вовремя: турецкий флот, закончив свой маневр вправо, начал обстрел побережья. Но и Трубников успел снять батарею Меркеля с перешейка, артиллеристы установили орудия почти у кромки берега и началась дуэль. По огням Рибас насчитал на турецких судах больше пятидесяти орудий. У Меркеля было четырнадцать, но стрелял он так отменно, так прицельно, что турецкая флотилия попятилась из залива, а два судна получили такие серьезные повреждения, что спустили флаги и пошли к берегу.
– Встречайте гостей, господа офицеры! – весело сказал генерал и обратил внимание на то, что турецкие суда да с большим трудом выходят из залива. Теперь ему отчасти стала ясна причина отсутствия эскадры Войновича: в открытом море разыгрался нешуточный шторм. На берегу он не ощущался.
Верхами прискакал генералитет – Гудович, Безбородко, Шереметьев, Мекноб. Рибас встретил их в воротах замка, коротко доложил Гудовичу обстоятельства ночного боя. I – Поспешил, но победил, – мрачно сказал Гудович. – Ну да победителей не судят.
Шереметьев и Мекноб поздравили Рибаса. Илья Безбородко старательно отводили глаза. Наедине он сказал Рибасу:
– Я в отчаяньи. Пропадать все лето под Очаковым, ожидая дела и не участвовать в нем… – он выругался.
– Отчего же Гудович не послал вас к маяку, как я предлагал?
– Этот старый пень… – он снова выругался.
– Досадно, – посочувствовал Рибас.
– Сколько времени упущено!
– Я напишу Попову, чтобы он похлопотал о вашем переводе к войскам на Днестр, – предложил Рибас.
Тем временем явились Меркель, Воейков, Чепега и Белой вместе с донскими сотниками. Все докладывали об отличившихся в деле. В доме паши Рибас написал рапорт, велел писарю снять копию и подал рапорт Гудовичу. Тот бегло просмотрел написанное и сел писать свой рапорт Потемкину. Спустя получас Гудович показал Рибасу этот рапорт.
«14 сентября. Гаджибей. Повеление Вашей Светлости исполнено. Сего утра Гаджибей взят штурмом. Господин генерал-майор и кавалер Рибас вел атаку передовым корпусом, к которому я придал прежде батальон Троицкого пехотного полку, а вчера ввечеру отрядил еще вдобавок к осадным и полевым орудиям батарею, состоящую из 10 орудий для стреляния по неприятельским судам… В добычу от неприятеля получено 8 пушек, несколько знамен, из которых четыре целых, а прочие порваны. Семьдесят пять пленных, из которых один двухбунчужный Ахмет-паша и несколько чиновников. С нашей стороны урон мал и состоит в трех убитых рядовых троицкого пехотного полку и одном казаке да раненых рядовых того же полку одиннадцать и Николаевского гренадерского батальона двенадцать человек, а с неприятельской стороны найдено до сих пор убитыми девяносто два человека…
Атака сия по препоручению моему произведена была и дело сие желаемый успех получило неутомимым старанием, искусством и храбростью г-на генерал-майора и кавалера Рибаса, которому отдаю сию справедливость, за долг почитаю донести о нем Вашей Светлости как о человеке особливо отличившемся…»
Далее Гудович упомянул многих, участвовавших в деле, о которых писал в своем рапорте и Рибас, но еще отметил усердие графа Безбородко и бригадира Шереметьева.
– Тут есть неточности, – сказал Рибас. – Целых знамен взято семь и еще два флага. Вы не упомянули о восьмистах ядрах. И пушек взято двенадцать, а не восемь.
– Это мелочи, – отмахнулся Гудович.
– Да, но глазное: вы не отметили ни одного из моих казаков.
– Они есть в вашем рапорте, – недовольно отвечал Гудович. – Князю я пошлю и свое и ваше донесение. С кем послать?
– С Трубниковым.
Эту честь капитан заслужил.
Присутствующие генералы дружно и уничижительно заговорили об адмирале Войновиче. Рибас переждал брань: сухопутные никогда не поймут, что такое море. Потом сухо заметил:
– Ветер на море был норд-ост.
– Что же с того? Войнович позорно отсиделся под Очаковом! Надо непременно написать князю!
– Норд-ост – это буря, – сказал Рибас, но его не стали слушать:
– Легкое волнение под дождем! Для Войновича и штиль – буря!
– Нет, – возражал Рибас. – На берегу буря не ощущалась.
Но положа руку на сердце Рибас признавался себе: будь он на месте Марка Войновича, то рискнул бы пожертвовать двумя-тремя судами – команды спаслись бы на берегу – но привел бы флот под Хаджибей.
Праздник Воздвижения креста Господня войска отметили получасовой пальбой. Отец Захарий отслужил молебен. В греческой кофейне на форштадте Рибас купил несколько бочек вина, и в полках усердно поднимали тосты за господина генерал-майора.
Последующие дни Гудович кропотливо писал дополнения к первому рапорту, делал представления на офицеров, участвовавших в штурме. Попросил Рибаса написать еще один, более подробный отчет. Генерал Мекноб как-то вечером пришел на берег залива, где Рибас готовил суда для посадки в них батальонов, чтобы плыть к Днестру, и весело сказал:
– Оказывается, генерал Безбородко первый герой Хаджибея!
– Как так?
Мекноб видел последний рапорт Гудовича у писаря. Илья Безбородко теперь открывал список наиболее отличившихся в деле. Были добавлены и отец Захарий, и даже писарь Бородин. Казаки отмечались вскользь. Рибас возмутился, да еще вернувшийся от Потемкина обласканный и награжденный капитан Трубников подлил масла в огонь:
– Генерал Попов велел передать вам, что вашего рапорта его канцелярия не получала.
Рибас вскочил в седло своего донца и ближним оврагом поскакал к крепостному замку, где расположился штаб Гудовича. И только отсутствие генерал-поручика, готовившего войска к отправке в Аджидер, избавило его от стычки с Рибасом. Вернувшись к флотилии в каюте бригантины генерал-майор велел адъютанту сыскать копию со своего первого рапорта князю, которую четырнадцатого сентября оставил у себя. Перечитав ее, Рибас обнаружил некоторые неточности. Они были извинительны его тогдашним состоянием упоения победой, но он все-таки подчеркнул сомнительные места, а Базилю Попову написал: «Так как мне говорят, что вы не получили ни одного из моих рапортов, и так может случиться, что вы их еще не скоро получите, я осмеливаюсь прислать вам копию с моего рапорта. Все, что подчеркнуто, соврано; остальное справедливо. Когда вы его прочтете, прошу вас, мне возвратить, я не имею другого».
А в рапорте генерал-майор помимо прочего сообщал:
«Справедливую похвалу отдаю войску верных черно-Морских казаков и особенно предводительствовавшему оным г-ну полковнику и кавалеру Чепеге, который ударил по бежавшим из замка и слободы неприятелю; полковнику и армии капитану Белому, хорунжему армии порутчику Алексею Высочину, старшинам: армии прапорщику Павлу Лисановичу и Василию Левенду, есаулу и армии прапорщику Тимофею Чайковскому, хорунжему Ивану Сербену, и хорунжему от армии прапорщику Андрею Белому. В заключении всего признать должен, что во все продолжение экспедиции сей, в доставлении снарядов, провианту и во многих других нужных случаях великое я имел пособие от армии подполковника и кавалера Головатого, которого особливо препоручить Вашему Высокопревосходительству осмеливаюсь».
5. Зимние каникулы 1790
Сентябрь выдался на редкость урожайным на успехи. Кроме Хаджибея, были взяты Каушаны и Аккерман. Тридцатого сентября в день памяти Священномученика Григория и в день своих именин Григорий Потемкин осматривал Аккерманские бастионы и нашел их «зело сильными». Полковник Чепега в очередном поиске вместе с атаманом Платовым занял Паланку.
Но истинный венец сентябрьским делам преподнесли соединенные силы австрийского принца Кобурга и Суворова под Рымником. Они разбили девяностотысячную армию верховного визиря. В лагере при Хаджибее с завистью говорили о трофейных ста пятидесяти знаменах, восьмидесяти пушках и неслыханно богатом обозе. Екатерина писала, что отправила генерал-аншефу в награду целую телегу бриллиантов, из которой Суворов получил золотую шпагу, лавровый венок с надписью «Победителю визиря», орден Андрея Первозванного и был возведен в графское достоинство с наименованием Рымникского. Австрийский император возвел Суворова в графское достоинство Римской империи. Рибас письмом поздравил генерал-аншефа с успехами.
В сентябре Екатерина писала Потемкину: «Если бы ты был здесь, то бы я, взяв тебя за ушки, поцеловала».
Готовилось сражение на море. Турецкий флот все еще стоял в нескольких милях от Хаджибейского берега. К острову Тендра из Севастополя прибыли пять линейных кораблей и восемь фрегатов. Они соединились с флотилией Войновича, чтобы дать бой османскому флоту, но турки уклонились от сражения и ушли к Аккерману. Из Таганрога к Тендре явилась флотилия капитана бригадирского чина Павла Пустошкина, и моряки начали все вместе искать турецкий флот, но он, как в воду канул.
В Хаджибее Рибас получил письмо от жены. Настя писала: «Я узнала с бесконечной радостью, мой дорогой друг, что вы имел счастье взять город; это произвело здесь большое впечатление. Государыня говорила мне о вашей победе, милостиво выражала свое удовольствие. Принц Нассаутский поздравил меня с одержанной вами победой».
Войнович прислал в Хаджибей свой судовой «журнал», в котором по записям было ясно, что он не мог привести свои корабли во время штурма Хаджибея из-за шторма и неприятеля, блокировавшего его суда под Березанью. Копии этого «Юрнала» были отправлены Гудовичем к Потемкину и Рибасу. Последний уж посадил свои войска на гребной флот и казачьи дубы, вошел в Килийское гирло Дуная и бросил там якоря. Но долго быть в Килийском гирле в пикете он не мог: начались бури и кончался провиант.
Под Килией флотилия его была обстреляна с батарей, но маневрируя своей бригантиной, Рибас ушел из-под огня да еще захватил у берега турецкое судно с зерном, капитан которого был удручен: зерно принадлежало лично ему и обошлось в двадцать тысяч.
– Где ваш флот? – спросил Рибас.
– Ушел в Константинополь.
– Откуда это известно?
– Один капитан всегда шепнет другому капитану куда направляется.
Новость эта была столь важна, что через плавни, камыши, болота генерал-майор сам отправился в Аккерман, где все еще находился Потемкин. В пути Рибас не заметил, как отстегнулась шпага, бывшая при нем всю кампанию. Потеряв ее, он суеверно помрачнел. В Аккермане Базиль Попов сказал:
– Если все Хаджибейские герои так мрачны, то гуркам несдобровать.
Узнав причину, он отдал свою шпагу Рибасу со словами:
– Только осторожно. Она вся в чернилах.
С Потемкиным Рибас с места в карьер заговорил о морском провианте для гребной флотилии и войск.
– Провианта нет, – сказал князь. – Но сухари пришлю. А всего лучше будет тебе из-под Килии уйти. Ты мне под Бендерами будешь надобен.
– Куда отвести флотилию?
– В Хаджибей. Я приказываю тебе взорвать тамошний замок.
Ревнивое хозяйское чувство кольнуло душу: взорвать то, что завоевал, рискуя жизнью?
– Непременно взорви. Того и гляди флот высадит там десант.
– Турецкий флот ушел в Константинополь, – объявил главную новость генерал-майор и объяснил, откуда эти сведения. Потемкин вмиг повеселел, а узнав о захваченном судне с зерном, рассмеялся.
– У тебя зерна полны закрома, а ты у меня сухари выпрашиваешь!
– Мельницы на судах наше адмиралтейство еще не ставит. Только мачты с парусами, – горько пошутил Рибас.
– Сухарей пришлю. А замок взорви. Аккерман мы взрывать не будем. Я Гудовичу прикажу прислать сюда два полка. Вся его армия пойдет к Бендерам. А ты бери гребную флотилию в свой надзор.
Потемкин спешил в Кишинев, куда обещала вскоре приехать «моя радость, душа души» Прасковья Андреевна, которую князь звал Прасковьей Григорьевной.
Проскакав назад все опасные места, Рибас в Килийском гирле сел в поджидавшую его казачью лодку, а шпагу «в чернилах» отправил с курьеров Базилю Попову. К вечеру он увел флотилию из-под Килии. В Хаджибее ему вручили письмо Суворова:
«Милостивый государь. мой Осип Михайлович! С победой Вашего Превосходительства над Гаджибеем имею честь поздравить. Усердно желаю, побеждая и далее неверных, заслужить лавры. Пребываю с моим истинным почтением и преданностью».
На следующий день в три пополудни генералы стояли на берегу с открытыми ртами, чтобы не оглохнуть – взрыв адской силы уплотнил воздух, ударил в уши и раскатился эхом над морем. Гудович диктовал писарю рапорт князю: «По повелению вашей светлости замок Гаджибейский разрушен посредством трех мин, которыми две башни оного и один бастион подорваны до фундамента, отчего некоторые стены развалилися, а другие разломаны…»
Седьмого октября лагерь под Хаджибеем опустел – армия Гудовича ушла к Бендерам. Оставив флотилию и свои батальоны на Головатого, Рибас отправился на бригантине к Очакову. Встреча с Войновичем вышла неловкой. Марк Иванович вдруг стал кричать:
– Мне все указывают! Все. Ушаков хотел скорой победы за моей спиной, за мой счет. Турки не его испугались, а бурь!
Посчитав, что характер графа окончательно испорчен, Рибас озаботился добычей провианта для войск. От Головатого прибыл нарочный с запиской, что Попов в Аджиадере и хочет повидаться с генерал-майором. Рибас отправил все свои пожитки сухим путем в Хаджибей, а сам поплыл на лансоне. Через получас налетел такой шквал, что генерала вместе с казаками смыло за борт невиданно высокой волной в пяти милях от Очакова. Майор казаков старик Кумчатский остался на лансоне один, едва удерживая руль. Около получаса их носило по волнам, и только чудом и стараниями Кумчатского казаки и генерал вновь оказались на лансоне, который потерял управление и его прибило к берегу.
Тут произошло еще одно чудо: вдоль берега в Хаджибей скакал курьер Потемкина Кельхен. В Очакове он оставил для Рибаса почту, на словах сказал, что князя интересует состояние флотилии. Дрожа от октябрьского холодного ветра, насквозь промокший, генерал-майор написал донесение князю и письмо Попову:
«Повторите, прошу вас, его светлости, что мы все живы, что ни одно судно ни из новых, ни из старых не потеряно, что мы не спим. Я никогда не испытывал нужды и беспокойства, как теперь в последние 14 дней. Сделайте милость, пошлите курьера в Очаков, чтобы меня привезть к вам. Я не имею ни слуги, ни рубахи, ни платка, ни гроша денег. Я все, что было выслал в Гаджибей в надежде догнать вас на лошадях в тот же день. К счастью я достиг лансона не утонувши. Кельхен вам скажет каким родом. Без этого Кумчатского не знаю, что бы с нами было, что достойно милости его светлости. Этот старик служит премьер-майором уже 11 лет, а его – сын был один из первых при штурме Гаджибея».
Когда, наконец, генерал-майор прибыл к флотилии, его ждал приказ Потемкина: немедля отправляться с судами к Бендерам. Двойные шлюпы, галеры и бригантины не прошли Днестровские мели и были оставлены в лимане рядом с кораблями Войновича. К Бендерам Рибас привел сорок четыре казачьих дуба и лансоны. Вечером третьего ноября, оставив лодки в полутора выстрела от Бендер, Рибас прискакал в лагерь Потемкина и, спешившись, с превеликой радостью обнял Базиля Попова. Засим последовал ужин в его палатке.
Начали разговор о том, что прошлогоднее сидение под Очаковым грозит повториться и под Бендерами. А ведь уже грянули ноябрьские заморозки. В армии Гудовича было много больных, но он с четырьмя осадными орудиями и шестнадцатью лестницами, употребленными при штурме Хаджибея, уже стоял в четырех верстах от Бендер и спустил мост через Днестр.
– Князь мог взять Бендеры еще в августе, когда ворвался в его пригороды и зажег хлебные магазины, – сказал Рибас. Но почему-то отступил.
– Князь все предпочитает делать по плану, – отвечал Базиль. – Для него не резон очищать Молдавию прежде Бессарабии.
– Но пленные все как один говорят, что Бендеры слабы! – горячился Рибас.
– Князь ждет капитуляции, а не сражения.
– А Измаил? Репнин прорвался к крепости, поджег город и вдруг под полковую музыку ушел! Говорят, Потемкин не простил бы ему взятия Измаила.
– Дело в ином, – возражал Базиль, наливая в чарки фенхельную водку. – Репнин сделал по Измаилу две тысячи выстрелов ядрами, бомбами и брандскугелями, и все равно, как он доносил, без знатной потери людей успеха уповать было не можно. Поэтому он и ушел с музыкой.
– Но какие могут быть потери при Бендерах, если гарнизон слаб?
– Князь не хочет ничьей крови. Платов и Чепега взяли Паланку без выстрела. Аккерман сдался, а его гарнизон выпущен в Измаил.
– Суворов уложил под Рымником пять тысяч трупов!
– Там иное дело. Там австрийцы. Им надо показывать полные победы. Но, признаться, князь страдал от такого количества убитых.
– Но если мы будем сидеть под Бендерами до декабря, от болезней и морозов погибнет больше солдат, чем в бою, – резонно заметил Рибас, а Базиль лишь развел руками, и генералы выпили сладкой фенхельной за скорейшее окончание дела.
Четвертого ноября гарнизон Бендер принял все условия капитуляции. Офицерство, ждавшее боя и трофеев, было раздосадованно. Потемкин зазимовал в Яссах, а Гудович в ближайшей деревне, где нашел тридцать годных хат. Великими трудами флотилия Рибаса вернулась к Очакову. Ожил казачий кош на Березани, где готовились к зиме. В середине ноября грянули морозы и метели. Части Южной армии уходили к Екатеринославу. Сотни отставших замерзали на бесконечных белых дорогах. Голодные орды разоряли молдавские села. Жители прятали съестные припасы где только могли, даже в собственных постелях, но это мало помогало.
Оставив средние суда в Глубокой пристани, генерал-майор прибыл в Херсон. Дом, в котором он квартировал о прошлом годе, был занят инженером-голландцем на русской службе де Воланом. Адъютант Курдиманов сыскал для генерала другой дом неподалеку. Несколько дней Рибас отлеживался и хандрил. Прогулки по зимнему Херсону были унылы. Неделю город продувало ветрами из степей, неделю морозными шквалами с лимана. Город вырос, как и кладбище возле церкви Великому-ченницы Екатерины.
Солдат с почтового двора принес почту. Жена писала о своем свидании с императрицей, о том, что ее величество милостиво отзывалось о генерале Рибасе. Попов сообщал о начавшихся мирных переговорах. Измаильский сераскир Гассан-паша, прошлогодний турецкий флотоводец, имел постоянное сообщение с Потемкиным. От графа Суворова-Рымникского пришло два письма. Первое, еще октябрьское, задержавшееся в пути, написанное по-итальянски, было коротко: «Непобедимый Дориа, Осип Михайлович! Время Вашему Превосходительству превзойти наследника Барбароссы. Преданнейший слуга Александр Суворов».
Старинный знаменитый род Дориа дал республике немало блистательных военоначальников. Барбароссы тогда же прославились как отчаянные корсары, захватившие Алжир и Тунис. «Очевидно, под наследником Барбароссы, которого я должен одолеть, граф имеет ввиду капудан-пашу турецкого флота», – решил Рибас.
Второе письмо, ноябрьское, написанное по-французски, было ответом на послание Рибаса. Суворов писал: «Письмо от 30 октября, коим Ваше Превосходительство меня почтили, есть повторный знак Вашего доброжелательства и Вашей ко мне дружбы. Сия-то дружба и внушила Вам столь лестное мнение, касательно победы, одержанной союзными войсками над армией великого Визиря на берегу Рымника. Не стану уверять, что мне безразличны рукоплескания знатока, храброго генерала и доблестного героя, который ввиду целого неприятельского флота, под огнем 37 судов берет штурмом хорошо укрепленную крепость; напротив, высоко ценю оные и буду ценить вечно. Не лишайте меня, Генерал, дружбы, кою Вы мне до ныне выказывали, и будьте совершенно уверены, что я всегда пребуду с величайшей преданностью и безграничным уважением».
Взятие Бендер закрыло кампанию 1789 года. Редкие теперь курьеры и офицеры из Ясс, из ставки Потемкина, с упоением рассказывали о баснословно сказочной жизни князя. Гарем красавиц – жен его генералов, составлял молдавскую свиту Потемкина. Для своей ненаглядной Прасковьи он вырыл подземный замок, выложил его шкурами всех животных, что есть на земле, и бриллиантовыми венками. Впрочем, от императрицы князь действительно получил венок с бриллиантами в сто пятьдесят тысяч да еще сто тысяч наличными. Его пожаловали «великим гетманом казацких войск», наряд гетмана он придумал сам.
Тем временем Рибас обновлял свой гардероб. Тонкое сукно с трудом нашли в Херсоне и портной уж строил мундир, как из Ясс явился курьер и сообщил, что в свите Потемкина и в армии отныне все генералы носят мундиры грубого солдатского сукна по примеру князя. Пришлось и Рибасу раскошелиться и на второй мундир, в котором он встретил Рождество и известие о награждении орденом святого Георгия третьего класса. Первым генерала поздравил Суворов: «Милостивый государь мой Осип Михайлович! Ваше Превосходительство с получением Императорской милости усерднейше поздравляю; радуюсь и желаю от всего сердца достичь и высших степеней сего ордена».
В Рождественские дни в столовой Рибаса можно было увидеть очаковского коменданта Кастро де Лацерда, генерал-аншефа барона Ивана Ивановича Меллер-Закомельского и адмирала Мордвинова с женами, инженера-голландца де Волана, генералов Гудовича, Мекноба и Шереметьева. Дамское общество украшало присутствие Катрин Васильчиной, которая по зимнему пути прикатила из Екатеринослава вместе с Михаилом Фалеевым третьего дня. Рибас не видел ее до этого, и появление Катрин было приятным сюрпризом для него. Расспрашивать Катрин о сыне не пришлось – ее тетушка регулярно писала генералу.
Стол украсили цветами из оранжереи адмиралтейства, бургундское, пряная телятина по-итальянски, двойная гданьская и барбарисовое мороженое. Тосты за новоиспеченного кавалера ордена Георгия не заставили себя ждать. Жена Мордвинова оказалась отнюдь не флорентийской богиней, а типичной сухопарой англичанкой в платье а ля фрак. Она почему-то во все глаза смотрела на Катрин, а когда спохватывалась и наклонялась к тарелке, то казалась заплаканной. Катрин была в платье а ля триумф. Корсет так изящно облегал ее тело, что даже Мордвинов был взволнован. Высокую прическу обольстительницы венчал султан из перьев.
Рибасу она сказала всего одну фразу, обращенную непосредственно к нему:
– Прекрасный Иосиф, ваша бригантина скоро пойдет ко дну от тяжести наград, полученных вами.
Он не успел ответить – заговорили о французских делах.
– Братья короля бежали в Англию, – сказала жена Мордвинова Генриетта; жена барона Меллера-Закомельского сообщила:
– Мне писали, что в октябре в Версале толпа ворвалась в спальню Марии-Антуанетты!
– Королева была одета? – поинтересовался инженер де Волан, а Гудович развеселил всех замечанием:
– Кто же находится в спальне в шубе?
– Ворвалась толпа, и что же? – спросила Катрин.
– Королева стреляла! – ответила баронесса.
– Метко? – поинтересовался де Волан, начинавший все более нравиться Рибасу.
– Один убитый.
– Толпа, видно, была не столь густой, – сказал де Волан.
– Королевскую чету вынудили выехать из Версаля.
– Куда же?
– В Париж.
– Это гораздо ближе, чем от нас Кременчуг, – заметил ироничный де Волан.
Воспоминание о прошлогодней прогулке на бригантине в Кинбурн в обществе Катрин были свежи в памяти генерала. И несмотря на то, что Фалеев цербером был рядом с ней, Рибас пытался завладеть вниманием женщины, объявлял присутствующим:
– Послушайте, господа, стихи, которые мне прислал Суворов. Стихи его собственного сочинения.
К Божествам на небеса Я сегодня поднялся. И они сказали мне: – Позабудь нас и во сне. Для тебя, для малой тли, Нет прекраснее земли.– Выходит, Суворов после Рымника не только граф, но и пиит? – спросил Гудович.
– Но свои стихи он заканчивает строфой: «Гений счастлив лишь уделом, что летит вперед к Бендерам». – Отвечал Рибас.
Катрин продолжала беседу с комендантом Очакова об испанских вуалях.
– Мадемуазель Брэтен была бы в восхищении от вашего платья, – продолжал осаду ветренницы новоиспеченный георгиевский кавалер, а Катрин обращалась за соусницей к генералу Мекнобу.
Рибас оставил тщетные попытки. Но когда было решено отправиться на прогулку по заснеженным окрестностям, Катрин улучила минуту и и горячо зашептала на ухо Рибасу:
– В три по полуночи пошлите своего человека с пистолетами. Пусть выстрелит два раза возле церкви. Спустя получас прикажите стрелять у Данцигского трактира. А потом на окраине.
– Расспросить ни о чем не удалось: Фалеев подхватил укутанную в лисью шубу Катрин на руки и перенес в подлетевшую карету. Надышавшись морозным воздухом и устроив испытание лошадям, вернулись, выпили двойной гданьской. Мужчины прошли в кабинет, куда подали кофе и трубки. Заговорили на тему мифическую: когда же российские орлы воспарят над мечетями Константинополя?
– Сие немыслимо, – говорил барон Меллер. – Пруссия поднимает двухсоттысячное войско. Угрожает нашей союзнице Австрии.
– Австрия давно дрожит от прусского кнута, – заметил Гудович. – А поляки только и ждут, чтобы ударить нам во фланг.
Шереметьев шепотом выдал государственную тайну:
– Императрица написала Потемкину, что нет никаких сомнений в намерении Пруссии и Польши напасть на нас весной.
Присутствие генералов в Херсоне и Рибаса объяснялось тем, что Потемкин решил собрать против Польши корпус Репнина и расположить его по Бугу. Репнину он подчинил корпус Гудовича, казаков Платова и десять эскадронов Чепеги. Против турок на правом фланге остался стоять Суворов с девятью полками, а на левом назначен командовать барон Меллер-Закомельский. Ему с Кутузовым долженствовало держать Бессарабию и низовья Днестра. Батальоны пехоты на флотилии Рибаса подчинялись барону.
Перед разъездом пили шампанское. Катрин флиртовала с комендантом Кастро де Лацерда, Михаил Фалеев не сводил с них глаз. Гудович, сделав глоток шампанского, объявил:
– Вино поддельное. Его в Рязани делали.
– Быть не может!
– Я знаю шесть способов подделать шампанское, – уверял генерал. – Да вы возьмите ведро березового сока на полтора ведра молодого вина. Бутылки непременно выполощите французской водкой, разлейте все в них, пробки проволокой укрепите да ставьте в песок. Но прежде года сего напитка не начинать!
Разъехались заполночь. Около трех генерал поднял адъютанта, дал ему пистолеты и объяснил, что нужно делать. От такого странного поручения с адъютанта вмиг слетел сон.
В три пополуночи в спящем Херсоне грохнуло два выстрела. В ответ – лишь лай собак. Рибас прислушивался, подходил к окну, и спустя четверть часа фигурка в лисьей шубе мелькнула у крыльца. Генерал выбежал, подхватил Катрин на руки, внес в дом.
– Вы сумасшедшая, – сказал он, целуя ее.
– Сумасшедший он, – отвечала Катрин, но продолжения не последовало – любовники, не потушив свечи забыли обо всем на свете.
Когда очнулись, Рибас, целуя Катрин, спросил:
– Кто же все-таки сумасшедший?
– Леонтий, – отвечала она. – Увезите меня.
– Что между вами происходит?
– Он невыносим.
– Я вскоре уезжаю в Яссы.
– Вы не оставите меня с ним!
– Конечно, конечно.
– Он преследует меня. Мне некому пожаловаться! Я уж было сбежала из Екатеринослава, но он вернул меня силой с полдороги. Выслал за мной казаков.
– А сегодня? Зачем эти выстрелы?
– В Кременчуге в меня влюбился киевский подполковник. Он нарочно оскорбил Михаила и вызвал его. Мишель – трус. Ночью его люди схватили меня и увезли. А подполковник написал, что будет его преследовать. Как только узнает, где он, будет стрелять под его окнами, вызывая его этим на дуэль.
– Вы остановились возле церкви?
– Да!
– Страшная история.
– Увезите меня.
Хлопки двух выстрелов у Данцингского трактира достигли их ушей.
– Наверняка мой адъютант считает, что я спятил. Михаил послал кого-нибудь искать мнимого подполковника?
– Сам отправился с тремя казаками.
– Моему адъютанту несдобровать.
– Но он совсем не похож на киевского подполковника.
– Как же вам удалось сбежать?
– Они все были пьяны.
– И вы вернетесь?
– Мои платья, деньги и драгоценности там.
– Идемте. Я живо проучу его.
– Я не хочу скандала!
– Но как вы объясните, где вы были?
– Это пустяки. Скажу, что волновалась за него, пошла искать. Когда вы едете в Яссы?
– Через два дня.
– Я соберусь незаметно.
На следующий день к Рибасу зашел пасмурный Фалеев. Не раздеваясь, осмотрелся, спросил:
– Не было ли у вас Катрин, генерал?
– Нет, – ответил Рибас и хотел уж было выставить негодяя за дверь, но тот казался искренне опечаленным и встревоженным.
– Ее нет нигде с утра.
– Ищите у здешних дам, – сказал Рибас и ушел в кабинет.
Карета генерала, поставленная на полозья, выезжала из Херсона, позади скрипели на снегу сани с солдатами. Внутри карету утеплили войлоком и мехами. На околице из крайнего дома видением в голубых песцах выскользнула на дорогу Катрин. Херсонский обыватель волочил следом два высоких кожаных мешка. Через мгновение сладкий запах амбры и смех женщины кружил голову генералу. Херсонский обыватель, раскрыв рот, смотрел вслед поземке, вьющейся за отъезжающими.
Лицо Катрин пылало. На пепельно-русых волосах чудом держалась английская шляпка.
– Вы замерзнете в дороге.
– Ах, я специально не закутывалась, когда уходила. Но у меня с собой меха.
– Как вам удалось их взять?
– Слава господу, и в Херсоне есть портнихи. Я объявила, что хочу поправить свой гардероб. И этот негодяй сам свез мои платья и меха портнихе. А тут и деньги, и все.
– Жаль, что вы не позволили мне проучить его.
– Случай еще представится.
Она была восхитительно счастлива и своим освобождением, и предстоящей дорогой и необыкновенными обстоятельствами, которые она сама себе и обеспечила. Они переехали замерзший Буг и, не выходя из кареты на редких казачьих постах, покатили заснеженной степью к Днестру.
В Яссы прибыли утром. Базиль Попов определил их в дом молдаванина майора Марка Портария, служившего у Потемкина по особым поручениям. Только успели переодеться, гостеприимный хозяин пригласил к столу, накрытому неслыханными блюдами. Портарий потчевал:
– Вот кавурма из утки. Пеште ку мождей – рыба с чесноком, сэрмэлуцэ молдовенешть – голубцы по-молдавски.
Пили пришедшийся по вкусу генералу молдавский кисель с красным вином. Рибас расспрашивал Портария о Ясских делах и удивлялся осведомленности его в любых вопросах.
– Идут ли переговоры о мире? – спрашивал генерал.
– Вяло, – отвечал молдаванин. – Гассан-паша отправил условия мира султану. Но что из этого может выйти? Одна беда.
– Отчего же так?
– Гассан в прошлом году с флотом бежал. А теперь Потемкина слушает. Султан ему этого не простит.
– А что слышно о судьбе посланника Булгакова в Константинополе?
– Освобожден. На рагузском судне его в Триест отправили.
Рибас не переставал удивляться: его хозяин знал, даже на каком судне посланника отправили. Откуда? Тем временем Портарий продолжал:
– Князь требует границы по Днестру. И будет мир. Но султан не согласится.
– Почему же?
– У России один союзник – Австрия. Но Пруссия – турецкий козырь. Австрия уже ее испугалась, и от России она отойдет.
– Этого не может быть! – не поверил генерал. – А что князь, здоров?
– Вчера я с ним в шахматы играл. Был здоров.
– Я рад нашему знакомству, – сказал Рибас.
Надев мундир солдатского сукна, генерал отправился к Потемкину. В просторных хоромах было холодно и дымно. Заготовленные с осени дрова кончились, а новые оказались сыры, и Рибас издали услыхал, как князь распекает интендантов. В зале накрывали стол. Сновали посыльные и слуги.
– Чего просить приехал? – спросил. Потемкин, когда генерал вошел в кабинет.
– Просьбы мои начнутся, когда флотилию на киль буду ставить, – отвечал Рибас, а князь подошел и пощупал сукно его мундира.
– Солдатское? Добро. Но придется тебе еще один мундир шить.
– Разорюсь, ваша светлость.
– Ты генерал-майор, а начальствуешь над гребным флотом. Без морского мундира с эполетами на обеих плечах негоже тебе флотскими командовать. Я распоряжусь, чтобы тебе этот мундир присвоили. Проси, что флоту потребно. Весной будет поздно.
– Вот список.
– Приготовил? Потом посмотрю. За этим только и приехал, чтоб список о порохе и ядрах подать?
– Счастлив видеть вашу светлость. Привез вам бочонок айвы по-кардинальски и рецепт английского молока.
– Ступай. Вечером на бал приходи.
Возвращаясь к себе, генерал увидел промчавшуюся мимо карету, запряженную шестеркой лошадей.
– Кто это? – спросил он у вышедшего на крыльцо Марка Портария.
– Румянцев.
– Живет здесь?
– Да. Хоть от армии отставлен. Потемкин этим очень раздражен.
Марк Иванович – Портария звали, как и Войновича – рассказал, что Румянцев живет в Яссах в надежде перемен в своей судьбе. Но императрица давно приказала графу Безбородко выжить Румянцева из Ясс.
– За что? Он знаменитый, прославленный фельдмаршал! – изумился Рибас.
– Значит, мешает. Присутствие его в Молдавии подает случай к вредным слухам.
– Да, – вздохнул генерал. – Так проходит слава мира в России.
– А вот Александр Васильевич продолжает доносить о своих делах как Потемкину, так и Румянцеву. Уважает. – Сказал Портарий, и Рибас уверился, что этот человек осведомлен обо всем.
Узнав о предстоящем бале, Катрин с тревогой принялась перебирать свои туалеты. Через час пришел обеспокоенный Базиль:
– Чем вы так поразили князя? Что это за кардинальская айва, английское молоко?
Выяснилось, что Потемкин решил попотчевать вечернее собрание дарами Рибаса, но никто не знал, что именно представляют из себя его дары.
– Айва в сиропе, крашена кошенилью, – объяснял генерал, – это и есть по-кардинальски. А рецепт молока мне Настя прислала. Оно с гвоздикой, кардамоном, белками, его взбивают, кажется, и добавляют толченого сладкого миндаля. Отлично восстанавливает силы.
– Ну что же, – сказал Базиль, – за десертом будем восстанавливать силы английским молоком.
Он взял рецепт и ушел.
Бэл начался большим приемом, на котором сверкали остроумием и бриллиантами графиня Браницкая, княгиня Долгорукова, госпожа Витт. Рибас представил Катрин Васильчину как истинно русскую женщину, презревшую благополучие для милосердия и помощи армии. Потемкин благосклонно кивнул, а вниманием Катрин всецело завладели барон Бюллер и Рибопьер.
Несравненная Прасковья Андреевна сидела по левую руку князя, он то и дело наклонялся к ней, что-то шептал, загадочно улыбался. Муж Прасковьи, генерал Павел Потемкин племянник светлейшего, сидел напротив Рибаса и говорил с Долгоруковой то о вчерашней талии в пикет, то о ясской грязи в оттепель, а шепотом о Жан-Жаке Руссо. Он перевел «Новую Элоизу» на русский, раньше был этим горд, но в связи с французскими событиями немного испуган.
Неожиданно громко было названо имя генерал-майора Иосифа де Рибаса и на бархатной подушечке от императрицы ему был милостиво жалован орден Святого Владимира второй степени. Это было полнейшей неожиданностью. Базиль шепнул:
– Орден за судно с зерном под Килией и за то, что гребной флот в исправности без потерь из прошлой кампании вышел.
Ясская внезапная оттепель позволила капельмейстеру Сарти разместить хор с роговой музыкой в триста человек под крыльцом княжеских хором, и бал набирал силу. Гости выходили из душных комнат на крыльцо освежиться, громоподобные рулады из сочинений Сарти заставляли их спешить в дом, где в зале холодно светился серебром стол. Катрин имела успех у многих офицеров в ясской Капуе князя.
Но пришедшее на ум сравнение с итальянским городом, утонувшем как в роскоши, так и в разврате, позже показалось Рибасу неоправданным: безвкусным пасквилем веяло от вида потных генералов в мундирах толстого солдатского сукна, от злых и ненасытных глаз женщин, от кривляний многочисленных искателей удачи и альковных утех.
Правда, обильный стол оказался, как всегда, хорош. Отряды слуг бегали от поварни к столу, чтобы не дай бог не остудить кушанья, и рыбная волна пира с корюшкой, стерлядью, икрой, раками, лососем, снетками и осетриной сменялась волной птичьих блюд с дроздами-рябинниками, вальдшнепами, дупельшнепами, бекасами, гаршнепами, индейками… Да, у Херсонских, Ольвиопольских, Екатеринославских офицеров и солдат, зимовавших на постных щах, пропал бы сон, услышь они запахи баранины по-британски с чечевицей, артишоков в хрусталях и серебряной водки, настоянной на листовом серебре.
Пасквиль продолжился, когда выписанный из Петербурга балетмейстер Розетти вывел в залу танцующих фигурантов, а Сарти невпопад дал команду своей хоровой шайке и оркестру начать «Тебе Бога хвалим», и при стихе «свят, свят, свят!» загремела беглым огнем батарея из десяти орудий, введенная в оркестровку воинственным капельмейстером.
Потом бал вывалился на морось оттепели, был построен в колонны и каждая направлялась туда, куда указывал бесчисленное число раз целованный князем пальчик Прасковьи Андреевны. Шествие колонн сопровождалось пушечной и ружейной пальбой. Гренадеры у обочины кричали «ура!», а изумленный Рибас заметил, как князь с Прасковьей на глазах у всех провалились под землю.
Колонна шагала дальше, гости дурачились, отнимали у музыкантов трубы, набивали их снегом, зажигали заранее разложенные костры, сыпали в них порох и прыгали через огонь.
– Где светлейший? – спросил Рибас у Базиля.
– В темнице, – смеялся тот в ответ. – У него тут землянка.
Да, князь иногда живал, как простой солдат или казак в землянке. Правда, там у него был устроен изысканный салон, а сейчас генерал явственно услыхал из-под земли звуки небесной арфы.
Когда колонны гостей вернулись в княжеские хоромы, грянули танцы. Генерал спросил у Базиля:
– Что за человек мой хозяин, к которому вы меня поселили?
– О, это во всех отношениях исключительная личность. Знаток языков. Был на переговорах с Гассан-пашой. Его люди есть повсюду и, может быть, даже в Константинополе.
Рибаса познакомили с братом молдавского господаря Константином Маврокордато, недавно перешедшим в русское подданство, с князем Иваном Контакузино, служившим у Потемкина подполковником. Генерал не стал дожидаться окончания бала, оставил Катрин на попечение друзей.
Утром Марк Портарии предупредительно принес из канцелярии Базиля Попова письмо для генерала.
– Брат пишет из Петербурга! – обрадованно воскликнул Рибас, но через секунду Портарии ушел от генерала на цыпочках: тот со слезами на глазах вчитывался в письмо брата Андре. Да, Андре писал из Петербурга, потому что в Неаполе его уж больше ничего не удерживало – мать умерла. Она скончалась тихо, у себя в постели, ничем перед тем не болела…
«Андре… – Рибас не мог совладать со слезами. – Сколько ему сейчас? Я видел его в Неаполе шестнадцатилетним. И отец, и мать были живы… Ему двадцать три…»
Брат писал, что петербургские чиновники Военной коллегии отправили его в армию Потемкина – князь набирает себе офицеров сам. Андре сообщал, что выезжает в Херсон. Очевидно, он уже в пути. Рибас подумал, что успеет вернуться в Херсон из Ясс к его приезду. Весь день генерал никуда не выходил, вспоминал мать, свое беззаботное неаполитанское детство, отказался быть на продолжении бала. Марк Портарий принес генералу лучшего вина из своих запасов.
Решив уехать, генерал нанес визит князю, рассказал об Андре.
– Пусть он будет пока у тебя в Херсоне и ждет, когда понадобится, – сказал Потемкин.
С легким сожалением, не больше, Рибас оставил Катрин в Яссах. Для ее фантазий и сумасбродств почва тут была благодатной. Базиль сказал, что морской мундир генерала и его орден они отметят на дружеской пирушке в другой раз, Марк Портарий поставил в карету корзину с плачинтами и вином, и генерал уехал.
Андре прибыл в Херсон в конце января. Молодой человек был одновременно восхищен и подавлен пространствами и расстояниями незнакомой ему страны. Генерал написал Эммануилу в Ольвиополь, где тот стоял с полком гренадер на винтер-квартирах, и Эммануил не замедлил прилететь на полковых скакунах в Херсон. Разговорам, воспоминаниям, рассказам в тот вечер не было конца.
6. Пред стопами престола 1790
Приготовления к военной кампании 1790 года для генерала шли своим чередом. Он доставал якоря, пушки, порох, станки для морских орудий, лафеты, проводил учебные стрельбы, разослал интендантов в магазейны за провиантом, приказал Головатому вывести казацкие дубы к Очакову, флотилию средних кораблей довооружал в Глубокой пристани, писал столько рапортов, что Андре, повсюду сопровождавший генерала, только качал головой. Война требовала немало чернил.
Неожиданного помощника Рибас обрел в лице Мордвинова. Потемкин, недовольный своеволием и медлительностью адмирала, отставил его от службы. Мордвинов болел, но его советы: где что найти, достать – были неоценимы. Рибас довольно часто обедал у адмирала и дивился нищенству обстановки и скудости пищи, которой его потчевала скорбная жена адмирала Генриетта. Когда Николай Семенович оказывался в настроении, его рассказы о трехлетнем плаваньи у берегов Америки увлекали Рибаса. Попову генерал писал:
«Знаете, что рассуждая с этим несчастным адмиралом, я нашел его гораздо менее упрямым, чем предполагал… Он готов сделать все, что вы пожелаете, лишь бы иметь возможность обеспечить маленькое пособие жене своей, потому что, надо вам сказать, он очень беден… Его положение весьма меня трогает, тем более, что это очень достойный человек и что душа у него прекрасная…»
Попов не стал смеяться над наивностью Рибаса, а просто сообщил ему, что адмирал владеет богатейшим отцовским наследством, что он имеет тысячи десятин земли в Сууксу, шесть тысяч на Южном побережье Крыма, а его бедная Генриетта – хозяйка дачи Сабли со многими землями. Прочитав письмо генерал тяжело вздохнул, изумляясь актерству русского барина, а потом рассмеялся. Впрочем, Мордвинова вскоре назначили командовать кораблем «Мария Магдалина».
Базиль, наконец, пригласил Андре прибыть в ставку. Эммануил в это время проводил учения своего полка Приморского корпуса под Очаковом, и генерал обрадовал Эммануила: Андре обласкан князем и принят в офицеры штаба. У Рибаса отлегло от сердца за его судьбу: он хотел, чтобы Андре осмотрелся в незнакомой стране. Базилю генерал писал: «Прошу вас, добрый генерал, доложите Князю то невыразимое удовольствие, которое я испытал, узнав о милостивом обращении, коим он удостоил брата моего Андрея… Уверьте его светлость, что если б я имел счастье оказать ему величайшие услуги, то и тогда считал бы себя у него в долгу. Пусть он располагает мной и днем, и ночью, на море и на суше».
Приказа о выступлении гребного флота не было ни в июле, ни в августе, когда под Хаджибеем пушечной дуэлью корабли Федора Ушакова сожгли восьмидесяти-пушечный турецкий корабль «Капитания», на котором османский флот держал свою казну. Другое судно Ушаков потопил, и еще одно с командой взял в плен. Османский флот ночью бежал из-под Хаджибея.
Тем временем состоялся Рейхенбахский съезд и австрийский принц Кобург подписал с турками перемирие на девять месяцев. Марк Портарий оказался прав: Россия лишилась единственного союзника. Теперь турки могли массой освободившихся войск раздавить корпус Суворова, и Потемкин отвел его к Галацу. Пруссия и Польша так и не объявили России войну. За поддержку Польши Пруссия выторговывала Данциг и Торн, а Шляхта не соглашалась. Марк Портарий оказался прав И когда говорил, что из переговоров о мире ничего не выйдет, кроме беды: внезапно умер Гассан-паша Измаильский. Дипломаты считали, что его отравили.
В сентябре заштормило, и только в начале октября Рибас вывел гребной флот, имея целью устье Дуная, чтобы способствовать там взятию Килии. Но когда Головатый привел сорок восемь лодок и двенадцать лансонов по Килийскому гирлу под крепость, Килия уже сдалась. Бригантины, галеоты, дубль-шлюпки Рибас поставил на якоря у Сулинского гирла и решал задачу: как уничтожить батареи турок на обеих берегах и войти в Дунай.
Рекогносцировка обнаружила двадцать три турецких судна, закрывающих вход в Дунай по Сулинскому гирлу, и Рибас, послав депешу Гудовичу в Килию, принялся кропотливо составлять план действий, затем вызвал офицеров и к их досаде битый час дотошно, как будто перед ними Карфаген, а не две батареи, объяснял план. Десант на берег поручалось высаживать подполковнику Эммануилу де Рибасу.
Неприятности начались сразу, когда шесть лансонов, две одинарные шлюпки и двухмачтовик «Ипограф» подошли к береговым камышам. С палубы бригантины Рибас наблюдал в зрительную трубку, как гренадеры Эммануила прыгают в воду и бурун течения окатывает их с ног до головы. Многие попали на глубокие места. Добирались к берегу вплавь. До четырехсот гренадер, не умевших плавать, вернулись на лансонах. А по десанту Эммануила батарея ударила картечью.
Все было кончено, и ни звука не раздавалось с берега! Неужели весь десант Эммануила пал под огнем? Головатый так и не показался в тылу турецких судов. В полночь на турецкой батарее левого берега грохнул залп и все смолкло. Под утро ружейная пальба неожиданно послышалась с правого берега. И снова тишина.
Течение и ветер были такой силы, что несколько судов сорвало с якорей. Подойти к берегу – невозможно, ожидание – нестерпимо. Офицеры не смотрели в глаза Рибасу. К полудню десяток турецких лодок понеслось по ветру к судам Рибаса. Это могли быть брандеры, и флот приготовился открыть огонь. Но генерал вовремя отменил приготовления – на одной из лодок в зрительную трубку он увидел Эммануила.
– После высадки залегли до полуночи. Взяли батарею в штыки. Ночью переправились на тот берег, утром заняли батарею и там. – Таков был доклад брата прежде чем он выпил водки и заснул.
Турецкая флотилия ушла к Тульче. Как только стих ветер, не мешкая, Рибас ввел суда в Дунай. Капитан Ахматов взорвал под Тульчей два судна и взял крепость. Турецкая флотилия бечевой поднялась к Исакче. Эта крепость снабжала запасами всю Дунайскую турецкую армию. Эммануил сжег под Исакчей двадцать два судна, высадил десант… К вечеру генерал Рибас читал ведомость трофеям, как некую поэму:
«В крепости взято 8 флагов, один серакирский, 33 медных пушки, мортира, триста бочек пороха, десять тысяч гранат, тысяча ракет, двадцать тысяч ружейных пуль, четыреста пудов свинца, медные казаны, кастрюли, чюмички, сети, тысяча пудов веревки, смола, сера, судовые краски, кувшины, чашки, железные решетки, цели, кирки, пилы, гвозди, топоры, бурава, иглы парусиновые, кожаные ведра, войлоки, хомуты, мешки, полотно, лафеты, съестные и питейные припасы, вина ренскового много чрезвычайно, пшеница, масло, ячмень, разной бокали довольно…»
Путь к Измаилу был открыт.
Генерал отлично помнил херсонские рассказы инженера де Волана об Измаиле, и рисунок крепости сейчас пришелся как нельзя кстати. С суши ее защищал вал и ров, длиной в двенадцать верст. Сюда подходили войска Павла Потемкина и Гудовича. А со стороны Дуная… Вечером вместе с Эммануилом он обследовал оконечность сулинского острова – мыс Чатала. Болотистая местность с мелколесьем – плохой бивак для войск, но за камышами, на той стороне Дуная зажигал редкие свои огни Измаил.
– Считается, что со стороны Дуная у крепости слабое место, – сказал генерал. – Но это только считается. По берегу стоят батареи. А от стен крепости выступает редут Табия. В нем трехъярусная пушечная оборона.
Крепость, которую тщательно готовил к осаде французский инженер Де Лафит Клове, с острова была видна, как на ладони. В сумерки солдаты начали переправлять на мыс Чатала пушки и заряды, укрывали их камышами. Пять батальонов гренадер и егерей маскировались на мысу. Лодки Головатого стояли справа от крепости, слева за мысом бросили якоря остальные суда.
Утром восемнадцатого января камыш, деревья, падубы, мачты побелели от измороси. Эммануил разбудил брата:
– Что-то затевается на турецкой стороне.
В зрительную трубку Рибас увидел конницу, мчащуюся к мелкой речке Репиде.
– Они нас выманивают, – сказал генерал, на всякий случай отправил Эммануила с гренадерами и они отогнали конницу к Измаилу. Вдруг с турецких лансонов под крепостью началась пальба. Через получас несколько лансонов направились к мысу, но их отогнали, взорвав один. Вечером в кают-кампании за ужином, заметив молчаливость генерала, офицеры один за другим высказались за высадку десанта под крепость. Рибас отвечал, что никогда не решится на такое безрассудство и отправился спать.
Но утром он вывел часть флота в Дунай и открыл огонь по крепости. Сделано это было не для того, чтобы остудить горячие головы офицеров, а чтобы отвлечь турецкие редуты от строительства батарей на мысе Чатала. И двадцатого в пять утра ему доложили, что три батареи на мысе строительством закончены. Теперь можно было попытать счастья и на Измаильском берегу.
Все произошло молниеносно. В темноте брандеры и лодки шквальным огнем загнали команды турецких судов в крепость. С рассветом ударили пушки с мыса и судов. Редут Табия был подавлен и десант Эммануила занял его. Головатый на левом фланге сжег четыре лансона и семнадцать перевозочных судов, но на его десант пошла такая масса пехоты, что он ушел на лодках к мысу Чатала. Силы были явно неравны, а на сухопутье никто не поддержал Рибасову вылазку. Гренадеры оставили редут Табия, попрыгали в лодки и отплыли к флотилии.
После двадцатого по конец ноября никаких горячих дел под крепостью не произошло. Многочасовые дожди сменялись заморозками. С мыса Чатала увели полуроту больных. От генерала-поручика Павла Потемкина прибыл курьер с приглашением на Военный совет, и к вечеру Рибас пожаловал в его лагерь. Впрочем, скопище грязных, голодных, вконец изможденных людей трудно было назвать военным лагерем.
В палатке, еде собирался Военный совет, генерал-майор Кутузов рассматривал схему укреплений крепости. Генерал Самойлов писал за столом. Платов прохаживался. Илья Безбородко чистил трубку. Мекноб пил чай. Гудович лежал на походной постели, завернувшись в меха. Его трясло в лихорадке.
– Начнем, господа, – начал Павел Потемкин. – Перед нами крепость не чета Очакову. Янычар в ней больше тридцати тысяч. Комендант Мехнет человек решительный. Не приходится и говорить, чтобы он думал о капитуляции. Нам решать: готовить штурм или нет.
– У меня восемьсот человек больных, – тяжело вздохнул Мекноб. – Триста умерло в три дня. Забыли, когда горячую пищу принимали. Силы на исходе – какой уж тут штурм.
– Если бы не дожди, подвозы улучшились бы, – сказал Кутузов.
– Если бы! – подал голос Гудович. – А я завтра еще сотни не досчитаюсь.
– Павел Сергеевич, – обратился. Рибас к Потемкину. – Я уж давно не имею связи с главной квартирой. Что светлейший?
– Велел нам решать.
– Пока фашины и лестницы приготовим, – сказал Кутузов, – на это уйдет недели две.
– И белые мухи полетят, – воскликнул Гудович. – Армия к зиме не готова. Солдат спать ложится насквозь мокрый, а встает весь в сосульках.
– И у турок болезни, – сказал Рибас. – И у них морозы и дожди. И они мрут и голодают, после того, как мы лишили их припасов в Исакче. Сейчас из-под крепости уйти – на следующий год все снова начинать. А при отходе на винтер-квартиры мы потеряем солдат не меньше, чем при штурме.
– Лучше отступить, чем иметь позор неудачи, – решительно объявил Платов.
– Ты, Осип Михайлович, попробовал, да об редут Табия зубы обломал, – махнул с досады рукой Павел Потемкин. – А в крепости таких редутов и бастионов не счесть. Всех наших зубов не хватит.
Головатый отмалчивался. Генерал-лейтенант Самойлов предложил обо всем донести Потемкину, ни на что не решаясь. Рибас остался при своем мнении: идти на штурм. Но Павел Потемкин и Самойлов сразу после совета распорядились об отводе войск и орудий. Рибас отправился спать в палатку Кутузова.
Утром он получил письмо Суворова: «Да, от устья Дуная на обоих его берегах Ваша флотилия сделала слишком много, если не сказать все, и кончает бездействием и беззаботной нерешительностью, каковую терпеть нет мочи – из-за слишком хитрых континенталов, коим неведомы основы нашего искусства, а особливо же прекрасное целое, из корней его вырастающее. Герой и брат мой! Это изнеженные франки заставили потерять Вас всю Вашу славу. Но мужайтесь. Я в Вашем распоряжении».
Далее граф излагал планы совместных действий на Балканах. Рибас тотчас ответил, что он за штурм. И Суворов, вряд ли успевший получить ответ, на следующий день прислал письмо, в котором о покорении Измаила говорил, как о само собой разумеющемся деле и даже составлял планы похода на Варну с Рибасом. Но под самим Измаилом никто еще не знал, что спустя час, как Суворов отправил курьера к Рибасу, граф получил повеление Потемкина принять под свое командование измаильское воинство, тут же прыгнул на коня и с малочисленным конвоем поскакал к новому месту назначения, по пути останавливая и возвращая к Дунайской крепости орудия и войска. Правда, Потемкин писал ему: «Если вы не совершенно уверены в успехе, то лучше бы не отваживались на приступ» и сообщал о командирах под Измаилом: «Много там равночинных генералов и из того выходит всегда некоторый род сейма нерешительного. Рибас будет вам во всем на пользу и по предприимчивости и усердию. Будешь доволен и Кутузовым; огляди все и распоряди, помоляся Богу предпринимайте».
До прибытия Суворова из-под Измаила отозвали Гудовича – Потемкин направил его на Кавказ с приказом взять Анапу. А в лагере под Измаилом Суворов обнял Рибаса и первыми его словами были:
– Лестницы, фашины, с богом – штурм.
В лагере устроили вал и бастион, на которых солдаты обучались брать крепость днем и ночью. Рибас не ожидал встретить молдаванина Марка Портария, но тот с удовольствием пожал его руку возле палатки Суворова.
– Все время вспоминал о вас, – улыбался Рибас. – В Яссах мы долго с вами не говорили, но вы во всем оказались правы. Какими судьбами здесь?
– Александру Васильевичу в помощь, – ответил Портарий.
Седьмого декабря серебряные трубы запели под стенами крепости, и парламентер Марк Портарий, отлично знавший турецкий, объявил выехавшим навстречу турецким парламентерам:
– Послание генерал-аншефа Суворова графа Рымникского господину сераскиру Мехмет-паше! – и вручил ультиматум, требовавший безусловной сдачи.
Мехмет-паша ответил скоро и просил десять дней, чтобы оповестить султана. Суворов на это согласия не дал и приказал постоянно подавать сигналы ракетами, чтобы держать крепостной гарнизон в напряжении.
После Военного совета Рибас мельком виделся с де Воланом, который строил батареи, а принц де Линь привел к генералу двух молодых офицеров и представил их:
– Граф Александр Ланжерон! Герцог Эммануил Ришелье!
Граф поклонился, герцог укоризненно взглянул на де Линя и сказал по-французски:
– Ну, зачем? Я же просил.
– У герцога Эммануила есть один порок – скромность, – объявил де Линь. – Он не любит, когда мы называем его тем титулом, который он наследует.
– Герцог Ришелье? – переспросил генерал. – Ваш дед, кажется, был маршалом Франции?
– При Людовике XV, – ответиль де Линь. – А Кардинал Ришелье – его далекий родственник.
Будущий герцог Ришелье кого-то напоминал Рибасу, но вспомнить он никак не мог, а де Линь объяснил цель знакомства:
– Граф Суворов прикомандировал нас к вашему воинству, генерал.
– Очень рад, – ответил Рибас и предложил: – По бокалу пунша, господа?
Прибывшие охотно согласились, вошли в палатку, а за пуншем рассказали о себе.
Разными, но не случайными путями оказались французские офицеры под Измаилом. Граф Лонжерон до этого десять лет служил во французской армии, воевал на американском континенте за французские колонии, после Версальского договора был награжден орденом Цинцината и служил полковником, когда произошла революция.
– Я – дворянин, граф, и на меня смотрели только как на объект для виселицы, – говорил он. – Полк мой разлагался, как труп. Я понял, что я не нужен Франции. В Петербурге мне предложили вступить в Сибирский полк и ехать на Дунай. Однако не мог же я упустить возможность в войне со шведами получить орден Георгия? Поэтому пришлось в Балтийских водах командовать дивизионом гребных судов и при Бьорк-Зунде пощекотать усы герцога Зюдермландского. Правда, под Роченсальме, где шведы сбили спесь с Нассау, я чуть было не отправился в объятия Нептуна.
– Вместо этого Ланжерон прискакал ко мне в Вену, – сказал де Линь. – И мы весте с дюком Ришелье поскакали к вам, генерал.
Рибас вновь присмотрелся к черноволосому и черноглазому статному дюку Ришелье и спросил:
– Где я мог вас видеть? Вы были в Париже в восемьдесят третьем?
– Нет, я тогда путешествовал. В Париже я был в восемьдесят четвертом в Драгунском полку королевы, подпоручиком.
– Вы женаты?
– Да, – Ришелье неожиданно смутился. – Но это произошло очень рано. Мне не было и шестнадцати.
– Его женили на такой красавице, что он с тех пор ее не видел, – сказал де Линь.
– Принц! – воскликнул Ришелье и опустил глаза-маслины.
– Вас не было в Вене в восемьдесят втором? – спросил Рибас.
– Император Иосиф познакомил меня в том году с принцем де Линем.
И тут генерал вспомнил:
– Мой бог, я обедал с вами у Кауница! Но у вас тогда был другой титул.
– Да. Мой титул был граф Шинон.
– Конечно же! – Рибас повернулся к де Линю. – Разве вы не помните тот обед?
– Генерал, – ответил де Линь, – обедов у меня было значительно больше, чем у герцога титулов.
Генерал остался доволен тем, что вспомнил ту, первую встречу в Вене, когда он ездил по Европе по следам наследника Павла. А дюк рассказывал, что после событий в Париже он уехал в бездействовавший полк Эстергази близ Седана, оттуда написал Екатерине II о зачислении в российскую службу, но, не дождавшись ответа, отправился в Вену.
– Господа, – сказал Рибас, – мы здесь почти ничего не знаем, что происходит во Франции?
– Двумя словами не ответишь, – пожал плечами Ланжерон. – Но я попробую. На политическую арену выступила новая сила – Третье сословие. И все дело в том, что у короля нет золота, а у третьего сословия оно есть, чтобы рассчитаться с национальными долгами. Это сословие и взялось командовать. Но так как своего золота ему жаль, оно стало грабить аристократов и духовенство! Наше имущество продается с молотка. Народ… раньше платил оброк нам, а теперь – налоги третьему сословию. Нас они разорили, народ обманули. Но это не продлится долго, король собирает силы.
– Простите, – сказал Рибас, – не сомневаюсь, что вы за короля. Тогда, почему же вы здесь?
Дюк Ришелье впервые прямо и внимательно посмотрел на генерала. Ланжерон развел руками:
– Будем считать, что это всего лишь эпизод из нашей жизни.
– Впрочем, мне опытные офицеры нужны, – сказал генерал. – Но я вас предупреждаю: легкого приключения не получится. Дело будет кровавым.
В палатку вошел флигель-адъютант Екатерины Валериан Зубов – брат теперешнего фаворита императрицы.
– Господа, был новый парламентер от турок. Опять просил отсрочки. Суворов ответил ему: «Поздно».
– И нам пора к флоту, – кивнул Рибас. – Собирайтесь. Вечером отправимся.
Головатый дал генералу лодку, и французские офицеры, де Линь и Зубов, изъявившие желание наступать со стороны Дуная, в темноте проскользнули по реке к мысу Чатала, ступили на палубу бригантины, где в каюте их ждал ужин, грог, трубки и несколько нераспечатанных колод лейпцигских карт. Отужинав, Рибас играть не остался – предстоял трудный день.
Десятого с восходом низкого мутного солнца началась пальба из всех осадных орудий с суши и из пятисот шестидесяти семи орудий всех калибров гребного флота. Канонада продолжалась весь день. Крепость отвечала. Стоявшая рядом с флагманом бригантина «Константин» взлетела обломками в небо – погибли капитаны Нелидов и Скоробогатов и шестьдесят нижних чинов. Восторженное настроение вмиг слетело с европейских офицеров.
В три пополуночи с первой ракетой обстрел был прекращен, и генерал вывел все свои суда за мыс и поставил их под крепостью параллельно берегу в две линии. В первой в ста казацких лодках приготовился десант. Во второй стояли лансоны, плавучие батареи, средние суда. На легком кирлангиче Рибас объехал свой флот.
Вторую ракету в получасе шестого генерал оставил без внимания – это был сигнал для сухопутных колонн начать движение, а флотилии еще не пришла пора – берег рядом. Суда начали движение в шесть и в получасе седьмого, когда в крепости загрохотали пушки, начали высаживать десант. И сразу же в лоб десанту ударили турецкие береговые батареи. В свете от загоревшихся лодок генерал с кирлангича увидел де Линя и дюка Ришелье, бегущих со шпагами и пистолетами в руках вместе с ротой гренадер. Картечь флота пронеслась над их головами, выбивая турецкие орудийные расчеты. Справа раздалось громогласное «А-а-а!» – там высаживапольский полк и кричал на замешкавшихся.
Десант генерала Арсеньева, как и было условлено, на берегу разделился на четыре части. Арсеньев с перевязанным после недавней болезни горлом, вел колонну на батареи. Над крепостью встал хор визгливых, отчаянных, смертных криков, а пушечная пальба расстреливала этот хор и никак не могла покончить с ним – в шестьдесят тысяч глоток вопил этот невиданный орган кровавой битвы.
Кирлангич ткнулся носом в топкий берег, Рибас и дежурные офицеры обнажили шпаги, побежали к батареям, откуда из ложемента выскочил граф Ланжерон – вал турецкой пехоты рухнул на штыки гренадер, накрыл их, заметался, расползался… Руку нельзя было вытянуть, чтобы не наткнуться на янычара, шпаги стали неудобны…
– Тут тесно, как на парижском балу! – кричал Ланжерон, а Рибас выстрелами из пистолетов обеспечил себе пространство для шпаги. Споткнувшись и оказавшись на земле, схватил ятаган, поднялся, вооружившись им. Турецкая пехота не смогла отбить свои батареи, откатилась в брешь стены куда по развалинам, отпихивая трупы, карабкались гренадеры.
Граф Ланжерон сидел на земле возле турецкого единорога и тряс головой.
– Что?! – закричал ему в лицо Рибас. Граф не ответил. Кровь хлынула изо рта. Генерал схватил за фалду зеленого кафтана бегущего мимо пехотинца, без слов указал ему на Ланжерона, и солдат, приставив ружье к стволу единорога, подхватил графа на руки и побежал назад, к берегу.
Когда рассвело? Который час? Что происходит со стороны суши, где бьются колонны Суворова? Как сумели взять редут Табия? Там, в амбразурах, мелькали бритые головы казаков. На стене генерал увидел брага. О, господи, Эммануил был без руки! Да за что же кара! Но присмотревшись, Рибас с облегчением понял: Эммануил потерял свою деревянную руку – щепки ее торчали из-под обшлага мундира!
Придерживая кончик шпаги левой рукой, де Линь спрыгнул с бруствера перед генералом.
– Кавальер взят!
– Где дюк Ришелье?
– По ту сторону стены.
– Что в редуте?
– В каземате заперлись!
– Толмача!
Дежурный офицер привел переводчика, известного еще по Хаджибею, и тот затараторил под дверью каземата так, что через минуту железные двери заскрипели и распахнулись – вышло до трехсот турок. Один из них протянул генералу ворох знамен, сказал по-французски:
– Я трехбунчужный паша Мухафиз, припадаю к вашим стопам. Сегодня мы проиграли. Вот – наши знамена. В соседних домах заперлось много моих солдат. Обещайте им жизнь – я с ними переговорю.
– Обещаю, – сказал Рибас.
Перешагивая, а где было невозможно, наступая на убитых, лежавших вокруг вповалку, генерал через брешь вошел в крепость, на противоположной стороне которой еще шел бой – это было ясно по доносящимся животным крикам тех, кто убивал, и тех, кого убивали. С ротой гренадер Рибас направился за Мухафиз-пашой, которого вел Эммануил. Возле комендантского дома увидели подлекаря и цырюльника, несущих на носилках дюка Ришелье. В лице его не было ни кровинки, а смоль волос слиплась в глине.
– Куда? – спросил, наклонившись над ним, Рибас.
– Нога, – прошептал офицер.
– Не обижайтесь, – сказал Рибас, – но на первом балу я запишусь на менуэт у первой красавицы раньше вас!
Дюк слабо улыбнулся и его унесли.
Под дверьми комендантских домов Мухафиз-паша Что-то гортанно кричал янычарам, Рибас смотрел на переводчика-толмача, тот кивал: Мухафиз говорил то, что требовалось, и из домов долгий получас выходили сотни испуганных, обреченных, затравленно озирающихся людей. Одни подобострастно складывали знамена в бочку, стоящую под желобом, другие кланялись, третьи выли и получали тумаки от своих же товарищей.
Вдруг в гуще толпы разорвалось ядро, упало несколько турок, а следом Эммануил, только что вышедший из комендантского дома. К нему бросились гренадеры и лекарь, турки истошно закричали, ожидая, что их сейчас же начнут убивать.
– Ведите! Ведите их к берегу! – крикнул генерал дежурным офицерам и подбежал к брату. По его расстегнутому мундиру была разбрызгана кровь.
– Без сознания, – сказал лекарь.
– Несите к судам!
К часу пополудни все было кончено. Сухопутные колонны с жесточайшими боями овладев всеми редутами, стенами, домами, соединились с дунайским десантом. Командовавшего осажденными сераскира Мехмет-паши не оказалось среди пленных.
– Ищите, – приказал Суворов.
Мехмет-пашу обнаружили в доме у Хотинских ворот. Он был заколот штыком, когда фанагорийцы принимали сдавшихся янычар, но один из них перерезал горло офицеру-фанагорийцу, и тогда солдаты пустили в ход штыки, переколов несколько сотен пленных, а вместе с ними и Мехмет-пашу.
К вечеру пленных вывели из крепости. Вместе с ними вышло более четырех тысяч русских христиан, около полутора тысяч армян и больше сотни евреев. Жители семьями спешили покинуть свои жилища, предполагая, что крепость взорвут. Из четырехсот взятых знамен Рибас представил Суворову сто тридцать, и возле дома сераскира Суворов объявил генералам:
– А теперь, господа, уйдем в лагерь. Я отдаю город на три дня солдатам.
Рибас переправился на бригантину, где после контузии уже пришел в себя граф Ланжерон, а дюка Ришелье мучили частые обмороки, но ранение ноги не было опасным для жизни. Генерал вошел в каюту брата, доктор Игельшторм сказал, что он спит, осколки ядра не задели кости, что все более или менее благополучно.
Позже к флоту прибыл Суворов и его криками приветствовали войска. На палубу бригантины вместе с ним поднялись де Линь, Валериан Зубов и генералитет. Из крепости доносились пьяные крики, редкие выстрелы, пение и карканье воронья.
Откупорили бургундское. Суворов зачитал депешу Потемкину:
– Стены измаильские и народ пали пред стопами престола Ея Императорского Величества. Штурм был продолжителен и многокровопролитен. Измаил взят, слава Богу! Победа наша… – И добавил: – Всех, господа, имею честь поздравить.
7. Невосполнимые потери и беспокойный мир 1791
Взятием Измаила закрылась кампания 1790 года. Под гром трофейных пушек благодарственный молебн отслужил в крепости священник Полоцкого пехотного полка отец Трофим Куцинский, который во время штурма, когда полковой командир был убит, повел солдат с крестом на неверных, за что его наградили золотым крестом на бриллиантовой ленте и возвели в сан протоирея.
Эммануил поправлялся. Принц де Линь увез дюка Ришелье в Яссы, откуда шел слух о размолвке Потемкина с Суворовым. Говорили, что князь встретил генерала-аншефа словами:
– Не знаю, чем и наградить вас!
– Я не торговаться сюда приехал! – крикнул в ответ Суворов.
Может быть, поэтому он через неделю снялся с полками в Галац. Эммануил, поправлявшийся и произведенный в полковники, последовал за генерал-аншефом. Кутузов остался при Измаиле комендантом. Бригадир Рибопьер был убит. Мекноб ранен. Илья Безбородко ранен весьма тяжело, и его заменил при штурме герой Хаджибея полковник Хвостов. Русские потеряли под Измаилом около двух тысяч убитыми, более трех тысяч было ранено. Кутузов писал жене: «Век не увижу такого дела. Волосы дыбом становятся… Кого в лагере не спрошу, либо умер, либо умирает. Сердце у меня облилось кровью и залился я слезами…»
Нижние чины взяли богатейшие трофеи, щеголяли по крепости в драгоценных уборах, набили ранцы серебром и золотом. За чарку вина солдаты насыпали маркитантам чарку жемчуга. Пленных отправили на работы в Николаевский порт. Выяснилось, что число защитников Измаила, получавших по списку довольствие, было сорок две тысячи. Больше половины из них легло убитыми, трупы закапывали в крепостном рву.
Гребной флот Рибаса, лодки Чепиги и Головатого зимовали под Измаилом. Граф Ланжерон, теперь полковник, получив известие, что в Париже готовится конституция, сказал Рибасу:
– Мой дунайский эпизод продолжается. Я остаюсь при армии.
Когда же стало известно, что он, Рибас и дюк Ришелье получат за Измаил золотые шпаги с бриллиантами и надписями «За храбрость», Ланжерон и Рибас поскакали в Яссы.
Гостеприимный Марк Портарий был рад их приезду, устроил в прежних покоях, велел служанке собирать на стол, на вопрос о Катрин сказал:
– Уехала. Сразу, как в Измаиле побывала, вернулась сама не своя и уехала.
– Она ездила в Измаил? – удивился Рибас.
– Хоронить бригадира Рибопьера.
«Выходит, взбалмошная искательница приключений полюбила адъютанта князя?» – подумал Рибас, а Марк Иванович сказал:
– Собралась и отправилась в монастырь.
– Как?
– Под Кишинев.
– Постриглась?
– Этого не знаю.
Катрин и монастырь? Воистину, волю божью, чьи начертания неисповедимы в человеке, не угадать никогда.
Потемкин был в Бендерах. Рибас отправился в его канцелярию и застал Базиля Попова больным и в сборах. Он с трудом дышал, отдавая приказания.
– Удушья замучили, Осип Михайлович. Уезжаю следом за князем в Петербург.
Рибас узнал, что размолвка с Суворовым привела к тому, что Потемкин оставил свою армию не на Суворова, а на князя Репнина.
– Поздравляю вас, – Базиль обнял Рибаса.
– Значит, известия о золотых шпагах мне, Ланжерону и Ришелье верны?
– Вам еще и орден Святого Георгия второй степени!
В декабре императрица писала Потемкину: «Со всеми, от Бога данными успехами, тебя поздравляю; флаги мною отосланы к церемонии в крепость; для генерал-майора Рибаса на первый случай посылаю крест второй степени Святого Георгия, который он завоевал по справедливости, а потом оставляю тебе его и далее награждать по усмотрению».
Возбужденный и обрадованный генерал получил почту и здесь же в канцелярии у окна вскрывал ее. Суворов из Галаца писал: «Ваше превосходительство! Эммануэль и я целуем Ваши руки, но скоро ли Вас обнимем? Серет замерз, стало спокойнее… Наш друг Кутузов не знает равных в трудолюбии и неустанно печется о порядке… Вы же после своих подвигов поразмыслите: не прогуляться ли Вам к Варне и не атаковать ли Вашим друзьям Шумлу…»
Жена Настя чередовала поздравления с известиями о заболевании императрицы подагрой, которую та лечила малагой с перцем. Самодержица считала, что подагра перешла в желудок и внутренности, и без стакана малаги ее мучили адовы боли. Андре оставил записку, что уезжает с князем в Бендеры и ждет дальнейших распоряжений Потемкина о своей судьбе. От Виктора Сулина писем не оказалось.
Вечером Марк Портарий принимал гостей Рибаса. Дюк Ришелье был печален, прихрамывал, отказывался ходить с тростью и, как выразился де Линь, был смертельно ранен молчаливостью.
– Я буду переводить вам молчание измаильского героя, – объявил де Линь. – Сейчас он хочет сказать, что военная карьера после того, что он увидел под Измаилом, кончена навсегда. Его предок кардинал Ришелье аплодирует и благословляет из могилы решение потомка. Но из другой могилы дед-маршал грозит пальцем и взывает к Марсу!
– Оставайтесь, господа! – увещевал отъезжающих граф Ланжерон. – Еще есть много российских наград, достойных ваших шпаг.
– У меня в Париже болен отец, – отвечал Ришелье.
– К тому же ты так давно не видел красавицу-жену, что онемел от предстоящей встречи с ней, – смеялся де Линь.
Ирония принца была зла. Ришелье хмурился. Все знали, что его женили в юные годы по сговору на Розалии Рошешуар, которая оказалась на редкость уродлива и, поговаривали, горбата.
Марк Портарий положил перед генералом исписанные листки.
– Что это?
– Анонимная повесть, – ответил Марк Иванович.
Повесть была написана по-русски, и генерал переводил ее офицерам. Повесть представляла собой памфлет о войнах с Турцией при Минихе, графе Румянцеве и Потемкине. Автор во сие переносился в царство мертвых и встречался с героями турецких войн. Солдат Сергей Двужильный, служивший при Потемкине, горько жаловался: что ни год – привыкай к другим порткам, то к русским, то к турецким, каска стоит семьдесят копеек, а зимой не греет. Красавиц в штабе много, а в армии один шомпол на двоих. Хлеб гнилой, его и крысы не едят. Генерал Гудович всю кампанию толокся сзади, в резерве, а оттуда все в свою зрительную трубку смотрел. Бывало, и в туман, когда ни зги не видно, все в трубку смотрит. Вот какой Гудович молодец!»
Автор памфлета не щадил ни самого Потемкина, ни его генералов. Рибас' был и тем доволен, что его имя в памфлете не упоминалось.
Де Линь и дюк Ришелье уехали в Вену. Андре со штабом Потемкина отправился в Петербург. Уехал Базиль. И Суворов поскакал в столицу империи, где был холодно принят Екатериной – маховик нашептываний работал исправно, и покорителя Измаила отправили к шведской границе строить укрепления.
Гребной флот Рибаса починялся, вооружался, и весной и летом 1791 года было много жарких дел в походах за Дунай, под Мачиным и Браиловым. Рибаса беспокоило крайнее ожесточение Эммануила. Полковник брал знамена, но не брал пленных. Раны его порой давали о себе знать. Он жаловался брату на сердечные боли, тревогу и беспокойство.
Потемкин давал в Петербурге фантастические балы, а под Мачиным на правой стороне Дуная, в ноле, где очистили пятачок от трупов, состоялась церемония – князь Репнин принимал парламентеров турецкого визиря. Четыре условия предварительного прелиминарного перемирия составляли: вознаграждение за убытки, гарантии спокойствия в Молдавии, граница по Днестру и подтверждение всех прежних договоров. Визирь Юсуф-паша их подписал.
Но ревность Потемкина к чужим победам привела к тому, что он вернулся на Дунай и затеял наново канитель переговоров. В Яссах Рибас жил во дворце князя, но к Марку Портарию не преминул заглянуть и был принят радушно. Отведал и пуй ку фасоле – цыпленка с фасолью, и свинину с мамалыгой. За столом присутствовал молдавский боярин Скарлат Стурдза. Он наливал генералу вино, не скрывая тревоги спрашивал:
– Скоро ли замирение с турками будет?
– Пиастры они не хотят платить, – отвечал генерал.
– А что же с Молдавией? Опять мы под турками окажемся?
– Спросите у Марка Ивановича, – кивал генерал на хозяина. – Он всегда все наперед знает.
– В ноги светлейшему упадем, – говорил Скарлат, – и не встанем, пока не умолим его не оставлять нас.
В это время к удивлению генерала в комнату вошел Андре.
– Эммануила привезли, – сказал брат.
– Привезли? Что с ним?
– Очень плох.
С этой секунды тревога и печаль простерли свои тусклые крылья над ясскими днями Рибаса. Эммануила поместили в покоях Марка Портария, он был немощен, страдал ранами, полученными под Измаилом. Рибас пригласил гофлекаря Потемкина Тимана, и тот, осмотрев брата, спросил у него:
– Когда ваша свадьба?
– Свадьба? – удивился больной.
– В России есть поговорка: до свадьбы заживет.
Но выйдя от Эммануила, он взглянул в глаза Рибаса, покачал головой и сказал:
– Я не знаю, когда это случится, но готовьтесь к худшему.
– Но… чем можно помочь?… Что делать?
– У него заражение крови.
Ни орден Александра Невского, ни имение, пожалованное в Могилевской губернии не обрадовали Рибаса. Брат угасал. Все, что было лучшего в Яссах – фрукты, отменную пищу, легкое французское вино – генерал привозил брату. А рок, незримо витающий над земными делами, как всегда рассудил по-своему. В начале октября Потемкин разругался с дипломатами султана, позвал племянницу, велел закладывать карету и объявил:
– Еду в Николаев. Хоть умру в моем Николаеве…
Он уехал, но спустя часа три его карета и конвой вернулись в Яссы. Рибас сбежал с крыльца, спросил у верхового:
– Князь вернулся?
– Покойник вернулся, – ответил тот и спрыгнул с лошади.
Кирасиры потащили из кареты ковер, на котором безвольно перекатывалось мертвое тело Потемкина. Андре не был в поездке с князем, но он пересказал брату услышанное от адъютантов. Потемкин проехал сорок верст, почувствовал себя дурно, покрылся потом, затрясся в лихорадке. Его вынесли из кареты, положили на ковер под раскидистый вяз. Тут он и умер на руках любимой племянницы. Казак из конвоя положил на его веки медные гривны – золотых и серебряных денег не нашлось ни у кого.
Спустя два дня после отпевания тело увезли в Херсон, где похоронили в полу церкви Екатерины Великомученицы, устроив над гробом подъемную дверь. Жизнь в Яссах замерла. Визирь витиеватым восточным посланием почтил память неверного.
Его смерть в то время, когда угасал Эммануил, казалась генералу нелепой. Брата не обрадовало и награждение за мачинские дела Георгием четвертой степени. Он потребовал, чтобы у постели поставили зеркало, и часами неотрывно разглядывал свое изможденное лицо.
– Давиа любила меня, – сказал он брату. – Хотел бы я увидеть ее, но так, чтобы она не видела меня.
На следующий день, зайдя к Эммануилу, Рибас увидел у его постели женскую фигуру в темном кружевном платке. «Бог мой! Давиа?…» Это была Катрин Васильчина. Когда они вышли в соседнюю комнату, Катрин спросила:
– Как ваш сын? Что пишет моя тетушка?
– Здоров. Похож на меня. Вы оставили монастырь?
– Уезжаю в Петербург.
– Не заедете ли вы в Новоселицу?
– О, нет. Сначала в Испанию.
В Яссы из Петербурга приехал Александр Безбородко – приятель по семьдесят четвертому году, а теперь граф – член Государственного Совета. Ему поручили руководить переговорами и обязали заключить мир непременно. Для ведения переговоров императрица назначила генерал-лейтенанта Голицына, генерал-майора Рибаса и статского советника Лошкарева.
– Какие прелиминарные пункты вызывают у Султана наибольшее сопротивление? – спросил Безбородко у своих помощников, по-хозяйски расположившись за столом в кабинете Потемкина.
– Они не хотят отдавать нам Аккерман, – ответил Самойлов.
– Крепость по правой стороне Днестра. А мы устанавливаем границу по левой.
– Статус Молдавии так и остается неясным, – сказал Рибас. – Порта требует возвращения княжества.
– В этом вопросе императрица склоняется к уступкам, – сказал граф.
Рибас не без вызова и твердо ответил:
– Если мы оставим Молдавию, исполнение Греческого проекта, который вы, Александр Андреевич, всемерно поддерживали, будет иметь перспективы далекой отсрочки.
Дипломаты переглянулись: заводчик Греческого проекта отдал богу душу. Но Рибас хотел полной ясности: какова политика теперь? И добавил:
– Жертвы Измаила и молдавских крепостей взывают к тому, чтобы не уступать Молдавию.
– Наши ресурсы истощены, – ответил Безбородко. – Поэтому и уступки вынуждены.
Одним словом, Рибас понял: конечная цель Греческого проекта теперь мало интересовала кабинет Екатерины.
Эхо полковых оркестров раскатилось над Яссами, а войска выстроились в каре не для того, чтобы наступать – прибыли турецкие дипломаты рейс-эффенди Ессид-Абдулаг Бири и Ессаид-Ибрагим-Мугамеду Дурри Эффенди. Переговоры начались получасовыми восточными приветствиями. Решили каждый день обсуждать по одному пункту. Но на некоторые уходили недели. В приватных беседах за ужином с помощью перевода на турецкий Марка Портария Рибас уверял турецких дипломатов, что императрица не намерена уступать Молдавию. Рейс-Эффенди Бири отвечал:
– Мы еще этот пункт не обсуждали. Но нам придется снестись с султаном.
Безбородко вызвал к себе генерала и недовольно спросил:
– Зачем вы это делаете? Молдавский вопрос давно решен.
– Это откровенный блеф, – ответил Рибас. – Начнем с возражений и категорических несогласий. Потихоньку будем уступать. Если туркам объявить сразу: Молдавию уступаем, они, по своему обыкновению, подумают, что русские слабы, и немедленно выдвинут какие-нибудь неисполнимые требования.
Двадцать девятого декабря 1792 года мир был торжественно скреплен подписями. Всем, сдавшимся в плен, объявлялась полная амнистия. Прежние договоры подтверждались. Бендеры, Измаил и Аккерман возвращались Порте. Уступка Валахии и Молдавии обуславливалась несколькими важными пунктами. Турецкой стороне запрещалось требовать от княжества Молдавии уплат по старым счетам. Контрибуция и платежи отменялись. На два года. Молдавия освобождалась от всех повинностей. Желающим переселиться из Молдавии в российские пределы дозволялся свободный выход со всем имуществом, и для этого определялся срок четырнадцать месяцев с начала размена ратификаций.
– Позвольте поздравить вас, – сказал Марк Портарий, пожимая руку Рибасу. Но в глазах Марка Ивановича были слезы.
– Что такое? – спросил генерал.
– Ваш брат умер, – сказал Портарий.
Грянул бал, а генерал отправился на тризну. «Бог мой! Эммануил… Зачем я дал тебе обещание быть со мной в России? Не перед дулом пистолета; не под пыткой я дал тебе это обещание! Но оно свело тебя в могилу. Как мне жить дальше?»
Рибас проклинал роковой шаг в Ливорно, Алехо Орлова, Витторио и все на свете. Но рядом с ним был другой меньший брат – Андре, с которым они бросили горсть земли на кладбище под Яссами.
– Уезжай. Немедленно уезжай, – сказал Рибас Андре. – Я дам тебе денег, а ты уезжай домой.
– Но дома у нас в Неаполе уже нет, – ответил Андре.
– Уезжай отсюда. Хотя бы в Петербург. Я переговорю с Безбородко.
Граф Александр Андреевич Безбородко и его молодой помощник Федор Ростопчин отправлялись в столицу. Граф обещал покровительствовать Андре и выхлопотать отпуск генералу Рибасу. По мирному договору с Портой русские войска обязывались уйти за Днестр, а гребной флот должен был оставить Дунай к пятнадцатому мая.
Проводив брата Рибас простился и с графом Ланжероном. Граф торопился в Петербург, чтобы оттуда отправиться волонтером на Рейн, где собиралось воинство аристократов для похода на Париж.
Яссы жили мелкими событиями. Судачили обо всем на свете. О бегстве французского короля из Парижа, о его поимке в городке Варенне и отстранении от власти, о ясских романах, об итальянском цирке, паяц которого выменял живого медведя на часы. Рибас решил отправиться в Херсон сухим путем. Мордвинов после смерти Потемкина был назначен главой Черноморского адмиралтейского правления. По дороге в Херсон из Николаева Рибас писал Базилю:
«10 апреля. Николаев. Целую вас сто тысяч раз, дорогой и нежный друг, за восемь крестов, которые вы мне прислали (для награждения офицеров), и от всего сердца прощаю, что не писали мне по этому случаю… Какое приятное и любезное письмо только что я получил от графа Безбородко!.. Содержание этого письма произвело во мне совершенный переворот; я во все это время был печален и задумчив, в голове имел только глупости и претензии; теперь я счастлив и доволен, не требую ничего и не имею никакого беспокойства… Г. Мордвинов прибыл сюда 6 числа сего месяца. Вы не можете себе представить, с какой радостью он был принят; все готовы следовать его примеру. Большия и маленькия в один голос за него: купцы предлагают последний грош для надобностей Адмиралтейства, и никакой банкир не пользовался таким кредитом. Но какой хаос он должен разобрать. Мы его задержали два дня; он все видел, все расспросил. Его чичероне Михаил Леонтьевич (Фалеев) был чудесно принят… Профессор Ливанов, которого вы хорошо знаете, находится здесь гораздо в лучшем положении после паралича… Благоволите принять участие в судьбе этого полезного и почтенного гражданина. Смерть Князя лишила его всякой помощи…»
В Николаеве Рибас узнал о печальной участи адмирала Марка Войновича. После ряда неудач он был отставлен от службы и уехал на покой в свое Севастопольское поместье. В Николаеве же генерал-майор встретил поставщика материалов для порта Михаила Фалеева. Тот первым делом спросил:
– Верно ли, что Катрин Васильчина ушла в монастырь?
– Верно. Но она успела и уйти из монастыря.
– Бедный Рибопьер! – воскликнул Фалеев.
– Вы о его смерти?
– Да. Но я имею в виду Катрин. Эта женщина приносит несчастья.
– И в первую очередь она обеспечивает их самой себе, – сказал Рибас.
– Мне эта женщина обошлась в сто тысяч.
– У нее есть собственное состояние.
– Это все ее выдумки, – сказал Фалеев. – Мне она представилась польской княгиней, отец которой испанский гранд, а мать – родственница Бурбонов. Впрочем, признаюсь вам, я много бы дал, чтобы увидеть ее сейчас.
– Торопитесь, – отвечал генерал. – Она собралась за границу и, может быть, к отцу-гранду.
Поняв, что заботы гребного флота задержат его на Юге надолго, Рибас поехал в Новоселицу, чтобы, наконец, повидать сына. Сомнения – его ли это сын – иногда одолевали Рибаса, но было поздно выяснять истину. Он вспоминал Айю – сомнения исчезали: «Я буду заботиться о нем, как о сыне».
Карета остановилась у одноэтажного беленого дома, с крыльца которого, приставив ко лбу руку козырьком, смотрела на генерала тетушка Катрин – Анастасия Ивановна.
– Ах, как мы вас ждали, как ждем, как всегда ждать будем! – воскликнула она. Черноволосый мальчик вышиб оконное стекло и босиком подбежал к отцу.
– Ах, боже, стекло, кровь… ты порезался…
Генерал подхватил его на руки, внес в дом, куда принесли кувшин воды, и отец замывал окровавленные ножки сына.
Мише пять лет! Черноглазый мальчик в первую ночь пробрался в спальню отца и уснул, завернувшись в его генеральский мундир. Мечты Мишеньки осуществились: он ходил к реке на охоту с отцом, смотрел, как стреляют из пистолета, а после выстрела вдруг уснул на руках отца.
Они были неразлучны неделю, но дела звали Рибаса в Херсон. Отпуск, давно обещанный, откладывался.
– Не в тягость ли вам мой сын? – спросил генерал у тетушки Катрин.
– Напротив. Жизни без него не представляю теперь, – отвечала Анастасия Ивановна.
– Я человек военный. Всякое может случиться. Знайте, что Мише я оставил в Киевском банке десять тысяч. На учителей. Гувернеров. Вы можете пользоваться деньгами вот по этим документам.
Он вручил ей необходимые бумаги и простился.
Десятого ноября Суворов был назначен главнокомандующим войсками в Екатеринославской губернии и Тавриде. Ему же было поручено строительство крепостей на Юге. В Херсоне шестидесятидвухлетнего генерала-аншефа встречали музыкой, пушками, рядами войск. Александр Васильевич легко выскочил из коляски, пробежал мимо генералов, поклонился воинству, обрушился на штабных:
– Зачем? Я не султан! Заряды беречь. Солдат не морозить.
Рибаса граф обнял со словами:
– До сего дня жил в сумерках. На Юге воспряну.
Смотр войскам был короток. Но в гошпитальных домах командующий задержался надолго.
– Буклей давно нет, а тут грязь хуже пудры!
Из дома, приготовленного для него, велел вынести всю мебель, зеркала, лег на сенник, проспал на нем до начала бала, на котором изящно танцевал, а перед ужином сел в кресло рядом с Рибасом.
– Дочерей ваших, Осип Михайлович, имел счастье видеть и ласкать в Петербурге. Обе, и Соня и Катя, мою Наташу закружили.
Вот уже тринадцать лет генерал-аншеф жил в полном разрыве с женой. Дочь его закончила Смольный институт и была пожалована в фрейлины двора, что Александр Васильевич воспринял как личную беду.
– Ах, ваши дочки умны и прелестны, – продолжал он. – А уж ваша Настасья Ивановна меня очаровала. Я с ней в переписке. Ее милостями жив.
– Каким же образом? – спросил Рибас.
– Помогла мне вызволить дочь из дворца! Я очень доволен. При дворе далеко ли до беды? Там галломаны ее орехами закидают. Она света не знает, а свет обидеть может. Я теперь спокоен. Дочь ввел в дом Дмитрия Хвостова. Сей подполковник и любезный пиит женат на моей племяннице Аграфене Ивановне.
Дочь Суворова Наташа была для многих завидной партией. Рибас спросил:
– Женихи, верно, вашей Наташе покоя не дают?
– И женихи, и поклонники. Я уж было князю Долгорукову дал согласие. Молод. Хорош. Поручиком у меня был. Да он в родстве с графом Салтыковым. Нет, с ними ничего общего не хочу иметь.
Николай Салтыков, отточив свои педагогические таланты на наследнике Павле, какое-то время воспитывал и его сыновей Александра и Константина, а теперь состоял вице-президентом Военной коллегии. Сын его Дмитрий сватался к Наташе, но Салтыковы вдруг отложили свадьбу на два года. Конечно же, они посчитали, что Суворов, требуя отставки Наташи из фрейлин, оскорбил императрицу и, ожидая ее неудовольствия, Николай Салтыков вкупе с Репниным кабинетно интриговали против Александра Васильевича.
– Теперь у «ас в женихах молодой граф Эльмпт! – тонко рассмеялся генерал-аншеф. – Да вот беда – он лютеранского вероисповедания и на дуэлях горяч.
Молодой Эльмпт был выслан из Петербурга за дуэль. Но о главном не сказал Суворов сидящему рядом с ним Рибасу: клан Зубовых по неизвестным причинам противился браку Наташи и горячего дуэлянта.
После приезда Суворова в Херсон совершилось то, чего давно ждал Рибас: его произвели в контр-адмиралы.
– Это справедливо, – сказал Суворов. – Хотя и жаль. Мординов вам житья не даст. Вы для адмиралтейства здешнего – человек сухопутный.
– Я уж пять лет, как при судах, – ответил Рибас.
– А они ваш гребной флот на хлеб и воду посадят, – пророчествовал генерал-аншеф. – Ждите интриг и препонов.
В начале декабря Рибас получил указ от 23 ноября 1792 года: «Контр-адмиралу де Рибасу о необходимости, ввиду доходящих известий о производимости турками морских вооружений, поставить Черноморский гребной флот в исправность и готовность не только к отражению, но и к успешным действиям во вред врагу».
Контр-адмиралу Рибасу было предписано подчиняться вице-адмиралу Мордвинову, а по войскам, на гребной флот назначенным, генерал-аншефу Суворову. Памятуя о том, что в свое время он оказал поддержку опальному при Потемкине Мордвинову, Рибас рассчитывал на дружеский прием, но Николай Семенович принял его официально, из-за стола не встал, руки не подал, смотрел исподлобья.
– В новом чине контр-адмирала я в вашем подчинении, Николай Семенович, – сказал Рибас.
– Как? В чине контр-адмирала? – удивился Мордвинов. – Это что-то несуразное.
Он показал распоряжение Екатерины, где Рибас по-прежнему именовался генерал-майором.
– Это недоразумение, – сказал Рибас.
– Как знать!
Вскоре рибасов чин был подтвержден, но Мордвинов упрямо продолжал обращаться к нему, как к сухопутному генералу, и глупость эта вызывала лишь раздражение Рибаса.
Тем временем Суворов торопил своих инженеров представить в Петербург планы будущих крепостей на Кубани, по Днестру и в Тавриде. Инженер-подполковник де Волан трудился над укреплением фортов Севастополя. Иван Князев строил Фанагорийскую крепость. В феврале Александр Васильевич вернулся из Тавриды, Рибас распахнул дверцу его кареты – генерал-аншеф сидел в ней с перевязанной рукой.
– Что случилось?
– Ах, помогите-ка…
Рибас отвел Суворова в дом, где тот прилег на шуршащий сенник.
– Турки? Татары? – спрашивал Рибас.
– Карета перевернулась! Слава богу, зубы целы. Что тут? В Петербурге по-прежнему спят? Деньги прислали?
Инженер де Волан отвез в Петербург планы крепостей, где они были высочайше одобрены. Денег требовалось миллионы. Граф не стал дожидаться распоряжений петербургских крючкотворов и заключал договоры с купцами, щедро выдавал им векселя – лишь бы скорее начали дело. Это было опрометчиво, но генерал-аншеф отмахивался от предупреждений Рибаса:
– Петербургские кабинет-варвары должны понимать: штык – чтоб крепости брать, рубль – чтоб строить.
В феврале 1793 года достигло днепровских берегов известие страшное: во Франции казнен король Людовик XVI. Говорили, что гильотина несколько раз ломалась, прежде чем отсечь голову представителю самой старинной династии европейских королей. Говорили, что вместо Людовика казнили кучера-гасконца. Говорили, что Людовик теперь живет в Чикаго и работает стряпчим. Говорили бог весть что.
Несмотря на трагические события не дремали военные дипломаты и агенты Гименея. Первые подписали трактат между Россией и Пруссией о новом разделе Польши. Вторые миропомазали баденскую принцессу Луизу-Марию-Августу, нарекли ее Елизаветой, и она обручилась с Александром Павловичем, сыном наследника. Кольца меняла венценосная бабушка. Растерянность от французских событий сменилась торжествами. Кафтан жениха был из серебряного глазета с бриллантовыми пуговицами.
Всякий раз возвращаясь от флотилии в Херсон, Рибас заставал Суворова все в большей печали: денег не слали, и погашать векселя не торопились в Петербурге.
– Я полевой офицер, а не торговец, – жаловался генерал-аншеф. – Но где денег взять для купцов? Они скоро судом на меня пойдут! Товары дали, а я им ни гроша.
К этому времени турецкие приготовления к войне поутихли, и в Херсон приехали казачьи полковники Головатый и Чепега. Черноморское казачество переводилось на Тамань, а посему за обильным прощальным ужином пили турецкую персиковую, а икра с солью и перцем пахла устрицами.
– А что с кошем на Беревани? – спросил Рибас. – Бросаете?
– Зачем? – хитро сощурился Чепега. – Антон Андреевич его подарил.
– Кому?
– А вице-президенту Салтыкову.
Рибас покачал головой:
– Недругу графа? Александр Васильевич обидится.
Головатый расхохотался:
– Каков от Салтыкова нам профит, таков и подарок. Я все по-петербургски устроил: ведомость велел лисарю Мигрину составить. Сколько там куреней? – спросил он у Мигрина, хлопочущего над бочонком с персиковой.
– Сорок, – ответил Мигрин.
– А бревен при каждом курене сколько?
– По восьми. Да куда они годятся? Сгнили.
– Ничего. У Салтыкова под Очаковом имение. Лес нужен. Я рассудил так: Салтыков нам ведомости на гнилую провизию шлет, а мы ему в ответ свою ведомость на такие же бревна представим.
Играли в карты. Под утро пили квас из терна. Прощались сердечно – позади пять лет боев и жарких дел.
На другой день Рибас рассказал Суворову о «щедром» подарке Головатого Салтыкову. Александр Васильевич хохотал, упал на сенник, а в это время вошел де Волан. Увидев смеющегося генерала, он неторопливо раскурил трубку, спросил:
– Сколько миллионов из Петербурга получили? Суворов вскочил, потемнел лицом.
– Сколько миллионов? Ноль! Такие вы планы крепостей составили, что в них никто в Петербурге разобраться не может!
– Пусть инженерному делу учатся, – невозмутимо отвечал де Волан. – Тогда и разберутся.
– А может план ваш плох?! – вдруг выкрикнул Суворов. – Поэтому денег и не шлют? Я не инженер.
– А если так, – теряя невозмутимость сказал де Волан, – то и не вам судить: плох ли план!
– Плох! – крикнул Суворов. – Потому что не убедил никого!
Далее случилось и вовсе неожиданное: Франц Павлович вынул трубку изо рта, совсем по-русски с размахом грохнул ею об пол и вдруг выскочил в открытое окно.
Суворов и Рибас онемели. Но в следующее мгновение Рибас остался в комнате один – Суворов следом за Францем Павловичем выпрыгнул в окно! Рибас загасил начавшее тлеть от трубки сено, выбежал из дома на крыльцо – де Волан и Суворов мирились под молодой грушей.
Получив письмо от Андре из Петербурга, Рибас узнал, что четвертый их брат Феличе приехал в Российскую столицу. Настя отлично его приняла, поселила у себя и они вместе решали: как устроить судьбу Феличе? В конце концов Феличе приняли в армию волонтером и он уехал с Андре в Польшу, где братья начали службу в полку в Брацлаве. «Андре уже не новичок в российской службе, – думал Рибас, – а поэтому за Феликса можно в какой-то мере быть спокойным».
От фаворита, а теперь и генерал-губернатора Новороссийского края Платона Зубова Рибас получил милостивое послание. Зубов писал: «Уверен, что Вы сможете сообщить сведения наиболее достоверные в деталях о новых завоеваниях на берегу Днестра, посему буду рад видеть вас, как можно скорее. Вы более других можете судить о значении, которое имеют для империи эти местности. Если вы скоро намерены пуститься в путь, то прошу вас проехать по верховьям Днестра, исследовать течение этой реки, есть ли строительный лес, а также материал для топки… Привезите с собой заметки и все чертежи этой местности, которые Вы сочтете нужным для представления императрице. Хорошо бы знать Ваше мнение по поводу того, что следует предпринять в будущем для развития этих мест».
Рибас тотчас отправился на Днестр на бригантине «Благовещенье» в сопровождении лансонов «Ирина» и «Тит». Обследовал берега, делал съемку местности. Удивила пустынность побережья до устья Днестра. Еще год назад Екатерина распорядилась учинить комиссию губернатору Василию Каховскому, и Рибас читал его рапорт: «Хаджибей, назначенный Вашим Императорским Величеством для обитания служивших в Средиземном море по флотилии лежит на возвышенном и приятном месте. Вода в колодцах пресная и хорошая. Из вершин одной долины можно провести фонтан до полувозвышения, на коем полагается быть городу».
План этот не был осуществлен. Оставив лансоны для промера Днестровских глубин, Рибас вернулся в Херсон. Суворов сидел на скамейке в молодом саду перед домом, что-то писал.
– Вернулись? Что на море?
– Посты до Овидиополя исправны. Одно беспокоит: на столько верст по берегу от Очакова до Днестра нет ни одного укрепления. А в Хаджибейской бухте отличное место для причалов и батарей.
– Какие батареи, когда я скоро в долговую тюрьму буду заключен! – воскликнул генерал-аншеф. – Вот, взгляните, что я императрице пишу.
Рибас прочитал: «Милостивейшая Государыня! Ваше Императорское Величество всеподданейше прошу: Высочайше повелеть меня, по здешней тишине, уволить волонтером к немецким и союзным войскам на сию кампанию с оставлением мне нынешнего содержания из Высокомонаршьего милосердия».
Начальник канцелярии Суворова Курис стоял рядом ни жив ни мертв.
– Не слишком ли коротко? – осторожно спросил Рибас.
– А я и Платону написал, – сказал генерал-аншеф. – Паспорт у него на выезд прошу.
Обращение к Зубову дошло до адресата. Фаворит сказал императрице:
– Крепости приказали на Юге строить. А денег графу не шлем. Он с отчаяния просит разжаловать его в волонтеры.
Екатерина вызвала Базиля Попова, служившего при ней секретарем, дала рескрипт об отпуске денежных сумм. На июльском балу Суворов танцевал русскую вприсядку. Свободен!
О предложении Рибаса Александр Васильевич не забыл: прислал на контр-адмиральскую бригантину полковника Ферстера и де Волана.
– На Хаджибейском берегу для ста двадцати пушек место найдется? – спросил Ферстер.
– Любому количеству батарей отличные места имеются, – отвечал Рибас.
– Граф приказал место для крепости поискать.
Де Волан тем временем наблюдал за погрузкой на судне своей канцелярии. Суворов решил вести дело с размахом: инженеры должны были составить планы новой крепости с гарнизоном в две тысячи гренадер, и на другой день бригантина «Благовещенье» вошла в Хаджибейский залив, и начались споры Ферстера с де Воланом: где лучше ставить крепость, где насыпать валы, как устраивать батареи. В конце концов, место определили и де Волан усадил своих помощников за чертежи.
Но через несколько дней сухим путем от Суворова прискакал курьер: денег из Петербурга все не слали, и граф приказал де Волану отправиться в столицу.
В свою очередь Мордвинов предписал Рибасу исследовать глубины Очаковского берега. В рапортах вице-адмиралу Рибас обращался к нему нарочито витиевато, длинно, а сами рапорты были коротки:
«11 августа 1793 года. Карту от залива Святого Николая до устья реки Березани с промерами глубин, сделанную посылаемым от меня мичманом Медведевым, Вашему превосходительству представить честь имею».
– Последствий отправления этой карты Рибас никак не мог предвидеть. Мордвинов прибыл под Очаков на яхте, которую вел Павел Пустошкин, недавно произведенный в контр-адмиралы, взошел на палубу рибасовой бригантины, осмотрел окрестные дали и объявил:
– Здесь, при Очаковской поверженной крепости, будем строить порт и город.
– Лучшего места не найти, – согласился Пустошкин.
Рибас осмелился возражать:
– Мы укрепляем Кинбурн. Зачем же рядом еще одну крепость возводить, строить порт? Александр Васильевич решил ставить крепость на две тысячи гренадер при Хаджибее.
– Это его дело, – отмахнулся Мордвинов.
– Но разве не резон и порт строить под защитой его пушек?
Мордвинов затопал ногами и закричал:
– Я старше вас по чину, генерал-майор! Предписываю слушать и исполнять.
Рибас покачал головой и сказал твердо:
– Ваше начинание лишено смысла.
Мордвинов задохнулся от возмущения, грузно побежал к трапу, на ходу кричал, что напишет обо всем Платону Александровичу.
Так началась новая, имеющая далекие перспективы, распря. Суворов, узнав о намерениях Мордвинова, сказал:
– За строительство крепостей на Юге отвечаю я. Мне места им определять.
Но, видно, разногласия стали известны в Петербурге, и в сентябре Зубов сообщил, что Ее Величество позволить благоволила приехать в Петербург Мордвинову и Рибасу. Суворов напутствовал контр-адмирала. Своему поверенному в Петербурге Дмитрию Хвостову написал: «Осип Михайлович де Рибас – мой истинный друг, и посему ему от вас вера. Будет скоро в Петербурге». Когда Рибас уехал, генерал-аншеф снова напомнил Хвостову: «Ныне у Вас Осип Михайлович, с ним будьте весьма откровенны: он мудрый и мой верный друг».
8. С миллионом в Петербурге 1792 – 1793
Если раньше, проезжая города империи, Рибас не преминул бы остановиться у Каховского в Екатеринославе, завернуть в Киев, по старой памяти навестить родственников Демидова в Москве, а при случае побывать у Алексея Орлова, своего российского крестного, то теперь он никуда не заезжал, не сиживал у губернаторов за ломберами, не флиртовал с провинциальными барышнями. Он ночевал у знакомых полковых командиров, а утром экипаж с тройкой лошадей уносил его прочь.
Причиной столь скорой езды в Петербург не были начавшиеся в сентябре торжества в честь мира с Портой – контр-адмирал мог на них успеть. Он, может быть, впервые, просто торопился домой после столь долгого отсутствия. Впрочем, он не обольщался: каждая поездка в столицу осложняла его жизнь, обеспечивала постоянную толику неприятностей. «Что на этот раз?» – думал он.
О его приезде в доме были уведомлены. В вестибюле ждали слуги. Настя выпорхнула из своих покоев и поразила адмирала своей прической: над смуглым живым лицом с веселыми глазами покоилась высокая копна рыжеватых волос с гнездами драгоценностей в несколько ярусов. Челядь кланялась, припадала к руке. Секретарь Хозиков спускался от Бецкого и уже на лестнице вещал:
– Балтика обнимает адмиралов Черноморья. Все вниз – приветствовать героя.
За дочерьми послали в Смольный. Адмирал развернул штуку атласа, тканного золотом, накинул материю на плечи дочерей:
– Чтоб на балах первыми быть.
Девочки по-английски приседали, держались серьезно. Скромные платья воспитанниц дополнялись модными половинчатыми чулками – спереди желтые, сзади черные.
– Каковы успехи? – поинтересовался отец.
– Софья недавно пела в опере с кадетами. Катя танцевала в балете, – ответила мать.
– На торжество мира я была в свите Богини-победительницы, – похвастала Софья.
– А во время шествия у тебя корона на бок съехала, – сказала Катя.
Условились, что обедать будут у Бецкого, наверху, как в прежние времена, и адмирал остался наедине с женой.
– Как Иван Иванович?
– Ах, увидишь.
– Чем живут в Петербурге?
– Страхом. Повсюду ищут вольтерьянцев и масонов.
– Что же их искать? В Петербурге все дворяне – масоны.
– А теперь все открещиваются! Началось с книги Радищева.
– Я ведь тоже масон, – посмеивался адмирал.
– Ты зря так легко к этому относишься, – она села на софу. – Даже секретарю Екатерины Храповицкому пришлось оправдываться в том, что он был когда-то масоном. У прокурора Самойлова есть списки мартинистов. Но все они отказываются от принадлежности к ложам.
– Понимаю. Списки есть, а вот масонов в Петербурге теперь нет.
– Я уже от тебя устала. Я прилягу.
Она устроилась на подушках. Рибас присел рядом.
– Твоя головка похожа на улей, – сказал он.
– Это и есть пчелиный улей! При дворе состязаются: у кого пчел больше.
– Теперь кусаются не зубками, а прическами? – Он обнял ее.
– Не тормошите меня, адмирал. Вечером бал. Утром я два часа с горничной возводила этот улей. А в Петербурге говорят, что у вас на каждой бригантине по любовнице.
– У меня не так много бригантин.
Настя снова заговорила о петербургских событиях:
– Ах, книги масонов палачи жгли под виселицами на площадях. После твоего последнего отъезда ложи в Петербурге запретили. Масоны укрылись в Москве. Главное, они сочувствуют французской крамоле. Командора Новикова хотели было сослать, а теперь заперли в Шлиссельбурге. На пятнадцать лет. Радищева Сенат приговорил к смерти, но императрица сослала его на десять лет. Масонов преследуют по всей Европе. В Неаполе их ложи разгромлены, а имущество конфисковано.
За пять лет войны адмирал лишь изредка вспоминал о своем масонстве. Абстрактные поиски истины для него давно потеряли смысл. Но теперь любой охотник мог пустить в ход интригу о его принадлежности к масонству. Значит, жди неприятностей.
Насте он подарил браслет с черными малазийскими гранатами, купленный у херсонского ювелира. Бецкий не смог оценить картину, школы Рубенса, которую Рибас приобрел по случаю у поляка-коммерсанта: Иван Иванович ослеп совершенно. Но не его слепота удручала домашних. За обедом он несколько раз спросил: не приехал ли Алеша из корпуса и не пора ли ехать в Зимний, чтобы читать императрице Вольтера. Старик тихо выживал из ума.
Рибас послал адъютанта известить Военную коллегию, Адмиралтейство и канцелярию Зимнего о своем приезде. Базиль Попов не замедлил явиться к концу обеда, и они прошли в кабинет Рибаса, окнами выходящий на Царицын луг. Рибас сетовал на то, что его просто переименовали в контр-адмиралы после Ясс, тогда как Мордвинов получил орден Владимира и власть.
– Я знаю, что вы не ладите, – сказал Базиль. – Но поверьте, я не раз писал ему о вашем добром к нему отношении.
– Теперь отношения иные, – твердо заявил адмирал. – В пику мне и Суворову он затеял немыслимое дело: строить порт при Очакове, рыть там канал и водоем для судов, когда при Хаджибее никаких каналов не нужно и можно сэкономить миллион.
– Приготовьте все бумаги, планы, чертежи. Я прослежу, чтобы императрица узнала о них.
Базиль после смерти Потемкина заведовал комнатными суммами Екатерины, комиссией прошений, а теперь и Колывановскими и Нерчинскими заводами, как начальник императорского кабинета.
– Что мне подарить молодым и императрице? – спросил Рибас.
– Камни.
– Я так и думал. Кстати, я до сих пор не знаю: в прошлом году вы передали от меня императрице головку молодого Ахилла из каирского камня?
– Я вам не писал? Императрица была весьма довольна.
Адмирал показал Базилю столешницу, по краям выложенную шлифованным орнаментом из радонита и нефрита, блистающим розовым и голубым, а в центре серым и черным отливал бастионный агат.
– Прекрасно, – одобрил Попов. – В этой столешнице есть и политический смысл. Армия в войну взяла немало крепостей. Лично вы – четыре. Так что фортификационный агат будет как нельзя кстати.
– Я хотел бы на этой столешнице подать свои планы и чертежи порта и города при Хаджибее.
– Ни в коем случае. Подарками нельзя заботить монархиню. Положите на столешницу табакерку для Александра Павловича и что-нибудь для новобрачной.
– У меня есть кулон с радонитовым пейзажем в серебре.
– Вполне подойдет.
Подношения адмирала перед началом бала в Зимнем приняты были благосклонно. Правда, Екатерина восприняла появление Рибаса как само собой разумевшееся и не сказала ему и двух слов. Адмирал битый час фланировал меж придворными. Узнал, что Кутузов отправлен послом в Константинополь, что Гудович стал Кавказским генерал-губернатором, получил шпагу с лаврами и алмазами и орден Андрея Первозванного. Зубова на балу не было. Уставший с дороги, воистину попавший с корабля на бал, Рибас уехал рано.
Утром пришел Виктор Сулин, друзья обнялись и отправились на прогулку по Петербургу. Город был прежним – болотистым, дождливым и чужим. Богатых усадьб с медными шалашами крыш прибавилось. В Невском монастыре сиял шлем новопостроенного Троицкого собора. По Воскресенскому мосту проезжали из Литейной части редкие экипажи на Выборгскую сторону, где высвечивались на сером небе кресты церквей Честных древ Всемилостивейшего Спаса и Святого Нилы Столбенского.
Возле кондитерской «Болонья» адмирал велел кучеру остановиться и предложил Виктору зайти внутрь.
– Адмирал теперь заезжает к нам раз в пять лет, – развел руками Руджеро. – Сильвана! Лучшего вина!
Дубовый стол у окна был занят двумя господами в низко надвинутых шляпах. В одном Рибас узнал аккуратного человечка – Джачинто Верри, который в свое время пытался продать ему бумаги несчастного фехтовальщика Скрепи. Второй… что-то неуловимо знакомое почудилось адмиралу в облике второго господина, прежде чем тот отвернулся к окну.
Гостей усадили у противоположного окна. «Черт побери, – подумал Рибас, – могут быть неприятности» Сильвана принесла кувшин фалернского, которое пенилось в бокалах и было достойно тоста за молодость в Ливорно. Ударившись в воспоминания, Руджеро тараторил о русских моряках – щедрых клиентах «Тосканского лавра», а Сильвана во все глаза смотрела на адмирала, будто он был минутным явлением из ее тайных грез. Наконец спутник Джачинто Верри повернулся и Рибас узнал его. Бог мой! Постаревшее плохо выбритое лицо, неопрятная" косичка из-под шляпы, серый плащ-епанча простолюдина, никаких бриллиантов в ушах бывшего модника – неужели это Ризелли? Не медля ни секунды, Рибас поднялся из-за стола, обогнул прилавок и подошел к нему.
– Похоже, что вы целую вечность здесь ждете меня, – сказал он Ризелли, игнорируя вставшего навстречу Верри.
– Кажется, мы знакомы, – сказал Верри, а Ризелли подал ему неприметный знак и хриплым тихим голосом сказал:
– Оставьте нас.
Верри отошел к прилавку и заговорил с Сильваной, которая с тревогой наблюдала, как адмирал садится напротив Ризелли.
– В мои планы не входила личная встреча с вами, – произнес Диего и оценивающе взглянул на улыбающегося адмирала, на его кафтан с орденом Владимира и георгиевскими крестами и продолжал: – Вы сумели удачно распорядиться своей жизнью в России. Но сохранением ее вы обязаны мне.
– Что ж, мне остается благодарить вас?
– Не вижу в этом ничего зазорного.
Рибас нарочито смиренно склонил голову и сказал:
– Благодарю вас, что позволили мне жениться по любви. Благодарю за то, что не оставляли меня своим вниманием. Благодарю за неудачное покушение на меня. Благодарю за карьеру моих братьев. За смерть Эммануила благодарю.
– Все в руках божьих, – Ризелли был серьезен, а Рибас все-таки не верил, что господин с усталым изможденным лицом и затравленным взглядом – Ризелли.
– Вот моя догадка о ваших обстоятельствах, – вслух раздумывал адмирал. – Масоны изгнаны из Неаполя, и вы волею обстоятельств оказались в Петербурге, где масонов сажают в крепость.
– Я путешествую, – ответил Ризелли и всмотрелся в лицо визави. – Вы не изменились, только черты лица стали грубее.
– Россия – отнюдь не благословенный Неаполь.
«Странно, но я не испытываю к нему вражды, – подумал Рибас. – Он жалок. Судьба, наконец, сбила с него спесь… Но может быть, это всего лишь блеф?»
– Ну что ж, прощайте, – сказал адмирал, намереваясь подняться, но Ризелли остановил его:
– Всего два слова. Скажите, не изменились ли виды на свадьбу дочери нашего Фердинанда и внука императрицы?
Рибас не знал, что ответить: он слышал об этом впервые! Ризелли по-своему истолковал молчание адмирала.
– Мое любопытство, надеюсь, не задевает вашу щепетильность. Ведь это не военные, а скорее матримониальные дела.
– Бывает, они стоят секретов армии, – ответил Рибас, раздумывая.
– Моя семья бежала в Австрию, – сказал Ризелли. – Мы совершенно без средств. Если русская императрица стоит за этот брак, я мог бы стать посредником, приехать в Неаполь – Фердинанд и королева мечтают выдать свою дочь за петербургского принца, а я своим поредничеством вернул бы их расположение и поместья.
Я говорю откровенно, потому что уверен: и вы всей душой за этот брак.
«Еще бы, – подумал Рибас. – Дружественное сближение Неаполя и России в этом случае было бы полным. При благоприятном исходе и для меня открылись бы совершенно новые возможности. Однако не надо забывать: помощи у меня просит вчерашний недруг».
– Хорошо, – сказал он вслух. – Я выясню некоторые обстоятельства и дам вам знать через хозяина этой лавки.
Собственно, предстояло узнать все с самого начала. Настя заявила, что проект женитьбы сына Павла Константина на неаполитанской принцессе окончательно отвергнут Екатериной. «Окончательно ли»? – спросил себя адмирал и отправился к неаполитанскому посланнику герцогу Серракаприоле.
Герцог радушно принял его в кабинете, обставленном светлой ореховой мебелью, расспрашивал о войне, о планах адмирала. Он был обаятелен по-прежнему, но далеко не так наивен, как восемь лет назад.
– Я сожалею, что не был в Петербурге, когда возникла возможность сватовства принца Константина с дочерью Фердинанда, – сказал Рибас. – Для Неаполя упущена великая возможность.
– Да! – подхватил герцог. – Но момент для сватовства оказался очень неудачным. Хотя наш король и министр Актон сделали, что могли, – постановили не иметь никаких сношений с Францией. А конвент отправил к неаполитанским берегам тулонскую эскадру Латуш-Тревиля. Что оставалось делать под прицелом французских пушек? Пришлось пойти на уступки, чтобы спасти королевство от больших несчастий. Фердинанд заверил Париж, что не вступит ни в какие переговоры, наносящие вред Франции.
– И не пойдет на сватовство.
– Да. Вы не можете себе представить гнев императрицы Екатерины! Какое уж тут сватовство! Меня вызвал вице-канцлер Остерман и выразил крайнее неудовольствие.
– Вместо этого он мог бы предложить Неаполю помощь, – сказал адмирал.
– Именно так я и ответил ему. Но уж было поздно: французские пушки диктовали условия. Но представьте, именно в этот момент два опрометчивых дипломата стали внушать Екатерине, что женитьба принца Константина и младшей дочери Фердинанда весьма желательна.
– Кто же они?
– Маркиз Галло – он теперь посланник в Вене, и граф Андрей Разумовский, российский посланник в Австрии. Разумовский написал Екатерине, что брак будет полезен во всех отношениях. И это в то время, когда в Неаполе распространились французские идеи, создавались якобинские клубы! Конечно же русская императрица возмутилась: о каком браке может идти речь?!
– Но дорогой герцог, – сказал адмирал, – сейчас обстоятельства изменились. Англия объявила Франции войну. Корабли Латуш-Тревиля ушли. Фердинанд заключил союз с Англией. Следовательно, ничто не стоит на пути к этому браку.
– Не знаю, не знаю, – герцог задумался. – Все дело в том, что русская императрица была слишком резка в своем отказе.
– В официальном отказе?
– О, нет. Но молва не знает границ. Говорили, что императрица отозвалась о детях Фердинанда, как о невоспитанных отпрысках.
– Это поправимо.
– Она назвала их уродцами, подверженными падучей болезни.
«Такой отзыв, действительно, кладет конец всему, – подумал адмирал. – Но все-таки надо еще раз попытаться – предприятие стоит того!» А пока он перевел разговор на другую тему:
– Масонские ложи в Неаполе запрещены?
– О, да. Они организовали Патриотическое якобинское общество. Это заговорщики, призывающие к мятежу. Кстати, новый посланник в Неаполе Головкин отозван Екатериной за то, что советовал Фердинанду помиловать бунтовщиков.
– Скажите, а Диего Ризелли, небезызвестный вам, принадлежит к этому обществу?
– Несомненно. Но он был среди умеренных. А теперь между двух огней: якобинцы считают, что он выдал их списки королю, а король ищет его, чтобы арестовать за принадлежность якобинцам.
Теперь присутствие Ризелли в Петербурге стало окончательно ясно адмиралу.
Де Волан жил в доме голландского посланника, и Рибас счел за лучшее пригласить его к себе. По своему обыкновению Франц Павлович не удивился ни приглашению, ни роскоши дома Бецкого, пренебрег предложением посетить зимний сад, дымил трубкой и, казалось, не говорил с адмиралом, а поучительно и надменно выговаривал ему:
– Ваша распря с Мордвиновым ни к чему не приведет. Он вознамерился строить порт возле Очакова? Прекрасно. Но как только он и Пустошкин представят ко двору сметы, их намерения лопнут, как мыльный пузырь. Ведь наш проект выгоднее на миллион рублей Фантазия Мордвинова обречена.
– Он упрям.
– А это его и погубит.
– Но к моим планам и чертежам вы пришлете свои?
– Два раза повторенная просьба становится требованием. Я требований не терплю.
Он прислал бумаги Рибасу и уехал в Херсон.
Неожиданно Рибас получил приглашение на обед от Валериана Зубова – брата фаворита Платона. Валериан пригласил его в дом своей сестры Ольги. Ехать было недалеко – дом стоял на набережной Невы. Двадцатитрехлетний баловень судьбы, чином бригадир, своеобразно отрекомендовал свою сестру:
– Опасайтесь ее, адмирал. Она всегда при оружии. С пистолетами не расстается и во время сна.
Двадцативосьмилетняя красавица Ольга в серебристом платье-полонезе выглядела юной невестой. Она была замужем за действительным статским советником Александром Жеребцовым.
– Валериан мне рассказывал о вас, – сказала она. – Хорошо, что при Измаиле вы были рядом. Потемкин непременно бы послал брата в самое опасное место на верную смерть.
– У редута Табия как раз и было самое опасное место, – возразил Валериан.
– Для тебя самое опасное место в офицерских холостых домах, куда девиц водят, – заявила сестра.
Венгерское вино и гусь под луковым взваром оказались отменны. В середине обеда явился Николай Зубов – старший из братьев. Это был тридцатилетний рослый плечистый генерал, обладающий невероятной физической силой. Он выпил водки и покраснел лицом, как вареный рак. Он ничем не походил на братьев. Валериан по сравнению с ним казался нежным херувимом с девичьим лицом.
Год назад все Зубовы во главе с отцом стали графами. Валериану и Платону императрица позволяла неограниченно пользоваться казенными средствами, и при игре в фараон Валериан иногда ставил по тридцать тысяч на карту. Екатерина говорила о нем: «герой во всей силе этого слова», «любезный мальчик», «резвуша моя». Платон ревновал.
Постепенно выяснилась и причина приглашения Рибаса: его расспрашивали о видах Суворова на брак дочери Натальи.
– Эльмпта генерал-аншеф не считает серьезным претендентом, – говорил Рибас. – С Салтыковыми родниться не хочет.
– Говорят и о князе Трубецком, как о женихе, – сказала Ольга.
– Да, этот премьер-майор приезжал в Херсон. Александру Васильевичу понравился.
– Но он же пьяница как и его должник отец! – воскликнул Валериан.
– А что граф дает за дочерью? – спросила Ольга.
– Точно не знаю, но кажется полторы тысячи душ и деревни.
– Полторы тысячи? – удивилась Ольга. – Разве это приданое?
«Куда они клонят? – думал Рибас. – Может быть, Валериан хочет осчастливить дочь Суворова предложением?» В это трудно было поверить: красавец не только запутался в своих бесчисленных романах, но и пальцем не шевелил, чтобы навести в этом хозяйстве хоть какой-нибудь порядок.
Адмиралу никак не удавалось повернуть разговор на вон дела, и только после обеда он сказал Валериану загадочно:
– На Юге есть возможность сэкономить миллион.
– Платон этим заинтересуется, – рассеянно ответил Валериан, нажал на головку трости и из нее выскочил кинжал. – Каково изобретение?
– Да. Занятно, – отвечал Рибас, стараясь скрыть осаду.
На следующий день, как обещал Суворову, он вместе с женой и дочерьми нанес визит полковнику и пииту Дмитрию Хвостову, у которого жила дочь Суворова. Пиит оказался настолько некрасив, что Настя шепнула мужу: «С таким лицом нельзя стать Овидием». Хвостов перемежал свою речь тяжеловесными стихами и заявил, что редко садится на коня, кроме Пегаса. Наталья Суворова выглядела скромной, бледной и тихой.
– Прочитай-ка нам, душенька, что тебе батюшка написал, – попросил ее пиит.
И дочь продекламировала стихи генерал-аншефа:
Когда любовь твоя велика есть к отцу, Послушай старика, дай руку молодцу. Но, впрочем, никаких не слушай вздоров, Отец твой Александр, граф Рымникский Суворов.– А как ты ему ответила? – спросил Хвостов, и девушка продолжила:
Все в свете пустяки – богатство, честь и слава: Где нет согласия, там смертная отрава. Где ж царствует любовь, там тысячи отрад, И нищий мнит в любви, что он, как Крез, богат.– Браво, – сказал адмирал.
Соня взяла Наташу за руки и закружила по гостиной. Катя неожиданно заплакала:
– Мне так жалко Натали.
– Но почему? – спросила мать.
– Ее выдадут замуж.
– Что же в этом плохого?
– Ее выдадут без любви. – Она горько рыдала.
Не только чувствительность тринадцатилетней Кати поразила отца, но он по-новому взглянул на старшую Соню – ей в этом году. семнадцать, невеста! «Мне кажется, что я еще и не жил, но дочери мои уже выросли!» Для гостей Наташа изящно сыграла «Куранту» Жана Люли, а потом с Катей и Соней весело пела: «Жан стучит к соседу: «Мой дружок Пьеро, дай-ка мне перо».
Адмирал написал Суворову, а через два дня получил приглашение встретиться с Платоном Зубовым на Дворцовой площади после развода караулов. Для обстоятельного разговора – не самое подходящее место, но что поделаешь? Рибас вышел на площадь из кареты – мимо проскакал на английском жеребце Валериан. Платон на белом скакуне с черными бабками красовался неподалеку. Рибас подошел. Под ногами хрустел декабрьский ледок. Платон гарцевал над адмиралом, даже не кивнув на поклон. Рибас отметил: несмотря на то, что фаворит в седле, сразу заметно: он невысок ростом, но ловок, статен, широкоплеч.
– Где ваш миллион, адмирал? – спросил Плато без тени улыбки на приятном высоколобом лице.
– Счастлив вручить его вам, – Рибас протянул приготовленные бумаги и чертежи, но фаворит не пошевелился, чтобы их принять. Это сделал лихой адъютант-гусар: подскакал, склонился из седла, выхватил документы.
– Александр Васильевич одобряет ваши планы? – спросил Платон.
– Вал будущей крепости при Хаджибее на сто двадцать пушек повелением генерал-аншефа закончен.
– На сто двадцать? – переспросил Зубов. – Очень хорошо. Генерал знает, что потребно нам теперь.
Он кивнул, поскакал со свитой ко дворцу. В окне второго этажа Рибас разглядел пятно лица – императрица. Любуется статью своего героя. «Узнала ли она меня? Спросит ли: с кем встретился Платон?» Адмирал неспроста упомянул о пушках – граф Платон был назначен генерал-фельдцехмейстером, начальником всей армейской и крепостной артиллерии.
Встреча с фаворитом на Дворцовой, ее обстоятельства весьма не понравились жене Насте.
– Уверена, что ты в списках масонов. Иначе он принял бы тебя лучше.
В самом деле: в письмах Платон Зубов был куда любезнее с адмиралом. Настя, что-то вспомнив, продолжала:
– Ах, я тебе не говорила! У нас в нижнем этаже был обыск!
– Как? Когда?
– В прошлом году. Это моя оплошность. Разрешила сдать несколько комнат с выходом к Летнему саду под типографию.
– Кому?
– Дмитриевскому. О нем хорошо отзывались. Но в типографии поселился его компаньон Иван Крылов. Престранная личность. Каждый день купался в Лебяжьей канавке. Окна не занавешивал, а по комнатам ходил чуть ли не голый. Гуляющие по Летнему саду жаловались: совестно гулять, когда в окнах у нас голый бегает. Полицмейстер приходил, просил его одеваться.
– Что же он печатал?
– Афиши. Журнал «Зритель». Обыск у него был от Зубова. Но ничего предосудительного не нашли. Все же от дома я ему отказала.
К Рождеству адмирал получил письмо Суворова: «Здравствуйте, с Новым годом. Да наградит Господь Вас с Вашим дорогим семейством. Вчера в письме, отправленном по почте подполковнику Хвостову, горько жаловался Вам, что мне не дали рекрут. Долгоруков на 10000 получил 6000. Игельстром на 6000–4000, а я 000. Разве я нуль? Во что бы то ни стало следует нам поправить дело, коли это возможно… Вы также не можете не понять, что мне составляет помеху в службе моя любезная дочь, искренность и наивность которой вы изволите хвалить; достоинства сии у нее в избытке, а с ними и прелести, которым я хотел бы приискать жениха помоложе меня 64-летнего, если, конечно, сие не воздушное мечтание».
Граф был предельно откровенен с адмиралом. Дочь требовалось как можно скорее выдать замуж. Женихи имелись, но не годились. Александр Васильевич прислал и роспись плачевного состояния черноморского флота. Суда обветшали, новые не строились. Рибас отослал роспись в Адмиралтейство.
Шестого января в пятницу чету Рибасов пригласили в Зимний. Парадные залы перед покоями императрицы к десяти утра заполнились толпами придворных, петербургской знатью, дипломатами и послами. Все ждали выхода императрицы.
– Будет ли сегодня процессия на Иордан? – спросил адмирал старого приятеля Льва Нарышкина, который по-прежнему заведовал царскими конюшнями.
– По такой стуже вряд ли, – отвечал погрузневший за эти годы, прошедшие с памятной пирушки у Давиа, Лев Александрович. – Императрица на мороз не пойдет, а попам придется. – Из-под пудры на его лице выступали малиновые веточки лопнувших сосудов.
Императрица вышла из своих покоев с Павлом, Александром, их женами и царедворцами. Пламя свечей разом заколебалось – церковный хор вознес голоса под купол. Битый час шла литургия. Рибас скучал, да и душно было в придворной церкви. В получасе двенадцатого начался ход на Иордан, устроенный близ дворца на Неве. Синод, придворные пестрой толпой устремились за преосвященником Гавриилом, которого сопровождали пять архиепископов – петербургский, рижский, тверской, псковский, кашинский. Петербургский люд крестился и расступался. С Адмиралтейской крепости пушки дали двадцать один залп, из Санкт-Петербургской – двадцать.
Марш гвардейских полков Рибас в числе знати смотрел из окон второго этажа, а потом ненадолго вышел на заиндевелый балкон и вспомнил, что двадцать два года назад, впервые оказавшись в Петербурге, был в числе зрителей водосвятия внизу, в толпе. Что ж, с тех пор минула целая жизнь. Он адмирал, кавалер орденов. Но ни чувства удовлетворения, ни гордости за этот долгий путь, приведший его на балкон Зимнего в общество полководцев и сановников, Рибас не ощутил. Слишком много было неудач, неосуществленных намерений, неиспользованных возможностей. «Сложилась ли судьба? – спрашивал он себя и отвечал: – В какой-то мере. Удачи были редки, труд велик, а дальнейшее остается по-прежнему неизвестным».
Он заторопился домой, но Базиль Попов, узнав о его намерении, шепнул:
– Ни в коем случае! Будьте во дворце до вечера.
Мордвинова Рибас увидел возле окна на Неву. Он разговаривал о графом Салтыковым. Рядом стояли офицеры гвардии. Мысль подойти возникла внезапно, и Рибас немедленно осуществил ее.
– А мне Николай Семенович как раз рассказывал, как яйца курицу учат, – сказал Салтыков адмиралу.
– Так уж заведено в свете, – отвечал Рибас. – Но главное – это знать: какое происхождение имеет курица.
– Как вас понимать? – спросил Иван Петрович.
– Весьма просто. На Юге говорят: если курица из Херсонской академии, она не несется, а только квохчет.
Офицеры-гвардейцы рассмеялись. Херсонской академией Суворов называл Черноморское адмиралтейство, а Мордвинова наседкой без цыплят. Об этом при дворе знали.
Настя осталась в парадной зале в обществе фрейлин, а Рибас, переговорив со смотрителем, прошел в Эрмитаж. Живописных полотен здесь прибавилось. Он увидел любимые картины Потемкина «Великодушие Александра Македонского» Миньяра и «Амур развязывает пояс Венеры», которую Потемкин заказывал Рейнольдсу. Эти полотна вместе с «Беседой Христа и Самаритянки» императрица купила у родственников покойного и обожаемого когда-то фаворита.
Вдруг адмирал услыхал звуки скрипки и пошел в их направлении – в первой комнате библиотеки музицировал Платон Зубов. Некстати? Нет, кажется, молодой фаворит утомился музицировать без слушателя.
– Почему вас не было на обеде в бриллиантовой? – спросил Платон и тут же сам себе ответил: – Ах, да. Императрица желала отобедать в узком кругу. Ужин будет около семи. Вы, адмирал, приглашены.
– Почту за честь.
– Я разбирал тут маленькую вещицу Моцарта, – сказал Платон. – Славный композитор. Вы бывали в Вене? Не встречались ли с маэстро?
Адмирал помедлил с ответом: знает ли Платон, что Моцарт умер? Знает ли он, что Потемкин перед смертью пригласил Моцарта в Россию через Андрея Разумовского? Решив, что такая осведомленность сейчас не к месту, Рибас сказал:
– Я был в Вене давно. Но наш посланник Разумовский приятельствовал с Моцартом.
– О, надо написать князю Андрею, чтобы пригласить маэстро в Петербург.
Фаворит жаждал видеть покойника, но Рибас промолчал. Явился дежурный генерал-адъютант граф Ангальт и пригласил Платона к императрице. Рибас отыскал жену и сообщил, что приглашен на ужин. Настя была обрадована и раздосадована: ей приглашение не передали. Около семи граф Ангальт назвал имя Рибаса и вошел с ним в покои императрицы. Здесь адмирал увидел главу двух академий Дашкову, генерал-лейтенанта с Кавказа Ребиндера, пособника восхождения Екатерины на престол Пассека, князя Николая Юсупова, барона Штакельберга, графа Эстергази, польского магната Ксаверия Брапицкого, что был женат на племяннице Потемкина. Рибас не удивился, заметив среди приближенных императрицы Мордвинова. Верно, об их размолвке уже знали при дворе.
Рассматривая лицо императрицы вблизи, Рибас вспомнил впервые виденный им в каюте князя Андрея ее портрет. На нем императрица напоминала кукольных испанских принцесс. А теперь он видел густо напудренное напряженное лицо – напряженное от того, что губы она выпячивала вперед: дряблость обвислых щек при этом менее заметна. Десяток ниток жемчуга, укрывавших морщины шеи, не скрывали, а скорее подчеркивали знаки старости. По мнению Рибаса Мордвинов приложился к руке императрицы не только губами, но и носом и лбом.
– Французы в Херсоне живут ли, адмирал? – спросила она.
Мордвинов всплеснул руками:
– Перевелись, матушка. Как услыхали ваш глас небесный, так и перевелись.
«С гласом небесным он перехватил через край, – подумал Рибас. – Она теперь часто о смерти и небесах думает».
С пуделем на руках подошел Платон Зубов и вдруг объявил:
– Хорошо бы к нам Моцарта капельмейстером пригласить. Что за чудо его музыка!
Екатерина округлила глаза и перекрестилась. Рибас понял, что Платон в дюйме от того, чтобы попасть впросак и поспешил уточнить:
– Я имел счастье слушать игру Платона Александровича. Мы заговорили о венском композиторе и пожалели, что он умер в цвете сил и таланта.
Платон вскинул на адмирала бархатные веки, Рибас прочитал в его глазах укор, а потом признательность. Платон подмигнул адмиралу.
Ужинали в бриллиантовой комнате. Стол был накрыт на семнадцать кувертов. У стен под стеклянными колпаками радужными кострами вспыхивали драгоценные малая и большая короны, шкафы ломились от бриллиантовых крестов, эфесов, эполет.
– Не к столу будет сказано, – говорила императрица, – а в Париже всех кошек и собак съели.
– Из Америки им теперь кошек везут, – сказал Платон. Он сидел напротив Рибаса и Мордвинова.
– Скоро уж год, как Людовик смотрит с небес на мрак над Францией, – продолжала Екатерина. – Когда коалиция войдет в Париж, первыми слетят триста восемьдесят семь голов.
Именно такое число членов Конвента проголосовало за казнь короля.
– Позволю себе заметить, ваше величество, – сказала Дашкова, – эти головы вряд ли удержатся на плечах и без войск коалиции. В Лионе восемьдесят якобинцев недавно казнены.
– Откуда ты так точно все знаешь? – спросила императрица.
– А мои академики, наконец, хорошо считать научились, – Дашкова пожала плечами. Екатерина улыбнулась. Началась первая перемена блюд ливрейными слугами, и Рибас решил, что момент подходящий, и поэтому подхватил разговор:
– Французская смута пожирает сама себя, и благословен Неаполь, освободившийся от нее. – Он замолчал, но все ждали продолжения, и адмирал сказал: – Теперь ничто не может помешать намерениям власть предержащих устраивать судьбы своих детей.
Намек был слишком прозрачным, чтобы Екатерина не поняла его. Она тотчас и ответила:
– Моему внуку Константину и пятнадцати нет. Рано еще его судьбу устраивать. А в Неаполь мы назначили посланником Мусина-Пушкина. Посмотрим, что он напишет нам о тамошних обстоятельствах.
Камергер при великом князе Александре Мусин-Пушкин Брюс был в это время в заграничном путешествии с женой, и назначение в Неаполь явилось для него полной неожиданностью. Впрочем, назначение это по сути было формальным – все дела русской миссии в Неаполе вот уже одиннадцатый год вел опытный Андрей Италийский.
За столом Платон Зубов развлекался тем, что предложил Мордвинову яйцо в серебряном стаканчике, и тот благодарно принялся ложечкой разбивать скорлупу, но тщетно: яйцо оказалось обыкновенной обманкой из крепкого прусского фарфора, и смешок гостей прокатился над столом.
– Вот ведь как яйца и адмиралов учат, – сказал Платон, видимо осведомленный о недавней пикировке Мордвинова и Рибаса. Мордвинов побагровел, а Платон подмигивал Рибасу. Императрица весело сказала:
– Слыхала я, что ты, Осип Михайлович, в Петербург с миллионом приехал.
– Миллион не миллион, а может, и больше будет, – отвечал в тон Рибас.
– Большие деньги. Подари мне, – смеясь, предложила императрица.
– Все, что имею, вам принадлежит, государыня.
– Проценты берешь?
– Беру. Но только вашим благосклонным вниманием.
– Тогда по рукам. Мадеры налейте вице-адмиралу.
Он не ослышался? Вице-адмиралу? Но переспрашивать конечно же было не с руки. За ломберным столом Рибас с императрицей сидел впервые. Пассек предложил играть в фараон. Рибас – в брелан.
– Уж не собираешься ли ты, Осип Михайлович, отыграть свой миллион? – спросила Екатерина.
– Карта – судьба. А от судьбы не уйдешь, – отвечал он.
Платон и князь Юсупов составили им компанию. Вместо жетонов раздали золотые пластинки. Первые сдачи Рибас проигрывал, а потом имел и три десятки, и залетный фавори. Серьезного продолжения разговора о судьбе порта и города при Хаджибее он не ждал, но его вполне удовлетворила фраза Платона:
– С турками разберемся, тогда и с крепостью при Хаджибее решим.
– С турками? – переспросил Рибас. – Снова что-то затевают?
Платон в ответ лишь махнул рукой.
К одиннадцати императрица была в небольшом выигрыше и выглядела довольной. Гости расходились, благодарили, желали покойной ночи. После этого вечера секретарь, ведущий ежедневный камер-фурьерский журнал, не переврал, как когда-то, фамилию адмирала и усердно отметил его присутствие за ужином императрицы под номером четырнадцать и отметил: «Прочего же собрания на комнатный бал когда бывает в аудиенц-коморе, никого не было».
Итак, предполагаемое родство русского двора с неаполитанским императрица отложила на неопределенный срок. Положение Ризелли оставалось плачевным. Рибас попросил Виктора побывать в кондитерской «Болонья» и сказать Руджеро всего одну фразу: «Передайте, что обстоятельства на ближайшее время неблагоприятны».
Пятнадцатого января адмирал снова был приглашен во дворец, где встретился с Григорием Кушелевым. Павел произвел его в капитаны первого ранга, и сделал командиром гатчинской эскадры, при которой находилось четыре батальона.
– Большой двор не любит гатчинский, – говорил Кушелев. – У нас запрещены фраки, у нас все на военную ногу: шлагбаумы, экзерсиции, караулы. Павел встает в пять утра. Лично присутствует на экзекуциях и разводах. Я сочувственно отношусь к его словам, что он тотчас с помощью пушек навел бы порядок во Франции.
Рибас знал ответ Екатерины на это заявление сына: «Если ты не поймешь, что пушки не могут воевать с идеями, ты не долго будешь царствовать».
За обедом на тридцать три куверта пятнадцатого января много говорено было о военных приготовлениях турок. Рибас сообщил императрице, что ждет от Суворова планов на случай столкновения с неверными. Платон, неприступный гордец, гроза всего и вся, разрешил адмиралу погладить свою обезьянку – это не дозволялось никому и являлось знаком доверия и полной приязни.
На следующий день около десяти к Рибасу примчался Базиль Попов:
– Проснитесь, адмирал! Я привез вам рескрипт императрицы!
По январской стуже Рибас предложил Базилю пунша и стал читать рескрипт. В нем он официально именовался вице-адмиралом. Равенство в чинах с Мордвиновым было достигнуто. Он читал: «Нашему вице-адмиралу де Рибасу. Получая известие о чинимых со стороны Порты Оттоманской сильных приготовлениях возстать против нас войною… соизволяем, чтобы вы немедленно отправились к местам расположения флота и всемерное приложили бы старание привести оной в наилучшее состояние, так чтобы в апреле месяце можно было соединить все части оного в Гаджибее, где ожидать могущего последовать разрыва…»
Итак, Хаджибей был назначен сборным пунктом флота.
Тотчас уехать не удалось. Через Зубова адмирал договаривался о поставках к флоту парусины, пушек, якорей. В Адмиралтействе дело волочили. 24 января Базиль пригласил Рибаса в дворцовую канцелярию и показал собственноручную записку Екатерины: «Управляющему кабинетом Попову. Василий Степанович, выдайте из кабинетной суммы 6 тысяч рублей вице-адмиралу Мордвинову и столько же вице-адмиралу де Рибасу, тому и другому золотом, либо серебром, кои мы им жалуем».
– Чем будете брать?
– Золотыми червонцами.
Помощник казначея принес увесистый кожаный мешок с золотом.
– Когда едете?
– Завтра.
– На этот раз, слава Богу, у вас в Петербурге никаких неприятностей?
– Обошлось, – ответил Рибас и, вспомнив Ризелли, недолго гадал: останется ли тот в Петербурге, уедет ли и куда… Вечером курьер привез письмо Суворова. Александр Васильевич сообщал, что планы на случай столкновения с Портой отошлет через несколько дней. Горько повторял, что у парусного флота нет такелажа, а гребной плох, кроме казачьих лодок. Генерал-аншеф торопил: «Постарайтесь поскорее вернуться сюда». Письмо было написано рукой де Волана, но подписал его граф. Строительство порта и города при Хаджибее откладывалось, и любой непредвиденный случай мог дать карт-бланш Мордвинову.
9. Уважая выгодное положение 1794
С прибытием в Херсон для адмирала завертелась привычная карусель: доклады капитанов, провиантские тяготы, неповоротливость адмиралтейства и бесконечные ведомости на гвозди, порох, лес, ядра, мортиры… Теперь Рибасу предстояло начальствовать не над своей флотилией, а над всем гребным флотом Черноморья, который он принимал от контр-адмирала Павла Пустошкина – моряка с младых ногтей, но участвовавшего лишь в одном большом сражении при Килиакрии в 1791 году, тогда как в гардемарины он вышел еще в 1762. Выше Владимира третьей степени его заслуги оценены не были. Рибаса интересовал этот человек тем, что он являлся человеком Мордвинова.
Осмотрев суда и найдя их в плачевном состоянии и подписав к вящему удовольствию Пустошкина ведомости, на обледенелой херсонской пристани Рибас сказал:
– Павел Васильевич, гребной флот ваш давно сгнил. От починки до починки ходит. Это ли флот?
– Вы будете писать об этом в Петербург? – заволновался низкорослый толстяк Пустошкин и стал тереть вздернутый нос перчаткой.
– Роспись о состоянии судов генерал-аншеф давно отослал в Петербург, – сказал Рибас. – Я хочу вас спросить о другом. Вы начальствовали над съемками берегов, знаете море до Дуная. Неужели, по-вашему, есть лучшее место для порта, чем бухта при Хаджибее?
– Я этой бухты не знаю. Съемок в ней не делал.
– Но почему же вы настаиваете на устройстве порта при Очакове?
Пустошкин, распахнув шубу, развел короткие ручки в стороны:
– Вы слушаете Суворова. А я – Николая Семеновича.
– Куда же вы теперь?
– В Севастополь. Командовать второй эскадрой на рейде.
Они простились. Через день адмирала призвал к себе Суворов, выбежал навстречу на морозное крыльцо.
– Ждали яда от Османа – получили от поляк! Восстание в Кракове. Косцюшко – диктатор.
Новость вползла в Херсон, обрастала легендами Александр Васильевич разъяснял:
– Косцюшко – сам опыт. В прошлую войну – конфедерат. В Америке саблей независимость вымахивал. Это голова! Князь Репнин впросак с ним попадет.
Репнин, интриган против Суворова, был назначен главнокомандующим войсками в Польше и Литве. Николай Салтыков руководил им из Петербурга. Суворов снова оказался не у ратных дел, в которых видел смысл своего бытия. Рибас размышлял: что ждать от Константинополя, если в Польше восстание? Марк Портарий доносил, что турки готовятся, но далеко не готовы. Рибаса беспокоила судьба братьев Феличе и Андре: будет ли Брацладский гарнизон, где они служили, брошен в дело против восставших? Он написал им длинное заботливое письмо, призывая к благоразумию.
Неожиданно Петр Румянцев в свои шестьдесят девять лет, опальный герой многих войн, униженный в свое время Потемкиным, был назначен предводителем всех войск на Юге. Эта должность по праву принадлежала Суворову, но генерал-аншеф радовался за Петра Александровича:
– Он – фельдмаршал. А фельдмаршальский жезл – опыт непреходящий.
Мордвинов по-прежнему жил своим домом в Николаеве. Доходы и оброки позволили начальнику Адмиралтейства обзавестись собственным театром, оркестром, коллекцией картин, а пушки у крыльца палили, оповещая о еженедельных весенних балах на английский манер. Рибаса не приглашали, когда он бывал по делам в Николаеве. Напротив, встречали официально, и Мордвинов неизменно пенял:
– Почему так мало рапортов получает от вас Черноморское адмиралтейство? Где роспись судам? Докладывать надобно о каждом шаге.
– Я пишу столько бумаг, что на мелочи не остается времени, – отвечал Рибас.
– Флот без бумаг останется на якоре, в море не выйдет! – поучал Мордвинов.
– Но без снаряжения он и с бумагами пойдет ко дну!
Однако, с этих пор Рибас помимо деловых рапортов, высокопарно обращаясь к «высокородному и высокочтимому» адмиралу иронично сообщал, что лансон «Михаил» оставлен в Херсоне для замены сгнившей доски, что едет в Глубокую к цирюльнику… 14 мая он сообщил, что срочно вызван к Суворову.
Совещание в саду под молодой грушей было коротким. Бригадир Федор Киселев доложил:
– Мушкатерские Нижегородский и Витебский пойдут к Хаджибею сухим путем. Гренадерские Николаевский и Днестровский – на судах адмирала.
Рибас в свою очередь осведомил генерал-аншефа:
– К Хаджибею я намерен отправить двенадцать бригантин, восемь гребных катеров, девять лансонов.
– На том и порешим, – сказал Суворов. – Вы с Федором Ивановичем – к Хаджибею. Я – к Белой Церкви.
По приказу Румянцева он отправлялся с полками разоружать польские части, что находились в российской службе, дабы препятствовать им неожиданно уйти в Польшу к восставшим.
– Когда выступаете, граф? – спросил Рибас.
– Отобедаем – и с Богом! Только айвы по-кардинальски у меня нет. А вот щти богатые и сарацинскую кашу с курячими пупками обещаю.
Обедали в саду. Александр Васильевич сетовал:
– Хуже нет кого-то разоружать. Сражения не дашь. Окружай, угрожай, разоружай. А восстание там уж по всей стране. Наш гарнизон в Варшаве – двенадцать тысяч. А на Пасху едва ноги из города унес.
Прощались сердечно. Суворов презентовал адмиралу золотые часы, обнял, велел беречь людей.
– Я с тобой, адмирал, семь лет бок о бок. Многих друзей за эти годы потерял. Пиши мне. И я в России одинок, хоть и не итальянец.
24 мая пушечный выстрел на бригантине «Благовещенье» известил рибасов флот о подъеме якорей и отходе с Очаковского рейда к Хаджибею. Утреннее солнце зеркалило мелкую рябь, попутный ветер округлил паруса, и колонной шли за флагманом святые красавцы бригантины «Николай», «Прокофий», «Фома», «Алексей», «Петр», «Дмитрий», «Никодим», «Архип»… За ними гребные катера равномерно вскидывали гребенку весел. Лансоны шли ближе к берегу. В Очакове пришлось оставить бригантину «Лев» – на ней обнаружилось много больных и ее поставили в карантин. Двадцать лансонов и катер «Гром» также по росписи адмирал оставил при Очакове.
Солнце уже стояло над Куялышками, когда бригантины бросили якоря в Хаджибейской бухте. Переход прошел благополучно. Бригадир Киселев заметил:
– Отчего у вас, адмирал, во всем флоте всего одна «Марья» и одна «Мавра»?
Эти единственные женские имена были присвоены двум лансонам.
Лодки засуетились меж берегом и судами – началась высадка. На берегу Рибасу и Киселеву докладывал полковник нижегородцев Самарин:
– Полки стоят лагерем. Турок не видно. В Аккаржу на рекогносцировку послан отряд.
Никаких известий из Петербурга о строительстве при Хаджибее получено не было. Полки стояли окрест разрушенного замка вольным городом в палатках и редких землянках. Рибас учредил постоянное воинское дежурство, а при нем почтовую Экспедицию для рассылки писем как казенных, так и партикулярных. Капитан граф Бернард вернулся из-под Аккермана, и Рибас сообщил в Адмиралтейство, что нижнее гирло Днестровского лимана ограждено брандвахтой и отправил в Херсон карту с промерами глубин.
Уже на следующий день после отправки первой почты нежарким майским днем к палатке Рибаса пожаловал полковой священник нижегородцев отец Евдоким Сергеев. Два солдата несли за ним кожаные ведра со святой водой, захваченной из Херсона.
– Освящение заложенной крепости и всех начатых работ произвести надобно.
Работ начатых было не много. Полки выстроили у земляных валов будущей крепости. Батюшка кропил валы, успевшие кое-где зарасти травой, святой влагой, солдаты-певчие исполнили литургию. Казенный дом для своих служб и канцелярии адмирал решил расположить в начале оврага, где была площадка и дорога наверх к развалинам замка и мусульманскому кладбищу. Отец Евдоким окропил фундамент будущего Рибасова жилища, похвалил выбранное место:
– И укромно, и залив как на ладони.
В палатке адмирала отец Евдоким пил сладкое монастырское и говорил о месте для кладбища, церкви и видах на обращение мусульман, живущих у бывшего замка, в истинную веру.
В июне Рибас получил от Суворова четыре письма и на каждое исправно ответил. Андре написал брату, что генерал-аншеф провел операцию по разоружению польских частей в Брацлавской губернии молниеносно и бескровно. Суворов обращался к адмиралу: «Покамест, елико возможно, хлопочите в Санкт-Петербурге, чтобы мне, лишь только кончу дело в Польше, возвратиться к вам; сие на благо общества, если только интригующая партия не желает меня вновь низвергнуть в бездействие». Он сообщал также противоречивые сведения о взятии Варшавы прусаками и разгроме Костюшко. Рибас имел известия, что пруссаки откатились от Варшавы, а Костюшко продолжает успешно драться.
Но июньские новости отступили на второй план, когда к палатке Рибаса прискакал столичный курьер. Адмирал был в море на учениях. Курьер в казацкой лодке «поймал» бригантину «Благовещенье» при совершении маневра, по веревочной лестнице взобрался на палубу и вручил Рибасу пакет от императрицы. Все переменилось в один миг. Сонно-размеренная жизнь лагеря при Хаджибее кончилась. Полки выстроили в каре на берегу, и после барабанной дроби был зачитан рескрипт императрицы:
«Божьей милостью МЫ Екатерина Вторая Императрица и Самодержица Всероссийская и прочая, и прочая и прочая.
Нашему Адмиралу Де Рибасу.
Уважая выгодное положение Гаджибея при Черном море и сопряженные с оным пользы, признали мы нужным устроить тамо военную Гавань купно с купеческой пристанью, повелев нашему Екатеринославскому и Таврическому Генерал-Губернатору открыть тамо свободный вход купеческим судам, как наших подданных так и чужестранных держав, коими в силу Трактатов с Импереею нашею существующих можно плавать по Черному морю. Устроение Гавани сей Мы возлагаем на вас, всемилостивейше повелеваем вам быть Главным начальником оной, где и Гребной флот Черноморский в вашей команде состоящий впредь главное расположение свое иметь будет; работы же производить под надзиранием генерала Суворова Рымникского, коему поручены от нас все строения укреплений и военных заведений в этой стране, придав в пособие вам инженерного полковника де Волана, коего представленный план пристани к возможному произвождению оного в действие…»
Рибасу разрешили на первый случай использовать сэкономленные им при найме греков-матросов двадцать шесть тысяч, брать материалы, заготовленные для Очаковского Блок-форта, использовать суда флотилии для работ и требовать пособий деньгами от Суворова. С копиями планов строительства в Хаджибей прибыл де Волан и с присущей ему прямотой сказал:
– Я в России семь лет. Свидетельствую из своего опыта: в этой стране есть обычай – сначала упускать золотое время, а потом гнать во весь опор, наверстывая упущенное.
– Это можно было бы понять и за полгода.
– Половина лета на исходе! В Петербурге дела начинают, как лед сойдет. Не берут в расчет, что здесь Юг. В марте надо было начинать.
Конечно, он был прав. К тому же будущему городу по ордеру Зубова выделялось 29500 десятин удобной земли и 1200 неудобий. Все это под участки и под городской выгон скота. А межевать землю должна была канцелярии Екатеринославского губернатора Каховского. Но она не спешила присылать землемеров.
– Нам поручена раздача земель, – сказал де Волан. – Но как же ее раздавать без межевания?
– Чиновников Каховского ждать не будем, – отвечал Рибас. – Не сразу же все двадцать девять тысяч десятин раздадим.
– Желающих много. Все офицеры полков, состоятельные унтера, вольнонаемные, купцы, предприниматели, – перечислял де Волан.
В начале июля Рибас издал распоряжение: «Приступая к исполнению Высочайшей воли Ее Императорского Величества до сооружения (города и порта) почитаю нужным учредить здесь «Экспедицию» для лучшего хозяйственного распоряжения…» И уже на следующий день к адмиралу пожаловал купец.
– Иван Лифенцов, орловский уроженец, – отрекомендовался он.
Рибас слыхал о нем – Лифенцов был при Хаджибее с 1792 года, построил первый дом с лавкой, торговал с татарами и проезжим людом.
– С чем пожаловали?
– Давайте любой подряд – все исполню.
– На какую сумму?
– Хоть на тыщу, хоть на две. Вам теперь от нужды помощники нужны.
Но Рибас отлично помнил, в какую кабалу попал Суворов, когда раздавал подряды и векселя. Лифенцова адмирал отправил к де Волану, назначенному начальником «Экспедиции»: от ее имени впредь и будут заключаться договора. А купцы, торговые люди не заставили себя ждать. Явился еще один орловский – Портнов, харьковский Григорий Автономов, елисаветградские Клоков и Железцов, а там и негоцианты из Триеста Иван Кермес и Никола Ламбро. Как-то скрип подвод, крики разбудили армирала рано утром, и он услыхал знакомый веселый говорок:
– Рибас-паша отдыхает? Ну и мы под его окнами спать устроимся.
Это был Афанасий Кес-Оглы, бывший Рибасов матрос на Средиземноморье, а теперь завзятый негоциант.
– Вот где встретиться довелось, Рибас-паша! Я верил в Магомета, теперь верю в Христа, но оба они подсказывают мне, что снова под вашим началом служить буду.
– Что привез?
– Железо сибирское да гвозди.
О юности, о прошлом напомнили и два офицера, явившиеся за разрешением на отвод земель. Рибас даже вздрогнул, когда они представились:
– Михаил Кирьяков, премьер-майор Днепровского полка.
– Григорий Кирьяков, секунд-майор Черноморского гренадерского.
Адмирал внимательно всмотрелся в офицеров, спросил:
– С Петром Сергеевичем Кирьяковым, убитым в первую Турецкую кампанию, в родстве состоите?
– Племянники.
Михаила Кирьякова, знавшего языки, адмирал определил в штаты таможни, Григория назначил следить за порядком в строящемся городе.
«Экспедиция» де Волана заработала так, что к вечеру скапливалось для просмотра адмиралом десятки открытых листов к отводу земли под частные строения. Де Волан разделил город на два форштадта. Военный – 52 квартала и 560 участков и греческий – 65 кварталов и 720 участков. Открытый лист получил князь Волконский, внезапно объявившийся рагузский знакомец адмирала грек Андрей Альтести – опальный коллежский асессор, адъютант Суворова Барлатский. Не удивила Рибаса и просьба еще одного приятеля хлебосольного молдаванина Марка Портария:
– Теперь время и мне проситься под ваше крыло, адмирал, – грустно сказал он. – Я многим рисковал для России, а остался без крова. Под турками жить не могу – голову отрубят и на кол насадят. Хочу здесь жить – рядом с родными краями. Присягу мне давать?
– Нет, Марк Иванович. Вы – подполковник.
Служилые люди при получении земли не присягали. Остальные в присутствии отца Евдокима, де Волана, при полковых знаменах читали с засаленного листа текст присяги, а потом учиняли расписку, что принимают гражданское право и обязуются нести по мещанству все тяготы.
Лето адмирала так и прошло бы в казенных делах и заботах, но на военный, еще палаточный форштадт въехала открытая коляска, в которой сидела бледная дама и мальчик. Бог мой, это был Мишенька! Последний месяц от тетушки Катрин Рибас не получал никаких известий – и вот как обернулось их отсутствие. Адмирал подхватил сына на руки и слушал сбивчивые объяснения светловолосой зеленоглазой дамы, при ближайшем рассмотрении оказавшейся молодой женщиной лет двадцати пяти.
– Только отчаянье толкнуло меня на этот шаг – приезд сюда, – говорила она. – Тетушка Анастасия Ивановна умерла. Я приехала в Новоселицу, как ее наследница из Тульской губернии. Оказалось, что завещания нет, а усадьба за долги перешла к соседу-помещику. Он… он нехорошо говорил со мной. А когда я ему все сказала, потребовал немедленного выселения и не хотел слушать, чтобы ваш сын остался. И мы с Мишенькой поехали в Херсон. В Адмиралтействе мне сказали, что вы в Петербурге.
– Как? Кто сказал?
– Адмирал Мордвинов. И я написала в Петербург.
«Подлец, – подумал Рибас о ненавистном Мордвинове. – Он сделал, это нарочно, чтобы письмо о сыне попало к Насте. Теперь она знает все».
– Но потом, совершенно случайно, я узнала, что вы здесь. Это просто спасение для нас, потому что у меня кончились средства.
Ее звали Елизаветой Григорьевной. Она была тонкой, хрупкой и на удивление женственной. Алый поясок подчеркивал ее высокую грудь. Настораживало родство с Катрин Васильчиной, но ждать необычных поступков и сумасбродств Рибас не стал, отправил адъютанта к купцу Лифенцову просить о комнате для Елизаветы Григорьевны и сына, с которым она говорила по-французски и взяла с собой на прогулку к заливу.
Лифенцов прискакал верхом, сказал, что комнату готовят, посадил Мишу в седло и катал по форштадту. Офицеры, прослышав о явлении в военный лагерь очаровательной женщины, немало не смущаясь приходили представиться ей, а когда спала жара, устроили у палатки адмирала стол чуть ли не праздничный – с вином, икрой, молодым барашком и сладостями. Елизавета Григорьевна сидела с Мишенькой во главе стола, офицеры пили их здоровье, а небосвод дрожал от фантастического мерцания мириад звезд низкого неба, и адмирал впервые за много лет ощутил забытое чувство полного счастья.
Миша уснул за столом, его отнесли к Лифенцову, позже проводили туда же Елизавету Ивановну и затеяли ночное купание в заливе.
– Господа, – говорил де Волан, – дело нашей чести задержать здесь Елизавету Ивановну. Дамское общество в Хаджибее – вот чего нам не достает. Поэтому у нас один выход: завтра же показать ей ее участок, где будет стоять ее дом, и помочь построить его.
На следующий день счастливой и плачущей Елизавете Григорьевне вручили открытый лист на участок, а купец Лифенцов получил от адмирала триста рублей на материалы для дома. Рибас решил и судьбу Миши, осенью он отвезет его в Шклов в кадетский корпус Семена Зорича.
«Экспедиция» де Волана столкнулась с невиданным противодействием клевретов Мордвинова, поэтому Рибас, де Волан и князь Волконский приехали в Николаев и явились в кабинет Мордвинова.
– Вы арестовали поручика Шевича и юнкера Шостака – они приезжали сюда за лесом!
– Не я арестовал. А комендант. За несоблюдение субординации. Но не будем ссориться, контр-адмирал!
– Я давно вице-адмирал! – Воскликнул Рибас.
– Бог мой, а у меня в канцелярии нет даже бумаг, что вы не генерал-майор. Какая досада.
Рибас придвинул к себе табакерку со стола и был готов запустить ею в Мордвинова, когда де Волан твердо сказал:
– Отныне посты нашей Экспедиции будут установлены в Николаеве, Херсоне и по Днепру до Екатеринослава.
Они ушли ни с чем. Но все-таки, худо-бедно, а Экспедиция заготовляла материалы. На форштадтах поднимались дома из местного камня-ракушняка. В одном из первых отстроенных домов под тесовой кровлей отправлял службы отец Евдоким Сергеев. Торжественно заложили на площади возле строящихся казарм будущую церковь Святой Екатерины.
Елизавета Григорьевна занималась с Мишенькой французским, опекала и наставляла его. Истинным счастьем для семилетнего мальчика было приехать к отстроенному адмиральскому дому и пойти с отцом на батареи, или вместе с мамой-Лизой переправиться в лодке на бригантину и наблюдать за морскими учениями флотилии. Когда они возвращались с учений и высаживались на берегу, невиданной силы ливень обрушился на Хаджибей, а в адмиральский дом Рибас, мама-Лиза и Миша вбежали вымокшие до нитки.
Елизавета Григорьевна укутала Мишеньку в сухие рушники, устроила в кресле, где он заснул. Затем она разделась, облачилась в рибасов плащ-епанчу и в этом одеянии вошла в столовую, где адмирал хлопотал об ужине. Несказанное волнение охватило Рибаса, когда он увидел ее русую голову над васильковой епанчей. Он не ощущал вкуса еды, почти не пил и вдруг стал говорить женщине необычайно нежные слова благодарности за Мишу, за ее заботу, но и в ответ, как будто Елизавета Григорьевна ждала такой минуты, он услыхал не менее нежные и признательные слова о его участии в ее судьбе.
– Я не знаю, что делала бы без вас. Теперь у меня будет дом. Мой муж давно оставил меня. Уехал в Москву. А потом погиб в последней войне, – говорила она сбивчиво. Рибас протянул через стол руку и через мгновение, забыв обо всем, они бросились друг другу в объятия. Шнурок плаща развязался сам собой, и обнаженная, пахнущая дождем и морем Венера стыдливо припала к груди Рибаса.
Ни день и не два после этой близости адмирал не имел возможности ни переговорить, ни посидеть за ужином, ни отправиться на прогулку с Лизой: она избегала его. То ссылалась на нездоровье, то, поздоровавшись с Рибасом на форштадте, находила неотложные дела и спешила домой. Адмирал искал, но не находил причин для такого отчуждения. Впрочем, занятия с Мишенькой Лиза продолжала, но если Рибас хотел составить им компанию в поездке к Куяльникам, она уступала ему место в коляске под предлогом, что ее как раз ждет отец Евдоким в церковном доме.
По сметам де Волана для строительства города требовалось два миллиона шестьдесят одна тысяча шестьсот двадцать серебряных рублей. Но императрица по докладу Зубова почему-то утвердила один миллион девятьсот девяносто три тысячи двадцать пять рублей шестьдесят восемь и три четверти копейки. Эти три четверти копейки де Волана вывели из себя.
– Попомним мы еще эти три четверти копейки! – говорил он Рибасу. – Вы понимаете, нас ими пугают, призывают к точности и экономии. В стране, где упускают миллионы, но три четверти копейки включают в счет, порядка не будет никогда.
Двадцать второго августа 1794 года у кромки берега под взметнувшимися вверх холмами и скалами при лениво-спокойном море отец Евдоким отслужил молебен, благословил всех и с Божьей помощью рабочие вбили две первые сваи будущего большого и малого мола. Одновременно начали постройку двух пристаней и стали насыпать к ним набережные. Плотники застучали топорами, землекопы ставили столбы эллинга и верфи для починки казенных судов.
Купеческий мол врезался в море сажень на тридцать. Большой мол шириной в десять с половиной сажень только начали, били сваи впритык, а между ними по ширине сыпали бутовой камень. Каждая свая обходилась в 3–4 рубля. Кубическая сажень камня стоила 6–7 рублей. Казначей Григорий Белян хватался за голову.
А день адмирала начинался с поездки верхом, во время которой он с де Воланом и инженер-капитаном Федором Кайзером, по заведенному порядку, объезжал форштадты и берег.
Все было дорого. Приезжий работный люд высказывал недовольство и ценой на провизию: при Хаджибее она продавалась выше таксы, ежегодно назначаемой Высочайшим указом после жатвы. За фунт говядины платили 4 копейки, за фунт баранины – 3, ветчины – 10, колбасы – 15, балыка – 12. За фунт голландского сыра платили, как за бочку воды – 30 копеек. То же стоила утка, две курицы, фунт грибов… Правда, хороший столяр зарабатывал в световое время рубль восемьдесят. Но это была цена ведра горилки. Каменщик – рубль двадцать пять – цена ведра меда. Плотник – рубль шестьдесят – столько стоила бутылка рома. Впрочем, за десяток яиц платили 6 копеек.
Адмирал теперь знал цену дубового бруска и сосновой доски для настила купеческого жетэ – приходилось интересоваться всем. Как говаривал покойный Прокопий Демидов: «Если я не знаю, почем у меня в лавке штоф простой водки, разорюсь в одночасье!» Штоф этот в Хаджибее стоил полтину.
Близ берега на якоре стояла бригантина «Иероним», пришедшая из комерц-рейса в Константинополь. Привезла оливки, лавровый лист, лимоны, миндаль, изюм. Три купеческих судна подошли, видно, ночью – вчера их не было, как не было еще в порту ни таможни, ни карантина. Но премьер-майор Михаил Кирьяков огородил канатами место на берегу под скалами – вот. тебе и карантин, и таможня. Адмирал подскакал к нему:
– Чьи суда? Откуда?
– Купцы из Патроса, Смирны и Константинополя.
– С чем пришли?
– Да обыкновенно: вино, шелк, бумажная ткань.
Следовало бы подняться к крепости, где закладывались первые бастионы, но де Волан сказал, как отрезал:
– Завтракать, адмирал. – Посмотрел на небо: – К тому же дождь собирается. Не будем ждать, пока он разбавит ваш пунш.
Поскакали к адмиральскому казенному дому без крыльца. В первой комнате, где Рибас принимал посетителей, на столе лежала почта. Из столовой сюда достигал пряный винный запах паштета. Кейзер и де Волан уж заткнули за воротники салфетки, когда адмирал вошел с письмом Суворова. В недавнем письме тот писал о взятии предместья Варшавы, о тысячах трупов, а теперь Рибас зачитал вслух:
«Ваше Превосходительство, сердечный друг! Вы меня извините, что не пишу Вам чаще; едва ноги таскаю и язык мой бел. Недавно под Исленьевым убили лошадь, и он сам едва не погиб; Шевич на коне, несмотря на ежедневную лихорадку. Исаев ранен в грудь, пуля в плече застряла; Поливанов в сече, хотя с самого Бреста едва языком ворочает. Все кипит, и я в центре. Теперь около полуночи. У нас тут тысяча и одна ночь. Вот и весь мой отдых. Ожидайте лучших новостей. Обнимаю Вас, верный дунайский герой, прощайте».
Помолчали. Кейзер налил адмиралу пунша, себе и де Волану сладкой водки. Все перечисленные в письме офицеры и генералы командовали колоннами при штурме предместья Варшавы и были с генерал-аншефом не первый год.
– Если честно, господа, – сказал Рибас, – я не хочу больше ни видеть трупы, ни читать о них. Война мне стала противна. Однако, выпьем за то, чтобы раны страдальцев быстрее заживали.
За взятие Варшавы Суворов получил долгожданный маршальский жезл. К этому времени на строительство порта ушло без малого сорок тысяч. Долг полкам составлял четырнадцать! Никаких сумм из Петербурга Хаджибей не получал, и адмирал собрался в столицу, имея намерение по пути заехать в Шклов и определить сына в кадетский корпус. Но Лиза, все так же сторонившаяся Рибаса после памятного июльского вечера, вдруг пришла к нему сама, глаза ее были заплаканы и она стала умолять адмирала:
– Оставьте Мишеньку до следующего года при мне. Дом мой отстроен. Мы переедем вместе с ним от Лифенцова. Ему еще рано в корпус.
– Но он итак опоздал к началу занятий.
– Тем более. Пусть и начнет их на следующий год.
– Вы так привязались к нему?
– Души не чаю.
– Ну что же, – раздумывал Рибас, – поступить в корпус и на следующий год ему будет не поздно.
– Боже, как я вам благодарна!
Она осталась ужинать. Пришел де Волан с офицерами. Допоздна весело играли в мушку. Адмирал улучил минуту и спросил:
– Почему вы все это время сторонились меня?
– Я… я слишком ценю ваше доброе ко мне отношение… – отвечала Лиза. – И я боялась, что вы будете видеть во мне вторую Катрин.
Шестнадцатого декабря вице-адмирал издал распоряжение, по которому надзирание за строящимся городом и портом передал инженер-капитану Кейзеру, команду над гребным флотом – капитану второго ранга Бардаку. Ко дню отъезда Рибаса в столицу империи Экспедиция выдала 159 открытых листов на застройку участков. Адмирал считал, что это слишком мало. Но чтобы поправить дело, он имел заманчивый и по его мнению вполне реальный проект.
10. Гименей и фортуна 1795
На этот раз Настя не выпорхнула навстречу адмиралу из своих покоев, и дочерей не вызвали из Смольного: письмо Елизаветы Григорьевны, очевидно, было прочитано весьма внимательно, и теперь Настя знала о существовании Миши. Рибас все-таки заглянул на ее половину, но горничная перекрестилась и сказала, что госпожа спит и не велела беспокоить. Впрочем, для объяснения с женой у адмирала имелся козырь: в московской книжной лавке он купил второе, петербургское издание трудов венского библиотекаря Дюваля, где снова публиковалась его переписка с Настей.
Секретарь Хозиков сокрушенно поведал о том, что девяностолетний Иван Иванович не только капризничает, как дитя, но и временами прячется от домашних да так, что его подолгу не могут сыскать, а когда находят в темной нише или в мыльне под вениками, он смеется и велит всем прятаться от него. После этого Хозиков сказал адмиралу:
– Когда мне будет семьдесят, я приму яд.
Он вышел, но тут же вернулся с запиской от графини Ольги Зубовой. Она приглашала Рибаса как можно скорее навестить ее. «Значит, о дне моего приезда она знала и даже ждала? Но зачем?»
Адмирал с удовольствием облачился во фрак, и Виктор Сулин застал друга готовым к визиту. Они обнялись.
– Я не знал, что вы приедете сегодня, – сказал Виктор. – Собственно, я приехал к вашей жене. Я иногда читаю ей выдержки из моих дневников и советуюсь о стиле. У нее отменный вкус.
– В ее переписке с Дювалем я этого не заметил, – сухо сказал адмирал. Но он, конечно же, был рад Виктору, от которого узнал столичные новости.
– Ничего необычного не происходит, разве что в моду вошли черные касторовые шляпы, – говорил Виктор. – Правда, летом в Царском была война. Александр Павлович под розовыми знаменами водил потешных на Константина Павловича. Цвета последнего были голубыми. Но победителем, как мне говорила ваша жена, выглядел Платан Зубов.
– А он под какими знаменами?
– Скорее, он под вензелем Елизаветы – жены Александра.
– Стрелы амура?
– Роман. Даже Александр знает, что Платон обхаживает его жену. Платон посылал музыкантов к окнам Елизаветы играть на виоль д'амур с аккомпанементом альта и виолончели. – Виктор продекламировал: «Судьба-преступница влечет. И открывает рая дверцы. Любовь моя – тебе не в счет. Я – жертва рока. Ты – без сердца».
– Неужели это поют под окнами Елизаветы?
– Пока не под окнами. Но как только в обществе появляется Елизавета, Платон велит фрейлинам исполнять этот романс.
– Я вижу, что Настя отлично снабжает вас новостями.
– О да. С ее помощью мои поденные записки стали полнее, – отвечал Виктор. – Однако, вы удачно приехали ко двору. Седьмого января у Павла родилась дочь. Предстоят празднества, а значит, вакуум двора будет не так насыщен интригами.
В карете адмирал думал о братьях. Андре и Феликс счастливо закончили польскую кампанию, не ранены, не контужены. С полком они вернулись в Брацлав и продолжали службу. Андре писал, что непременно приедет в Петербург весной и что доступность прекрасных полячек преувеличена, ибо все они горды и высокомерны.
Тревожили адмирала обстоятельства неожиданного визита к Ольге Александровне. Клан Зубовых пережил большое горе. Красавец Валериан поплатился из-за своей жестокости при подавлении восстания в Польше. Он преследовал арьергард поляков, отправился со свитой на рекогносцировку и наткнулся на замаскированные орудия восставших. Полковник Рарок лишь успел крикнуть: «Разъезжайтесь, господа!», как ударили залпы, и у Рарока оторвало правую ногу, а Валериану перебило левую. Рароку не оказали помощи и он умер от потери крови. Валериана снесли в лощину, где лекарь спас его тем, что отрезал ногу и сумел остановить кровь.
Валериан лечился в Варшаве, начал ходить на костылях. Императрица, узнав о несчастии «героя в полном смысле этого слова», рыдала, послала своему бывшему «резвуше» английский дормез, десять тысяч червонцев, орден Андрея Первозванного, чин генерал-лейтенанта, крест Георгия и приказала выдать из казны триста тысяч на уплату долгов одноногого красавца. Но, как говорили в офицерских кругах, Валериан ковал золото по живому и попросил пятьсот тысяч на раздачу долгов и сто на излечение.
В шелково-изумрудном салоне графини Ольги Рибас застал отнюдь не печальное общество. Сарти играл на гитаре. Фрейлина императрицы пела уже знакомый адмиралу романс «Судьба-преступница влечет». За ломбером играли в карты Николай Зубов, Петр Пален и Александр Ланжерон – двух последних Рибас никак не ожидал увидеть здесь. При появлении адмирала они сделали перерыв в игре. Рибас поцеловал руку тридцатилетней красавице хозяйке и галантно сказал:
– Светло и радостно только там, где вы, графиня. – Затем обратился к Ланжерону: – Откуда и какими судьбами, граф?
– Он приехал с Рейна, чтобы почитать мне свои чудные стихи, – вместо Ланжерона ответила хозяйка салона.
– Скажу больше! – воскликнул Ланжерон. – Императрица вызвала меня для этого в Петербург.
– Дайте хоть слово сказать адмиралу, – прервала его графиня Ольга.
Рибас знал, что Ланжерон и Ришелье были в войсках коалиции на Рейне, поэтому ответил сентенцией:
– Слова замирают на устах в обществе рейнского героя.
– Хороши же герои, – сказала графиня. – С этими героями, если Пруссия что и готовит против убийц французского короля, так это реверансы.
На Рейне действительно стихли бои, а прусская дипломатия шла на любые условия перемирия с французами, чтобы при готовящемся третьем разделе Польши не остаться с носом, как это случилось при втором разделе.
– Меня лично не столько беспокоят прусские аппетиты, сколько судьба греков и албанцев, брошенных нами после войны, – сказал Рибас. – Они проливали кровь, а теперь на правах беженцев живут повсюду в Европе без крова. Почему бы не дать им возможность селиться в наших южных крепостях?
– Это благородно, – сказал Петр Пален, пожимая руку Рибасу и продолжал: – мы не виделись с вами после Очакова. А теперь оба заняты скучными и сугубо мирными делами. Но скучное и мирное не менее важно, чем захватывающее и воинственное.
– Не только важно, а бывает и не менее опасно, – улыбнулся Рибас, вспомнив, что Пален, прежде чем стать правителем рижского наместничества и генерал-поручиком, проиграл деньги, выданные императрицей на дорогу в Стокгольм, а поэтому отправился туда морем, произнеся знаменитую фразу: «Сама фортуна потребовала от меня смириться с качкой».
Подали кофе и ликеры. Стол сахарно заискрился бисквитами шуазскими, дофинскими и бисквитами с любовными узлами.
– Каково расписание праздников в честь рождения внучки императрицы? – спросил Рибас.
– Увы, празднеств не будет, – вздохнула Ольга. – Скорее, объявят недолгий траур.
– Как?
– Вчера у Павла умерла дочь Ольга, – сказал Пален. – Ей не было и трех лет.
Прежде, чем игроки вернулись к ломберу, Рибас спросил у Палена о Бенигсене.
– Леонтий воевал в Литве и теперь генерал-майор, – сказал Пален.
Графиня Ольга увлекла адмирала в укромный уголок салона и спросила напрямик:
– Осип Михайлович, как бы узнать: окончательно ли Суворов остановил свой выбор на Эльмпте как женихе своей дочери?
– Это можно узнать лишь у его петербургского поверенного – Хвостова.
– Не могли бы вы… – Ольга протянула адмиралу руку, он поцеловал пальцы в перстнях и сказал:
– Для такой женщины, как вы, графиня, можно сделать все, даже не спрашивая причин.
Через день Рибас собирался к Дмитрию Хвостову, но слуга доложил, что дюк Эммануил Ришелье и граф Ланжерон хотят видеть его.
– У Ольги Александровны я не мог вам сказать всего, что хотел, – заговорил с порога Ланжерон. Рибас с удовольствием обменялся рукопожатием с дюком Ришелье, спросил:
– Удалось ли вам после Измаила побывать в Париже?
– Да. Я похоронил отца и занимался делами по наследству. Потом уехал в Лондон, а когда короля арестовали, я снова был в Париже. Аристократы бежали в Кобленц, но я официально обратился к Национальному собранию с просьбой отпустить меня в Россию. И мне разрешили уехать в Петербург.
– А что же с вашим состоянием в Париже?
– Отец оставил мне пятьсот тысяч ливров годового дохода, – отвечал с улыбкой дюк Ришелье. – Но увы, долгов оказалось значительно больше. Правда, у меня оставалась недвижимость, которую Конвент объявил народным достоянием. Я лишился замка на берегу Луары. Земли были проданы. Моя жена Розалия протестовала, но ее заключили в тюрьму. Впрочем, вскоре освободили. Она живет у родственников.
– Но что же теперь? – спросил адмирал. – Каковы ваши планы?
– Мы с Ришелье возвращались в Петербург через Малороссию, – ответил Ланжерон. – И завернули к фельдмаршалу Румянцеву. Его дворец в Тошанах великолепен! Петр Алексеевич устроил в нашу честь бал. Меня лично поразила строгость тамошних дам. О, они весьма строги. Весьма. Но доложу вам, до какого-то определенного момента. Необходимо терпение, и ты сближаешься не с особой слабого пола, а становишься обладателем райского сада с медовыми грушами… Одним словом, фельдмаршал предложил нам вступить в его полки. Мне в кирасирский, дюку – в полк Военного ордена. И если учесть, что тошанские дамы таинственны, а их роскошные сады не объять до конца, то…
– Императрица должна утвердить наше назначение, – закончил за Ланжерона дюк Ришелье.
– Да! – спохватился Ланжерон. – К французам в Петербурге теперь относятся подозрительно. Мы с Ришелье тут, как две белые вороны, да и рады этому: на здешнем снегу мы не так заметны.
Адмирал обещал замолвить за них слово и отправился к Хвостову. Жена его Аграфена Горчакова, племянница Суворова, угощала стерлядью в сметане, а Дмитрий Иванович завел литературный разговор, ругал стихи Державина, посвященные Суворову.
– Александр Васильевич, хоть и не пиит, а стихотворствует лучше! – восклицал Дмитрий Иванович и читал стихи Суворова:
Царица, севером владея, Предписывает всем закон; В деснице жезл судьбы имея, Вращает сферу без препон, Она светила возжигает, Она и меркнуть им велит; Чрез громы гнев свой проявляет. Чрез тихость благость им явит.– Каково? – восторгался Хвостов. – Это пишет воин, знающий дело. А у Державина все звонко, да глупо.
– Скажите, Дмитрий Иванович, а что Эльмпт, он пишет вам?
– Что ни день, то и письмо.
– Хвалит его Александр Васильевич?
– В декабре он определил его единственным женихом Натальи, – ответил Хвостов.
Графиня Ольга встретила это известие без восторга. Спустя четверть часа пригласила его в комнату, где за столом сидел Платон Зубов и что-то писал. Затем он вышел в центр комнаты, заложил руки за спину – звезды на расстегнутом кафтане разошлись в стороны, а кружева под фамильным раздвоенным подбородком блеснули бездной бриллиантов. Рибас коротко доложил о делах на Черноморье.
– Мордвинову я укажу, – сказал Платон. – Вам разрешено брать войска во все работы. Что еще? Какой проект вы подготовили на этот раз? Наш век войдет в. историю, как век проектов.
Рибас подал приготовленные бумаги.
– А если коротко? В двух словах? – попросил Платон.
– В Хаджибее не заселено и четверти всех участков. Прибывают, в основном, купцы. Мастеровых не хватает. Им нужно дать льготы при поселении. У меня в гребном флоте полтысячи вольнонаемных греков и албанцев. В зимнее время им нечем заняться. У многих семьи. И желающих поселиться в Хаджибее достаточно. Дело за средствами.
– Я подумаю об этом, – сказал Платон.
– Льготы привлекут единоверцев из заграницы, – начал было адмирал, но Зубов вдруг спросил о другом:
– Почему, адмирал, у вашего города нет приличного названия? Зачем сохранять турецкое?
Рибас вспомнил, с каким удовольствием Потемкин, осуществляя Греческий проект, называл новые города на греческий манер: Херсон, Ольвиополь, Симферополь… Но угадывая ревность Зубова к прежнему фавориту, сказал:
– Когда я брал Хаджибей, мы искали брод через Тилигульский лиман. Артиллерия там тонула. Приходилось переправлять ее на байдарках. Но пленный татарин показал нам старый греческий брод у самого моря.
– К чему вы клоните?
– На Тилигуле возле Хаджибея еще до рождения Христова была греческая колония.
– И что же?
– Именем греческого поселения было бы прилично назвать город.
– Вот и назовите.
– Увы, за давностью лет никто уже не помнит, как оно называлось.
– Так пусть этим займутся наши бездельники-академики! – воскликнул Платон.
Он подошел к столу, взял исписанный лист бумаги, поморщился: – Мне, помимо прочего, приходится быть в должности свата. Наш Голиаф без ума от Натальи Суворовой. Вот что я пишу ее отцу.
Он передал письмо адмиралу. Итак, Зубовы хотели женить недалекого брата Николая, прозванного Голиафом за физическую силу, на Натали. Жаль двадцатилетнюю Суворочку! Но – решать отцу. Платон в письме высказывал немало похвал Александру Васильевичу и говорил о претенденте на руку Натальи Филиппе Эльмпте, беря в помощницы императрицу: «Всемилостивейшей государыне показаться может необычным, а, может быть, и неприличным, что дочь столь знаменитого российского полководца, слывущего столь привязанным и к вере, и к отечеству своему, отличенная имением и покровительством Великой нашей государыни, выдается за иностранного иноверца».
– Я совсем не знаю старика, – сказал Платон. – Говорят, он с причудами. Как, по-вашему, он примет мое письмо?
– Мне кажется, вполне благожелательно, – сказал Рибас и не ошибся.
Суворов благословил этот брак, а Рибасу писал: «Где бы Вы ни были: в С. Петербурге, Иерусалиме, Пекине или Филадельфии, близ Вас или в отдалении, я, как прежде, верный Ваш слуга и желаю сражаться под началом Вашим… А покамест пусть цветет Ваш Гаджибей, увеличивайте флот, штурмуйте Византийский пролив, как некогда Дунай».
Но умер отец Зубовых, граф Александр Николаевич, и свадьбу отложили.
Рибас ожидал, что объяснение с женой Настей будет долгим и не без упреков, но Настя, когда он вызвал ее на разговор, сказала трезво и твердо:
– Ваш сын – это ваш сын. Заботьтесь о нем. Я никогда не признаю его, даже если у него нет матери. Прошу вас никогда не рассчитывать на мой капитал, который со временем будет принадлежать моим дочерям. И не забудьте обеспокоиться о приданом для дочерей – это дело вашей чести.
Больше она на эту тему не говорила. Нельзя сказать, что их отношения стали натянутыми, нет, они сделались холодны и бесстрастны. В конце февраля чету Рибасов пригласили в Зимний на Малую ассамблею в Эрмитаж. Они поехали в одной карете, но во дворце разошлись по разным кружкам. Настя взяла под опеку рдевшую румянцем Наталью Суворову, которая при приближении рослого гиганта-жениха Николая Зубова начинала заикаться, а ее дуэнья Аграфена Хвостова ничем не могла ей помочь.
Министры российские и иностранные, придворные и знать оценили значение адмирала в кружке Зубовых, и одни зло шептались, а другие подходили с любезностями на устах. Неаполитанский посланник герцог Серра-каприола после приветствий недоуменно спросил:
– Почему Черноморское адмиралтейство задерживает выдачу открытых листов на свободное плавание неаполитанским судам?
– Это недоразумение, – отвечал Рибас.
– Наш посланиям в Константинополе граф Людольф, – продолжал Серракаприола, – прислал мне два устаревших листа и просит содействия.
– Передайте мне их и я улажу это недоразумение.
А «недоразумение» это имело имя – Мордвинов, который волочил дело, и теперь румянец пылал не только на щеках Натальи Суворовой, но и лицо адмирала вспыхнуло от гневного раздражения. А приходилось улыбаться, кланяться, вступать в беседы и не лезть за словом в карман. Императрица восседала в кресле и наблюдала за игрой в биллиард Платона и генерала Палена. Она перекрестила Наталью, пожелала ей счастья в браке и обратилась к адмиралу:
– Докладывали мне о вашей деятельности при Хаджибее. Трудитесь и дальше с таким же усердием.
– Только под вашим светлым покровительством город будет построен, – ответил Рибас, а Екатерина повысила голос, чтобы быть услышанной многими из гостей:
– Наши ученые мужи отыскали в Академии старые атласы, не поеденные мышами, и определили, что при Хаджибее находилось греческое поселение, Одисос именуемое. Но сие название, вследствие обилия в тех краях городов мужского рода, решили мы переименовать в город, носящий имя в женском роде – Одесса. Прошу всех господ иностранных посланников сообщить сие своим правительствам. Турецкий Хаджибей мы переименовываем в христианскую Одессу.
Это известие было выслушано господами иностранными посланниками с большим вниманием, и дипломаты настороженно зашептались меж собой.
Мордвинову Рибас отправил официальное заявление: «Полученное мною от находящегося при блистательной Порте Неаполитанского посланника г-на Людольфа письмо, с приложением двух отверстых листов на свободное плавание по Черному морю шкиперу Мехиорни Спарпато Вашему превосходительству представляю в оригинале. Не угодно ли будет, вместо оных за происшествием срока в минувшем году, в будущее лето на такое же плавание дать другие листы, доставляя оные сходно требованиям г-на Гр. Людольфа к нему в Константинополь».
В марте неторопливый скрипучий писарский механизм работал в испарине: летели ордера от Зубова де Волану о том, что Суворов отсутствует, а город строить надо, отправлялись донесения Рибаса к его сиятельству Румянцеву с предложениями относительно достроения города, уточнялись, утверждались, отсылались именные лиски – и весь этот бумажный поток вихрился вокруг одного эпицентра под именем Одесса.
В ночь на первое апреля начался Высокоторжественный праздник Святые Пасхи. В половине первого часа по второму пушечному выстрелу ко двору съехалась знать и генералитет. Павел с женой и детьми, а позже и Екатерина со свитой и Синодом имели выход в придворную церковь к Божьей службе. Духовник императрицы Савва Исаев начал воскресный тропарь и, когда дошел до пронзительно-торжественного «Христос Воскресе», из Санкт-Петербургской крепости палила двадцать одна пушка. Пел всенощный хор, императрица приложилась к иконе, а потом и к руке государыни хлынул нескончаемый поток придворных.
В этот же день в камер-фурьерском журнале было записано: «В пятьдесят минут пятого утра Ее Величество обеденное кушанье имела в комнате, где вещи бриллиантовые, на 9-ти кувертах, а к столу приглашены: гр. Александра Васильевна Браницкая, Петр Богданович Пассек, кн. Александр Прозоровский, граф Платон Александрович Зубов, кн. Федор Барятинский, камергер Евграф Чертков, гр. Николай Зубов, Осип Михайлович Рибас».
Кубка за здравие императрицы не было.
Адмирал, единственный из присутствующих не имевший никаких титулов, ожидал особых известий для себя. Их не последовало. Он пробыл во дворце до четырех. В церкви снова начались духовные отправления.
Никаких новостей.
После церкви Екатерина до семи играла в карты. В восьмом часу гости стали разъезжаться. Надежды генерала, что проект греческого дивизиона будет утвержден в Святой день, не оправдались. Напротив, явился Валериан Зубов, и все внимание двора сосредоточилось на нем. Он въехал в приемный зал в кресле на колесах, императрица в слезах бросилась навстречу. Она подарила ему бывший дом Густава Бирона на Миллионной улице, назначила пенсию, но двадцатитрехлетний пенсионер увлекся графиней Потоцкой и заказал себе искусственную ногу.
Только 19 апреля 1795 года канцелярия поставила в документах не одну, а две точки. Первую – в обращении Екатерины к Платону Зубову, вторую – в распоряжении Платона Рибасу. Зубову императрица писала: «Граф Платон Александрович! Приняв за благо представление об устроении в городе Одессе и окрестностях оного селений единоверных нам народов и утвердив поднесенные от вас положения…» Она утвердила в Одессе штаты трехротного дивизиона греков и албанцев из 330 человек, определила им жалование и провиант из муки и крупы.
Зубов предписал Рибасу построить для греков и албанцев «на первый случай домов каменных с небольшими лавками по обычаю азиатскому 2-х сортов. Первого – 3, ценою каждый в 1500 рублей, а второго – 50, ценою по 350 рублей». Две тысячи отпускались без возврата для церкви с богослужением на родном языке.
Отъезд Рибаса в Одессу задержали два обстоятельства: вот-вот должен был приехать в Петербург Андре, а на 29 апреля назначили венчание Натальи Суворовой и Николая Зубова. Око состоялось в придворной церкви и по желанию молодых устраивалось скромно. Суворов, к удивлению многих, к долгожданному событию не приехал, и сразу воспрянули интриганы. Они распускали слухи, что фельдмаршал благоволит, к польским бунтовщикам, ни в грош не ставит благорасположение императрицы п что он сам – второй Костюшко. Александр Васильевич действительно ходатайствовал за многих вчерашних повстанцев, а их родственники осаждали его просьбами.
Двор выехал в Царское село. Тише стало в столице. Неожиданный визит к адмиралу нанес Зиновий Чепега, атаман Черноморских казаков и по армейским чинам ставший генералом.
– Полки мои направились в Польшу, – отвечал он на расспросы адмирала. – А я здесь за деньгами. За фураж и провиант отпустили мне восемьдесят тысяч, но чтобы их получить, взятку дал – пятнадцать копеек с рубля. Посоветуйте, Осип Михайлович, что делать: жаловаться?
– Намекни Зубову, что принудили взятку дать.
Но Зиновий Алексеевич прожил в Царском селе месяц, не жаловался, взял две тысячи прогонных и уехал к полкам, получив на дорогу пирог с рыбой длиной в сажень.
Перед отъездом, не дождавшись Андре, Рибас хотел было навестить Сильвану, но она вдруг сама явилась на Дворцовую набережную. Настя, узнав о ее визите, прислала на половину мужа секретаря Хозикова с целью рекогносцировки: что за дама в их доме? Но Сильвана не оставалась и четверти часа у адмирала, потому что с порога сказала:
– Ваш брат Андре играет у Вирецкого. Я отвозила туда кофе, и управляющий передал мне записку от вашего брата.
Андре в записке просил ссудить его тремя тысячами и прислать их в дом Вирецкого на Итальянской. Этот дом был адмиралу памятен! Он отправился туда, прихватив шкатулку с деньгами, ценными бумагами и личный карточный набор: десять нераспечатанных колод, мел, увеличительное стекло, серебряную табакерку. Сильвану Рибас завез по дороге в кондитерскую. Узнал, что Руджеро год как страдает подагрой, почти отошел от дел, а итальянцы из господ теперь редко бывают у них.
– Джузеппе, будь осторожен, – попросила она, а адмирал подумал, что только Сильвана во всей столице называет его так.
Возле дома на Итальянской стояло несколько летних экипажей. В три пополудни адмирал вошел в гостиную, где его встретил управляющий. С ним Рибас на минуту заглянул в крохотную контору и заплатил десять рублей. Управляющий ворковал:
– Коммерческая игра идет как всегда вяло. В зеленой – гусары. Больше шумят, чем испытывают судьбу. В малиновой итальянец Маттео играет с поручиком.
– Где Андре?
– В штофной.
Через голубой зал, где играли в коммерческий вист на двух столах и слышались возгласы: «Ренонс не считается! Масть! Роббер, господа!», за слугой с подносом, который спешил в зеленую, Рибас коридором прошел в штофную. Тут было многолюдно – настоящая игра начнется к вечеру, а пока в штофной приглядывались к возможностям партнеров, старались угадать темпераменты и характеры. Две дамы, склонившись друг к другу, шептались за столом, в одной из них в платье с глубоким декольте и янтарными квадратными бусами на точеной шейке под пламенем рыжеватых волос адмирал узнал Катрин. «Мой бог! Как она здесь?» Он отвернулся и увидел Андре, стоящего у окна в зеленый сад.
– Почему ты не заехал ко мне с дороги? – спросил Рибас у брата.
– Я начал игру в трактире у заставы, – отвечал Андре. – Выигрывал. А продолжать пришлось здесь.
– С кем ты играл?
– Он назвался Маттео. Негоциант. Но ловок.
– Сколько?
– Я же писал – три.
– Будь здесь и жди.
– Дай мне денег. Больше ничего не нужно.
– Ничего, кроме трезвой головы, – отвечал адмирал, отсчитал Андре три тысячи и вышел из штофной, незамеченный Катрин.
В малиновой комнате три стола оказались пусты, а за четвертым незнакомец, очевидно, Маттео, играл с поручиком. Рибас поставил шкатулку на свободный стол и присел, наблюдая за игрой. Поручик выигрывал брелан за бреланом. У стен, обитых синим штофом, стояло несколько мраморных бюстов, придававших обители азарта степенный вид. Адмирал отвернулся от игроков – вошла Катрин.
– Дорогой, – обратилась она к Маттео, – когда же мы едем?
– Как только я проиграю этому юному гению все, – ответил Маттео обреченно.
– Отдай ему все свои деньги и уедем.
– Увы, надо играть.
– Тебе никогда не выиграть у этого Купидона, – сказала Катрин и погладила поручика по щеке. Тот, зардевшись, встал, восторженно поцеловал ее руки. Но адмирал искоса смотрел только на Маттео – нельзя упустить ни одного движения игрока… руки его над столом летали, ни на секунду не оставаясь без движения. Нет, Рибас ничего не заметил, но может быть Маттео заметил, что за ним наблюдают? Подозрения не оставляли адмирала.
– Я счастлив, мадам, – сказал поручик. – Где мы найдем вас, когда закончим?
– Ах, я буду в саду.
Она ушла, не взглянув в сторону Рибаса. Через получас поручик снял с пальца перстень.
– Я играю только на деньги, – твердо сказал Маттео. Поручик, пошатываясь, вышел из малиновой. Маттео аккуратно вытирал пальцы шелковым платочком.
Рибас перекладывал на столе нераспечатанные колоды.
– Не заплесневели ли ваши карты? – весело обратился к нему по-французски Маттео.
Рибас сидел к нему вполоборота и, не глядя на игрока, спросил:
– Что вы можете предложить?
– Что угодно. Прошу.
– Я бы хотел играть за этим столом.
– Почему? Светлее?
– Укромнее.
Переменить стол по мнению адмирала было немаловажно.
– Мне все равно, где проигрывать, – сказал Маттео и сел за стол Рибаса.
– Фараон? – спросил адмирал, улыбнувшись.
– Право, не знаю, – неуверенно ответил игрок, а Рибас, распечатывая колоду, продолжил:
– Буйот?
– Играл вчера. Не повезло.
– Не играть же нам в пикет.
– О, да.
– Брелан?
– Я не играю два раза подряд игру, которая только что сделана.
«Он хочет вывести меня из равновесия», – догадался Рибас и с удовольствием позволил себе это, воскликнув:
– Но черт побери, назовите вашу игру! Право, мы будем решать это до утра?
– Вы знаете столько игр?
Это был первый промах Рибаса: Маттео насторожился. Следовало успокоить его и Рибас рассмеялся:
– У меня есть десять тысяч и я хочу испытать судьбу перед отъездом в армию.
– Макао.
– С объявлениями, – предложил Рибас.
– Идет.
Адмирал распечатал еще одну колоду, неумело смешал карты. Проще макао игры нет. Туз – одно очко. Фигуры и десятки не считаются. Остальные карты от единицы до девятки – считались по их достоинству. Требовалось набрать девятку. Если она сразу на руках – выигрыш.
– Я ставлю три тысячи, – «поспешил» объявить Рибас.
– Сколько?
– Три.
– Отлично. Но сначала все-таки следует определить: кто из нас банкомет!
– Ах да. Простите, – «спохватился» Рибас.
Они вытащили из колоды по карте, адмиралу досталась меньшая – он банковал, а поэтому достал из шкатулки объявленную сумму и с первой сдачи к нему пришла девятка. Это означало, что Маттео проиграл девять тысяч – выигрыш за девятку шел втрое.
– Вина? – спросил Маттео.
– Непременно! – «охотно» согласился Рибас, и его противник щелкнул пальцами и крикнул слуге: – Венгерского!
Собственно, адмирал уже отыграл проигрыш Андре, но нельзя было оставить взятую на себя роль. И потом, если и дальше так будет везти… В банк Маттео поставил двести рублей, восьмеркой удвоил их. Рибас отдал проигрыш, достал табакерку, положил под нее пятьсот и объявил:
– Играю под прессом!
– Вы так боитесь за финал? – спросил противник. Он знал толк в игре. Под прессом обычно играют в конце, когда денег у проигрывающего остается мало, а под прессом, не объявляя суммы, можно скрыть их нехватку. Но что теперь скажет Маттео? Он мог объявить: «Беру пресс», или «Беру вдвое», он мог хоть удесятерить неизвестную ему сумму под прессом.
– Беру вдвое, – сказал он и выиграл восьмеркой.
– Пресс вдвое – это тысяча, – подсчитывал Рибас. – Да за восьмерку – вдвое, получите две тысячи.
Десять талий Рибас играл под прессом. Маттео посмеивался:
– У вас же есть деньги. Зачем вам пресс?
Но Рибас намеренно путал игру.
К ним подошел бледный Андре. Маттео почему-то встал.
– Прошу вас. Мой долг. – Андре небрежно бросил ассигнации на стол. – Я не затруднил вас?
– Нисколько.
– Честь имею.
Маттео кивнул. Андре отошел от стола. Следующие десять талий Рибас играл без пресса. Удача была попеременной.
– Боже мои, – услыхал Рибас рядом с собой голос Катрин. – Я просто извелась. Сколько же можно играть, дорогой Маттео?
Рибас повернулся к ней, встретился взглядом, встал, поклонился:
– Мадам, не имею чести быть знакомым, но сочту за величайшее удовольствие быть представленным.
– Катрин Васильчина, – сказал партнер.
«Имя она не переменила. Но неужели здесь в амазонках? – спросил себя Рибас, а Катрин лукаво улыбнулась, протянула руку в кружевной перчатке.
– Я хочу, чтобы вы обыграли Маттео, – сказала она, когда он целовал ее руку.
– Мадам, ради вас я сделаю это непременно.
– Сделайте это хотя бы для себя.
– Свой выигрыш я посвящу вам.
– Маттео, я жду! – сказала она капризно, Маттео улыбался, с усмешкой взглянул, как Рибас не сводит глаз с Катрин, которая уходила. Адмирал сел, обернулся, совсем «забыв» об игре, воскликнул:
– Какая женщина! Вы счастливчик, Маттео.
«Она волнует и отвлекает его партнеров, – думал Рибас. – Желает им выиграть. А уж если такая рыжеволосая весталка на твоей стороне – противникам Маттео море по колено. Неужели амазонка? Но как же она превратилась в подругу игрока?» Адмирал повел сильную игру, отвечал на крупные ставки не менее крупными, но заметил, что неизменно остается хоть в малом, но проигрыше. «Нужно озадачить ангела судьбы моего визави» – решил он и спросил по-итальянски:
– Вы не знаете Диего Ризелли? Он в Петербурге?
Маттео чуть было не выронил карты, выпил вина, внимательно посмотрел на адмирала своими белесыми на выкате глазами и вдруг ответил:
– О, нет, адмирал. Ризелли в Одессе.
В одно мгновение рухнул карточный домик психологической игры, которая, как думал Рибас, возведена им искусно. «Он знает меня! Знает, что Хаджибей переименован. Ризелли в Одессе? Или это блеф, чтобы я потерял равновесие? Бог мой, он наверняка знает, что я знаком с Катрин!»
Шесть талий Маттео выигрывал вдвое с первой восьмерки без прикупа. Рибас ставил мелочь. Потом тысячу, обернувшуюся тремя тысячами проигрыша. Затем играл осторожно, но Маттео вдруг поставил пять и взял пятнадцать! Ангел удачи отлетел от Рибаса. Он снова стал играть под прессом. Маттео не рисковал и пресс оценивал скупо.
Когда зажгли свечи? За соседним столом карты щелкали, как звучные пощечины. Графин с вином переменили в третий раз. Маттео играл чисто. Надо было кончать, адмирал объявил, что играет последние десять талий. На восьмой, из всех денег, взятых из дома, у него осталось полторы тысячи. Он поставил тысячу четыреста, которая тут же упорхнула к сопернику.
– Что теперь? – думал он лихорадочно. – Сотню под пресс?» Он положил под серебряную табакерку ценные бумаги на владение землей в Бююк-Сюрен, с тоской вспомнил Айю, а бумагами через мгновение завладел Маттео, долго рассматривал их, кивнул, сказал:
– Превосходно!
Десятая последняя талия принесла адмиралу на сотне смехотворный по сравнению со всей игрой выигрыш в триста рублей. Все было кончено. Рибас встал, предложил:
– Нам нужно переговорить.
– О, нет, я устал, – ответил, зевая, Маттео.
Рибас кивнул и вышел из малиновой. Андре нигде не было. Адмирал направился к своему экипажу и не удивился, увидев в коляске поджидавшую его Катрин. Ничего не приказав кучеру, он сел напротив нее.
– Ты много проиграл? – спросила она.
– Как ты оказалась с ним?
– Меня ограбили под Ольвиополем.
– У тебя есть поместья.
– Родственники добились их опеки.
– Значит, теперь ты амазонка.
– Что это значит?
– Маттео использует тебя в игре.
– Но как? Он шулер?
– Я не заметил.
– Я всего лишь третий раз с ним у Вирецкого.
– Это начало.
– Что же мне делать? У меня совсем нет средств.
Рибас с усмешкой достал триста рублей и передал Катрин:
– Это все, что у меня есть. Оставь игрока. Добивайся снятия опеки.
Не поблагодарив его, она вышла из экипажа.
Дома адмирал спросил у Хозикова:
– Андре здесь?
– Я проводил его в гостевую. Он спит.
На следующий день адмирал собирался к отъезду вместе с Андре. Петербург уже знал о его проигрыше. Жена съязвила:
– Вы уезжаете? По-моему, вы должны идти в Одессу пешком.
Но все-таки, несмотря ни на что, Настя была верна себе и в другом – через Хозикова она прислала мужу шкатулку с драгоценностями. Адмирал побежал к Насте, пал на колени, целовал ей руки.
Из дворца явился обеспокоенный Базиль Попов.
– Императрица знает о вашем проигрыше.
– И что же?
– Сказала только: «Вот и Рибас начал проигрывать».
– Отлично.
– Федор Ростопчин уверяет всех, что вам все нипочем.
– Почему?
– Считает, что вы в Одессе наживаете полмиллиона в год.
Адмирал усмехнулся, раскрыл шкатулку жены.
– Не могли бы вы помочь мне продать что-нибудь из этого?
– Конечно.
11. Неотложные заботы и обидная размолвка 1795
Адмирал вместе с Андре уехал на следующий день. Россия майскими цветущими садами и зелеными полями летела навстречу экипажу, в котором Рибас лишь поглядывал на угрюмого Андре и обдумывал застрявшую в голове мысль: почему открытые листы на свободное плаванье шкиперу Спарпато оказались в Петербурге? Что-то тут было не так. Зачем неаполитанскому посланнику понадобилось пересылать их из Константинополя в Петербург? Почему не в Черноморское адмиралтейское правление? Может быть, это подлог, связанный с масонами Ризелли и его пребыванием в Одессе? Если это так, то под нажимом его, Рибаса, Черноморское правление выдало теперь шкиперу разрешение на плаванье, и получалось… Адмирал покрылся холодным потом: «В таком случае я содействовал его темным делам! Надо как можно скорее добраться до Херсона!»
Но как он не спешил, дворцовая курьерская почта обогнала его, и в Екатеринославе он получил письмо от Базиля о том, что одно кольцо удачно продано и что императрица вдруг распорядилась выдать адмиралу шестнадцать тысяч в благодарность за усердие, но деньги следовало получить в дворцовой канцелярии.
Адмирал остановился у нового губернатора и тезки Осипа Хорвата и написал Базилю: «Екатеринослав. 7 июня. Я послал жене формальную доверенность для получения 16000 р. и бланк, на котором можно писать прошение в Кабинет, потому что никто не знает того форму… Г-н Хорват меня очень хорошо принял, и я очень доволен им, хотя мой преследователь г. Мордвинов написал ему низкое письмо на мой счет. Мне кажется, что этот адмирал от лукавства и злости с ума сошел». Он до того переполнил дозу неприязни ко мне, что я истинно к тому равнодушен».
Андре захворал, и адмирал оставил его в Екатеринославе, взяв слово, что по выздоровлению он отправится к Феличе в Брацлав, продолжать службу. В Херсоне Рибас узнал, что открытые листы шкиперу Спарпато выданы и его суда ушли к бывшему Хаджибею – название Одесса в Черноморском правлении воспринимали скептически и считали его временным.
Уже за островом Тендра адмирал начал всматриваться в надвигающийся берег, как будто желал увидеть законченный постройками сказочный город, а вместо него стал различать неровные силуэты обыденных домов на взлете холма, но разочарования не было: в прошлом, году он и этого не увидел бы. Пять купеческих судов из; Константинополя стояли на рейде. В Хаджибейской, а теперь Одесской гавани, с палубы бригантины адмирал определил, что за зиму сделано немало. На берегу его встречали де Волан в новом полковничьем кафтане, бригадир Киселев, майор Кейзер, оба Кирьякова и полковник Марк Портарий.
– Не ожидал, господа, что так успешно идут работы. Военный мол почти отстроен!
– На сто пятьдесят сажен засыпали, – сказал де Волан. – Зима помогла. Гавань замерзла.
Это было неожиданно: в прошлые зимы гавань не замерзала.
– Местные татары говорят, что море у берегов раз в пять-шесть лет обязательно замерзает у берегов, – сказал Кейзер.
– Нам это пришлось на руку: сваи со льда били, – пояснил де Волан.
Киселев вздохнул и сказал о своем:
– Зима лютая стояла. С жестокими ветрами. Смертность в войсках большая.
– Сколько же?
– До тысячи человек.
– Да ведь это же полк! – воскликнул Рибас.
– А что поделаешь? – пожал плечами Киселев. – Топливо кончилось. В казармах стужа стояла. Благодарение Богу – чума обошла. А сейчас умирают меньше.
– Все равно головой отвечать.
Помрачневший адмирал подошел к начальнику таможни Михаилу Кирьякову и спросил о шкипере Спарпато.
– На Тавриду с двумя судами направился, – ответил Кирьяков. – Десятка два наших греков с ним ушли.
– Как же так?
– Разве уследишь? Ночью на лодках утекли. Теперь уж, верно, в Севастополе.
«Послать туда кого-нибудь или отправиться самому», – решал адмирал. Он отобедал в присутствии Миши, Лизы и офицеров. Затем передал штатное расписание греческого и албанского дивизиона и приказал приступить к его формированию. Сообщил, что в Овидиополе и Одессе учреждаются соляные магазейны. В Овидиополе на 800 тысяч пудов, в Одессе на миллион двести. Одесской солью решено было снабжать Изъяславскую, Браславскую и Подольскую губернии. А соль в Одессу везти из Тавриды. «Это и мне повод отправиться туда», – решил адмирал и объявил:
– Господа, у меня срочные дела в Тавриде. Через час я отплываю.
Мишенька стал упрашивать взять его с собой, и Рибас согласился, приказав собираться по-военному, а Лизе сопровождать его.
Плаванье до Севастополя прошло восхитительно. Миша стоял у руля, обозревал берега в зрительную трубку, довил камбалу. Рибас не говорил с Лизой о Катрин, чтобы не огорчать, а занимал ее рассказами об Италии. Крымский берег к этому располагал. В Севастопольской таможне он узнал, что шкипер Спарпато не торгуясь закупал провизию, нашлись очевидцы того, что на его суда тайно грузили оружие, а три дня тому он снялся на Константинополь, взяв на борт в укромной бухте человек двадцать разной национальности. Об этом сообщил казак, который в последний момент отказался от денег шкипера. «Если Ризелли на его судах, – думал Рибас, – значит, он решил вернуться на Сицилию или Италию не с пустыми руками. Но что они затевают?»
С правителем Тавриды генерал-майором Жегулиным адмирал осмотрел евпаторийские берега, побывал на озере Сако и определил, что отсюда весьма выгодно брать соль для одесского магазейна. Жегулин дал распоряжение построить тут три пристани. Войновича в Севастополе не оказалось. Его назначили начальствовать над строящейся верфью на Днепре, где предполагалось заложить суда для гребной флотилии Рибаса, и адмирал послал старому приятелю дружеское письмо с надеждой на скорую встречу.
Вернувшись в Одессу, адмирал занимался организацией транспортов за солью в Тавриду. Афанасий Кес, привозивший из Херсона медь, не только взялся за новый промысел, но и привел незнакомого Рибасу купца:
– Рибас-паша, я снова перейду в мусульманскую веру, если вы не узнаете его! Но клянусь Христом и Аллахом – вы его не узнаете!
Черноволосый, облысевший со лба, грек в русском кафтане стоял перед адмиралом и улыбался. Он оказался Федором Флоганти – бывшим послушником с острова Периго, двадцать пять лет назад служившим под началом Рибас-паши на судне «Лазарь». Но провидение на этом не закончило свои сюрпризы. К адмиралу явился Федор Бицилли – бывший юнга, которого матросы «Лазаря» выловили у острова Патрос четверть века назад. Теперь это был стройный мужественный офицер со шрамами на лице. Во вторую Турецкую войну он дослужился до чина секунд-майора в армии Юрия Владимировича Долгорукова. Рибас прочитал его рекомендательное письмо.
– Майор, для вас у меня есть вакантное место, – сказал адмирал уважительно. – Согласитесь ли вы на должность командира формируемого в Одессе греко-албанского дивизиона?
– Я прибыл в Одессу служить под вашим началом.
Из Тавриды адмирал привез саженцы фруктовых и декоративных деревьев, взял участок в пяти верстах от Одессы для загородной дачи, но саженцев оказалось в избытке и явилась мысль: посадить сад в городе. Под него он выбрал ровную площадку у сползающего к морю оврага и в сентябре стал закладывать сад, привез сюда к началу работ Мишу и Лизу, живописал, какой тут будет оазис лет через десять. Казаки рыли ямы, подводили воду. Адмирал сидел в тени экипажа, когда к нему подошел Афанасий Кес. Одет он был во все офицерское, только без аксельбанта и пояса с золотыми кистями, но выглядел генералом в отставке. Ни слова не говоря, Кес протянул адмиралу руку – на ладони лежали две серебряные турецкие монеты.
– Благодарю, – сказал адмирал. – Это твой вклад для городского сада?
– Одна из монет фальшивая, – многозначительно ответил Кес.
– Ты готов даже фальшивыми деньгами помочь городу?
– А вы попробуйте определить: какая монета настоящая, а какая фальшивая.
Рибас и так и этак сравнивал тускло поблескивающие монеты, подбрасывал их на ладони, стучал о поручни экипажа, всматривался в чеканку, но отличить поддельную не мог.
– У купцов в Одессе много фальшивого серебра.
– Садись. – Дело представлялось нешуточным, и они поехали через форштадты к адмиральскому дому на спуске к морю.
– Но как же ты отличаешь фальшивую от настоящей? – спросил Рибас по дороге.
– Я ведь с детства был приставлен к тарабхану в. Константинополе.
– Что за служба?
– Монетный двор. Я был на выучке у главного чеканщика. Он меня любил, он мне столько секретов открыл – султан их не знает. А я, Кес, знаю.
От гордости за свое знание он важно вскинул голову, руки сложил на груди и чуть было не вылетел на ухабе из экипажа.
– Держись. Иначе нам придется продолжать разговор в лазарете.
– Кес знает, как держаться. Кесу палец в рот не клади.
В адмиральской приемной стояла благословенная прохлада. Рибас велел дежурному принести малиновой воды.
– Э, нет, – сказал Кес. – Пусть вина несет.
Рибас распорядился.
– Откуда же в городе фальшивое серебро?
– Кес думает, что из Тавриды. Кес замечал: как оттуда приходят суда, то у купцов появляются фальшивые деньги. А отличить поддельную монету могу только я Это тонкое дело, и Кес его знает.
– Сядь и напиши обо всем, – предложил адмирал. – А завтра пойдем в таможню и будем проверять корабли из Тавриды.
– Зачем? От этого только вред будет. Фальшивое турецкое серебро охотно принимают и в Персии, и в Константинополе, и в Басре. Да по всей Аравии. Там тоже отличить не могут и дают за это серебро любой товар.
– К чему ты клонишь?
– Я могу чеканить фальшивую монету. Мне нужно двадцать ремесленников – я их научу. И еще сорок работников. Дайте Кесу шестьдесят человек и он начнет чеканить турецкое серебро в Одессе! Вы будете не чугуном торговать, а вывозить мешки моих монет и иметь любой товар.
– Значит, дело за малым?
– За серебром? У императрицы серебро дешево. Кес считает: выгода будет семикратной, если не больше.
– Дело за малым: найти для нас с тобой подходящий каземат.
– Риск есть. Но дело надо вести секретно.
– Пей вино и забудь о своей затее, – сказал адмирал и подумал: «Не на эти ли фальшивые деньги шкипер Спарпато нанимал людей и скупал ружья – Ризелли в Петербурге был без средств».
Кес проявлял предприимчивость не только в немыслимых предприятиях. Он быстро построил дом, завел контору, купил волов, повозки, сдавал их внаем. Купил землю в Тираспольском уезде. Для греков-поселенцев стала необходимость назначить предводителя, и Рибас рекомендовал Зубову Афанасия.
В конце сентября пришло печальное известие от Насти о смерти Бецкого. Жена писала, что он умер, как дитя, не сознавая, что умирает, и не понимая, где находится. Настя благодарила бога за то, что ее благодетель и покровитель за три года до смерти распорядился похоронить его при Невском монастыре, оставив шесть тысяч навечно для содержания надгробия в чистоте и порядке. Настя советовала мужу приехать, ибо предстояло уладить дела с наследством.
Но заботы не отпускали Рибаса. Планы межевания городской земли и выпасов закончены не были, хотя все лето землемер Чуйка бегал с инструментом и бил вешки. Границу города определяла теперь вспаханная полоса. Вдоль моря с севера на юг городские земли с выпасами занимали 12 верст, а от берега моря вглубь степи 6 верст.
Михаил Кирьяков со своими подручными сбился с ног, составляя ревизские сказки, и сообщил адмиралу сведения, что в Одессе проживает 2350 человек обоего пола. Из них мужчин представляли 84 российских купца, 1218 мещан, 159 евреев, 129 греков, 33 болгарина. Слабого пола в купечество записалось 65, в мещане 457, евреек числилось 96, гречанок 100, болгарок 28. Женщин в городе проживало вдвое меньше, чем мужчин. Но в истинности ревизской сказки адмирал усомнился:
– Где в Одессе ремесленники, мастеровые, работники, крепостные, слуги? Думаю, эту сказку надо заново составлять.
Еще весенним рескриптом Екатерина ссудила деньги на строительство соборной церкви Святого Николая, и в Одессу на закладку храма приехал митрополит Гавриил. Ему освободили покои в офицерском доме, и купцы, мещане валом повалили под сень митрополичьего креста и жаловались на пьянство полкового священника отца Евдокима, на то, что церковь Святой Екатерины у казарм строится спустя рукава, а единоверцы-греки просили помощи, чтобы ставить храм Святой Троицы и Спиридона Тримифутского в южном предместье. Гавриил совещался с адмиралом.
– Вместо впавшего в греховность отца Евдокима я пришлю протоирея Георгиевского, священника и дьячка. Старосту пусть приход выберет из достойных прихожан.
– Жаль отца Евдокима. Он тут с первого камня.
– Епитимью на него наложу, – сурово обещал Гавриил. – А вы помогите свечной завод поставить. А доход от продажи свечей и тарелочных доброхотных денег и будет способствовать Божьему промыслу в граде Одесса. Не хлебом единым жив человек, а у вас на пекарню тыща рублей отпущена грекам, а на их храм всего пятьсот.
– Это исправим, – обещал адмирал.
Суворов по-прежнему не оставлял своим вниманием Рибаса. Из Варшавы прислал секретные артикулы переговоров Пруссии и Франции, мир между которыми был заключен в Базеле. В свою очередь адмирал уведомлял фельдмаршала о константинопольских настроениях и сетовал, что гребной флот вконец износился за шесть лет, а новых судов нет.
Глубокой осенью адмирал узнал, что императрица повелела Александру Васильевичу передать войска генералу Дерфельдену, отменила экспедицию в поддержку Сардинского короля, воевавшего с Францией и приказала фельдмаршалу прибыть в Петербург. Суворов писал адмиралу: «меж тем произошел раздел. (Польши). Мы получили правый берег Буга, левый достался австрийцам, здешняя сторона – пруссакам. Всемилостивейший указ отзывает меня в Санкт-Петербург, где я вас обниму. Говорил я на днях во всеуслышанье о вашем прогнившем флоте, не вмешивая вас лично…»
Деликатность Суворова не была снисходительностью. Все, и в том числе Мордвинов, давно знали: гребной флот необходимо срочно обновлять. Императрица распорядилась об этом, но все оставалось лишь на бумаге, и часть денег, отпущенных флоту, адмирал использовал не на ремонт, а на покупку трех судов.
В ноябре столичный курьер привез в Одессу письмо Платона Зубова: «Милостивый государь мой, Иосиф Михайлович! По прошению Вашему Ее Императорское Величество позволяет Вам по окончании предположенным в нынешнем году строениям и в такое время, как Вам способнее будет, приехать в Петербург на столько времени, сколько домашние Ваши дела того востребуют».
Конец года ознаменовался дождями с порывами норд-оста и окончанием военного мола. Судам флота теперь было где укрыться на зиму. Адмирал сообщил в Петербург о том, что отстроены и казармы, а молу дано название Платоновского – в честь Зубова. Императрица пожаловала де Волану за усердие десять тысяч, а Платону и Рибасу изъявила свое монаршье благоволение.
Мишенька после внезапной болезни был бледен и слаб, не приходилось и думать о том, чтобы везти его в Шилов в кадетский корпус.
– Я подсчитала, – говорила Лиза, – он три месяца не выходил из дома, не был на свежем воздухе.
Теперь, когда бы адмирал не приезжал в ее дом, он всегда заставал здесь де Волана. Лиза смотрела на него влюбленными глазами, внимала каждому слову, а адмирал с горечью думал, что и Катрин была благосклонна к нему, но полюбила адъютанта Потемкина Рибопьера. Рибопьер мертв, а где сейчас Катрин? А что ждет Лизу и де Волана? Ответы на эти вопросы даст время, а пока адмирал привез Мишеньке на зиму изюм, фрукты и померанцы.
К концу года Одесса отстроилась двумястами домами, но столько же было землянок. Сырость в казармах, отсутствие дров, экономия камыша для печей, скученность людей, нестрогий карантин – все это снова привело к болезням. Лазарет при казармах оказался переполненным. Рибас распорядился о хлебе и говядине для хворых, но в полках его приказ не выполнялся. Было от чего прийти в отчаяние – смертность среди жителей и нижних чинов росла.
Адмирал надеялся, что положение исправится, когда будет устроен магистрат. Рибас пригласил к себе де Волана, офицеров, купцов обсудить предстоящие выборы. Полицмейстер Кирьяков был болен – его замещал секунд-майор Небольсин. К зиме взялся за ум и отец Евдоким, не пил, исправно отправлял службы.
– Как будем выбирать городского голову, господа? – спросил адмирал собравшихся.
– Соберемся миром да выберем, – отвечал купец Тимошенков.
– Где соберемся по такой стуже? – послышались вопросы, – Помещений нет, чтобы всему миру собраться! Дни теплые еще будут?… До пасхи ждать?
Выборы оказались весьма зависимы от норд-оста и дождей. Решили собрать сотню мужей разных сословий, подыскать дом попросторнее, чтобы отец Евдоким привел их к присяге, а потом они и начали бы выборы Головы, бургомистра, словесного суда, старосты, секретаря.
– А чтоб порядок был, мне еще одна рота солдат нужна, – сказал Небольсин, и с ним согласились.
Не дождавшись начала выборов, адмирал простился с Мишей и Лизой и перед Рождеством отбыл из города.
Четыре месяца миновало со дня похорон Бецкого, и адмирал, приехав в Петербург, не нашел жену неутешной, скорее Настя утратила свою обычную насмешливую иронию и обо всем отзывалась с горечью.
– Была ли императрица на похоронах? – спросил адмирал.
– Да вы совсем не знаете придворной жизни, – ответила жена.
– Но умер близкий ей человек, многие даже считали Ивана Ивановича ее отцом.
– А меня – ее сестрой. – Настя расхаживала по комнате в легком, не по зиме платье и то вязала узелок на кружевном платочке, то развязывала его.
– Значит, на похоронах ее величества не было? – спросил Рибас.
– В этот день она устроила бал. Собрала знать в Китайской зале. Дамы в греческом платье, кавалеры – в цветном.
– Непостижимо!
– Я бросила горсть земли на крышку гроба, а она играла в карты.
Отпевали вельможу в Благовещенском соборе Невского монастыря. Были сенатские. Законоучитель кадетского корпуса архимандрит Анастасий Братановский в своей речи отметил, что Бецкий не только помогал ближним, но и самой Природе. Усопшего похоронили в палатке – крытом помещении, отделяющем собор от церкви Святого духа. На стене, к которой прилегает могила, надпись по латыни гласила: «Что век свой заслужил – на вечность приобрел». Державин торжественна изрек в «Оде на кончину Бецкого»:
Кто блеск любил – ты устранялся; Кто богател – ты ущедрялся; Кто расточал – ты жизнь берег; Кто для себя – ты жил для всех.– Я была неутешна, – продолжала Настя, не замечая, что рвет кружева платочка, – а моя тайная сестра осыпала бриллиантами своего постельничего.
Платон Зубов готовился стать князем Римской империи. Об этом из Вены написал адмиралу Андрей Разумовский, которого Рибас не видел уже более десяти лет. Жена не успела переслать его письмо в Одессу, и адмирал, читая письмо в Петербурге, узнал, что граф Андрей сделал третье представление императору Францу II о том, что фаворит достоин этого высокого титула.
Каждый раз, приезжая в Петербург, Рибас обращал внимание на то, как одета Настя. Придворные моды часто отражали и политический европейский барометр. На этот раз в доме жарко топили печи, ибо Настя мерзла в платье, напоминающем легкую греческую тунику, а волосы уложила не высоко, и прическу венчал большой серебряный гребень, впившийся в волосы сверкающим лезвием.
– Теперь такова мода при дворе? – спросил адмирал.
– Это платье зовется «термидор».
– А прическа?
– А ля гильотин.
Поистине, термидорский заговор и казнь Робеспьера на гильотине со всей прямолинейностью отразилась в зеркале моды. Президент победившей французской Директории Баррас не только отправил молодого генерала Бонапарта на Север Италии, но и почти ежедневно проводил вечер в обществе дам– в античных нарядах.
В завещании Бецкий распорядился оставить пятьсот рублей нищим, родовую икону Знамения Богоматери передать родственникам князей Трубецких, от коих он получил свою фамилию. Насте он завещал 120 тысяч. У него оказалось много иждивенцев, которые учились на его деньги. Смольнянкам он оставил 33 тысячи, кадетам – 20, своим пенсионерам – ученикам Академии художеств – 33 тысячи.
Рибас от Ивана Ивановича денег не получил, но в завещании прочитал: «…в знак благодарности моей за дружбу ко мне, усердие и за все оказанные мне услуги Иосифу де Рибасу отдаю в вечное потомственное владение дом мой, состоящий на Большой Миллионной, противу главной аптеки и на набережную, с находящеюся в оном церковью». И Насте он завещал два дома по этому же адресу, потому что все его дома давно объединились переходами и надстройками в жилое громадное каре. Поразмыслив над завещанием, Рибас сказал жене:
– Недвижимость – это всегда хорошо. Но слишком много недвижимости без наличных денег меня не привлекает. Я построил загородный дом в Одессе с садом, куда ты и дочери смогут приезжать на лето. Но надо отдать долги. Если ты в своих домах выделишь мне кабинет, спальню и гостиную, я бы продал свою часть наследства.
– Я понимаю, ты хочешь обеспечить сына?
– Деньги мы разделим поровну.
Настя не долго думала и, в общем-то, согласилась, не преминув облечь свое согласие в заявление:
– Делай, как знаешь. Мне ничего не нужно.
Рибас поспешил к неаполитанскому посланнику герцогу Серракаприоле и застал его в печали. И было отчего: антифранцузская коалиция распалась, посол Директории в Неаполе требовал от Фердинанда союза против Англии.
– Увы, в Неаполе находится ядро, которое может взорваться каждую минуту, – говорил герцог. – Генерал Бонапарт в Северной Италии зажег фитиль.
– А что Ризелли? У вас нет сведений о нем? – спросил Рибас.
– Из Константинополя он привел в Неаполь несколько вооруженных судов и попал с ними в щекотливое положение. Диего объявил, что прибыл поддержать Фердинанда в борьбе против бунтовщиков. Но время политических процессов над ними прошло. Они подняли головы и добились ареста Ризелли за лжесвидетельства.
«А я невольно способствовал этому тем, что помог получить шкиперу Спарпато открытые листы на свободное плаванье», – подумал Рибас. Но ни радости, ни облегчения от того, что избавился от давнего врага, адмирал не ощутил.
Рибас дважды заезжал к Суворову, но оба раза не застал фельдмаршала в Таврическом дворце, где ему отвели покои. Дежурный офицер говорил, что граф у Хвостова; там указывали на дом зятя – Николая Зубова, а оттуда отсылали на Итальянскую. Виктор Сулин рассказал, что встретили фельдмаршала торжественно:
– В Стрельну, откуда он ехал, выслали парадную Георгиевскую карету. Только генералы составляли его свиту. В Таврическом занавесили зеркала, убрали альков, бросили на пол охапку сена. Говорят, императрица сама приготовила ему чугунок моченой редьки.
«Странно, почему я не могу его нигде застать?» – удивлялся адмирал, и когда на Итальянской в доме графа слуга объявил:
– Вас не велено принимать! – Рибас не поверил, оттолкнул лакея и вбежал в покои графа. Фельдмаршал, обнаженный по пояс, стоял перед бочкой с ледяной водой. Завидев Рибаса, поднял руку в карикатурном приветствии и вдруг воскликнул:
– Истребитель воинства российского явился! Виват!
Изумленный адмирал увидел, что Александр Васильевич опустил в бочку голову, сделал вид, что захлебывается и пускает пузыри, а потом, вскинув голову, закричал;
– Вот как у вас солдаты мрут! Видеть не хочу! С глаз долой!
Он плеснул в сторону Рибаса водой, и адмирал поспешил ретироваться.
В тот же день Рибас послал гневные депеши де Волану и генералу Киселеву и отправил на поправку дел в лазаретах тысячу рублей. Но Базиль Попов, навестивший адмирала, чтобы выяснить условия продажи унаследованного от Бецкого дома, сообщил, что Суворов узнал о посылке тысячи рублей.
– И что же?
– Говорит, что вы за его спиной мертвых желаете деньгами воскресить.
Рибас задумался: «В чем дело? Откуда вдруг такая вражда? Дело рук Мордвинова? Нет, граф ему цену знает. Давно ли Александр Васильевич писал мне искренние и дружеские письма и даже выражал готовность сражаться под моими знаменами?»
– Суворов принял предложение возглавить все войска, дислоцированные на юге, – сказал Базиль. – И не вы один у него на сковороде. Достается всем. Киселева не иначе, как продажной бабой, не называет.
– Но я ему не кадет, чтобы терпеть выволочки! – воскликнул адмирал.
– Да. Но истинная причина перемены к вам Суворова, я думаю, вот в чем, – сказал уверенно Базиль. – Вы вхожи к Платону Зубову. Он к вам благоволит, доверяет во всем. А Суворов теперь с ним в ярой вражде.
– Но ведь они через Николая Зубова родственники.
– Это для графа не причина считать его выскочкой.
– Но разве только сейчас он это понял? Всегда знал, а породниться с ним не побрезговал.
– А теперь он и в грош его не ставит.
На это адмирал ответил довольно жестко и определенно:
– Потемкин был выскочкой более скороспелой, чем Платон, а граф ему чуть ли не до кончины в любви клялся. Дело, видно, не в этом. Фаворит при русском троне останется фаворитом, так тут заведено – власть имеют те, что входят в спальню императрицы без доклада. Платон мой начальник, и я не могу назвать его выскочкой или высказать, кто он есть в истинном свете. Я не фельдмаршал, и десятков деревень, стотысячного дохода и тысяч крепостных у меня нет, как у Суворова. Мне надо о дочерях и о братьях думать. Но такого друга терять жаль. Правда. Скажи я ему все это – он теперь меня и слушать не станет.
– Не сможет, потому что уехал в Тульчин, – сказал Базиль.
С Зубовым во дворце разговор вышел коротким.
– Черноморское правление ставит вам в вину, адмирал, покупку судов, – сказал Платон, облачаясь с помощью двух слуг в тяжелый парадный, схожий с доспехами, сияющий золотом голубой кафтан.
– Я намерен купить еще два судна в Таганроге, – ответил Рибас. – К весне, чтобы исправно возить соль из Тавриды, понадобится не менее шести судов. А военные мои суда ветхи.
– Напишите мне подробно обо всем.
И, проклиная Мордвинова, адмирал писал объяснения. Однако, довольно быстро Платон от имени Екатерины одобрил покупку трех судов и обещал первый корабль с верфи Войновича передать Рибасу. Кроме того, он подписывал по просьбе адмирала ордера, по которым в Одессу посылали мачтовых и конопаточных мастеров, блоковых, малярных и фонарных подмастерьев.
Платон Зубов, становясь князем Римской империи, сделался деятельно горд и жил под знаком великой идеи отправить войска в Персидский поход. Виктор Сулин, сменивший свои наблюдения во время путешествий на пристальное внимание к петербургскому двору, запальчиво говорил Рибасу:
– Я даже не знаю, как назвать эту затею!
– Сумасбродство? – предложил Рибас.
– Э, нет. У Платона мысль определенная: он мечтает о фельдмаршальском жезле. Никому еще не удавалось оседлать великий шелковый путь из Китая и Индии. Да еще пресечь сообщение Константинополя с Персией. Вы, адмирал, подали рапорт на участие в Персидском походе?
– Вы меня склоняете к этому?
– Разве?
– Признаться, Виктор, я хотел бы перемен в своей судьбе.
– А я, адмирал, хотел бы оказаться на вашем месте. У вас все так удачно сложилось! – Виктор с волнением смотрел на Рибаса. – Честно говоря, я не предугадал вашу судьбу. Ваши юношеские мечты о свободной Греции были наивны. Но Провидение оказалось поразительно последовательным. Вы осуществляли греческий проект, а теперь строите город, где живут свободные греки и имеют своего бургомистра. Вам остается счастливо следовать такой завидной участи.
– Мой флот сгнил, – отвечал Рибас. – В городе болезни. В казармах велика смертность. В конце года денег не было, полки работали в долг. Предвижу, что подрядчики скоро пойдут на одесскую Экспедицию, а значит, и на меня, войной, как это случилось в девяносто третьем с Суворовым. Он продавал деревни, чтобы оплатить долги. Я дружил с ним около десяти лет, и мы были честны и откровенны, а теперь он поверил, что я наживаюсь на чьей-то беде. Все это тяжело.
– Но только не связывайте перемену судьбы с Персидским походом, – сказал Виктор. – Мне говорили, что Платон составляет его планы по записке греческого митрополита отца Хриманфа. Тот подсказал, что Персии, угнетаемой варварами, союз с Россией будет выгоден. И по его словам, нет ничего проще, как покорить Хиву с ее серебряными и золотыми рудниками. По Аму-Дарье попасть в Бухару, которая не беднее Индии. А уж, скажем, крепостью Кабул может овладеть женщина, если бросит через стену несколько куриных яиц вместо ядер. Затея обречена на позор и бесславие.
Но российские войска уже стягивались к Каспию. Валериана Зубова снабдили тремя миллионами и благословили.
– Я завоюю Хиву, Бухару, Персию, – говорил Валериан, – а Константинополь сам падет к моим ногам.
Увы, нога у него была одна – полководец скакал на костылях к своей карете, обещая любовнице графине Потоцкой вернуться целым и невредимым. Рибас к этому времени обдумывал новый заманчивый план.
Михаил Кутузов, которому исполнилось пятьдесят, соратник адмирала по дунайским походам, командовал всеми сухопутными силами и флотом в Финляндии. Он готовился к встрече нового восемнадцатилетнего шведского короля Густава IV и был назначен споспешествовать доброму финалу королевского визита. Предполагалось сватовство Густава к великой княжне Александре Павловне. Встретившись с Кутузовым на одном из Эрмитажных вечеров, Рибас рассказал ему о размолвке с Суворовым, о своих опасениях.
– Вы хотите перемен в своей судьбе, – сказал Кутузов. – Что ж, в Стокгольме нет российского посланника. Почему бы вам не стать им?
Мысль эта поначалу не увлекла Рибаса: рутинная обязанность наблюдать события и докладывать о них Безбородко в коллегию иностранных дел не была в его характере. Но дипломатическая карьера открывала возможности, которые адмирал не мог осуществить пятнадцать лет назад: если он станет дипломатом в Стокгольме, то позже, возможно, откроется вакансия посланника в Неаполе.
После таких размышлений назначение в Стокгольм показалось Рибасу желанным, и он нашел Александра Безбородко в обществе двух фрейлин и скульптуры Венеры медицейской.
– Граф, – обратился к нему Рибас, – география подсказывает, что Неаполь гораздо дальше Стокгольма, но последний кажется мне ближе из-за отсутствия там российского посланника.
Фрейлины недоумевали, Александр Андреевич ответил мгновенно:
– Спросите у Платона Александровича, а я препятствовать не стану.
Но фаворит уж торопил адмирала к отъезду на Юг. Рибас начал собираться, попросив Базиля при случае сказать императрице о своем желании быть послом в Стокгольме. Базиль обещал содействовать и продаже дома из наследства Бецкого в казну или частному лицу за сто тысяч.
12. Как птица Феникс 1796
По весенней слякотной дороге предстояла встреча с Суворовым в Тульчине: адмирал посчитал невозможным уведомить графа лишь письменно о своем прибытии к войскам. Но тревожился: какой выйдет встреча? Рассказывали, что перед тем, как посетить Румянцева-Задунайского, Суворов собрал Военный совет, где решал один вопрос: можно ли ему подъехать в экипаже прямо к крыльцу прославленного фельдмаршала или подъехать только к воротам, а до крыльца идти пешком. Совет высказался за то, чтобы подъехать к крыльцу. Так и решили. Но возле ворот тошанского дворца Суворов вдруг выскочил из экипажа и прошествовал к крыльцу в полной парадной форме со шляпой на сгибе руки.
Адмиралу не с кем было держать совет. Подкатив к дому графа, он вышел из коляски и во дворе попросил солдата, возившегося с упряжью, достать из колодца ведро воды. День для апреля был жарким. Солдат уж опустил в колодец журавль с ведром, как из окна дома высунулась нахохленная птичья голова Суворова.
– Не давать ему воды, – приказал он солдату. – Потерпит до одесских колодцев!
– Я прибыл, чтобы доложить вам… – начал было Рибас, но граф прервал:
– Читал ваш рапорт. Зачем ко мне? Петля. Гоц-гоц.
И окно захлопнулось. Только давно знающий графа человек мог понять, что он укоряет Рибаса за кружной, не прямой путь в Одессу – петля, а «гоц-гоц» – означало: спешите прямиком к месту назначения. В двадцати верстах от Тульчина коляску адмирала догнал верховой и вручил ему от имени графа лечебник штаб-аптекаря Ефима Белопольского «Правила медицинским чинам» и соображения самого Суворова относительно излечения нижних чинов. Немецкие лекарства граф называл тухлыми, бессильными и вредными. Советовал лечиться травами и корешками. И заявлял: «Голод – лучшее лекарство!.. Есть хочется? На закате солнца немного пустой кашки с хлебцем, в горячке ничего не ешь. Хоть до двенадцати дней, а пей солдатский квасок, то и лекарство. В лазарете в первый день постель мягка, второй день – французская похлебка, третий день – могила. Один умирает – десятеро товарищей хлебают его смертный дух…»
Из Херсона адмирал уведомил Мордвинова о своем прибытии, проинспектировал корабли в Очакове и Кинбурне, а под вечер с палубы бригантины «Святая Екатерина» увидел в Одессе над греческим форштадтом столб пламени. Ко всем неприятностям не хватало только пожара! Бригантина ошвартовалась к Платоновскому молу, встречали де Волан и генерал Киселев.
– Что там горит? – спросил адмирал. Киселев отмахнулся:
– Шалаши ингородних.
– Пойдем-ка посмотрим, господа.
Действительно, приезжие купцы причитали над пепелищем. Сгорели три шалаша. Сгорели и товары.
– А где Кирьяков? – спросил адмирал.
– В отъезде, – отвечал де Волан. – В Дальнике порядки с межами наводит так, что тут горит.
Домов в городе прибавилось. Церковь Екатерины не поднялась строительством даже на камень. И соборная Свято-Николаевская оказалась возведенной от земли аршина на три. К экипажу де Волана, из которого Рибас осматривал город, подскакал верхом Афанасий Кес. Одет в полковничьий кафтан. Лицо опухшее.
– Я от магистратской думы, Рпбас-паша. Ждем вас, как султана ясного. – Когда изволите принять?
– Вот проспишься вконец, так и приму.
Заехали к Елизавете Григорьевне. Адмирал взял обрадованного Мишеньку на колени, и все вместе отправились ужинать. Миша подрос, от прошлогодних хворей не осталось и следа, и Рибас решил завтра же написать Зоричу в Шклов о месте для него в кадетском корпусе. Миша сбивчиво, по-французски рассказывал о своей поездке с де Воланом и Лизой к Очакову. За ужином Киселев пил двойную гданьскую. Де Волан угощал адмирала прошлогодним крепким малиновым вином.
– Рекомендую вам у Марка Портария взять саженцы, – сказал он. – Молдавская малина – дар небес.
– Для загородного сада возьму, – кивнул Рибас, а Киселев и де Волан переглянулись.
– По весне, адмирал, ваш загородный дом неизвестно кто разорил, – сказал Киселев. – Разбойники завелись. Кирьяков следствие ведет.
– Дом в порядок приводят, – успокоил де Волан. – И теперь к нему казаков в караул назначают.
Офицеры ждали столичных новостей, но Рибас разбирал с Мишей петербургские подарки, потом отправил его с Лизой домой, и сам, сославшись на усталость, ушел спать.
Наутро он явился в лазарет при казармах. Смрад, вонь, кашель, кровь… Вызвал офицеров. Как там Суворов советует? Адмирал приказывал:
– Офицеров, в чьих ротах больше всего больных – под арест. Унтеров, у которых смертность высока, выпороть. Кто из нижних чинов сам не бережется – палки. Лекарям палки и арест, если в две недели не поправят положение. Поваров лазарета в погреб, а потом пороть.
Офицеры полков недоумевали: подменили в Петербурге добродушного итальянца! Адмирал вызвал к себе купца Дофине. Хмурясь, разглядывая кончики пальцев и щелкая ножницами, спросил:
– Ты херсонский именитый гражданин или живешь все-таки в Одессе?
– Там я в почете, а живу здесь, – отвечал Дофине.
– Чтобы тебе и здесь быть в почете, бери подряд на скорее окончание храма Екатерины.
– Завтра же людей пришлю.
– А кто возьмется достраивать соборную Николаевскую?
Через секунду ответ:
– Отставной прапор Шлегель. Деньги есть.
– Но чтобы не на песке с глиной божьи храмы возводить.
Шлегель с майором Ивановым взялись достроить церковь святого Николая к августу следующего года за двадцать четыре тысячи сто тридцать пять рублей сорок пять копеек.
– Ни черта они не построят, – твердо сказал де Волан. – В этой стране, если в ведомостях копейки указывают, то будут воровать так много, что и не сосчитать.
Однако стены церквей стали расти, но дело кончилось тем, что строение подвели под цоколь и подрядчики снова запросили материалов и денег.
Полицмейстер Кирьяков вел следствие о пожарах столь усердно, что загорелось снова.
– Отчего же пожары, господа? – спросил адмирал депутацию городской Думы, которую привел Кес.
– Само загорается, – вздохнув, ответил попечитель греков.
– А отчего же само загорается? – поинтересовался Рибас.
– А оттого, что иногородние торговцы ставят свои шалаши меж наших лавок. Своими товарами цены сбивают. Вот и горят.
– Но почему шалаши? Почему иногородние не строятся в Одессе?
– Да нас тут и так в избытке! Купец на купце! – зашумели думцы.
– Будете препятствовать приезжим в городе селиться – Кирьяков за вас возьмется, – пообещал адмирал.
– А у нас на него и без этого жалобы.
Купцы вручили жалобы на полицмейстера адмиралу. У мещанина Павла Ситникова, который пошел за рыбой, смотритель отобрал двадцать пять рублей, бил плетью, привязал к колесу и привез к Кирьякову. Тот самоуправство одобрил, на жалобе написал: «Чтобы охоты не было за рыбой ходить». В письме за сорока шестью подписями купцы обвиняли полицмейстера, что он бьет их по лицу, лавки ломает, а если что скажешь – заключает под стражу. Он запечатал лавку купца третьей гильдии Якова Попова за «расхлобыстование», а когда за Якова вступился Голова Андрей Железцов и напомнил о решении открыть лавку, Кирьяков ответил:
– Плюю я на тот указ и впредь… а сам буду по-воински управлять.
Адмирал вызвал полицмейстера и при одесских думцах предложил:
– Пойдем вино пить. Вчера прошлогоднее молдавское привезли.
Купцы поскучнели. А Рибас пошел с Кирьяковым в погреб, запер его там, приказав пять дней давать только воду. Впрочем, уже через неделю секунд-майор схлестнулся с купцом первой гильдии Бардони из-за освобождения от секвестра имения городового старосты Дмитрия Горголя. Полицмейстер ругался столь изощренно, что купцы только крестились.
Но другие события отвлекли внимание адмирала от нескончаемой на Руси свары из-за того, что взятки пли слишком малы или не давались вовсе. Он велел отослать жалобы в Вознесенское наместничество – там находилось непосредственное начальство над Кирьяковым, когда с Греческого рынка базарные Чепуренко и Колба приволокли пришлого мещанина, который говорил собравшемуся у лавок народу, что царица Екатерина дазно умерла, только это скрывают, чтобы ее именем притеснять и грабить.
Допросили мещанина. Он ссылался на то, что слыхал об этом в Херсоне. А на другой день и с российско-го рынка вахмистры притащили двух ямщиков, занимающихся извозом. И они в один голос пели о том же: «Умерла государыня! Вместо нее шведы засели на престоле. Всем головы рубят. Ямщиков колосу:
Конечно, императрице в этом, 1796 году исполнялось шестьдесят семь, но если бы что случилось – фельдъ-егери понеслись бы во все концы и уж как-нибудь доскакали бы до Одессы. Настораживало иное: шведы на престоле. Настя писала, что молодой шведский король Густав сватался к дочери Павла Александре и Зубов, составив брачный договор, решил добиться для невесты права не отрекаться от православия и даже иметь в Стокгольме часовню и притч. Но главное, Платон показал договор Густаву за час до брачной церемонии, когда придворные и фрейлины, невеста и ее величество ожидали, разодетые к торжеству, а Платон вбегал, что-то шептал Екатерине и убегал, и в конце концов, императрице стало дурно, она упала, ее подхватили и унесли в покои дворца. Оказалось: как ни уговаривал Платон жениха, тот потребовал перемены религии своей будущей сопрестольницы. Свадьба расстроилась. Кутузов сопровождал обиженного шведского короля до границы. С Екатериной случился удар. А на следующий день Платон должен был стать фельдмаршалом.
Что же произошло потом? Народная молва по торговым дорогам и ярмаркам несла весть невероятную: шведы вернулись за невестой с войском!
Размышления Рибаса прервал приход Кирьякова.
– Вы недовольны моей службой, – сказал он с места в карьер. – А я пришел вас известить: Суворов в Одессе!
– Где именно?
– В доме Портария остановился.
Меры, предпринятые Рибасом на оздоровление лазаретов, помогали медленно. В июне Суворов писал Хвостову: «У Осипа Михайловича ныне все еще умирают, 4-я доля против прежнего, а должно быть меньше восьмой. Уповаю на Бога, что все будет скоро и ниже, как то в некоторых полках у меня есть. Впрочем, все у меня экзерцируюца, и многие без поправки. У него ж началось с прилежностью».
Но что оставалось делать, если фельдмаршал прибыл тайно, без уведомлений, как он и любил являться? Собрать офицеров? Выстроить на плацу инженерный отряд? Рибас поскакал наверх, в город, по овражной наносной грязи. Вспомнил: Настя писала, что в Петербурге судачили о весеннем письме Александра Васильевича дочери: оно состояло из двух слов: «Великая грязь».
На подворье Марка Портария, увидев у дома вынесенную мебель, зеркала, адмирал уверился: Суворов тут. Он спешился, привязал коня к нзгородн, шагнул к крыльцу, а в окне мелькнул знакомый хохолок фельдмаршала и через секунду он сам был. на крыльце:
– Что ищете, ваше превосходительство?
– Проезжал и вижу: мебель во дворе. Одно из двух – или пожар, или вы в Одессе.
– Как раз пожар! – воскликнул Суворов, соскочил с крыльца и сел на ступеньку. – Докладывать явились? Я уж все видел. Что скажете?
– Если вы все видели, мне и говорить нечего.
– Хитрец.
– Вами выучен.
– Моей выучке конца нет. На горе град. Грязь. Солдат плохо одет. А вы в Стокгольм лыжи навострили? Знаю. Платон и тут государственный интерес хочет продать.
– Меня он сюда послал, – сухо ответил адмирал.
– Интриги против меня плести? Что я флот ваш не починил?
– Разве вы теперь адмирал?
На крыльце за спиной Суворова появились Марк Иванович, князь Иван Контакузино, боярин Стурдза.
– Разве это по-людски: гостям на крыльце беседовать? – спросил Портарий.
– Осип Михайлович наших щтей есть не станет, – сказал граф.
– Просим в дом, – предложил князь Иван. – А то и султану завтра доложат: фельдмаршал в Одессу приехал, а его на порог не пустили.
– Вот и задумается султан, – засмеялся Суворов. – Если уж Суворова не пустили, то меня, султана, камнями в Одессе закидают.
– Не обессудьте, хозяин тут я, – сказал Портарий. – Так что приказываю: за стол.
– И крепости сдаются подобному ультиматуму, – ответил граф и поднялся.
В довольно узкой комнате на длинном столе адмирал не увидел фельдмаршальских щтей. Белая с вышивкой по краям скатерть сияла блюдами с красным паприкашем, грузными плачинтами, а кавурма из молодого барашка сочно благоухала в глиняной миске. Впрочем, перед графом служанка поставила чугунок с мамалыгой, которую он нахваливал. Трапеза проходила за незначительными разговорами, пока Суворов не сказал Портарию:
– Я стар. Да и ты по моей просьбе за Дунай не побежишь. Только слышно, что в Измаил турки до двухсот пушек свезли. Под Килиер шесть батарей поставили.
– Прибавьте к этому шестьдесят бендерских пушек, – сообщил Портарий. И восемьдесят в Аккермане.
– Откуда известно?
– Вы у меня спрашиваете? – улыбнулся Марк Иванович.
– А что от турка в этом году ждать?
– Наше застолье можно до следующего года продолжить, – заверил Портарий.
– Не могу, – ответил фельдмаршал. – Меня наш одноногий Александр Македонский беспокоит. Стал генерал-аншефом. А хлеба у него нет. Ничего нет. Волы мрут.
К этому времени Персидский поход увенчался взятием Дербента. Валериана Зубова именовали Вторым Александром Македонским. Императрица считала, что он самый привлекающий внимание в Европе генерал: в два месяца сделал то, что Петр Первый в два похода. Правда, Дербент сдался без осады – стопятидесятилетний старик-горец, тот самый, что в 1722 году встречал хлебом-солью Петра, вручил Валериану ключи от крепости. Но российский Македонский сделал вид кровавого приступа, велев зарезать в одной из башен пятьдесят иноверцев и получил Георгия второй степени и перо на шлем.
– Три миллиона на ветер, а солдата в могилу – вот и весь Персидский поход! – воскликнул граф. – А вот как отменно шагает юный Бонапарт! – Он стал в воздухе чертить воображаемую диспозицию. – Альпы обошел, будто вовсе нет. Горы в карман спрятал. Войско затаил в правом рукаве своего мундира. Только начал – и сразу Гордиев узел тактики! Австрийцы в кабинетах – а у него военный совет в голове. В действиях свободен, как воздух! Герой. Чудо-богатырь. Колдун.
Он надолго замолчал. Отведал киселя на вине. Продолжил:
– Ежели Бонапарт сохранит присутствие духа – будет победителем. Но ежели бросится в вихрь политический, изменит единству мысли – он погибнет. – Граф встал, отошел от стола: – Спать. Я ночью еду.
Рибас слушал фельдмаршала с восхищением – ведь он говорил о прямом враге императрицы! И как свободно и восторженно!
Марк Портарий собирался везти в Шклов, в кадетский корпус, своего приемного сына, и Рибас доверил ему Мишу. Провожали их за Очаковскую заставу. Лиза была весела, обещала на следующий год непременно приехать в Шклов, и только когда коляска, а следом за ней подвода с поклажей скрылись в редкой осенней пыли, она разрешила себе поплакать. Адмирал простился с Мишей за руку, как со взрослым, без нежностей, правда еще в Одессе они на прощанье обнялись, и Миша шепнул по-французски:
– Приезжай ко мне с мамой.
Что он мог ему ответить? И кого тот имел в виду? Лизу? Эти два года адмирал неизменно платил ей за воспитание Миши. На что она будет жить теперь? Рибас попробовал дать ей премиальную тысячу, но она все поняла, отказалась, сославшись, что купцы приводят к ней своих чад для обучения хорошим манерам и платят – ей хватает. Роман Лизы и де Волана имел странный сюжет. На людях они не разговаривали друг с другом, казалось, и знакомы не были. Но иногда адмирал не мог найти инженера по какому-либо делу, и его адъютант говорил многозначительно:
– У Франца Павловича двухдневные каникулы на греческом форштадте.
Растущий город требовал свое. То ему нужен был пакгаузный инспектор, то гаванмейстер, то столовые деньги для карантина. На строительстве крепости работал и каторжный, и беглый люд. Надо было положить конец самозванным лекарям, и в городе открыли первую аптеку Якова Шуманского и взяли обязательство, чтобы все снадобья не отпускались без освидетельствования штаб-лекаря, а цены были умеренными. Из столицы вдруг пришел ордер на учреждение в Одессе цензуры – одно духовное и два светских лица должны были просматривать привозимые из-за границы книги.
Открылась распря между российскими и иностранными купцами. Первые требовали устраивать ярмарки, на которых и определялась бы сама собой цена товаров. Вторые ратовали за устройство биржи. Еще весной ордером Зубова городу разрешили выводить из порта пшеницу без ограничения. А к осени подсчитали: за год в одесскую гавань пришло 86 судов, отошло 64. Капитаны восемнадцати судов просили о зимовке в одесском порту. Коммерческие обороты так возросли, что знать цены в Константинополе и на Средиземноморье стало и необходимым, и выгодным. Российским купцам объясняли: биржа будет выгодна для всех. Но те отмахивались:
– Иностранный одесский негоциант с иностранным капитаном всегда скорее сговорится. Мы их языка не знаем, а, значит, будем в проигрыше.
Они присылали к де Волану и Рибасу депутации, протестовали против открытия биржи и грозились подложить к ее открытию свинью. И все-таки утром тринадцатого октября возле дома купца и коллежского асессора Дофине полковой оркестр Приморского полка заиграл марши. От торговых рядов, из домов богатых и землянок, от таможни и карантина по лужам после ночного дождя, скользя по глине, выбирая тропки меж ям, прыгая через глубокие колесные колеи, к дому Дофине потянулся одесский люд. Кто не знал обстоятельств, спрашивал:
– А что это оркестр с утра?
– Полицмейстер умер, – отвечали им.
– Если бы полицмейстер умер, то оркестр бы побольше был, а музыка повеселее.
– Нет, это чуму отгоняют. Видите – трубы в сторону Турции повернуты.
Рота синекафтанных с красными отворотами гренадер при ружьях выстроилась к крыльцу в две шеренги. От редкого солнечного луча из-за низких туч вспыхивали гренадерские медные бляхи, гербы, вензеля. Барабанная дробь посыпалась так, что воронье испуганно кинулось к мусульманскому кладбищу. Магистрат в полном составе, господа купцы, господа торговцы, господа иностранные негоцианты – все ощутили легкую слабость в ногах, когда полковник от артиллерии Граве подал сигнал: выхватил шпагу – и с крепостных батарей загрохотали пушечные залпы. В толпе городского люда теперь уж знали все, но притворялись несведущими:
– Базарных полицейских за взятки сквозь строй погонят.
– Нет. Погонят турка нашего – Кес-Оглы. А строй выстроят прямо до Петербурга.
– Да за что?
– А свинину не ест.
Конечно, всех желающих присутствовать при открытии биржи дом Дофине вместить не смог, поэтому отец Евдоким велел вынести иконы из покоев, поставить их на стулья и расхаживал, махал кадилом, кропил святой водой и благословлял собравшихся. Полковник от артиллерии Граве снова подал сигнал шпагой – и опять забухали в крепости пушки.
Перед членами магистрата, думой и всем честным народом становились один подле другого четверо в серых кафтанах с вызолоченными пуговицами. Это был отставной прапор Масало, греки Патанасий и Петараки, малороссиянин Лагутко. Они готовились к маклерской клятве, и городской голова Андрей Железцов принял от секретаря Зеневича лист с текстом клятвы и, спотыкаясь, начал читать:
– По повелению самодержицы Российской Ея Величества императрицы…
Маклеры обязывались принимать деловых людей каждый день до трех часов, над дверьми иметь табличку «Здесь живет маклер», содержать в порядке шнурованные книги, с купцов, покупающих казенные товары, брать по деньге с рубля.
После ритуала, сопровождавшегося целованием библии, новоиспеченные маклеры стали делом доказывать, что не собираются быть клятвопреступниками, а именно: начали честный, открытый всем глазам и карманам аукцион. Продавалась мебель, предметы дамского туалета, безделушки, табакерки, парики. Первым шел секретер немецкой работы с первоначальной стоимостью в пятьдесят рублей, и публика охотно повышала цену – город нуждался в мебели, ее везли даже из Константинополя. Прапор Масало почему-то стучал деревянным молотком не по аукционному столу, а по предлагаемым горожанам вещам. Секретер выдержал. Но когда жена майора Бицилли, ставшая обладательницей секретера, попыталась открыть его ящики, то сделать этого не смогла, как ни старалась. Маклеры пришли ей на помощь, но с тем же результатом. Посыпались предположения:
– Сразу видна немецкая работа! Секретер потому и секретер, чтоб ящики никто не мог открыть! А в секретерах, бывает, и бриллианты хранят.
При упоминании о бриллиантах прапор Масало побледнел и объявил:
– Господа одесситы, секретер оказался с секретом. Я аннулирую результаты аукциона для тщательного осмотра его полицией.
– Секретер мой! – возмутилась майорша.
– Но он неисправен, – внушал ей маклер.
– Он мой со всеми неисправностями и бриллиантами! – воскликнула она и, раскинув руки, защищала свою собственность. Базарный Колба мясным ножом, наконец, вскрыл ящики и объявил:
– Бриллиантов нет. Только паутина и дохлые тараканы. И что-то написано… – И к увеселению публики прочитал: «Силантий Терехов из Торжка сию немецкую вещчь работал».
Парики, дорожный столовый прибор, французский фрак шли с молотка без осложнений. Но апогея аукцион достиг, когда вниманию публики был представлен низкий добротный ореховый шкаф. Прапор в свое удовольствие стучал по нему молотком, объявлял цены, и шкаф достался предводителю греков Афанасию Кес-Оглы. Он тут же приказал своим работникам оттащить приобретение в сторону, и тут дверцы шкафа распахнулись – из внутренностей его выскочила крупная и злобная свинья и сбила с ног двух маклеров.
Аукцион немедленно превратился в сборище веселых людей. Торговцы улюлюкали, ратманы ловили насмерть перепуганное животное, полковник от артиллерии Граве, к которому свинья бросилась под ноги, выхватил шпагу – и в крепости тотчас стали палить пушки. Свинья при этом обезумела, кинулась на полковых музыкантов, вытоптала капельмейстерские ноты, прорвалась сквозь толпу и помчалась в сторону базара. Полицмейстер Кирьяков немедленно послал следом за ней двух казаков, чтобы проследить путь грязной твари и в зависимости от того, в чьей двор она прибежит, начать следствие.
Дальнейшее проведение аукциона оказалось немыслимым после того, как прапор Масало объявил к продаже табакерку, опустил на нее свой молоток, а табакерка развалилась от удара на части. Хохот встал над толпой, а неудачливый аукционер тут же нашелся и сообщил: «Предлагаются два кресла турецкой обивки…» и уж было занес над ними молоток, но задумался: не развалятся ли и они? Глядя на него, толпа смеялась так, что от конюшен прискакал дежурный унтер, спешился и выпалил:
– Господа лошади ведут себя неспокойно.
После этого началась вакханалия хохота. Кто-то кричал навзрыд: «Господа лошади!», две дамы, истерично хохоча, упали в кресла турецкой обивки, отец Евдоким крестился и кропил дам святой водой, иностранные и российские купцы, обессиленные, хватались друг за друга, а тут еще вернулись казаки, посланные преследовать свинью, и доложили:
– Свинья ничья. В овраге легла.
Вытирая слезы, городской голова едва смог сипло выкрикнуть:
– Ставлю от магистрата бочонок вина!
Большим пиром закончилось открытие одесской биржи. Популярным стало обращение «Господа лошади» и фраза «свинья ничья». Греки, малороссияне, итальянцы, евреи, албанцы, французы, россияне, татары, негоцианты из Константинополя и Смирны, черноморские казаки, – кого только не было на этом неожиданном пиру под холодным октябрьским небом, какого только вина не выпито… Разноязыкие горожане, третий год строившие Одессу, вдруг оказались веселыми людьми. Открытие биржи надолго задало тон дальнейшей обыденной жизни.
Но через неделю пришло известие из Очакова, опечалившее адмирала: три лансона и пять казачьих лодок, которые Рибас отправил за провиантом, затонули в шторм в Днепровском лимане. Несколько человек утонуло. Лейтенант Петр Ушаков, мичманы Марчевский и Фердинанд Левен, квартирмейстеры Колесов и Сотников едва спаслись на подошедшем от берега казачьем дубе. Мордвинов прислал едкое уведомление о том, что начато следствие, а уж в Петербург, верно, донес обо всем в черных тонах.
Поэтому и приезд братьев в Одессу не так обрадовал Рибаса, как это могло быть. Андре и Феликс, служившие в полку под Полтавой, нагрянули внезапно. За долгие годы братья впервые собрались вместе. Но, как ни странно, не посетило их то состояние, когда меж близкими людьми нет конца и края разговорам. И отменное вино от Марка Портария, благополучно устроившего Сабира в кадетский корпус в Шклове, и баранина по-итальянски с душистыми травами, и даже запекальная водка, выстоянная в жаркой печи, не развязали языков. «Может быть, причина этому – незримая печаль по умершему Эммануилу? – думал Рибас, слушая неторопливые рассказы из армейской жизни братьев. – А, может быть, что-то должно произойти в скором времени? Почему у меня такое чувство, что мы видимся в последний раз или как перед долгой разлукой?»
Андре хотел устроиться в любой полк в прежнем чине капитана. Феличе предлагали стать одесским плац-майором, но он говорил:
– Я на будущий год службу оставлю. Если уж в Одессе есть биржа, то почему не стать негоциантом?
На следующий день Феликс побывал на зазимовавших в порту судах, в таможне, на бирже, а за обедом читал из заведенной негоциантской тетради опись товарам, которые привозят в Одессу, читал торжественно, как пиит стихотворение собственного сочинения:
– Везут ореховую айву, бумагу пряденую, крашеную, белую, платки турецкие, сырец, ром, вино греческое, дерево кипариса, лимонную корку, голландский кофе, краску сафрано, красный кумач, лимонный сок, простой ладан, масло деревянное, белую мастику, розмарин, оливки, орехи турецкие, грецкие, валахские, сок нардек, глиняные трубки и пенковые, уксус рейнский, табак, арбузы, пшено сарачинское, чубуки, шелк, изюм, финики, лук, уголь, перец, тестяные покрывала, миндаль, раздувательные мешки, капусту и красную медь!
– Миллионы! – смеялся Андре. – Нас ждут миллионы.
– Жаль, что ты не написал мне раньше, – говорил Феликс адмиралу.
– Он правильно сделал, – улыбался Андре.
– Отчего же?
– Жизнь в Одессе остановилась бы, если бы ты приехал сюда раньше.
– Но почему?
– Потому что ты – Мидас по-неаполитански. Притронешься к капусте, а она тотчас превратится в красную медь.
Братья постепенно и как бы заново привыкали друг к другу, и дальнейшая жизнь стала представляться адмиралу в радужном свете: возле заложенного сада отстроить дом, помочь отстроиться братьям. Неаполь – в двух неделях хорошего хода через проливы. Остается ускорить продажу дома в Петербурге и позвать в Одессу Настю и дочерей. Конечно, в городе еще многого нет, но триста пятьдесят домов заселены. Городское общество пестрое, зато на любой вкус. Шесть мельниц уж машут своими крыльями, созывая под свою сень новых поселенцев. Даже пудра в Одессе своя – пудреную фабрику открыл капитан французской службы Пишон. Настю и девочек наверняка привлечет возможность путешествий…
Все это рухнуло в один день.
22 ноября прискакал фельдъегерь в треуголке, прусском мундире и заносчиво воскликнул:
– В России уж третью неделю как новый император Павел Первый! А вы, верно, еще по Екатерине панихиды не отслужили?
Императрица скончалась от апоплексического удара шестого ноября. Рибас предполагал, что теперь его отдадут на заклание испытанному недругу – Николаю Мордвинову. Положение Николая Семеновича, по всей видимости, теперь отменно: еще в детстве он играл в оловянных солдатиков с теперешним императором…
Одесса встретила Рождество маскарадами в богатых домах и пушечной пальбой. Второго января к дому адмирала подкатила карета с тройкой взмыленных лошадей и с десяток верховых спешивались у крыльца. В покои, сбросивши шубу на руки адъютанта, вошел Павел Пустошкин. Рибас удивился: зачем этот толстяк со вздернутым носом явился к нему? Закрывать Одессу и переводить порт и город к Очакову? Поздно.
– Я получил личное распоряжение государя-императора… – сказал Пустошкин, отводя глаза, а потом взглянул тверже.
– Вы с Павлом Петровичем состоите в личной переписке, Павел Васильевич? – улыбнулся Рибас.
– Да. Император милостиво обязал меня писать ему лично.
– Это большая честь. И я теперь догадываюсь: вы приехали принимать у меня дела по одесскому порту?
– Не только. Я принимаю от вас и начальство над Черноморским гребным флотом.
«Значит, Павлом мне дана полная отставка», – мелькнуло в голове адмирала, а внешне он был сама любезность:
– Прекрасно. Кажется, только вчера я принимал у вас флот. А теперь передаю его назад. Прошу – он взял со стола флотские ведомости. – Вот роспись девяносто восьми судам.
– В Николаеве я был на четырех бригантинах, – сурово сказал толстяк. – Они никуда не годятся.
– Особенно бригантина «Дмитрий», – кивнул Рибас. – И бригантина «Павел». Помните, я об этом же говорил вам, когда принимал флот от вас.
В щекотливое положение попал контр-адмирал Пустошкин: он явно хотел выслужиться перед новым императором, однако, совсем недавно приложил собственную длань к приведению судов в плачевное состояние – об этом могло стать известно в Петербурге. В конце концов, он подписал ведомость судов, принял флот, но обосновавшись в офицерском доме, закрипел пером: «Державному Великому Государю императору Павлу Петровичу Самодержцу Всероссийскому всеподданнейший рапорт…» И задумался.
Тем временем Рибаса посетили два визитера: молдавский князь Иван Контакузино и Марк Портарий.
– К Пустошкину с утра купцы валом валят, – сообщил Портарий. – На вас, адмирал все грехи списывают. Одному не доплатил, у другого отобрал, третьему дал с избытком.
– Пустое, – ответил Рибас. – Партикулярные дела в ведении магистрата.
– Это так, да теперь не так! Подполковник недоплатил, Кирьяков выпорол, кто-то украл, а виноваты вы.
– Это обыкновенно, – согласился Рибас. – Я жду вызова в Петербург. Там и буду объясняться.
– Я в конце месяца еду в свои имения на Буг, – сказал князь Иван. – Прошу разделить со мной место в карете.
– Благодарю.
А Пустошкин скрипел пером не один день, составляя черновичок, черкал, переписывал донесение Павлу I, оставался недоволен, хотя пунктов было много:
«Первое. Магазины, в коих хранятся Адмиралтейские материалы, припасы, карантинное строение, соляные амбары, госпитали, служительские и офицерские флигели так же у крепостного строения одежда сооружены из пиленого обыкновенного здешнего камня… Камни кладено на худой глине…
Второе. В укреплениях – в Егорьевском бастионе во всю толщину бруствера трещина…
Третье. Военная гавань, жете, продлен от берега на 200 сажен шириною шесть, забучен и укреплен контр-форсными сваями… явного повреждения на нем не видно… Под защитой сей плотины стоит часть гребного флота…
Четвертое. Купеческий мол 91 сажен от берега… забучен, сверху покрыт досками… На большой жете сваи набиты на 83 сажени…
Пятое. Две пристани для мелких гребных судов работою окончены…
Шестое. Набережная имеет 850 сажен, но не закончена и в некоторых местах от волн повреждена».
Досадывал Павел Васильевич: хоть и выискивал он недостатки тщательно, а по его бумагам выходило, что адмирал Рибас слишком много успел за эти три года, начав на пустом месте! К тому же советник Иван Люрер проводил хозяйственное рассмотрение Одессы и насчитал в городе 3158 душ, два кирпичных завода, один известной, 404 холостых и семейных казаков, 224 души иностранных наций и много чего еще…
Приводила в недоумение Пустошкина и личная переписка с императором. С одной стороны, Павел приказывал коротко: «Повелеваем начатое строительство Одесской гавани приводить к окончанию», а с другой объявлял: «комиссию строения южных крепостей и Одесского порта упразднить, самые же строения остановить…» Как же приводить строительство к окончанию, если строения надо упразднить, остановить?… Пустошкин пошел советоваться с вице-адмиралом де Рибасом, и тот сказал:
– Я думаю, что император решил мудро.
– Да! Конечно! Но…
– Одесса, как птица Феникс, будет рождаться, но не из пепла, а вообще из ничего, сама собою, – так ответил растерянному Пустошкину вице-адмирал.
У него осталась одна мифическая должность – шеф гренадерского Приморского полка. Вызов в столицу подписал новый генерал-прокурор Куракин. Рибас простился с братьями, Лизой, друзьями. Городу поклонов не отвешивал, сел в коляску князя Ивана и уехал через Очаковский кордон.
13. Путь к заговору 1797–1799
У Петербургской заставы карету Рибаса остановили. Раньше, завидев богатый экипаж, шитый золотом кафтан, мельком взглянув на подорожную, офицер лишь таращил глаза, а солдаты брали на караул – проезжай, господин любезный! Теперь подлетел в куцой епанче, вконец замерзший на февральском морозище капитан, бесцеремонно распахнул дверцы:
– Положено выходить! – Взвизгнул так, что треуголку чуть было не потерял. Адмирал ни слова не говоря вышел, и снова визг:
– В шубах офицерам в Петербург запрещено!
Рибас спросил миролюбиво:
– Замерз, капитан? Как же без шубы в такой мороз? Водкой спасаетесь?
– Приказано носить фуфайки под камзолом. А камзолы на меху.
– Выпьешь водки?
– Прошу подорожную! Почему в карете? Офицерам запрещено ездить в закрытых экипажах. Только в санях, верхом или на дрожках!
Придирчиво изучив подорожную, отдал ее адмиралу:
– Проезжайте. Вам можно.
– Загляни в карету.
Рибас сел – капитан заглянул, молча схватил чарку, выпил, выругался: «Пропади все пропадом! – Захлопнул дверцу. – Пошел!»
Еще был светлый вечер, когда адмирал въехал в столицу. Но где же извозчики, десятки саней, ярые скачки по Невскому? Где торговцы, сбитеньщики, где карусели на площадях, где петербургский, единственный в своем роде, уличный гомон? Нет ничего. Вымерли улицы. Одни только рогатки да полосатые будки, истуканы-часовые да фонарщики со стремянками.
Обычно, когда поклажу вносили в дом, он тут же болтал с Настей о новостях. На этот раз жена тихо сказала:
– Бог мой, ты не арестован.
Они уединились на ее половине, и говорила только Настя, говорила сбивчиво, перескакивая с одного на другое.
– Павел хочет опорочить все, что было до него. Ни в чем нельзя найти смысл. Он позвал к себе Репнина, подвел к окну и заявил: «Фельдмаршал, видите внизу гвардию? Там четыреста человек. Стоит мне сказать слово – все будут фельдмаршалами!» Когда к нему входят, то каждый должен упасть на колено и целовать ему руку. Если он не слышит стук колена и не чувствует поцелуя – высылает из Петербурга. После обеда крестит новорожденных солдат. Репнина с отрядом послал в Вологодскую губернию – усмирять чернь. Она взбунтовалась, когда он разрешил крестьянам жаловаться на господ. После смерти императрицы он вызвал из деревни Андрея Гудовича, бывшего адъютанта Петра III, рыдал, выспрашивал: «Жив ли мой отец?» Потом плакал перед польским королем, целовал ему руки и просил признаться: не он ли его отец? Освободил бунтовщика Костюшко, поселил рядом с нами в мраморном дворце, подарил ему тысячу душ. Но тот взял деньгами шестьдесят тысяч и укатил в Париж. Гроб с телом императрицы месяц стоял в бальной зале, там построили ротонду. Кавалергарды плакали… А второго декабря… место, где похоронен Петр III указал монах. Разрыли землю, останки императора установили по сапогу. Бросили сапог и кости в роскошный гроб. – Настя перекрестилась, перевела дух и продолжала: – Привезли его во дворец и поставили рядом с усопшей императрицей. Но кого Павел поставил нести корону за останками Петра III? Алексея Орлова-Чесменского! Убийцу того, за чьим прахом он шел! У него ноги отнялись во время похорон, но в Лейпциг он потом сумел сбежать. Боже, а как хоронили!.. Сынок то ли пьян был, то ли дурачился. Шли по льду, по Неве, к Петровской крепости. Народу за гробами на две версты. А Павел возьмет и отстанет от гробов шагов на тридцать, а потом к ним бегом, и вся процессия за ним бегом!.. Запретили фраки. Почему-то возненавидел круглые шляпы и панталоны. Теперь их повсюду перешивают. У нас из Летнего сада гуляющие от полиции прятались. Моя портниха им круглые шляпы переделывала на треуголки булавками. Если он видит завязки на башмаках – сам рвет. Велит носить пряжки. На лоб волосы зачесывать – упаси бог, только назад. Запретил муфты. Гудовичам дал графское достоинство. Твоего матроса, сержанта Колпашникова, что в доме помогал по хозяйству, разжаловал. Урод Аракчеев теперь генерал-майор. Безмозглый Куракин – генерал-прокурор. Масона Новикова Павел выпустил из Шлиссельбургской крепости. Надзор за масонами снял, но ложи их не разрешает. Сшил себе нищенский мундир за двадцать два рубля. Злобен до ослепления. Запретил даже многие слова. Теперь нельзя говорить «стража» – только «караул». Не «гражданин», а «житель». Не вздумай сказать при нем «отечество» – только «государство»!.. А все от чего? – спросила Настя в заключении этой суматошной тирады. – А от того, что удален лекарь Фрейгани, и некому, как при Екатерине, в каждое новолуние давать Павлу слабительное.
Настя замолчала лишь на несколько мгновений, выглянула в коридор, сказала служанке, что вьюшка печи дымит, а потом адмирал снова слушал ее голосок, вещающий, что под Москвой, в Быково, опять объявился живой Петр III, оказавшийся самозванцем Семеном Петраковым, что после зоревой пушки в девять вечера на улицу нельзя выходить никому, кроме лекарей и повивальных бабок.
Но теперь он слушал ее рассеянно, раздумывая о том, что некоторые повеления Павла направлены против французов, а Алехо Орлова он заставил идти за гробом Петра III, верно, потому, что наивно хотел пресечь слухи, что Петр III не его отец: уж если Орлов идет за гробом – значит, отец: уж Орлов-то знает! Запрет шуб, дорогих мундиров, карет был на руку офицерам, которые жили в долг, лишь бы иметь роскошную экипировку и выезд. Адмирал выжидал, хотел спросить жену о Платоне Зубове, но вдруг услыхал имя Бобринского и переспросил:
– Что? Алексей в Петербурге?
– Павел сразу его призвал! Ведь если разобраться, Алеша ему – брат по матери. Я думаю, Павел в этом уверен. Иначе, зачем он вызвал Алешу с сыном из Ревеля? Да-да, у Алексея растет сын, и Павел возвел их в графское достоинство, дал земли. Назначил Алексея шефом конногвардейского эскадрона и подарил дом неподалеку от нас, рядом с Воспитательным.
Перед глазами адмирала мелькнул восьмилетний Алеша в Лейпциге, тринадцатилетний кадет в голубом кафтанчике, двадцатилетний поручик-выпускник, уезжающий в путешествие и прощающийся со своим воспитателем подполковником де Рибасом навсегда…
– Теперь Павел разрешил ему приходить во дворец к обеду в любой день, – продолжала Настя. – Но тебя, верно, в первую очередь интересуют Зубовы, – спохватилась она.
– Ты поразительно догадлива.
Он узнал, что Платон в день смерти Екатерины едва не лишился рассудка. Но, скорее, это была крайняя степень растерянности, когда вчерашнему всевластному барину никто в Зимнем не подал стакана воды. Платок распространял слух, что это он, а не граф Безбородко передал Павлу секретные бумаги Екатерины об отрешении сына от престола и заключении его в замке Лоде. Престол предназначался сыну Павла – Александру. Но он, по поручению отца, лишь просмотрел бумаги самого Зубова и не нашел в них ничего предосудительного. Платон так оплакивал императрицу-покровительницу, что Павел смягчился, оставил его при всех должностях и вернул трость – отличительный знак генерал-адъютанта при дворе.
Однако, Платону надо было где-то жить. Он поселился у сестры Ольги. Его секретаря Грибовского за жульничество Павел посадил в крепость. Другого секретаря, Андрея Альтестия, который взял участок в Одессе, но, прослышав о смерти Екатерины, прикатил в Петербург, Павел выслал в Киев, где тот был заключен в тюрьму за то, что в одной из своих усадеб поселил для работ служилых солдат.
Ко дню рождения Зубова 15 ноября Павел купил Платону дом за сто тысяч, отделал, как дворец, подарил серебряную и золотую посуду. Неутешный и растроганный бывший фаворит даже упал, когда встречал у себя Павла с женой Марией Федоровной к вечернему чаю. Павел пил шампанское, бил бокалы, а жене приказывал: «Наливай! У Платона теперь хозяйки нет!»
Дочери приехали из Смольного обнять отца. Старшей, Софье, на следующий год предстоял выпускной бал, будущее ее было неясным, но мать уже устраивала для Софьи салон, выписывала мебель Дагера.
Адмирал уведомил двор и Адмиралтейство о своем приезде и рассчитывал отдохнуть неделю-другую, осмотреться. Платона Зубова он в Петербурге не застал – бывший фаворит был отпущен за границу на два года. Рибясов расчет на отдых не оправдался: на следующий же день его вызвали в Зимний. Настя всполошилась, вызвала Виктора Сулина на совет, испуганно смотрела на мужа, а между тем говорила:
– Ты двадцать лет в службе! Тебе полагается новый чин и орден. А я провожаю тебя, как на плаху.
«Не ехать и послать прошение об отставке? – думал адмирал. – В расцвете карьеры? Глупо. Но и быть зависимым от прихоти Павла несносно. Как сохранить достоинство и быть свободным от наветов?»
Он раскрыл секретер и из потайного ящичка достал давно туда положенный и забытый розовый конверт. «Итак, настало время документу, который находится у меня вот уже четырнадцать лет – документу Скрепи, – решил он. – Пришла пора вручить его Павлу-императору. Конечно, бумаги Скрепи теперь уже не имеют прежней цены, но Павел должен понять, каково было тогдашнему полковнику Рибасу не исполнить поручение Екатерины и не передать ей документ, порочащий его, Павла». Скрепи в своем документе пересказывал письмо, в котором говорилось, что Павел ни в грош не ставит мать-императрицу и ее присных. Леопольд писал брату Иосифу, что Павел готов на крайние меры, лишь бы занять престол и высечь ненавистного Потемкина. Да, покажи Рибас этот документ в те годы Екатерине… отрешение Павла от трона из тайного могло стать явным.
В одиночестве, ожидая во дворце вызова в приемную Павла, Рибас гадал: кто его примет? В дальнем конце зала он увидел быстро идущего и не желающего не замечать никого давнего средиземноморского знакомца Григория Кушелева, ставшего генерал-адъютантом императора.
– Поздравляю, Григорий Григорьевич, – громко сказал адмирал.
Кушелев словно споткнулся и резко повернулся на голос.
– Здравствуйте. Вы с чем меня поздравлять изволите? С адъютанством? Поздновато.
– Нет, наслышан, что книга ваша «Рассуждение о морских сигналах» скоро появится у книготорговцев. Поздравляю.
– Благодарю, – кивнул генерал-адъютант, но все-таки поторопился уйти: знает, что судьба Рибаса еще не решена. Осторожен, хотя раньше всегда был дружески приветлив. О его книге Рибас узнал утром от Настиного книгопродавца. И кстати пришлось.
О чем-то разговаривая, мимо распахнутой двери в коридор прошли Кутайсов и Аракчеев. Последний показался адмиралу не таким уж уродцем, как о нем говорили, но при не отнюдь не блестящей внешности длинношеий человечек с высохшим лицом был для императора желанным гатчинцем и делал карьеру. Иван Кутайсов выглядел рядом с ним восточным муфтием, и Рибас вспомнил рассказ Головатого о том, как еще в 1769 году казаки посылали в Петербург подарки – детей татар и турок. Среди них был и теперешний Кутайсов, захваченный ребенком ватагой Семена Галицкого под Хаджибеем. Павел его крестил, назвал Иваном Павловичем, сделал лакеем, учил французскому и порол. В ответ Кутайсов искусно брил наследника. А теперь был пожалован гардеробмейстером и, верно, подает императору опушенный песцами долматик…
Два напудренных гвардейца с палашами, в коротких кафтанах с красными отворотами не шелохнулись у дверей, когда одна створка открылась и некто незнакомый и невзрачный объявил: «Вице-адмирал де Рибас».
Генерал-прокурор Алексей Куракин сидел не в кресле, а на торце стола, боком к вошедшему, ничем не выказывая ни малейшего интереса к нему. Он просматривал бумаги. А ведь когда Екатерина выслала его из Петербурга, он заискивал даже перед Настей. Теперь его власть и воля, а братец Александр, сподвижник игрищ и забав молодого Павла, не допустивший его дуэли в Неаполе с Разумовским, нынче вице-концлер!
– У вас, адмирал, долг по Одесской крепости, – вяло сказал Куракин.
– Тысяча триста девяносто два рубля, – назвал сумму Рибас.
– Только?
– У других долги не в пример больше. По Кинбурнской – двадцать семь тысяч. По Фанагории – десять.
– А вот купцы жалуются. Вы им около сорока тысяч должны.
– Тридцать восемь тысяч триста девяносто два рубля семьдесят девять копеек. Но не я лично, а экспедиция одесских строений.
– Кого же судить, если суд учинять? Экспедицию?
– Деньги подлежат выплате из сумм на этот год.
– Сколько же на этот год Одессе надобно?
– По ведомости, учиненной от господина инженера-бригадира де Волана и утвержденной Военной Коллегией и Адмиралтейством на Большой жетэ, набережную, на камень, известь, доски, болты, скобы и прочие материалы положено от казны иметь двести шестьдесят три тысячи рублей.
Вдруг из соседней комнаты раздался вопль:
– Тысячи! Сотни тысяч! Всех под суд! – Послышался звон разбитого стекла, Куракин метнулся в соседнюю комнату, откуда из-за неприкрытой двери слышался крик Павла. Через мгновение он сам появился в проеме инкрустированных золотом дверей с осколком зеркала в руке, готовый грохнуть этим осколком об пол. Парик императора съехал на левое ухо, зеленый кафтан был расстегнут. При крупной голове мелкие черты лица поражали застывшими глазами навыкате и чухонским носом. Нет, в таких ситуациях слова излишни – адмирал преклонил колено, но не подскочил перед этим ближе к императору, чтобы поцеловать ему руку. Наоборот, протянул в его сторону свою руку, в которой он держал четки с эмалированным мальтийским крестом. Император откинул голову назад, удивился.
Этому мгновению замешательства Рибас был обязан двум людям – покойному Бецкому и Виктору Сулину. Бецкий в свое время способствовал награждению когда-то ничтожной, а теперь неслыханно возросшей в значении наградой. А Виктор, которого Рибас просил дать совет, поведал, что император не только интересуется делами мальтийского ордена, но и составил с иоаннитами конвенцию, разрешил учредить в России Великое Приорство.
– Что это значит? – спросил Павел Петрович.
– В Вашем лице я приветствую покровителя Ордена Иоаннитов, крест которого пожаловал мне Великий магистр Роган восемнадцать лет назад.
– Роган?
– Да, Ваше Преимущество, – ответил Рибас на мальтийский манер. – Мне есть что сказать Вам, если Вы милостиво согласитесь остаться со мной наедине.
Тайны, секреты Павел любил до страсти. Он сделал знак Куракину, и тот вышел, затворив за собой двери. Осколок зеркала император положил па стол и сказал:
– Я не знал, что вы награждены этим почетным крестом. И так давно. Говорите.
– Ваше величество… легко проверить, что на строительство Одессы прежнее правительство утвердило сумму в два миллиона без малого. Но на пять лет. Все расходы легко проверить. Что же касается долга – он переходит к оплате из сумм этого года. Дело обыкновенное.
– Это все? – разочарованно сказал и зло взглянул государь.
– Разве я осмелился бы остаться с Вами наедине, чтобы только объяснить по каким в сущности пустякам могу пострадать? О, нет. – Рибас достал из кармана кафтана розовый конверт. Павел впился в него взглядом. Рибас продолжил: – В тысяча семьсот восемьдесят втором году, когда вы изволили заканчивать свое заграничное путешествие, я получил тайное распоряжение покойной императрицы отправиться по вашим следам. С единственной целью: доставить в Петербург доказательства вашего неприятия тогдашней политики двора, императрицы и ее окружения. И я привез эти доказательства е столицу.
Он намеренно замолчал, ожидая вопросов.
– Ну-ну, и что же?
– Вот эти доказательства! – Рибас протянул Павлу конверт. – Я не передал их императрице.
Павел взял конверт, достал документ Скрепи и стал читать, впрочем, без особого интереса. И в самом деле: что этот документ ему теперь! Ему, императору! Но, видимо, дойдя до строк, в которых он обещал выпороть Потемкина, Павел одобрительно кивнул, заулыбался, взглянул на Рибаса и сказал благожелательно:
– Отменно. Вы свободны адмирал. О дальнейшем вас известят.
Итак, первый шаг был удачен, но когда Рибас вернулся домой, Настя спросила:
– Пригодилось ли свидетельство, которое я отправила во дворец?
– Какое свидетельство?
– О том, что ты награжден мальтийским крестом.
– Что?! Ты отправила его? Кто его затребовал?!
– Посыльный сказал, что ты просишь прислать документы на крест во дворец.
Адмирал лишился дара речи. Потом долго и подробно расспрашивал жену о посыльном, но так ничего не установил. Происшедшее означало одно: затевается новая пакость. Но кто ее автор? Не приложил ли здесь руку Джачинто Верри? И Рибас отправился к Сильване.
Кондитерская «Болонья», судя по всему, процветала. Обрадованная Сильвана пальчиком указала па столик у окна, а потом присела рядом.
– Господи, как я рада тебя видеть, – вспоминая далекую и восхитительную ночь в пизанском палаццо Алехо Орлова, женщина зарделась румянцем. Рибас спросил ее о брате Руджеро.
– Он вернулся в Италию, – сказала Сильвана и пояснила: – Здешний климат не для него. Так что все его дела теперь на мне.
Рибас был так поражен услышанным, что переспросил:
– Все его дела?
– Да. И я справляюсь.
Что стояло за ее словами? Только дела кондитерской? Но, может быть, по-прежнему тут встречаются некоторые лица, чтобы получать, обмениваться и доставлять сведения выгодным адресатам? Какова роль в этом самой Сильваны? Но расспрашивать ее он ни о чем не стал. Лишь рассказал о краже документа на Мальтийский крест в надежде, что Сильвана что-нибудь узнает.
Затем он нанес короткий визит Николаю Зубову. Тот был пьян по случаю рождения сына – внука Суворова и названного в честь деда Александром. Николай, хохоча, рассказывал о брате Платоне:
– Он в Риге изрядно отобедал! Польского короля ждали. Вино прокисало. А тут Платон и отобедал за короля под пушки!
О Суворове сказал, что тот хочет в отставку, но Павел не велит.
Базиль Попов февральским вечером приехал к адмиралу, и вместе с Виктором они сели за ломбер. Выслушав рассказ о свидании с Павлом, Базиль сказал:
– Вашему верному недругу не повезло.
– Мордвинов здесь? – спросил Рибас.
– Вызван. Посажен под домашний арест. К Павлу не допущен.
От заведования императорским кабинетом Базиль был отставлен, но получил чин генерал-поручика с назначением в мануфактур-коллегию. Об обеде Платона Зубова в Риге он сообщил:
– Так оно и было. Платон не только отобедал вместо польского короля, но генерал Пален провожал его до Митавы, как королевскую особу. Платон уехал. А Палену не поздоровилось. Он получил от Павла подлеца и отстранен от войск.
– Впору ему прошение в ящик бросать, – сказал Виктор.
– В ящик? – спросил Рибас.
– Возле подъезда Зимнего император велел установить ящик, в который каждый может опустить жалобу или донос, – пояснил Виктор. – Ключи от сего ящика Пандоры он не доверяет никому.
Рибас развел руками и сказал:
– Пандора только один раз открыла свой ящик из любопытства и выпустила на волю все беды людские. А Павел делает это ежедневно? Он мужественный человек!
– Теперь, вроде, ящик отменили, – рассмеялся Базиль. – В него повадились неприличные письма бросать.
Наконец, прибыл курьер из дворца. Император Павел I предписал вице адмиралу де Рибасу заседать з Петербургской Адмиралтейств коллегии.
Судьба, хоть на какое-то время определилась, и Рибас наутро отправился в карете в недальний путь по Дворцовой набережной к Адмиралтейству. Здесь, над валом со ста пушками каждый день поднимали белый флаг с петербургским гербом – два якоря, поддерживающие скипетр. Адмирал проехал мимо беседки, где горел огонь и грелись разводы караулов, и по мостику через ров подкатил к главному входу, где стояла карета вице-президента коллегии Голенищева-Кутузова, и он сам вылез из нее и приветствовал адмирала:
– Рад-рад. Работы у нас. непочатый край. А Мордвинов-то слыхали? Отправлен в Николаев в прежнем чине. Правда ли, что он там вокруг своего дома батареи пушек поставил?
– Ну, не батареи, а две-три.
– Государь гневался: «Мордвинов от моих курьеров пушками обороняется!»
В плохо натопленном зале заседали кригс-комиссар Иван Баскаков, генерал-контролер Мартын Фондезин, генерал-казначей Лупандин, цехмейстер Алексей Демидов… Обсуждали морские дела империи. Рибасу было положено получить жалование и столовые деньги за январь и февраль, а гренадерский полк, шефом которого он состоял, адмирал передал по команде Пустошкину.
Постепенно Рибас оценил все выгоды своего положения: Черноморское адмиралтейство было подведомственно Петербургскому, и адмирал знал многое из того, что происходило в Одессе после его отъезда. Пустошкин исправно пересылал в Петербург жалобы на адмирала подрядчиков, документы Экспедиции, напомнил о гибели судов в Днепровском лимане в прошлом году, а Мордвинов теперь, спустя год, приказал арестовать спасшихся моряков. Рибас не преминул подать рапорт и вызволил своих бывших подчиненных, объяснив причину гибели судов нещадным штормом.
Ветреным морозным днем все члены Адмиралтейств-коллегий были приглашены с заседания к месту, где когда-то стоял Летний дворец, а теперь играла полковая музыка, и Павел лично взял из груды камня один и положил его в траншею на раствор. Здесь начинался фундамент будущей резиденции нового императора – Михайловский замок. Рослый генерал поклонился Рибасу, и тот с трудом узнал в нем измаильского соратника дюка Эммануила Ришелье.
– Рад видеть вас, – сказал Ришелье по-русски, тщательно выговаривая слова.
– Вы? Поразительно. Какими судьбами?
– Назначен командовать кирасирским полком его величества.
– И граф Ланжерон с вами?
– Нет. Он, как и я, произведен в генерал-майоры, но командует Уфимским полком.
– Прошу вас бывать у меня запросто, – сказал Рибас.
– Благодарю, адмирал. У Румянцева мы последовали вашему совету и изучали этот труднейший язык. Как вам мой русский?
– Чуть больше уверенности – и вакантное место российского Цицерона за вами.
В марте император отбыл в Москву на коронацию, и заседания Адмиралтейства пошли вяло и сделались редки. Из рапортов и ведомостей Рибас знал, что Павел Пустошкин изведал горечь нового устроителя Одессы: то просил прислать «500 плотников на первый случай и 12 кузнецов», а то сообщал, что «Подрядчики забучивания Большого жетэ купец Автономов, а набережной коллежский асессор Дофине не могут заканчивать работы, на кои потребны 2 тысячи рублей».
Удивительно, но 30 марта, после аудиенции у папского нунция, прибывшего в Москву на коронацию, император Павел нашел время и написал в Одессу: «Господин контр-адмирал Пустошкин! Так как Одесский порт по неудобности его не будет отделываться на такой конец, чтобы быть ему военным портом… Большой жетэ, отделенный от прибрежного, отделываться не будет… казенных людей употреблять я не позволяю, а производить оные наймом». Пустошкин, очевидно, хватался за голову: где денег брать?
Из Москвы о коронации ползли разные слухи. Павел отставил от торжеств московского митрополита Платона не за то, что тот был слаб ногами, а за отказ принять орден Андрея Первозванного да еще со словами к государю:
– Я иерей, а не кавалер.
Приветственную речь с чувством произнес в Петровском замке Новгородский митрополит Гавриил. Павел велел разогнать толпу под балконом, осматривал Кремль, гулял в лесах, посещал госпитали и даже справил траур по госпоже Бенкендорф – любимице императрицы. После коронации он так не хотел отдавать корону – чуть не плакал, и процесс разоблачения от царских одежд растянул на часы. В честь коронации раздал сто тысяч крепостных, чины и награды. Старый Рибасов приятель генерал-аншеф Юрий Владимирович Долгоруков стал генералом-губернатором Москвы, о чем по своему обыкновению сказал весело: «Пора этот городок основать».
В один из дождливых летних дней возле Адмиралтейства Рибаса поджидала Сильвана.
– Мне намекнули, – сказала она, – что ваш документ на мальтийский крест в надежных руках.
– Кто намекнул?
– Это сделали через третье лицо.
– Что от меня хотят?
– От вас не ждут ни денег, ни услуг, – ответила Сильвана. – Считают, что вы на это не пойдете, и распорядятся документом, когда придет время.
Интрига могла начаться в любой момент, и адмирал решил обезопасить себя. Приехал к Виктору Сулину на Васильевский, все рассказал, и Виктор в присутствии Рибаса сел за стол писать письмо Рибасу. Он писал, что похититель требует за документ тридцать тысяч, а в противном случае известит прокурора о том, что адмирал самозванно присвоил право носить почетный крест. Рибас тут же написал и ответ воображаемому похитителю, в котором уведомил его, что на грязные сделки не пойдет никогда и что адмиральская шпага способна положить конец бесчестным замыслам.
– Итак, что же дальше? – спросил Виктор, вкладывая письма в конверты.
– В случае моего ареста или обыска эти письма найдут, – ответил Рибас. – И они послужат мне оправданием.
– О, времена! – воскликнул Виктор. – Истину приходится оборонять встречной интригой!
Оба письма адмирал положил в свой секретер на видном месте. И на время забыл о них – явился Базиль Попов и сокрушенно объявил:
– Суворов арестован!
Дело обстояло так. Александр Васильевич написал Павлу, что уезжает в свои кобринские имения и тут же получил отставку. Но вместе с фельдмаршалом из армии пожелали уволиться девятнадцать верных ему офицеров. Тотчас поползли слухи: Суворов хочет взбунтовать войско, восстать и идти на Петербург с армией, чтобы отменить букли и пудру. Нелепость эта обернулась тем, что Репнин нашептал Павлу о письме графа Румянцева, в котором тот, якобы предупреждал, что Суворов готовит бунт. Император повелел Суворова арестовать и сопроводить его в Кончанское.
Рибас написал Суворову сочувственное письмо, но Базиль письмо отобрал, порвал и сказал:
– Арестовывается всякий, кто вознамерился снестись с фельдмаршалом. Его офицеры увезены в тюремный замок Киева.
Кроме того, тотчас, по обыкновению, нашлось много обиженных Суворовым людей. Майор донского казачьего войска обвинил графа в том, что тот присвоил восемь тысяч, отпущенных в полк на продовольствие. Литовский помещик Вельский требовал с Суворова пять тысяч червонцев за разорение его усадьбы в 1794 году. Подал иск на фальдмаршала польский граф Ворцель, а майор Выгановский требовал возместить ущерб за сожженную усадьбу, оцененную в тридцать пять тысяч. Павел назначил следствие. Но некоторые претензии удовлетворял сразу за счет опального графа.
– Он хочет сто разорить, – сказал Рибас.
– Да! – кивнул Базиль. – Но теперь Суворов предупредил: на каждый следующий иск он будет отвечать вызовом па дуэль.
Фельдмаршал жил в Кончанском под надзором, утром и вечером обливался ледяной водой, от заутрени до обедни пел в церкви, ходил без рубашки, одна нога в сапоге, на другой – туфель.
– Не выжил ли он из ума? – качал головой Базиль.
– Напротив! – воскликнул Рибас. – Он знает, что императору докладывают и о том, как он обут, и хоть этим хочет досадить Павлу.
Вернувшись с коронации из Москвы неаполитанский посланник герцог Серракаприола пригласил адмирала к себе, встретил в прихожей и провел в кабинет, где заговорил без обиняков:
– Адмирал, вы человек военный. Подскажите: чем мы можем отсюда, из Петербурга помочь нашему бедному Неаполю?
Еще в октябре 1796 года король Фердинанд вынужденно подписал с Францией договор, по которому обязался быть снисходительным к собственным бунтовщикам. Французский посол в Неаполе Тара стал хозяином положения, добивался от Фердинанда военного союза. Король маневрировал. Но после поражения австрийцев под Риволи от войск Наполеона участь королевства Обеих Сицилии была предрешена: или союз в французской Директорией, или оккупация.
– Но насколько мне известно, – сказал Рибас герцогу, – император Павел хочет быть посредником меж Наполеоном и Австрией. Об этом его просил император Франц Разве Павел не послал миссию Репнина в Берлин для переговоров? Кажется, в ней должны участвовать Михаил Кутузов и посол Панин.
– В том-то и дело! Миссия Репнина отложена! Французы сами заключили предварительный мир с Австрией. Неаполь слаб. Я предвижу кровавые дни. Кто может помочь королевству?
Но что мог ответить адмирал герцогу? Осуществлять постоянное влияние на русского императора? Взывать к его рыцарству? Но если Франция не хочет видеть Павла посредником – желания его неисполнимы. Да и желания эти, как говорят на Руси, вилами по воде писаны: сегодня – Нелидова, завтра – московская юная очаровательница Анна Лопухина…
Рибас свел неожиданное короткое знакомство с российским молодым дипломатом Никитой Паниным – племянником почившего в Бозе создателя так и не воплощенной в жизнь Российской конституции. Он был посланником в Берлине, и Рибас заехал к нему, чтобы узнать о планах своего вчерашнего шефа – Платона Зубова, обитающего в Пруссии. Адмирал застал молодого тайного советника в горе – у Паниных умер сын. Сам дипломат болел. О Платоне Рибас ничего толком не узнал, но посла стал навещать. Разговоры на дипломатические темы, воспоминания – ведь Рибас имел честь давно знать умершего создателя конституции – «е только отвлекли посла от горестей домашних, но и сблизили с адмиралом. Ни сном ни духом адмирал не предполагал, куда могут завести их внезапные приятельские отношения!
– Я надеюсь, – говорил дипломат, – что наш император вернется к конституционным идеям. Теперь ему ничто не мешает сделать это.
– Увы, – отвечал Рибас, – когда в государстве заметной фигурой становится доносчик, пользующийся настроениями монарха, можно ли рассчитывать на конституционный поворот?
– Император давал слово создателям конституции: при восшествии на престол провозгласить ее.
– Это было давно, – стоял на своем Рибас. – Павел-престолонаследник и Павел-самодержец – два совершенно разных человека!
– Но вы знаете, что вдова губернского прокурора Пузыревского сохранила текст «Введения» в конституцию и преподнесла ее Павлу?
– И что же?
– Император дал вдове пенсию. А создателю конституции, моему покойному дядюшке, велел поставить памятник на могиле.
– На могиле! – воскликнул Рибас. – И этим все сказано.
Однако дипломат стоял на своем, считая, что естественный ход событий повернет Павла к конституционному праву, к усилению роли Сената в государстве, к самоограничению власти монарха. Рибас считал все это наивным, но все-таки с сожалением простился с Никитой Паниным, когда тот уехал в Берлин: собеседник был умен и ненавидел вельможный российский деспотизм и самодурство.
Между тем, Павел объявил, что в делах международных обязан быть нейтральным из-за внутренних неустройств российских. Рекрут, набранных Екатериной, возвратил домой, из провиантского департамента возвратил хлеб, взятый из сельских магазейнов. И все-таки адмирал советовал герцогу Серракаприоле быть постоянно на виду у императора, чтобы докладывать ему о каждой мелочи из неаполитанских событий.
Петербургское лето с дождями, бурями и угрозой наводнения живо напомнили Рибасу о страшном бедствии 1777 года, и адмирал, как и в молодые годы сделался затворником: кропотливо составлял Проект о сбережении Петербурга при наводнениях. За двадцать лет после бури 1777 года, когда в столице смеялись над предложением разгонять грозы водяными струями из фонтанов, ничего существенного против наводнений изобретено не было.
Адмирал в своем проекте предписывал в первую очередь постоянно следить за опасными ветрами и немедленно оповещать о них и о подъеме воды – палить из пушек три раза каждый час. Если же вода прибывает постоянно – палить по пять раз. На адмиралтейской башне по углам вывешивать днем четыре белых флага, а ночью четыре фонаря. Суда снимать с опасных мест, а в колокол звонить не набатом, а тихо и постоянно. Полиция обязывалась разносить повестки об эвакуации жителей из опасных мест. И когда проект был окончен, Рибас вручил его генерал-адъютанту Григорию Кушелеву и тот спустя лишь неделю передал автору императорскую благосклонность. Но рутинные заседания в Адмиралтействе настолько наскучили адмиралу, что он занялся следующим проектом – о разведении лесов на Днестре и Буге.
Проект был почти закончен, когда занятия адмирала прервала жена. В батистовом свободном шлюмпере она появилась в дверях кабинета и заявила:
– Поздравляю! У вас, оказывается, есть еще один сын!
– Прекрасно, – ответил Рибас, вставая из-за секретера. – Выходит, у меня две дочери, два сына. Я примерный семьянин. Одна беда: о прибавлении семейства меня долго держали в неведении.
– Не будь шутом! Все об этом говорят.
– Как называют новорожденного?
– Иосифом.
– Значит, Иосиф Иосифович Рибас?
– Не Рибас, а Сабир. Прочитай свою фамилию с конца и получишь – Сабир.
Адмирал был озадачен. Действительно: Рибас – Сабир… Но что все это значит? Улыбнувшись, он спросил:
– Сколько же лет младенцу?
– Двадцать.
– Ого. Служит?
– В Приазовьи.
«Настя не верит в эту историю, – подумал адмирал. – Иначе она не отвечала бы на мои вопросы».
– О матери моего сына ничего неизвестно? – спросил он.
– Да уже известно.
– Кто же она?
– Императрица Екатерина.
«Что это? Начало новой интриги? Если об этой сплетне станет известно Павлу…» Только это соображение заставило адмирала действовать. К сплетням о себе он привык, но такая да еще в такой момент грозила крупными неприятностями. Для адмирала не составило труда отыскать в списочном составе воинских частей Приазовья фамилию Иосифа Сабира, поручика, который родился в 1776 году, а теперь был в полку в селении Кибиак-Кози. Адмирал задумался. В 1776 году фаворитом Екатерины был Зорич, который вызвал на дуэль Потемкина… Может быть случилось это из-за «интересного» положения императрицы? Потом Рибас вспомнил свой бурный роман с певицей Давиа… Сабир ее сын? А может быть он от покойного Эммануила, который тоже был любовником Давиа? Адмирал вспоминал другие, не значительные связи, которые не оставили следа в его жизни. Он терялся в догадках, досадовал на свою молодость, когда приключений было в избытке.
В конце концов он поступил весьма просто: написал Иосифу Сабиру и в письме изложил все, о чем говорила Настя, но имени императрицы Екатерины не упомянул. Ответ не заставил себя ждать. Иосиф Сабир сообщил, что обстоятельств своего появления на свет не знает, воспитывался в кадетском корпусе, а по выпуску из него направлен в Приазовский полк. На странность фамилий Рибас – Сабир ему указывали его товарищи, но он посчитал это выдумкой, случайным совпадением и не стал никому докучать. Правда, если Рибас и в самом деле его отец, поручику остается сожалеть, что он никогда не видел его, ибо быть сыном такого отца для него честь великая…
Что было делать? Рибас вспомнил мучения Алеши, когда тот узнал, что матерью его была Екатерина… Неужели Сабир сын Зорича? Но Екатерине тогда было сорок восемь… Давиа? Нет, он бы знал об этом. Эммануил?… В конце концов адмирал почувствовал, что нужно что-то сделать для молодого человека, и между ними завязалась нерегулярная переписка. Молодой человек удивлял Рибаса наивностью, крайней романтичностью и почти девичьей экзальтацией. Жена Настя разговоров об Иосифе Сабире больше не возобновляла. И в обществе никто не делал намеков на этот счет. Но зная, как относится Павел I к бывшим фаворитам своей матери, адмирал ждал самого худшего. Виктор Сулин, когда Рибас изложил ему суть дела, одобрил действия адмирала и сказал:
– А не замешаны ли здесь ваши итальянские «друзья»?
Но другие события в беспокойной Российской империи отвлекли Рибаса.
В одну из поездок по городу Рибас был поражен: многие дома, заборы, ворота оказались выкрашенными черными, желтыми и белыми ромбами! Такое могло привидеться лишь в бредовом сне. Но возле Гостиного двора происходило штрафование тех, кто еще не успел перекрасить заборы: солдат взваливал жертву себе на плечи спиной вверх и, согнувшись, шел от полицейского к полицейскому и они колотили несчастного палками, как выбивают перину.
Когда император вернулся в столицу и увидел город в черно-желтых ромбах, от изумления выпучил глаза:
– Где мы? Куда приехали?
Оказалось, что генерал-губернатор Архаров и его «архаровцы» приготовили государю сюрприз: приказали обывателям красить дома, как шлагбаумы. Архаров получил от Павла дурака, был выгнан, генерал Буксгевден занял его место, но чтобы сюрпризов больше не было, за ним присматривал наследник Александр.
Адмиралтейские заседания, отсутствие конкретных дел, к которым адмирал привык, даже угроза возможной интриги – все это не составляло причину постоянного беспокойства адмирала. Но что же тревожило его? Большинство рибасовых приятелей-знакомцев, боевых товарищей и при новом государе получили отменный статус. Войнович был определен к заседаниям Черноморской Адмиралтейств-коллегий. Базиль Попов стал президентом камер-коллегии. Де Волан нанес визит Рибасу в новом генерал-майорском мундире и сообщил, что назначен к главному директору Водных коммуникаций графу Сиверсу «сочинять планы и профили Мариинского канала»… И все-таки, казалось, какая-то неясная большая тень давлеет над людьми и делами их.
Рибас искал объяснения собственным тревогам и в конце концов понял, что причина их даже не в неуверенности в завтрашнем дне, а в том, что деяния новой власти попросту непредсказуемы. В октябре 1797 года Франция и Австрия заключили Кампформийский мир, Франция получила Венецианские острова в Средиземном море, могла «возмутить» греков и албанцев и распространить «зверские свои правила» и в Турции – как писал прокурор Куракин. А что же Павел?
Англия продолжала противостоять французам и вешала своих собственных матросов-бунтовщиков. Очередной переворот создал во Франции Вторую Директорию, которая отправила на гильотину сто шестьдесят жертв, подозреваемых в роялизме. Вена рассчитывала на передачу Зальцбурга и Боварии… А что же российский император?
В это жестокое и кровавое время у Рижской заставы Петербурга разыгрывалось знатное действо. Граф Юлий Помпеевич Литта, чрезвычайный посол мальтийского ордена, приехал на заставу из центра города, велел развернуть карету и отправился назад, сопровождаемый эскортом всадников с восьмиконечными белыми крестами на алых мантиях. Комиссар Павла в треуголке с султаном ехал впереди. Обер-церимонимейстер двора встретил и приветствовал графа Литта на полпути. Так Юлий Помпеевич осуществил свой торжественный «въезд» в Петербург. В город, в котором он давно жил.
Через пару дней Павел честь по чести дал первую аудиенцию Юлию Помпеевичу, с которым до этого виделся постоянно чуть ли не год и щедро ссужал деньгами. Аудиенция вершилась публично в тронном зале. Рибас среди членов Адмиралтейства был в числе тех. кто кроме пяти российских орденов – двух Георгиев, двух Владимиров и ордена Александра Невского имел и скромный мальтийский крест.
На Рождество у Рибаса гостили «будущие рыцари» – Виктор Сулин и Базиль Попов. Виктор отказался от мысли бежать из Петербурга в имения. За ужином говорили о Суворове. Базиль накануне виделся с доверенным опального графа и сказал:
– Общая сумма исков к фельдмаршалу составляв; сто пятьдесят тысяч.
– И он будет платить? – округлила глаза Настя.
– Чем? Эта сумма втрое превышает его годовой доход.
Рождественская почта принесла вести от Миши, братьев и Елизаветы Григорьевны. Миша писал о шкловских товарищах-кадетах и о выезде в летний лагерь. Лиза свое письмо Рибасу почти полностью посвятила де Волану, подробно описывая все несносные черты его характера и нежелание писать ей. Феликс писал, что вышел в отставку из Черноморского гренадерского корпуса с ношением мундира и остался в Одессе в качестве плац-майора. Он собирался купить имение в Тузлах, пока есть деньги и земли дешевы. Андре уехал из Одессы через проливы на Неаполь и обещал написать братьям оттуда.
На другой день Рождества чета Рибасов нанесла визит графу Алексею Бобринскому. Пока гости съезжались, адмирал говорил с Алешей в кабинете. С Алешей! Шутка сказать – бывшему кадету стукнуло тридцать пять, он был лысоват, высок, грузен, осанист. Смутился, когда адмирал поцеловал его в щеку.
– Чем и как ты живешь? – спросил бывший воспитатель.
– Служу в конной гвардии. Вы знаете, кто мой шеф?
– Великий князь Николай Павлович?
– Да. Императрица сказала мне, что он уже начал ходить.
– Прекрасно.
– Он не только ходит, но уже и полковник, – улыбнулся Алексей. – Правда, он еще не говорит. Но замечено, что младенцу нравится коричневый цвет, и мы шьем теперь походные мундиры коричневого цвета.
Рибас оценил иронию и спросил:
– Ты говорил Насте о библиотеке, которую тебе будто бы завещал Бецкий?
– Он мне обещал.
– Увы, в завещании об этом ничего нет. Но если тебе нужны книги…
– Благодарю. Я скоро съеду из этого дома. Императрица его просит у меня, и я уж присмотрел дом на Галерной, где думаю устроить обсерваторию.
– Обсерваторию? – удивился Рибас.
– Да. Меня теперь чрезвычайно интересуют далекие планеты и миры.
«Это значительно лучше, чем шулера и гризетки», – подумал бывший воспитатель. Вскоре в чине генерал-майора Алексей вышел в отставку, на лето уезжал в Тульскую губернию в Богородск, а зимы коротал в столице у телескопа.
Польский король Станислав-Август, которого привыкли видеть рядом с Павлом на приемах под золотой порфирой на горностае, неожиданно умер, как и его давняя любовь Екатерина, от удара. Хоронили его с почестями из Мраморного дворца, где он жил, и погребли в католической церкви на Невском. Настя, никогда не бывшая набожной, истово молилась в своей киотной, но не успел миновать траур, как у Павла появился еще один наследник, нареченный Михаилом, и в Санкт-Петербургских новостях напечатали распоряжение отца о новорожденном, «которому быть генерал-фельдцехмейстером и шефом Гвардейского артиллерийского батальона».
Рождение шефа артиллеристов осложнилось некоторыми обстоятельствами. Фрейлины шептали Насте, что роды были трудны. Акушер из Берлина Мекель объявил, что не ручается за жизнь императрицы при следующих родах. Павел стал спать в отдельных покоях. Но ходили слухи, что все это интрига бывшего брадобрея Кутайсова, который подкупил берлинского акушера, чтобы подорвать фавор Нелидовой и императрицы у Павла.
По делам Адмиралтейства Рибас съездил по льду в санях в Кронштадт, а когда вернулся домой, был встречен в прихожей испуганной Настей и фельдъегерем, который, впрочем, не повез его во дворец, а сопроводил наверх, в Рибасов кабинет, где за столом поджидал его генерал-прокурор Алексей Куракин.
– Оказывается, вы не тот, за кого себя выдаете, – начал с места в карьер Павлов любимец. – У меня есть доказательства, что вы самочинно присвоили кавалерство ордена Иоанна Иерусалимского.
– И я, генерал, получил такое же доказательство, – ответил Рибас, раскрыл секретер, и передал заготовленное письмо, по которому похитители требовали за документ на Мальтийский крест тридцать тысяч.
Куракин прочитал письмо.
– А вот мой ответ, – Рибас передал конверт, генерал ознакомился и с его содержимым, а Рибас добавил: – Я не знаю, по какому адресу послать мой ответ, поэтому вручаю его вам.
– Каким же образом к неизвестным лицам попал ваш документ на Мальтийский крест? – спросил Куракин. Рибас коротко объяснил. Генерал-прокурор, от досады не зная, что предпринять дальше, нервничал. Его доносчики давно следили за адмиралом, установили подозрительную связь с российским посланником в Берлине Никитой Паниным, от которого Куракин потребовал объяснений, рассчитывая на громкое дело Рибаса, обвинив его и в присвоении права на Мальтийский крест, и в растратах по Одесской экспедиции да еще в выведывании дипломатических тайн! Но Никита Панин написал из Берлина: «Рибас видел меня под гнетом несчастья. Он пожалел меня и заботился, как друг. Я никогда не знал причины, побудившей его к этому великодушию, но тогда он оказал мне важную услугу, и я не могу позволить себе приписать ее гнусным побуждениям. Решайте сами: могу ли я отказать ему в моем уважении и прервать сношения с человеком, который искал знакомства со мной только тогда, когда я был несчастлив?»
Громкого дела никак не получалось! Куракин заговорил о делах Адмиралтейства, выслушал Рибасовы проекты о разведении лесов и простился с адмиралом так дружески, будто вовсе не имел намерений его арестовывать.
Через два дня адмирала вызвали в Зимний, где он застал суматоху, услыхал возгласы в коридорах, увидел бегущих красноливрейных слуг. Григорий Кушелев, пробегая мимо, только и спросил:
– Вас вызывали?…
– Да. Что случилось?
Кушелев, уж издали, приставив рожком ладошку к губам, невнятно что-то прошипел, Рибас лишь разобрал: «приезжает…» Павел, одетый по-дорожному, с Кутайсовым мелькнул в коридоре, повернулся к стоящему в отдалении адмиралу и крикнул:
– Я вас назначаю генерал-кригс-комиссаром! Отправляйтесь!
Позже Рибас получил и рескрипт, назначавший его к исправлению этой должности с обязанностью заседать в Адмиралтейств-коллегий. А переполох во дворце был вызван известием о приезде в столицу из Москвы Анны Лопухиной – дамы сердца царя-рыцаря. Увы, известие оказалось ложным. Дама не приехала, рыцарь страдал.
Новое назначение имело обширные полномочия. Под началом Рибаса оказались поставки леса и прочих материалов на строительство кораблей во всех флотах. Дела, которые адмирал принял от прежнего кригс-комиссара Баскакова, говорили лишь о запущенности хозяйства. Предстояла тяжкая многотрудная работа. Но не успел Рибас осмотреться в новой должности, как получил через Григория Кушелева повеление Павла: «Генерал кригс-комиссару де Рибасу отправиться на несколько дней в Ревель для обозрения тамошней морской госпитали и прочего по его должности».
Выехав двадцать третьего февраля, адмирал, вместо нескольких дней, провел в поездке две недели. Пригодился опыт наведения порядка в Одесском лазарете и советы Суворова. Не составило труда приказать отселить тяжелонедужных из лазарета, выпороть повара и двух унтеров. Но госпиталь оказался мал, и пришлось нанимать дома. Но не это и не поездка в сосновые заказники задержали адмирала. Он заезжал к графу Петру Палену, которого после отставки вновь приняли в службу в чине генерал-поручика и сделали инспектором кавалерии.
Граф приехал в свое имение по делам и отдохнуть. За эти годы в нем появилась некоторая чопорность, холодность, «отсутствие при присутствии». Однако адмирала он принял дружески, филейный шморбратен под гамбургским соусом, поданный к раннему ужину, ничего кроме восхищения, не вызывал. Серебряная водка пришлась как нельзя кстати продрогшему на морозном ветру адмиралу. Помянули Потемкина, вспомнили нечаянную давнюю встречу под Кучук-Кайнарджи, Очаково-Кинбурнские времена.
– Севастополь он снова повелел называть Ахтиаром, – сказал Пален, казалось, невпопад.
«Он – это император Павел», – понял Рибас и ответил в тон:
– Утешаюсь тем, что Одессу он не назовет Павлобургом.
– В этом нельзя быть уверенным.
– Нет, он невзлюбил Одессу и свое имя ей не даст, – сказал Рибас.
– Теперешнее время знаменуется тем, что ни в чем нельзя быть уверенным.
С этим адмирал не мог не согласиться.
– Вы верите, что Суворов хотел возглавить заговор против Павла? – напрямик спросил Пален.
– Маловероятно. Он – воин.
– Говорят, в окружении Александра Васильевича были популярны слова Вольтера: «Брут, ты спишь, а Рим в оковах!» Теперь все офицеры, близкие Суворову, в казематах. А ведь трон не предназначался Павлу. Если бы его занял Александр Павлович, все было бы иначе.
Граф близоруко сомкнув рыжеватые веки, внимательно наблюдал за Рибасом. Разговор был опасен. Найдись чуткое ухо… Адмирал перевел беседу на другую тему:
– У меня обливается сердце кровью, когда я думаю о судьбе Италии. Просвещенная Франция грабит ее варварски. На королей наложены миллионные контрибуции. Папа вынужден отдать Парижу сто лучших картин и статуй, пятьсот древних рукописей.
– И все это отзывается у нас, – возвращал разговор в прежнее русло Пален. – Куракин требует от Суворова двести тысяч. Павел осуществляет свое правление, как в припадке. Он всю жизнь ждал, что его отравят, удушат, подошлют наемного убийцу.
– Да-да.
– Согласитесь, российское дворянство теперь не принадлежит себе.
– Это общеевропейский процесс, – продолжал свое Рибас.
– Да! – подхватывал граф. – Европу попирает Бонапарт и Директория, а у нас своя чума. Как вы думаете, может найтись в России десяток молодцов, что смогут все расставить на свои места?
– Возможно.
На следующее утро Рибас не посмел даже заикнуться об отъезде.
– Я затемно встал и все подготовил для охоты, – объявил граф. – Не вздумайте отказаться. Лошади у крыльца.
Они вернулись через день, заночевав в сторожке егеря. Взяли пять лисиц на норах, двух оленей и дюжину зайцев. Легли, не поужинав, настолько устали. Утром пошел охотничий пир – водка из ревеня и оленина на вертеле. Пален провозглашал тосты за осторожность охотников, удачу и мгновения, которых не вернешь. Читал Державина:
Смотри, как в ясный день, как в буре Суворов тверд, велик всегда! Ступай за ним! – небес в лазури Еще горит его звезда.– Леонтий сейчас в фаворе у Павла, – без перехода говорил Пален, имея ввиду Бенигсена, шефа Ростовского полка. – Получил генерал-майора. А вот герцог Ришелье получил отставку.
– Как? – удивился Рибас. – Я виделся с ним. Он командовал кирасирами Павла.
– Отставлен. Уж я-то знаю. Под Гатчиной в селе случился пожар, и добросердечный дюк послал туда своих солдат. А Павел как раз вышел на плац: «Где кирасиры? Кто приказал? Много берете на себя!»
– Где же Ришелье теперь?
– Кажется, уехал в Польшу.
Еще два дня прошло в разговорах, пеших и конных прогулках. Пален никак не хотел отпускать Рибаса. А на прогулке в карете спросил:
– Если бы вам стало известно, что партия разумных голов хочет посадить на трон Александра, как бы вы поступили, адмирал?
Рибас ответил сразу:
– Для такого предприятия необходимо, по крайней мере, согласие самого Александра.
– Совершенно верно, – сказал Пален и больше опасных разговоров не возобновлял.
Вернувшись в Петербург, Рибас доложил на заседании о реорганизации ревельского госпиталя, и ему была выражена публичная признательность. Император повелел адмиралу отправиться для осмотра мест, где закупался провиант, дубовые и прочие леса. Рибас выехал в южные лесные губернии, недолго побывав в Москве, по Волге спустился до Казани. По пути составлял наставления для комиссионеров: где, как, в какое время закупать провиант, готовить барки для перевоза, сколько иметь рабочих, коноводов, лоцманов на реках, где устраивать магазейны, в которых лес разделывать, сортировать, запасать.
В Казани адмирала ждал офицер из полка Иосифа Сабира, с которым Рибас отправил в Кибиак-Кози самые разные припасы. Иосиф ответил письмом, в котором было в избытке сентиментальных жалоб. 15 октября 1798 года Рибас писал ему из Казани: «Вы получили припасы, за которыми приезжал ваш человек. Имейте бдительное наблюдение за работой и будьте неусыпны. Что это за ребяческая грусть, я не люблю этого в вас, мой милый маленький друг. Кислый вид не идет благовоспитанному молодому человеку…» Некоторые строки из письма Иосифа Сабира вызвали у Рибаса подозрение, что тот пишет, используя тривиальные литературные примеры, и адмирал написал в ответ: «Изобретайте глупости, сколько хотите, но пусть это будут ваши глупости».
Сабир ждал встречи с адмиралом в Кибиак-Кози, прислал истинно сыновье письмо, которое закончил словами: «Я горячо желаю видеть вас здесь».
Но встреча не состоялась: пришла депеша из Адмиралтейств Коллегии, в которой выражалось императорское удивление тем, что Генерал-Кригс-Комисар де Рибас чересчур долгое время проводит в путешествии по Волге, вместо того, чтобы ревизовать леса по Волхову и Мете и не посылает туда обер-форшмейстеров.
По дороге в Петербург Рибаса достигли слухи, что Павел вытребовал Суворова в столицу. За обедом Суворов намекнул, что стар быть инспектором войск, как это предлагал ему Павел. Шпионы императора доносили, что Суворов потешается над новыми порядками, желает чтобы ему вернули армию, штаб, освободили его офицеров. Тогда, может, и пойдет служить. А иначе – в монастырь, в Нилову пустынь. С тем и вернулся фельдмаршал в ссылку. А к этому времени был раскрыт заговор против Павла офицеров из круга Каховского, которые создали тайную организацию в Смоленске и Дрогобуже. С этим и связал адмирал депешу Адмиралтейства, потребовавшую его срочного возвращения.
Первым, кто нанес визит адмиралу в Петербурге, был не Виктор или Базиль, а Петр Пален. Он показал рескрипт Павла на свое имя о том, что дом, купленный в казну у вице-адмирала Рибаса «Всемилостивейше пожалован в вечное и потомственное владение нашему тайному советнику и генерал-прокурору Лопухину…» Рибас, прочитав рескрипт, был поражен настолько, что не знал, с чего начать расспросы!
– За сколько же император купил у меня дом?
– За сто десять тысяч.
Сумма вполне устраивала адмирала, получавшего за свои поездки по лесным губерниям пособия от Адмиралтейства. Кроме того, в его отсутствие старшая дочь Софья оттанцевала выпускной бал в Смольном и пришла пора конкретно озаботиться ее приданым, о чем жена успела сказать Рибасу:
– Настоящего жениха у нее пока нет, но он может рухнуть на нас в любой день.
Усадив Палена у окна, выходящего в Летний сад, Рибас вышагивал по кабинету и спрашивал:
– Бог мой, в рескрипте вы именуетесь бароном фон дер Паленом – Санкт-петербургским военным генерал-губернатором! Поздравляю! Но когда же вас назначили?
– Еще в конце июля.
– Почему Лопухин генерал-прокурор? Какой Лопухин?
– Петр Васильевич. Отец Анны Петровны. Они переехали в Петербург окончательно. Анна Петровна, несмотря на досаду и раздражение императрицы, теперь камер-фрейлина.
– А ее отец генерал-прокурор. Но что же Алексей Куракин? Павлов любимец?
– Отставлен от этой должности и выслан в деревню.
– Как? За что?
Пален сидел подчеркнуто прямо и отвечал с надменностью, неизвестно кому адресованной:
– Я сам бы хотел понять систему приема и отставок, но не нахожу этой системы. Фельдмаршал Репнин уволен. За что? У него подозревают симпатии к теперешнему Берлину. Растопчин, напротив, принят в свиту. Николай Зубов уволен. Выслан в Москву с женой, где она родила еще одного внука Суворову. Вы знаете, как его назвали? Платоном. А Платон Зубов возвращен из-за границы и сослан в свои деревни. Там же и брат Валериан. Бенигсен отставлен, вновь принят, но сослан на Кавказскую линию.
Было похоже, что барон Пален ведет реестр всем получившим отставку. «Собственно, он мог и не приезжать ко мне, чтобы сообщить, что мой дом продан и отдан новому генерал-прокурору Лопухину. Это предлог для встречи», – думал Рибас. Но кроме сетований и констатации разговор дальше не пошел. Позже Настя сказала:
– Пален подкупил Кутайсова, и тот вышептал ему должность губернатора.
Как бы то ни было, генерал-губернатор Пален усердно трудился. Разработал «Устав столичного города С.Петербурга», образовал Комиссии, департаменты, Ратгауз – городское правление. Правда, уж очень было похоже, что он попросту списал «Устав» с немецкого, потому что теперь за рынками следили «марк-фохты», за добротностью питий в винных погребах наблюдали «вейн-киперы», за мясными бойнями «бешауеры». Даже ночные сторожа именовались – «нахт-вахтеры».
К этому времени Франция захватила Бельгию, Голландию, земли в Германии, большую часть Швейцарии, уж не говоря о Северной Италии и Ионических островах. Наполеон Бонапарт высадился в Египте.
Павел вел переговоры с Англией, Турцией, Австрией, чтобы сколотить коалицию против «французских варваров», а в Петербурге разрешил всего семь французских магазинов, как он говорил, по числу семи смертных грехов.
Пока адмирал ездил в леса империи, произошли события удивительные. Россия, имевшая с Портой две кровопролитнейшие войны, заключила с ней союз, а эскадра Ушакова прошла через проливы в Средиземное море к Ионическим островам с целью отбить их у французов. Адмиралы Войнович и Пустошкин были на кораблях этой эскадры.
Неаполитанский посол герцог Серракаприола торжественно объявил Рибасу при встрече:
– Слава всевышнему: Фердинанд снова заключил союзный договор с Англией!
Адмирал развел руками:
– Но рискнул бы он на это, если бы Нельсон не разбил французский флот при Абукире?
– Да-да. Но главное! – воскликнул герцог. – Неаполь объявил войну Франции.
– Я с печалью думаю о скором финале этой войны, – ответил Рибас.
Действительно, пока шли переговоры о совместных действиях России и Неаполя против французов, Фердинанд IV приказал своим войскам под командованием австрийского генерала Мака перейти границу Римской республики. Республика эта была провозглашена в начале года – в Папских владениях хозяйничали французы. Но теперь они отступили, и 29 ноября Фердинанд IV торжественно въехал в Рим. А через две недели он бежал из Рима в Неаполь – его войска терпели поражение за поражением.
Петербург в это время обсуждал запрет комедии Капниста «Ябеда», читал журнальчик «Что-нибудь от безделья ‹на досуге», удивлялся токарю Ивану Бластеру, который у себя на Мещанской продавал машины для помощи утопающим по 15 рублей штука. Изредка заходя на половину дочери Софьи, где она устраивала небольшие приемы, от молодых офицеров Рибас слышал, что муштра в полках похожа на заразную болезнь, которую прививает начальство. Рассказывали анекдоты: один генерал исключил из службы горбатого поручика. Ему указали, что некоторые полководцы страдали этим недостатком. А Павел наложил резолюцию: «Я и сам горбат, хоть и не полководец». Адмиралу Чичагову Павел якобы сказал: «Если вы якобинец, то представьте, что я командующий всеми якобинцами, и слушайтесь меня!» Еще летом без боя сдалась французам Мальта. Магистра ордена Иоаннитов Гомпеша рыцари обвинили в измене и лишили сана. Резиденция ордена была перенесена в далекий Петербург, где теперь заседал капитул. Но как же заседать без Великого магистра? И католическую вакансию торжественно занял православный царь.
– Это может ему дорого стоить, – сказал Базиль.
Рибасу после церемонии.
– Почему? И при прежнем правлении сближение религий одобрялось.
– Сближение, но не перемешивание, – ответил Базиль.
От Андре из Италии не было никаких известий, и не мудрено: к середине января Петербург достигли новости печальные: король Фердинанд и Мария Каролина оставили Неаполь и на борту адмиральского корабля Нель сона «Вангард» отплыли на Сицилию. Генерал Мак сдался в плен. Неаполь оказался в руках лаццарони, был разорен грабежами и расправами над всеми, кто сочувствовал французам, которые в конце концов взяли город штурмом. А где Андре? Жив ли он? Ни на что не надеясь, Рибас написал в Неаполь по старому адресу.
Из одесских писем Лизы и Феликса адмирал знал, что в городе учреждена первая больница, что старый магистрат упразднен указом Павла, а от Одессы к Николаеву ставятся верстовые столбы. С особым ревнивым чувством Рибас рассматривал рисунок высочайше утвержденного герба Одессы, который прислал Феликс: щит, разделенный на две половины. Вверху на золотом поле Всероссийский орел, над головами которого две малые короны, в центре большая корона, под ней поменьше, четвертая. На груди орла осьмиугольный крест со щитом посередине, где Георгий Победоносец на белом коне убивает копьем змия. А внизу на красном поле якорь о четырех лапах. Адмирал решил, что корон в гербе многовато, а восьмиконечный крест и вовсе не к месту.
В начале февраля 1799 года заговорили о том, что венский двор уговаривает Павла назначить Суворова командующим объединенными силами для похода в Италию. Как только Рибас узнал, что фельдмаршал в Петербурге, отправился в дом Хвостова, где похудевший, чем-то похожий на ребенка Суворов встретил его так, будто и не расставались:
– Император позвал – что делать? Пришлось одолжить у старосты двести пятьдесят рублей на дорогу. И – гоц-гоц. Вы кригс-комиссар? Славно. Флот в Адриатику мне в помощь снаряжайте!
– Как раз собираюсь в Кронштадт для этого, – сказал Рибас.
– С Богом!
Царь-рыцарь возложил на Суворова орден Святого Иоанна Иерусалимского большого креста, дал тридцать тысяч по случаю отъезда и положил выдавать по тысяче рублей в месяц во все время кампании. В Вене фельдмаршала встречали толпы, и он вступил в переговоры с Гофкригсратом – придворным военным советом, который хотел сначала оттеснить французов за реку Адда и знать наперед о дальнейших действиях. Австрийцы могли погубить кампанию своим маниакальным желанием все предвидеть и начертать планы всех сражений. «Я начну с Адды, а кончу, где Богу будет угодно», – заявил Суворов.
В Кронштадте действительно снаряжался флот, чтобы отбить у французов Мальту. Рибас съездил на остров по льду, а потом, дождавшись открытия навигации, отправился вниз по Вышневолоцкой водной системе, связывающей Петербург и Рыбинск. Этому водному пути, основанному Петром I, минуло уже девяносто лет. Кригс-комиссар осматривал леса по берегам Ладожского канала, Волхова, составлял карты лесов, рассылал комиссионеров, заключал сделки и отсылал отчеты в Адмиралтейство, где его замещал комиссар Берг.
К этому времени Григорий Кушелев получил вице-адмирала и стал Вице-Президентом Адмиралтейств-коллегии, о чем Рибасу при встрече заявил так:
– Четверть века назад я рассказывал вам на Адриатике о невероятном случае с российскими робинзонами в северных морях. Но могли бы мы тогда хотя бы предположить еще более невероятное: я стану Вице-Президентом Адмиралтейства, а вы – генерал-кригс-комиссаром?!.
А теперь через Кушелева Павел объявлял указ: «…усмотрев из донесений Адмирала, Генерал-Кригс-Комиссара де Рибаса, что в дубовых рощах, растущих в Чебоксарском и Кузьмодемьянском округах, леса хотя и есть здоровые, толстые и великорослые, и такие, из коих некоторые ныне, а другие через несколько лет годными быть могут на важные звания корабельных и фрегатских членов; но их не столь много, и не так обширны, чтобы можно было оными долго пользоваться: почему и соизволил Высочайше повелеть, дабы в предбудущие времена не могло быть оскуднения в лесах, столь нужных к построению кораблей, приступить ныне же к заведению вновь таковых дубовых лесов по рекам: Неве, Волхову, Мете, Ловати, Пале и по другим… Послать на оные для осмотра грунтов земли, обер-форшмейстеров, придав к ним искусных лесовщиков… тотчас приступить к заведению рощей; для чего и предписать, кому следует нынешним же летом, в изобилующих дубом губерниях, собрать самых свежих, спелых и годных к посеву лучшего дуба желудков…»
Тем не менее, когда кригс-комисоар вернулся в Петербург, жена встретила его безапелляционным заявлением:
– Наш император сошел с ума.
– Правда? Чем он тебе досадил?
– Всем! В этом году он запретил танцевать вальс, дамам носить разноцветные ленты и широкие букли, мужчинам бакенбарды. Запрещены цветные воротники и обшлага на сюртуках. Полиция хватает женщин, если они появятся на улицах в синих сюртуках и белых юбках!
– Это, верно, влияние на Павла придворных дам, – отмахнулся адмирал. – Суворов гениально побеждает в Италии. Державин пишет оды. Я развожу леса. Все идет своим чередом.
– Он велел посадить католического митрополита в крепость!
Это показалось странным. Но выяснить подробности адмирал не успел: Настя сообщила, что арестован и Базиль Попов. Встревоженный Рибас отправился к нему и застал в сборах к отъезду.
– Но что же случилось? – хмуро спросил адмирал.
– То же, что и со многими, – отвечал Базиль садясь на сундуки.
Около года он присутствовал в Первом Департаменте Сената, пока по ложному доносу не был судим, посажен под караул и в конце августа отрешен от всех должностей.
– На фабриках мануфактур-коллегии никак не могут получать ткани розного красного цвета, – объяснил Базиль причины. – Виноват я. Делаю это с умыслом, ибо не чту любимый цвет Анны Лопухиной – принцессы императора. – Он вдруг сочувственно посмотрел на Рибаса. – Если и вас сия чаша не минует – не жалуйтесь, ибо ничего, кроме унижений.
Смириться с отъездом друга адмирал не мог.
– Повремените, Базиль. Все еще устроится.
– Нет. Еду в Тавриду. У меня в Евпаторийском уезде есть имение в Тавельской долине. Займусь хозяйством.
Они обнялись. Условились писать. Но адмирал уверил Базиля, что их пятнадцатилетней дружбе не может настать конец.
Осень 1799 года ознаменовалась отставками, которые вызывали недоумение. Александр Ланжерон, командовавший в Курляндии двадцатипятитысячным корпусом, был отправлен инспектором в Брест. Андрей Разумовский, вызванный из Вены, оказался сосланным в Батурин. Иван Гудович, Долгоруков, Мордвинов – под разными предлогами изгнаны со службы. Если бы канцлер Безбородко скоропостижно не умер, его постигла бы участь многих: отставка по ничтожному поводу.
Дом адмирала неожиданно посетили два визитера. Первый – герцог Серракаприола, посланник Неаполя. Но второй… Рибас с удивлением узнал в нем маркиза Галло! Он по-прежнему был театрален и патетичен:
– Я все лето вел переговоры с императором Павлом от имени неаполитанского короля Фердинанда и во многом преуспел, – заявил он безапелляционно. – Я даже составил для Павла I письменный доклад! – воскликнул он тоном человека, достигшего земных пределов. – По поручению Фердинанда я предложил созвать в Петербурге конгресс для устройства итальянских дел. А в результате… – маркиз всплеснул белыми ручками. – В результате неведомой мне интриги король Фердинанд дезавуировал меня, а император Павел высылает за пределы империи! Моя миссия провалена!
«Как и первая, давняя», – подумал адмирал. Но слишком значимы были взаимоотношения Неаполя и России для Рибаса, чтобы сетовать на недалекого маркиза. В сентябре в Гатчине был отслужен молебен «о восстановлении короля неаполитанского». Уж четверть века Рибас, как мог, способствовал сближению двух государств. Поэтому он посоветовал Галло повременить с отъездом день-другой и отправился к Никите Панину, который вернулся из Берлина и был возведен Павлом в вице-президенты коллегии иностранных дел.
– Увы, – сказал Никита Петрович. – Высылка Галло из России и для меня факт прискорбный. Из меня, Министра, теперь сделали полицейского, чтобы выпроводить Галло. Он старательно усердствовал в возобновлении русско-неаполитанских отношений. И за это попал в немилость своего короля, который, заметьте, стоит за союз с Россией! Без гнусной интриги тут не обошлось.
– У вас нет возможности открыто обо всем переговорить с императором?
– Мое теперешнее положение при дворе не дает мне такой возможности.
– Вы второй человек в Российской внешней политике!
– Вот именно. Ростопчин – первый. Мы с ним на ножах. Но Павел превозносит мнимые достоинства Ростопчина.
– Но если для Галло откроется какая-либо возможность продолжить переговоры, вы не оставите меня своими советами? – спросил адмирал.
– Разумеется. Всегда буду рад видеть вас.
Но адмирал не успел ничего сделать. Галло уехал в Вену. Выяснилось лишь, что Ростопчин и считал маркиза ставленником Вены. Это было настолько глупо, ибо неаполитанский король через Галло и хотел ограничить венские аппетиты. Все, в том числе и адмирал, отзывались о Ростопчине, как о человеке с больным воображением. Ростопчин в долгу не оставался.
И неожиданно Григорий Кушелев из Гатчины прислал адмиралу небольшой конверт под красной печатью (корона и буква «П»), а в конверте оказался Мальтийский крест и уведомление о пожаловании «командорственного креста при сем вашему Высокопревосходительству препровождаю, которой и извольте возложить на себя». По уставу ордена сам бог велел наградить Рибаса за двадцать лет службы Большим мальтийским крестом. Но Павел, читай, Ростопчин, рассудил иначе.
– Ты – неаполитанец, – сказала Настя. – А для Ростопчина это то же, что не человек.
Из Одессы приехал Феликс, и братья уединились в кабинете, заказав повару изысканный итальянский ужин. Феликс сразу же успокоил адмирала: от брата Андре через проливы в. Одессу пришло письмо. Он находился на Сицилии, а когда королевская власть в Неаполе была восстановлена, он с кораблями Ушакова прибыл в Неаполь.
– А что в Одессе? – спросил адмирал.
– Как говорят в Одессе, – ответил Феликс, – «было бы плохо, если бы не было хуже». Одно дело – ссоры российских и иностранных купцов. Они помирятся. Но совсем другое – отсутствие средств. Стены церкви Екатерины уж год стоят без крыши. Греческая церковь брошена, прихожане молятся в землянках.
– А что же их предводитель? Афанасий Кес?
– Умер.
– Как? – пораженный адмирал вскинул голову: не верилось, что здоровяк Афанасий, крещеный турок, человек, страдающий избытком предпринимательских фантазий, отдал богу душу.
– Год назад, – продолжал Феликс. – За покойником насчитывается казенного взыскания на двадцать тысяч и десятки грехов. Пекарню не построил. За деньги у него работники только расписывались. Ездовых волов продавал мясникам. А впрочем, на мертвых все грехи и списывают.
Кес и в правление Павла I написал в Петербург в Адмиралтейство о своем проекте устроить в Одессе чеканку фальшивых турецких серебряных денег. Рибас читал его послание, в котором Афанасий повторил все, что когда-то рассказал адмиралу в Одессе. Конечно, Кес был специалистом своего дела: он вырос на турецком монетном дворе, был учеником чеканщиков султана и обещал, что одесские турецкие серебряные левы будут пользоваться спросом и в Басре, и в Смирне, да во всей Османской империи. Но как отнеслись к его затее казначеи российского императора, адмирал не знал. Впрочем, грешника Кеса теперь и на земле не было.
Однако в письме в Адмиралтейство Афанасий Кес предлагал еще и саму Одессу сделать свободным беспошлинным портом. Он обещал многие выгоды от этого предприятия. Но, видно, рассчитывал и сам разбогатеть, ибо брался безвозмездно построить заставы и содержать их. Но, увы, теперь на все имущество покойного предводителя одесских греков, на его тираспольское имение был наложен арест.
А Феликс продолжал перечислять одесские беды:
– В порту набережная, пристань, молы, жетэ разрушаются без всякого присмотра. Указ строжайше следить за исправностью дорог и строений город получил, а как это все осуществлять, если денег нет? В торговой гавани после зимних штормов капитаны иностранных судов боятся швартоваться – так они штормами бывают повреждены, а ремонтировать портовые сооружения некому и не на что. В последний год сделано одно: арестанты по приказу Новороссийского правления зачем-то вокруг города вырыли ров.
– Арестанты?
– Тюрьма переполнена. В ней и воры, и ночные разбойники, и поджигатели, и конокрады. Сидят и за фальшивые ассигнации, и за обращения из православия в еврейскую веру. Земли по реке Барабой у греков отобрали. Где им вести хозяйство – головы не приложат. У них был иеремонах Грамматикопул. Но бежал – уличили его в сожительстве со многими чересчур преданными вере прихожанками. Католики, напротив, свой молельный дом и приход содержат исправно. Я часто бываю у падре Арциоли Пароха.
Адмирал с удовольствие рассматривал брата. Феликсу исполнилось двадцать девять. За его плечами неаполитанская гвардия, волонтерство в Польше, российская гвардия, конно-егерский Елисаветградский полк. Он в передовых отрядах брал батареи, был храбр. Командиром батальона в чине премьер-майора вышел три года назад в отставку и остался в Одессе в звании первого плац-майора.
Он рассказывал о своих коммерческих планах, о покупке имения в Тузлах, но постоянно сетовал на отсутствие помощи городу со стороны столичных властей. Конечно же адмирал досадовал на то, что его собственные усилия и прилежность де Волана в строительстве Одессы идут прахом. Без субсидий город вконец захиреет. Рибас обдумывал: чем можно помочь, как исправить положение, и внезапно ему явилась весьма простая и в какой-то мере озорная мысль. Он спросил у брата:
– Неаполитанский консул Винченцо Музенго еще не унес ноги из Одессы?
– Унес, – махнул рукой Феликс. – Но консульство осталось. Теперь Неаполь в Одессе представляет Гаэтано Мучи. Признаюсь тебе, я так рассчитывал на эту должность!
– Надеюсь, что ты ее еще получишь, – сказал адмирал. – А вот положение Одессы, по-моему, можно переменить в одно мгновение, для которого предварительно надо потрудиться.
Он вкратце изложил свой план брату. Феликс принял его без особых восторгов, но обещал в Одессе переговорить с кем следует. К его удивлению, и новый одесский полицмейстер надворный советник Лесли, и комендант подполковник Гинкул, и члены Магистрата, а, главное, одесские купцы план одобрили. Мерки их были просты по-христиански: рука дающего не оскудеет.
Тем временем, вестником о победах Суворова в Италии в Петербург прибыл князь Павел Гагарин, подложивший свинью своему тезке-императору тем, что именно в него была влюблена дама сердца царя-рыцаря Анна Лопухина. Об этом она откровенно призналась императору: «Сердце мое принадлежит Павлу, но увы, другому Павлу».
Павлу I ничего не оставалось делать, как благоразумно уступить. Земному существованию Анны Лопухиной он придавал мистическое значение, связанное с личным благополучием. Он начертал ее имя на знамени своего гвардейского полка. Оно было девизом государя. 8 февраля 1800 года Павел I присутствовал на венчании в придворной церкви Павла Гагарина и Анны. Обожаемая дама царя-рыцаря оставалась для него другом, наперсницей, любовницей и предметом рыцарских устремлений. Правда, самочувствие императора было скверным и в этот же день отозвалось тем, что умершему генералу Врангелю Павел «в пример другим объявил строгий выговор».
К восьмому февраля в Одессе собрали необходимые деньги. В Одесский порт пришло купеческое судно из Константинополя торговой комиссии «Месинези-Ласто» с обычным грузом винных ягод, орехов, каштанов. С этого судна на дегустацию Феликсу Рибасу послали корзину фруктов. Одесские купцы ждали у дома Феликса: что решит знаток. Он вышел на крыльцо и объявил:
– То, что вы мне дали отведать, дней через двадцать начнет гнить. Торопитесь!
Именно восьмого февраля из Одессы па Очаковскую заставу выехало трое саней с секретным грузом, который сопровождал и за который головой отвечал грек унтер-офицер греческого батальона Георгий Роксомати. Груз состоял из мандарин-померанцев. Грек поступил весьма осмотрительно, присовокупив к трем тысячам мандарин еще тысячу на всякий случай, а точнее, рассчитывая выгодно продать их на Севере. Прогонных денег на лошадей одесский магистрат не пожалел, выдал греку генеральские суммы на подкуп станционных смотрителей и для непредвиденных взяток. Полицмейстер Лесли при этом сказал:
– Если в две недели не доскачешь до Петербурга, то не возвращайся. Но если доскачешь, но наши три тысячи померанцев загубишь – привязывай всю эту гниль себе к шее и топись в Неве.
Поэтому грек Роксомати лелеял в дороге мандарины-померанцы, как детей в яслях: то укутывал их шерстью и овчиной, то проветривал, то брал на пробу. На одной из ямских станций узнав, что у него за поклажа в санях, лошадей греку не дали ни за какие деньги. Что делать? Он предложил десяток золотых плодов ямщику-смотрителю – и через минуту и лошади нашлись, и провожатые путь указывали. Весть о невиданных фруктах-померанцах опережала санный обоз грека-одессита. Только-только он подкатывал к станции, а его уж как высокую особу ждали и лошади, и чарка, и закуска. Грек высыпал в подставленные бабьи подолы золотые плоды, пил чарку, кланялся и скакал дальше.
Под Смоленском пришлось дать канцеляристу пятьдесят плодов юга за справку, что плоды эти не имеют животного происхождения и что их можно употреблять в пищу и в большой пост. Справка оказалась необходимой, так как соперники грека Роксомати на российских трактах распустили слух о том, что померанцы есть плоды из Африкан-страны, где птица-Цтраус высиживает из них своих птенцов.
Одним словом, в две недели грек достиг Петербурга и доставил груз в сохранности. На Псковском постоялом дворе нанял солдата, наказал сторожить драгоценный груз и отправился к адмиралу де Рибасу. Тот дал ему провожатого матроса, и грек, вздыхая, развез по разным Петербургским домам ту часть мандарин-померанцев, которую мечтал с выгодой для себя продать. Впрочем, в дороге он сэкономил немало взяточных денег и внакладе не остался.
В этот же день после развода караула, приема министров император по своему обыкновению отправился с бывшим брадобреем Кутайсовым вдвоем на прогулку в шестиместной карете, его спутник удивил императора и обрадовал: положил в ладони его величества крупный золотистый чудо-плод, любимый государем еще с детства – померанец!
– Откуда? – спросил Павел.
– Из Одессы прислали, – скромно ответил Кутайсов. Скромно потому, что его самого еще ребенком прислали из-под Хаджибея среди прочих пленных казаки в Петербург. Император мгновенно затаил обиду: своему вчерашнему рабу он дал орден Анны I класса, возвел его в бароны, сделал егермейстером, графом, наградил орденом Александра Невского – и все это за какой-то последний гол, а в результате и солнечные плоды, волшебство природы, присылают из Одессы ему…
Но таил обиду Павел недолго: отобрал у экс-брадобрея все померанцы, что нашлись у того в карманах, погрозил кулаком, заставил графа-раба очищать кожуру и велел форейтору ехать к Анне Лопухиной-Гагариной. У молодой четы еще не кончился медовый месяц, но увидеть прекрасную Анюту, притронуться к шлейфу ее платья означало для императора получить негласное мистическое благословение всем его начинаниям, да и не с пустыми руками явится – с золотистыми плодами Юга.
В многочисленных эпиграммах Павла часто сравнивали с Дон-Кихотом. Правда, эти эпиграммы приходили в противоречие со стихами:
Не венценосец он в Петровом граде, А варвар и капрал на вахт-параде. Дивились нации предшественнице Павла: Она в делах гигант, а он пред нею Карла.Тем не менее и Прекрасная Дама российского императора-Дон-Кихота-Карлы в какой-то мере соответствовала Дульсинее: малообразованна, далеко не красавица, но доброе выражение лица, прелестная головка с огненными черными глазами имели на царя такое же влияние, как жительница Тобосса на несчастного Дока Кихота. Увидеть, услыхать нежный вкрадчивый голосок означало получить энергию самоутверждения и уверенности в делах, в том, что Суворов вовремя отозван с армией из Европы, выход из антифранцузской коалиции необходим, а осуждение закулисных игр Вены – рыцарский долг…
Но увы. Дом Дульсинеи-Анны, ее покои, ярусы, начиная с прихожей, был напоен солнечным воздухом, в котором настоялся запах померанцев… Павел даже забыл о рыцарском этикете, досадливо воспринимал знаки внимания, морщился, но явственно услыхал слова Павла Гагарина:
– Две сотни померанцев получил я сегодня из Одессы, Ваше Величество. Обязательно куплю в тех краях имение или землю.
Чуткая Анна не преминула сказать своему рыцарю:
– Я читаю в вашем лице напряженную работу мысли, мой император. Вас заботят дела, которые вы успешно завершите.
Она не угадала. Рыцаря заботили не дела, а запахи. Он спешно уехал в Зимний. Никто не мог понять причину его холодности. Но в Зимнем дворце хаджибеевец Кутайсов приготовил раздосадованному шефу сюрприз: заиграли десять дев на десяти арфах, растворились парадные двери и десять красноливрейных слуг вошли в залу с десятью корзинами, наполненными доверху золотыми чудо-планетами мандаринами-померанцами.
– От магистрата Одессы для вашего величества в подарок три тысячи померанцев!
Император взял несколько штук, подбросил их, попытался поймать – солнце раскатилось по полу Зимнего в разные углы. И несколько дней все было пропитано свежим нектарным ароматом. На померанцевом балу иностранные посланники шептались о какой-то неведомой им дипломатической удаче петербургского кабинета.
Двадцать шестого февраля Павел письменно поблагодарил одесского бургомистра Дестуни за доставленное удовольствие. Позже он «всемилостивейше снисходя на прошение г. Одессы магистрата, высочайше повелеть соизволил отдать ему Резиденцию для оказания помощи тамошней гавани все казенные материалы…». Правда, материалы эти магистрат должен был все-таки купить на свои деньги, и высочайшим рескриптом Одессе назначалось к выдаче из казенных сумм двести пятьдесят тысяч рублей.
Феликс написал обо всем адмиралу, но тот, еще не успев получить письмо брата, приехал на заседание Адмиралтейства, где Григорий Кушелев бесстрастно зачитал ему распоряжение Павла: «Его Императорское Величество Государь Император отданным сего числа при пароле приказом указать соизволил Управляющего Лесным Департаментом адмирала де. Рибаса отставить от службы, о чем к исполнению Адмиралтейской коллегии сим сообщается. Санкт-Петербург. Марта 1 дня. 1880 года».
– Но каковы причины? – спросил Рибас.
– Мне сие неведомо, – ответил Кушелев.
14. Развязка 1800
В год своего пятидесятилетия оказаться не у дел, быть отрешенным от службы весьма важной, к которой почувствовал вкус, к которой так подошел, впечатался характер и склонность к реальному делу – все это подействовало на адмирала удручающе. И оправдаться нельзя – доступа к документам нет, а есть только распоряжение императора.
Главное, что поразило Рибаса – он не видел сочувствия в глазах людей, которых встречал: отставка, неожиданное изгнание со службы стали обыкновением. Друзьям и домашним адмирал позволял себе говорить:
– Меня можно обвинить, что я купил участок леса с целью извлечения незаконных выгод. Это еще куда ни шло. Но, как говорят, мне вменяют в вину, что я назначил в лесной доход цены на смолу ниже представленных архангельским губернатором. Это было сделано, когда я плыл по Вышневолоцкому каналу. И, верно, правильно сделано. Архангельский губернатор, скажем, оценивает смолу в рубль, а ей цена полтина, потому что не годится никуда.
Предстояло решать: как быть дальше? Миллионов он не накопил. Скоро станет вопрос: на что жить? Уехать в Италию? Но Неаполь разорен войной. Поселиться в Одессе с братьями? Но в качестве кого? Да и после того, как он был главным строителем города-порта, стать там частным лицом было не с руки. Неожиданный и весьма поздний мартовский визит Петра Палена прервал размышления адмирала: к нему явился не опальный генерал Пален, а Петр Алексеевич Пален – генерал-губернатор Санкт-Петербурга, возведенный императором в графское достоинство Российской империи. Приехал он не в знатной карете, а в обыденном экипаже, без охраны, отказался от ужина, попросил не беспокоить жену Настю – он на минуту – и прошел в кабинет Рибаса.
Адмирал было начал объяснять смехотворность обвинения, приведшего его к отставке, по Петр Алексеевич, человек рослый, мужественный, громкий, заговорил тихим голосом:
– Благодарите бога, что вы остались в неаполитанском подданстве. Иначе быть бы вам в Тайной экспедиции среди сотен арестованных дворян. Разве вы не знаете, теперь князей ссылают в Сибирь в кандалах. У меня создается впечатление, что иногда он арестовывает не за дело, а на всякий случай, когда изволит говорить о дворянине: «Сумневаюсь».
– Но на кого же он рассчитывает? – спросил Рибас.
– При нем сейчас в фаворе люди без чести, как Кутайсов, или честолюбцы, как Ростопчин. Но у меня создалось впечатление, что он манипулирует подданным ему дворянством. Никто не уверен, что с ним станет завтра – арест, отставка, возвышение – это принцип.
– Но вы как генерал-губернатор участвуете во всем этом, – сказал Рибас.
– Да. Но и я не могу поручиться за свое самое ближайшее будущее. Гарантий нет. И это тоже принцип.
– Однако, принцип этот может привести к краху.
Пален ответил с чувством:
– Несомненно!
– Император сам себе готовит бесславный конец? – спросил Рибас и добавил: – Но это по меньшей мере странно.
– Это безумие! – воскликнул Пален.
– Но вы только что говорили: он поступает согласно своим принципам.
– Да! В том-то и весь ужас: его принципы прямиком ведут к безумию. А оно приведет страну к бунту. Это значит: кровь, казни, палачи, всеобщий упадок. Разве до этого можно допустить? Вы помните наш последний разговор в моем имении после охоты?
– Разумеется.
– Пришла пора вернуться к нему. – Он встал и перед уходом признался: – Я сейчас придерживаюсь одной тактики: доводить безумные распоряжения императора до абсурда. Слыхали об аресте католического митрополита Сестреженевича? Дело было так. Павел с ним простился, шел во внутренние покои, заметил, что у пажа косичка слишком длинна и крикнул мне: «Отвези эту обезьяну тотчас в крепость!» Государь ушел, а я митрополиту говорю, что должен исполнить монаршью волю и отвожу Сестреженевича в крепость. Или императору не понравилась прическа дамы на балу. И он мне говорит: «Надо бы ее голову вымыть». Поверите, я зову слугу, он приносит кувшин воды, и я в точности исполняю повеление государя: мою даме голову! Всему свету надо сейчас представить доказательства полного психического расстройства монарха. Но главное – Павел отменил то, что дал высшему классу его отец – Петр III, а именно «Вольности дворянству». Теперь дворянин не принадлежит себе. Я говорил о вас с вице-президентом Иностранной коллегии Никитой Паниным. Он отличного мнения о вас, адмирал. Встретьтесь с ним. Я извещу вас о дне и часе.
Если генерал-губернатор Пален считал, что императора перед обществом надо представить в карикатурном сумасшествии, то Никита Панин, с которым Рибас встретился тайно в его доме, считал императора Павла воистину душевнобольным:
– Он подвержен припадкам безумия, во время которых тирания его становится злодейством.
– Может, это просто горячность, вспыльчивость, – усомнился Рибас.
– Это было раньше.
– У него десять детей. И все здоровы, – заметил Рибас.
– Да, но его сумасшествие не от природы. Оно приобретено и развито у нас на глазах. Но ваши слова о его здоровых детях, о его нормальных наследниках очень своевременны. Сам Павел установил, что престол в России отныне может передаваться только по наследству, и я думаю, чем скорее это произойдет – тем лучше.
– Вы видитесь с кем-нибудь из наследников? – спросил Рибас.
– С Александром. Крайне редко и только как бы случайно в коридорах Зимнего. Павел окружил сына соглядатаями. Александр живет затворником, без разрешения Павла никого не принимает. Не говорит с посланниками без его присутствия.
В сумасшествие Павла Рибас не верил. Самодурство, развращенность вседозволенностью, даже злобное озорство – что угодно, только не безумие, потому что в иных делах монарх был трезв, последователен и весьма умен.
Первого мая 1800 года адмирал увидел из окон своего дома, выходящих на Царицын луг, большое скопление народа. На лугу были разбиты палатки, возникли торговые ряды, вдоль Екатерининского канала двойными вереницами тянулись экипажи. Народ пел, гулял, радовался ясному дню. Верхом, в сопровождении свиты и Царской Фамилии в каретах, приехал император. Толпа на Царицыном лугу сразу поредела – в столице, когда выезжал Павел, все предпочитали прятаться.
Через день адмирал частным порядком присутствовал на спуске четырех фрегатов из Адмиралтейства. Теперь на валу над рвом развевался флаг Иоаннитов, как будто мальтийские рыцари спускали фрегаты «Михаил», «Эммануил» и «Святая Анна». С четвертым произошла заминка – фрегат «Благодать» застрял. В толпе передавали неизвестно чей стих: «Анна» сошла славно, а «Благодать» велит себя подождать».
В этот день чуть ли не в полночь Рибаса посетил взволнованный, негодующий и безмерно уставший генерал-губернатор Пален.
– Свершилось ужасное, – сказал он, опускаясь в кресло. – Никому неизвестный штабс-капитан Кирпичников, дворянин разумеется, в кругу офицеров изволил откровенно высказаться об ордене Святой Анны.
– Что же он сказал? – спросил Рибас.
– Да то, что у каждого на уме: орден сей учрежден после ночи утех Павла с Анной Лопухиной. И знаете, чем дело закончилось после доноса на штабс-капитана? Кирпичников подвергся страшному наказанию – перед строем тысяча палок! – Петр Алексеевич вскочил, зашагал по кабинету так, что свечи в канделябрах заметались. Он повторял: – Тысяча! Тысяча палок! Дворянину! Это предел всему. Вы представляете, что сейчас в полках?! Офицеры готовы на все! Нет, Павел не отнял у наказания страх, а у награды честь. Он опозорил всех нас. Недаром мать называла его жестокой тварью. Откроем карты, адмирал. Эта тварь недостойна быть на престоле! Сегодня Кирпичников, завтра – я, послезавтра – вы, кто угодно. Терпеть это больше нельзя. Что скажете?
– Да, он перешел рубикон безнравственности. Но я сомневаюсь, что вспышка офицерского бунта в полках будет удачной. Такое дело надо вести с холодной головой и чистым сердцем.
– Поклянемся в этом, адмирал!
Они обнялись.
– Да, вы правы, Осип Михайлович. Офицеров надо удержать. Я это сделаю. А сейчас простимся, чтобы в скором времени быть готовым ко всему.
Постепенно Рибас узнал узкий круг людей, которым Пален доверял, с которыми был откровенен в своих замыслах, и конечно же, в первую очередь это был клан бывшего фаворита Зубова. Клан этот в Петербурге представляла в единственном числе Ольга Зубова в замужестве Жеребцова, о которой Пален сказал Рибасу:
– Графиня Ольга справлялась о вас и будет рада видеть. Братья ее, как вы знаете, до сих пор сосланы в свои подмосковные деревни.
Но визит к графине Рибас отложил из-за обстоятельства печального: умер Суворов.
После блистательных итальянских походов столица обещала встретить Суворова как триумфатора и коронованную особу: публика должна была выходить из экипажей, как при встрече государя. Сам Павел сказал, что он выйдет из кареты, завидев Суворова. Барабаны, колокола, живые коридоры, пушечная пальба… Но уже в Риге на слабого после болезни Суворова обрушились высокомерно-грозные выговоры императора. Он отменил торжественную встречу. 20 апреля генералиссимуса встретили на Крюковом канале у дома вдовы-полковницы сын Аркадий, Хвостов, снимавший у вдовы квартиру, родственники. Прибывший от императора курьер принес весть: «Генералиссимусу князю Суворову не приказано являться к государю». 1 мая Суворова лишили адъютантов – разослали их по полкам. Шестого мая после бреда о Генуе – цели Итальянского похода, который ему не дали закончить, Суворов скончался.
Рибас знал и о его болезни, и о возвращении, но хотел явиться к своему бывшему командиру, когда тому станет лучше – не довелось. В день похорон он выехал, чтобы проститься с человеком, который осчастливил его почти десятилетней дружбой, но улицы так запрудил народ, экипажи, что адмирал отправился к Невскому монастырю, где дождался гроба с телом и обнажил голову. Публика, чтобы взглянуть на гроб Суворова, вылезала даже на крыши. Это были невиданные похороны, несмотря на то, что Павел распорядился отрядить на них не лейб-гвардию, а два гарнизонных батальона.
Бывший изумрудный салон графини Ольги приобрел совсем иной вид. Теперь в нем преобладали темно-малиновые и бордовые тона, горело всего несколько свечей, а под картиной с обнаженной натурой сидел арапчонок и грыз орехи. Рибас застал у графини небольшое общество. Его украшали две француженки – актриса Шевалье и госпожа Бонейль. Тут были офицеры-преображенцы и молодой генерал Талызин.
– Поздравьте генерала, – сказала Ольга Рибасу. – Он назначен командиром Преображенского полка.
Это сообщение насторожило. Преображенцы – наиболее преданный Павлу полк. Почему их командир в салоне графини – опальной сестры бывшего опального фаворита? Талызин после рибасовых поздравлений сказал:
– В моем полку я не допущу таких случаев, как со штаб-капитаном Кирпичниковым.
В этих словах слышался явный вызов императору, произнесенный при свидетелях. Но кто они? Общество картинно расположилось в креслах. Актриса Шевалье рассказывала, как во время похорон Суворова не могла проехать к дому Кутайсова на Мойке и ей пришлось заехать к Никите Панину. Офицер-преображенец прочитал четверостишие из Державина на смерть Суворова:
Что ты заводишь песню военну Флейте подобно, милый снегирь? С кем ты пойдешь войной на Гиену? Кто теперь вождь наш? Кто богатырь?Подали кофе. Рибас чувствовал себя скованно, хотя не подавал вида. Но в самом деле: актриса Шевалье была коротко знакома и с наперсником Павла Кутайсовым и с ненавистником Павла Никитой Паниным! Офицер-преображенец читал стихи, в которых опальный Суворов не имел замены в государстве. Графиня Ольга, видно заметившая скованность адмирала, вдруг сказала громко:
– Адмирал, до вашего прихода мы говорили о вас и все выражали искреннее сочувствие вашему положению.
– Благодарю, – ответил Рибас.
О чем бы не говорили гости графини – о плохих концертах, даваемых по воскресеньям от дирекции Каменного театра, о березах, которые с зимы высаживали в два ряда на Невской перспективе от Полицейского моста до Литовского, и каждое деревце обошлось в пятнадцать рублей – разговор неизменно сворачивал на царствующего императора. Здесь откровенно смеялись над ним, не считаясь с присутствием адмирала – человеком новым в их кружке. Рибас услыхал иной вариант стиха, посвященного спуску на воду фрегата «Благодать»: «Все противится уроду: благодать не лезет в воду!». И конечно же, под уродом ясно разумелся Павел. Актриса Шевалье с чувством прочитала разговор двух петербуржцев:
– Не все хвали царей дела. – Что ж глупого произвела На свет Екатерина? – Сына!Графиня Ольга перевернула свою чашку из-под кофе на блюдце, и через четверть часа француженка Бонейль старательно разглядывая причудливые потеки и кофейные узоры, начала изрекать предсказания о лице, которое загадала графиня, и закончила тем, что округлила глаза и воскликнула:
– Тот, о ком я гадаю на кофейной гуще, в следующем году умрет!
– Ах, долго ждать! – безапелляционно заявила графиня, а на расспросы: кого же она загадала, ответила: – Теперь любое предсказание опасно. Прорицатель Авель нагадал, что императора ждет скорая кончина, и посажен в тюремный замок.
Когда гости стали разъезжаться из гостеприимного дома, графиня сделала Рибасу знак, чтобы он задержался, и первое, что услышал от нее адмирал, были слова, произнесенные тридцатипятилетней хозяйкой салона с особым чувством доверия и нежности:
– Я так рада, что и вы участник заговора!
Рибас не знал, что ответить, а Ольга продолжала:
– Жаль, что вы не успели тесно сойтись с милым Витвортом.
– С английским посланником?
– Да. Его выслали из Петербурга. Но должна вам сказать, что английский кабинет по-прежнему заинтересован в нашем с вами общем деле.
«В нашем с вами. Любопытно».
– Генерал-губернатор вас весьма хвалит.
«Пален поступает опрометчиво».
– Адмирал, – продолжала Ольга, – английская казна открыта нам, но с отъездом Витворта все усложнилось. Я так надеюсь на приезд брата Дмитрия. При покойной императрице он был бригадиром и не занимался политикой. Император Павел не имеет к нему никаких претензий. Поэтому Дмитрий привезет в столицу не только вести от Платона и Валериана, но и деньги. Мы боимся, что на имения, где теперь живут братья, будет наложен арест. Английских денег придется ждать неизвестно сколько, а для задуманного нам нужны будут средства немалые. Да вот и теперь я вручаю вам шкатулку с пятьюдесятью тысячами.
– Мне?
– Генерал-губернатор просил доставить эту сумму к нему домой сегодня же.
– Графиня, я выполню вашу просьбу, – сказал Рибас, а Ольга протянула ему обе руки, адмирал целовал их, потом ему была вручена шкатулка, и визит закончился восторженным восклицанием графини:
– Это чудесно, что вы с нами в заговоре!
Пален жил у Полицейского моста, и Рибас ехал к нему с пятьюдесятью тысячами и проклинал Петра Алексеевича за то, что в таком опасном деле замешана женщина. Не успел он подняться во второй этаж генерал-губернаторского дома и войти к Палену в кабинет, передать деньги как граф, ставящий шкатулку в секретер, выглянул в раскрытое окно, переменился в лице и воскликнул:
– У моего подъезда карета из дворца! Пройдите в соседнюю комнату – мне сейчас доложат, кто приехал.
Рибас прошел в курительную, оставив дверь полуоткрытой. Из-за портьеры он мог видеть часть кабинета. Пален не дождался доклада адъютанта, потому что в кабинет, грохоча сапогами, бряцая шпорами, вошел красномундирный офицер и объявил:
– Я – фельдъегерь его императорского величества. Ваше превосходительство, мне вменено в обязанность привезти во дворец человека, который только что приехал к вам.
Офицер не снял треуголку. Широкими густыми бровями и острым взглядом он чем-то напоминал Базиля Попова.
– Помилуйте! – воскликнул Пален. – Ко мне никто не приезжал.
– Но открытый экипаж стоит у дома.
– Вы не верите мне?
– Я буду вынужден вызвать роту и сделать обыск.
– Погодите, я спрошу у жены: может быть кто-то приехал к ней.
Пален вошел в курительную, плотно затворил за собой дверь и зашептал:
– Это за вами! Фельдъегерь. Ума не приложу: как же это?
– Он один сейчас?
– Да. Но пошлет за помощью.
– Что же вы медлите?! – шепотом закричал Рибас. – Пока он один, арестуйте его!
– Это фельдъегерь императора…
– Укол шпагой – и он больше не будет им! Тело – в Неву.
– Но кто же это сделает?
– Я, если больше некому, – раздражаясь сказал адмирал, выхватывая шпагу.
– Постойте. Я попробую прислать к нему жену.
Из курительной он вышел в коридор и скоро Рибас заслышал в кабинете голос жены Палена статс-дамы двора Юлии Ивановны:
– Это недоразумение. Ко мне приехала портниха.
– Возле дома ее экипаж? – спросил фельдъегерь.
– Разумеется.
– Прошу вас, графиня, проводите меня к ней.
Пален ушел вместе с ними и через томительных четверть часа вернулся, вздохнул с облегчением:
– Все обошлось. Портниха шьет для многих – ее знают при дворе.
– Моего кучера предупредили? – спросил Рибас.
– Да-да, – заверил Пален и вдруг крепко пожал руку адмирала. – Вы по-прежнему отважный человек, – и, засмеявшись, добавил: – Укол шпагой – тело в Неву! Отлично.
Рибас почувствовал: в этот вечер Пален был впервые совершенно откровенен с ним.
– Беда в том, что нас мало. Доверять никому нельзя, – сказал граф.
– Почему у графини Ольги был командир преображенцев Талызин? – спросил Рибас. – Ему можно доверять?
– Это достойнейший человек. Образование получил в Штутгарте. Умен.
– И этого достаточно, чтобы доверять ему?
– Никита Панин давно уж рекомендовал его в командиры гвардии. Но чтобы его назначили в Преображенский – об этом мы и не мечтали. Он ненавидит Павла. Собственно, в столице нас сейчас четверо – вы, я, Никита Панин и Талызин. Он знает обо всем.
– А графиня Ольга?
– Через нее я держу связь с братьями Зубовыми.
– Она неосторожна. Много лишних разговоров. Да еще при актрисе Шевалье.
– Через Шевалье Никита Петрович узнает многое об интригах Кутайсова. Но меня все время беспокоит иное: как заполучить Зубовых в Петербург?
Решение пришло к адмиралу мгновенно:
– Платон не женат, – сказал он, и Пален подхватил:
– Да! Нужна подходящая невеста! О кандидатуре я подумаю. Но все равно наше предприятие откладывается на осень. Двор уехал в Гатчину, а там мы ничего не сможем предпринять.
– Зато будет время договориться обо всем, – сказал Рибас.
Свое пятидесятилетие шестого июня он скромно отметил обедом в кругу семьи. Рибас разрешил дочерям пригласить к обеду двух молодых людей, часто бывавших в салоне у Софьи. Это были племянник одесского старосты майор Иван Горголи и князь Михаил Долгоруков. Виктор Сулин сказал о них:
– В России растет совершенно иная порода людей. У них светлые головы и они не имеют пристрастия к роскоши. Они внутренне свободны, несмотря на бытующее кругом соглядатайство.
– Это до первого доноса в Тайную экспедицию, – заметил адмирал.
Перигорский паштет, вестфальский окорок и червивые сыры – русская закуска под любой сорт водки были оценены гостями по достоинству. Перед картами офицеры, смешно пели озорной романс из эпиграмм:
Нет, Павлуша, не тягайся Ты за Фридрихом Вторым! Как ты хочешь умудряйся — Дон-Кихот ты перед ним.– А вы знаете, что ваш Дон-Кихот объявил войну Испании? – спросил Рибас и продолжил: – В ответ испанский король смеялся и запросил: «Где же мы сразимся?» Говорят, что Павел ответил: «У любой мельницы!». Более того, в России теперь живет будущий испанский король. Это бывший комендант Очакова Кастро де Лацерда. Я знавал его. Теперь его срочно сделали графом и дали тысячу душ, чтобы у будущего испанского короля были свои крепостные. Он многодетен, а поэтому на него и пал выбор, чтобы испанский трон обеспечить наследниками.
Рибас подумал, что в столице сейчас нет дома, в котором не рассказывали анекдотов о Павле, а Виктор Сулин признался, что не помнит ни одного смешного анекдота о Екатерине. Наутро он уехал в свои псковские имения.
В июне адмирал неожиданно получил приглашение на празднества ордена Иоаннитов. Семнадцатого освятили католическую капеллу при их дворце. Император не присутствовал. Двадцать третьего во дворце ордена собрались гроссмейстеры, командоры, кавалеры. Предстояло сожжение костров накануне Иванова дня. Рибас почему-то очень хотел увидеть того, кто так занимал его помыслы. Но Павел не приехал и после полудня, когда во дворе дворца раскладывали девять костров с цветными гирляндами над ними. Не было его и в семь, когда члены Орденского совета с длинными восковыми свечами обошли костры три раза и зажгли их. Рибас спросил у церимонимейстера:
– Будет ли император?
– Нет. Он возжигает огни в Павловске.
Графиня Ольга и Пален нашли невесту для Платона в лице дочери графа-брадобрея Кутайсова Марии. Рибас одобрил выбор. Отцу невесты от имени Платона вручили немалые подарки и деньги. Иван Кутайсов был польщен, горд и принялся уговаривать императора дать разрешение на этот брак. Павел слушал, грозил рабу пальцем и разрешения не давал.
Пален постоянно ездил в Гатчину для докладов императору, но все-таки выбрал время и назначил давно необходимую тайную встречу, и главные заговорщики собрались в его доме у Полицейского моста, заперлись в кабинете при свечах, на которые за поздним временем густо летели сквозь открытые окна ночные бабочки. Вице-канцлер Никита Панин, генерал Талызин, адмирал Рибас и генерал-губернатор Петр Пален некоторое время молча разглядывали друг друга.
– Господа, нет нужды говорить, по какому случаю мы собрались, – сказал довольно спокойно Пален. – Мы все сошлись на одном: теперешнее положение в государстве невыносимо, и все мы за то, чтобы устранить главную его причину. Один вопрос мучает нас всех: как сия причина будет устранена. Я лично за полное физическое устранение ее.
– То есть, за убийство? – спросил Никита Петрович. – Вы наметили Брута?
– Это нам и решать.
Никита Петрович почему-то со свечой расхаживал по комнате и заговорил издалека: о завещании Екатерины в пользу внука Александра, о том, что об этом знает весь свет, а, следовательно, законность претендента на престол несомненна. Затем он сделал вывод:
– Тогда зачем же нам брать грех на душу и прекращать безумную тиранию физически? Не лучше ли сначала ограничить свободу императора регентским Советом при нем, а потом возвести на престол Александра?
Итак, разногласия определились сразу. Талызин сказал:
– Конечно же я за Александра Павловича. А уж как выйдет с нынешним императором покажут обстоятельства.
Рибас спросил у Панина:
– Вы встречались к Александром. Каково его мнение на этот счет?
– Я не решал с ним судьбу его отца, – ответил Никита Петрович. – Но, конечно же он и говорить не даст об убийстве. Это ясно. Он не говорит всего, но я полагаю, если Павел будет отстранен, он с чистым сердцем займет престол. Кроме того, смею вас заверить: живой Павел своим ужасающим примером будет содействовать тому, чтобы Александр Павлович принял конституционные начала своего правления.
– Я думаю, господа, о конституции нам говорить преждевременно, – возразил Талызин. – Нам рано решать: искать Брута или оставить Павла в живых. Планы наши могут быть сколь угодно хороши, но исход сражения часто решают мгновения и реальные обстоятельства.
– Согласен с вами, – поддержал его Рибас. – Нам следует обсудить силы сторон, прежде чем что-либо решать.
На это командир преображенцев Талызин заявил, что два десятка офицеров его полка пойдут за ним в огонь и в воду. Семеновским полком командовал Леонтий Депрерадович. С ним еще не говорили. Но наследник Александр Павлович был так близок с семеновцами, что помнил по имени многих унтер-офицеров. Кавалергардами командовал генерал Уваров, любимец Павла.
– Следовательно, – сказал Рибас, – в Судный день, назовем этот день так, надо позаботиться о том, чтобы кавалергардов не было в охране. – И продолжил: – Знает ли кто-нибудь из вас, господа, когда предполагается переезд императора в Михайловский замок? Удобный момент! Охрана на новом месте не так хорошо ориентируется.
– Замок заканчивается отделкой, – сказал Пален. – Но о переезде речь пока не шла.
– Если не шла, ее надо начать, – заметил адмирал. Заговорщиков беспокоили солдаты гарнизона. Павел лично следил, чтобы им регулярно выдавали мясо и водку. Полковники при Павле уж не смели присваивать то, что было положено солдату. Особую тревогу внушал Первый царский батальон, который нес охрану во внутренних покоях.
– Они получают не только мясо и водку, – сказал Талызин, – но им даже разрешены тюфяки.
«Бог мой, – подумал Рибас, – отчего может зависеть исход дела – от солдатского тюфяка!». Но мысленно он одобрил тщательность генерала: в таком предприятии надо учитывать все. Вслух он сказал:
– Если мы войдем во дворец с офицерами-преображенцами, то солдат-преображенец машинально подчинится приказу, даже если он будет против устава. Нам останется лишь найти Павла и – одно из двух: или покончить с ним, или увезти в приготовленное место. – Он обратился к Палену: – И все-таки, надо озаботиться тем, чтобы теперь иметь план Михайловского замка. Главный вопрос: что же делать с императором, они так и не решили, но уверились, что многое благоприятствует их замыслам.
Однако, уверенность в скором успехе рухнула в одночасье. То ли слух пошел о их встречах, то ли предчувствия что-то подсказали нервной натуре императора, но он вдруг отставил Петра Палена от генерал-губернаторства и отправил его в армию. Это был первый удар. Затем на все имения братьев Зубовых он наложил арест, уж не говоря о том, что Дмитрию Зубову запретил приехать в Петербург. И как предупреждение всем, что-то против власти замышляющим, на Дону были казнены строптивые полковники казаков.
Заговорщики сочли за благо не встречаться до поры до времени. Рибас, впрочем, посещал казармы гвардейских полков, много играл и часто возвращался домой под утро с опустошенной головой и карманами.
Но, как это всегда бывает в предприятиях больших и весьма опасных, нашелся человек, который исподволь и даже не подозревая о последствиях, неожиданно поправил положение главных заговорщиков. И человеком этим, как ни странно, был недруг Никиты Панина, Петра Палена и Рибаса – первоприсутствующий в Сенате Федор Ростопчин. Все лето он готовил для императора Павла невероятный проект устройства европейских международных дел, и второго октября представил итог своих дипломатических трудов Павлу.
По проекту Ростопчина Павел и Первый консул Франции Бонапарт должны были сблизиться, объединиться в как два великих государственных мужа решить: что же делать с Европой? Но до этого следовало как-то выпутаться из союза с Англией, и Ростопчин с помощью дипломатическо-логического перевертыша обвинил английское правительство в том, что оно посулами, угрозами и коварством подло восстановило все европейские государства против бедной Франции! Канцлер представил столько выгод от союза с Бонапартом, что Павел восторженно воспринял бьющую ключом канцлерскую мысль. Правда, он заметил: «А меня все-таки ругать будут», – но в этот же день благосклонно разрешил подданным носить лакированные сапоги, которые весной запретил.
В одном просчитался Ростопчин: новая политика требовала деятельных людей с головой на плечах, и Павел, к досаде канцлера, начал с того, что возвратил Петра Палена к своим обязанностям генерал-губернатора. Рибас встретился с ним у графини Ольги. Петр Алексеевич возбужденно потирал руки:
– Отечественные Дельфийские оракулы на нашей стороне! Государю нагадали, что после четвертого года правления ему во всем будет удача и опасаться совершенно нечего.
– А каково мне? – с досадой и капризно заговорила Ольга. – Через актрису Шевалье я целый сундук червонцев переправила Кутайсову как залог страсти Платона к его дочери. А дело стоит.
– Дело движется! – воскликнул богатырь Пален. – Государь изволил сказать бывшему брадобрею, что породниться с Кутайсовым – это единственная разумная идея во всей жизни Платона!
Четвертая годовщина царствования Павла I наступала седьмого ноября, и государь поспешил сделать ответственные шаги накануне: двадцать восьмого октября в российских портах были задержаны все английские суда и арестована тысяча английских матросов. Тридцатого октября по именному указу адмирал де Рибас оказался вторично принятым в службу с обязанностью заседать в Адмиралтейств коллегии. Президент оной отнесся к возвращению Рибаса невозмутимо, как к само собой разумеющемуся факту:
– Мы вам поручаем Кронштадт. Надзирайте за строительством укреплений и батарей кронштадтского порта на случай осады его британским флотом.
Первого ноября император издал не без влияния Палена манифест: всем, ранее уволенным, вступить в службу. Но для этого, по настоянию Петра Палена все уволенные должны были приехать в Петербург и лично явиться пред светлы очи императора.
– Вы представляете, какое это будет паломничество? – говорил Пален друзьям-заговорщикам за картами в салоне графини. – Мы отберем нужных нам людей, которых известим о манифесте в первую очередь и поможем прибыть в столицу. Потому что предвижу: очень скоро такая толпа соискателей явится во дворец к Павлу, что аудиенции прощенным станут для него не слаще горькой редьки, наскучат и опротивеют.
Так оно и вышло. К Павлу явилось множество несчастных, и скоро он стал их попросту гнать, вызывая новые и новые волны недовольства собственной персоной. Но главное было достигнуто: з Петербург возвращались братья Зубовы.
Тем временем Рибас съездил на несколько погожих осенних дней в Кронштадт, ознакомился с производимыми работами, планами и чертежами, и составил по первому впечатлению доклад, который так понравился Президенту Адмиралтейств коллегии Кушелеву, что тот обещал непременно представить сей труд Павлу. Рибас не стал говорить, что труд был невелик, потому что понял: главное в его записке – это абзацы, начинавшиеся словами о противодействии британскому флоту.
Увы, как это заведено непредсказуемой судьбой, ветер вдруг подул в паруса заговорщиков совсем с другой стороны, чем ожидалось. В полдень, когда на балюстраде адмиралтейства заиграл оркестр и Рибас в экипаже отправился домой, решив сначала проехаться по Невскому, за Казанским мостом, где в два ряда были высажены липы, его догнал курьер от генерал-губернатора Палена и передал записку, в которой Пален умолял адмирала во весь опор скакать к Никите Панину с тем, чтобы Никита Петрович, сказавшись больным, немедля отменил бал в своем доме с иностранными послами.
Поручение казалось легко выполнимым, но отменить бал Никита Петрович уж не мог: иностранные посланники с женами и детьми уж съезжались к нему. Да и что за причина, ради которой можно пренебречь европейскими неизбежными пересудами? Все выяснилось вечером у графини Ольги. На утреннем докладе император довольно злобно отозвался о Никите Петровиче и расспрашивал о нем Палена:
– Собирается веселиться? Танцевать с иностранными посланниками? Ему безразличны наши заботы! А ведь он педант. Значит, знает, что делает!
Пален пытался защитить вице-канцлера, но, видно, Ростопчин уже сумел закрепить мнение о нем царя. И действительно, через несколько дней стало известно, что Ростопчин готовит перевод своего опасного соперника в московский Сенат. Терять одного из главных деятелей заговора в момент, когда Зубовы во весь опор мчались в Петербург, было совершенно не с руки, и Пален предложил:
– Вспомним о том, что у нас на троне царь-рыцарь, и будем просить его оставить Никиту Петровича хотя бы до того времени, когда его жена родит.
На том и порешили, а Пален сообщил еще одно:
– Скоро предполагают освящать Михайловский замок. Адмирал прав: нам надо озаботиться и его планами и сменой в нем караулов.
Торжественное освящение Михайловского замка состоялось 8 ноября в Михайлов день и в день восшествия на престол. Но Павел лишь отобедал здесь со всем семейством и уехал в Зимний, на следующий день назначив в замке маскарад. Узнав об этом, Рибас тотчас помчался к Палену.
– Момент исключителен, – сказал он ему. – Если после маскарада его величество останется в своей новой обители, его первая ночь в нем может стать последней.
– Все зависит от того, из какого полка будет караул, – сомневался Пален.
– Да. Но Талызина нужно предупредить.
Генерал Талызин сообщил, что караул будет из преображенцев. Все складывалось неожиданно и удачно!
Маскарад девятого ноября в Михайловском замке начался при небывалом стечении знати. Играло несколько оркестров. Мрачные покои подчеркивали веселье гостей. В десятом часу адмирал объехал замок в карете: на балу все шло своим чередом. Как условились, в одиннадцать Рибас приехал к Палену, захватив пару пистолетов и кинжал. Но Пален покачал головой:
– На маскараде все, кроме хозяина. Более того, я узнал, что он собирается переезжать в замок только после Рождества.
Но сдерживаемое усилием воли напряжение не оставило адмирала: неожиданно заболел Президент Адмиралтейств коллегии Григорий Кушелев, и, как ни удивительно, Павел быстро нашел ему замену: теперь Рибас должен был ежеутренне докладывать монарху о морских делах империи! «Знал бы он на что я был готов против него вчера! – изумлялся такому повороту в судьбе адмирал. – А может быть, знал? Но знание это было неосознанным предчувствием жертвы?»
Прослышав о назначении Рибаса, к нему примчал необычайно встревоженный Пален. И первый вопрос:
– Кто вас рекомендовал замещать морского министра?
– Очевидно, Григорий Кушелев. Моя записка об укреплении Кронштадта чрезвычайно понравилась Павлу.
Но по всему было видно, что Петр Алексеевич не поверил. Он вышагивал по Рибасову кабинету, что-то обдумывая.
– Что вас беспокоит? – спросил Рибас.
– Нет ли в вашем назначении какого-то особого смысла?
– Не вижу.
– Ростопчин никогда бы не допустил к этой должности вас.
– Мое назначение временно. Кушелев выздоровеет – и все вернется на круги своя.
– Если вы задержитесь в этой должности, лучшего и желать нельзя! Никиту Панина все-таки высылают из Петербурга.
«Но он явно что-то недоговаривает, – думал Рибас, разглядывая замкнутое лицо губернатора. – Уж не думает ли он, что я получил назначение по протекции Ростопчина?» И спросил:
– Не сошли ли вы с ума, если думаете, что мое назначение идет от Ростопчина?
– Да. Все странно, – смешался Петр Алексеевич. – Будьте осторожны. Прекратим на какое-то время наши встречи.
Однако они встретились уже через день, четырнадцатого ноября, когда в семь утра с папкой, обшитой белым шелком, Рибас вошел в приемную Павла, ожидая увидеть сонм министров, явившихся к монарху, как и он, с докладом. Но кроме двух-трех лиц, которых он не знал и которые молча поклонились ему, тут никого не было. Почти тотчас как он вошел в сумрачную приемную, из кабинета императора явился Пален. Очевидно, он закончил свой губернаторский доклад, и генерал-адъютант пригласил в кабинет адмирала.
Здесь горело много, как в церкви, свечей. Вместо скульптурных бюстов мыслителей, уместных у стен, за конторками стояли два секретаря. Павел так восседал за столом, что, казалось, тут и решают все судьбы мира, а может быть, и вселенной. Впрочем, стол был почти без бумаг. На его темной поверхности в глаза бросались серебряный эспантон, золотая трость и часы-яйцо.
Лицо Павла показалось Рибасу безмерно усталым, а от этого горячечно-возбужденным. Парик сидел на голове так крепко, что, видно, до боли сжимал виски монарха. Глаза на выкате смотрели на вошедшего всезнающе, и Рибас, поклонившись, достал из папки на пробу первый документ и объявил:
– Всепокорнейше изволю представить вашему высокому вниманию список просящихся в домашний отпуск штаб и обер-офицеров.
Рибас ожидал, что морщины монаршьего неудовольствия тотчас разбегутся по лицу императора, но тот спокойно заспрашивал:
– Кто? Куда? На какое время?
– Все расписано, ваше величество.
– Дайте-ка!
Адмирал положил список перед монархом, и тот внимательнейшим образом принялся изучать его, адмиралу кивнул:
– Продолжайте.
– По старости лет и болезням, – продолжал Рибас, – просят уволить от службы адмиралы Баскаков и Лупандин, генерал-майоры Гусев и Алабин…
– Вот как? – поднял голову монарх и постучал по столу: – Сюда, сюда их.
Рибас положил бумаги и продолжил доклад:
– Служащий при киевском обер-форшмейстере секретарем Степанкевич, в Лесном департаменте коллежский регистратор Маслаковский, канцелярист Тутусов, унтер Кулебякин…
Монарх захохотал:
– Кулебякин!? Тоже служить не хочет?
– За болезнями просит увольнения.
– И у Кулебяки болезни?… Никто служить не хочет! Все Кулебякины нынче якобинцы!
Рибас вытащил из папки красочный рисунок:
– Морской флаг, принятый республикой Семи венецианских островов, ваше величество.
Монарх еще более оживился, все предыдущие документы сгреб в один ворох, отодвинул, взглядом знатока рассматривал венецианский флаг. Раздумывая, сказал:
– Жидковат. Но пошлите во все Черноморские порты образцы, чтобы венецианские суда могли быть признаваемы. Далее!
– На ваше благоусмотрение позволю себе представить неоконченные описи лесам.
– Смотреть не буду, – быстро ответил Павел. – Описи лесам продолжать. Столько времени, сколько понадобится. Лесоописателям предписать, чтобы поспешали!
– Список нижних чинов, направляемых в Ригу для скалывания льда вокруг арестованных английских судов, – объявил Рибас следующий документ, а монарх взвился, как ужаленный:
– Лед пусть скалывают вольнонаемные рабочие! За счет английского купечества!
«При Екатерине все мои «доклады» в одну минуту решил бы я сам, – думал адмирал. – Воистину: этого ли тщедушного человечка так опасаются, так страшатся лучшие умы России, что заговор против него обдумывают, как против ясновидящего Цезаря? Может быть, мне судьбой положено сейчас взять золотую трость и разбить ему голову? Кто он? Тиран? Безумец? Канцелярист, взявшийся не за свое дело? Петр Пален мог бы взять его за шиворот, поднять и выбросить в окно. Двадцать семь лет назад я едва не был втянут в заговор Андреем Разумовским в пользу теперешнего Павла I. Потом чуть ли не год я исколесил всю Европу по его следам. И вот теперь… Каков будет конец?»
– Я вами доволен, – объявил император. – Можете присутствовать при смене караулов и смотрах войск.
Это был знак высшего благорасположения монарха к подданному. Кивком головы Павел отпустил адмирала. Но с этого утра Рибас не знал покоя. Смотреть муштру, шагистику, экзерсиции на пронизанной студеными ветрами Дворцовой площади – было хуже всякой пытки и казни. А неутомимый монарх бегал от роты к роте, выкрикивал команды, офицеры получали от него то «дурака» то «свинью», он становился во фрунт, самозабвенно откинув назад голову «экзерсцировал»…
Дни стояли такие унылые, слепые, без намека на солнце, с ветром без порывов, постоянно треплющем до дрожи, а временами такая щемящая промозглость хватала людей, что Рибас, вернувшись из адмиралтейства домой в карете и на мгновение перед крыльцом оказавшись на стуже беззащитным, не удивился, что в прихожей почувствовал острую боль в ногах, как в давние очаковские времена. Но боль прошла. Лишь испарина не сходила со лба. Он едва добрался до кабинета, но не зашел, чтобы посмотреть почту, а отправился в спальню, послав слугу за Настей.
Когда она пришла, он уж переоделся в шлафрок, натянул до ушей теплый вязаный колпак и лег в алькове на постель, не разобрав ее. Ему постелили. Озноб был велик. Адмирал просил укрыть его чем только можно. Потребовал, чтобы сверху набросили шубу – но согреться никак не мог: лежал, едва дыша в судорогах и не ощущал под наваленной на него тяжестью ледяное тело. Потом начался такой жар, что он лежал под холстиной, а девушка Насти не успевала менять со лба захворавшего быстро сохнувшие повязки и охлаждать их в лохани со льдом.
Ему дали чесночной водки. Он забылся.
Утром лекарь адмиралтейства сказал, что простуда сильна, но больной через два дня встанет. Через два дня Рибас попытался встать и потерял сознание.
Лейб-медик двора сказал, что это последствия лихорадки, дал немецких порошков и больного принялись выпаивать теплыми сливками.
Рибас пришел в себя к вечеру. Явились дочери, и Софья привела двух, знакомых адмиралу молодых людей – Михаила Долгорукова и Ивана Горголи, чтобы развлечь отца. Он предложил играть в карты. Играли у его постели. Адмирал лежал на высоких подушках. Ему везло, как никогда.
После спокойной ночи в ранний утренний час он почему-то весело думал: «Где же незабвенный всенепременный друг Виктор Сулин? Ах, да. Он все-таки сбежал от петербургских нелепостей. Но где же Сильвана? Уехала в Ливорно за итальянским печеньем, как, по слухам, Катрин Васильчина к отцу-гранду в Тульскую губернию?» – он смеялся. Ему виделась Лиза в ее одесском доме. Вместе с братьями Андре и Феликсом она ловила неведомую желтую птицу, которая билась в окна, а Сабир собирал осколки стекла с пола. Потом череда ушедших в мир иной стала являться ему – Эммануил, Потемкин, Екатерина, княжна Тараканова, Суворов, Головатый, Кирьяков, Кес и множество других лиц замелькали в темноте, но долго он видел лишь одно лицо – Айи, а когда и оно стало уплывать, он кричал, но достиг лишь того, что услыхал пение Давиа.
Белозубый фехтовальщик Кумачино шел по склону Везувия впереди матери Ионны-Маргариты и дона Михаила, а наверх вышагивал необычно мрачный Долгоруков и граф Андрей Разумовский хватался за кусты окровавленными руками. Потом в бездне Чесмы тонул Прокопий Акинфович, консул Джон Дик, купец Дофине, Глори Алымова, а на палубе возле пушек стояли Войнович и корсар Поль Джонес…
Он очнулся. Рядом была сиделка-горничная.
– Что со мной? – спросил он слабым голосом.
– Вы уж три дня без памяти.
– Принеси зеркало, – попросил он.
Сиделка повиновалась. Она поставила квадратное зеркало из кабинета на мраморный столик так, чтобы больной мог видеть в нем свое лицо. Вбежала Настя, склонилась над постелью:
– Зачем?!. Ты мне говорил, что так умирал Эммануил…
– А я побреюсь, – улыбнулся он. – Позови цирюльника.
Но не дождался. Сознание ушло во тьму. Ему казалось, что он очнулся через мгновение – но у постели сидел Петр Пален. Вьяве ли это? Спросил тихо:
– Произошло?
– Молчите, – попросил Пален.
Умирающий больше в сознание не приходил. Бред его был несвязным. Но Пален у его постели оставался неотлучно до самого конца и не позволил Насте позвать нового лекаря, сказав, что пришлет своего. Как бы вмешиваясь в их тихий разговор, Рибас сказал в бреду:
– Удача всегда была рядом.
И спустя получас:
– Это легко.
Адмирал де Рибас отошел в мир иной в воскресенье второго декабря в четверть пятого утра.
Лекарь императора, осмотрев тело, сказал:
– Причина смерти – лихорадка и слабое сердце.
После совершения всех положенных обрядов его хоронили в пятницу, седьмого, на следующий день после великого праздника Святого Николая Чудотворца. За гробом шли жена, дочери, молодые офицеры, члены Адмиралтейств коллегии и рота гвардии, присланная императором для отдания почестей. Траурная процессия спустилась на лед Невы, чтобы по нему достичь Васильевского острова, где возле Смоленского кладбища находилось кладбище для иностранцев.
В этот день император Павел с наследником Александром и Кутайсовым были на Невском большом проспекте «при распоряжении по случаю погребения адмирала де Рибаса, отряженных для сего войск». Ужинал Павел в комнате перед садиком Эрмитажа и стол накрыли на 29 кувертов. «В театр взошло всех 305 персон». Смотрели французскую комедию «Исправленная кокетка».
Как и предрекал Рибас Павел I был убит в Михайловском замке 11 марта 1801 года.
Анастасия Рибас обратилась с письмом к новому императору Александру I:
«Всемилостивейший государь расстроенное состояние дел покойного мужа моего адмирала де Рибаса, оставившего слишком 30000 рублей долгу без малейшего имения к удовлетворению побуждают меня всеподданейше Ваше императорское Величество просить о заплате оного. Беспрерывные упражнения по службе и весьма отдаленные разъезды в течение 26 лет были конечно главными виновниками сего долгу а потому и подают мне решительную надежду что Ваше Императорское Величество соизволит воззреть на всеподданейшее прошение мое с тем отеческим попечением которыми удостаиваете усердную и отличную службу всех подданных».


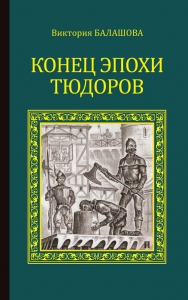
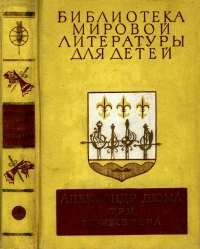


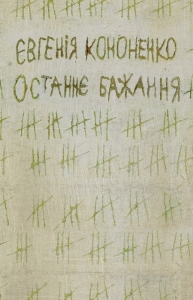

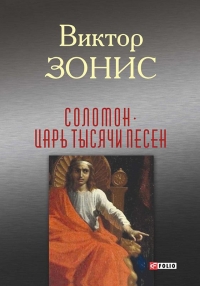
Комментарии к книге «Де Рибас», Родион Константинович Феденёв
Всего 0 комментариев