Самуэлла Иосифовна Фингарет Дёмка – камнерез владимирский Повесть
Часть первая Лесные дороги
Сын Всеволодов Мономах сей поставил град Владимир Залесский на Суздальской земле.
Летопись. XII векКогда князь Андрей двигался из Владимира к Ростову… кони, вёзшие образ, внезапно встали и ни за что не хотели сдвинуться с места. Великий князь Андрей повелел на смену иных коней более сильных впрячь, но и те, несмотря на битьё и понуждение, возок с места не сдвинули. Видя такое чудо… князь Андрей дал обещание поставить на том месте каменную церковь и украсить её, как только возможно.
Житие Андрея Боголюбского. XII векВ полночь священник Никола ввёл князя в пустую гулкую церковь. Дьяк Нестор остался возле коней, за оградой монастыря. Ждать не пришлось. Князь появился скоро. Он вынес большую икону, обмотанную холстиной, уложил в запряжённый парой возок. Священник и дьяк поместились рядом, в том же возке. Князь впрыгнул в седло. Белый как снег Буран заплясал под хозяином. Князь придержал жеребца, перекрестился, вымолвил: «С богом!» – и тишину разорвал цокот копыт.
Вышгород спал. До самых ворот не встретилось ни души. А если б и встретился случайный прохожий? Кто осмелится у князя спросить, куда он по ночному времени путь-дорогу держит, какая поспешает с ним кладь. Городские ворота, с вечера запиравшиеся на засовы и щеколду, на этот раз оказались открытыми. Подъёмный мост висел спущенным, стража не выглянула, затаилась внутри.
Беспрепятственно миновав воротные башни, кони по мосту перемахнули ров. Цокот копыт пронёсся среди домишек посада, околоградьем раскинувшихся за городской стеной, ненадолго задержался возле реки и умчался в летнюю ночь. У развилки, где дорога распадалась на проторённую Киевскую и окольную малохоженую, к путникам присоединились повозки и всадники, поджидавшие с темноты. Возок был пропущен вперёд. Следом за ним все повернули на поросшую ломкой травой малохоженую колею. Лето стояло сухое, знойное, дожди не выпадали давно.
Когда вышгородский гонец доставил в Киев весть о случившемся, великий князь Юрий впал в ярость и гнев. Отбушевав, он велел, позвать летописца, крикнул, едва тот вошёл:
– Пиши. Старший мой сын, князь Андрей Юрьевич, без отчей воли и даже ведома оставил удел и с женой, детьми и дружиной подался в Залесье. Уехал он в тайности, самовольно забрав привезённую из Царьграда[1] святыню.
«Лета тысяча сто пятьдесят пятого года Андрей, внук Владимира Мономаха, сын великого князя Юрия от первого брака с половецкой княжной, Аепиной дочерью, Осеневой внучкою…» – принялся выводить как положено летописец. И пока по пергаменту расползались строки крупных и чётких букв, великий князь Юрий обернулся к боярам, жавшимся возле стен:
– Испугались, что первого защитника и храбреца Киев лишился? Или, напротив, рады? Ничего, дайте срок, весной возверну.
Бояре переглянулись. До весны время долгое, без малого год. За год многое может перемениться.
Глава I. ЧУДО
– Что невесело смотришь, князь-государь Андрей Юрьевич? Раздели на двоих кручину.
Не поворачивая головы, князь чуть скосил глаза. Боярин Яким, сын казнённого великим князем Степана Кучки, поравнял своего Гнедка с белоснежным Бураном. Отцы не на жизнь – на смерть враждовали. Сыновей судьба подружила. Большой отрезок жизни отмерили они рядом, много трудных дорог вдвоём исходили. Теперь обоим под пятьдесят.
Разговор Яким повёл осторожно, будто не от себя.
– Супруга твоя, Улита Кучковна, тревожится: не привязалась ли хворь? «Тёмен, – говорит, – лицом стал. С самого Владимира ни со мной, ни с сыновьями-княжичами не вымолвил слова».
Княгиня Улита Степановна, или, как по отцу называли, Улита Кучковна, приходилась Якиму родной сестрой. Крепкое было семейство: и братья с сестрой, и младшие Кучковы – все друг за друга стояли.
– Вышгород с ума нейдёт, – нехотя проговорил князь Андрей.
– Да разве Вышгород в одиночку высится? Днепр ли возьми, Сулу ли, Рось? По всем берегам протянулись валы с укреплениями. В одну только Сулу-реку восемнадцать крепостей глядятся.
– Вышгород Киеву ближний заслон, всё равно что щит.
Князь таился. Разговор получался пустой. Говорено-переговорено было долгими вышгородскими вечерами, что киевскую державу не уберечь от половецкого разорения. Сула заслон поставит – разбойничьи орды прорвутся через Трубеж. По берегам Трубежа поднимутся укрепления – под копытами половецкой конницы степь у Днепра загудит. То и дело на сторожевых башнях вспыхивали огни. Крепостной гарнизон спать ложился, не снимая кольчуг, не выпуская из рук оружия. А князья, вместо того чтобы силу сплотить, разжигали усобицы. Лютые войны велись за киевский великокняжий стол. То Мономахова ветвь побеждала, то потомки Олега Черниговского брали верх. Великий князь Юрий, младший сын Мономаха, сколько лет из далёкого Суздаля к Киеву руки тянул, с родным племянником бился. Ныне киевский стол во второй раз ему достался. Удержит надолго ли?
– По всем городам и селениям тебя, как праздника, ждали, – снова начал Яким. Он не терял надежды вызвать князя на доверительный разговор. – Что бояре с дворянами, что мизинные люди – рукоделы, купцы – все от радости шапки в небо бросали, да в бубны били, да славили.
– Не меня – святыню приветствовали. – Князь указал рукой на поспешавший впереди возок.
– Где святыня, там и сердце Руси. Каждому ясно: не с пустым ты вернулся в Залесье, князь-государь, решил, знать, вокруг Ростова и Суздаля сплачивать русские земли.
Князь промолчал, не шелохнулся в ответ, сидел в седле выпрямившись, крепко слитый с конём. К чему докучает родич расспросами? Не откроет он даже ему, что душа не лежит ни к Суздалю, ни к Ростову. Города могучие, крепкие, словно вошедшие в рост дубы. Боярство там своевольное. Власть князя ниже вечевой почитается, а вече зажато в сильных руках. При несогласии укажут на городские ворота, как случалось с князьями в Новгороде не раз: «Ступай себе, князь, ты нам не надобен». Или поступят, как в Галиче. Пока князь Владимирка тешил себя охотой, галичане призвали на стол князя Ивана, и было кровопролитие великое. Другое дело – едва поднявшийся из земли мал город Владимир. Не имел он боярских усадеб, не оброс по окрестностям укреплёнными монастырями. Мизинный народ княжей воли не супротивник. В самый раз основать во Владимире княжий стол. Но как на такое решиться, чем оправдать выбор? Суздаль первенства не уступит, вместе с союзным Ростовом развяжет усобицу. Значит, снова война. Стоило ли для того покидать Южную Русь?
Невесёлые размышления были прерваны сильным толчком. Князь едва успел ухватиться за луку седла. Ехавший впереди возок внезапно остановился. Чтоб не удариться грудью, Буран с места отпрянул в сторону, чуть не сбросив на землю хозяина.
– Что такое? – крикнул взбешённый князь.
– Порча, князь Андрей Юрьевич, должно быть, на лошадей нашла. – Возница, правивший первой парой, что есть силы работал кнутом. Кони храпели, бились, взбрыкивали ногами, пытаясь порвать постромки. Вперёд не делали ни полшага.
– Выпрячь, других привести.
По княжьему слову к возку подтащили новую пару. Однако заставить сдвинуться с места и этих не удалось. Перепрягли – то же самое, словно дорогу перегородила невидимая стена.
На лицах путников обозначился страх. Кто-то охнул, кто-то пробормотал: «Хозяин». «Хозяином» называли лешего. Женщины в голос запричитали. Дружинники выхватили из колчанов стрелы. Сверкнули мечи. Только что проку в оружии? Разве спасёшься, если сам леший вздумал препятствовать или русалки растянули невидимку сеть? Стрелы вспять полетят, мечи своих же изрубят.
В существование нечисти верили все. Тревожно переглянулись юные княжичи Изяслав и Мстислав. Младший из Кучковых, Пётр, подъехал к Якиму. Лихие дружинники – детские* и те почувствовали смущение. Мечи и взнесённые копья сами собой опустились. Под кольчугами пробежал холодок. Первые в бою храбрецы расширенными от страха глазами всматривались в нависшие над дорогой кусты. В пробитом кроваво-красной рябиной подлеске таилась тёмная гибель.
></emphasis>
* Дружина делилась на боярскую – старшую и детскую – младшую, состоящую из детских – дворян.
Один только князь не поддался страху. Кони бились, пена летела по сторонам. Буран выплясывал как безумный, стоило направить его к возку. А князь словно добрую весть получил. Сумрачное лицо просветлело, складки на лбу разгладились. В зеленоватых, унаследованных от матери-половчанки раскосых глазах вспыхнул живой огонь. Ясным взором оглядел Андрей Юрьевич испуганных спутников и вдруг стремительно вскинул руки, так что звякнули кольца кольчужной рубахи, а длинные полы корзна-плаща взметнулись двумя крылами.
– Чудо! – понёсся по лесу его громкий ликующий крик.
– Чудо! – откликнулись эхом священник и дьяк.
Угадав княжью волю, дьяк сорвал с иконы холстину и, выпрямившись во весь свой немалый рост, поднял икону над головой.
Над кустами поплыл образ девы Марии с младенцем Иисусом Христом на руках. Лесное тихое солнце упало на смуглое молодое лицо с чертами, обозначенными тонкими линиями. Тёплый луч высветил чуткие пальцы, узорчатую одежду, ручки ребёнка, обнявшего мать. Склонив покрытую покрывалом голову, щека к щеке прильнула мать к сыну. Большие глаза смотрели на путников печально и строго.
Тот, кто был на коне, спешился, тот, кто сидел в повозке, покинул её и присоединился к другим. Причитания сменились криками радости. Не каждому было ясно, в чём заключалось чудо, но не было больше страха, исчезла опасность. Беда обошла стороной.
– Поворотите коней, шатры разобьёте недоезжая Владимира, на ближних холмах, возле Клязьмы, – распорядился через малое время князь. – Я здесь задержусь.
– Как можно в лесу одному? – всплеснула руками княгиня.
– Дозволь рядом побыть, – придвинулись княжичи.
– И нас не гони, – поддержали Яким и Пётр Кучковы.
Но князь сдвинул брови, отчего обозначились резче скулы и лицо приняло гневное выражение. Не сказав больше ни слова, все заторопились к коням. Взбираясь в возок, Улита Степановна успела приметить, что Пётр передал князю стрелы и лук. Не погнушался Андрей Юрьевич оружием детских. И то сказать: в диком лесу с одним лишь мечом – верная гибель.
Как только последний конь скрылся за поворотом, Андрей Юрьевич спрыгнул на землю. В три прыжка он одолел расстояние, отделявшее от черты-невидимки, перед которой замер возок. Так и есть. Охотничий глаз не подвёл. Следы на дороге были оставлены не собакой: когти повёрнуты вовнутрь, не вразброс, сбиты вместе. Одновременно дорогу пересёк человек. Расскажи – лгуном ославят вселюдно. Однако следы не путались, не топтали друг дружку, шли рядом. Здесь человек со зверем пробились через ольшаник, здесь залегли, пугая коней. Теперь удалились оба, иначе Буран не щипал бы спокойно траву. Удалились и унесли тайну чуда, которое сами свершили, вернее, ту тайну, что никакого чуда на самом деле и не было.
Примотав к суку конский повод, князь углубился в лес.
В одной греческой книге Андрей Юрьевич прочитал о герое-богатыре Антее, черпавшем силу в земле, стоило только к ней прикоснуться. Его, князя Андрея, сила хранилась, должно быть, в лесу. С детства привык он слышать работный стук-перестук плотников-дятлов. Торопливый шёпот листвы: «Лес шумит, что-то будет, лес шумит, что-то будет» – звучал слаще музыки. Тоска по лесному духу, по запахам трав и грибов извела в засушливом Вышгороде.
Андрей Юрьевич шёл торопливо, выбирая путь против ветра. Нежно-зелёный хвощ в прожилках лилового вереска скрадывал звук шагов. Приметы указывали дорогу: сбитый цветок вероники, земляничник с раздавленной ягодой, треснувшая под тяжёлой лапой гнилая кора упавшего дерева.
Человек со зверем появились внезапно, совсем не в той стороне, где князь ожидал. Вначале мелькнула светлая рубаха, потом обозначились оба.
«Если не видел следа, собака и только», – подумал князь. Он знал, что волка нужно убрать вначале, потом расправиться с человеком. Если поступить наоборот, то не успеешь от волка ног унести, не то что переменить стрелу. Ещё он знал, что действовать нужно наверняка. Промах самому может стоить жизни. А деревья то прятали зверя, то раскрывали; то появлялся среди стволов, то исчезал человек. Но вот лес раздвинулся. Человек и волк прошли на поляну. Зелень травы ясно обрисовала обоих. Князь изготовил лук, рывком оттянул тетиву, и в тот же момент за его спиной кто-то отчётливо быстро проговорил:
– Не убивай детей, богатырь.
Как был, с луком в руках, князь обернулся.
В десяти шагах от него стояла девица в голубом до пят платье прадедовских времён. Нашитые поверху бляшки играли светлыми бликами. Князь успел разглядеть золотую ленту очелья на лбу, стянувшую русые волосы, не заплетённые в косу. Вёрткая змейка-гривна вилась вокруг шеи. Возле высоких скул, прикрывая виски, покачивались большие кольца с семью лепестками.
Русалка, ведьма, обыкновенный ли человек? Глаза под дугами тонких бровей синели лесными озёрами.
– Кто будешь? – хрипло проговорил князь. Лук он на всякий случай держал наготове. Тетива дрожала под пальцами.
– Хозяйка я здешняя.
Всё, что случилось дальше, произошло так быстро, что князь опомниться не успел. Плавным движением девица с глазами-озёрами опустила руку в подвешенный к поясу берестяной короб. Взметнулся острый язычок пламени. Ядовито и едко запахло болотом. Повалил белый дым. Когда дым рассеялся, на том месте, где стояла девица, шевелила ветвями осина. «Лес шумит, что-то будет, лес шумит, что-то будет», – приговаривала листва.
До сей поры князь страха не ведал. Тут же оторопь охватила. Силой заставил он себя сдвинуться с места, подошёл к осине, царапнул ствол – обыкновенное дерево, огляделся вокруг – никого. «Не убивай детей, богатырь», – всплыли в памяти сказанные слова. Сам бы мог догадаться, видел ведь, что человек невелик: конечно, мальчонка. И волку до матёрого зверя долго тянуться. Схватить обоих не составило бы труда, да разве теперь отыщешь?
Андрей Юрьевич вышел к поляне, где скрылись мальчонка с волком. Оказалось, не поляна – болото. Ткнул стрелой. Древко ушло по самое оперение, дно, однако же, не достало. Проверил в другом, в третьем месте – повсюду бездонная топь. Как же те двое прошли? Или в самом деле русалка им ворожила?
Изумрудная зелень болота стала тускнеть, покрываться прозрачной дымкой. Солнце круто двинулось на закат. Под деревьями заходили серые и лиловые подвижные тени.
Возвращаясь к дороге, Андрей Юрьевич поднял оброненный плащ. Бурана нашёл на месте. Верный конь потянул к хозяину гордую лёгкую шею, скосил влажный глаз. Занеся ногу в стремя и взявшись за холку, князь ещё раз оглядел раздвинутые кусты с поломанными ветвями, притоптанную дорогу.
К шатрам Андрей Юрьевич поспел до темноты. Спрыгнул с коня, насупленный, молчаливый, но главного не утаил, сказал, что в лесу сошёл на него благодатный сон и было во сне веление основать во Владимире великокняжий стол, а на месте, где совершилось чудо, воздвигнуть церковь.
Глава II. ГОРДЕЕВА КУЗНИЦА
– Возвращается!
– Ночью в шатре привиделся сон!
– В лесу, не в шатре.
– В шатре, хоромах, в лесу – всё едино. Главное, во Владимире будет устроено княжье подворье.
Как узнали-проведали? Скоропосольцев князь Андрей Юрьевич в город не посылал, вещий сон пересказал самым близким. Ночные птицы, должно быть, услышали и весть разнесли.
До света владимирцы высыпали на улицы, с весёлыми лицами поздравляли друг друга. Самый последний бедняк поверх чистой рубахи, застёгнутой у ворота медным бубенчиком, надел кручёную гривну, прицепил к пояску гребешок, подвесил медную птичку или коняшку, чтоб уберечься от сглаза. Кто побогаче, гривну надел серебряную, обереги подвесил гроздью. Платья женщин пестрели шёлковыми оторочками. Поручи, завершавшие узкие рукава, отливали шитьём. Очельями служили парчовые ленты. В ушах на тонких дужках покачивались серёжки. Подвешенные к опояскам обереги-амулеты в виде птицы, ключа и ложки оповещали без слов: совьёт наша хозяйка гнездо, и никто не расхитит её добра, и есть в том гнезде будут полной ложкой, досыта.
– Возвращается, слышали?
Такое да не услышать. До сей поры мал город на Клязьме суздальским пригородом считался. Теперь мал город поднимется выше заносчивых своих соседей. Протянутся стены, вырастут усадьбы с теремами и башенками на кровлях, в небо вскинутся золочёные купола. Ныне торг невелик: друг другу снедь продают, друг у друга рукодельные товары скупают. А когда посад обрастёт новыми ремесленными рядами, закачаются у извоза[2] белые, жёлтые, полосатые паруса. На всех языках заговорит торговая площадь. Смуглолицые бухарцы в белых чалмах разложат ковры, на шестах развесят паутины тончайших тканей. Гости с холодных морей поднимут к свету медово-жёлтый янтарь. Серебро, бирюза, персидские и армянские сласти, тиснёная кожа, бархат, шёлк. В обратный путь повезут торговые гости лучшие владимирские сукна, замки, вервие, дёготь, мёд. Вместе с товаром разнесётся по землям и странам слава новой столицы.
– Слава князю Андрею Юрьевичу, слава!
Толпа росла, теснилась к воротам, выплёскивалась на Суздальскую дорогу. Задирая головы, люди кричали:
– Эй, на воротных башнях, зорче глядите, дозорные!
– Не проглядим! – доносилось в ответ.
В одном только доме утро началось как обычно. Дом был крепкий, большой, с глинобитной печью – поставленное на подклеть отапливаемое строение. Истопка, истба, или, как говорили чаще, изба. Была изба срублена «в лапу» из ровно подобранных брёвен, сплочённых без единой щели. Ни мхом, ни паклей конопатить не понадобилось. Концы брёвен по углам, как в горсти, покоились в выемке. Прорубленные в среднем венце волоковые оконца заволакивались изнутри деревянными заслонками. Ладной смотрелась изба, а стояла на бедном конце, да ещё от всех на отшибе.
Посадская беднота селилась в стороне от городских стен вдоль кромки большого оврага. Врытые в землю домишки цеплялись за самый край. Вниз ползли огороды. Круто срывались тропинки и пропадали в пенистом ручейке, бежавшем по каменистому руслу. От множества протоптанных дорожек посадский склон казался покрытым огромной, неровно сплетённой сетью. Противоположная сторона, за которой виднелась зубчатая стена леса, выглядела по-иному. Вместо строений и грядок повсюду густо росли кусты. Редкие тропинки, пытаясь пробиться кверху, терялись в путанице ветвей. Похоронили Гордея, и заросли тропинки. Незачем стало взбираться на дальний склон. А в прежние времена народ тянулся со всей округи. Котлы чинить, серпы, ножи, косы ковать, замок хитрый справить – лучшего кузнеца, чем Гордей, не значилось в самом Суздале. Без дела, правда, в Гордеев лес ходить опасались. «Где кузнец, там и нечисть, кузнец лешему сват, кузню с домом недаром в лесу поставил», – судачил владимирский люд. Когда Гордея на сколоченных наспех жердях из леса принесли неживым, слух упорно держался, что леший кузнеца задушил. Метку свою «хозяин» оставил. Многие видели синие пятна на мёртвом лице. С той поры ходить за посадский овраг не отваживались самые смелые.
В землю Гордея зарыли со всеми обрядами, похоронили рядом с женой. Она давно умерла. Детей-сирот Иванну и Дёмку не обижали, не раз уговаривали перебраться в посад.
День приходит, ночь отступает, Месяц угасает. Свети-свети, солнце-колоконце, —пропела Иванна.
Она вышла на крыльцо с первым светом, как приучил отец. Отец и дом поставил в открытом месте, повернув на восход. Серп луны вырезал на стене, примыкавшей к лесу. Место над дверью отвёл для Ярила-солнца с двенадцатью лучами-месяцами. Отец говорил: «Утро работает, день торгует, вечер размышляет. Утро всему голова. Как день начнёшь, таким он и будет».
– Доброго молодца каша в печи дожидается! – крикнула Иванна в раскрытую дверь.
– Угу, – промычал из избы сонный голос.
– В лес пойдёшь или повременить бы пока?
– Угу.
Иванна спустилась с крыльца на высвеченный солнцем ковёр из травы и цветов. Жемчужинами метнулись под ноги капли росы. Деревья стряхнули сон и расправили ветви. Застучал по стволу ранний дятел. Прокопчённый навес над кузницей и тот словно пытался взлететь большой неуклюжей птицей. Иванна засмеялась, побежала, распахнула широкие, на всю стену, створы дверей.
В кузнице всё оставалось по-прежнему, как при отце. У наковальни, на чисто выметенном земляном полу, лежали прутки прокованного железа. Ровной горкой высились брусья стали. Отец любил сероватую без блеска сталь – оцел. Клинки из неё получались острее прочих. За Гордеевыми мечами приезжали из дальних мест, топориками вооружались князья. Мизинные люди, кто побогаче, одаривали жён и невест серьгами, сработанными Гордеем. Большие в ожогах и шрамах отцовские пальцы умели из сканой – кручёной – проволоки выплетать кружевную скань. Отцовская зернь играла наподобие самоцветов. Кучно напаянные мелкие шарики-зёрна рассыпали вокруг радужные лучи. Отец мог бы стать кузнецом-ювелиром, если б превыше всего не ценил железо и сталь. «Работники», – говорил он, опуская клещами в воду раскалённый нож или серп. Потом направлял изделие к свету и глазами прощупывал край.
Любовь к металлу передалась не сыну – дочери. «Ива-Ивушка, Кузнецова дочь», – приговаривал отец, когда помогал Иванне заполнить форму расплавленной медью или выгнуть дужку серьги. Дёмка тоже не оставался без дела, по-своему мастерил. Притащит из леса корявую ветвь или кривулину-корневище, теслом подправит, ножом лишнее уберёт: «Глядите, это – рогатый лось. Это леший пень оседлал». Ловкие руки были мальчонке даны, жаль, что кузнечить не захотел. «Огонь жжётся, железо бьёт или режет. Не по мне их нрав». – «Неправда твоя, – возражал отец. – Огонь жизнь даёт, железо жизнь защищает». Не пересилили отцовы слова Дёмкиного упрямства, вот и остались без дела железо и сталь. Работал с отцом подручный Лупан, да на долгое время не задержался. Отца из леса неживым принесли. В тот час и Лупан исчез.
Для рукодельного своего мастерства Иванна облюбовала пристенную лавку в дальнем от горна углу. Здесь стоял сундучок с заготовками и всеми цветами, какие только имелись у радуги, светились горшочки с растёртыми красками.
Иванна придвинула сундучок, выбрала из медной груды две похожие на чечевицу подвески с загнутыми краями. На лицевой стороне выступали тонкие перегородки. Их хитрое сплетение составило очертание птицы с острым клювом, большим круглым глазом, вскинутыми кверху крыльями и пышным хвостом. Хвост распадался на три волны, закрученных на концах. Ни ласточка, ни голубь, ни тетерев не имели подобного оперения. Птица была просто птицей, похожей сразу на всех птиц. По крыльям и хвосту рассыпались трилистники и завитки. Каждую малость узора окружала собственная перегородка. В литейной форме прорезались бороздки. Во время литья они заполнялись металлом и на изделии выступали перегородками – гнёздами для разноцветной финифти-эмали. Чем больше гнёзд, тем красочней получался финифтяный узор.
Маленькой, с ноготок, лопаткой Иванна подцепила щепоть светло-зелёной крупки, добавила несколько капель воды и принялась окрашивать птичью головку. Когда слой зелёной краски сравнялся с уровнем перегородки, капли воды упали в синюю крупку. В синий цвет Иванна решила окрасить глаз. Что из того, что птичьи глаза не бывают синего цвета, – разве не синее небо они отражают? Заполнять окружённые перегородками гнёзда приходилось медленно, осторожно. Попадёт крупинка в чужое гнездо – и цвет потеряет природную яркость.
Иванне исполнилось восемь лет, когда отец принялся обучать её финифтяному рукодельству. С той поры минуло столько же. Теперь Иванна и медь расплавит, и форму сама смастерит. Дольше всего пришлось приноравливаться к огню: недодержишь – блеск получится неравномерным, передержишь – краски сгорят. Огонь для финифти то же, что и для стали. Прочность, блеск, долговечность – всё от него. В огне краски сплавятся, навсегда прикипят к металлу. Только слой получится тонким, поверхность выйдет бугристой. Впадины нужно выровнять, изделие снова поставить в горн. Вынуть, остудить, сровнять бугры краской – и снова на обжиг. Вынуть и повторить всё сначала. Краски – огонь, краски – огонь, три, четыре, если понадобится, пять или шесть раз. Отец говорил: «Финифть ожидает от кузнеца трёх свойств – зоркости, чутья и терпения».
Иванна раздула горн, положила подвески на первый обжиг и вышла на луг. Дёмка не возился с корневищами возле крыльца, Апри также не было видно. Подались всё же в лес дружки. Иванна зашла за избу, прислушалась. Свиристела далёкая птица, редким шёпотом переговаривалась листва. Хорошо было жить возле леса, словно рядом с надёжным другом. Летом он одаривал ягодами и грибами, зимой – сухостоем, заготовленным на дрова. Из леса Дёмка тащил рогатые ветви. Иванна, наглядевшись на птиц и лесные цветы, расцвечивала финифть узором. Лес всегда был готов предоставить убежище. Вцепившись в землю лапами корневищ, деревья охраняли избу. В смерти отца ни Иванна, ни Дёмка лес не винили. Оба были уверены, что нет на друге вины.
Горн горел до полудня. Когда солнце пошло на закат, Иванна загасила огонь и стала укладывать в короб изготовленную раньше финифть. Вчера ещё говорила, что непременно отправится нынче в город. Куда же запропастились неслухи Дёмка с Апрей?
Самшитовым новгородским гребнем Иванна расчесала русые волосы, вплела в косу алый косник, лентой перетянула лоб. Платье надела из крашеной синей холстины с длинными узкими рукавами без поручей. Сапожки обула жёлтые с двойной подошвой, прошитой снаружи навыворотным швом. В город идти – людям показываться, в чём попало не поспешишь.
Глава III. НАЧАЛО ВЛАДИМИРСКОГО ЛЕТОПИСАНИЯ
Солнечный луч, пробив слюдяное оконце, упал на спящего князя. Князь подёргал набухшими веками, сдвинул брови и быстро открыл глаза. Долго ли, коротко длился сон, сваливший ничком на лавку, только встретила явь прежней докукой. Из головы не выходило вчерашнее. Что волк и мальчонка в самое время в кустах залегли, в том сомневаться не приходилось. Портило дело, что оба в живых остались. Найти, на цепь посадить, уничтожить. Да где искать? В лесу болото путь преградило, болотный морок глаза отвёл. Заняться расспросами? Слухи пойдут: «Неспроста князь про волка выведывает. Первых храбрецов повернули вобрат[3] мальчонка да волк». Князь вскочил, в ярости закусил губу. Неотвязчивой огневицей мучила мысль, что откроется тайна.
– Поспешить с вестью, – пробормотал он вслух и, хлопнув в ладони, мысленно повторил всё, что твердил себе со вчерашнего дня: «Церковь союзником выступит. Мизинный народ до чудес охотник – поверит. Бояре идти поперёк не отважатся. Мальчонка сам промолчит, в спор со святыней не вступит. А если пути в другой раз скрестятся, промашки не будет. Стрела попадёт в цель».
В горенку тенью вдвинулся челядинец Анбал, подал умыться, поправил на лавке сбившийся полавочник.
Был Анбал низкоросл, тёмен лицом и чёрен, как жук. Нрав имел неуживчивый, мрачный. За что полюбился князю и тот приблизил его к себе, для всех оставалось загадкой.
Князь расчесал коротко стриженную с проседью бороду, перетянул витым кушаком ладно сидевшую на широких плечах рубаху с разрезами по бокам, прислушался к шумному разноголосью.
– Боярин Пётр, зять Кучков, с детскими в гриднице[4] засели, – низким гортанным голосом проговорил Анбал.
Просторная гридница находилась поодаль от облюбованной князем горенки, но звуки пьяного разгула проникали повсюду.
– Пируют?
– Рады, что домой воротились.
– Яким где?
– Боярин Яким Кучков к княгине Улите Степановне проследовал.
Сторожевой пёс так не знает своё подворье, как молчаливый Анбал знал каждую малость, случавшуюся в хоромах. Два глаза имел, два уха, а видел и слышал за десятерых. Седлал ли кто не в урочный час коня, встретился ли в укромном углу для тайной беседы – всё становилось известным князеву челядинцу.
– Прикажешь которого-нибудь из Кучковых привести?
– Петра покличь, коли не вовсе пьян.
Пётр влетел в горенку, словно вихрь с ним ворвался. Шитый ворот рубахи распахнут по всей груди. Тёмные кудри на лбу пляску выплясывают. Каменья на рукояти кинжала брызжут по сторонам красными и зелёными лучиками.
– Одна печаль, князь-государь Андрей Юрьевич, что не делишь с нами веселья. На родину возвернулись, мать-землю родную поцеловали. Порадуй детских, пусти чару по кругу.
Пётр склонился в большом поклоне, выбросив руку до пола, выпрямился, сверкнул белозубой улыбкой. Всем взял молодой боярин: отвагой, выправкой, весёлым нравом. Детские готовы были за ним хоть в огонь, хоть в воду последовать.
– Пустое дело пирование ваше, растрата времени, сродни лени. От неё ещё дед мой, Владимир Мономах, потомков предостерегал. «Леность всему беда, – писал он нам в поучение. – Леность, что умеет, то позабудет, а что не умеет, то и не выучит».
– Великий был князь. Восемьдесят три больших похода возглавил, а малых – тех и не счесть.
– Мимо, брат Пётр, не пронеси, что двадцать договоров о мире Владимир Мономах при том заключил.
– Эх, князь-государь Андрей Юрьевич, скажи: чем повеселить тебя, как распотешить? Прикажи – пригоню табуны лошадей, или половцев по степи погоняю, или – вымолви только слово – с одними детскими отвоюю для тебя черниговский стол. – Пётр выхватил из ножен кинжал, рубанул воздух.
– Клинок для охоты побереги, боярин, – остановил Петра князь. – Про войны забудь. Устал я от крови. Коли где сеча случится, в стороне отсижусь, меч, от пращура князя Бориса доставшийся, полой плаща прикрою для верности, не зазвенел чтоб.
Пётр рассмеялся, подскочил к двери, потянул за медную скобу. В открывшийся проём ворвалась песня. Дружинники пели любимую – про походы и сечи, про первого храбреца князя Андрея Юрьевича. Слова и напев этой песни знали по всей Руси.
Как далече-далеко во чистом поле, Ещё того подале – во раздолье Ретивой Андрей с одними детскими Ринулся на вражьих пешцев, Изломал копьё в первом супротивне.Дело было на Волынской земле, под городом Луцком. Андрей стяги не развернул, не оповестил стягами братьев о начале сражения. Один, с горсткой воев,[5] ринулся на вражескую пехоту. Атака была, как смерч. Летели копья, в ближнем бою сшибались с лязгом мечи. В хмельной ярости боя Андрей Юрьевич не заметил, как оказался зажатым в кольцо. Коня ранили, копьё разлетелось в щепы. С одним мечом святого Бориса в руках проложил для себя дорогу. Верный конь вынес из сечи и пал бездыханным. С почестями похоронили его на берегу реки Стыри.
Как далече-далеко во чистом поле, Ещё того подале – во раздолье Удалой Андрей взмолился речке: «Ты, бурливая Лыбедь-лебёдушка, Пропусти мечи скрестить, копьём ударить».Смертные бои вёл отец за великокняжий киевский стол. Половецкие ханы, братья Андреевой матери, прислали в подмогу отряд из трёх сотен всадников. Противник отца, сын его старшего брата князь Изяслав, получил подмогу от венгерского короля, мужа своей сестры. Били в бубны, трубили в трубы, кричали. Ратоборствовали на суше. Спускали на воду ладьи с хитро устроенным дощатым настилом. Доски служили подмостом для лучников, одновременно прикрывали гребцов. На носу сидел один рулевой, на корме помещался другой. Ладьи двигались взад и вперёд, не разворачиваясь. Андрею Юрьевичу наскучил неспешный ход боя. С малой горсткой союзных половцев переправился он через Лыбедь, а когда половецкие конники в страхе попятились, один бросился на врага.
Как далече-далеко во чистом поле, Ещё того подале – во раздолье… —донеслось из гридницы в третий раз. Много было великих сеч, много у песен запевок.
Всех храбрей Андрей на поле Перепетовом, Укрепил полки на брань, сам впереди пошёл… —подхватил Пётр Кучков раздольный напев. Но спеть про изрубленный щит и проломленный шлем ему не пришлось. Нетерпеливый взгляд, брошенный из-под припухших век, на полуслове оборвал песню. Трудно было ладить с князем Андреем Юрьевичем. То одаривал братской дружбой, то без всякой причины выказывал гнев. Пётр умолк, поспешно затворил двери.
– Прости, коли не угодил, государь. С малых лет приучен подвигами твоими гордиться. Да не ко времени, видать, радость, верно, за делом звал. Приказывай. Кто тебе враг – и мне тот не люб.
– Поскачешь в Ростов, повезёшь весть о чуде. В Суздаль, Новгород, Псков пошли посмышлёней, из тех, кто были вчера на дороге, когда пресвятая икона остановила коней.
– Слушаюсь, государь Андрей Юрьевич. Детские все при чуде присутствовали. Скажу первой десятке, чтобы кубки не полностью осушали. Поскачем чуть свет.
– Не чуть свет, а сей час! – Сжатый кулак тяжело опустился на лавку.
Пётр опрометью бросился во двор.
Андрей Юрьевич нагнулся к оконцу: окрики, топот ног, ржание лошадей. По тонкой слюде пронеслись быстрые тени. Отряд пересёк двор. Копыта забили по деревянной вымостке.
Выбравшись из-под княжьего взгляда, Пётр пригнулся к седлу, словно не в городе находился, а в поле, крикнул: «Поспешай!» – и помчался, увлекая бешеной скачкой детских. Куры, бродившие без опаски, с кудахтаньем разлетелись по сторонам.
На скрещении улиц, возле землянки, грибом выросшей при дороге, всадникам поклонился человек в кафтане, наброшенном на узкие плечи поверх холщовой рубахи.
– Здоров будь, Кузьмище Киянин! – весело крикнул Пётр.
– С чем двинулись в путь?
– Посольцами едем. Чудо в дорожных сумках везём.
Дружинники рассмеялись. Отряд перестроился. Трое двинулись к Торговым воротам, выходившим на Суздальскую дорогу. Путь других лежал на Москву.
Прислушиваясь к удалявшемуся топоту копыт, человек в кафтане удовлетворённо кивал головой. Был он молод, высок и тощ. На узком лице выделялись большие, как на иконе, глаза и прямой длинный нос. Волосы, подстриженные на лбу выше бровей, спускались вдоль щёк свободными прядями. За долгий рост имя Кузьма залесские люди перекроили в Кузьмище, прозвище добавили Киянин – из Киева, значит. Окружение князя составляли владимирцы, суздальцы, москвичи. Кузьма родился под Киевом, воспитывался в Вышгородском монастыре. В учительной палате книжники-монахи обучали грамоте окрестных ребятишек. Сначала буквам учили, потом складам: «ба», «ва», «га», «да», «бе», «ве», потом цифрам. В написании цифры не отличались от букв, только чёрточку следовало добавить к месту. Кузьма в учении всех обогнал. Восьми лет ему не исполнилось, когда допустили его монахи в монастырское книгохранилище. И открылся мальчонке великий мир.
Раньше он думал, что книги тихие. На поверку вышло, что книги имели тысячу языков. Достаточно было откинуть обтянутую кожей доску переплёта, чтобы понеслись крики ярости, ликования, гнева. Совершал чудеса воинской доблести македонский царь Александр. Книгочей царя Синагрипа Акир обходил все ловушки, подстроенные клеветниками. «Кто добро творит, тому добро будет, кто другим яму копает, тот сам в неё попадёт», – поучал рассказчик удивительных приключений. Со страниц «Топографии» византийского морехода Козьмы Индикоплава вставали неведомые страны, незнаемые моря. Оказывалось, что земля имеет вид доски, шириной в один локоть,[6] длиной в два локтя. «Сверху земля покрыта небом, как сводом, которым покрывают возки. На боковых сторонах небо отсутствует». «Шестоднев» болгарина Иоана раскрывал тайны мироздания. «Физиолог» описывал устройство животных.
«Книги – это реки, питающие вселенную, это источник мудрости… ими мы в печали утешаемся…» – прочитал Кузьма в летописи за 1037 год. Кузьма родился позже ровно на сотню лет, а разве померк глубокий смысл сказанного? Летописцы верили в силу слова. Их голоса звучали взволнованно. Передавая потомкам историю деяний их славных предков, летописцы спорили, возражали, давали советы. Повествуя о междоусобьях, они принимали сторону то одного, то другого князя, предостерегали внуков и правнуков от ошибок, совершённых дедами. Кузьма был на стороне тех, кто хотел мира. «Отче, господине, помирись с братниным сыном, не губи своего племени, а более всего родной земли и всех людей русских. Мир стоит до рати, а рать до мира». Узнав, что с такими словами князь Андрей Юрьевич обратился к отцу, Кузьма пожелал отправиться с суздальцами в Залесье. Дел от князя Андрея он ожидал больших.
Для себя Кузьма не искал выгоды. Андрей Юрьевич, любивший книжных людей, подобно деду и прадеду, читавший по-гречески и по-латыни, не раз предлагал Кузьме то казну, то хоромы. «Летописцу воля нужна» – только и был ответ.
Проводив взглядом посольцев, Кузьма спустился в стоявшую без хозяев землянку. Он занял её с утра, когда вместе со всеми вернулся во Владимир. Перья, кисти, вываренная берёста, заострённое писало для выдавливания на берёсте букв – всё, что требуется летописцу, было уже разложено на пристенной лавке. Поверх сундучка покоилась оплетённая в кожу тетрадь. Кузьма затеплил фитиль, плававший в подвешенной к потолку плошке, взял в руки перо, раскрыл переплёт. Побежали по чистой странице ровные четкие буквы: «Тогда князь Андрей Юрьевич уразумел, что святыне не угодно шествовать дальше. Весть о чуде скоро распространилась по всей Руси».[7]
Пётр Кучков в сопровождении детских мчался по Большой улице, мимо торга, к этому времени почти пустого. На скаку крикнул девице, торопливо идущей навстречу:
– Эй, красавица – реченька синяя, жди, зашлю сватов!
Девица головы не подняла, быстрее засеменила. Подол синего платья кружил колокольцем вокруг жёлтых сапожек.
– Входи, входи, милая, – встретил Иванну белобородый Евсей, едва переступила она порог его лавки. – Принесла ли что? Покажи, порадуй старика торговца.
Иванна опустила руку в берестяной короб, подвешенный к поясу, подцепила за дужки медные чечевички, покачивая на пальце, протянула Евсею. Красные с жёлтым и синим крапом финифтяные цветы вспыхнули наподобие самоцветов.
– Узорочье, – тихо проговорил Евсей. Он бережно принял подвески, задержал на ладони, любуясь. – Сказывал один торговый гость, что после цареградской финифти во всём мире на первое место выходит русская. Гордеева работа подтверждает эти слова. Много ли он вам, сиротам, на прокормление таких чудес заготовил?
– На наш век хватит, – опустив глаза, ответила Иванна.
Никому Иванна не говорила, что отцовым наследством были не поделки, что передал он другое богатство: финифтяное рукомесло. Кто станет покупать девичьи забавы? И поглядеть-то не захотят, а Гордееву работу всякий с радостью купит.
– Узорочье, – повторил Евсей, пряча подвески в обитый сукном сундучок. – Хоть сейчас на подворье беги, государыне-княгине показывай.
– До самого Суздаля будешь бежать?
Кузнецова дочь держала себя скромно. На торг приходила после полудня, когда схлынет народ. Поздоровается кто с ней – поклонится в пояс, спросят – ответит сдержанно, первая разговор не начнёт. Теперь же, когда про Суздаль заговорила, глаза подняла и усмехнулась весело. Верно, представила грузного Евсея прытко бегущим по лесной дороге.
– Суздаль далеко, княжье подворье близко. – Старый купец удивлённо покачал головой. – Или ты, лесовичка, в самом деле всё знаешь, о чём все владимирские галки благовестят?
– Расскажи, сделай милость.
– Святая икона чудо явила и коней придержала.
– Слышала. Что ж из того?
– А то, что князь Андрей Юрьевич вместе со всем двором назад воротился, во Владимире будет жить.
С торга Иванна вернулась обеспокоенная. Солнце повисло над дальними елями, готовясь скрыться за зубчатой чёрной стеной, а Дёмка с Апрей ещё не вернулись. Дёмка и прежде не раз выходил из леса затемно, скажет: «Прости, что заставил ждать, за дальнее урочище ходили» – и выставит туесок душистого мёда, отбитого у диких пчёл. Или вбежит с охапкой жёлтого зверобоя, закружится, запоёт: «Трава зверобой от всех недугов, семи братьям-богатырям верная подруга». Дёмка – лесной человек: по болоту пройдёт, как посуху, на дерево белкой взлетит. Не беспокоилась бы Иванна, если б не весть, полученная от Евсея. Она-то думала, что князь далеко, а он оказался рядом. Ехал в Суздаль – приехал назад, во Владимир. Что, если князь не выкинул из головы вчерашнее и примется ворошить «чудо»?
Иванна бросилась в лес. У старой берёзы с двумя стволами тропа распадалась натрое. Можно было, спрямив петлявшую в обход дорогу, выйти через тайное урочище к берегу Клязьмы; можно было уйти в обратную сторону, к заросшему ивняком Долгому болоту, где отец добывал руду; можно было отправиться к пчелиным борам. Какую из трёх тропинок выбрал сегодня брат?
Темнело. Птицы заканчивали вечернюю перекличку. Деревья устраивались на ночёвку, кутаясь в темноту, как в войлочное одеяло. Земля не издавала ни звука. Но что это? Иванна шагнула вперёд и прислушалась. Нет, не почудилось. Всё ближе прерывистое дыхание. Совсем рядом мелькнула быстрая тень.
– Апря, Апря, намного ли опередил хозяина?
Иванна наклонилась, чтобы потрепать замершего возле ног волка, и рука натолкнулась на что-то твёрдое. Скрученной в жгут тряпицей к загривку был привязан маленький свёрток.
– Что случилось, где Дёмка?
Волк жалобно, как щенок, заскулил.
За передними лапами под грудью Иванна нащупала узелок, но пальцы не слушались, увязали в шерсти. Узел не поддавался.
– Скорее домой.
Влетев вместе с Апрей в избу, Иванна выхватила из печи уголёк, засветила в светце лучину, ножом перерезала жгут. В свёртке оказался кусок коры. На тёмной гладкой поверхности жуками расползались вдавленные наспех неровные буквы: «Сестре – брат Дементий. Прости. Когда вернусь, всё расскажу». Не отрывая глаз от письма, словно ждала, что проступит ещё хоть полслова, Иванна опустилась на лавку. Обгоревший конец лучины загнулся, как дужка серьги, и упал в корытце с песком.
Глава IV. НОЖ С ФИНИФТЯНОЙ РУКОЯТЬЮ
Никогда бы Дёмка не оставил сестру, если бы не находка у Долгого болота. Больше года Дёмка туда не заглядывал, с той поры, как умер отец, и вдруг ноги сами собой вынесли на знакомую тропку. Много было по ней хожено-перехожено. Отец всё хотел приучить сына к кузнечному рукодельству. «Смотри, какое богатство в наследие тебе оставлю, – говорил отец, вытаскивая из вязкой топи огромные комья руды. – Болото в Богатое следует переименовать. Набито железом, как кошель торгового гостя золотом. По тростнику судить – разливалось здесь озеро. Селение, должно быть, стояло на берегу».
Пока отец управлялся с комьями величиной с бычью голову, Дёмка подготовлял для плавки огонь. Он раскалывал на чурки берёзовые поленья и думал о людях, живших у озера в стародавние времена. Ему представлялись широкоплечие с открытыми лицами охотники и рыболовы. У поясов и на шее висели обереги – волчьи клыки. Женщины расхаживали в платьях, усыпанных звёздами блёсток. В косах мерцали нити озёрного жемчуга. Имелся в селении свой кузнец. Так же пережигал берёзу на уголь, плавил руду, выделывал ножи, наконечники стрел.
Домой они с отцом возвращались затемно, складывали в кузнице вываренные из руды крицы. «Такую чистую руду поискать», – говорил отец, проковывая крицы в прутки, чтобы освободить от шлака. Тайну Богатого болота он скрывал даже от Лупана.
Продираясь сквозь ветви кустов, густо разросшихся по кромке болота, Дёмка едва не свалился в яму. Он удержался на самом краю, успев увидеть, как перепрыгнул через соседнюю яму Апря. Что за наваждение? В прежние времена, кроме угольной ямы, никаких других не имелось, а тут – ещё и ещё одна. Дёмка шёл мимо чёрных провалов, с опаской заглядывая в глубину. Апря держался рядом, любопытничал и поводил носом. Копали недавно. Мох и трава едва успели пробиться на земляных откосах. Копали в меченых местах. Насчитав двадцать семь ям, Дёмка сообразил, что все они расположены под молодыми ивами. Удивительное дело. Словно кто-то задался целью погубить развесистые деревца.
– Всем загадкам загадка, как знаешь, так и разгадывай, – сказал Дёмка Апре.
Волк поднял остроносую морду, поймал принесённую ветром пахучую струйку воздуха и потрусил по склону наверх. На гребне небольшого овражца чернели холмики свежевыброшенной земли. Подоспевший Дёмка увидел яму шире и глубже всех остальных. На дне, присыпанном густо углем, словно на чёрной подстилке, головой к закату лежал скелет.
«Правду отец говорил, что люди здесь жили. Жилища, верно, на берегу стояли, могильные холмы поверху располагались, где суше земля. А уголь – это от пищи, которую сжигали во время похорон». Дёмка присел над краем разрытой могилы и стал разглядывать истоптанное дно. Пожелтевшие кости страха не вызывали. Они были, как камни, как корни, твердью земли. Запах тления выветрился давным-давно. Чуткие ноздри волка уловили совсем иной дух – запах, оставленный могильными ворами.
Их было двое: две пары ног истоптали уголь. Один был обут в сапоги, разорванные по шву у пяток, обувкой другому служили лапти. Неказисты были грабители и не слишком удачливы. Много пришлось им принять труда, двадцать семь ям накопали впустую. Верно, только и знали, что могила находится под молодой ивой, а других примет не добыли. Богатство взяли большое ли? В стародавние времена знатных покойников обряжали в золото, самоцветы. С собой в могилу давали золотые и серебряные чаши с едой, кубки с питьём.
Дёмка подумал, что надо засыпать кости и уйти подальше от места, где сделано зло, – и вдруг вместо этого спрыгнул в могилу сам. Невнимательным ли был его взгляд вначале, когда разглядывал он скелет, или солнце, бившее сквозь ветви развороченного куста, повернуло по-иному, только Дёмка увидел то, чего не приметил раньше. Под костяшками жёлтых пальцев отброшенной в сторону мёртвой руки сиял финифтяной рукоятью оброненный ворами нож.
…В шалаше, прислонённом к двум соснам, поверх грязной тряпицы высилась груда необыкновенных вещей: чаши из серебра с желобками, похожие на рассечённую тыкву, серебряные тиснёные ленты, бусы из сердолика, бусы из серебряных бубенцов с узорными прорезями, витые в косицу браслеты с конниками на концах, шейные гривны, бляшки, очелья. Поверх возвышались золотые византийские кубки на тонких ножках. Свет вспыхивал, бежал, разливался, пропадал в комочках присохшей земли и угля, вспыхивал вновь. Солнцем горело жаркое золото, луной отливало бледное серебро. Мелкие бляшки сверкали каплями на свету, словно сквозь крытую ветками крышу пролился сказочный дождь.
По обе стороны тряпицы, поджав ноги, сидели двое. Один, одетый в потёртый кафтан из грубого домашнего сукна, склонился над самой грудой. Другой, в холщовой рубахе с бубенчиком у круглого ворота, забился подальше, в угол. Но и оттуда, подобно своему товарищу, он не сводил с груды глаз.
– Ладно потрудились, теперь без печали можно пожить, – проговорил сидевший возле тряпицы.
– Дели поскорее, брат, и давай спасать ноги, не то пропадём, – донеслось из угла.
– Ишь, заторопился. Успеем. Наше при нас останется, на двоих – маловато, на одного – в самый раз.
– Чего там – на одного, на двоих. Целому селению хватит в довольстве лет пять прожить, а то и поболе. Поспеши, сделай милость, с делёжкой, брат.
– Сколько дней в лесу прожили. Заторопился вдруг.
– Клад ведь искали, не могилу. Против покойника я бы не пошёл. Ну как он хватится утвари: где да где?
– Боишься, так мне свою долю отдай.
– Нет уж, брат, раздели по совести – и бегом отсюда.
– Заяц ты трусливый. Покойник лет двести на небе живёт, он о земном и думать забыл, а чтобы избавиться от боязни, имеется у меня надёжное средство.
Одетый в кафтан выбрал из груды два золотых кубка, отвязал от пояса глиняную сулею[8] с притёртой пробкой.
– Погоди, сделай милость, не могу я из этого кубка пить, с души воротит. Дай из сулеи хлебнуть.
– На, держи.
В углу раздалось бульканье.
– Пей, заяц, да слушай, как золото нам досталось.
– Не время сейчас, в пути расскажешь.
– Пути у нас надвое разойдутся. Охота приспела сейчас. Слушай, как дело вышло. Всё с того началось, что стал я призадумываться, отчего хозяин ходит за крицами либо один, либо с мальчонкой, меня не зовёт. Тайн кузнечного рукодельства никаких не скрывает, а лес под замком хранит. Каждому ясно, что неспроста. Думал я, думал, что за причина, и только слышу однажды: кузнец с мальчонкой сговариваются на Богатое болото идти. «Что за Богатое? – думаю. – Во всей округе нет такого прозвания». И вдруг словно меня из тумана кто вывел: клад на болоте зарыт, не иначе. Стал я часа своего дожидаться. Кузнец с сыном в лес – я за ними. Ничего. Крицы выплавили, домой воротились. Во второй раз – то же, и в третий раз ничего. Только в третий раз удалось мне услышать, как кузнец сынку выговаривал, что не хочет-де тот заниматься наследственным рукомеслом. Промеж них и раньше споры выходили, а тут явственно донеслось: «Клад не тебе передал – ивушке». «Ишь, – думаю, – бородатый леший, из-за кузницы сына богатства лишил». Сам-то я рад-радёхонёк! Первое дело – что не ошибся: имеется клад, второе дело – обозначилось место. Одно плохо. На болоте ивняк широко растёт, сам теперь видел. Под которой ивушкой-то искать? Слушай дальше, заяц косой. В четвёртый раз я в лес увязался, когда кузнец без мальчонки пошёл. «Один-то, – думаю, – должен он к кладу наведаться». Только тут он меня приметил, ветка под сапогом хрустнула, не остерёгся я.
– Ну?
– Вот те и «ну». Видишь, сколько я принял мук, а ты всё – дели да дели. Помял кузнец меня, силищи у него на трёх медведей достало. Швырнул на землю, словно кутёнка, потом говорит: «Чтобы духу твоего не было во Владимире. Встречу другой раз – ненароком до смерти зашибу». «Конец, – думаю, – утекло моё счастье». Я на колени встал, лбом в землю ударился. «Не кляни, – говорю, – что хотел вызнать тайны твоего рукомесла». – «Какие такие тайны?» – «Думал, у тебя на болоте другая кузня поставлена, подсмотреть хотел, чтобы полностью перенять рукодельство твоё великое». Помягчал кузнец. «Ладно, – говорит, – коли ради кузнечного рукодельства. Однако всё равно – уходи». Гордый он был, держал себя словно князь какой или боярин. «Уйду, тотчас уйду, сделай одну только милость: отхлебни вина в знак прощения, чтобы зло растворилось и не присохло к сердцу». Встал я с колен и сулею вот эту ему протягиваю. Она всегда при мне под рубахой висит. Не хотел кузнец со мной пить. Всё же взял он сулею, в руках подержал и отхлебнул три глотка. «Скажи теперь, сделай милость: ива-то, которой клад передал, где растёт, молодое ли деревцо или старое?» Это я так, на испуг спросил, на скорый хмель понадеялся. По-моему и вышло. Кузнец посмотрел на меня, словно я диво морское, и говорит: «Или вовсе ты дурень, или, не выпив, пьян. Ива рядом растёт, а что молода и пригожа, сам небось знаешь». Тут я сулею из рук его принял, поклонился как должно и, не спеша, из леса направился.
– А кузнец? – Сидевший в углу рванул бубенчик у ворота, словно ему стало трудно дышать.
– Кузнец-то? – ощерил мелкие зубы рассказчик. – Кузнец, должно быть, в лесу остался. Он ведь, как ты, вино мое тёмное выпил, а я, как и сей раз, – в рот-то не взял.
Дёмка с волком неслись по тропинке, протоптанной ворами в обход болота. Спрямляя путь, Дёмка продирался сквозь ветви и перепрыгивал через поваленные стволы. Он спешил. Он смутно чувствовал, что нож с финифтяной рукоятью мог подтвердить зародившуюся когда-то догадку. В том, что в могильной яме он поднял собственный нож, сомневаться не приходилось. Не у каждого князя найдётся клинок, сваренный из трёх полос: по бокам железо, средняя полоса стальная. Сколько бы ни стирались железные боковины, середина всегда проступит режущим остриём. Но главной приметой, что нож принадлежал Дёмке, служили финифтяные узоры на рукояти, сплетавшиеся в заглавное «Д», начальную букву имени Дементий. Отец с сестрой изготовили нож, когда Дёмке исполнилось двенадцать лет. Жаль, недолго пришлось радоваться подарку: пропал. «В лесу ты нож обронил», – говорила Иванна. «Лупан украл, он давно зарился на редкий клинок», – был уверен сам Дёмка. Он хотел призвать Лупана к ответу, но вскоре не до того стало, да и Лупан исчез.
Подлесок начал редеть. Низкорослые берёзы уступили место рвавшимся вверх соснам. Открылся притулившийся меж двух стволов ветхий шалаш. Рядом что-то белело. Апря резко остановился, присев от напряжения на задние лапы. Шерсть на спине поднялась дыбом. Дёмка на Апрю внимания не обратил, рванулся вперёд. Но до шалаша не добежал, тоже остановился. Ноги сами собой приросли к земле. В ушах пошёл гул.
Перед входом в шалаш, запрокинувшись навзничь, лежал мужичонка в разорванной по вороту белой рубахе, в перепачканных углем лаптях. Глаза мужичонки мёртво и пусто смотрели в небо. На лице и на шее под встрёпанной бородой синели неровные пятна. Дёмке пришлось однажды видеть такие.
Медленно, чуть не ползком, приблизился волк, поднял морду, завыл. Дёмка заглянул в шалаш. Внутри было пусто, только у входа валялась оброненная золотая бляшка. Дёмка обошёл вокруг шалаша – никого. Убийца покинул место, где совершил преступление. Дёмка отсёк от старого дерева пласт коры. Он двигался, словно во сне, но голова его работала ясно. Мысли звено за звеном собирались в единую цепь. Получалось страшное. Чтобы завладеть всей добычей, один из могильных воров избавился от другого. Убит мужичонка той же рукой, что умертвила отца. В могильной яме убийца оставил украденный ранее нож. А так как нож был украден Лупаном, то из этого следовало неопровержимо, что убийцей отца был Лупан. Дёмка оторвал взгляд от коры, на которой ножом выдавливал буквы, поднял голову. Он догонит убийцу, в лесу ли тот или успел выйти из леса. Он найдёт его, если даже придётся искать всю жизнь. Если понадобится пересечь все земли, переплыть все моря, он сделает это.
– Отправляйся домой, – сказал он Апре. – Твоё дело – оберегать сестру.
Глава V. КНЯЖИЙ ЗОВ
Окружённый сыновьями и родичами Андрей Юрьевич, в синем с красной каймой корзне, накинутом поверх узорчатого кафтана и заколотом на плече полыхающим яхонтом,[9] стоял на открытой площадке высокой угловой башни. Внизу по обе стороны расходились дубовые плахи стен, вознесённых владимирскими градниками на гребни насыпных валов. Без года полвека назад заложил Владимир Мономах город-крепость и назвал своим именем. Полвека и для людей не срок, для города – вовсе малость, однако разросся дедов Владимир. На закат поднялись строения нового княжьего подворья, с теремами и белокаменной церковью; на восход, где шустрая речка Лыбедь сворачивала к могучей своей сестре полноводной Клязьме, потянулось околоградье-посад.
Синие тени от облаков, проплывая над избами и землянками, задевали островерхие крыши, не спеша сползали в овраг и, выбравшись, тихо скользили по золотистым коврам полей, раскатанным до самого леса. Со стороны иссиня-зелёной клязьминской поймы тянуло лесными запахами. Река уходила в тёмные глуби мохнатых лесов, уводя за собой взгляд. До боли в груди, до обжигавших горячих слёз князь любил эту землю, прикрытую бронёй горделивых молчальников-сосен, шумливых нарядных берёз, одетых в лишайник нахмуренных елей. Он знал, что стоявшие рядом чувствуют так же, как он. И словно в подтверждение, Яким Кучков негромко проговорил:
– Под Вышгородом в эту пору столбами кружит душная пыль. Степь до самого Киева ровнее скатерти расстилается. Глазу не за что уцепиться, один сизый ковыль. А здесь – холмы округлые, леса плавные, быстрые реки извилисты.
– Должно быть, птица, паря по поднебесью, линии обвела, – подхватил Пётр, заскучавший от долгого молчания.
Все разом заговорили, сравнивая Южную Русь с Залесьем. Леса для всех были родиной, степи – чужбиной, и сравнения выпадали для Киевщины обидные.
– Реки у нас серебряные, по лугам изумруды рассыпаны, поля в золотой оковке. А там, чуть лето наступит, злаки свернутся, серо кругом от высохшего бурьяна.
– Главное, суетно Киев живёт – пиры да веселье. Мизинный народ разорили поборами, недаром целыми семьями срываются с места и подаются сюда. В Залесье уйти – уберечься.
– Земли здесь много, лесов с диким зверем достаточно, воды с рыбой обильно. На Киевщине не так.
– Одно только и есть общее, – рассмеялся Пётр, тряхнув выбившимися из-под шапки кудрями. На суконном околышке зазвенели нашитые бляшки. Взмахом руки в переливчатом поруче молодой боярин обратил все взоры к неширокой подвижной Лыбеди. Серебристая река, определявшая внизу под склонами границу северных стен, была тёзкой речки под Киевом.
Убегая в леса от боярских поборов, от половецкого разорения, приносили люди на новые земли щепотку родной землицы и знакомые с детства, родные названия.
– Боярин Пётр в другой раз киевскую Лыбедь к месту упомянул. – Андрей Юрьевич развернул плечи в сторону Петра. Голову с надменно задранным подбородком князь всегда держал неподвижно, поворачивался всем корпусом. – Однако забыл боярин добавить, что Лыбедь под Киевом то ли помнит дела наши ратные, то ли на дне потопила. На быстрой воде не удержатся кровавые письмена. Иное дело – летопись из камней. Каменные строки волны не смоют, половодье не унесёт. Отныне слагаю я меч святого Бориса. Притупился в гибельных он усобьях. Залесские земли укреплять хочу не войной – миром. Видится мне стольный город разросшимся, ладно устроенным, изукрашенным златоверхими церквами. Не пламя пожарищ, не тучи стрел, а белые стены и разноцветные кровли отразит в быстрых водах новая Лыбедь. Конь силой гордится, хозяин – крепким подворьем. Стены возводить будем.
Грубое широкоскулое лицо, отталкивающее при вспышках гнева, сделалось привлекательным, едва заговорил князь о мире. В одушевившихся чертах проступили лучшие качества изменчивого характера: правдолюбие, доброжелательность, воля. Ни словом князь не обмолвился о заветном желании собрать вокруг нового стольного города русские земли, как в прежние времена сумел собрать земли Киев. Дерзкой была эта мысль.
Князя Юрия Долгоруким прозвали за то, что из дальнего Суздаля к Киеву руки тянул. Олег Святославович разжигал кровью усобицы. Его в Гореславича перекрестили. Меткими прозвищами народ наделял князей. И мечталось Андрею Юрьевичу, что ему дадут прозвище, как Ярославу Мудрому дали, по великим делам его.
Он обвёл загоревшимся взглядом своих сподвижников и повторил коротко, властно:
– Возводить стены будем.
Гусельники и гудошники, распевая песнь об удали князя Андрея, не забывали похвалить его деловые качества: «Как далече-далеко во чистом поле, ещё того подале – во раздолье князь Андрей свои полки составил ладно, позаботился о конях и оружье». Персидский посол отзывался о князе как о «мудром оплоте престола». «Сын Киевского властителя столько же храбр, сколько и умён, столько же расчётлив в своих намерениях, сколько и решителен в исполнении», – писал в своих донесениях французский посланник. Подобно деду, Владимиру Мономаху, Андрей Юрьевич держал все дела в разумном порядке. Решение принимал не сразу, приняв – не менял, заранее обдумывая, как приступить к делу. Произнесённое вслух слово о стенах означало, что многое к тому было уже подготовлено.
Князь Юрий Владимирович закладывал крепости: Переславль у Клюшина озера, Звенигород на Нерли, Москву на Москва-реке, Юрьев-Польский посреди открытого поля. Наблюдать за постройкой предоставлялось сыну. Лучше других Андрей Юрьевич знал, что убранство и прочность строений зависят от градников. Градники хоромы поставят, крепость-детинец[10] возведут, гридницу изукрасят резьбой. Но чтобы строение, как мудрая книга, мысль содержало и о великом с людьми беседовало, одними камнеделами и плотниками не обойтись. Разработать первоначальный план, определить облик здания и привести в дружественное согласие размеры отдельных частей мог только зодчий, познавший все хитрости строительного мастерства. В народе говорили – хитрец.
Где, в какой земле неведомой, проживал хитрец, способный сложить из камня мечту о единстве и мире?
Андрей Юрьевич кликнул клич: «Приходить во Владимир всем рукоделам, кто может срубы рубить, стены ставить, камни теслом тесать, наиважнее всего устроителям всяких зодческих планов и хитростей». Гонцы понесли княжий клич во все ближние и дальние земли, во все окрестные государства.
Призвав казначея, Андрей Юрьевич распорядился:
– Тому, кто пожелает хоромы расширить или новую избу срубить, выдавай ссуды, как при отце делалось, да не скупись, сделай милость, беднякам со скидкой давай.
– Слушаюсь, князь Андрей Юрьевич, – согласно кивнул казначей. – Невелика ныне казна, в дороге порастрясли сундуки, народ в городах одаривая, да на святое дело не жалко.
– Градники собрались, как велел?
– В Присенной горнице дожидаются.
В просторную горницу, расположенную возле сеней, Кузьмище Киянин вошёл в разгар беседы. Староста плотницкой артели, сухонький, плешивый старик с жилистыми руками, наставительно говорил:
– Крепость строить – войну беспокоить, избу рубить – мир крепить.
Сказанное Кузьме понравилось, он записал эти слова.
– В Вышгороде, где ты проживал, князь-отец наш, – продолжал степенно старик, нимало не смущаясь беседой с князем, – лет за сто до тебя замечательные своим рукодельством плотники проживали, руби-топор, Миронег и Ждан-Никола по имени.
– Знаю, старик, в летописи читал.
– Главное, за что они в летопись-то попали? За то, что на многие годы строили, руби-топор. В плотницком деле поспешка во вред. Чтобы внукам и правнукам строение передать, для этого по всем законам рубить надобно.
– Неужто до следующего года ждать? – Андрею Юрьевичу не терпелось начать работы по расширению крепостных стен.
– В конце весны, князь-отец наш, и начнём, а ещё того лучше – в начале лета. К зиме землекопы прокопают рвы, соединят верховья оврагов. Мы тем временем брёвна заготовим. Зима – время рубки, руби-топор, лето – время строить. Знаю я один боровой лес. Место сухое, высокое. Стволы подберём потолще да поровней. Волокно на срубе будет глядеться, что твоё зеркало.
На лице князя выразилось нетерпение. «Сейчас вспылит, – подумал Кузьма. – Старика плотника взашей погонит». Но князь не вспылил, и плотник как ни в чём не бывало продолжал свою неспешную речь, то и дело вставляя «руби-топор».
– На нижние венцы лиственницу подготовим, руби-топор. Лиственница и ель сырость не пропускают, крепко стоят. Изнутри сосну приспособим. А чтобы ты не гневался, князь-отец наш, на моё несогласие работы по осени начинать, потешу тебя одной тайностью. Стены мы так устроим, что, коли осада случится и враг задумает подвести подкоп, пусть хоть ночью копает, когда темно, пусть хоть бубнами заглушает работный гул, всё одно работа его тайная в крепости явной скажется. Сразу узнаешь, что враг орудует под землёй.
– Как же так, если не видно, не слышно?
– На деле покажу, князь-отец наш, пустое слово не вымолвлю, руби-топор. Да и тебе недосуг со мной, мизинным человеком, длить разговор. Боярин к тебе пожаловал.
В дверях показался Яким, выжидательно посмотрел на князя.
– С делом?
– Важнейшим.
Плотник вышел. Кузьма последовал за ним.
– Как звать тебя, мастер?
– Федотом крестили, прозвище дали Руби Топор.
– Скажи, Федот, сделай милость: велика ли твоя артель, как обязанности распределяешь?
– Сколько пальцев на руках и ногах, такова и артель. Каждый палец равно на месте и одинако дорог. А для чего ты слова мои простые на берёсту записываешь?
– Для того, что немалое место в летописании займёт рассказ о градниках, с чьей помощью рос и мужал Владимир.
В Присенной горнице разговор тем временем шёл другой.
– Дурная весть подоспела, князь-государь Андрей Юрьевич, – начал Яким, словно трудную ношу сбросил. – Варисий докуку привёз. В самый тот день, когда мы оставили Вышгород, он, напротив того, возвернулся и по нашим следам сюда поспешил.
Князь сдвинул брови. Варисий, торговый гость, был отправлен в Царьград с кожей и куньим мехом. Вобрат его ждали с тонкими сукнами, нарядными тканями и особо ценимыми князем иконами строгого византийского письма.
– Варисию надлежит находиться при лодках с товарами, а лодкам, по всем расчётам, сейчас по Дунаю идти.
– Иван Берладник расчёты спутал. Товары, в Царьград плывшие, доставлены в город Берлад.
– Опомнись, Яким, князь Иван в оковах сидит, в земляной яме. Вряд ли великий князь ослушника выпустил.
– Верно, что сидит Иван Берладник в оковах, но и то верно, что берладники – голь перекатная – его именем грабят торговых гостей и награбленное раздают такой же, как сами, голытьбе. Варисий говорит: сбились в сотни, сотских назначили. Прикажи – кликну Варисия, он в сенях сидит, дожидается.
Андрей Юрьевич не ответил, задумался.
Было время, любил он князя Ивана, как брата, сочувствовал его бедам. Старшие родичи обездолили князя, лишили удела. Всего-то и был городок Звенигород близ Галича на Днестре. Коварный и хитрый Владимирка Галицкий, объединяя земли, отнял Звенигород. Доставшийся взамен неказистый Берлад с клочком земли между реками Прутом и Сиретом ни положения не мог принести, ни казны. Зато имелась у князя Ивана Берладника казна особая: было золото – доброе сердце, серебро – вольный нрав и молодецкая удаль. Начали в Берлад стекаться мизинные люди, боярами обездоленные или детскими по миру пущенные. Иван всех привечал. В ответ берладники за своего князя готовы были жизни отдать. Вместе носились по всей Руси. Где вспыхнет усобица, там и Иван Берладник впереди своей вольной конницы. О ком думал: «С ним истина», тому и спешил на подмогу. Меч и копьё имел неустрашимые. Служил Иван Святославу Новгород-Северскому – не поладил, ушёл к Ростиславу Смоленскому – и того покинул, союзничал с Юрием Владимировичем, когда тот прозывался ещё князем Суздальским, – так же ушёл. Как норовистый конь, Иван не терпел узды. Чуть не по нём, громким посвистом созывал своих молодцев и под грохот бубнов и пение труб покидал неугодного князя. Птица перелетает с места на место – человеку пристало избрать один путь. Вот и захлопнулась клетка. Великий князь Юрий повязал Ивана Берладника, бросил в яму. Недолгое время продержал в Суздале, потом перевёз в Киев. Лишившись предводителя, берладники приутихли, не видно стало, не слышно. Теперь, значит, снова зашевелились.
– Как думаешь, Яким: откуда у берладников смелость взялась мои ладьи грабить? – спросил Андрей Юрьевич.
– Ума не приложу. Прикажи Варисия крикнуть, он в сенях сидит, твоего прощения дожидается. Из первых уст всё узнаешь.
– Не надо. Довольно того, что от тебя узнал. Торговому гостю скажи, что вины на нём не держу. В другой раз снарядим при товарах охрану. Да, сделай милость, распорядись, чтобы камнеделам и плотникам повсеместно подмогу оказывали. И как посоветуешь: не послать ли сыновей за камнем на Клязьму и Москва-реку? Пусть привыкают. Возводить города – дело княжье.
Глава VI. БЕЛЫЙ КАМЕНЬ ИЗВЕСТНЯК
След вывел Дёмку к большому плоскому камню, торчавшему среди леса наподобие скамьи. Трава и вереск вокруг полегли на самую землю. «Долго топтался», – подумал Дёмка. Он подошёл к камню, провёл рукой по мелким царапинам, едва различимым на гладкой поверхности. «Кувшины и кубки, должно быть, сминал, чтобы сподручней было в мешке нести».
Камень с царапинами указал, что направление выбрано верное. В другой раз, куда держать путь, Дёмка разведал в кузнице, черневшей с края селения. Избы расположились по обе стороны проезжей дороги. Кузница встала поодаль.
– Значит, ты сын Гордея! – Кузнец встретил Дёмку, как дорогого гостя. – Кто же о Гордее не слышал? Среди мастеров мастером был. Сам кузнечишь или мал ещё молот держать? Оставайся у меня заместо брата, а хочешь – подручного.
– От товарища я отстал, – решил соврать Дёмка. Он не мог объявить правду. – По важному делу отправились, да разминулись в лесу. Не проходил ли мимо? Собой не старый, борода клочковатая, глаза близко к носу бегают.
– Щербатый, без переднего зуба?
Дёмка поспешно кивнул головой.
– Проходил, как есть проходил. Ночевал в кузне.
– Давно?
– Две ночи минуло. Пришёл под вечер. «Пустишь на ночёвку?» – «Не выгонять же», – говорю. Проходимцем показался мне твой товарищ, не обессудь. Он глазами вокруг обшарил, приметил, что горн топится. «Дозволь, – говорит, – хозяин, горн не гасить, иззяб я. За доброту и огонь заплачу», – и сунул мне в руку пять золотых бляшек. Я тиснённый узор рассмотрел и принял, не удержался. «Пожара, – говорю, – опасаюсь». – «Не малолеток, к огню привычен». Утром прихожу – горн горячий, щербатого и след простыл и тигля одного не хватает. Зачем он ему понадобился? Или вместо горшка прихватил?
«Известно зачем, – подумал Дёмка. – Ночью золото переплавил и с тиглем унёс».
– Говорил, в какую сторону повернёт?
– Не обмолвился. Прямоезжая дорога у нас одна, на реку Москву выводит. А лучше всего оставайся. Опередил он тебя намного, вряд ли догонишь.
– Ничего, догоню.
Кузнец положил в мешок лепёшки, сало, овечий сыр.
– Возьми, в пути пригодится.
– Спасибо.
– Да прошу, сделай милость, верни своему приятелю его добро. Никогда за постой платы не брал, а тут словно бес попутал, – кузнец протянул в горсти золотые бляшки.
Достаточно было взгляда, чтобы увидеть: точно такую Дёмка поднял в лесном шалаше.
– А как не встречу? Сам говоришь – опередил он намного.
– Делай тогда что хочешь. Хочешь – в реке потопи, хочешь – невесте будущей на потеху оставь. Работа искусная.
Дёмка коснулся рукой земли, выпрямившись сказал:
– Пусть пошлёт тебе удачу бог кузнецов Сварог.
Священники запрещали упоминать старых богов. Кузнец огляделся по сторонам, но тут же рассмеялся над собственной опаской и, как равному, поклонился Дёмке большим поклоном.
– Спасибо на добром слове, будет нужда – приходи.
Утоптанная, исхоженная, иссечённая колёсами дорога тянулась через заросший кустарником лес. Чёрные ели или березняк подступали к самым обочинам. Неожиданно стволы раздвигались. Открывалось озеро с рыбачьими лодками, замершими над собственным отражением. За распаханными прогалинами появлялось селение: избы, окружённые частоколом, землянки и клети, вспучившиеся наподобие нарытых кротом холмов.
Дёмка спрашивал у жителей: «Не проходил невысокий такой, клочьями борода, щербатый?» Кто отвечал: «Много мимоходящих топчут дорогу, всех не упомнишь», кто говорил: «Проходил, своими глазами видел». – «Давно ли было? Отстал я». – «День с ночью и полдня минуло».
В большом селении, постучавшись по избам, Дёмка услышал: «Ночевал, в Берлад сманивал». – «В Берлад?» – «А сам не туда разве? Вместе, говоришь, шли». – «Вместе… туда…» – «Поспешай, коли догнать решился».
Дёмка сокращал расстояние, как только мог. Спать ложился, где заставала густая темень, вставал до света.
– В полдень пил у колодца воду, – сказала старуха в другом селении. – Солнце, глянь, ныне под землю катится, а тогда в самой небесной серёдке стояло.
«Всё, – сказал сам себе Дёмка. – Завтра догоню». Он не знал, как поступит, догнав Лупана, но сердце снова забилось часто, как тогда, у разрытой ямы, где он поднял свой нож.
За околицей показался мужик. Он шёл, опираясь на суковатую палку, и волочил набитый мешок.
– Ты что, сосед? – закричала старуха, забыв про Дёмку. – Уходил на шести ногах – на трёх возвращаешься?
– Продал коняшку, все четыре ноги как есть продал. Попался по дороге плюгавый такой, быстроглазый, цену сходную предложил. Не удержался я – продал.
– Щербатый? Золотыми бляшками расплатился? – бросился к мужику Дёмка.
– Что за расспросчик нашёлся, из боярских прихвостней? – озлел вдруг мужик и, оттолкнув Дёмку, скрылся за избами.
– Пропал ты, парень, – сказала старуха. – Конный пешему не товарищ. Теперь не догонишь, как ни спеши.
– Догоню.
«Догоню, – твердил Дёмка, отмеряя дорогу. – В Киеве ли, в Берладе – всё равно догоню».
«Догонишь-догонишь», – шептали берёзы. «Догонишь», – ухали ели. Ветер шевелил косматые лапы, летел дальше и длинно свистел: «Догонишь-догонишь-догонишь…»
Луна успела сменить обличье, из лепёшки перевернуться на серп, когда голодный и оборванный Дёмка вышел к Москва-реке.
В пойме Москва-реки и её правого притока речки Пахры добывали известняк. В уступах высоких, размытых волнами берегов расположились каменоломни, и от отцов к сыновьям повелось селениям Мячкову, Тучкову и Домодедову находиться при камне.
– Все мы тут с камнем повязаны, – сказал хозяин приземистой крепкой избы, куда толкнулся усталый Дёмка. Солнце с лучами-месяцами, вырезанное над входом, поманило войти.
– Ешь, да грейся, да сказывай, куда путь-дорогу держишь, как зовут-величают. Меня Гораздом назвали, жену – Вивеей. Дочку определили мы Дарьей быть – Дарёнка значит.
Качавшая люльку Вивея выглянула из-за печки и весело закивала головой. В люльке попискивала Дарёна.
Горазд поставил перед Дёмкой миску с дымящейся чечевичной похлёбкой, сел и приготовился слушать. Был он кряжистый и основательный, как стоявшие у стены стулья-долблёнки из цельных пней. Широкими плечами и бородой Горазд напомнил Дёмке отца.
– Дёмка, Дементий я, иду из Владимира.
– Ишь, а наши, напротив, собрались во Владимир. Дождусь, когда Дарёнка из люльки выползет, и тоже во Владимир подамся, силы в камне пытать. Князь Андрей мастеров созывает, слышал?
– Не слышал, раньше, должно быть, ушёл.
– Что же без отца-матери и налегке?
Сам не зная, как получилось, Дёмка рассказал про кузницу за посадским оврагом, и про отцову смерть, и как стала ему вместо отца и матери сестра Иванна. Одно утаил: зачем и куда путь держит. Закончил так:
– В южные земли иду, а что налегке – не успел собраться.
Горазд внимательно оглядел Дёмку, словно прикинул, чего тот стоит, вопросов больше задавать не стал.
– Приставлю-ка я тебя, Дёмка-Дементий, к камню, обучу, чему сам от отца своего научился.
– За доброту спасибо, только мне поспешать надо.
– Лето на осень поворотило, недолго до холодов. Наживёшь сапоги, тулуп, съестные припасы – тогда поспешай.
Горазд хитрил. Большеротый мальчонка с открытым взглядом и упрямым изломом бровей пришёлся ему по сердцу. И еду, и одежду, чтобы сменить подбитую ветром рубаху и запросившие каши порванные сапоги, – всё бы он Дёмке дал. Запасная одёжка лежала в подклети. В погребах-бочках, врытых в землю и заваленных камнями от крыс, хранились сало и сыр. Оставлял он Дёмку из-за другого: не след недоростка-мальчонку отпускать в одиночку в дальнее странствие. Пропадёт на дорогах один.
– Слышал про Москву? Мы у нее под боком. Мал город, да дорог, ключом всем дорогам приходится, в серёдке стоит. Хоть из Смоленска в Рязань идти, хоть из Владимира на Чернигов и Киев подайся – Москву не минуешь. Потянется на юг торговый обоз – с попутчиками тебя и отправлю, против воли не задержу.
– Сказывают, непокорный боярин Кучка там жил, да великий князь Юрий обезглавил его за дерзость. У нас Москву Кучковом называют. – Дёмка задумался, помолчал, через малое время добавил: – Правда твоя, без сапог мне не дойти.
– Вот и ладно, коли согласен.
На выработках Дёмке понравилось. Сколько раз отец пытался приспособить его к железу – не получилось, а камень сразу заворожил. Был он тёплый, ноздреватый, напоминал задетый весенним солнцем смёрзшийся снег.
– Где возводят строение, там известняк.
Горазд протянул Дёмке молоток-киянку с короткой рукоятью, зубила-закольники и похожую на молоток бучарду с зубьями по всему бойку.
– Стены выкладывать – известняк, фундамент устанавливать – известняк, щебень на известь бить – снова он. В работе удобен, к жаре и морозу устойчив. Что крепок, сам сейчас убедишься. Большим закольником скалывай большие куски, тонкий – приспособь для обработки помельче. Ты, главное дело, смотри. Глазами переймёшь – руки сами повторят.
Последние слова прозвучали под дробный стук. Рядом с Гораздом расположились пять камнесечцев. Металл забил о металл, металл ударил по камню.
Работали камнеделы артельно. Добытчики, с помощью клиньев и молота-«кулака» пробивая бороздки, отсекали от жилы большие неровные глыбы. Правильную форму глыбам придавали мастера-камнесечцы. Ровные стенные плиты длиной в полтора-два локтя в ожидании отправки лежали на берегу. Зимой камень везли санным путём, летом сплавляли по рекам. Гружённые плитами, щебнем и бочками с известью плоскодонные судёнышки-шитики уходили по Москва-реке на Клязьму. В морозы, когда выемка камня приостанавливалась и работы велись только в двух или трёх наклонных колодцах с круглыми световыми устьями, камнеделы превращались в судостроителей. Валили лес, сбивали судёнышки.
– Московские шитики с камнем до самой Оки воду режут, – сказал Дёмке Горазд.
Закольник в руке Горазда перемещался безостановочно, как стерженек по берёсте строка за строкой. «Стук-стук-перестук». Закольник вёл свой рассказ. «Скол-скол». Струйки пыли и белой крупки брызгали по сторонам. На ровной поверхности камня оставалась мелкая рябь. «Стук-стук-перестук, скол-скол». Дёмке казалось, что камень долбит огромный железный дятел.
– Дозволь самому попробовать.
Горазд выбрал глыбу поменьше, показал, с чего начинать. Дёмка приставил скошенный острый закольник к выпиравшему горбом уступу, с силой ударил. Закольник дёрнулся, соскочил, процарапал бороздку. Второй удар выбил вмятину, третий – сбил край.
– Бей, не жалей! Труха на известь пойдёт, – крикнул камнесечец с жёлтым худым лицом и втянутыми щеками. Уложив на деревянную лагу плиту, он вгонял и поворачивал железный бур, разрывавший камень на две неравные части.
Дёмка нахмурился и опустил голову.
– Помолчи, сосед. Чем лишку болтать, вспомни лучше, как сам начинал, – вступился за Дёмку Горазд.
– Да разве я в обиду? Все начинали с порчи. Сколько, бывало, наковыряешь, пока руки поймут, под каким углом закольник держать, с какой силой бить.
Вечером у Дёмки горели ладони.
– Не наскучила наша работа? – спросил Горазд.
– Нравится, – ответил Дёмка.
– У тебя пойдёт. Камень любит настойчивых.
– Много его залегает в земле, откуда известно, где брать?
– Известняк и у вас, под Владимиром, имеется. Здесь поболе. Кто к камню привычен, сразу видит, где жила на поверхность выходит. Тут человек один объявился, так он под землёй камень чует. Палец вытянет: «Здесь долбите, камень мелкозернистый. А здесь не трогайте. Поры крупные, – не камень – стоялый гриб».
– Что за человек такой?
– Сами не знаем. Пришёл. Нас земляками назвал. «Много, – говорит, – чужих земель исходил. Теперь у вас, земляки, поучиться хочу». Только и вымолвил слово. А откуда родом – из Суздаля, Ростова или Звенигорода – этого не объявил. Имени даже не знаем. Он молчит. Мы вопросы задавать остерегаемся, чтоб за обиду не принял. Строителем промеж себя зовём. Первоначально прозвали Меченым. Рыжий он. Брови, волосы, борода – всё солнцем отмечено. Потом увидали, что натаскал он на берег груду осколков. То радугу-дугу выложит, то стены возведёт. А другой раз из мокрого песка целые палаты соорудит и сам же разрушит. Рукой поведет – нет ничего. Потом снова выстроит. Вот народ Строителем и прозвал.
Глава VII. В БЕРЛАД
Побежали дни, наполненные работой. Камень казался Дёмке живым существом, не таким весёлым и умным, как Апря, но также имевшим свой нрав. Глыба заметно разнилась с глыбой. Одна поддавалась легко, красуясь потом ровными боками. Другая сопротивлялась, угрожала недобро: «Трещину дам, трещину дам». После первых неудач рука привыкла держать закольник. Металл замирал, зажатый в ладони, весело выбивая: «стук-стук-перестук, скол-скол».
В свободное время Дёмка спускался с кручи к реке и подолгу смотрел на груды мелкоколотого известняка. Камушки напоминали уменьшенные стенные плиты и несли в себе тайну. Бесформенными валами тянулись вдоль берега разрушенные палаты. Дёмке хотелось увидеть, как действуют своенравные руки, когда создают и когда разрушают. Но Строитель и не появлялся.
– Взрослый, не малолеток, зачем в игрушки играет, строит из камушков и песка? – допытывал Дёмка Горазда.
– Примеривает, должно быть, как камень с камнем союзничают, как рушат друг дружку, как стены крышу несут.
– Сам-то где, почему не является?
– Кто его знает, с нами в одну артель не повязан.
Вскоре Дёмка забыл о Строителе, другое его привлекло.
– Известняком можно стены украсить не хуже, чем росписью, – обмолвился однажды Горазд.
– Как же так? – удивился Дёмка. – Плиты все в один цвет.
– Известняк на себя хорошо принимает узоры. Цвет один остаётся, а камень играет, словно финифть.
– Покажи, сделай милость.
Горазд выбрал из груды плит самую ровную, поднял на лаги и застучал по поверхности медной киянкой.
– Простукиваешь зачем?
– Если внутри есть трещина, звук раздастся глухой.
Камень звонко отзывался на лёгкие постукивания бойка. Горазд углем нарисовал птицу, примерившись, чтобы рисунок пришёлся на середину, и по плите заходил закольник.
– Киянку бери медную, – не отрывая глаз от плиты, пояснил Горазд. – От неё удары смягчаются. Поле снимай крупным закольником, а как за рисунок примешься, бери тонкоокованный.
– Чтобы не сбить рисунок, – кивнул головой Дёмка.
– Вокруг углем намеченного выбери глубоко, каждую чёрточку углуби. В провалах тени залягут. Низкое потемнеет, высокое высветлится, и заиграет камень лучше раскрашенного.
Чем дальше продвигалась работа, тем ясней проступала из камня птица со вскинутыми кверху крыльями и распадавшимся на волны хвостом. Ни ласточка, ни голубь, ни тетерев. Птица была просто птицей, похожей на тех, что выводила финифтью Иванна.
Дёмка стал дожидаться часа, чтобы попробовать самому.
Камнедобытчики продолбили новый колодец и напали на жилу невиданной толщины. Камнесечцы отправились на подмогу. Когда приходила нужда, вся артель становилась камнедобытчиками или, напротив, все принимались за обработку плит. Дёмку к подъёму камня не подпустили: «Силу в руках нагуляешь – тогда берись за канат».
Дёмка не огорчился, у него имелась своя забота. Он достал припрятанный накануне кусок желтоватого известняка с двумя вмёрзшими ракушками – можно было подумать, что камень глядит. И пока, обхватив канатом отторгнутую от породы глыбу, артель выкрикивала: «И-и раз! И-и взяли! Пошла, пошла!» – Дёмка занялся собственным делом. Он обвёл ракушки-зрачки овальными желобками – получились глаза. Протянул отвесную линию – нос, две поперечные чёрточки – губы. Осторожно постукивая киянкой и чувствуя, как поддаётся камень, Дёмка думал о сестре. Ему хотелось передать высокие скулы, лёгкие впадины в уголках рта, узкий маленький подбородок. Но когда он кончил работу, Иванна исчезла. Из камня, раздвинув щель рта, ракушечными глазами смотрела круглая лупоглазая луна. Дёмка в сердцах вонзил в землю закольник – и вдруг обернулся, словно толкнули его в плечо.
Сзади стоял человек и разглядывал камень.
Если бы даже не рыжие волосы и отливавшая медью стриженая борода, Дёмка всё равно бы узнал Строителя. Ни князь, ни боярин не могли отличаться такой горделивой статью. Никто другой не мог иметь такого спокойного и властного лица.
– В камне душа спит, – услышал Дёмка, словно издалека. – Камнесечцу должно её разбудить. Пока не разбудит, камень не заговорит. – Слова падали тяжело, как капли расплавленного металла.
Дёмка хотел что-то ответить, о чём-то спросить. Он вскочил, в поклоне коснулся земли. Когда выпрямился, увидел, что Строитель уходит. Поступь была неспешной и важной. Сосны, росшие на склоне, казалось, выстроились для приветствия.
Сам не зная, откуда набрался смелости, Дёмка крикнул:
– Скажи, сделай милость: что ты строишь на берегу?
– Мысли свои в порядок выстраиваю, – не повернув головы, ответил Строитель.
Вечером Дёмка слово в слово передал Горазду весь разговор.
– Одно не пойму, – закончил он сокрушённо. – И лицо, и походку, и стать, даже кафтан нездешний – всё разглядел, а вот молод он или стар – не разобрался. По лицу – молод, и седины в волосах не приметил, а по глазам вроде бы стар.
– Мудрые у него глаза, – подала голос Вивея.
В Москву на восьми телегах прибыл торговый обоз, поспешавший на юг. Верный своему обещанию, Горазд попросил купцов, чтобы взяли с собой до Киева его малолетка-сынишку. Он сам взвалил мешок на телегу, обнял Дёмку за плечи.
– Насчёт сына я не обмолвился. Помни про это. В мешке кроме припасов найдёшь всё, что требуется для работы.
Ушёл торговый обоз.
Дорога стёрла мысли о камне. Вновь важнее всего сделалась встреча с Лупаном. Скорей бы. В мешке при сильных толчках на ухабах позвякивали закольники. «В Берлад, в Берлад», – чудилось поспешавшему рядом Дёмке.
Двигались быстро, на длительные стоянки не располагались. Во время одной из ночёвок Дёмка услышал, как купцы говорили друг другу:
– Зиму проторгуем в Киеве, когда же Днепр после весны войдёт в берега, двинемся через семь порогов.
– Хлопотное дело. Прошлым летом у Ненасытинского порога все товары на берег вытаскивали. Лодки на дубовых катках, как возки, по сухой земле волокли.
– Пороги одолеем, дело привычное. Другое плохо: припозднились сильно мы нынче. Поспеть бы до больших дождей. Беда, если развезёт дороги, застрянем в лесу до самой зимы.
– Это наши отцы через лес не пробились бы. Ныне иначе. Спасибо Юрию Долгие Руки – проложил прямой путь.
Купцы помолчали, потом снова повели разговор.
– Хорошо бы изловчиться, в Галич по пути завернуть, соль припасти взамен пушного товара.
– Хорошо-то хорошо, да плавание по Днестру ныне опасно. Того и гляди, берладники товар расхитят.
– О-хо-хо, – протянул один из купцов. – Тихий стоял Берлад-городок, пока не достался в удел князю Ивану.
Купцы сокрушённо покачали головами.
Правы были торговые гости. Берлад забыл о тишине. Какая может быть тишина, если собрались вместе сотни вооружённых людей и вперемежку с глиняными домами-мазанками выстроились шатры и палатки? Мирный торговый город с пристанью и складскими амбарами превратился в военный лагерь. «Кто таков, откуда и с чем идёшь?» – спрашивали стражи каждого, кто входил в городские ворота. «Разрешение на выход имеешь?» – спрашивали у тех, кто собрался покинуть Берлад.
Начало всему было положено в холодный осенний день.
Сыпал дождь. Капли барабанили по слюде, будто бросали их пригоршнями в оконца жарко натопленной сводчатой горницы. Великий князь Киевский находился в скверном расположении духа. Болело плечо, перехваченные перстнями пальцы ныли в суставах. Ещё больше, чем немочи, одолевала тоска. Пиры надоели, перестала смешить скоморошья потеха, прискучила травля зверей. Не зазвать ли на гостевание дочь Ольгу с супругом Ярославом Владимировичем Галицким, прозванным Осмомыслом? Тут великому князю вспало на ум, что год без малого миновал, а он до сих пор не одарил зятя. Дважды во время борьбы за киевский стол оказывал Осмомысл подмогу. В первый раз в битве под Луцком сам принял участие. Во второй раз прислал от себя вооружённый полк. Подобного рода услуги требовали в ответ не безделки какой-нибудь. Значительным должен быть дар.
Князь призадумался, перестал ходить из угла в угол, как делал всегда при плохом настроении, хлопнул в ладоши.
– Ивана Берладника, – приказал он явившемуся слуге.
Узника ввели двое стражей, вооружённых острыми бердышами на длинных древках.
– Ждите за дверью, – отмахнулся от стражей великий князь. – Ты же, Иван Ростиславович, сделай милость, приблизься.
Придерживая цепи, чтобы не гремели, Иван Берладник пересёк горницу. Не доходя трёх шагов до княжьего кресла, поклонился, тряхнул неприбранными кудрями, обнажил в улыбке белые зубы. Был князь горбонос, темнокудр, взгляд имел огненный, а улыбался, как дитя малое, сразу во всё лицо.
«Не обломала клетка соколу крылья», – зло подумал великий князь. Вслух произнёс добродушно:
– Подобру ли здравствуешь, Иван Ростиславович? Хорошо ли содержат, досыта ли поят-кормят? Нет ли жалоб каких?
Улыбка на исхудавшем лице сделалась шире.
– Спасибо на добром слове, великий князь Юрий Владимирович. Поят-кормят, видать, с твоего стола – боюсь, не сделался бы кафтан узок. Он-то, сам видишь, княжий. – Иван Ростиславович весело оглядел свой парчовый в дырьях кафтан. – А что браслеты из золота с рук поснимали – невелика потеря. Железные звончей звенят. – Князь повертел поднятыми над головой руками, будто собрался пуститься в пляс. Звенья цепей забрякали гулко.
Великий князь сочувственно вздохнул.
– Хорошо, что не унываешь. Князь и в темнице князь. Только ты птица вольная. По воле тоскуешь, должно быть.
– Тоскую, – вырвалось, словно стон. «Что ж это я, – спохватился Иван Ростиславович тут же. – Поверил петух неразумный, что лисицу разжалобил?» – Оттого моя тоска, князь Долгие Руки, что редко вижу лицо твое белое, стан твой дородный. – Иван Ростиславович расхохотался. В чёрных как угли глазах запрыгали искры.
Смолоду грузный, Юрий Владимирович к старости раздобрел и расползся. Не спасал богатырский рост и привычка держаться прямо. С каждым годом великий князь становился всё больше похожим на одного из тех идолов, что утверждали поверх курганов степные кочевники-скифы, жившие в незапамятные времена.
Глядя, как веселится узник, хохотнул и великий князь. Льдинки голубоватых глаз вспыхнули холодно.
– Веселимся мы с тобой, Иван Ростиславович, а дело потехой не подменить, не для того тебя звал.
– Для чего же ещё, если не для потехи?
– Не поверишь ты мне, должно быть, но не держу на тебя зла. Если в чём был передо мной виновен, искупил ты неволею, и удерживать тебя мимо права силком я не намерен.
Иван Берладник перестал смеяться: неужто выпустит?
– Ты не мне супротивник, – продолжал великий князь, наслаждаясь замешательством узника. – Вражда у вас с зятем, дочерним мужем Ярославом Владимировичем Галицким, с ним и судись. Наступит зима, установится санный путь – и отправляйся ты, князь Иван Ростиславович, рекомый Берладник, по первопутку в Галич. В провожатые отряжу собственных детских, коль скоро своей дружины у тебя не имеется. В этом и в конях не поскуплюсь.
Сказанное означало смертный приговор.
Двенадцать лет прошло с того дня, когда галичане попытались скинуть князя Владимирку. Ненавидели князя за самодурство и жадность. И пока он в дальних лесах развлекался охотой, бояре призвали на стол молодого его племянника, князя Ивана. Владимирка город вернул, «много людей посеча, а иных казнив казнью злою». Но Ярослав Осмомысл, сын Владимирки, не забыл про отцовский позор. Клятву он дал, унаследовав Галич, что погубит Ивана Берладника. Все на Руси знали про страшную клятву.
На одно лишь мгновение прикрыл Иван Ростиславович огненные свои глаза, потом вскинул голову и усмехнулся.
– Спасибо, великий князь Юрий Владимирович. Ярослава Осмомысла повидаю в охотку, а добро твоё, пока жив, не забуду.
Юрий Владимирович ударил в ладоши. В горницу вдвинулись стражи, сомкнули над узником бердыши, увели.
Но прежде чем захлопнулись за Иваном Берладником железные двери темницы, из княжьих палат вырвался слух: «Передаёт великий князь узника в руки его смертного врага». Слух потолкался по Киеву и пошёл гулять по Южной Руси, ширясь, как на воде кольца. И где бы недобрая весть ни заставала берладника – поджидал ли молодец купеческие ладьи на Дунае или грабил суда на Днестре, – каждый хватал оружие и торопился в Берлад. Во главе всё увеличивавшегося войска тысяцким встал друг и сподвижник князя из боярских сынов. Берладникам он полюбился за решительный нрав и удальство. Тысяцкий разбил берладское войско на десятки и сотни, назначил сотских, усилил заставы – сторожевые посты. Дело подвигалось к развязке. Или выйдет для князя Ивана свобода, или покатится с плеч буйная его голова.
Глава VII. ЧЕРНИГОВСКИЙ СКОРОПОСОЛЕЦ
– Стой, кто такой, откуда-куда путь держишь? – городские стражи сдвинули копья перед мордой коня.
– Свой я, – ответил всадник.
– Все свои, от одной праматери родились, да по разные стороны разбрелись. Говори: зачем пожаловал, мешок чем набил?
– В Берлад пришёл воли искать, а в мешке – лепёшки да сыр.
– Что-то тяжёлым смотрится твой мешок.
Стражи скучали. Приезжий, заросший до самых глаз клочковатой встрёпанной бородой, им не понравился. Один из стражей подошёл сбоку, стал лениво щупать мешок.
– Что напираешь, словно медведь? Орудия у меня там кузнецкие. Или Берлад не нуждается в кузнецах?
Всадник хотел повернуть коня – не в добрый час, видно, пожаловал, – но не успел. В шесть рук его стащили с седла, швырнули на землю, вытряхнули мешок. Вместе с дорожной снедью тяжело упал завёрнутый в тряпицу свёрток.
– Посмотрим, что за орудие такое? – Тряпица вмиг оказалась размотанной. – Братцы, глядите-ка, золото!
Цепляясь шишаками железных шлемов, стражи склонились над круглым солнечно-жёлтым слитком.
– Не трожь, не твоё, горбом наживал! – Проезжий сделал отчаянную попытку пробиться, хватал стражей, оттаскивал. Хоть был он и низкоросл, да сбит крепко. Только где одному с тремя справиться? Руки ему скрутили, связали за спину.
– У нас здесь нет твоего-моего, всё общее. Пойдём-ка, мил человек, в княжьи палаты. Там разберутся, что за кузнец-молодец пожаловал, много ли золота наковал.
В княжьих палатах, как называли в Берладе крытую черепицей мазанку размерами больше других, тысяцкий держал совет.
– Доподлинно стало известно, что Ярослав Осмомысл вышлет навстречу дружину. – С такими словами обратился он к сотским. – От Киева князя Ивана Ростиславовича будут сопровождать киевские вои, с полпути передадут галицким.
Тысяцкий развернул обрывок пергамента с тремя намеченными кружками, указательным пальцем упёрся в правый кружок:
– Киев. – Палец пополз влево наверх. – Галич. – Обрисовав треугольник, палец спустился вниз. – Берлад. Как мыслите, братья, с чего начинать будем?
– Не боярская дума, чтобы порты протирать по лавкам, – произнёс здоровенный краснощёкий увалень Федька Жмудь. – Из ямы князя не вызволить. Надо в пути отбить. Вот и все мысли.
– Помолчи, Фёдор. Речи нет, чтобы не отбивать. В затылке скребём, в каком месте сразиться, чтобы вернее было. Эй, что там за шум? – Тысяцкий повернулся к двери.
В дверях появился страж, втолкнул связанного.
– Кузнецом назвался, а у самого в мешке золото. – Страж подошёл к столу, положил на пергамент слиток.
– Вот так так, – прищёлкнул языком тысяцкий. – Посади-ка малого в уголок. Дело закончим – выведаем, кто таков, зачем в Берлад прибыл, как богатство своё раздобыл.
Страж толкнул пленника на скамью возле дверей, где валялось в беспорядке оружие, приказал строго:
– Не шевелись. Смирно сиди, дожидайся.
Страж вышел. Тысяцкий продолжил совет.
– Надо полагать, что киевских детских поменее будет числом, чем галицких, – произнёс он решительно.
– С чего бы так?
– Из Киева Ивана Ростиславовича постараются вывезти неприметно. Юрий Долгие Руки знает, что народу Берладник люб. Юрию шум ни к чему. Другое дело – галицкий Осмомысл. Он захочет гибель недруга в торжество превратить.
– Не бывать тому торжеству, – припечатал к столу огромный кулак Федька Жмудь. – Всех раскидаю, в горло вцеплюсь.
– Хоть и силён ты у нас, всё одно силы неравные, – остановил Фёдора тысяцкий. – У них – вои обученные, у наших – руки больше к сохе приспособлены. Чтобы промаха не случилось, нужно всё рассчитать: где заставы поставить, где перерезать путь.
Сотские по кругу заговорили:
– Первое дело – выведать день, когда повезут.
– В Киев нужно своих послать, чтобы глаза и уши имелись.
– По всем дорогам расставить дозоры.
– Разбиться на два полка, загодя двинуться наперерез.
Совет затянулся. Под конец вспомнили, что задержанный стражами пленник давно ожидает решения своей участи.
– Где же он?! – воскликнул тысяцкий.
Все удивлённо уставились в угол. Лавка была пуста.
Федька выбежал в сени, оттуда на улицу, вернулся ни с чем.
– Как же он в путах мог убежать?
– В том-то и дело, что развязал путы. – Тысяцкий подошёл к лавке, пнул ногой валявшиеся обрывки верёвок. – Пока мы судили-рядили, он меч локтем сдвинул, чтобы над лавкой повис. Рукоять собственной тяжестью придавил, верёвки об остриё перетёр. Много он наслушался наших разговоров. Сыскать.
Весь город занялся поисками. Искали низкорослого, щербатого, заросшего встрёпанной бородой. Осмотрели все мазанки, обшарили сараи и клети, заглянули в каждую бочку. До позднего вечера длились поиски. Нигде не нашли.
Осень в тот год пришла ранняя, с заморозками, проливными дождями. Налетели холодные ветры, разорвали густое плетение жёлтой и красной листвы. И не успели берёзы с осинами вдоволь нашептаться тревожно: «Лес шумит, что-то будет, лес шумит, что-то будет», как ледяные струи забили по веткам и листья беззвучно полетели к земле.
Дождавшись, когда небо освободилось от первых больших дождей, Иванна собралась в город. Разольётся ручей – закроется дорога через овраг. До самой зимы меси по колено грязь в обход.
– В добрый час девица-красавица пожаловала, – встретил Иванну в лавке Евсей. – Хотел за тобой посылать, а ты – вон она.
– Финифть принесла на продажу, к зиме пополнить запасы.
Иванна достала подвески, покачала за дужки. На одной стороне чечевиц сияло лучистое солнце, на другой – голубел светел месяц.
– Чудо чудное, – залюбовался Евсей. – Видно, мастер о дальней дороге думал, что поместил дневной и ночной свет.
Иванна кивнула. О чём же ей было думать, как не о дорогах, по которым плутает брат.
– За то, что старого купца не забываешь, тебе, помимо платы, подарочек причитается. – Евсей развязал тесёмки подвешенного к поясу кожаного кошеля.
– Спасибо за доброту, – заторопилась Иванна. – Только не нуждаюсь я принимать от чужих подарки, хотя бы и от тебя.
– Ты погоди гордиться. Подарок подарку рознь. Поутру заходил камнесечец с Москва-реки. «Мальчонка, – говорит, – у соседа проживал. Прознав, что я во Владимир собрался, велел к тебе принести, чтобы ты сестре его передал». – Евсей отыскал в кошеле берёсту, протянул Иванне. – Прочитать или сама разберёшь?
– Разберу, с малолетства отцом обучена.
«Иванне поклон, – зазвучали буквы Дёмкиным голосом. – Ушёл далеко. Когда вернусь, всё расскажу. Дело важное».
Внизу стояло: «Дементий», ещё ниже в углу – «брат».
«Жив, главное, жив». У Иванны от радости вспыхнули щёки.
– Я москвича расспросил, не велено ли чего на словах передать. «Велено, – говорит, – сестре доставить». Вот и весь сказ.
По посаду Иванна шла улыбаясь, не пряча глаз. И небо для радостной вести очистилось, проступило синей финифтью сквозь серые тучи, и солнце пригрело. «Жив, главное, жив». Иванна сняла с головы платок, высвободила перевитую лентой косу.
– Ай да девица, ай да королевна заморская! – прозвучал вдруг задорный окрик. Из-за поворота выехали два всадника – молодой и постарше, перегородили дорогу. Оба были в дорогих корзнах. На собольих околышках шапок светились бляшки.
В том, кто постарше, Иванна признала князя. Она бросилась в сторону, на ходу закрываясь платком. «Только бы не увидел. Скорее, скорее», – подгоняла она себя.
– Серые волки мы, что ли, что девицы убегают? – засмеялся вслед молодой. Это он назвал Иванну королевной.
Князь провёл рукой по лицу, словно снимал приставшую паутину. Он силился вспомнить, где видел девицу. Память у него была цепкая, однажды увиденное запечатлевалось навсегда. А тут почему-то всплывали осины, болото, мальчонка с волком, разнаряженная русалка, растаявшая в облаке или дыму.
– Поспешим на подворье, Пётр. – Князь сбросил болотную оторопь. – Красавиц во Владимире много. Государственные дела промедлений не терпят.
– Князь-государь Андрей Юрьевич, верно, и этот не угодит.
– Угодит или нет, – не выслушав, не узнаешь.
Речь шла о зодчем, прибывшем из Новгорода. Ростовские и суздальские хитрецы уже побывали. Кто на словах объяснял, кто рисовал на пергаменте, каким ему представлялся будущий храм. Для этого случая все собирались в Стольной горнице, устланной персидскими коврами; лавки вдоль стен красовались шёлковыми голубыми полавочниками. Помимо ближних бояр и Кучковых, находившихся неотлучно при князе, звались священник Никола и летописец Кузьмище Киянин. Встречи с зодчими Андрей Юрьевич обставлял, словно приём посла. Являлся в княжьем наряде, в сопровождении сыновей. Пышностью он хотел внушить мысль о величии. Зодчие и сами понимали, что от главного здания будет зависеть облик новой столицы и выглядеть храм должен торжественно. Но всё, что они предлагали, князь отвергал.
– По-другому храм должен стоять, – произносил он хмуро.
Зодчие пожимали плечами, уходили, однако, непосрамлёнными. И ростовцам, и суздальцам Андрей Юрьевич повелел завершить заложенные отцом строения, работа над которыми прервалась из-за усобиц. Почётный заказ примирил мастеров с неудачей.
Из ближних городов никого больше ждать не приходилось. Из дальних первым на княжий зов откликнулся славный своими церквами Новгород. Посмотреть на храм с летящими в небо тринадцатью куполами приезжали когда-то со всей Руси.
Встреча, по обычаю, была назначена в Стольной горнице. Все собрались, расселись. Князь Андрей Юрьевич со своего кресла уже готовился подать знак, чтобы ввели новгородца. Но тут на подворье примчался всадник. Скакал, должно быть, во весь опор. Через оконца услышали, как часто дышал под ним конь.
– Князь Изяслав Черниговский прислал скоропосольца с речью, – доложил Анбал.
– Пусть войдёт.
В горницу ворвался запах дороги и конского пота. Скоропосолец вошёл в сапогах, забрызганных грязью. Полы кафтана густо припорошила седая дорожная пыль.
– Велено здравствовать на многие лета, князь-государь.
– Того же желаю и князю Изяславу Черниговскому. Однако не мешкай, правь посольство. Коли поспешал в дороге, говори без околичностей привезённую речь.
Византия, Германия, Венгрия и другие дальние страны обменивались грамотами. Русские скоропосольцы чаще заучивали короткую речь. Изустную грамоту ни враг не отнимет, ни дождь не пробьёт. Хоть вплавь переправляйся, слова не размокнут.
– Князю и родичу Андрею Юрьевичу здравствовать на многие лета. – Чтобы не сбиться, скоропосолец начал сначала. – Ведомо ли тебе, что отец твой, великий князь Киевский, замыслил учинить князю Ивану Берладнику верную смерть, для чего передаёт его в руки лютого ненавистника, Ярослава Осмомысла. Упреждаю тебя, князь, поскольку мудрость твоя известна: коли такое случится, Чернигов с немалой подмогой развернёт стяги под Киевом. Вспомни, как Ивану Берладнику в дружбе клялись и крест на том целовали. Рассуди и помысли. Нет на князе такой вины, чтобы смертную казнь ему учинять.
В ответной речи, обращённой, как было принято, прямо к тому, с кем велись переговоры, Андрей Юрьевич благодарил князя и родича Изяслава Черниговского: «Превыше всего спасибо, что не оставил в неведении насчёт судьбы князя Ивана Берладника. Не скоро бы в наших лесах проведали о том без тебя».
Отпустив скоропосольца взмахом руки, Андрей Юрьевич обвёл присутствовавших вопросительным взглядом.
– Ярослав Осмомысл Ивана Берладника не помилует, – сказал первое слово Яким. – Осмомыслу ведомо, что боярство вновь посылало к Берладнику, подстрекая, как при Владимирке, воевать галицкий стол: «Только явишь стяги – мы отступимся от Ярослава».
Вслед за Кучковым заговорили другие.
– Осмомысл такое не простит. Жди усобицы.
– Черниговский Изяслав не зря упредил, что стяги поднимет. И про подмогу немалую постарался упомянуть.
Мнение было единым: узел не развязать, рубить придётся.
– Случится усобица – всё прахом пойдёт, – тяжело проговорил князь. – И Вышгород тогда понапрасну покинули, и во Владимире обосновались без всякого толку.
– Залесье от Киева далеко, можно в стороне отсидеться, – усмехнулся Пётр Кучков, напоминая князю недавний их разговор. – Меч святого Бориса плащом для верности придётся прикрыть, вдруг зазвенит ненароком.
– Зла Руси не желаю, тишины и добра хочу. Но отца в беде не оставлю. Прав ли великий князь или действует мимо права – всё одно: сыну отцову сторону должно держать.
– Значит, усобица.
Сумрачное молчание окутало горницу, как сгустившаяся темнота. Нарушил тишину ровный голос священника Николы.
– Ты вот что, князь Андрей Юрьевич, – произнёс Никола негромко. – Отправь-ка скоропосольца к митрополиту.[11] Мудрость святого отца всем известна. Усобиц он, как ты, не одобряет, за тишину и мир ратует, – может, чем и попоспешествует в трудном деле.
– Ладное слово молвил, святой отец, – повеселел князь. – Скоропосольца тотчас пошлю. Речь со всеми доводами сам составлю. Ты же, Яким, распорядись, сделай милость, чтобы подарки в Софию[12] приготовили самые ценные.
Глава IX. У ИЗРАЗЦОВОЙ ПЕЧИ
Не доехал торговый обоз до стольного города Киева. Перед Курском заладили, что ни день, проливные дожди. Проезжая дорога размокла, превратилась в жидкое месиво, и, глядя, как вязнут колёса, купцы решили дождаться в Курске, пока установится санный путь. Лошадей увели в конюшни, бочки с беличьими и собольими шкурками перекатили на склады гостиного подворья.
Дёмка скрести в затылке не стал. Сдёрнул с телеги свой туго набитый мешок, приладил за спину.
– Куда ты пойдёшь один? – отговаривали купцы. – От Курска до Чернигова двадцать дней ходу, по грязи – все тридцать. Киев увидишь не раньше зимы. По первопутку и мы подоспеем.
– Пойду, – сказал Дёмка. – Идти – вперёд двигаться, не на месте сидеть, а коли догоните, снова к вам попрошусь.
– Упорный мальчонка. Твёрдость, видать, перенял от камня.
И снова, как в те дни, когда ушёл из Владимира и двигался на Москву, Дёмка остался один на один с дорогой. Жаль, что бежала она навстречу медленней, чем тогда. Ноги вязли в расползшейся грязи. То и дело приходилось обходить рытвины, до краёв заполненные водой. Опавшие листья под струями дождя покачивались на воде лодчонками.
Ни ветер, ни дождь Дёмку не останавливали. Он шёл от света до темноты. На ночлег просился в избу – в непогоду под деревом не поспишь. Хозяева встречали радушно, предлагали обсушиться, сажали за стол вечерять. От сваленных возле печи тулупов по избе плавал запах прелой овчины. На вопрос, куда путь-дорогу держит, Дёмка одно отвечал: «В Киев». В Курске он слышал, как Берлад называли разбойничьим логовом, и упоминать про Берлад опасался.
– Худенький какой, глаза всё лицо занимают, щёк не видать, – жалостливо вздыхали женщины.
– Совсем малолеток. Знать, большая нужда погнала одного без старших в дорогу, – вторили жёнам мужья.
– Какой я малолеток? – удивлялся Дёмка. – Тринадцать лет прожил, с осени на четырнадцатый повернул.
Дёмке казалось, что ушёл он из дому давным-давно. То ли время в дорогах измерялось иначе, то ли тревожная мысль о сестре растягивала дни на месяцы. Ушёл, оставил Иванну одну.
«Ос-тавил, ос-тавил», – беспокойно вызванивали в мешке закольники. «В Бер-лад, в Бер-лад», – возражала киянка.
На полпути до Чернигова деревянные избы сменились белёными мазанками. Посыпался снег. Мокрые хлопья облепили соломенные крыши, сбились в холмики возле стен. «Белое к белому потянулось», – сказал сам себе Дёмка. Он запахнул потуже овчинный кожух, перетянутый ремённой опояской, спустил суконные уши с околышка шапки-ушанки.
Великий князь Киевский не забыл обещания отправить по первопутку Ивана Берладника в Галич. Ярослав Осмомысл давно готовился к встрече. Виделось сыну Владимирки, как проедет окованный пленник из конца в конец по всему уделу на устрашение строптивому боярству. И вои назначены были в дорогу, и место выбрано было для казни. Но тут случилось непредвиденное. Меньше всего Юрий Владимирович ожидал, что у сидевшего в яме узника найдётся защита. Однако нашлась. Грозился усобицей Изяслав Черниговский. Ретивый родич готов был измыслить любую причину, чтобы возобновить борьбу за киевский стол. Новое непокорство высказал старший сын, прислав из лесной дали со скоропосольцем упрёки: «Великий князь, отец, господине, не ты ли первым Срединную Русь укрепил, основав города и подчинив Муром с Рязанью? Для чего готовишься ввергнуть многострадальную Русь в бедствие новых распрей?» Угрозы родича и речь сына беспокойства не причинили. Черниговский князь поистощил силёнки. А сын, коли случится нужда, будет покорно ездить со всеми своими полками возле отцова стремени. Другое смутило. У опального князя нашёлся истинно мощный союзник.
Морозным ноябрьским утром, не уведомив загодя о приходе, во дворец явился митрополит и потребовал встречи. Юрий Владимирович ослушаться не посмел, приказал: «Просите». Митрополита ввели в жарко натопленную горницу. Великий князь принял благословение, пухлой в перстнях рукой указал на резной табурет с мягкой подушкой, сам опустился в складное кресло, стоявшее у изразцовой печи. За дверцей металось, брызгая искрами, жаркое пламя. Маленький щуплый митрополит, несмотря на высокую митрополичью шапку, почти неприметный рядом с огромным князем, прошелестел рясой, усаживаясь, сложил на коленях высохшие ладони и без обиняков начал:
– Пребывала, великий князь, русская церковь в надежде, что, поустрашав Ивана Ростиславовича, ты выпустишь его с честью. Поступки князя Берладского не всегда совпадали с государственной мудростью, однако не заслуживает он казни.
Тихий, надтреснутый голос звучал властно. Перед великим князем находился человек, привыкший повелевать.
С охапкой берёзовых чурок и кочергой вошёл взятый истопником здоровенный детина с румянцем на полщеки. Увидев митрополита, детина округлил глаза, поспешно пошуровал в печи, прикрыл медную дверцу и, пятясь, покинул горницу.
– Родной земле князь Берладский супротивником не был, – продолжал тем временем митрополит. – Много раз защищал он Киев и Галич от половецкого разорения, противостоя диким ордам неустрашимым своим мечом или сдерживая ханов разумным советом. Народ князя Берладского любит за бескорыстие, вои – за молодечество. Вспомни, великий князь, что сам, когда в подмоге нуждался, целовал Ивану Ростиславовичу на дружбе крест, и не позорь великокняжьего слова бесчестным поступком.
Юрий Владимирович знал, что шуткой, сказанной к месту, можно обезоружить самого строптивого собеседника, хоть вей из него верёвки. Он склонил к плечу большую тяжёлую голову, словно просящее сласти дитя, умильно и расслабленно проговорил:
– Мал тот крест был, святой отец, в половину мизинного пальчика крестик.
Митрополит шутку не принял, поднялся разгневанный.
– Крест велик или мал – всё едино. Сила во всякой клятве равна, а слово княжье и без клятвы камня должно быть твердее.
Перекрестив воздух, митрополит вышел. Юрий Владимирович придвинул свой табурет к нагревшимся изразцам и крепко задумался. Церковь до сей поры выступала союзником: «Власть великому князю Юрию, сыну Владимира Мономаха, вручена самим богом». Народ священникам верил, каждое слово за истину почитал. Но священники могли и по-другому заговорить: «Богом установлено великокняжий стол от отца к сыну и внуку по старшей линии передавать. Юрий – меньшой Мономахов сын и киевский стол захватил мимо права». Церковь располагала силой и в ту и в другую сторону народ повернуть. Ссориться с ней было опасно. Отказаться же выдать Ивана Берладника, переменить решение тоже было нельзя. Отказом и зятя обидишь, и у недруга на поводу пойдёшь. Изяслав Черниговский решит по горячности, что устрашился великий князь его бездельных угроз.
Дверь в горницу три раза приоткрывалась. Просовывал голову ближний боярин, хранитель печати, поводил хитрыми глазками. На четвёртый раз Юрий Владимирович не выдержал:
– Что высматриваешь, словно лиса в курятнике? Сказывай, коли дело имеется.
– Не знаю, как доложить, государь…
Хранитель печати подбежал мелкими шажками, с притворной робостью произнёс:
– По пустякам беспокою, должно быть, а промолчать боюсь.
– Не тяни сказ от Новгорода до Ростова. Говори суть.
– Суть-то самая пустяковая. Мужичонка тут один объявился, из Берлада тайком утёк. К тебе рвётся. Допросил я его со строгостью. Такие он были-небылицы рассказывает, что поневоле уши развесишь и в затылке заскребёшь.
– Ну?
– Воев, говорит, собралось в Берладе видимо-невидимо, вооружены до зубов и готовятся двумя полками идти выручать Ивана Берладника. В каждом полку по шестьсот человек. Сотские выбраны, и военачальник тысяцким себя называет.
– Лазутчик берладский твой мужичонка.
– Вряд ли. Ненавидит берладников лютой злобой. Его там ограбили подчистую, так он готов князя Ивана Берладника голыми руками придушить.
Хранитель печати прищурил глаза, со значением покачал головой. Однако великий князь разговор о ненависти не поддержал.
– Про полки мужичонка так говорит, – поспешил перейти на другое боярин. – Один полк преградит дорогу под Киевом, другой – галицким воям двинется наперерез. Хоть не в опаску детским разбойный сброд, всё же решился я, великий князь-государь, тебя обеспокоить и про вызнанное доложить.
Великий князь помолчал, потом лениво промолвил:
– Ладно, коли настаиваешь. Приведи беглого, допрошу.
Хранитель печати удовлетворённо кивнул, мягко на носках выбежал, и тотчас кто-то невидимый за дверью втолкнул в горницу обросшего и оборванного мужичонку. Мужичонка упал на колени, стукнулся об пол лбом.
– Встань, мил человек, – участливо проговорил великий князь. – Слышал я, обидели тебя сильно в Берладе.
– Как есть обидели, отец родимый. Всей жизнью нажитое присвоили разбойники, всё отобрали, подчистую.
– Ай-яй-яй, на что отваживаются берладники. Из-за любви к Ивану Берладнику грабят честных людей. Последнее добро отнимают, чтобы предводителю своему вручить.
– Да, кажись, если встречу того предводителя, князя Ивана Берладника, в живых ему не ходить.
– От злости надо освобождаться, мил человек. Злость душу разъедает, как вредная ржа металл.
Светлые льдинки холодных голубоватых глаз прощупывали тем временем мужичонку. Всё приметил великий князь: низкий лоб, круто срезанный подбородок, заросший нечёсаной бородой, длинные, до колен, руки. Увидел князь и двойной ремень, перехвативший под кафтаном нестираную рубаху: зря к опояске вторую полосу не подшивают. Мужичонка под княжьим взглядом съёжился. Ещё больше втянул ушедшую в плечи лохматую голову.
– Прости, великий князь-государь, если от темноты неверным словом обмолвился, – проговорил он испуганно.
– Только вороны прямо летают, – усмехнулся великий князь. – А тебе я, мил человек, вот что скажу. Чтобы злость в душе не копилась, поезжай-ка с князем Иваном Берладником в Суздаль. Думал в галицкие земли князя препроводить, да, видно, переменилась его судьба. По дороге ты общему нашему недругу прислуживай со вниманием, да в оба смотри, чтобы не отбили его головорезы-черниговцы. До Чернигова постарайся от лютой злобы своей избавиться. Плохой она в жизни груз.
Мужичонка выпучил на князя глаза, приоткрыл щербатый рот.
– Что уставился как баран на ворота? – закричал вдруг великий князь. – Сказано, прислуживай Ивану Берладнику с полным старанием. Сделаешь всё как надо – по возвращении награжу. Поболе дам, чем берладники отняли, и ещё того более, чем в ременном поясе у тебя зашито. Понял? Теперь вон ступай, дурень.
Мелко трясясь, мужичонка метнулся к двери.
Глава X. ВСТРЕЧА И ПОБЕГ
Зима давно обогнала Дёмку. Распустив подбитое метелями корзно, она неслась впереди, наводя повсюду свои порядки. В Чернигов Дёмка вошёл по едва присыпанной снегом окаменевшей дороге. После Чернигова, насколько хватало глаз, лежал рыхлый снег, словно раскатился войлочный белый ковёр. На солнце снег отливал розовым или жёлтым цветом, под деревьями голубел. Дорога сделалась людной. Мчались всадники – успевай лишь увёртываться. Обозами ехали сани. Дёмка присаживался рядом с возницей или, взвалив на сани мешок, шёл налегке, вместе с обозом останавливался на ночёвку. Перед самым Киевом Дёмка расстался с очередными попутчиками. Принято было в селе Большове кормить лошадей и в Киев въезжать поутру. Дёмка решил поспеть в тот же день. Дорога укрыла, уберегла, дорога и в Киев введёт. Если ворота окажутся на запоре, на ночёвку примет посад. Сказывали, киевское околоградье в два раза поболе Владимира.
Только иначе всё повернулось. Дёмка до Киева не дошёл.
Серые сумерки стали тесниться к земле и отбирать у снега цветную окраску, когда встречный обоз заставил Дёмку сойти на обочину. Мимо проехали вооружённые всадники. Они двигались молча, сбившись в тесную кучу, различимые в сгустившейся темноте блеском кольчуг под тулупами и слабым мерцанием притороченных к сёдлам щитов. Следом за всадниками поспешал установленный на полозья возок. Расположились в нём двое. Один, закутанный в подбитую мехом шубу, накинутую на плечи, не вдетую в рукава, развалился на козьих шкурах. Другой, в выворотном тулупе, сидел на краю возка, свесив ноги в противоположную от Дёмки сторону. Лица Дёмка не видел. Мимо проплыли широкие плечи с втянутой головой. Потом снова двинулись всадники и снова сани. На последних санях сидел только возница. За его спиной высилась груда мешков и бочек.
«Припасы, должно быть», – подумал Дёмка, с малолетства приученный лесом подмечать каждую малость. Но мысли сейчас кружились вокруг другого, сталкивались, разбивались, теснили друг друга с беспорядочной быстротой. Будто вихрь подхватил соломинку, мчал и кружил, не спуская на землю, а Дёмке нужно было во что бы то ни стало соломинку эту схватить. Вдруг ноги сами собой оторвались от снега. Дёмка выскочил на дорогу, в три прыжка догнал проплывшие мимо сани.
– Будь отцом или братом родным, – подбежал он к вознице. – Подсади, хоть на малое время. Одному к ночи боязно.
– Не велено, – важно ответил возница. – По государственному делу движемся. Не на показ, людности избегаем.
– Тогда рядом пойду.
– Ишь, упорный. На Чернигов мы едем и в суздальские земли через леса. Сам-то куда путь держишь?
– И я в Чернигов и Суздаль.
– О-хо-хо. Одному в эдакую даль не дойти. Зовут как?
– Дёмкой пока называют.
Дёмка прыгнул в сани и, раздвинув мешки, устроился, как в берлоге.
– Боярина какого сопровождаете? – спросил он из своего укрытия.
– Князя Ивана Берладника в Суздаль везём.
– Самого Ивана Берладника?
– А ты как думал? Попусту детских вдаль не погонят.
– Вот так дела. А рядом с ним кто сидит?
– Слуга ли, палач – толком не знаю. Так ли скажу или эдак – который-то раз совру.
– Из Киева он или откуда?
– И про это не ведаю. Слыхал, что не из южных земель.
Последний вопрос Дёмка мог бы не задавать. И без того ухватил он соломинку, поймал ускользавшую мысль. В первом возке, свесив ноги и уцепившись руками за край, сидел тот, за кем Дёмка, кружа по дорогам, всю осень и зиму гнался. «Слуга ли, палач?» – отозвался о том человеке возница.
Горница с большой изразцовой печью была натоплена до духоты. Прежний истопник со вчерашнего дня исчез. Пришлось приставить другого, и с непривычки новый перестарался. Великий князь и хранитель печати сидели в расстёгнутых на груди кафтанах. Разговор протекал вяло. Оба упорствовали, каждый держался за сказанное, настаивал на своём.
– Поверь слову, великий князь-государь, малым числом отрядил ты детских. Три десятка для дальней дороги ничто.
– Зато отобраны из самых храбрых, один к одному.
– Всё равно. Горстке с полком не совладать. Прикажи сотню отправить следом, того лучше две. Со вчерашнего вечера миновал всего день. Поспеют догнать без труда.
– Со вчерашнего вечера словно банный лист пристаёшь. Сказано, нет надобности отряжать для Берладника всю дружину.
– Поразмысли, великий князь-государь, без гнева. В Суздаль ехать – Чернигов не миновать. Злобность Изяслава Черниговского против тебя известна, не таит он, в голос оповещает. Ну как решится отбить Берладника, вышлет дружину на перехват?
– Тьфу, – вышел из себя Юрий Владимирович. – Надоел, хуже редьки в голодный год. Ещё доедет ли Иван до Чернигова?
Хранитель печати ударил себя по лбу.
– Убил комара! – расхохотался Юрий Владимирович.
– Назови меня дурнем, великий князь-государь, не ошибёшься! – Хранитель печати зажмурил глаза. – Скребу да скребу в затылке: отчего это, думаю, мало воев ты отрядил?
Притворялся лиса-советчик. Всё-то он понял. Сам навёл великого князя на мысль избавиться от Ивана Берладника тихо и мирно, без всякого суда. Сам беглого князю доставил, не поленился за дверью выстоять, чтобы послушать весь разговор.
– Чем без толку по лбу хлопать, лучше делом займись, – отсмеявшись, проговорил Юрий Владимирович. – Сходи-ка с речью к старцу-митрополиту, скажи от меня так: «Кланяюсь земно, святой отец, и прошу твоего благословения. Прости, что сам не могу прийти, немочи и хворь одолели. Вместо себя окольничего посылаю. Увещевания твои запали мне в душу, и я изменил принятое первоначально решение. Князя Ивана Ростиславовича не передал зятю, а отправил на проживание к старшему сыну в суздальские земли. Охрану в сопровождение князя Ивана послал самую надёжную, отрядив три первых десятка из собственной дружины. О чём тебя, святой отец, первым уведомляю». Что скажешь, окольничий, ладно ли составлена речь?
– Каждое слово вразумительно и находится в соответствии с истиной. Но скажи ещё, великий князь-государь: кто кроме нас двоих знает, какой дорогой отправлен Иван Берладник?
– В том-то и хитрость, что в тайности собрались, в тайности затемно выехали, – проговорил довольный собой Юрий Владимирович. – Никто ничего не видел, никто ничего не слышал. Детским отдан приказ строжайший селения стороной объезжать, на ночёвку останавливаться в лесу.
Великому князю ли было не знать, что у стен имеются уши? Сколько раз через слуг сам чужие тайны выведывал, тут же – словно затмение накатило. Киев наводнён был берладниками. Медоварами, конюхами и псарями они устраивались служить на княжьей кухне, конюшнях, на псарне. В городском и пригородном дворцах постоянно строились погреба, житницы, сушила. Среди древоделов-плотников махали топорами берладники. Федька Жмудь приглянулся великому князю за богатырский рост и был переведён из плотников в истопники. Кому нужно было услышать – услышали. Те, кто ждал вестей, дождались. И прежде чем Иван Берладник в подаренной великим князем дорогой лисьей шубе уселся в возок, через городские ворота по одному выехало несколько всадников. Не спеша, они разъехались по околоградью, одни держа путь на Черниговскую дорогу, другие – к югу. Отъехав на два перелёта стрелы, всадники пустили своих коней вскачь.
Стоянку новые Дёмкины спутники устроили на опушке леса. Запалили костры, задали коням корм. Детские расселись вокруг большого костра. От одного к другому двинулся ковш-братина, наполненный хмельной медовухой. Детские пили, пели, байки рассказывали. Громкие голоса свои не умеряли, смех не таили.
Дёмка издали наблюдал, как вечерял князь Иван Берладник. Выпростав из-под шубы руки, князь принимал от Лупана то кусок мяса, то кубок. Отсвет пламени падал на железную цепь и обручи, обхватившие запястья. Лупан подавал, отходил, наклонялся. Казалось, что рядом с князем мечется короткая неуклюжая тень.
Подойти ближе Дёмка опасался. Ещё обнаружит его Лупан раньше времени. И снова, как тогда под Владимиром, когда думал, что вот-вот догонит, Дёмка не знал, как себя повести. Крикнуть: «Вяжите злодея, он убил моего отца!» – кто в это поверит? Доказательств нет никаких. Вызвать на честный кулачный бой? Вызвал кутёнок матёрого волка – тот раздавил его и не приметил. Другое дело, если сразиться ножами. Охоту Дёмка не любил и не убивал зверя попусту, но метать с силой клинок умел с малолетства. Приблизиться быстро, бросить Лупану нож с финифтяной рукоятью, чтобы он сразу сообразил, что к чему, себе оставить другой, с которым вышел в дорогу, и крикнуть: «Бейся не на жизнь, а на смерть, отравитель!»
Утром, покачиваясь на ухабах в своём логове среди мешков, Дёмка проверил оба ножа – острые, – положил обратно в подвешенную к поясу сумку. С ней он не расставался. Затем он выпросил у возницы кусок мешковины и обмотал нижнюю часть лица, шапку надвинул по самые брови.
– От чучела огородного не отличишь, – засмеялся возница.
На привале Дёмка приблизился к детским. Как и вчера, братина не сходила с круга. Потому, говорят, и братиной ковш называется, чтобы вкруговую по-братски пить.
– Дозвольте на князя Ивана Берладника поглядеть, – сказал Дёмка и сам не узнал своего голоса, раздавшегося из-под тряпицы.
Детские расхохотались.
– Откуда такой невиданный взялся?
– Мой он! – издали крикнул возница, не оставлявший саней.
– Закутал сынка, как девицу на морозе, чтобы нос свёклой не закраснел. Садись к нам, мальчонка, пригуби медовуху.
Дёмка в ответ промолчал, и детские про него тотчас забыли. Они и на князя, сидевшего к ним спиной, не обращали внимания. У князя был свой костёр, у детских – свой. Дёмка увидел, как князь неловкими из-за оков руками протянул прислужнику кубок, – очевидно, велел принести медовухи. Взяв кубок, Лупан пошёл прямо на Дёмку, стоявшего возле костра. Дёмка вытащил нож с финифтяной рукоятью, приготовился бросить, почувствовал, как напряглась рука. Но, не пройдя и пяти шагов, Лупан остановился, к костру не пошёл, а, повернувшись вполоборота, быстро откинул полу тулупа и наполнил кубок из подвешенной к поясу сулеи. Князю он подал кубок с поклоном.
– Не пей! – срывая с лица мешковину, закричал что есть силы Дёмка. Сам не помня, что делает, он зачерпнул из сумки горсть белой крупки и бросил в костёр, вокруг которого пили детские. Метнулся к другому костру, бросил новую горсть. С двух сторон повалил белый пахучий дым. Дружинники захлебнулись, окаменели от страха. Лупан догадался, откуда дым, Дёмка увидел искажённое злобой лицо, метнул нож. Лупан охнул, схватился рукой за плечо, осел в рыхлый снег.
Дёмка крикнул князю:
– Беги! – и побежал впереди к бившимся на привязи испуганным лошадям. Князь не заставил ждать. Дёмка рассёк ремённую привязь, помог окованному князю взобраться в седло. Впрыгнул сам. Он действовал быстро, но словно не с ним всё это происходило. Почуяв свободу, кони мигом выбрались на дорогу и помчались во весь опор. Вдогонку неслись проклятия детских, продолжавших барахтаться в едком дыму.
Ночь выдалась тёмная, без луны и без звёзд. Если б не снег, то хоть глаз коли. Настоящее время для побега. Кони мчались – лишь ветер свистел и бились о землю снежные комья, летевшие из-под копыт. Других звуков чёрная ночь не посылала. Два всадника, конь о конь, неслись через тьму. Казалось, на всей земле больше не было ни души. И вдруг ожила, проснулась дорога. Загудел притоптанный снег.
– Кони резвые, вынесут! – крикнул Дёмка.
– Кабы не руки скованные да держать бы меч! – раздалось в ответ.
Гул нарастал, становился ближе. Звуки надвигались со всех сторон, зажимали в кольцо.
Дёмка и князь мчались рядом. Кони неслись голова к голове.
– Догонять станут – я сдамся, один мне конец, а ты скачи и помни: ты для меня как брат.
– Вынесут или вместе погибнем! – прокричал Дёмка.
Ближе, ближе погоня. От топота конских копыт дрожит под снегом земля. Гул поднимается к самому небу.
– Скачи, не оглядывайся. До самой смерти вспоминать тебя буду! – Князь подобрал поводья, готовясь в любой момент остановить коня и, перекрыв дорогу, спасти храброго мальчонку.
– Что это? Князь, смотри! – крикнул Дёмка.
Впереди показались огни. Мелькнули, исчезли, вспыхнули снова. Словно кто-то сгрёб с неба светлые звёзды и пригоршней бросил на землю. Огни не стояли – они двигались, приближались. Сзади – всё нараставший топот копыт. Впереди – пляска огней.
– Что это, князь?
– Спасение, названый мой брат. – Иван Ростиславович ослабил поводья. – Это подмога.
С факелами в руках навстречу неслась черниговская дружина.
– Выручили! Выручили! – орал Федька Жмудь.
Он скакал первым. Факел, зажатый в мощной ручище, высоко выплясывал над головой. Пламя взмывало и билось как распущенный по ветру стяг.
Часть вторая На клязьминских кручах
Как скоро Андрей Юрьевич известие о смерти отцовской получил, так скоро себя великим князем во всей Руси он объявил и ко всем князьям о том писал. Суздальцы и ростовцы и другие грады, июля, первого дня, собравшись в великом множестве, с радостью крест ему целовали, поскольку из-за его храбрости, справедливости и доброго правления всенародно больше всех братьев его любили.
Русский историк В. Н. Татищев. XVIII векВеликий князь Андрей нарёк место то Боголюбовым, потому и сам стал Боголюбским прозываться. Потом он город там построил и двор свой княжий близ новосозданной Рождественской церкви поставил и очень место то полюбил и жил там.
Житие Андрея БоголюбскогоГлава I. ВСТРЕТИЛ БОЯРИН СТРАХ
Градники выходили на кручи, закатывали рукава неподпоясанных холщовых рубах. Над головами взлетали кирки, опускались и снова – кверху. Издали казалось: взлетают стаи вспугнутых птиц. Цепочкой, друг к другу в затылок, шли землекопы, несли на валы землю. Наполненные с верхом корзины лепились к спинам горбами. На плечах древоделов неспешно проплывали в обхват толщиной колоды, предназначенные для стен.
«Стук-стук-перестук», – стучали топоры вдоль правого берега Лыбеди. «Стук-стук да постук», – вторило клязьминское левобережье. «Ух-у-ух, у-у-ух», – ухали под кувалдами сваи.
Оживлённые лица, потные лбы, задорные перебранки.
– За небо цепляйся, не то улетишь! – кричали внизу.
– Под ноги гляди, о землю споткнёшься! – отвечали со стен.
Обмотанные пеньковым канатом брёвна ползли наверх.
– Держи, пошла, пошла!
Стук топоров и заступов стелился вместе с туманом, уплывал по рекам с водой, цепляясь за тучи, передвигался по небу. «Строится стольный город», – неслась во все стороны гордая весть. «Срединная Русь набирает силу», – долетало до Киева.
Гусляры любили рассказывать, как бахвалился Илья Муромец, что прибыл он в Киев-град прямоезжей дорогой, и не верил богатырю – крестьянскому сыну киевский князь. Потому князь не верил, что лежал город Муром в землях срединных, за лесами Дебрянскими, дремучими. Там жил-поживал Соловей-разбойник, и не было проложено через Залесье пути-дороженьки прямоезжей.
То пехотою никто да не похаживал, И на добром коне никто да не проезживал. Туда серый конь да не прорыскивал, Птица чёрный ворон не пролётывал.Окраиной Киевской державы была Срединная Русь, да не бедной, не захудалой. Леса – богатейшие, удаль рек – богатырская, поля в безлесом Ополье – плодороднейшие. Куда ни глянешь, колышется в рост человека густая рожь, метёлки овса вызванивают тонко. За обладание срединными землями не раз велись меж князьями кровопролитные сечи. Чтобы закрыть Ростов и Суздаль от враждебных Мурома и Рязани, Владимир Мономах утвердил город на вершине Клязьминского хребта. Где торчали обнесённые тыном землянки издревле селившихся здесь людей, поднялся детинец. Крутизну берегов Клязьмы и Лыбеди усилили насыпные валы. Вдоль гребней встали дубовые стены. Воротные и угловые башни выросли до небес. Одним не взял Мономахов город – размерами. Киев и Новгород равнялись с Парижем и Лондоном. Владимир от Суздаля отставал, где уж с Новгородом тягаться.
Как праздника ожидал Андрей Юрьевич начала работ. Едва освободила весна реки от ледового заточения и сдёрнула с полей снеговые ковры, прозвучало княжье его слово. И потянулись на восход и закат новые земляные гребни. Устья окраинных оврагов соединились высокими перемычками.
– Были бы человеку крылья даны или рукой за облако ухватиться, посмотреть с высоты, какие очертания примет город, – обернувшись к Андрею Юрьевичу, проговорил Пётр.
– Взлетать не потребуется, боярин, – весело ответил князь. – Словами скажу, что видят соколы, синицы да ласточки. Кажется птицам небесным, будто лежит между синими реками наконечник копья, оброненного богатырём. Тупым концом копьё повёрнуто к Киеву, остриём нацелилось на Рязань.
Князь и Пётр стояли на южном валу, где велись основные работы. Князь был весел. Он года сбрасывал с плеч, когда выходил на валы. Пётр, не в пример обыкновенному, казался обеспокоенным. То и дело бросал он на князя быстрый потаённый взгляд. Скоро ли отпустит? Диво дивное приключилось вчера с боярином, и ему не терпелось покинуть валы. Под вечер на торгу встретил он девицу – королевну заморскую. И прежде она на пути попадалась, а тут словно огнём обожгло. Душа в синих глазах потонула, руки-ноженьки молодецкие сковала золотая коса. Бросился Пётр за девицей, попытался ласково заговорить. Она же в ответ: «Ступай своей дорогой, боярин. Народ созову» – и быстрее ножками засеменила. Пётр не растерялся, прикинул, из какой лавчонки девица выпорхнула, насел на купца: «Кто такая, как зовут, где проживает?» Упёрся седобородый: «Не знаю, боярин, о ком расспросы ведёшь. Много красавиц заглядывают в мою лавчонку. Подвески и браслеты что для боярских жён, что для мизинных людей – для всех у меня припасены. Не прикажешь ли показать?» На торгу, у кого Пётр ни выпытывал, у всех был один ответ, как сговорились: «Не знаем, про которую выспрашиваешь, боярин. Синих глаз и кос золотых во Владимире не сосчитать. Поглядеть, так каждая раскрасавица». – «Такая лебедь одна». – «Тогда жди-пожди, в другой раз встретишь». Не приучен был Пётр ждать. Если что приглянулось, вынь да положь. На счастье, мужичонка к нему придвинулся, тощий, лицо испитое, нетрезвый, должно быть, с утра. «Иди следом, боярин, да чтоб вместе нас не приметили». Пётр пошёл. Мужичонка завёл его за складские сараи, по сторонам огляделся, зашептал: «Не веди расспросы, боярин, не скажут тебе владимирцы». – «Ты, что ли, скажешь?» – «Скажу, коли не выдашь». – «Зачем выдавать? Дам – вот, держи». Пётр сорвал с пояса кошелёк. Мужичонка заулыбался, затряс головой. «При такой твоей доброте дом покажу, где лебёдушка проживает». – «За показ отдельно получишь. Веди». – «Нет, боярин, сегодня туда нельзя, к темноте дело движется». – «Когда можно?» – «Завтра до темноты». – «Ладно, завтра. Освобожусь – приду». – «За воротами буду ждать. Оттуда мы мигом».
Солнце на полдень повернуло, а князь и не думал спускаться с валов. Теперь он стоял возле Федотовых плотников и смотрел со вниманием, как артель распускала дубовые брёвна на доски. Топоры в привычных руках ходили будто бы с лёгкостью, на самом деле с силой врезались в дерево. Доски получались гладкими, без уступов и выщербин, словно вырубленные сверху донизу единым взмахом меча.
Возле Федота, приспособив вместо скамьи чурбан, расположился Кузьмище Киянин. Летописца и плотника часто видели вместе. Один был книжник, другой – рукодел, один был молод, время другого к старости повернуло, а соединила их крепкая дружба. Нравилось им друг у друга знания перенимать.
– Так я тебе, Кузьма, доложу, – звучал сквозь перестук топоров неторопливый говор Федота. – Много ты сказов осилил про стародавние времена, руби-топор, а того не знаешь, что помогла Илье Муромцу одолеть Соловья-разбойника зелена трава, прозываемая «могущеник». Слышал про это?
– Не слышал. Где же растёт удивительная трава?
– При воде растёт, вот где. Дело так вышло. Перед самой битвой отправился богатырь Илья Муромец к лесному ручью. Видит, жёлтые цветы по бережку на выпрямленных стеблях качаются. Вдохнул Илья запах кореньев, и вошла в него сила великая, храбрость безмерная. Потому и назвали цветы «могущеник». Отвар из кореньев сварить, пчелиной смолки добавить – вот тебе и живая вода, руби-топор. Кровь, из раны текущую, в миг один остановит, силы раненому в один час возвернёт. Я без сулеи с отваром, как без топора, в лес не хожу. Топор и сулея всегда при мне.
– Скажи-ка, Федот, – вступил в разговор князь. – Случалось тебе слышать про орудие с железными зубьями? Пилой прозывается. Дерево, сказывают, как сало режет.
– Слышал, князь-отец наш, – усмехнулся Федот.
– Что же одним топором довольствуешься?
Федот работу прервал, уставился удивлённо на князя.
– Мудрый ты человек, князь-отец наш, книжный и в деле нашем, не в пример моему дружку Кузьмищу Киянину, ладно разбираешься. А не к месту пилу помянул, попусту слово молвил.
– Так ли уж попусту?
– Пила – орудие глупое. Зубья придуманы для слаборуких, и дерево от пилы слабеет, волокна размягчаются. Другое дело топор, руби-топор. Рубит как меч. Поры в дереве закупорятся, сырость не попадёт. Рубленая изба двести и триста лет простоит, к дальним правнукам перейдёт. Пилой-ка попробуй.
Федот в сердцах схватился за топор, сердито застучал, но не удержался, любовно провёл ладонью по гладкой доске.
– Видишь, доски дубовые, а словно из меди отлиты.
– Для чего столько дуба заготовляете?
Князь готов был часами вести разговоры с градниками. Надменность свою он оставлял на подворье, приходя на валы, делался обходителен, прост. Нравилось это мизинным людям.
– Зачем, говоришь, доски понадобились, князь-отец наш? – не сразу отозвался Федот. – Тебе одному скажу, без боярина, руби-топор. Дело-то, как бы сказать, государственное.
Федот отвёл князя в сторону.
– Стены двойные ставим, оттого и досок вдвое идёт, – донеслась неторопливая речь. – Помнишь, сказывал тебе про ловушки для звуков? Чуть начнут подкоп рыть – двойные стены сразу оповестят. К примеру сказать, как короб гуслей или гудка, так же и стены двойные – каждый звук вдвое усиливают.
Пётр назад отошёл, словно не желая мешать разговору, и чуть не бегом припустил с валов. Мужичонка, как сговорились, ждал за воротами. При виде Петра он поскрёб горстью в затылке, сморщил короткий приплюснутый нос:
– Эх, грех непростительный на душу беру.
– Не мети языком, как помелом торг, грех на себя перекину.
– Идти туда боязно, боярин, одумаешься, может быть.
– До сей поры со страхом не встретился, любопытствую повидать.
– Страх страху рознь. Бывает, вовек не оправишься.
– Надоел пустой болтовнёй, веди, коли взялся.
Пётр метнул из-под тонких бровей нетерпеливый злой взгляд, рукой коснулся кинжала. Вздыхая и мелко крестясь, мужичонка поплёлся вдоль кромки оврага, по тропинкам, проложенным среди землянок и обнесённых частыми кольями изб.
– Куда ведёшь? – окликнул Пётр провожатого, когда тот начал спускаться вниз. – За оврагом жилищ не имеется.
– Есть, боярин, одна изба. В самом лесу стоит.
– Смотри, коли обман, навсегда в овраге останешься.
– Какой обман! – Мужичонка махнул рукой. Видно, крепко он был не рад, что ввязался, трясся почище, чем в огневице.
Пётр обогнал мужичонку, первым перепрыгнул через ручей, стал карабкаться вверх. Ноздри защекотал сладкий весенний дух. Склон стоял, как молоком облитый, весь в белой черёмухе. Малиновки, пеночки, иволги пели и щебетали в кустах.
– Хоть режь, хоть руби, боярин, – дальше с места не двинусь, – проговорил мужичонка, едва взобрался наверх. – Место тебе покажу – и назад. Может, и ты одумаешься?
– Знать, страх вместе с тобой родился. Чего страшишься?
Мужичонка уставился в землю, с трудом произнёс:
– В том лесу «хозяин» живёт.
– Сам, что ли, видел?
– Кабы видел, в живых не ходил. Гордей вон, кузнец, с ним знался – и нет Гордея. Лебёдушка-то твоя – его дочь.
– Что же она среди леса одна живёт?
– Брат был при ней, да пропал, провалился, словно сквозь землю. Люди сказывают, «хозяин» и тут руку приложил.
Пётр поёжился. Ему приходилось слышать про Гордееву смерть. Но не отступать же, однако, с половины дороги.
– Говори, где дочь Кузнецова живёт, и проваливай.
– Видишь, деревья стеной стоят и вдруг воротами расступаются? Туда и иди. Будет поляна с кузницей, дальше изба.
Пётр бросил под ноги обещанный кошелёк. Мужичонка мигом схватил, зайцем юркнул в кусты.
– Язык держи за зубами! – крикнул вслед Пётр.
– Будь спокоен, боярин, без выгоды мне болтать, – донеслось сквозь треск ломавшихся веток.
Отмерив путь, указанный мужичонкой, Пётр очутился на поляне. Посередине стояла чёрная кузница, за ней, крыльцом на восход, гляделась изба. Вокруг не было ни души. Прилетел дятел, пристроился к дереву возле крыши и ударил раз и другой, примериваясь, и пошёл долбить изо всех сил. «Откуда птица взялась? – тревожно подумал Пётр. – Предупреждает словно». Страх легонько кольнул ядовитым своим остриём. «Не бывать тому, чтобы Кучковы устрашились». Пётр бегом пересёк поляну, на ходу оправил шитый травами узкий кафтан, минуя ступеньки, вскочил на крыльцо, рванул дверь и вихрем ворвался в избу. Но вихрь ответный заставил его отпрянуть. Взвилось в прыжке лохматое чудище, ударило тяжелей камня, пущенного из пращи. Падая, Пётр увидел близко лезвия острых клыков. Кроваво-красный язык почти коснулся лица. «Оборотень, конец», – успел подумать Пётр и, от страха впадая в беспамятство, услышал вдруг чистый высокий голос, промолвивший властно:
– Оставь боярина, Апря.
Жарко дышащая пасть отодвинулась, тяжёлые лапы освободили грудь.
– Уходи, боярин, и помни, – произнёс тот же голос. – В другой раз объявишься – Апрю не отзову.
Ни жив ни мёртв, Пётр поднялся, пятясь покинул избу.
Расстояние до кузницы он одолел с трудом, едва переступая ослабевшими ногами. Не оправился Пётр даже среди людей, когда вновь очутился посреди городской сутолоки. Весь день то жарко дышащая пасть мерещилась, то чудился гневный девичий голос.
– Что поскучнел, брат Пётр? – спросил за столом князь.
Вечеряли, как повелось, в Малой столовой горнице. К трапезе собрались самые близкие. Челядинцы, бесшумно передвигаясь, обносили тройной ухой и просоленными хрящами. Золотились поджаренной корочкой гуси. На серебряном блюде поверх разварных груш лежали куски зайчатины. В кубках играло вино и смородиновая медовуха. Язычки неподвижного пламени спускавшихся с потолка масляных ламп отсвечивали в густой тёмной влаге. Хмельного не пил один князь. Стоявший за спинкой резного кресла Анбал наполнял драгоценный, в каменьях, кубок розово-красной брусничной водой.
– Случилось что, Пётр? – повторил Андрей Юрьевич свой вопрос. – Поделись, коли беда, вдруг поможем.
Пётр опомнился, встряхнул тёмными кудрями.
– Правда твоя, князь-государь, тужить не с чего. Кто тебе ворог – и нам тот не люб. Тебе хорошо – и нам ладно. Эх, распотешу тебя, князь-государь, былью-небывальщиной. Слушайте и вы, братья-бояре, слушай-послушай, честной народ.
Пётр ударил по невидимым струнам, словно лежали у него на коленях звонкие гусли, широко, нараспев начал:
– А и было то под градом под Владимиром, недалече от посада, за оврагами. Добрый молодец, страха не ведавший, повстречался в лесу со страхом. А и был его страх раскрасавицей, в золотое сияние убранной, а и был его страх волком-оборотнем, проживавшим в избе за кузней.
– Придержи язык без костей! – раздался злой окрик.
Князь вскочил с налитыми кровью глазами. Кулаки тяжело опустились на стол.
– Кто позволил тебе, женатому дурню, красавиц по лесу высматривать? Другой раз услышу – в яму каменную заточу.
За что перед всеми обидел князь? Не посчитался, что родичи старшие рядом сидели. Боярин Борис, недавно назначенный тысяцким, скривил насмешливо губы. Злобный Анбал стрельнул из-за кресла угольными своими глазами.
Никогда не простит Пётр Кучков князю Андрею Юрьевичу незаслуженной этой обиды.
Глава II. ЛЕСНОЕ СВЯТИЛИЩЕ
До вечера просидела Иванна возле оконца, смотревшего в лес. В избу вползали серые сумерки, и мысли текли невесёлые, под стать сгущавшейся темноте. Опасно было здесь оставаться. Боярин от первого страха оправится и снова придёт, а деться куда? Если к людям в посад уйти, Апря погибнет. Хоть и бегает он по лесу один, но настоящих волчьих повадок не знает, и в стаю его не возьмут. Податься с Апрей в глухие леса, ближе к Москва-реке? Но как покинуть Владимир? Оборвётся тогда тонкая нить: за один конец Иванна держится, другой – в дальние дали к Дёмке протянут. Что ни месяц, вручал старый Евсей завёрнутую в тряпицу берёсту, добавляя при этом: «Торговый гость из Курска доставил… Нарочный из Чернигова ночью привёз… Вновь из Чернигова…» Приходили письма из разных мест, сообщали одно и то же: «Дело важное, вернусь – расскажу. Жди. Дементий». Два года без малого миновало. Долго ли ещё ожидать.
Тьма сменила серые сумерки. Невидящими глазами Иванна смотрела в лес. Апря свернулся клубком и тихо посапывал.
Но видно, недаром придумали поговорку «Утро вечера мудренее». Рассвет наступил лазоревый, звонкий. Мрачные мысли рассеялись как туман. Иванна сообразила, что есть у них с Апрей убежище и близкое, и надёжное. Второй год она туда не заглядывала, без Дёмки унылым казался путь. Теперь раздумывать не приходилось. Иванна сложила в корзину еду, свернула войлок и тёплый платок, служившие постелью, по дороге набрала вязанку хвороста. От берёзы с двумя стволами тропа шла в сторону Суздальской дороги, но, не доходя, сворачивала через ольшаник к болоту. Сто или, может быть, двести лет по болоту никто не хаживал. Один только Дёмка отважился вступить в жидкую топь. Зато обнаружил он потайную тропку, вывевшую в лесное святилище, и нашёл там среди валунов серый скуливший комочек.
Иванна двигалась следом за Апрей. Волк хорошо знал тропу. Кто, когда её проложил под водой – ни Иванна, ни Дёмка не ведали. Выходила тропа к краю болота, где густо росли кусты, скрывавшие от постороннего взгляда пологий песчаный холм. Выровненная поверху площадка казалась покрытой снегом – таким чистым и белым был здесь песок. Посередине высился грубо отёсанный каменный столб, зажатый у основания серыми валунами. «Словно каменный великан палец в небо поднял, – рассказывал Дёмка, когда вернулся домой, побывав на холме впервые. – Вдруг слышу: камень скулит. Сначала я испугался, потом руку за валуны просунул и вытащил волчонка».
Волки – звери чадолюбивые, детёнышей не бросают. Чужих волчат готовы вскормить, если погибла волчица, выброшенных щенков от собак подбирают и воспитывают как своих. Что же случилось, что остался волчонок один? Суди и ряди – теперь не узнаешь. Ни логова, ни следов Дёмка поблизости не увидел. Произошло всё это в начале мая, а родился волчонок в апреле. К тому времени когда Дёмка его обнаружил, он едва успел глазки открыть. Вот и назвали его Апрель, малое имя – Апря. Вскармливать Апрю пришлось из рожка.
Апря первым вбежал на площадку, уселся возле столба и несколько раз потявкал. Он всегда приветствовал столб, когда попадал на холм. Что вспоминалось ему? Перед столбом чернел выжженный круг, присыпанный отвердевшим пеплом, – отметина, оставленная огнём, знак, что пел и плясал здесь когда-то в честь бога Сварога его сын Сварожич-огонь.
Без малого два века прошло, как Русь приняла христианство. Сброшены были кумиры, установленные Владимиром Красное Солнышко на киевском древнем холме. Деревянный Перун с посеребрённой головой и вызолоченными усами полетел вместе с другими. Но как забыть старых богов, если жили они по соседству – в полях, лесах, реках и даже избах. Тайно сходились люди в священных рощах, украшали венками деревья, лили воду в чаши без дна, чтобы досыта напоить мать-сыру землю. Для бога Сварога разжигали костры. Отцом всем богам Сварог приходился. Не Перун, а Сварог создал вселенную. Он был бог-мастер, создатель, кузнец.
Иванна сбросила хворост на чёрный круг, спустилась к кустам, сломала три ивовых ветви, каждую завязала узлом, пошептала:
– Ивы-провидицы, что вам видится?
От большого столба на юг через всю площадку тянулись столбы поменьше. На самом краю круто вниз обрывались ступени. Покончив с узлами, Иванна достала из короба плошку-светильник, сошла по ступеням в подземный проход. Зашуршали наметённые ветром старые листья. Цеплявший за фитиль огненный язычок разомкнул мрак. Стали видны неровные земляные стены, брёвна, поддерживавшие потолок.
Размерами подземное убежище напоминало землянку. Должно быть, хранили здесь нужную утварь и скрывались от непогоды. Ни стола, ни пристенных лавок не было и в помине. В углу стоял небольшой сундучок. Рядом высился прикрытый плоским камнем бочонок. Иванна с Дёмкой с опаской откинули крышки, когда в первый раз спустились под холм. Потом-то крышки взлетали часто. В сундучке оказался богатый наряд, в стародавние времена принадлежавший жрице Сварога. Достоянием бочонка был крупчатый белый аммоний: курили, должно быть, пахучим дымом в честь бога – создателя и кузнеца. Теперь бочонок на треть опустел: часть белой крупки перекочевала в Дёмкину сумку и короб Иванны. Отец не одобрил бы траты попусту. Аммоний в кузнечном деле употреблялся при пайке и расходовался кузнецами с бережливостью. Но ведь и дымные облака устраивались не для потехи. Белая крупка, попав в огонь, выплывала белым пахучим дымом. Это чудесное свойство аммония Иванна и Дёмка знали с самого малолетства, и аммоний служил им средством защиты, всё равно как воину щит.
Из толщи холма Иванна вышла преображённая. Обычное платье осталось лежать поверх сундучка. Платье, надетое на смену, искрилось от блёсток, нашитых на голубую ткань. Лента очелья, подвески и гривна рассылали светлые праздничные лучи. Медленной поступью, словно наряд превратил её в жрицу Сварога, Иванна двинулась вдоль столбов. На вытянутой ладони лежала плошка-светильник. Струйка пахучего дыма закручивалась вьюнком.
Апря обиженно отодвинулся к краю площадки. Он не любил резкого запаха, огонь он также не одобрял.
Плошка приблизилась к хворосту, сваленному поверх окаменевшего пепла. Плясавший в ней огненный язычок тут же раздвоился. Один язычок остался на фитиле, другой перекинулся на ближние ветви, принялся жадно лизать и заглатывать, хватая добычу снизу. Хворост вспыхнул. Светлое на солнце розово-жёлтое пламя взлетело выше каменного столба. Иванна метнула в костёр первый прут, произнесла нараспев:
– Огонь-Сварожич, наворожи, где брат мой Дёмка, скорее скажи.
Узел от жара распался. Прут изогнулся крутой дугой, выпрямился и исчез. «Дорога», – растолковала Иванна очерченную дугу. Она бросила новый прут. Когда тот сгорел, послала в огонь последний. Три раза был повторен один и тот же вопрос. Три раза ответ обозначился одинаково: дорога, дорога, дорога. А что жил-поживал больше года братец в Чернигове на княжьих хлебах – о том Сварожич-вещун не обмолвился, от сестры утаил.
В Чернигов Иван Берладник и Дёмка прискакали средь ночи вместе с дружиной, повернувшей вобрат киевских детских. Федька Жмудь песни орал по дороге на радостях.
Изяслав Черниговский встретил Ивана Берладника как гостя и друга. На крыльцо вышел. Расцеловались князья.
– Подворьем как собственным распоряжайся, Иван Ростиславович, – проговорил черниговский князь и, обернувшись к дружине, крикнул: – В гриднице стол под ковшами ломится. За поспешание и в деле удачу низкий мой вам поклон.
Князь поклонился. Детские в ответ прокричали славу.
– Теперь поспешим, брат Иван Ростиславович. Цепи твои бесчестные снимем, с дороги передохнёшь и о мытарствах своих со всеми подробностями расскажешь. Каждая малость мне в интерес.
– Не прими за обиду, князь, – остановил гость хозяина. – Хоть и сделал ты для меня больше, чем ближние родичи, не могу один воспользоваться твоей добротой.
Князь Изяслав Давыдович посмотрел удивлённо. Принимая Ивана Берладника, он объявлял великому князю войну. Неужто этого мало? Досада, однако, не задержалась на строгом красивом лице. Ответ прозвучал как положено, со всей учтивостью:
– Проси за кого хочешь, желание гостя – закон.
Иван Ростиславович подозвал Дёмку, обнял за плечи.
– Тебе, князь, я волей обязан. Мальчонке этому – жизнью. Ты старший мне брат, Дёмка – меньшой. Не обессудь за дерзкое слово, только вместе служить тебе будем.
– Пойду я, – сказал Дёмка, когда остался один на один с Иваном Берладником в отведённой для князя горнице.
– Что за поспешность такая?
– Лупана пойду искать.
– Вот те на! – Иван Ростиславович широко вскинул руки, освобождённые от цепей. – Я на радостях, что воля вышла, позабыл о своём погубителе – тебе почему печаль?
– Враг он мне, – сказал Дёмка, уставившись в пол. – От самого Владимира по следу за ним иду.
– Замахнувшись – бей, начав говорить – сказывай.
Дёмка всё рассказал без утайки, доверился до конца.
– Та-ак, – протянул Иван Ростиславович, когда Дёмка кончил. Горбоносое лицо, лишившись улыбки, сделалось грозным. Чёрные глаза загорелись углями. – Ходит, значит, по русской земле отравитель. Первая жертва – мастер-кузнец, вторая – мужичонка-лапотник, третьим должен был стать Берладник. Кто же четвёртый? Уж не сам ли великий князь?
– Лупана немедля схватить нужно.
– Правда твоя, Дементий. Плохо одно: не дурень Лупан, чтобы в снегу дожидаться, куда ты его свалил.
– Всё равно пойду. Вперёд идти – не на месте оставаться.
– Вперёд с умом двигаться нужно.
Князь хлопнул в ладоши. Вошёл Федька Жмудь.
– Отправляйся, Фёдор, в Берлад с наказом: «Велел Иван Берладник сыскать живым или мёртвым отравителя Лупана. По приметам Лупан невысок, руки до колен длинные, голова ушла в плечи, бородёнка встрёпанная серая, как пеплом присыпана».
– Щербатый, кузнецом называется? – взревел Федька Жмудь.
Он что-то хотел добавить, открыл было рот, но вместо этого сжал огромные кулаки и промычал невнятно.
– Никак и тебе он знаком? – удивился князь.
– Встретились раз – не забуду, из-под руки ушёл. Да ты не тревожься, князь-государь. Берладники все дороги пройдут, города и селения прочешут все до единого. Сам серым волком буду по лесу рыскать. В живых отравителю не ходить.
– Ладно ли так? – спросил князь после ухода Федьки.
– Должно быть, ладно, – ответил Дёмка.
С той поры началась у Дёмки непривычная жизнь. Ел и спал он в хоромах, вместо рубахи носил кафтан. Зелёный кафтан надевался во время охоты, для пира служил другой – с высоким воротом, расшитый красными травами. Рыжий коняшка по кличке Медок был предоставлен в пользование.
Среди весёлых забав подворья не позабыл Дёмка про камень. «Камнесечцем я буду, – сказал он Ивану Ростиславовичу. – Уже начал первую выучку, из-за Лупана оставить пришлось. Эх, камень бы мне сюда». Князь Иван привязался к «меньшому», всё для него был готов раздобыть. Камень, однако, пришлось бы везти издалека. Южная Русь строила из кирпича. Кирпичной горой возвышался черниговский храм. Камнесечцы поблизости не работали, каменоломен не значилось ни одной.
Дёмка расположился под яблонями на берегу небольшой речушки, огибавшей подворье со стороны сада. Над головой разноцветным шатром нависали ветви в розовых и белых цветах. На земле, прислонённая к кочке, лежала дубовая толстая плаха размером со стенную плиту. Дёмка углем наводил очертание птицы и тут же стирал неудавшиеся места. Уголь снимался с дерева плохо. По светло-бурой доске расползались грязные пятна. Круглая птичья головка с раскрытым клювом скрылась под чернотой. «Ничего, – успокаивал себя Дёмка. – Закольником выправлю». Дёмка резал третью доску. Дубовая древесина в твёрдости почти не уступала известняку, и работать можно было орудиями, предназначенными для камня. Дёмку это устраивало. Он не дерево резал. Он учился на дереве камнесечному мастерству.
«Стук-постук, стук-постук», – заходил по доске широкий закольник. Звук был не звонкий – глухой. Скорость ударов менялась. Медленней всего пробирался закольник возле головки и клюва. Сложность в том заключалась, чтобы клюв был раскрыт. С раскрытым клювом птица песни свои выпевает.
Из всех развлечений подворья Дёмке больше всего полюбилось слушать музыку. Он с нетерпением ждал, когда рассядутся игрецы. Гудошники обопрут о колено корытце гудка, отставят в сторону выгнутые смычки. Гусельники уложат гусли, начнут проверять, как натянуты струны, приговаривать:
Как начал Добрыня гусельки налаживати, Струну натягивал, будто от Киева, Ещё другую налаживал от Чернигова.Ударят разом смычки, задвигаются быстрые пальцы. Слетят со струн звуки, сплетутся в звонкий венок…
– Долбишь, словно дятел. По стуку тебя нашёл.
Из-за деревьев появился Иван Ростиславович, сел, уперев в землю подошвы мягких красных сапог, принялся разглядывать.
Любимым занятием князя была война. Подвиги, опасность, добыча, риск и громкая многоголосая слава – вот что казалось ему самым главным. Но к Дёмкиному призванию князь относился с почтением.
– Первым был вырезан девичий лик и назван Иванной, вторым появился Апря, – проговорил Иван Ростиславович, не отрывая глаз от доски. – Птицу с хвостом в три волны как назовёшь?
Вместо ответа Дёмка сам задал вопрос:
– Один человек говорил, что в камне душа живёт. Если душу пробудишь, камень заговорит. Что же тогда надо сделать, чтобы камень запел? Можно ли музыку в известняке передать?
– Разве музыку передашь? Бестелесна она, формы видимой не имеет. Вот скоморохи – те в киевской Софии изображены.
– Скоморошья потеха в церкви. Разве бывает такое?
– Значит, бывает, коли сам видел. – Иван Ростиславович улыбнулся во всё лицо. – Как станешь на хоры взбираться, тут они в южной башне тебе и выплясывают, и на дудках дудят.
Внезапно киянка вырвалась из Дёмкиных рук и взлетела выше деревьев. Дёмка вскочил, чтобы поймать орудие на лету. Но Иван Ростиславович был уже на ногах. Он мигом перехватил занесённую кверху руку, рывком бросил Дёмку на землю. Падая, Дёмка успел метнуться под ноги, обутые в красные сапоги. Иван Ростиславович не устоял, повалился рядом.
– У тебя пойдёт! – крикнул он Дёмке. – Главное, страха не знаешь и двигаешься стремительно. Сила в сече – пустое. Сноровка и храбрость одерживают победы.
Иван Ростиславович легко поднялся, принялся отряхивать прилипшие травинки, белые и розовые лепестки.
– Баловство с тобой к вольной жизни память мою оборачивает. Ты же хитрости боевой науки со вниманием перенимай. Научишься биться в ближнем бою – любого врага одолеешь.
– Один заимелся враг – и того не разыскиваю, на месте сижу.
Дёмка помрачнел. Встав на ноги, отвернулся.
– Потерпи. Городов и селений в южных землях не счесть.
– Федька Жмудь больше года молчит. Ещё долго ли ждать?
– Думаешь, мне легко? Пустое слово, что на свободе. На самом деле такой же пленник. Заложником против великого князя Изяслав меня держит, а бежать из Чернигова – схватят.
Иван Ростиславович замолчал. Он увидел, что Дёмка повернул голову к саду и настороженно вслушивается. Мгновение спустя, опережая друг друга, Иван Ростиславович и Дёмка неслись через сад. Подоспели они в самое время. На подворье влетел чёрный от пыли скоропосолец, кубарем скатился с седла, топоча сапогами, вбежал на крыльцо. В тот же миг понеслась по Чернигову злая весть: «Умер великий князь Киевский. Нет Мономахова сына больше в живых».
Следом за скоропосольцем к Изяславу Давыдовичу явились киевские послы: «Ступай, князь, на Киев. Юрий умер».
«Князь же прослезился, – записал летописец. – Воздел руки к богу и вымолвил: „Благословен ты, господи, что рассудил меня с ним смертью, а не кровопролитьем“.
Глава III. СОФИЙСКИЕ СКОМОРОХИ
Великий князь Киевский скончался 15 мая. Скрутило в пять дней. Занедужил Юрий Владимирович, воротясь от Петрилы. Пировали у боярина весело, пили-ели без меры, счёт выпитому не вели. Боярин Петрила начальничествовал над сбором торговых пошлин – должность из хлебных – и своего благодетеля-князя принимал торовато, ни в чём не скупясь. Яства на стол подавались отборные. Вина в серебряных кубках играли стоялые, вывезенные из заморских стран. Съеден ли был лишний кусок, время ли подоспело? Лекари не спасли.
Как пузырь на воде всплыл и кругами пошёл слух, что опоили великого князя на пиру у Петрилы отравленным зельем. Откуда ни возьмись, появились неведомые людишки, принялись шепотком подстрекать: «Суздальцы нам чужаки, от них все беды. Сами князя отравили – на Киев свалят. Не сносить нам голов, коли суздальцев не прогоним». Тело великого князя ещё лежало в храме, не преданное земле, а обезумевшая толпа уже разгромила великокняжеский дворец. Напрасно митрополит призывал горожан образумиться. Увещевания пронеслись мимо цели, и, покончив с киевским, главным дворцом, погромщики переправились через Днепр, где находились пригородные хоромы. «Бей, жги, громи!» – перестав таиться, в голос кричали смутьяны. Не успевших укрыться дружинников и челядинцев убивали на месте.
Разгром и убийства длились три дня. На четвёртый день во главе своих воев в Киев въехал Изяслав Давыдович. Народ метнулся встречать. Князь ехал на серебристом с белой гривой коне, закованный в серебряные доспехи. Красивое холодное лицо сохраняло неподвижность каменного изваяния. Впереди бояр из старшей дружины гарцевал Иван Ростиславович. Вороной конь выплясывал под статным всадником.
Пели трубы, громыхали звонкие бубны, народ кричал славу. Кого приветствовали – Изяслава ли, во второй раз пришедшего сесть на киевский стол, или героя и удальца Ивана Берладника?
На князе Иване кольчужка поверх красной рубахи жарко горит. У князя Ивана улыбка во всё лицо.
Черниговцы миновали Боричев ввоз, мимо торга проехали через Подол, поднялись в главную часть города, расположенную наверху. Киев словно расколдовали. Смутьяны попрятались. Зверских лиц и взнесённых ножей как не бывало.
Иван Ростиславович вместе с другими проследовал в разгромленный великокняжеский дворец. Дёмка бросился в город.
Жили в давние времена три брата-князя: Кий, Щек и Хорив. Сестра при них единственная подрастала – красавица Лыбедь. Старший брат занимал гору, где Боричев ввоз соединялся с Подолом. Средний брат на другой горе жил, младший – на третьей. Основали братья-князья на трёх горах един город. Одну гору прозвали Щековицей, другую – Хоривицей. Речка, впадавшая в Днепр, обернулась красавицей Лыбедью. Кий всему городу имя своё передал. И поднялся Киев могущественный и прекрасный, обнесённый крепкими стенами, изукрашенный златоверхими храмами, «ведомый и слышимый в каждом конце земли».
«Все улицы обегу, возле каждого строения побываю», – думал Дёмка, едва успевая вертеть головой. Он нёсся мимо домов в один и два яруса, с расписными крылечками и балконами-гульбищами, с затейливой резьбой вокруг слюдяных оконцев. По сторонам Главной улицы, протянувшейся от Золотых ворот, стояли нарядные церкви из красных и розовых кирпичей. А если от трёх городских въездов провести три ровные линии, то там, где они сойдутся, в самой серёдке города, поднималась уступами громада всерусского храма – киевской Софии. Празднично возвышались розово-красные стены. Плыли в синем небе, как в океан-море, тринадцать больших и малых ладей-куполов.
«Сто лет, как возвели», – восхищённо подумал Дёмка, вступая в открытые галереи, опоясавшие с трёх сторон красные стены Софии, полосатые от розового раствора, на который клались ряды кирпичей. Стена, смотревшая на восход пятью полукруглыми выступами, одна оставалась свободной. За выступами внутри помещался алтарь. «Сам Ярослав Мудрый храм заложил, чтобы узнали все страны, как могуча Киевская держава. Другого подобного строения нет на Руси». Дёмка обошёл мощные алтарные выступы, вдоль северной стены перешёл на закатную, под беломраморной аркой со множеством тонких колонок вступил вовнутрь и оробел. Даль перед ним открылась необозримая, словно в лесу, пронизанном солнцем.
Свет падал сверху из узких окон под куполами. Косые лучи перекрещивались и ложились светлыми пятнами к подножиям двенадцати огромных столбов. За столбами ширилось и продолжалось пространство. Полумрак затенял углы. Помещённые на стенах фигуры воинов и святых выступали оттуда едва приметно, на свету виделись отчётливо. Фигуры были повсюду: на стенах, арках, сводах, столбах. Исполненные решимости лица, величавые позы, властные жесты рук. Роспись по штукатурке, выполненная неяркими, приглушёнными красками, сменялась мозаикой, набранной из кубиков сияющей смальты, похожей на самоцветы. Мозаичные складки одежд струились сиреневым, синим и серым потоком. В глазах под дугами тёмных бровей горело пламя. Золотое поле вокруг фигур то празднично переливалось, то мерцало таинственно. Кубики располагались неровно и светились по-разному. Богоматерь с воздетыми кверху руками казалась залитой солнцем.
Дёмка долго разглядывал роспись, изображавшую выход семьи основателя храма. Сам Ярослав Мудрый возглавил шествие. Следом за ним, по лазорево-синей стене, неспешно передвигалась его супруга, княгиня Ирина. Друг другу в затылок шли княжичи-сыновья. Перебирали сапожками княжны-дочери – будущие королевы Франции, Венгрии и Норвегии. Разодеты все в светлые одеяния. Плечи княжичей прикрыты разноцветными корзнами. Платки на головах княжон оторочены пёстрыми каймами. Но больше всего поразил Дёмку купольный храм с мощными стенами. На вытянутой ладони Ярослава Мудрого высилась уменьшенная София.
«София большая может глядеть на своё подобие, как в зеркало или воду глядятся», – подумал Дёмка.
В храме было безлюдно и тихо. Народ остался на площади перед дворцом в ожидании новостей. Несколько женщин в тёмных одеждах стояли у алтаря, да время от времени, ступая по смальтовым плиточкам пола, как по ковру, бесшумно проходили монахи в простых чёрных рясах и исчезали за столбами в тени. На Дёмку никто внимания не обращал. Он приблизился к южной стене, оглянулся и проскользнул в проём, ведущий к лестничной башне. В другое время его бы сюда не впустили. На хоры поднимались князья и бояре, чтобы стоять выше всех, не смешиваясь с мизинным народом. Но сейчас порядок нарушился.
Пологие ступени, нависая одна над другой и кружась, уходили от Дёмки к далёкому потолку в голубых и жёлтых разводах. Навстречу спускались охотники, звери, пеший и конный люд. На кружившихся стенах разворачивалась жизнь княжьего подворья: охота, пиры, конные скачки. А вот и скоморохи в лоскутных рубахах и колпаках с бубенцами. Глаз было не отвести от стены, прорезанной узким оконцем, где дудели они и плясали, подпрыгивали на одной ноге и ударяли по струнам гуслей. Дёмка боком перешагивал через ступени, лицо обернув к стене. Ступень – скоморох пляшет с платком в руках. Ступень – два скомороха дудят в длинные дудки. Вдруг Дёмка споткнулся и чуть не упал. Он бросил взгляд под ноги, отскочил, прижался к стене.
Поперёк ступеней лежал человек с ножом, всаженным в грудь. Ярость и страх застыли на мёртвом лице. В зарослях клочковатой бороды скалился беззубый рот.
Дёмка едва удержался, чтобы не закричать. Он узнал убитого, узнал он и нож, послуживший орудием смерти. На рукояти среди узоров посверкивало финифтью заглавное «Д».
Что же так испугало Дёмку? Разве не за Лупановой смертью ушёл он из дому, не для того ли терпеливо дожидался, пока отыщется след? Почему он вдруг оробел, вжался в стену, словно хотел врасти в штукатурку и смешаться с толпой скоморохов? Куда подевалась его решимость?
– Одно дело – убить противника в честном бою, другое – споткнуться о мёртвое тело, – пробормотал Дёмка и бросился вниз.
Прибежав во дворец, он вызвал Ивана Ростиславовича:
– Лупан неживой в Софии лежит.
– Нашла отравителя смерть. Пойдём вместе посмотрим.
Вдвоём вступили они в Софию, от входа с заката прошли на юг, очутились в лестничной башне. Под ногами закружились ступени. Поворот, ещё поворот, скоморохи, пляшущие на стене…
– Где же Лупан? – спросил Иван Ростиславович. – До самого верха лестница, похоже, пуста.
– На этом месте, возле окна, лежал, – растерянно пробормотал Дёмка. – Да вот смотри: кровь.
На ступенях темнело пятно.
– Совсем мало вытекло. Ранили, наверное, не убили.
– Нож по самую рукоять вошёл. Я нагнулся: лицо застыло.
– Упокой, господи, грешную душу, – перекрестился Иван Ростиславович. – Эх, догадаться бы тебе, Дементий, прибрать сулею его проклятую. Попадёт ещё зелье другому негодяю в руки.
– Не догадался, – вздохнул Дёмка. – Помрачение от страха нашло. И нож свой не вытащил, и бляшки в сумке остались, что кузнец просил передать. Надо было хоть мёртвому возвернуть.
– Бляшки – пустое, думать о них позабудь. Прежде всего монахов расспросить надо. Быть может, святые отцы похоронили Лупана.
Но монахи в ответ лишь разводили руками: «Неужто могло в святом месте убийство произойти?»
Иван Ростиславович с Дёмкой осмотрели на всякий случай лестницу в северной башне и, ничего не найдя, покинули храм.
– Отправлюсь, раз нет Лупана в живых, – сказал Дёмка, как только они очутились на залитой солнцем площади.
Князь понял, о чём идёт речь.
– Жаль мне с тобой расставаться, – проговорил он невесело. – Но удерживать мимо воли не буду. Знаю, что во Владимире тебя ждут. Иванна через тебя и мне сестрою доводится.
Оба замолчали. В разлуке перед дорогой таится печаль.
– Медок твой – коняшка резвый, – первым заговорил князь. – Земля просохла, дорога утоптана, к лету во Владимире будешь. Лишней казны тебе не навязываю: знаю, что не возьмёшь. Но о братстве нашем накрепко помни. Если случится беда или обиду кто нанесёт, дай только знать. Из-под земли явлюсь.
Дёмка молча кивнул головой. Слова все исчезли.
– И будет у меня к тебе просьба великая, – продолжал князь. – Как во Владимир вернёшься, поспеши, сделай милость, к князю Андрею Юрьевичу и скажи от меня речь: «Здравствовать тебе многие годы, князь-государь Андрей Юрьевич. Горе твоё из-за смерти отца разделяю всем сердцем. Хоть и считал меня Юрий Долгие Руки врагом, однако дела его признаю великими. Ты же, князь Андрей Юрьевич, первый мне друг, и крест тебе на том целовал. Об одном хочу упредить: если пойдёшь ты, князь, воевать киевский стол, то биться буду против тебя, моего друга, за великого князя Изяслава Давыдовича, не обессудь. Волей ему обязан. Воля для меня всё одно что жизнь, и потому должник я князя Изяслава Давыдовича на все времена». Запомнишь?
– Запомнить нетрудно, – усмехнулся Дёмка. – Только кто меня к князю допустит? На крыльцо-то взойти не дадут.
– С этим всюду пройдёшь. – Иван Ростиславович сдёрнул с руки горящий каменьями перстень, протянул Дёмке. – В давние времена, когда наши кони голова к голове бежали, переменились мы с князем Андреем на счастье перстнями. Я ему с яхонтом отдал, от отца мне доставшийся. Он мне – вот этот. Мать-половчанка на руку ему надела. За долгие годы, думаю, не забыл. Перстень передашь через челядинцев. Князь сам тебя позовёт.
Дёмка уехал. Как провожали Юрия Долгие Руки в последний путь, видеть ему не пришлось. А похороны проходили торжественно, со всеми почестями, как подобало. Склеп-гробницу устроили в окраинном храме возле Печорского монастыря. Шествие растянулось через весь город, от самой Софии до городских стен. Впереди, окружённый священниками в золотых ризах, двигался митрополит. Далее следовал великий князь Киевский Изяслав, за князем – дружинники и бояре. Мизинный народ толпился в хвосте и отставал, расползаясь по ближним улицам. Многие плакали.
Глава IV. ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ
Весть о смерти великого князя ввергла Андрея Юрьевича в исступлённое горе. Любил он отца. С младых ногтей привык восхищаться его волей, умом; случалось, и спорил, но каждое отцовское слово почитал для себя законом. Единственный раз проявил он непослушание – из Вышгорода ушёл. И вот не дождался его отец, умер. Раскаяние терзало Андрея Юрьевича. Он затворился в обитой синим сукном горнице. Слюдяное оконце велел прикрыть ставнями, чтобы длилась вечная ночь. Сам затеплил лампаду в виде яйца, подвешенную на цепях из круглых колец. Круг знаменовал вечность. Доступ в Синюю горницу получил один Анбал. Он и еду приносил, он и стражу нёс возле дверей.
Княжичи, Кучковы, тысяцкий – все подступали к Анбалу:
– Доложи, сделай милость, может, допустит. Горе в одиночку тяжко нести, на ближних поровну делить надо.
– Князь-государь Андрей Юрьевич приказал на запоре двери держать, не докучать делами земными, – отвечал челядинец.
Приходила к дверям Улита Степановна. Следом за княгиней выступала краснощёкая мамка-кормилица с запеленатым младенцем Юрием на полных белых руках. Меньше года прошло, как маленький княжич появился на свет.
– Пойди, Анбал, – ласково говорила Улита Степановна. – Доложи государю Андрею Юрьевичу, что извелась от тоски супруга его верная, хоть не надолго желает свидеться.
– Не велено, государыня-княгиня, – с поклоном отвечал челядинец. – Молится князь Андрей Юрьевич. В одиночку он желает отца своего, великого князя, оплакивать.
Жизнь замерла на княжьем подворье. Ходили бесшумно, говорили вполголоса. Из хором уныние перебросилось в город. Владимирцы погоревали сколько положено, отстояли заупокойные службы и вернулись к обычным делам. Но не стало на улицах прежнего оживления, умолк перестук топоров, начинавших свою перекличку сразу за петухами. Князь отменил работы. Градники разошлись по домам. Федотова артель подалась на рубку в глухие боры. Далеко от Владимира стучали теперь топоры.
Тишина истомила Петра Кучкова. Боярин привык жить весело, шумно. День-деньской он ходил неприкаянным, пока не измыслил потеху – себе на радость, людям на горе. Кликал он двух закадычных дружков из детских, таких же отчаянных головорезов, каким был сам, и если не отправлялись они втроём на пирование в Суздаль, то выезжали на Суздальскую дорогу озоровать над мимоходящими. Лица обматывали холстинами, как черти делались страшными. Кого к дереву уздою прикрутят, у кого кошель с пояса срежут, кого верёвкой с коня сшибут. Владимирцы догадывались, чьих рук дела безобразные, но жаловаться было некому. Князь Андрей Юрьевич скоропосольцев отказывался принимать – куда тут жалобщикам соваться.
Скоропосольцы неслись во Владимир со всех концов обширной Руси. Удельные князья хотели знать: пойдёт или нет владимирский князь воевать киевский стол, кого другом считать, кого врагом, к войне готовиться или миру? Вопросы задавались важнейшие. Ответы ожидались с великим нетерпением. Андрей Юрьевич не слушал, не отвечал. Дозволенные речи скоропосольцы наговаривали старшим Кучковым или тысяцкому Борису, тайные речи увозили вобрат. Приказа не было мимо князя речи передавать.
К празднику троицы, павшему на середину июня, Владимир окончательно сбросил печаль. Хоромы и избы украсились ветками в россыпи зубчатых листьев. На храмах повисли плетения из цветов. Церковный праздник приходился на дни, когда с давних времён было принято славить леших, русалок и водяных, сплетать им венки, срезать для них от берёзы ветви.
Милей и краше берёзы нет дерева на Руси. Лес без белых стволов уныл, дорога, не размеченная метущимися по ветру зелёными кронами, бесконечной покажется. И зеленеет берёза одна из первых, и сок у неё живительный, и чурки берёзовые жарче других поленьев горят. Великая мощь заключена в берёзе. Пусть же поделится своей силушкой с землёй, водой и людьми. Поле одарит большим урожаем, воду наполнит обильно рыбой, людей от козней злых духов убережёт.
Священники грозили карами на «том свете». Угрозы не действовали. Народ отправлялся в леса хороводы водить, венки заплетать, украшать деревья пёстрыми лентами. Девицы, взявшись крест-накрест за руки, двигались к полю и пели:
Берёзоньку на поле носила, Чтобы хлебушек поле родило.Хоровод шёл к реке:
Берёзоньку в воду спускала, О милом гадала.По воде плыли берёзовые венки. Священникам пришлось пойти на уступки и разрешить являться в церковь с берёзовыми ветвями.
На троицу кончилось затворничество, длившееся более месяца. Андрей Юрьевич в первый раз покинул Синюю горницу.
– Строго-настрого князь-государь приказал, чтобы на глаза ему не попадались и с разговорами не подступали, – оповестил Анбал всех, кого нашёл нужным.
– Куда же отправился Андрей Юрьевич? – всполошился Яким.
– Про то не знаю, не изволил сказать.
– Для чего простой плащ надел, детских не взял?
– Княжья его воля. Не всякое дело князь-государь выставляет на обозрение. Любопытствовать со строгостью запретил.
– Что за дела тайные? – недоумевали ближние. Однако после Анбаловых слов выслеживать князя не отважился ни один.
Посадские задворки вывели Андрея Юрьевича к убегавшим вниз огородам. С камня на камень переправился он через ручей, сквозь душную заросль кустов пробился по склону наверх. Стрелы и лук оставлены были дома. Великий грех убивать на троицу, хотя бы и волка. Но встретить участников «чуда» князю хотелось не меньше, чем два года назад, когда вернулся из Вышгорода. Для того и день выбрал он праздничный, зная, что стар и млад покинули город и ушли в леса хороводы водить. Для того закутался в старый плащ и шапку надвинул низко.
Лесная красавица с её волком представляли собой опасность. Андрею Юрьевичу крепко запомнилась пропетая боярином песня. Хоть и оборвал он недоумка на полуслове, приказал на поляну не хаживать, но своевольный Пётр способен ослушаться. Если правда о «чуде» всплывёт на поверхность, в руках у Кучковых окажется улика против владимирских дел. В любой момент сплочённая боярская семья может врагом обернуться. Примеров тому много известно.
Андрей Юрьевич пересёк луг. Он двигался, как по зарубкам. Пётр в песне выдал дорогу: раскрасавица с волком-оборотнем проживает в лесу, за кузней. Лес расступился. Открылась поляна с кузницей и избой, поставленной на восход. Волоковые оконца, закрытые изнутри заслонками, смотрели слепо – верный признак, что избу покинули надолго. Уходя на короткое время, хозяева оконца не закрывали. Андрей Юрьевич прошёл на крыльцо, поднялся по ступеням. В петлях дверной щеколды вместо замка торчала железная втулка – входи кто хочет. Втулку он выдернул, в избу вошёл. Свет из распахнутой двери высветил чистый, без единой соринки, земляной пол. Деревянные вёдра в углу на лавке стояли пустыми. Горшки на подвешенной полке опрокинуты были кверху донцами. Но когда Андрей Юрьевич приложил руку к печи, он ощутил затаённое в глине тепло. Выходило, что избу или недавно покинули, или жилище время от времени кто-нибудь навещал.
Андрей Юрьевич вышел, затворил на щеколду дверь и, как был, в старом плаще и шапке, двинулся в лес.
Словно князья в укреплённом детинце, жили Иванна с Апрей на песчаном холме. Ни человек, ни зверь не имели к ним доступа. Одних болото задержит, других волчий дух отпугнёт.
Домом служил шалаш, сооружённый когда-то Дёмкой среди узловатых стволов низкорослых болотных сосен. Старые ветви заменены были новыми, пол был застелен еловыми лапами, сверху раскатан войлок.
Три раза за это время наведывалась Иванна в город. Купец разводил руками и покачивал головой: вестей от Дёмки не поступало. Иванна уходила опечаленная. На обратном пути она заглядывала в избу и кузницу – всё ли в порядке? Наспех протапливала печь, пекла лепёшки, варила кашу и торопилась назад. Возле болота её догонял Апря. Как бы далеко ни убегал он по волчьим своим делам, встречал непременно. Раздавалось быстрое с присвистом дыхание, мелькала длинная тень.
И вот уже прыгал волк рядом, тявкал, как весёлый щенок, повалившись на спину, махал в воздухе всеми лапами. Вместе Иванна и Апря перебирались по кочкам через болото к своему потайному жилью.
Праздничный день на холме начался вместе с зарёй. Иванна поставила перед Апрей миску сваренной накануне каши. С малолетства волк приучился есть, что едят люди. Другую пищу добывал в лесу сам. Иванна также поела, вытерла руки вышитым полотенцем. Остаток каши спрятала в яму. Потом спустилась в убежище под землёй, вышла оттуда наряженная жрицей Сварога и в драгоценном своём уборе двинулась в лес. Апря тотчас отстал. Он не любил медленного передвижения и убегал, если видел, что затевается сбор ягод, грибов или кореньев, росших возле тенистых ручьёв. Но держался Апря поблизости. Стоило лишь посвистать, и он мчался на зов короткими стремительными бросками.
Иванна шла от дерева к дереву с охапкой венков и пучком принесённых из дому цветных тесёмок. Она чувствовала себя хозяйкой. Ей нравилось одаривать лес, развешивать венки, вплетать в ветви разноцветные лоскутки. Деревья радовались своему празднику, стояли гордые, в солнечных светлых бликах, как в россыпи золотых бляшек. «Это тебе», – говорила Иванна. Она вешала венок на берёзу и проводила ладонью по белой шелковистой коре. «Это тебе». Ладонь поглаживала шершавый ствол ели. На осину, возле которой остановила когда-то князя, готового спустить тетиву, Иванна повесила три венка, навязала на ветви множество ленточек: «Это тебе». Для всего леса она пропела:
Берёза зелёная силу принесёт, Лес зацветёт. Свети-свети, солнце-колоконце.Прозвенели в лад песне кольца с семью лепестками, звякнула гибкая гривна. Иванна всё ближе продвигалась к дороге.
Серый в яблоках крапчатый конь бежал неторопливой рысью. Всадник сидел свободно, чуть отвалясь назад. Ни дружинника, ни торгового гостя всадник не напоминал. Дружинник имел бы лук за плечами, а не один лишь у пояса короткий меч; торговый гость тюки с товаром перекинул бы через седло. И всё же по лесу ехал человек не простой. Широкие плечи и грудь облегал тёмный кафтан нездешнего кроя. На шапке красовалась финифтяная бляшка с изображением святого Луки – покровителя живописцев. Отливавшие тёмной медью волосы спускались на лоб ровно уложенными прядями.
Дорога, зажатая с двух сторон цветущим кустарником, напоминала ярко расписанный коридор. Деревья казались столбами, несущими синий свод. Было тихо, светло, безлюдно.
Вдруг из-за поворота в самом конце коридора показался конный отряд в три человека. На ходу отряд перестроился. Ехавший первым придержал своего коня и пропустил вперёд двух других, занявших края дороги. Образовалось подобие треугольника с остриём, обращённым назад. Дорога давала единственную возможность избежать столкновения. Нужно было спрыгнуть на землю и пробиться с конём сквозь кусты. Вместо этого рыжеволосый всадник пустил крапчатого в полный галоп. Треугольник с гиканьем приближался. Стали видны праздничные кафтаны, кожаные черпаки под сёдлами. Неразличимыми оставались лишь лица, замотанные холстиной до самых глаз. Вот первые двое перебросили что-то друг другу. Мелькнул и исчез ловко подхваченный кругляшок. Всадник изготовился, подался вперёд. И в тот самый момент, когда протянувшаяся через дорогу верёвка должна была выбить его из седла, он выхватил подвешенный к поясу меч. Взмах рассёк воздух, обрывки верёвки взлетели по сторонам. Одновременно нарушилось треугольное построение. Левую руку всадник выбросил вбок. Скакавший в острие треугольника встретился с кулаком, напоминавшим по твёрдости боевой молот, и вылетел из седла. Проклятия и громкая ругань огласили лесную дорогу.
– Хватайте рыжего дьявола, бейте! Уйдёт!
Две стрелы полетели вдогонку быстро удалявшемуся всаднику. Одна просвистела мимо виска, царапнув бляшку на шапке. Вторая, уже на излёте, вонзилась между лопатками. Всадник попытался ухватиться за шею коня. Но руки разжались, в глазах померк свет.
Услышав тревожные крики, Иванна подкралась к самой дороге и раздвинула ветви ольшаника. В праздничный день совершалось злодейство. Иванна увидела, как двое с закрытыми лицами приподняли с земли неподвижно лежавшего человека и волоком потащили через кусты.
– Бросьте подальше, чтобы на глаза не попался мимоходящим! – крикнул вдогонку третий.
Он стоял к Иванне спиной, но голос Иванна узнала. Она подождала, пока двое бросили свою ношу под развесистой елью и вернулись к коням. Взметнулось и опало облако серой пыли. Потонул в птичьем щебете цокот копыт. Дорога стала безлюдной.
Человек под елью лежал лицом вниз. Под правой лопаткой торчала стрела, но жизнь сохранялась в недвижном теле. Приложив ухо к левому боку, Иванна различила глухие удары. Ни на мгновение она не промедлила. Быстро нашла придорожные листья и цветы вероники, растёрла в кашицу. Потом, собрав всю силу в руках, рывком выдернула стрелу, повернула раненого на бок, дала стечь первой крови, прошептала семь раз: «Чёрное – в землю, синее – в небо, красное – никуда». На седьмой раз кровь послушалась, перестала течь. Иванна обмазала рану цветочной кашицей, перевязала тряпицей, оторванной от подола платья. В сознание раненый не приходил. Лицо в обрамлении рыжих волос делалось всё бледнее. В избе у Иванны хранился горшочек с живительной смолкой. Путь через лес и болото короткий. Она успеет, спасёт, не выдаст рыжеволосого смерти. Кто Кучкову враг – её тот друг.
Иванна извлекла из короба светильник и белую крупку – огонь и аммоний всегда находились при ней, – посвистала, покурила дымком. На свист примчался Апря – единственный зверь, притерпевшийся к едкому дыму. Другие обитатели леса близко к ели не сунутся. Иванна уложила раненого на спину, снова покурила дымком. Резкий запах вернул раненому сознание. Он открыл глаза. Увидел склонённое над ним девичье лицо, русые пряди волос, кольца с качавшимися лепестками. Рядом он увидел звериную морду. Большие глаза в меховой оторочке глазниц были прозрачны, словно вода, и отсвечивали зелёным. Увидев всё это, раненый смежил веки.
– Мы вернёмся, – прошептала Иванна, не зная, слышит он или нет. – Мы принесём смолку, и ты будешь жить.
Глава V. ЗАПАДНЯ
Греческого богатыря Антея наделяла мощью земля. Князь Андрей Юрьевич черпал силы в лесу. Деревья учили противостоять невзгодам. Без жалоб перенесли они зимнюю стужу, выдержали натиск холодных ветров. Теперь оделись в зелёные листья и славили лето. Не оттого ли живуч стародавний обычай обряжать деревья в яркий наряд? Пёстрые лоскутки то там, то тут мелькали среди ветвей. Казалось, берёзы, сосны и ивы расцвели невиданными цветами. Кто же, однако, развесил ленты и сплёл венки? Владимирцы в будние дни избегали ходить за посадский овраг – вряд ли пожаловали сюда в праздник. Уж не прошлась ли по лесу «русалка»? Андрей Юрьевич остановился, помедлил немного и повернул назад. Он решил ещё раз побывать на поляне. Шаг его сделался осторожным, глаза зорко просматривали даль. Вдруг совсем близко, в пятидесяти шагах, не далее, мелькнула быстрая тень. Андрей Юрьевич вжался в ствол низкорослой сосны, готовый в любой момент взобраться на дерево. Но волк в его сторону не покосился. Спокойной рысцой он трусил между деревьями, прокладывая дорогу хозяйке. Девица бежала, придерживая подол голубого искрящегося платья. Копна несобранных в косу русых волос неслась за ней облаком. Вот плотно сбитый кустарник прикрыл обоих, вот на виду они вновь. Тропа, но которой они бежали, вела к приметной берёзе с раздвоенным стволом. Оттуда до поляны рукой было подать. Держась против ветра, Андрей Юрьевич помчался в обход. Он достиг поляны в тот самый момент, когда девица с волком скрылись в дверном проёме. Вбежал на крыльцо и с силой захлопнул дверь. Волк взвыл. Острые когти заскрежетали по крепким дубовым доскам.
Ещё не веря в удачу, Андрей Юрьевич задвинул щеколду, просунул в петли кинжал.
Было слышно, как вскрикнул слабо девичий голос и тут же смолк. Оборвался и волчий вой. В избе наступила тишина. «Верно, забилась „русалка“ в угол у печи», – подумал Андрей Юрьевич. Но, повернув голову, он увидел пленницу почти рядом. Заслонка не закрывала больше оконце, прорезанное возле крыльца. Девица припала к самой щели. Гневный взгляд больших синих глаз обжёг как выпущенная из бойницы стрела.
– Зла на тебя не держу, страшиться тебе незачем, – мирно вымолвил Андрей Юрьевич, приближаясь к оконцу.
Девица отпрянула, отодвинулась в глубину.
– Чего мне страшиться? – сказала она оттуда. – Ты князь, не разбойник ночной. Последнее дело своего князя страшиться.
– Вот и ладно, что признала. Значит, будешь повиноваться как должно, не надумаешь в пререкания вступать.
– Приказывай, коли к добру. Только, сделай милость, выпусти поскорее. Ждут нас. Вскорости быть обещали.
– Передай мне волка и поспешай куда хочешь. Не задержу.
В избе помолчали, потом раздался смешок.
– Бери.
– Я мальчонкой до шуток охотником не был, теперь и вовсе время прошло.
Андрей Юрьевич направился к кузнице, возвратился с мотком верёвки и большим, в пол-локтя, замком. Верёвку он бросил в оконце. Замок навесил на петли, вернув в ножны кинжал. Торчавший в скважине ключ был повёрнут на три оборота и спрятан в кошель. Покончив с этим, Андрей Юрьевич твёрдо, с напором проговорил:
– Волка скрути, чтобы ни лапой, ни мордой не смог ворочать, и привяжи к лавке. Сделаешь – дверь отопру.
– Не привык Апря к путам. Отпусти так.
Пока Андрей Юрьевич наведывался в кузницу, девица успела переменить наряд. В простом сарафане-летнике сидела она на лавке и заплетала косу. Волк лежал рядом. Морда вытянута вдоль лап, острые уши стоят торчком, хвост напряжённо подрагивает.
Снова увидев в оконце князя, девица поднялась, поклонилась.
– Отпусти, князь-государь, чужая беда тебя просит.
– Сделай как сказано и ступай на все стороны.
– Ты князь, тебе ли учить предательству?
– Зла волку не причиню. Жить он станет у меня на подворье. Есть-пить будет досыта. Хочешь, цепь повелю выковать из серебра. И тебя богатой казной награжу, не обижу.
Девица выпрямилась, перебросила косу за спину.
– Зачем мне казна? Лес богаче подворья.
– Дело хозяйское. Я своему слову предан. Свяжешь волка – тебе свобода. Заупрямишься – дожидайся в избе под замком, пока кликну детских. Только вряд ли будет от них пощада.
– Зови, – равнодушно сказала пленница. – Двоих, а не то троих Апря успеет загрызть, пока твои молодцы нас прикончат. Меняй жизнь на жизнь, князь-государь. В брата моего мальчонку ты уже целился. Теперь расправляйся с нами.
Гнев жаркой волной опалил Андрею Юрьевичу щёки и лоб.
– Жизни разменивать нужды нет, – проговорил он глухо. – Детские проще дело устроят. Обложат избу сухим хворостом да подпалят со всех сторон. Сами на волю запроситесь. А уж о крепкой сети для волка мои молодцы расстараются.
– Попусту время потратят. Живыми в руки мы не дадимся. Апрель – месяц вольный. Тому не бывать, чтобы Апря покорной собакой сторожил подворье. Запаливай хворост, князь-государь.
Андрей Юрьевич проверил запоры. На славу была сработана щеколда, хоть крепостные ворота запирай на ночь. Замок держался в петлях, словно литой. Ключ находился в надёжном месте.
Что же касается волоковых оконцев, не только волку – крупной собаке не выпрыгнуть через прорубленные в брёвнах узкие щели.
– Размышляй до утра. Утром детских с сетью пришлю.
Не мешкая долее, Андрей Юрьевич направился в город.
За время его затворничества подворье сделалось местом безлюдным: ни криков, ни смеха, ни звона посуды. Бояре отсиживались в хоромах, челядь разбрелась по углам. Даже младшего Кучкова с дружками из детских не видно было, не слышно. Один Анбал расхаживал без опаски. Он тут же поскрёбся в закрытую дверь, едва Андрей Юрьевич прошёл в Синюю горницу.
– Дозволь сообщить, князь-государь.
– Что за поспешность такая?
– Боярин Яким Кучков настоятельно повелел: «Дело важнейшее. Как князь-государь вернётся, без всякого промедления доложи».
– Видно, от дел на том свете избавлюсь. Ну, говори, коли Кучков настаивает, чтобы мне покоя не дать.
– Зодчий во Владимир пожаловал – вот и всё дело. Боярин сказать велел, что из Германии прибыл. Тамошний государь-император Фридрих Барбаросса направил зодчего самолично.
– Всем новостям новость! Дождался Владимир своего праздника, поднимется чудо-храм. Оповести Улиту Степановну и всех остальных, что примем германца завтра. Или нет, иначе поступим. К княгине я сам пойду, ты же вот что…
Обитые толстым сукном бревенчатые стены обычных звуков не пропускали. Всё же голос Андрея Юрьевича снизился до шёпота, когда он начал что-то рассказывать склонившемуся челядинцу.
– Одному тебе доверяю, – проговорил Андрей Юрьевич напоследок. – «Русалки» и серого волка не забоишься?
Анбал с укором поднял глаза.
– Ну, ну, – усмехнулся Андрей Юрьевич. – Храбрость твоя известна. Одного боюсь: что в ход не придётся нынче пустить. Запоры на клетке надёжные. Подмогу пленникам некому оказать. Владимирцы страшатся в тот лес захаживать.
Летние ночи короткие. Едва успевали всадник и конь передохнуть, как занималась заря и раскатывалась перед ними лента дороги. Чем ближе придвигался Владимир, тем короче становились привалы. Дёмка торопился. Всё сильней его мучило беспокойство. Жива ли Иванна, здорова? Как провела одна затянувшиеся два года? При ней ли Апря? О себе посылал Дёмка вести, от Иванны ответа не ждал. Как недоумок-мальчонка, решил придержать в тайности, где находится-пребывает. Хотелось явиться к сестре со словами: «Мы оба знали, и ты, и я, что умер отец не своей смертью – убили его. Я отыскал след и шёл до конца. Теперь я вернулся, потому что среди живых убийца больше не значится».
Раскаяние и тревога подгоняли Дёмку. Весь праздничный день провёл он в седле. Владимир был близко и подавал знаки то шумом клязьминских волн, то вползавшей на холмы дорогой. Когда солнце пошло к закату, навстречу выступили высокие башни. Над головой зашелестели берёзы, жавшиеся к спинам мощных валов. «Что-то будет, что-то будет», – перешёптывалась листва.
«Двинусь прежде на торг», – решил Дёмка, въезжая в распахнутые ворота. Не в силах он был спуститься в посад, не разузнав, что с Иванной. Он спешился возле знакомой лавки, примотал к коновязи повод Медка. Старый Евсей внимательно оглядел незнакомца, окликнувшего его с порога.
– Неужто Дементий? – Евсей от удивления всплеснул руками, поднялся. – Проводили мальчонку – встретили отрока. Обрадуется Иванна.
– Жива, здорова?
– Вчера поутру наведывалась, узнавала, нет ли письма. Не смог одарить к празднику добрым ответом.
– В дороге я второй месяц.
– Главное, что живой-невредимый вернулся.
Дёмка достал из сумки семь разноцветных мешочков.
– Благодарить за твою доброту жизни не хватит. Что ни понадобится, кликни – тотчас явлюсь. А это так, сделай милость, прими на забаву. Торговые гости завезли в Чернигов индийские пряности. – Дёмка с поклоном передал мешочки Евсею.
– Спасибо, что вспомнил. Большой я охотник до заморского перца и имбиря. Поспеши, однако, Дементий, сестру обнять. Много девица из-за тебя настрадалась.
– Позволь коня на время оставить да скажи ещё: Апря жив?
– Имени такого не слышал. Защитника Иванна упоминала, он?
– Самый защитник и есть.
– Тогда жив. Много раз уговаривал я Иванну перебраться в светёлку к моим дочерям. Всякий раз она отвечала: «Защитник у меня имеется, без опаски в лесу живу». А коня, конечно, оставь.
Расставшись с Евсеем, Дёмка бегом припустил в посад. Закольники и киянка бряцали в мешке как звонкие гусли. Поверх железных орудий лежали подарки Иванне: узорчатый индийский платок и сафьяновые сапожки. От радости Дёмке хотелось плясать. Вприпрыжку сбежал он в овраг. Подняв лепестковый вихрь, пробился сквозь заросли, но перед самой зелёной кромкой вдруг замер. Над лугом, стелясь по траве, пронёсся далёкий протяжный вой. Так кричат волки, когда предупреждают друг друга о надвигающейся опасности. Со слов Евсея, ещё вчера всё было спокойно. Что сегодня произошло?
К поляне Дёмка приблизился со стороны леса.
На крыльце перед запертой дверью стоял незнакомый человек. В избе метался и завывал Апря. Он давно почуял приближение Дёмки. Иванна уговаривала Апрю молчать. Можно было шепнуть в оконце: «Я здесь, сестра». Только, если Иванна от неожиданности вскрикнет, она раньше времени выдаст его. «Врасплох напасть – врагу упасть», – учила воинская наука Ивана Берладника.
Человек на крыльце подёргал замок, спустился и направился к кузнице. Дёмка не дал ему сделать и десяти шагов. Он прыгнул сзади, обхватил вокруг пояса, рванул на себя и что есть силы толкнул вперёд. Противник, однако, оказался обученным. Он изловчился перевернуться, упал на спину, упёрся в землю ступнями ног и затылком, вскочил. В руке был зажат нож, выскользнувший из рукава. Уроки Ивана Берладника мимо Дёмки не пронеслись. Ученик учителя не посрамил. Дёмка успел перехватить руку, занёсшую нож, вывернул. Пальцы разжались, нож выпал. Не давая опомниться, Дёмка метнулся под ноги. Противник рухнул словно подкошенный, лицом зарылся в траву. В тот же момент Иванна выбросила из оконца моток верёвки.
Если не считать воя Апри, схватка произошла в полном молчании. Иванна ни разу не вскрикнула. Противник на помощь не звал, пощады не запросил, когда Дёмка стал его связывать. Лежал, должно быть, без памяти. Дёмка завёл руки-плети за спину, скрутил у запястий. Ноги обмотал верёвкой вокруг щиколоток и притянул к рукам. В таком положении попробуй вывернуться или перегрызть верёвку зубами. Проверив узлы, Дёмка подбежал к оконцу:
– Прости, сестра, здравствуй.
– Здравствуй, брат. В самое время на выручку подоспел. Замок сбить сумеешь? Изо всех сил поспешай, ждут меня крепко.
– Нужды нет сбивать. Замок отцовский, с хитростью.
Дёмка взял в руку широкий стальной брусок, висящий на дужках, перебрал чуть приметные рычажки. Одни вовнутрь утопил, другие в сторону отодвинул. Брусок сам собой сполз.
И вот уже возле Дёмкиных ног, вывернув гибкое тело и склонив голову набок, распластался Апря в самом большом волчьем поклоне. А по ступеням крыльца с горшочком пчелиной смолки, привязанным к коробу, торопливо спускалась Иванна.
– Радость встречи оставим на потом, брат. Сейчас ни о чём не спрашивай и делай всё, как скажу.
Дёмка кивнул головой. Они привели всё в порядок и бросились в лес. Апря бежал впереди, прокладывая дорогу.
– Здесь, – сказала Иванна, останавливаясь у развесистой ели. – Здесь, – повторила она растерянно и печально. Она обошла вокруг, вернулась и, опустив голову, стала смотреть в землю.
– Трава и черничник примяты, люди прошли, пахнет аммонием, – проговорил Дёмка, оглядываясь по сторонам.
– Если прошли детские, то он погиб.
– О ком ты говоришь, сестра?
– Выйдем на дорогу, посмотрим следы.
Дорога была проезжая. Следы вели в обе стороны. Никаких особых примет притоптанная пыль не сохранила.
– Темнеет, – сказала Иванна. – Ночь в шалаше у священных камней проведём. Утром отправишься во Владимир. Расскажу, кого искать, у людей порасспрашиваешь. Мне нельзя, князь увидит.
Солнце ещё держалось на острых вершинах елей, когда запоздалые путники пробирались через болото. Но едва зашуршал под ногами песок, солнце скатилось вниз. Тёплый розовый свет скользнул по стволам низкорослых сосен, просочился под землю, исчез. На смену пришли серые сумерки.
До ночи Иванна и Дёмка просидели возле шалаша. Дёмка рассказывал о своих похождениях. Иванна слушала молча, не перебивала, не задавала вопросов. Когда Дёмка кончил, она сказала:
– Хорошо, что смерть рассудила тебя с Лупаном и не сделался ты убийцей. Не прими, однако, в обиду мои слова. Я сама поступила бы так же, как ты, и пошла бы по следу.
Глава VI. ХРАМ НА ЛАДОНЯХ
Чуть свет Дёмка отправился в город разыскивать Иванниного приезжего. Прошёл взад и вперёд по Большой улице, заглянул на боковые, долго толкался среди лавчонок торга. Чуть не каждого встречного расспросами останавливал.
– Попутчика я потерял. Немочь ему на подходе к Владимиру приключилась. Пока за водой бегал, он и исчез. Не слыхали?
– Слухов таких не хаживало. Сам, должно быть, поднялся.
– Замертво он, как бревно, лежал.
– Из себя-то каков?
– Волосы рыжие, плечи широкие, одет не по-здешнему.
– Приметный. Знали, если бы во Владимире объявился.
– К детским в лапы мог угодить, – пробурчал мужичонка с худым испитым лицом, нетрезвый с утра.
В другой раз народ на пьянчужку бы цыкнул, а тут поддержали.
– Верное слово. От детских всего дожидайся. Драка на улице – детские завели. Вырвали у почтенного человека бороду – детских рук дело. Коня свели со двора осёдланного – снова они, – посыпалось, как горох из продранного мешка. Во всех городах ненавидели детских.
– Вои лихие, в сечах одерживают победу, без страха жизнь отдают, – стал на сторону детских рослый малый в исправном кафтане. На малого замахали руками:
– Сеча – дело княжье. Народу без надобности друг с дружкой за Киев биться. Бесчинства детские творят во всех делах.
– Доверит им князь собрать пошлину-мыту за провоз товаров или переезд через мост – львиную долю оставляют себе.
– Одно слово, что лихоимцы. Деревянной ложкой есть не приучены, серебряной желают щи с наваром хлебать.
Дёмка послушал-послушал и направился в лавку Евсея. Старый купец рассудил точно так же, как мизинный народ на торгу.
– Плохо дело, когда замешаны детские, да ещё с боярином Кучковым во главе. А ты вот что, Дементий: ступай на подворье, будто по надобности какой пришёл. Сам вопросов не задавай. Послушай, о чём челядь между собой толкует.
– Правда твоя, путь один – на подворье. Мне и без того князя повидать надо, припозднился уже. Медка на время возьму.
Евсей с сомнением посмотрел на Дёмку, покачал головой.
– Поступай как знаешь. Да про оглядку помни.
На подворье Дёмка влетел подбоченясь, словно дворянин или сынок боярский. Спрыгнул с коня, сказал проходившему челядинцу:
– Посолец от князя Ивана Берладника.
Челядинец прищурил глаза. Дёмка вынул из сумки перстень. Камни заполыхали на солнце.
– Передай князю Андрею Юрьевичу без промедления.
Челядинец взял перстень, вразвалку пошёл к крыльцу. Отсутствовал он долгое время. Дёмка успел наслушаться разговоров. Детских на подворье много вертелось. Одни об императоре германском толковали, другие сообщали друг другу, что бычью тушу к обеду разделывают. Про случай в лесу никто не обмолвился.
Наконец появился челядинец, поманил Дёмку:
– Князь Андрей Юрьевич ждёт тебя в Синей горнице.
– Всё равно какой цвет, лишь бы поскорее.
– Ишь, торопкий, спешку умерь.
Но оказалось, что князь торопился сам.
– С речью прибыл? – спросил он Дёмку, едва переступил Дёмка порог.
– С речью, князь Андрей Юрьевич.
– Быстро сказывай, большие дела меня дожидаются.
Дёмка постарался изложить свою речь как можно быстрее.
– Узнаю князя Ивана Берладника, – сказал Андрей Юрьевич, когда Дёмка кончил. – Во всём сохраняет он княжье достоинство. В ответной речи проговоришь так: «Здравствовать тебе на многие годы, князь и друг Иван Ростиславович. Благородство твоё мне известно, и слову твоему, как собственному, верю. Верь и ты мне. Киевский стол воевать намерения не имею. Прежде всего, мимо права поступка не совершу, когда есть старшая Мономахова ветвь. Дядя и сыновья старших братьев отца ближе меня стоят к киевскому столу. Второе дело – земли собирать вкруг Владимира буду. Тебе же желаю возвернуть свой удел».
Дёмка переминулся с ноги на ногу:
– Отправь с речью другого. Не скоропосолец я.
– Кто же, если не скоропосолец?
Дёмка хотел было сказать, что он сын кузнеца Гордея, но вовремя вспомнил, с чем наведался князь на поляну.
– Владимирский я камнесечец, – сказал Дёмка поспешно.
– Ещё более кстати, – задумчиво, словно беседовал с равным, проговорил Андрей Юрьевич. – Скоропосольцем сделаться каждый сумеет. Чтобы камень понять, дарование нужно.
Андрей Юрьевич хлопнул в ладоши. В горнице появился челядинец, тот самый, которому Дёмка передал перстень.
– Одеваться, – бросил Андрей Юрьевич через плечо и, кивнув на Дёмку, добавил: – Камнесечца проводи в Стольную горницу. Это награда тебе, – повернулся князь к Дёмке. – Из всех камнесечцев первым узнаешь про владимирский храм.
– Зодчему встреча назначена, – объяснил челядинец, когда они вышли. – Император германский зодчего во Владимир прислал.
Челядинец подвёл Дёмку к приоткрытым дверям. Наложенные на дуб медные петли горели жарко.
– Входи да стой в самом углу, вперёд не выбивайся.
Дёмка несмело вошёл. Радужный яркий поток хлынул навстречу. Горница была полна разодетым народом и звенела от красок. По стенам на гибких зелёных стеблях покачивались малиновые бутоны. Лучи жёлтых звёзд сплетались на лазоревом потолке. На полу пестрели ковры, голубой шёлк полавочников переливался озёрной водой. Свет, проникавший через слюду, тонкую, как стрекозиные крылья, вспыхивал красными, синими и зелёными лучиками на поручах и стоячих воротниках, засыпанных самоцветами. Парча кафтанов светилась золотом, на пряжках играла зернь. Скромно одеты были лишь двое.
Возле княжьего кресла стоял священник в коричневой рясе с деревянным крестом на груди. И с чернильницей, подвешенной к опояске, на лавке у входа расположился летописец, одетый в простой синий кафтан. Рядом с летописцем высилась стопка вываренной берёсты и лежали заострённые стерженьки.
Дёмка остановился растерянный, не зная, куда бы приткнуться. Один он здесь был среди чужих. Спасибо, выручил летописец.
– Присаживайся ко мне, – окликнул он Дёмку. – Зовусь я Кузьмой. Киянином люди прозвали. Тебя вроде впервые вижу.
– Дёмка я, камнесечец, или, лучше сказать, ученик.
– А-а, – протянул летописец. – Об этом поговорим.
Но поговорить не пришлось. Раскрылась неприметная сбоку дверь, расписанная, как и стена, бутонами. Встреченный низким поклоном, в горнице появился князь. Только что Дёмка видел его в домашней рубахе с разрезами. Теперь широкие плечи и грудь обтягивал парчовый кафтан, затканный по всему полю львами и птицами. Кайма внизу и по шее сверкала яхонтами. На медных наплечниках выступали чёрные финифтяные фигуры в золотых тончайших разводах.[13] Об руку с князем, мелко и часто перебирая сапожками, утицей плыла Улита Степановна. Бобровый от колен до пола подол её платья двигался колоколом, не колышась. Четырёх детей родила княгиня, дочь готовилась стать невестой, а красота, которой смолоду славилась Улита Кучковна, всё ещё была при ней: брови соболиные, глаза каменьями светятся, матовая кожа белизной поспорит с жемчугом. Поверх покрывала, ниспадавшего из-под венца, у самых висков покачивались финифтяные подвески с семью лепестками.
Князь и княгиня поднялись на приступку, покрытую красным ковром, на три стороны поклонились, заняли свои места на резных табуретах с высокими спинками. По обе стороны встали старшие княжичи, одетые в одинаковые выше колен кафтаны с золотыми стоячими воротничками и петлицами на груди.
Князь подал знак. Невидимые челядинцы растворили двери. В горницу быстрым шагом вошёл прибывший из Германии зодчий. Два помощника и толмач следовали за ним. Был зодчий не молод. Шрамы морщин располосовали втянутые щёки. Тёмные до плеч волосы перевиты седыми прядями.
– У себя на родине, – начал зодчий, отвесив князю с княгиней сложный поклон, – я построил три замка с четырёхугольными, круглыми и многоугольными башнями. Я построил ворота, переходящие в сводчатый зал, где расположатся воины. Ни одна армия не возьмёт мощные стены штурмом.
Толмач едва успевал перекладывать быструю речь.
– Город Майнц на Рейне оказал мне честь, поручив утвердить последнее перекрытие на соборе, закладка которого произошла более полувека назад. Я сделал это. Но вот… – зодчий заговорил медленнее, хотя по-прежнему решительно и громко, – Германия услышала зов русского государя, и, отложив многие важные дела, я поспешил на далёкий север. Возвести собор от начала и до конца – мечта каждого зодчего. Киевская София строилась двадцать лет. Я берусь завершить работы всего за десять.
Брови Андрея Юрьевича сдвинулись. Не в меру отдаленным показался тот год, когда стольный Владимир получит свой храм.
– Здание, прежде всего, должно быть пригодным для пользования, – продолжал зодчий, не заметив сведённых бровей или не пожелав обратить внимания. – Однако не менее важно, чтобы наружные формы и внутренний вид заключали в себе идею.
– Какую же мысль вложишь ты во владимирский храм? – спросил Андрей Юрьевич, не разгладив бровей.
– Могущество грозного государства – вот важнейшая мысль. Я видел киевскую Софию и восхитился ею. Но ты, государь, увековечишь своё имя постройкой более грандиозной. Я возведу для тебя собор, какого не знала до сей поры Русь. Он встанет подобием мощной крепости. Его размеры превысят Софию, а цвет кирпича обольет могучие стены огненно-красным потоком. Киевская София увенчана тринадцатью куполами. Должен ли Владимир уступить Киеву? Нет. Ровно тринадцать вершин поднимет к небу новый собор, и будут они не плавными и округлыми, как софийские, а уподобятся островерхим гребням неприступного горного хребта. Я берусь сделать это. В дороге, которая длилась треть года, я и мои помощники подготовили все расчёты.
Зодчий сделал шаг в сторону. Стоявшие за его спиной юноши поклонились. В ответ Андрей Юрьевич чуть подался вперёд – шею он не сгибал. И в Стольной горнице наступило молчание.
Зодчий обвёл всех встревоженным вглядом. Собор был достоин занять главную площадь любой европейской столицы. Смел ли мечтать в своих медвежьих лесах захолустный Владимир о строении столь грандиозном? Отчего же не грянет в расписанном зале хор удивлённых и радостных голосов? Отчего медлит владимирский князь подать знак согласия?
Затянувшееся молчание сгущалось, как тишина перед грозой. Вдруг дверь во второй раз открылась, сверкнув накладными петлями. Тяжело ступая, на середину прошёл не примеченный ранее и не известный никому человек.
– Могу ли говорить, государь? – обратился он к князю.
– Говори, если с делом.
Андрея Юрьевича обрадовала возможность повременить с решением.
– Я, как и ты, зодчий, – обернулся незнакомец к германцу. – И пусть ты превосходишь меня дарованием и числом возведённых строений, истина заключена в моём храме, не в твоём.
Слова падали медленно, как тяжёлые капли, просачивающиеся сквозь каменные своды пещер.
– Истина рождается в споре, – учтиво возразил германец. – И если государь позволит, мы проведём словесный турнир.
– Спора не будет, – сказал незнакомец.
Присутствовавшие в Стольной горнице во все глаза разглядывали нового зодчего. Что за человек? Откуда взялся? Почему позволяет себе говорить столь заносчиво? Но пристальней всех глядел на зодчего Дёмка. «Какой же я дурень, – корил он себя. – Иванна всё в точности обрисовала: и волосы тёмной меди, и лицо чистое, и крепкий стан. А мне и в голову не пришло».
– Здание стольного храма должно выражать идею могущества государства, это бесспорно, – говорил тем временем незнакомец. – В чём же сила Руси, о чём мечтает измученный усобицами народ? Сила и могущество Руси – в единении всех земель.
– Спора с этим не будет, – удовлетворённо проговорил Андрей Юрьевич. – Мудрость князя – в стремлении объединить Русь.
Кузьмище Киянин приблизился к двери, приотворил, поманив кого-то рукой, и, к удивлению всех присутствовавших, в Стольную горницу вступил староста плотников Федот Руби Топор. Без всякой робости древодел направился на середину. Ребром к груди, как поднос, он прижимал широкую доску, на которой высилась бесформенная груда, прикрытая чистой холстиной.
– Два человека, летописец и плотник, подобрали меня в лесу, где я лежал, скошенный огневицей, – продолжал незнакомец. – Чудодейственным снадобьем они вернули мне жизнь, и в ответ я поделился всем, что имею: рассказал, каким должен быть храм. Плотник выстругивал дощечки и кругляши. Летописец переводил мои слова в линии. Взглянув на рисунок в тетради, я увидел, что храм был таким, каким рисую я сам. Когда же плотник собрал свои деревяшки, я поверил, что храм будет стоять. Теперь, государь, уподобь себя малой мошке.
– Удержи язык, рукодел! – рванулся вперёд Пётр Кучков. – Не то укоротит его мой кинжал. Помни, с кем говоришь.
Многое отдал бы боярин, казны золотой не пожалел, чтобы выдворить из хором незнакомца.
– Коня моего доставь к жилищу Кузьмы Киянина, – не повернув головы, небрежно бросил в ответ незнакомец.
Пётр от этих слов подался назад: «Признал. Перед князем оговорит – не сносить тогда головы».
– Образец, который я тебе покажу, государь, – продолжал незнакомец, словно не прерывалась его речь, – настолько же меньше самого храма, насколько мошка меньше, чем человек. Представь себя ростом с мошку, и ты поймёшь, как огромен храм. Его венчает единственный купол – это знак единения. Золочёный купольный шлем будет виден с самых дальних подходов, потому что встанет храм не в середине города, но бесстрашно вскинет мощные стены над самым высоким обрывом Клязьминской кручи.
Зодчий принял из рук древодела доску и сдёрнул холстину. На доске чуть качнулся, но тут же выпрямился и утвердился сбитый из белых дощечек храм. Он был простой и суровый, как куб. Он был цельный, как камень. Он казался богатырём в боевом золотом шлеме. Восторженный вздох пронёсся по горнице.
– Ты прав, мастер, – сказал германец. – Спора между нами не получилось. Ты держишь свой храм на ладони, как Ярослав Мудрый Софию, и творческая мысль, заключённая в этой модели, без спора победила мою. Я прожил долгую жизнь, смотреть из чужих рук мне не пристало, но прошу тебя, зодчий, прими на выучку моих подмастерьев. Работать юнцы будут на совесть.
Незнакомец кивнул и повернулся к князю.
– Каким именем обращаться к тебе? – спросил его князь.
– Камнесечцы прозвали меня Строителем, и другого имени мне не надо. Я жил среди камня, чтобы понять до конца его свойства. Русь поворачивает на новую дорогу. Подражать Киеву и строить из кирпича Владимиру нет нужды. Новый храм возведём из белого камня – известняка. Работы продлятся два года.
Князь просиял, в знак радости вскинул руки.
Глава VII. РАЗРЫВ-ТРАВА
– Владимир выходит в первые города Залесья, – обратился Андрей Юрьевич к германцу, когда, всех отпустив, он остался с зодчими наедине. – Строительные работы предстоят обширные. Буду рад, если и ты приложишь своё прославленное мастерство.
– Государь оказывает мне великую честь, но я вынужден отклонить лестное предложение. Дворцы и замки, которыми застроится город, должны соответствовать облику главного здания – так облик детей повторяет черты отца. Моё же строение окажется кукушонком, высиженным в чужом гнезде. Пусть государь разрешит мне вернуться на родину, а в знак моего уважения к делам, которые здесь начинаются, примет труд моих сыновей. Государю на аудиенции были представлены мои помощники. В частной беседе осмелюсь сказать, что оба помощника и есть мои сыновья.
– Обдуманное решение уговорами не изменить, – сказал Андрей Юрьевич. – Спасибо, что ради наших нужд ты проделал долгий и трудный путь, и, если затраченное время можно хоть сколько-нибудь возместить казной, ты будешь удовлетворён. Сыновей же твоих приму с честью и постараюсь на время заменить им отца.
– Владимирский князь известен как самый великодушный из государей. – Германец отвесил поклон и повернулся к Строителю: – Твой храм благороден и строг фасадами, но скажи: как соотносятся высота с шириной, какова толщина стен?
Вопрос был задан толковый. От соразмерности частей зависела как красота здания, так и его пригодность, и Андрей Юрьевич вслед за германцем перевёл взгляд на Строителя. Строитель, однако, не стал в затылке скрести, ответил спокойно:
– Общая высота храма до купола равна удвоенной его ширине. Хоры располагаются на высоте вдвое меньшей, чем высота сводов. Шесть столбов расчленят храм на три части. Толщина столбов повторит толщину стен в два с половиной локтя, высота окон под куполом уравняется с шириной восточной части храма.
– Подлинно твои знания соответствуют зодческому умению видеть форму. Собор предстаёт просторным, хорошо освещённым. Высокие хоры не повиснут над самыми головами стоящих внизу.
– Разреши и мне обеспокоить тебя вопросом, – сказал Строитель, без смущения выслушав похвалу германца.
– Изволь.
– Как поступят твои сыновья, если потребуется отмерить правильный угол и не окажется переносного угольника?
Вопрос, на который ответит любой начинающий подмастерье, мог быть задан только в насмешку. Однако германец первым начал испытывать знания своего соперника. Не позволив себе обидеться, он мужественно принял ответный удар.
– Шнур, разделённый на двенадцать равных частей, связанный своими концами и натянутый на точки, совпадающие с третьим, седьмым и двенадцатым членением, даёт возможность построить прямой угол и измерить отвесность стен, – проговорил он скороговоркой, как ученик, отвечающий твёрдо выдолбленный урок, поклонился Строителю так же низко, как князю, и вышел.
Строителя князь задержал.
– Две у меня заботы, – сказал он, жестом предлагая занять покрытую полавочником скамью и сам опускаясь рядом. – Одну заботу ты со мной разделил – это храм. Воздвигнут он будет в память Успения,[14] и будет в Успенском храме храниться вывезенная из Вышгорода икона. Я повелю разубрать её в золото, изукрасить самоцветами без числа. Верю и знаю: вся Русь наречёт святыню на веки вечные «Богоматерь Владимирская».
Князь замолчал, в задумчивости принялся разглядывать перстни на пальцах. Строителя затянувшийся разговор утомил. После Федотова снадобья рана почти перестала ныть, но полученные при падении ушибы давали о себе знать.
– Назови, государь, вторую заботу, – поторопил он князя.
– Для того задержал тебя. Приходилось ли в той стороне, откуда ты прибыл, слышать о чуде, случившемся под Владимиром?
– Много в каменоломнях о том говорили.
– Значит, знаешь, что дал я обет украсить место, богом любимое, каменным городом с церковью, измечтанной всей зодческой хитростью. Название городу Боголюбово будет.
Настало время задуматься зодчему.
– Сложное дело, государь, в «стране городов», как называют Русь иноземные географы, построить город красивей прочих. Ещё того сложнее одновременно с постройкой храма принять на себя заботу о целой местности. Однако думаю, справимся, если германские подмастерья окажутся стоящими своего отца. Камня втрое больше понадобится против рассчитанного мною раньше.
– С камнем задержки не будет, – живо ответил князь. – Скажи напоследок, – задержал он Строителя новым вопросом. – Отчего твой конь оказался в конюшне боярина Кучкова? Уж не встал ли Пётр тебе поперёк дороги?
– Пустое, государь, дороги у нас с боярином разные. Конь, должно быть, сам к его лошадям прибился, не дождавшись хозяина. Со мной другое чудо произошло.
Князь исподлобья взглянул на Строителя.
– Что за чудо такое, о чём говоришь?
– Когда лежал я под елью без памяти, в мутное марево, опутавшее сознание, ворвался вдруг чистый и звонкий голос. Из последних сил удалось мне размежить веки. Я увидел склонённое надо мной девичье лицо. Пряди русых волос падали на плечи, затянутые голубой тканью. Рядом расположился зверь и смотрел на меня без всякой свирепости, хотя по облику я догадался, что это волк. «Жди, мы вернёмся», – прозвучал снова голос, похожий на пение струн. Потом всё исчезло и я провалился в беспамятство.
«Пусти, меня ждут», – вспомнилось князю. Так вот куда поспешала очутившаяся в западне пленница.
– В чём видишь ты чудо? – спросил настороженно князь.
– Разве не чудо, что девица с волком сдружилась? До сей поры думал, что только в сказках бывает такое да в убранстве рейнских соборов, где хищные звери помещены рядом с людьми.
– Огневица с тобой пошутила и сон показала.
– Сам рассудил так же, только явью сон обернулся. Девица памятку о себе оставила. – Строитель достал из подвешенной к поясу сумки выстиранную и бережно сложенную голубую тряпицу.
«Что я за злыдень такой? – подумал вдруг князь. – Для чего преследую девицу с её волком, зачем скрываю от зодчего? „Чудо“ давно историей стало и в летописи занесено. А старые дела ворошить – всё равно что снег прошлогодний вскапывать».
– Хочешь вновь свой сон увидать? – спросил он порывисто.
– Иначе зачем бы рассказывать стал? – прозвучало в ответ.
Андрей Юрьевич хлопнул в ладоши. Явившемуся челядинцу велел проводить зодчего в приготовленные хоромы. Сменил парчовый кафтан на простую рубаху, закутался в плащ, надвинул до самых бровей суконную шапку.
Но тут ударило сильно, с раскатом, будто треснула поодаль вершина скалы, и загромыхали, срываясь, камни. Шумно пронёсся ветер. В горнице стало темно.
«Не ко времени гроза подоспела». Андрей Юрьевич склонился к оконцу, постучал досадливо по слюде. В ответ со двора забили сильные струи. Прямо над кровлей раскатился гром. Нечего было и думать идти за овраг, пока не отбушует гроза, не изойдут тучи водой. Князь опустился на лавку. Скучное дело ждать. Вчера он стремился загнать в западню девицу и её волка – сегодня ему не терпелось выпустить их на свободу. Перед глазами неотступно стоял образ храма-богатыря в золотом шлеме. Рядом с этим видением хотелось быть добрым, совершать великодушные поступки. Хозяева волка благое дело спроворили, повернув коней вспять, и, по чести судить, большой награды заслуживали, не темницы. Была ещё одна мысль, тешила она князя. «Где семья, там и дом, – размышлял он, слушая гул дождя. – Девица зодчему приглянулась, через неё он останется во Владимире, в другие земли не поспешит. Девице так скажу: „Ждёт тебя, красавица, не дождётся один человек, и, коли он тебе мил и сладится свадьба, не забудь позвать на честной пир“. Князю представилось, как призовёт он Строителя, чтобы с рук на руки передать ему девицу, как важно вступит Строитель в горницу, но, увидев суженую, позабудет свою гордыню, поклонится в пояс.
Дверь в самом деле приотворилась, только не Строитель появился в проёме, а промокший до нитки Анбал. Порты и рубаха к телу прилипли, волосы – хоть отожми. Переступив порог, Анбал опустился на колени, ткнул в пол мокрой бородой.
– Вели казнить, князь-государь Андрей Юрьевич.
– Никак багром из колодца тебя тянули?
– Пленников я упустил. А что вымок, так дождь почище плетей сечёт.
– Ври, да не заговаривайся. В дым, что ли, пленники обратились и улетели через оконца? Да перестань по полу елозить.
Анбал поднялся, тяжело ворочая языком, принялся рассказывать о неожиданном нападении.
– Сам-то ведь не из слабых будешь, или богатырь какой навалился? – перебил Андрей Юрьевич.
– Какой богатырь, князь-государь? Мальчонка годов пятнадцати, не более того.
– Из себя каков?
– Разглядеть в подробностях времени он не оставил, как барана меня скрутил, замок сдёрнул и вызволил девицу с волком. По всему лесу потом их искал, да следов они не оставили.
– Как же ты путы сбросил, если был связан, словно баран?
– Хитрости одной обучен.
– Какой-такой хитрости?
Анбал нагнул голову, молча уставился в пол.
– Говори, не то настоящих плетей отведаешь.
– Когда станут вязать, руки и ноги силой надо наполнить, чтобы в толщине увеличились. Ослабишь – путы спадут.
– Будет время – на деле перейму. А пока говори: как мальчонка сдёрнул замок, если ключ у меня в кошеле спрятан?
– Разрыв-траву, должно быть, имел. Она замки разрывает.
– Куда направляются, сказывали?
– Место не называли. Одно расслышал: «Владимир навсегда покинем, опасно из-за князя здесь оставаться».
– Хотел было тебя в ключники перевести – повременить придётся. Ступай, покличь Строителя, пусть пожалует, если не накатила опять огневица. Да обо всём, что случилось, молчи.
Строитель тотчас явился, было видно, что ждал.
– Добрые вести по свету гуляют, злые к месту спешат прибиться, – начал князь. – Скрывать от тебя ничего не стану, открою всё без утайки. Запер я в клетку твою лесную красавицу. Для чего это сделал, объяснять сейчас не ко времени. Одно скажу: перехватил в тот самый момент, когда к тебе она поспешала. Замок на клетку приладил отменный, неподкупного стража стеречь поставил. Только пленница ловчей оказалась. Замок она разрыв-травой открыла и была такова. Здешние места навсегда ею покинуты, а куда она с волком своим подалась – на восход, на закат ли, – неведомо. Лес следов не сохранил. Коли веришь мне, – ладно, на том и покончим. Коли закрались сомнения, допроси челядинца-стража.
– Челядинца не надо, – медленно проговорил Строитель.
Хлынувший ливень загнал под землю Иванну, Дёмку и Апрю. В убежище было сухо, тепло. Струйки дождя, стекавшие по проходу, собирались в предназначенное для воды углубление. Апря лежал возле маленького озерца, положив морду на лапы. Он спал. Иванна и Дёмка сидели в углу, на расстеленном войлоке. Разговор вертелся вокруг одного: как им жить дальше.
– До осени продержимся, – в который раз начал Дёмка.
– Летом и птицы беззаботно живут, – в который раз возразила Иванна. – Холода наступят – тогда как?
– Правда твоя, зимой в шалаше оледенеешь.
Глухие раскаты грома тревожили Апрю. Он тявкал во сне, словно также принимал участие в разговоре.
– Только не могу я покинуть Владимир, – начал вновь Дёмка. – Назвался владимирским камнесечцем – слова своего не переменю. Где Строитель окажется, там и мне место.
– Видно, закольники и киянка недаром стучали в твоём мешке – судьбу они выстучали, – согласилась Иванна. – И я с Владимиром накрепко связана. Финифть при кузнице держит.
Наступило молчание, даже гром перестал греметь.
– Придумал! – закричал вдруг Дёмка.
Апря вскочил, метнулся к проходу, обратно, остановился, растерянный. Ему показалась, что требуется его защита.
– Апрю и того с толку сбил, – рассмеялась Иванна.
– Дело я говорю, ты лучше не перебивай. Князь на чём настаивал? Чтобы передали ему одного Апрю. Тебя обижать он не станет, меня вовсе не признал. Да и Апрю он хотел для потехи, чтобы на подворье держать, убивать не собирался.
– Опомнись, что ты задумал? – с гневом сказала Иванна. – Не бывать тому, чтобы выдан был Апря.
– Да кто говорит, чтобы выдать? – отмахнулся Дёмка. – Я о том говорю, что князю Апря нужен живым. Вот и не будем Апрю одного в лес пускать, чтобы он в волчью яму не угодил.
– Жить-то зимой в избе, не в лесу.
– Помнишь, как в малолетстве мы из подклети ход повели, чтобы в лес убегать, когда нас в избе затворяли?
– Помню, как мать сердилась, что всю подклеть землёй завалили, а отец в тот же час ход заделал.
– Теперь я умнее действовать стану. Ход обратным путём поведу – из леса в подклеть. На Москва-реке насмотрелся, как проходы под землю спускают.
– И если случится, что князь запрёт нас в избе…
– Как только он отвернётся, мы мигом в подклеть, а оттуда на волю. Главная забота, чтобы Апрю держать при себе.
Иванна с сомнением покачала головой.
– Один раз скроемся, другой раз. На третий раз князь догадается. Да и нельзя все дни с опаской, как под мечом, жить.
– Пока князь догадается, я Ивану Берладнику весть подам.
– Помнит он о тебе, дожидайся.
– Или того лучше: разыщу Горазда. Обещался быть во Владимире, как Дарёна на ножки встанет. Уж он-то непременно поможет. Ну согласись, сестрёнка, Ива-Ивушка милая.
– Твоя взяла, – рассмеялась Иванна. – Другого всё равно нет пути. – Иванна обхватила руками колени и, слушая, как стучит наверху дождь, тихонько запела:
Разрыв-трава, разорви запор, Добро впусти, зло удержи. Нет хода злому в наши хоромы.Глава VIII. ЗАКЛАДКА ФУНДАМЕНТА
Однажды поутру владимирцы увидели на улицах своего города разодетое пышно посольство. День был июльский, жаркий. Посольцы же ехали в лисьих и куньих шапках. С гладких боков откормленных лошадей свисали полы суконных кафтанов. Многих посольцев владимирцы знали в лицо. Ещё бы не знать именитых бояр Ростова и Суздаля. Мал город Владимир при могущественных городах до сей поры в меньших братьях ходил, милостями их пробавлялся. Нынче, глядите-ка, старшие к меньшому торопятся на поклон.
Все, кто мог, побросали дела и двинулись на подворье. Площадь и ближние улицы заполнил владимирский люд.
На подворье посольцы спешились, выстроились кучно перед крыльцом. В хоромы пройти отказались.
– Просим князя Андрея Юрьевича пожаловать сюда, а коли занят, три дня и три ночи готовы ждать. С места не сдвинемся.
Андрей Юрьевич появился в шёлковой домашней рубахе, едва успев надеть княжью шапку и набросить сверкавшее золотом корзно. При виде бояр он удивлённо развел руками, словно не ждал и не было оговорено всё заранее, поклонился и выпрямился величественно. Навершие расшитой каменьями шапки почти касалось резных балясин крыльца.
– Какую службу ждёте от меня, бояре почтенные? В защите ли нужда приспела, или совет требуется? – Андрей Юрьевич с удовольствием оглядел подворье, забитое его горожанами.
Вперёд выдвинулся тучный боярин, степенно на все стороны поклонился, громко, чтобы далеко было слышно, проговорил:
– За советом и для защиты к одному тебе, великий князь Андрей Юрьевич, с сего дня хотим обращаться.
Стоявшие в глубине крыльца Кучковы переглянулись. От них не укрылось, что к слову «князь» добавлено было «великий». Так вот какое наследие пожелал заполучить Андрей Юрьевич, хотя и отказался воевать киевский стол. Вот почему всё лето наезжали во Владимир посольцы. Одних Андрей Юрьевич выслушивал в присутствии бояр из старшей дружины. Других Анбал скрытно водил в Синюю горницу. Кучковы догадывались, о чём велись потаённые беседы, но, как далеко зашло дело, не знали даже они. Великий князь на Руси всё равно что король в европейских державах. До сей поры высокое звание киевский стол давал. Кто Киев занял, тот и великий князь. Значит, теперь на другое перевернуло.
– Собрались в Суздале и Ростове вече, – продолжал свою речь боярин. – Всем миром решили тебя просить, чтобы ты, великий князь Андрей Юрьевич, принял над нами княжение.
– Благодарствую на чести великой, – строго ответил Андрей Юрьевич. – Только со времён Владимира Мономаха повелось завещать отдалённые от Киева земли меньшим сыновьям в удел. Так и отец поступил. Мне ли пристало рушить стародавний обычай?
Кучковы снова метнули друг другу быстрые взгляды. При малолетних князьях бояре могли грабить и наживаться сколько душа пожелает. Сильный князь приберёт доходы к своим рукам. Хитро обошёл бояр Андрей Юрьевич, если вверяют они ему земли. Кого угрозами, видно, взял, кого уговорами.
Посольцы сдёрнули шапки, попадали на колени.
– Как вече постановило, тому так и быть. Властвуй над нами, великий князь. Малолетних князей знать не хотим.
Трижды отказывался Андрей Юрьевич, трижды возглашали бояре:
– Других князей не хотим. Ты один народу желанен. Ты оборона наша и сила, мы опора тебе.
После третьего раза Андрей Юрьевич согласие своё дал.
– Срединные земли люблю и домом своим называю, – сказал он проникновенно. – На юг я ходил для войны и видел там одни усобья. Сюда тянулся душой. Здесь я вырос, женился, родил детей. Отец мой, великий князь Юрий Владимирович во всём был велик и только в одном заблуждался, держась, как в старые времена, за киевский стол. Я же верю: средоточие переместилось на север. Недаром земли по Клязьме, Оке и Москва-реке срединными называются. Соберём вокруг середины всю великую Русь, чтобы воцарились навечно мир и тишина. Ради мира и тишины принимаю над вами княжение.
– Слава великому князю! – опережая приезжих бояр, закричали владимирцы. В этот час они позабыли про новые большие поборы. Другое им помнилось. Вот проезжает князь по городу впереди лихих детских. В сияющих латах и красном коротком плаще он похож на воя с иконы. Белее снега под ним конь. Вот заходит князь запросто в Кожевенный или Гончарный конец, расспрашивает кожевников, гончаров, гвоздарей, ладно ли движется их работа, ходко ли расходится на торгу рукодельный товар.
– Слава храброму вою! Рачительному хозяину слава!
– Слава, слава! – кричали вместе с горожанами посольцы.
Когда крики утихли, боярин, что речь держал, подошёл к крыльцу и с поклоном протянул посеребрённый острый топорик. В трёх местах на топорике посверкивала буква «А» – начало княжьего имени. На одной стороне лезвия изображён был меч, пронзающий вёрткого змея, на другой – расцветало пышное дерево и кружились возле кроны быстрокрылые птицы.[15]
– Враги оружия твоего боятся, – проговорил боярин. – При тебе мир упрочится, зло погибнет, как змей. Жизнь светло, подобно дереву, расцветёт.
– Мир обещаю прочить, народ беречь, земли объединять.
Андрей Юрьевич принял дар, с топориком на вытянутых руках выпрямился во весь рост. Плечи разведены, подбородок задран надменно. Многие считали, что излишне Андрей Юрьевич горделив: голову не склонит, шею не повернёт. На самом же деле от раны, полученной в сече, срослись верхние позвонки.
– Слава храброму вою! Великому князю слава!
О младших сыновьях Юрия Долгорукого никто больше не вспомнил. Тихо, без шума выпроводил потом Андрей Юрьевич своих сводных братьев вместе с их матерью, родом гречанкой, в Царьград. Сделал он это не по злобе. Соображениями руководствовался государственными. Где много наследников, там неминуемы битвы за власть. Андрей Юрьевич стремился к единовластию. Рязанское, Муромское и Смоленское княжества признали его старшинство. Пришло время взять под свою руку вольнолюбивый Новгород. Андрей Юрьевич послал к новгородцам сказать: «Я хочу искать Новгород добром или лихом, чтобы вы целовали крест иметь меня своим князем, а мне о вашем благе заботу иметь». До сей поры князья называли друг друга братьями, хотя сильный «брат» без счёта бил слабого. Андрей Юрьевич ввёл слово «подручник». Образ цельного одноглавого храма стоял перед ним неотступно. С храмом он сравнивал Русь, себя представлял главой могучей державы.
Распрямившись в рост под навесом крыльца, с топориком на вытянутых руках, перед боярами Суздаля и Ростова, перед своим владимирским людом князь, как клятву давал, торжественно произнёс:
– Фундамент заложим храму великому – вокруг срединных залесских земель объединять станем Русь.
Всё лето ползли по Клязьме гружённые плитами шитики. Палубные настилы гнулись под тяжестью камня. Волны лизали края бортов, грозясь перехлестнуть через край. Часть судёнышек оставляла груз у городского извоза, другие двигались в Боголюбово. На заросших кустами холмах не стояло ещё ни избы, ни землянки, а название к местности уже приросло.
Что ни день, Дёмка являлся к Боголюбским холмам, благо расположены были по соседству. Работы велись по разборке доставленного известняка – какая плита для чего предназначена, – и Дёмка перетаскивал плиты вместе со всеми. На вершине вырастали ровные ступенчатые горки, составленные из стенных плит. В ряды сбивались грубо отёсанные глыбы, обработанные под фундамент. Внизу, у подножия, плиты для вымостки большого двора отгораживали холм от берёзовой рощи. Если встречалась плита с поверхностью гладкой, как медь, Дёмка думал: «Не иначе Гораздов закольник прошёлся еще в московских каменоломнях». Про Горазда Дёмка узнал, что возглавлена им артель, работавшая в Ростове, и раньше весны артель во Владимир никак не прибудет. По весне, к закладке фундамента, камнесечцы явятся непременно. Закладка – дело важнейшее. Дерево без корней не стоит, здание на фундаменте держится.
Когда солнце достигало середины неба и камнеделы, сняв рукавицы, отправлялись в рощу хлебать похлёбку, сваренную кашеваром, Дёмка, отведав ложку-другую, со всеми на отдых не располагался. Прямиком по лесу через болото он бежал на поляну к избе. До полудня Дёмка числил себя в камнеделах, после полудня оборачивался землекопом, кротом копался в земле. Он вырыл среди деревьев отвесную яму и потянул ход к избе. Землю долбил киркой, стоя на коленях или лёжа на животе. Комья сгребал в корзину и на поверхности разбрасывал по сторонам, чтобы не осталось приметных куч. Работа продвигалась медленно. Под землёй извивались корни. Боясь загубить деревья, Дёмка петлял в глубине. Если б он знал, что оставил князь Андрей Юрьевич мысль о преследовании! Только, должно быть, и в этом случае продолжал бы Дёмка тянуть проход. У князей мысли изменчивы. На что справедливо жил Иван Ростиславович, и тот сколько союзников переменил, сам сказывал.
Наконец настал день, когда земля под киркой потекла как рыхлый песок. Дёмка столкнулся со старым завалом. Он выгреб корзиной землю и очутился в подклети.
Под вечер Дёмка примчался к столбам, будто за ним гнались.
– Всё! – закричал он издали.
– Не шуми, лес тишину любит, – остановила брата Иванна.
– Сегодня можно. Скоропосольца к Ивану Берладнику мы не отправили. – Дёмка загнул один палец. – Горазда раньше весны мы не ждём. – Дёмка загнул второй палец. – Зато, – Дёмка вскинул вверх обе руки, – потайной проход протянулся на двадцать локтей.
– Неужто вырыл?
– Потолок подпорками укрепил, устье завалил ветками, шалашик сверху поставил, чтобы зимой от снега укрыть.
– Совсем взрослым стал, – проговорила Иванна. – Твёрдостью в отца вышел. Каждое дело ведёшь до конца.
Дёмка вспыхнул от похвалы, поторопился сказать:
– После закладки фундамента всё равно в Боголюбове останусь работать. В случае если беда, через лес мигом домчусь.
– Спасибо, милый защитник.
– Горазд, как приедет, верно, тоже выберет Боголюбово. Во Владимире – один Успенский храм. А у нас и хоромы, и башни, и церковь. Целый город поднимется.
– Что же Строитель к вам не приходит, если вы такие важные? – с запинкой спросила Иванна.
– Нечего ему до весны в Боголюбове делать, – обидчиво возразил Дёмка. От него укрылось смущение сестры. – Стены начнём возводить – тогда зачастит. А до той поры он планы рисует, мысли на пергаменте или на берёсте выстраивает.
– Глядите-ка, люди добрые. Что в подземных проходах, что в камнедельстве – мальчонка во всём разбираться стал.
– Вот и стал. Как увидел храм на ладони Строителя, так понял, что у камня душа мужественная. Плотный он, сбит крепко и с красотой неразлучен. Мужеству красота не помеха.
– Правдивые слова, – согласилась Иванна. – Кто душу камня раскроет, у того он как гусли поёт.
Задолго до снега Иванна и Дёмка покинули холм на болоте и вместе с Апрей перебрались в избу. Первоначально жили с опаской. Апрю, как ни просился, в лес одного отпускали лишь ночью, поутру свистом заманивали обратно. Иванна лишний раз в кузницу страшилась пройти. Дёмка всё проверял, стоит ли шалаш, на месте ли ветви. Потом повалил снег. Ветер намёл сугробы. Лесные тропы скрылись под белым пушистым ковром. Княжья охота носилась по речке Судоге вблизи Плавучего озера. В Гордеев лес звуки рожков и лай собак не доносились. Иванна и Дёмка перестали бояться незваных гостей и зажили, как прежде, свободно. Потом наступила весна.
Ясный весенний день в начале апреля Владимир запомнил надолго. Не приходилось городу видеть подобного торжества. И стар и млад – все владимирцы высыпали на улицу, в домах никто не остался. От ярких платьев в разводах, от разноцветных кафтанов и шитых шёлком рубах детинец стал пестрее мозаики. Тёмную возле извоза Клязьму запрудили лодки, приплывшие из соседних селений. Сельский люд увеличил толпу. Не только мальчонки – взрослые забрались на крыши. Смеющиеся лица выглядывали из-за коньков. На стенах детинца расположились детские. Недвижные, как изваяния, они стояли, уперев руки в бока, красуясь начищенными кольчугами, золотым узорочьем шлемов.
Как далече-далеко во чистом поле, А ещё того подале – во раздолье Князь Андрей трубил Владимиру славу, Возносил Владимир выше всех городов.Раздольная песня дружины волной катилась по стенам.
– Слава! – подхватывал теснившийся к площадке народ.
Площадка в юго-западной части детинца, обнесённая натянутыми на колья верёвками, была также полна людьми. Середину заняли бояре и княжичи.
Впереди бояр из старшей дружины, об руку с супругой-красавицей, горделиво вскинув подбородок, стоял Андрей Юрьевич. Лица у князя с княгиней ясные. Княжичи смотрят весело. Кафтаны шитьём отливают, шапки в каменьях. Княжна, по правую руку от матери, словно звёздочка рядом с луной.
– Великому князю с княгиней слава! – ликовали владимирцы.
Поодаль от середины, ближе к верёвкам и плитам, сложенным по сторонам, сбились кучно артели камнеделов, плотников, землекопов. К плитам прислонены кирки, лопаты и другие трудовые орудия, а рубахи на градниках праздничные, расшитые по подолу и вороту. Обереги к опояскам подвешены гроздьями.
Иванна с гордостью смотрела на Дёмку. Мальчонкой, тонким, как ветка, был её брат и судьбу свою с камнем связал недавно, однако взяли его камнеделы с собой на праздник. Равноправным стоял он среди артельцев, выглядывая из-за широких плечей Горазда.
В город Иванна пришла до света, и ей удалось занять место, откуда всё было видно. Косу она спрятала под платок, надвинутый до бровей. Платье надела гладкое, без оплечья и поручей. Кто приметит её в толпе в простом неярком наряде?
– Слава великому князю! Слава Владимиру-городу!
Казалось, вместе с людьми кричали стены, хоромы и башни.
На свободном пространстве площадки расхаживали священники. Дьяк Нестор помахивал кадилом с курившейся пахучей смолкой. В огромных ручищах подвешенный к цепочкам дымящийся сосуд казался пращой. Священник Никола поднимал большой серебряный крест и осенял все четыре угла площадки. Повторяя начертанный в воздухе знак, князь, народ и бояре крестились. Снова гремела слава, били бубны, играли трубы. Со стен неслась величавая песня. И вдруг всё стихло. Стоявшие в ограждении расступились. На середину вышел статный высокого роста человек. Пряди волос из-под шапки и коротко стриженная борода отливали медью.
– Строитель, Строитель, – зашелестела площадь. Мизинные люди передавали друг другу неведомое раньше прозвание.
С заострённой палкой-черталом в руках Строитель уверенной поступью направился к месту соединения верёвок, смотревших на север и на восход. Зайдя в самый угол, он приставил чертало к земле, словно перо опустил на пергамент, и двинулся вдоль верёвок, ведя чертало за собой. Затаив дыхание, люди смотрели, как тянется взрыхлённая по краям борозда. Чертало проделало путь в пятьдесят локтей на закат. Поворот. Борозда в пятьдесят локтей протянулась на юг. Поворот. Вдоль южной верёвки борозда поползла к восходу. Три борозды были прямыми. Четвёртую Строитель изогнул тремя крутыми волнами, сделав среднюю больше двух боковых. Спад последней волны он соединил с начальной точкой в углу, помедлил немного, потом вскинул чертало вверх.
– Слава! – грянуло над детинцем, подобно раскату грома.
Внутри площадки чернел огромный квадрат с тремя алтарными полукружьями, смотревшими на восход. Это был образ храма, сведённый к главным его чертам, тень, которую он отбросит, когда полуденное солнце будет стоять над его единственной главой.[16]
– Слава Строителю! Слава Владимиру-городу!
Ударили в землю лопаты и кирки землекопов. Зашевелились и сдвинулись с места огромные плиты. Градники приготовились заложить по углам первые камни фундамента.
Вечером Кузьмище Киянин засветил подвешенную к потолку плошку и, обмакнув перо в чернила, вывел на чистом листе: «Тысяча сто пятьдесят восьмого года, апреля, восьмого дня князь Андрей во Владимире заложил церковь каменную Успения об едином верхе и дал ей слободы купленные, лучшие сёла, десятину в стадах своих и десятый торг».
Глава IX. КАМЕННЫЙ ЛИК
Строитель стоял за городской стеной, на краю Клязьминской кручи. Из-под ног уползал одетый в зелень садов, застроенный избами склон. Вдаль убегала Муромская дорога. Крутые петли реки разрезали долину и терялись в синих лесах.
Хорошее место выбрали Мономаховы градники. Стены и башни они срастили с самым высоким холмом. Холм стал для города как постамент для скульптуры. Город же поднял холм ещё выше и теперь царил вместе с ним над полями, лесами и реками. С какой стороны ни посмотришь – отовсюду открывался Владимир во весь свой размах. С восхода взбирались ряды посадских жилищ, обступивших церквушки. Со стороны лугов и полей, протянувшихся к северу, издалека был виден узорчатый пояс стен с резными шатрами башен. На закат светили светло купола храмов, поставленных основателем города и его сыном. Но главную свою красоту Владимир показывал югу. К шири клязьминской поймы, к сини лесов и лежавшему за тридевять земель Киеву обернул он детинец, княжий двор и хоромы с островерхими кровлями. Южная часть плато была самой высокой. От неё вёл город медленный спуск. И на самой высокой точке южной части плато поднимался и рос Успенский храм.
Со дня закладки фундамента миновало четыре месяца. Тень, очертанная черталом, давно запрокинулась в котлован и скрылась под плитами. Вверх потянулся двойной короб стен. У владимирских градников имелся собственный способ кладки, надёжный и спорый в работе. Плиты они устанавливали в два ряда. Две стены выстраивались друг против друга на расстоянии двух локтей. Пустое пространство забивалось камнями и заливалось крепчайшим раствором из извести и ржаных отрубей, замешанных на яичных желтках.
Грохот, стук, крики, скрежет. Работный гул стоял над детинцем от зари до зари. Он сделался главным голосом города, перекрыл шумливые препирательства торга и перестук топоров Федотовых плотников, тянувших дубовые стены.
Глядя вдаль из-под приставленной козырьком ладони, Строитель слушал, как строится храм. Звуки указывали, чем заняты градники – многосотенная армия, разбитая на артели, как на полки. Ухали кувалды, дробившие известняк. Стучали киянки, закольники, топоры. Под тяжестью плит натужно скрипели канаты, переброшенные через смазанные жиром подъёмники. «Давай! Пошла! Взяли!» – неслось с перекладин лесов.
Возводилось главное здание города, высшая точка, пик всей Владимирской земли. Храм будет строгим и величавым. Матовая белизна камня соединится с сиянием золочёного купола. Опояска из арочек и колонок, одетых в тонкую листовую медь, обовьёт белые стены узорчатой бахромой. Плиты с фигурами, помещённые наверху, ровной глади не помешают. Стены поднимутся цельные, мощные…
Строитель провёл рукой по глазам, словно снимал наваждение, и двинулся на восход по тропе, давно проложенной по гребню валов. Возле коновязи у южной срединной башни его поджидал серый в яблоках конь.
Издали могло показаться, что склоны Боголюбских холмов изрезаны ручьями, а вершины покачиваются, как гребни огромных волн. Вблизи ручьи оборачивались вереницами землекопов, идущих в затылок с корзинами за спиной. Волны превращались в башни, валы и стены, растущие на глазах и меняющие очертания. Всё двигалось, грохотало, тянулось вверх. Строилась гридница и оружейная, возводился дворец в два яруса. Обращённая главным входом к закату, поднималась Рождественская церковь. Внутренний переход через лестничную башню свяжет хоры церкви с дворцом.
В стороне, куда не долетала выбрасываемая земля и где грохот был приглушён вставшими в ряд берёзами, расположилась артель камнесечцев. Состояла артель из восьми человек: сам Горазд с сотоварищем-москвичом, владимирец, работавший с ними в Ростове, и четыре болгарских резчика из числа явившихся на княжий зов. Восьмым к артели прибился Дёмка. В закрытом помещении по летней поводе камнесечцы нужды не испытывали. Защитой от солнца служил дощатый навес, уложенный на столбы. Задняя стенка образовалась из плит, припасённых для вымостки большого двора.
Дёмка навес покинул, перебрался поодаль. В тени разросшихся мелких берёз он устроил собственную мастерскую. Перед ним, прислонённая к кочке, лежала плита. Девичье лицо с грубо намеченными чертами высоко выступало из камня. Сменив тяжёлую киянку на лёгкую и выбрав самый короткий закольник, чтобы лучше чувствовать известняк, Дёмка снимал тонкие срезы со лба, щёк, крыльев прямого носа. «Стук-стук камне-се-чец». Киянка била несильно и быстро. «Скол-скол». Рука покачивалась, смягчая удар. Вместе с белыми крошками, летевшими по сторонам, с лица уходило чужое, ненужное, лишнее, всё, что огрубляло черты. «Стук-стук камне-се-чец». Дёмке казалось, что с каждым ударом он разгоняет туман. Стали видны ясный лоб и большие глаза, проступили высокие скулы, округлился узкий подбородок. «Стук-стук-пере-стук». Словно дятел долбил по каменному стволу. «Бей-бей камне-се-чец», – отвечали Дёмке из-под навеса.
Работа под навесом шла в семь киянок. Горазд с сотоварищем вырезали львиные морды, изготовляя на пару плиты один для правой, другой – для левой части стены. Закольники остальных двигались по навершиям колонок от бахромы-опояски. Замысловатые бороздки и впадины собирались в стрельчатые с зубцами листья.
«Стук-стук-пере-стук. Бей-бей камне-се-чец».
Вдруг Дёмка оторвал взгляд от плиты и поднял голову. В привычную дробь вторглись чужие звуки. Так и есть: к навесу двигался князь. Что ни день он наведывался к камнесечцам. Дёмка из-за него покинул навес, причины имелись не показывать князю свою работу. На этот раз Андрей Юрьевич пожаловал не один. Рядом поспешал Пётр Кучков. На ходу боярин размахивал руками, видно, убеждал князя в чём-то. Князь смеялся в ответ. Но вот он что-то сказал, и оба остановились у плит, в стороне от навеса.
– Помилуй, князь-государь Андрей Юрьевич, – горячо продолжал Пётр Кучков начатый разговор. – Всё в Боголюбово и в Боголюбово. Подворье целыми днями без тебя пустое стоит.
– Слышал, что Боголюбским меня прозвали, – засмеялся Андрей Юрьевич. – Так и говорят: князь Андрей Боголюбский.
Пётр смущённо отвёл глаза. Собака-Анбал, как всегда, донёс. Что ни услышит, каждое слово передаёт князю.
– Не в прозвании дело, князь-государь. В том беда, что снова доступа к тебе нет. Вести же из городов поступают важные.
– Назови к примеру.
– К примеру, государь, князь Ярослав Галицкий собирает силу воевать киевский стол.
– Какие у князя Галицкого на то права?
– Не ищет он прав. «Выдай, – говорит, – моего врага смертного Ивана Берладника, а не то под Киев с воями явлюсь». Поддержку он ждёт от короля венгерского и польских князей.
Андрей Юрьевич перестал смеяться: далеко у Осмомысла дело зашло, если Кучковы о планах его прознали.
– Иван Берладник про козни врага своего оповещён, и, при его благородстве, он князя Изяслава не подведёт, – проговорил Андрей Юрьевич строго. – Что же касается новой грызни за киевский стол, то ведётся она впустую. Сердце Руси переместилось в срединные земли, и венчаться на великое княжение отныне станут не в киевской Софии, а в Успенском владимирском храме.
– Правда твоя, государь.
Про себя боярин подумал: «Притворяется князь-государь, что к Киеву безразличен. Сам про всё уведомлён тайно. Ни одной вестью его не удивишь. Лиса хитрая».
– Смотри-ка, брат Пётр! – весело воскликнул Андрей Юрьевич. – Строитель пожаловал. Редко он наведывается к нам на холмы.
Пётр обернулся, увидел спрыгнувшего с коня Строителя. Тотчас рядом с прибывшим очутился Кузьмище Киянин. С измерительными линейками в руках подоспели оба германца. Все четверо двинулись по гребню валов мимо дворца и лестничной башни к Рождественской церкви, возведённой по окна. Опояска из сверкающих медью колонок уже закружилась по белым стенам. Выше побежала дорожка-поребрик из небольших камней, уложенных на ребро.
– Сам дело бросил, другим прибыл мешать, – пробормотал Пётр. – Германцы почище в зодчестве разбираются. Пока он над храмом во Владимире бьётся, они в Боголюбове город поднимут.
– Иной храм как раз с город будет, – наставительно заметил Андрей Юрьевич и кротко добавил: – Давно, брат Пётр, собирался тебя спросить: за что не терпишь Строителя? Лицом бледнеешь, едва он появляется рядом.
– За то не терплю, государь, что не по чину заносчив. Откуда прибыл, из каких происходит? Ничего неизвестно. Имя и то утаил. А держит себя, ни дать ни взять, родовитый боярин.
Князь наслаждался бешенством своего окольничего.
– Что имя? – произнёс он задумчиво. – В каждое имя своё значение вложено. Андрей по-гречески значит «храбрый», Пётр – «скала». Строитель – «строитель» и есть. А что держит себя с достоинством, на то причина имеется.
– Какая причина? – не выдержав, полюбопытствовал Пётр. – Сделай милость, скажи, государь.
– Бояр у нас развелось, словно сорной травы при дороге, а Строитель на целую Русь, быть может, один.
Пётр прикусил губу. Чего добивался великий князь, унижая боярство? Мизинными людишками надумал себя окружить?
– Потому-то, брат Пётр, – продолжал Андрей Юрьевич, – мы с тобой в одиночку друг с дружкой стоим, а Строитель со свитой движется. И летописец при нём, и германцы его суждением интересуются, видишь, на стены указывают.
– Вижу и то, что сюда направляются. Дозволь удалиться, государь, не хочу смешаться с его окольничими.
– Ступай, остуди в холодке горячее сердце.
К камнесечцам Строитель спустился вдвоём с Кузьмищем Киянином. Стоявшему возле навеса князю он сказал:
– Германцы план выдерживают во всех измерениях. Камни ложатся на предназначенные им места.
– Твердыня с дворцом и церковью поднимется не хуже, чем у них на Рейне, – обрадованно подтвердил князь. – Ни в оборонной мощи, ни в красоте – Боголюбово ни в чём не уступит.
– Зодчество уподобляют музыке, – сказал Строитель и медленно двинулся мимо плит, лежавших у ног камнесечцев.
Камнесечцы работу прервали. Строителя слушали стоя.
– У каждого народа свои мелодии, свой звуковой лад, – говорил Строитель, разглядывая резьбу. – Музыка рейнских замков – это гремящие цепи подъёмных мостов, гул переходов под тёмными сводами, плеск глубокой воды во рвах. Боголюбово – крепость. Но лад здесь будет иной. Его зададут белые стены и золочёные кровли, вскинувшиеся над рекой. Словно в избе, которую рубят для мира, не для войны, окна и входы украсит резьба.
Строитель остановился около плит с львиными мордами. Плиты предназначались для окон.
– В книге «Физиолог» говорится, что лев обладает свойством с открытыми глазами, всё видя, спать, – вступил в разговор Кузьмище Киянин. – Поэтому стал он стражем, охраняющим стены.
– Лев – княжий знак, – возразил Андрей Юрьевич. – Лев – царь зверей, он выражает власть и княжью силу.
Плоскомордые добродушные львы смотрели на мир большими глазами и щерили пасти без всякой свирепости. Пока князь с летописцем спорили о смысле и назначении известняковых львов, Строитель подозвал старосту камнесечцев Горазда.
– Кто делал? – спросил он негромко, кивнув головой на камень, обтёсанный в виде звериной морды.
– Мальчонкина работа. Выученик наш. Дементий по имени.
Горазд поднял камень и повернул против света. Зверь ожил. Длинная морда вытянулась настороженно, над выпуклым лбом вскинулись чуткие уши. В обводке из желобков, как в меховой опушке, сверкнули глаза.
– Водомёт на крыше можно украсить для стока с кровель воды. На синем небе хорошо видеться будет.
– Собака? – спросил Строитель.
– Похоже, – усмехнулся Горазд. – Только Дёмка волком его называет. «Молодой, – говорит, – трёхлеток-волк».
– Сам камнесечец где?
– Дёмка-то? Вон средь берёзок расположился. Новую работу затеял. Я не мешаю. Своя выдумка лучше всех указаний обучит.
Строитель торопливо двинулся к берёзам.
– Я тебя где-то видел, – сказал он Дёмке, приблизившись.
Дёмка вскочил, не зная, как ему поступить. От князя он камень задвинул бы под кусты, чтобы не вспомнил тот про Иванну. Спрятать работу от самого Строителя он не посмел.
– В каменоломнях московских встретились, – проговорил Дёмка растерянно. – Ты сказал тогда, что душа в камне спит и дело камнесечца – душу спящую разбудить.
– Слова мимо тебя не пронеслись. Сквозь известняковые поры проступают свет и живое тепло. Скажи, Дементий: у тебя есть сестра? Чертами её лица ты оживил известняк?
– Да, – не смея скрыть правду, ответил Дёмка.
– Скорей поспешим к ней.
– Нельзя, я не могу.
– Можешь.
Строитель достал из подвешенной к поясу сумки бережно свёрнутую голубую тряпицу.
Щедрое солнце разбросало лучами-руками пригоршни самоцветных камней. Попадав в траву, они обернулись цветами. Красные, синие, жёлтые – не наглядеться на их красоту.
– Свети-свети, солнце-колоконце!
Иванна стояла в раскрытом проёме кузницы. У ног расстилалась поляна. На ладони лежали едва успевшие остыть после обжига чечевицы-подвески. Красные, синие, жёлтые финифтяные цветы сияли и переливались, словно вплавился в краски солнечный свет.
– Свети-свети, солнце-колоконце! – пела Иванна.
Прокопчённый навес поднимался над головой как полог из чёрного бархата. Апря был рядом, лежал, вытянув лапы, и думал, наверное, что он сторожевой лев, о котором рассказывал Дёмка. Вдруг Апря вскочил, тихонько затявкал.
– Погоди, – сказала Иванна, угадав, что значило тявканье. – Вместе брата пойдём встречать.
Вдвоём Иванна и Апря пересекли цветущую поляну, прошли за стволы деревьев, вступили в светлый от солнца лес.
Навстречу по неширокой лесной тропе шли Строитель и Дёмка.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В непроглядную июньскую ночь 1175 года суровый и самовластный Андрей Боголюбский был убит заговорщиками из собственных приближённых. Возглавили заговор Яким и Пётр Кучковы. Местом, где совершено было преступление, стал Боголюбов-город – пышная загородная резиденция, поражавшая иноземных послов великолепием своего убранства.
Накануне убийства ключник Анбал выкрал меч святого Бориса, и ночью двадцать заговорщиков с копьями и ножами в руках, сорвав с петель двери, вломились в княжью опочивальню. Безоружный Андрей Юрьевич защищался до последнего вздоха. Ему удалось вырваться на площадку лестничной башни, соединявшей церковь с дворцом. Но убийцы догнали его.
Утром Кузьмище Киянин нашёл обезображенное тело, брошенное посреди огорода. «Как не раскрыл ты скверных и нечестивых врагов своих?» – воскликнул Кузьма, и эти слова занесены были в летопись. Громко сетуя и проклиная убийц, Кузьмище Киянин потребовал у Анбала корзно, чтобы прикрыть мёртвого князя.
Заговорщики были казнены. В дубовых колодах сбросили их в пучину Плавучего озера, расположенного в тех местах, где любил охотиться князь. Долго потом владимирцам чудилось, что несутся стоны из тёмной воды, и рассказывали они друг другу шёпотом о колоде, всплывающей по ночам.
Похоронили Андрея Юрьевича в златоверхом Успенском соборе. Когда гроб везли во Владимир, у въезда в город с иконой в руках стоял священник Никола.
Что же стало с Иваном Берладником? Где Ярослав Осмомысл? Крепко ли держит киевский стол великий князь Изяслав?
В 1159 году в Киев явилось посольство, состоявшее из представителей девяти княжеств и государств. Великий князь Изяслав, по словам летописца, «всех принял и, ответ им дав, отпустил». Примирить, однако, Ярослава Галицкого с Иваном Берладником ни Польше, ни Венгрии не удалось. Посольцы семи русских княжеств также вернулись ни с чем. Конфликт разрешился войной. В 1162 году Изяслав Давыдович, покинутый изменившими ему союзниками, был зажат в кольцо галицкими полками и возле Белгорода порублен.
В том же году не стало Ивана Берладника. Своей ли смертью умер предводитель русской вольницы, или настигла его чья-то ненависть, судить трудно. Во всяком случае, занося в книгу весть о печальном событии, летописец счёл нужным добавить: «Иные сказывали, будто с отравы была ему смерть».
Прямых наследников Андрей Боголюбский после себя не оставил, и владимирский стол перешёл к его сводному брату Всеволоду, отроком отправленному из Суздаля в Царьград. Во время тридцатипятилетнего правления Всеволода, получившего прозвище Большое гнездо, Владимиро-Суздальское княжество расширилось и сделалось сильнейшим на Руси. Именно в эти годы всё чаще стала упоминаться Москва – будущая столица великого государства.
Старшие сыновья Андрея Боголюбского, Изяслав и Мстислав, умерли при жизни отца. След младшего княжича Юрия оборвался в далёких Кавказских горах, куда княжич попал, став мужем грузинской царицы Тамары. Андрей Юрьевич горько оплакивал смерть Изяслава, скончавшегося от ран после похода на Волгу. В память о сыне он повелел возвести белокаменный одноглавый храм Покрова, чтобы виден был он из окна боголюбовской лестничной башни.
На насыпном островке в устье Нерли зодчие поставили лёгкую стройную церковь. Белой чайкой взлетела она над рекой, и не было ранее на Руси строения столь поэтичного.
Мы не знаем, как звали тех, кто воплотил в камне замыслы Андрея Боголюбского. Затерялись в толще веков имена славных строителей. «Бог привёл мастеров из всех земель» – вот и всё, что сообщила нам летопись, а устные предания добавили, что прибыли мастера из Болгарии и от Фридриха Барбароссы. Но конечно, прежде всего, во Владимире работали владимирские градодельцы. На гладко тёсанных плитах Золотых ворот, служивших парадным въездом в город, вырезаны метки владимирских мастеров.
Строили владимирцы крепко, надолго, как долго живёт сам камень. Вкладывали в постройку всё своё вдохновение, всё мастерство.
Быть может, дорогой читатель, тебе посчастливится побывать во Владимире и ты увидишь своими глазами могучего богатыря – Успенский собор и его меньшую сестру – лёгкий и светлый храм Покрова, мощный куб Золотых ворот, рассечённый высокой аркой, и нарядную лестничную башню, где восемьсот лет назад разыгралась ночная трагедия. Тебя поразят очертания зданий – цельные, крепкие и одновременно стремительные. Ты будешь смотреть на витые поребрики, восхищаться опоясками из арочек и колонок и, наверное, подумаешь: «Мастера украсили гладкие стены резными узорами, потому что видели, как прекрасна земля, и в своих строениях эхом откликнулись на её красоту». Тебе захочется узнать, какие мысли и чувства волновали камнесечцев-скульпторов, когда высекали они удлинённые, слегка скуластые лица молодых женщин или выкладывали из резных плит многофигурные «каменные картины». Воображение унесёт тебя к начальным векам истории нашей родины.
У камней твёрдая память. О многом могут они рассказать. Целая эпоха, с её жизнью, борьбой, мечтами, надеждами и техническими возможностями, заключена в говорящих фасадах. Нет ли там, где ты живёшь, памятников древнего зодчества? Найди, открой их для себя, переверни страницы каменной летописи, как переворачиваешь страницы любимой книги, и тебе никогда не наскучит читать и перечитывать вдохновенные каменные письмена.
Примечания
1
Царьград – древнерусское название города Константинополя.
(обратно)2
Извоз – пристань.
(обратно)3
Вобрат – обратно.
(обратно)4
Гридница – помещение для младшей дружины.
(обратно)5
Вои – так в древней Руси называли воинов.
(обратно)6
Локоть – старинная мера длины, равная половине метра.
(обратно)7
Учёные считают, что дошедший до наших дней рассказ о «чуде» и возвращении Андрея Юрьевича во Владимир записан современником князя Кузьмищем Кияниным.
(обратно)8
Сулея – бутыль, фляжка.
(обратно)9
Яхонт – старинное название красного камня рубина.
(обратно)10
Детинец – укреплённая центральная часть древнерусского города.
(обратно)11
Митрополит – в Древней Руси глава всей русской церкви.
(обратно)12
София – киевский Софийский собор.
(обратно)13
Ткани парадных одежд князя Андрея и пластины его наплечников сохранились до наших дней.
(обратно)14
Успение – церковный праздник, установленный в память о кончине девы Марии.
(обратно)15
Парадный топорик Андрея Юрьевича был найден на Волге, куда князь водил свои полки.
(обратно)16
Впоследствии Успенский собор был перестроен и пять куполов заменили его «един верх».
(обратно)
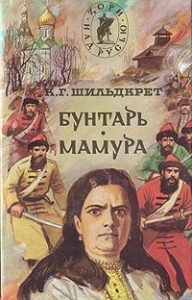


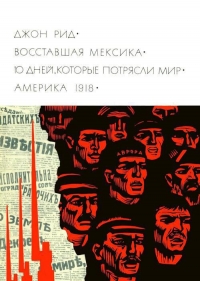

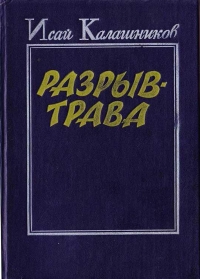
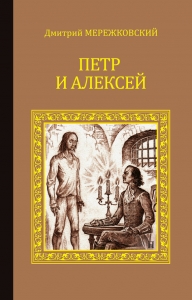
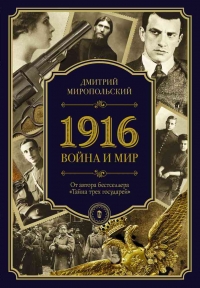
Комментарии к книге «Дёмка - камнерез владимирский», Самуэлла Иосифовна Фингарет
Всего 0 комментариев