Валентин Пикуль «Цыц и перецыц»
Дело давнее… Сергей Кириллович Станиславский, мелкотравчатый дворянин, обходя лужи, старательно поспешал на службу при канцелярии строений, где он кажинный денечек бумаги разные переписывал, трудами праведными достигнув коллежского регистратора, а на большее и не рассчитывал.
На Басманной близ Разгуляя стоял громадный домина, сплошь обитый железом, и чиновник невольно придержал шаги, заметив на его воротах бумагу, обращенную ко вниманию проходящих. Смысл афиши был таков: ежели какой-либо дворянин желает иметь невесту со знатным приданым, то пусть объявится в этом доме, никаких страхов не испытывая, ибо нужда в супружестве возникла неотложная и решительная.
– Чей дом-то этот? – спросил чинуша прохожего.
– Стыдно не знать, сударь, – последовал ответ с укоризною. – Соизволят проживать здесь великий богач Прокофий Акинфиевич Демидов, и вы в этот дом лучше не суйтесь.
Сергей Кириллович стал на афишу показывать:
– А вот, гляньте, тут в женихе надобность приспела.
Прохожий глянул на бумагу с большой опаскою.
– Это для смеху! – пояснил он. – Господин Демидов хлеба не поест, прежде не повредив кому-либо. Ему забавы нужны всякие, чтобы над образованным человеком изгиляться. Явитесь вы к нему, так он вам так всыпет, что своих не узнаете…
Побрел бедный чиновник далее, размышляя: «Оно, может, и так, что всыпет. Но за оскорбление чести дворянской через полицию можно сатисфакции требовать, чтобы деньгами поругание мое оплатил. Маменька-то вчера уж как убивалась, что давно пирогов с изюмом не кушала. Меня же и попрекала, сказывая: эвон, как другие живут, собирая с просителей акциденции, сиречь взятки. А ты, дурак такой, только ушами хлопаешь, нет от тебя никаких удовольствий… Вернусь». С таким-то решением Станиславский вернулся к дому, что внешне напоминал фортецию неприступную, и постучал в ворота. Добрый молодец отворил их и высморкался, спрашивая:
– Зван или незван? Бить аль погодить?
– Я… жених, – сознался чиновник. – Из дворян… по объявлению. Мне бы невесту поглядеть да чтобы мне приданое показали.
– А-а-а. Тады милости просим, входите…
Вошел Станиславский в хоромы и тут даже штаны прохудил от вящего изумления. Вот как миллионщики-то живут, не чета нам! Тихо играли органы, встроенные в стены палат, посреди столов струились винные фонтаны, прыгали ручные обезьяны, порхали под резным потолком невиданные птицы, где-то кричал павлин, а мимо чиновника, до смерти перепугав его, вдруг пробежал не то зверь, не то человек, и, зубы огромные скаля, стебанул его – прямо по загривку.
– Это кто ж такой будет? – спросил чиновник служителя.
– Это, мил человек, будет не человек, а подобие его, научно прозываемое ранкутанком… За большие деньги из Африки вывезли! С утра кормлен, так что не бойся: жрать не станет. Ступай дале. Хозяину доложили – чичас явится…
Станиславский ни жив ни мертв – увидев миллионера Прокофия Акинфиевича Демидова: был он в халате, снизу исподнее, на голове колпак, а босые ноги в шлепанцах домашних (кои тогда, читатель, назывались «шептунами»). Вышел Демидов и спросил:
– Дворянин? По Департаменту Герольдии записан ли?
– Писан, – пискнул чиновник. – Имею счастие состоять в чине регистратора, состоя при бумагах разных, а значение запятых мне известно, за что от начальства похвалы удостоился.
– Ну и дурак… Не все ли равно, где запятая ляжет? Вот точка – это другое дело, от нее многое, брат, зависит. Ты точки-то когда-нибудь ставил ли в бумагах своих?
– Точки у нас директор канцелярии саморучно ставит.
– Ладно. Значит, решил зятем моим стать?
– По афише. Как было объявлено.
– Небось и приданое желаешь иметь?
– Так а кто ж не желает? Не дурак же я!
Демидов подумал и велел встать чиновнику на четвереньки. Потом забрался на него и велел возить по комнате. Очень трудно было Станиславскому, но возил, пока не ослабел, и тогда Демидов сам сел и ему велел сесть. Стал тут миллионер думу думать. В ту пору Демидов пребывал в «дистракции и дизеспере» (как выражались тогда на смеси французского с нижегородским). Дело в том, что хотел он выдать дочек своих за купцов или заводчиков, но лишь одна Анька послушалась, за фабриканта Земского выйдя, остальные же дщерицы заартачились: не хотим быть купчихами, а хотим быть дворянками! Сколько уж прутьев измочалил Прокофий Акинфиевич, сколько дурех этих по полу ни таскал за косы – нет, уперлись, подавай им дворянина.
Оттого-то и появилось на воротах дома его объявление…
– Анастасию Первую, – указал он, а жениху объяснил: – У меня их две Настьки: коли Первая не приглянется, так я тебе Вторую явлю… Ты не пугайся: не девки, а змеи подколодные!
Величавой павою выплыла из комнат Анастасия Первая.
– Вот, – сказал ей отец, – жених дворянский, как и хотела!
Тут эта девка чуть не плюнула в Станиславского:
– А на што мне такой завалящий? Ах, папенька, не могли разве пригоженького залучить? Да и чин-то у него каков? Мне бы, папенька, гусара какого или советника статского, чтобы у дел важных был или чтобы с саблей ходил.
– Цыц и перецыц! – гаркнул Демидов. – Не ты ли от звания купеческого отвертывалась? Не ты ли кричала, что лучше за первого попавшегося дворянина желаешь… Так вот тебе – первый попавшийся. А коли будешь рыпаться, так я не погляжу, что жених тут: разложу на лавке да взгрею волей родителя…
Это не анекдот! Вот так и стал нищий коллежский регистратор владельцем колоссального состояния, заимел богатейшую усадьбу, а маменька его пироги с изюмом уже отвергала:
– От них рыгается! Ныне-то, люди умные сказывали, есть пироги такие, в кои целый нанас запихивают, и прозываются они парижским «тиликатесом». Вот такого хочу – с нанасом!
…Было начало царствования Екатерины Великой.
Москва тех времен, еще «допожарная», была обстроена дворцами знати, в которых едва помещались оранжереи, библиотеки, картинные галереи, бронза и мрамор. Иностранцы, посетив тогдашнюю Москву, писали, что им казалось, будто русские обобрали всю Европу, чтобы иметь в каждом доме частный музей. Европейцы не раз попадали впросак от незнания барской жизни: низко кланялись дамам, облаченным в роскошные шубы, а потом выяснялось, что это служанки, а меха у них такие же, как у барынь. Опять-таки непонятно: крепостные иногда становились миллионерами, и даже такой богач, как граф Шереметев, занимал в долг миллионы у своего раба Никифора Сеземова… Вот и разберись в тогдашней московской жизни!
Прокофий Акинфиевич родился в Сибири, в период царствования Петра Великого. Он был внуком Никиты Демидова, что основал в Туле ружейное дело, а на Урале обзавелся заводами и рудниками. Прокофий рано женился на Матрене Пастуховой, но раньше времени загнал молодуху в могилу, чтобы сожительствовать со своей комнатной девкой Татьяной Семеновой, от которой – не венчан! – тоже имел детишек. Танька-то была статью как гренадер, грудь имела возвышенную, каждую весом в полпуда, а глаза у нее, ей-ей, словно полтинники – сверкали. Бывало, как запоет она «Я милого узнаю по жилету» – так Демидов на колени перед ней падал, крича:
– Ой, убила-а! Совсем убила… Хорони меня, грешного!
Было у него от первой жены четыре сына, он их в Гамбург отправил учиться, но там они забыли русский язык, и, когда вернулись на родину, Демидов, словно в насмешку, дал на всех четырех одну захудалую деревеньку с тридцатью мужиками и велел строго-настрого на глаза ему никогда не показываться:
– Мне эдакие безъязыкие не надобны… Пшли прочь.
Дочек же, слава Богу, дворяне (с приданым) мигом расхватали. А разругавшись с сыновьями, Демидов – назло им! – лучшие свои заводы на Урале распродал Савве Яковлеву Собакину, с чего и началось обогащение Яковлевых, новых Крезов в России.
– Батюшка ты мой разлюбезный, – внушала ему Татьяна, – не пора ль тебе меня, сиротинушку, под венец утащить?
– Цыц и перецыц, – отвечал Демидов. – Успеется…
Демидов часто и подолгу живал в столице, не гнушался он и Европой, не раз бывая в краях заморских. Начудил он там, конечно, немало! Саксонцы, французы, голландцы видели в нем лишь сумасброда, дивясь его выходкам и капризам, за которые Демидов расплачивался чистоганом, денег не жалея; «только холодные англичане открыли ему глаза, подвергнув русского миллионера самой наглейшей эксплуатации, не постаравшись даже прикрыть ее внешними приличиями» – так писал Н. М. Грибовский, демидовский биограф, в самом начале XX века. Лондонским негоциантам удалось за большие деньги сбыть Демидову свою заваль, но Прокофий Акинфиевич этого им не простил…
– Мы тоже не лыком шиты, – решил Демидов, вернувшись на родину. – Я этой англичанке такую кутерьму устрою, что ажио весь флот без канатов и снастей останется.
Одним махом он скупил все запасы пеньки со складов столицы. Англичане же каждый год слали целые флотилии за пенькой. Вот приплыли купцы из Лондона, а им говорят:
– Пеньки нет! А какая была, вся у Демидова… Сунулись они было в контору его, а там заломили за пеньку цену столь разорительную, что корабли уплыли восвояси с пустыми трюмами. Через год англичане вернулись, надеясь, что Демидов одумался, а Демидов, снова скупив всю пеньку в России, заломил цену еще большую, нежели в прошлом году, и корабли английского короля опять уплыли домой пустыми.
– С кем связались-то? – говорил Прокофий Акинфиевич. – Пущай они там негров или испанцев обжуливают, а «мохнорылым» русского человека обдурить не удастся. Вот и разорились…
Ах, читатель, если бы его месть пенькой и закончилась!
Н е т. Оказывается, еще будучи в Англии, Прокофий Акинфиевич уже отомстил своим британским конкурентам самым ужасным способом. Он дал взятку сторожам британского парламента, весьма респектабельного учреждения, ночью проник в этот парламент. А там он спустил штаны и оставил – на память англичанам! – непревзойденный по красоте и благоуханный «букет» в кресле самого… спикера. Об этом в России пока ничего не знали.
– Да и кто узнает-то? – рассуждал Демидов. – Скорее промолчат, дабы перед всем миром не позориться.
В содеянном он сознался любимому зятю по дочери Анастасии Второй. Это был Марк Хозиков, происхождением швед, но обрусевший, который состоял секретарем при Иване Ивановиче Бецком, сыне князя Трубецкого от шведки, и вот через этих людей Демидов проворачивал свои дела в высших сферах правительства. Хозикову иногда он и плакался:
– Бывали у меня времена худые. Герцог-то Бирон моего братца Ваню на эшафоте колесовал, а другой братец Никитка в передней того же герцога лизоблюдствовал. За это сикофанство и получил он наследство от тятеньки, а мне остался хрен на патоке, в одной рубахе остался, даже посуду отняли. Веришь ли? Яко пес худой, из деревянной миски лакал языком, ложечки не имея. Слава Богу, что Лизавета взошла, будто солнышко красное. Тут при ней-то люди русские и возрадовались…
В этих словах Демидова не все правда, но доля правды была: Бирон казнил и миловал, но заводы Невьянские он все же получил от отца, иначе с чего бы эти миллионы? Через Хозикова он знал, что Екатерина II навсегда им довольна. Еще в 1769 году она писала московскому губернатору: «Что касается до дерзкого болтуна Демидова, то я кое-кому внушила, чтобы до него дошло это, что если он не уймется, так я принуждена буду унимать его силой».
В чем же провинился Демидов?
Смолоду влюбленный в песни народного фольклора, не всегда безобидного для власть имущих, Прокофий Акинфиевич и сам пописывал едкие сатиры, глумясь над придворными императрицы. Узнав об этом, Екатерина распорядилась сжечь сатиры Демидова «под виселицей и рукой палача». Думаете, он испугался? Совсем нет. Напротив, Демидов само наказание превратил в потеху.
– Цыц и перецыц! – сказал он управляющему. – Завтра же ты проси сдать внаем все дома с балконами, что стоят вокруг эшафота с виселицей. А я разошлю приглашения знати московской, чтобы при казни она присутствовала со чадами, за это я их стану, яко Лукулл, особым обедом потчевать…
Мало того, к месту гражданской казни он привел громадный оркестр – с трубами, тулумбасами и литаврами. Когда в руке палача под виселицей вспыхнули сатиры Демидова, музыканты грянули праздничной музыкой, стали тут люди танцевать на площади, а сам Демидов сидел на балконе, весь в цветах, словно именинник, и аплодировал палачу своему:
– Браво-брависсимо… Всем цыц и перецыц!
Князь М. Н. Волконский, губернатор первопрестольной, прислал к Демидову квартального офицера с наказом – внушить Демидову, чтобы унялся, смирясь в благопристойности:
– А мои слова считать волей монаршей. Ступай…
Прокофий Акинфиевич принял квартального как лучшего друга, не знал, куда посадить, стол для него накрыли лучшими винами и яствами, дрессированный орангутанг, зверило лютое, даже обнимал квартального, рыча что-то нежное.
– Друг ты мой ненаглядный! – сказал Демидов губернаторскому посланцу. – Волю монаршую я рад исполнить, и первую чару опорожним за здоровьице нашей великой матушки-государыни… Мудрость-то! Мудрость-то у ней какова!
Тут и Танька, тряся грудями, в ладоши хлопала:
– Пейдодна, пейдодна, пейдодна, пейдодна…
Через полчаса квартальный офицер валялся под столом.
– Эй, люди! Теперича начнем казнить его, как положено…
Пьяного раздели донага, обрили наголо, словно каторжного. Демидов велел не жалеть для него меду. Квартального медом густо намазали, обваляли в пуху лебяжьем и отнесли почивать в отдельную комнату – чин по чину. А возле копчика приладили ему хвост от лисицы – зело нарядный, изрядно пушистый.
– Пущай дрыхнет, – сказал Прокофий Акинфиевич… А сам через замочную скважину наблюдал за ним потихоньку, дожидаясь его приятного пробуждения. Только увидел, что стал квартальный разлеплять светлые очи, медом заплывшие, тут он и ворвался в комнату – с угрозами и криком:
– Как ты, офицер полиции, смел являться ко мне с изъявлением воли монаршей в таком непотребном виде? Вставай, сейчас я тебя явлю губернатору, чтобы он наказал тебя…
История гласит, что полицейский упал к ногам Демидова, умоляя не позорить его, но Демидов велел слугам тащить его по Москве к дому Волконского, чтобы все москвичи наглядно убедились, каковы у них квартальные… Бедный квартальный даже хвоста у себя не заметил, так и шел по улицам, лисьим хвостом помахивая, и лишь перед домом губернатора Демидов смилостивился, сказав, что «прощает» его, и подарил полицейскому парик, дабы накрыть бритую голову, а заодно дал ему мешок с золотом, чтобы тот худого о нем ничего не сказывал.
Пишу я вот это, читатель, а перед глазами у меня все время стоит знаменитый портрет Прокофия Демидова гениальной кисти Левицкого, что ныне украшает залы Третьяковской галереи. Помните, наверное, что Демидов изображен на фоне цветущего сада в халате и колпаке, эдакий добрый дедушка, он с небрежной деловитостью облокотился на садовую лейку. Представляя это гениальное полотно русской общественности, Сергей Дягилев в 1902 году писал: «Великий благотворитель и не менее великий чудак, Прокофий Акинфиевич, всю жизнь заставлявший говорить о себе не только провинциальное общество Москвы, не только всю Россию, но и все европейские центры, которые он посетил во время своего экстравагантного путешествия…»
Между тем, читатель, Демидова подстерегала беда, связанная именно с этим его «экстравагантным» визитом в Англию и – особенно – с тем «букетом», который он там оставил.
Англичане, как выяснилось, ничего не прощали!Мы, читатель, сейчас немало рассуждаем и пишем о матерях-отказницах, кои оставляют своих детишек в родильных домах или приютах. У в ы, с этой же проблемой я столкнулся впервые – не удивляйтесь! – еще при написании романа «Фаворит». Как это ни странно, но в XVIII веке, осиянном высокой нравственностью народа и учением христианства, такое тоже случалось.
Екатерина об этом знала и говорила об этом не раз:
– Прямо Содом какой-то! Удовольствие от парней получит, сама брюхо набьет, а потом младенца находят в горохе на огородах да на капустных грядках. С этим надо бороться. Не матки их беспутные заботят меня, а сироты несчастные, материнской ласки и молока материнского лишенные… Вот беда-то в чем!
Дени Дидро помог ей добрым советом: из подкидышей, что будут воспитаны государством, следует образовать новое сословие в России – людей свободных, и чтоб эти люди впредь ни при каких условиях не могли бы попасть в кабалу закрепощенных. Екатерина с этим была согласна.
– Я пойду и далее, – заявила она. – Воспитанники государства, женясь на крепостных девках, вызволяют их от рабства помещика, а воспитанницы, брачуясь с крепостными, сразу же от брачного венца делают мужей своих тоже свободными…
Задумано было хорошо. Не было только денег, чтобы устроить «Сиропитательные дома» (позже нареченные «воспитательными»). Россия сражалась с Турцией, и, чтобы вести такую войнищу на Дунае, деньги тоже требовались – и немалые! Фаворитом при «матушке» состоял тогда Гришка Орлов, он ее спрашивал:
– Матушка, а сколь тебе надобно?
– Миллиона четыре, никак не меньше. Но банкиры европейские, раздери их холера, в кредит более не дают, ибо, души гадючьи, не больно-то верят в славу оружия российского.
– Так и плюнь на них! У нас Прошка Демидов имеется, вот ты его и хватай за «яблочко», чтобы раскошелился…
С этим решением он сам предстал перед Демидовым, прося в долг «матушке» сущую ерунду – всего четыре миллиона рублей (не ассигнациями, а золотом, конечно).
– О какой матушке волнуешься? – спросил Демидов. – О матушке-России или о той, кою ты по ночам всячески развлекаешь?
Орлов сказал, что у всех у них по две «матушки».
– Императрице не дам! – сразу отрезал Демидов.
– Почему? – удивился Гришка Орлов, граф, князь и прочее.
– Боюсь давать тем, кто имеет право растянуть меня и высечь, а тебе дам, ибо захочу, так я и тебя высеку…
Орлов посмеялся, винцом погрешил и сказал, что казна при возвращении ссуды накинет ему три процента. Демидов сказал:
– Не надо мне ваших процентов. Я свое условие ставлю: ежели в сроках не управитесь, то я обрету право – при всем честном народе – накидать тебе в морду сразу три оплеухи.
Орлов кинулся в Зимний дворец, докладывая императрице – так, мол, и так. Процентов Демидов не желает, зато согласен обменять их на три оплеухи. Это графа заботило:
– Матушка, ведь не поспеешь к сроку долг-то вернуть? А этот дуралей выведет меня на площадь и свое получит…
– Ох, и тошно же мне с вами со всеми! – отвечала Екатерина. – Но делать нечего – соглашайся быть битым, чтобы война продлевалась до победы, а казна процентов не ведала…
Мысли о подкидышах и сиротах не покидали ее, а ведь Дидро и Вольтеру не станешь объяснять, что русская казна исчерпана. Тут-то как раз и появился на пороге ее кабинета британский посол лорд Каткарт, от которого императрица и узнала о том «наследстве», которое Демидов оставил в парламентском кресле спикера. Возмущенная императрица сначала посулила, что сошлет Демидова в Сибирь, и, кажется, была к этому готова. Но, женщина практичная, Екатерина даже из этой зловонной кучи решила иметь экономическую выгоду ради своих целей.
Прокофий Акинфиевич выслушал от нее первые слова, звучащие для него приговором:
– Сказывают, что ты в Сибири урожден был, так я тебя, приятеля своего, и сошлю в Сибирь, чтобы ноги там протянул… У нас, русских, в Европе и так всякую дурь болтают, Россию шельмуя, а ты… что ты? Или другого места не сыскал, кроме парламента, чтобы свою нужду справить? Готовься к ссылке…
Демидов рухнул перед женщиной на колени:
– Матушка… родимая… пожалей!
– А ты меня разве пожалел, на всю Европу бесчестя?
– Ваше величество, что угодно… просите. Последнюю рубашку сыму, с торбой по миру побираться пойду… все отдам!
Екатерина, искусная актриса, дышала гневно.
– Мне от тебя всего и не надобно…
Тут Екатерина припомнила, как Демидов устроил в Петербурге гулянье для простого народа, где среди каруселей и балаганов выставил жареных быков и устроил винные фонтаны, бьющие дармовым вином, отчего в столице от перепоя скончались более полутысячи человек. Она размахнулась и отвесила ему пощечину:
– На каторгу! Надоел ты мне. Даже когда добро стараешься делать, от тебя, кроме зла, ничего не бывает…
Демидов ползал в ногах у нее, рыдал и воспрянул, когда понял, чего от него требуется, – всего-то лишь денег на создание «Сиропитательного дома» для подкидышей и сироток. Таким-то вот образом одна лишь «куча», оставленная в кресле британского спикера, обошлась ему в ОДИН МИЛЛИОН И СТО СЕМЬ ТЫСЯЧ рублей, опять-таки чистым золотом. «Воспитательный дом» вскоре появился и в Петербурге, а Демидов, кажется, о тратах не жалел: в Москве он отдал для приюта свой каменный дом, завел при нем скотный двор и даже составил инструкцию о том, как получать от коров высокие удои молока. Правда, в этой истории случилось не все так, как задумали ранее. Крепостные стали умышленно подкидывать в «Воспитательные дома» своих младенцев, чтобы они уже никогда не ведали барщины, а сразу становились свободными гражданами (вот во что обратились идеи Дидро, золото Демидова и хлопоты императрицы!)…
Постепенно старея, Прокофий Акинфиевич не оставил своих чудачеств, и в какой-то степени он заранее предвосхитил тех купеческих Тит Титычей, что дали пищу для пьес Островского. Порою же чудачества его принимали форму глумления над людьми. Так иногда он давал деньги в долг с условием, что цифру долга напишет на лбу должника, требуя, чтобы эту цифру он не смывал до тех пор, пока не вернет денег.
– А до сего пущай все видят, сколь ты задолжал мне…
Однажды явилась к нему старая барыня, и просила-то она сущую ерунду – всего тысячу рублей, и Демидов не отказал ей:
– Почему и не дать? Только не взыщи, у меня на сей день золотишка не стало – медяками возьмешь ли, дура?
– Возьму, батюшка, медяками. Как не взять…
Надо знать, что медные деньги тогда были тяжелы и массивны и, чтобы увезти тысячу рублей в медяках, требовалось бы не менее трех телег. Старухе отвели пустую комнату, высыпали в ней навалом мешки с медью, Демидов велел старухе отсчитывать тысячу рублей, складывая медяки в ровные столбики. Старуха ползала на коленях до самого вечера, а Демидов, похаживая возле, нарочно задевал столбики, рассыпая их, чтобы сбить старуху со счету. Наконец и ему эта возня прискучила:
– А что, мать, не возьмешь ли золотом? Ведь, гляди, уже зеваю, спать бы пора, а ты и до свету не управишься.
– Возьму, родимый, и золотом, как не взять?..
Время от времени Демидов вызывал охотников из числа лентяев – целый год пролежать у него дома в постели, не вставая с нее даже в тех случаях, когда «ватерклосс» требовался, и за это он сулил богатую премию. Но даже самые отпетые лодыри не выдерживали и, получив от Демидова не премию, а плетей на конюшне, убегали из его дома, радуясь, что их миновала пытка лежанием. Одно время среди молодых дворян возникла глупейшая мода – носить очки, и Прокофий Акинфиевич мигом отреагировал, пародируя: у него не только дворня, не только кучеры, но даже лошади и собаки были с очками. То-то хохотала Москва! Удивил он сограждан и своими дугами: две гигантские лошади шли в коренниках, два осла впереди, один форейтор был карликом-пигмеем, а второй был таким громадным верзилой, что его длинные ноги по мостовой тащились. Одежда выездных лакеев Демидова была пошита из двух половин: левая часть – парча, шелк и бархат, а правая – дерюжина да сермяга, левая нога каждого в шелковом чулке, а башмак сверкал алмазами, зато правая – в лаптях и онучах мужицких.
– Пади, пади, – попискивал лилипутик.
– Пади, пади-и! – громыхал басом Гулливер…
Нет, читатель, это уже не чудачество, а нечто совсем иное. За всем этим маскарадом скрывался потаенный смысл: Прокофий Акинфиевич презирал аристократов и где только мог тешился пародиями над их претензиями и чванством. Как раз в ту пору восходила новая звезда придворной элиты – Безбородко, утопавшего в роскоши, транжирившего тысячи на любовниц, и Демидов питал к нему особое отвращение. Побывав в Москве, Безбородко напросился в гости к Демидову, а потом отклонил свой визит, ссылаясь на важные дела, а Демидов-то уже потратился для убранства стола, гостей-то уже назвал… Гости спрашивали:
– А где же главный столичный гость – Александр Андреевич Безбородко? Ведь ради того, чтобы повидать его, мы и явились.
– Сейчас приведут его, – мрачно ответил Демидов…
Раздался страшный визг – лакей втащил громадную свиноматку с отвислым брюхом, но в придворном кафтане, и силком усадил ее в вольтеровское кресло, предназначенное для самого важного гостя. Прокофий Акинфиевич, отпуская свинье нижайшие поклоны, радушно уговаривал ее:
– Ваша превеликая светлость, не побрезгуйте… Живем мы не по-вашему, люди простые, откушайте, что Бог послал. Не угодно ли опробовать камерани? А вот, удостойте просвещенного внимания, ананасы из оранжерей Нарышкиных. Не обижайте нас, ваша светлость…
Свинья отчаянно визжала, будто ее режут, но, разглядев стол, убранный всякими заморскими яствами, взгромоздилась на него, хрюкая, она пожрала все подряд, что там было, уделив особое внимание винограду, присланному из Тавриды, а после ананасов сочно рыгала, пресытившись.
Демидов с поклоном провожал ее от стола:
– Век будем помнить, что удосужили нас, сирых, своим высочайшим визитом. Не обессудьте, ежели угодить не смогли…
Лишь за два года до смерти Демидов – в возрасте 74 лет – узаконил свою связь с Татьяной Семеновой церковным браком. Среди их дочерей была одна, имя которой для истории почему-то не сохранилось, но зато известно, что она стала женою Щепочкина. Меня это особенно волнует как генеалога. Почему? Да по той причине, что именно из этой фамилии вышел наш знаменитый народоволец, шлиссельбуржец и почетный академик Н. А. Морозов, который скончался в 1946 году в своем же (!) имении на берегу реки Мологи. Вот как бывает.Снова глянем на его портрет кисти Левицкого, писанный «по случаю» – в ознаменование того, что на деньги Демидова в столице был построен родильный дом, по тем временам чудо редкостное. Но, спросят меня, при чем на портрете сад и почему здесь лейка? Они необходимы – и как фон, и как деталь, многое объясняющие в жизни Прокофия Акинфиевича. Был он прирожденный ботаник, разводил в Москве цветники, содержал огородные теплицы для тропических растений, собрал коллекцию редкостных лавровых и папоротников, которые очень высоко оценивались петербургскими учеными.
Да, читатель, не спорю, Демидов был отчаянный самодур, но дураком никогда не был. Известна и вторая его страсть – любовь к народному фольклору, а это занятие в те времена было не таким уж безобидным, как вы думаете. Ведь еще в конце XIX столетия известны случаи, когда князья Волконские избивали баб и мужиков, если те осмеливались на гуляньях распевать песню «Ванька-ключник, злой разлучник…», ибо во времена далекие Ванька-ключник разлучил какого-то князя Волконского с его женою, и долгие годы эта народная песня публиковалась в России без упоминания князя Волконского. Под запретом была песня «Мимо рощи я шла одинехонька», ибо в ней задевалось женское самолюбие Екатерины II. О том, что народные песни казались тогда крамолой, судите сами – письмо Демидова к академику Г. Ф. Миллеру от 1768 года пробилось в печать только в 1901 году; в нем Демидов сообщал, что в России народная песня уже задавлена, а он эти песни вывез из Сибири, «понеже туда всех разумных дураков посылают, которые нашу прошедшую историю и поют на голосу…».
Сказав о Демидове дурное, не премину сказать и хорошее. Все его родичи отличались жестокостью, просто зверствовали, от них на уральских заводах стон стоял. Родной брат Никита (тот самый, что перед Бироном холопствовал) пощады к людям не ведал, и хотя он известен у нас перепиской с Вольтером, но людские страдания были для него пустым звуком. Прокофий Акинфиевич, в отличие от родимых супостатов, все-таки о своих рабочих заботился, вникая в их нужды, он укрощал деспотизм в управлении заводами, выделяясь даже человеколюбием.
Скажу и далее о хорошем. Понимая, что для торговли с Европой страна нуждается не просто в купцах, а экономистах и финансистах, Демидов в 1772 году основал Коммерческое училище, которое при Павле I было переведено в столицу. Когда же в Москве открывали университет, Демидов пожертвовал ему свои деньги – для неимущих, чтобы учились, в нужде постыдной не прозябая; тогда же для бездомных студентов он подарил свой дом, «дабы оне в тесноте не обучались». А когда университет был еще в проекте, Демидов выдвинул свой проект – предложил свои ПОЛТОРА МИЛЛИОНА рублей, желая видеть Московский университет непременно на Воробьевых горах (странно, что в наше время он там и появился).
Закончу рассказ солью , которая в те времена была в большой цене, малодоступная простому народу. Что сделал Демидов? Просто так подарить соль москвичам он не мог, ибо натура была такая, что ему в любом случае хотелось бы «начудить», чтобы люди опять ахали. В самый разгар жаркого лета Прокофий Акинфиевич выразил непременное желание кататься на санях. Но где взять снег для такой прогулки? Демидов скупил всю соль, какая была на складах, и велел соорудить из этой соли санный путь длиною в три версты, по которому и прокатился на тройке с бубенцами.
Потом вылез из саней и махнул народу московскому, что сбежался смотреть на его чудачество:
– Цыц и перецыц, люди! Я удовольствие получил, теперь вы эту соль по своим домам тащите – она в а ш а…
П. А. Демидов скончался осенью 1786 года.



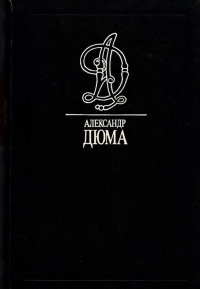


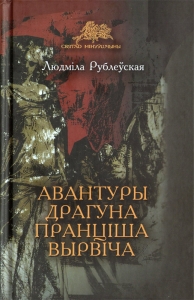
Комментарии к книге ««Цыц и перецыц»», Валентин Пикуль
Всего 0 комментариев