Танец песчинок Виктор Колюжняк
© Виктор Колюжняк, 2016
© Макс Олин, дизайн обложки, 2016
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Пролог
Большинство запоминает великих людей по их наиболее дурацким «достижениям»: на Ньютона упало яблоко, а Эйнштейн – это безумный старик с высунутым языком. Однако едва речь заходит о законе всемирного тяготения или об общей теории относительности, как это же большинство стыдливо отводит глаза…
Лесли «Док» СандерсИстория начинается с прибытия поезда. Первого и последнего за время существования Медины.
В этом городе, затерявшемся в бескрайней пустыне, двадцать четыре часа в сутки, семь дней в неделю, круглый год – шуршит песок и дует ветер. Впрочем, иной раз всё внезапно успокаивается, словно песок и ветер отправляются в отпуск. Учитывая, сколько эти двое работают, они его заслужили.
Больше двадцати лет назад, в один такой день-исключение, Медина пребывает в блаженной неге. Лопасти ветряных электрогенераторов замерли недвижимо, а проклятый песок не пытается продраться сквозь одежду, ударить в лицо или же забить фильтры пустынных масок, которые носят большинство жителей Медины. Потому-то сегодня маски остались дома, и лица под зноем солнца с непривычки чешутся, не ощущая прикосновений шершавых песчинок.
Где и как проводят это время горожане? Рутина, секс, выпивка и попытки обогащения – досуг в Медине не отличается разнообразием.
Большинство устраивают перемирие в войне за существование: домашние хлопоты, дела по хозяйству и просто отдых – всё то, что даст возможность почувствовать себя обычным человеком в обычном городе, даже если завтрашний день вновь напомнит: это не так.
Некоторая часть мужчин обретается возле «Заведения мадам Реми». Девушки приступят к работе только в шесть часов вечера, а сейчас, пока ещё не наступил полдень и солнце не столь яростно прогревает город, девушки принимают солнечные ванны.
Полуобнажёнными, разумеется.
Из толпы мужчин, охваченных возбуждением, слышен лихой свист и доносится восторженное улюлюканье. Ещё чуть-чуть, и «кавалеры» начнут делить «дам», не дожидаясь вечера. Как всегда, дело не обойдётся без драки.
Мадам Реми – морщинистая, бледная, высохшая – спряталась в тени старого белого зонта и слегка улыбается, наблюдая за ажиотажем. Её вид столь резко контрастирует с девушками, что лучше рекламы для заведения не придумаешь. Хозяйка уже предвкушает, как будет наблюдать сегодняшним вечером за смущёнными и оттого хорохорящимися мужчинами, которые намереваются попробовать то, что видели издали.
Второй центр всеобщего внимания – бар «Цеппелин». Пользуясь отсутствием ветра, завсегдатаи проводят турнир по дартсу на открытом воздухе. Как раз сейчас Георгис Солпаидис – признанный чемпион не только бара, но и всей Медины – то почёсывая нос с горбинкой, а то оглаживая аккуратные усы, готовится сделать решающий бросок и одержать очередную победу. Он спокоен, сосредоточен, и, кажется, наперёд знает, что и как случится в будущем.
Впрочем, о прибытии поезда, до которого остаётся пара минут, не догадывается и Георгис.
* * *
Четырнадцатилетний Максимилиан Орбаис, собрав ватагу подростков и вооружившись металлоискателем, пытается найти сокровища, припрятанные песчаной бурей. Кладоискатели кружат по городу, и многие взрослые не видят ничего зазорного в том, чтобы на время присоединиться к подросткам, признавая при этом главенство спокойного и рассудительного Максимилиана, пусть он и выглядит хрупко и беззащитно в своих белых шортах и ярко-рыжей футболке.
Именно Орбаис первым замечает показавшиеся вдалеке чёрные клубы дыма. Его рассудительный ум увязывает происходящее в простую и понятную для подростка мысль, которую он тут же озвучивает, хотя прежде видеть подобное ему доводилось разве что в синематографе.
– Прибывает поезд! – восклицает Максимилиан, показывая пальцем вдаль.
Едва остальные кладоискатели устремляют взгляды в ту сторону, они понимают, что мальчик прав.
И когда это случается; когда Медина понимает, что к ней приближается локомотив; тот, словно осознав, что более не является невидимым для остальных, издаёт гудок. В отличие от поезда, человека в нём и самой Медины, гудок вполне обычен:
– Тууу-тууу, – раздаётся вдалеке.
Блаженная нега спадает с города, и людям кажется, что происходящее весьма и весьма необычно.
* * *
В городе есть вокзал – нелепое здание с кирпичным первым этажом и высоким цинковым куполом, переходящим в шпиль. Память о появлении этого архитектурного монстра отсутствует – жители Медины с трудом помнят историю города, предпочитая свои собственные истории.
Здание вокзала стоит заброшенным издавна, и в любом другом городе это означало бы, что его облюбовали бродяги, или реквизировала под склад какая-нибудь торговая компания. Однако в Медине вокзал стоит уже несколько десятилетий абсолютно невостребованный. Всё, что с ним приключается за это время – он ветшает и покрывается пылью.
Теперь же, собирая её на подошвы ботинок, сапог и туфель, жители Медины спешат лично убедиться в том, что не являются жертвами массовой слуховой и оптической галлюцинации. Расталкивая друг друга локтями, лягаясь и осыпая проклятьями, горожане занимают места на перроне. Тот не может вместить всех желающих, а потому многим приходится выглядывать из окон зала ожидания или спускаться по насыпи к месту, где должны быть рельсы.
«Должны», но никогда не было, в отличие от вокзала. Однако, несмотря на отсутствие путей, поезд подходит всё ближе, замедляя ход.
Теперь уже каждый может рассмотреть его, хотя зрелище маловыразительно. Угловатый и уродливый локомотив походит на выходца из тех времён, когда железная дорога только зарождалась. Вдобавок, поезд словно поглощает солнечный свет, так что невозможно даже различить цвет – какой-то тёмный, вот и всё, что можно сказать. На передней решётке выделяется отполированная табличка с номером: «6305».
Пересуды и толкования, которые порождает табличка, быстро сходят на нет, едва поезд останавливается. В воздухе разливается странный запах, который лучше всего характеризует неизвестно кем пущенный слух, мигом облетевший всех собравшихся – так пахнет, когда горят кости.
Внезапно люди понимают, что прибытие поезда может обернуться не только любопытным, но и опасным событием. Исайя Смартофф, пророк Иуды Искариота, начинает вопить о втором пришествии и кознях Антихриста, но разбушевавшегося священника быстро успокаивают парой увесистых затрещин. Обитателям Медины одинаково чужды все религии и одинаково же их раздражают любые пустобрёхи и крикуны.
Однако кое-какие сомнения слова проповедника порождают. Некоторым людям уже не кажется столь интересным зрелище мрачного поезда. Они проталкиваются сквозь толпу, стремясь покинуть вокзал. Пока это ещё не вал паники, но ручеёк трезвых, здравомыслящих и в меру трусливых людей. На них обращают внимание, хмурятся, бросают вслед проклятья…
Вот только, когда с ужасающим лязгом открывается дверь среднего из трёх вагонов, а следом, с не менее противным скрипом, начинает выдвигаться приставная лестница, большинство решает присоединиться к побегу.
Теперь уже точно никого нельзя назвать трезвым или здравомыслящим. Это стадо, которое осознало, что его заперли в одном загоне с хищником. Они блеют, орут, поджимают ноги; надеются, что в жертвы выберут кого-то другого, а не их; торопятся как можно скорее оказаться подальше от этого места.
Кто-то спотыкается и падает, чтобы тут же оказаться затоптанным.
Некоторые излишне нервные горожане достают оружие и начинают стрелять или размахивать ножами по сторонам, взвинчивая градус паники до предела.
Кипящий котёл готов вот-вот взорваться, но в этот самый момент звучит голос Лесли Сандерса. Он вышел из поезда, ступил на перрон и сейчас с удивлением рассматривает вакханалию, творящуюся перед ним.
– Что вы, мать вашу, делаете, грёбанные придурки?! – гневно вопрошает он.
* * *
Впоследствии жители Медины придут к выводу, что их остановил не сам выкрик. И даже не желание растолковать незнакомцу, что он не прав, если вздумал поносить обитателей города, в который едва прибыл. Нет-нет, их остановила сила вопроса, звучавшая в этом выкрике. Сила, которая потребовала от каждого вернуться и объяснить, что конкретно он, мать его, грёбанный придурок, делает.
Это будет новое незнакомое чувство: чужая покоряющая воля в городе, где все привыкли подчиняться только себе, песку и ветру. Именно этот момент станет началом нового этапа в жизни Медины. И не случись этого вопроса, жертв могло оказаться куда больше, чем трое убитых и восемнадцать раненых.
Впрочем, не будь этого поезда, многие события вообще могли не произойти.
* * *
После приличествующих моменту взаимных преставлений, Лесли Сандерс изъявляет желание поселиться на вокзале. Ни у кого не возникает вопроса, откуда он знает, что здание пустует. Точно так же никто не пытается оспорить право новичка занять это место. Лицо Лесли, обтянутое сухой желтоватой кожей, напоминающей старый газетный лист, излучает уверенность, а антрацитовые глаза выискивают в окружающих и окружающем нечто, известное только им.
Новичка принимают пусть с осторожностью, но благожелательно, и вечером того же дня Лесли Сандерс получает прозвище «Док». Неизвестно, чья это идея, и откуда она вообще берёт своё происхождение, ведь Лесли не заявлял о какой-либо учёной степени или намерении начать врачебную практику. Скорее всего, дело в том, что у каждого настоящего «Дока», по мнению обитателей Медины, обязательно есть волнующий его вопрос, который вбит кроваво-красными буквами глубоко в подкорку – гештальт, диктующий поведение, стиль жизни и образ мысли.
А вопросы исподволь звучат в каждом слове Лесли, отчего даже обычное «да» звучит так, словно он переспрашивает. Док и сам похож на вопросительный знак: высокий, сутулый, в чёрном костюме и огромных лакированных ботинках, постоянно начищенных до блеска.
* * *
История, как уже говорилось, начинается с прибытия поезда, но заканчивается по-разному для каждого из её участников. Стоит рассказать о некоторых из них.
Мадам Реми через три года тихо скончается в своей постели. В тот же день «Заведение» возьмёт под контроль Клио – ближайшая помощница мадам. Вывеску поменяют, явив взглядам жителей «Заведение мадам Клио», а в остальном – это будет то же место, что и раньше.
Бар «Цеппелин» будет взорван при таинственных обстоятельствах пару лет спустя. Ещё до этого времени Георгис Солпаидис – завсегдатай и чемпион – будучи пьяным, вздумает пошутить, кинув пару дротиков в приятелей-собутыльников. Одна из «стрелок» вонзится товарищу в глаз, и непонимающие подобного юмора друзья решат пошутить по-своему. В попытке научить Георгиса хорошим манерам, его несколько раз огреют по затылку бутылкой виски. Ставший одноглазым друг-приятель умрёт от заражения крови, а сам Георгис от черепно-мозговой травмы. Об этом происшествии поговорят неделю, а после всё постепенно забудется.
Максимилиан Орбаис, который первым увидел приближение поезда, как раз наоборот останется в памяти потомков. Несмотря на малую роль в описываемых событиях, его до конца жизни будут называть «Тот-Самый-Мальчик-Который-Заметил-Поезд», хотя у Орбаиса будет ещё немало поводов для гордости.
Лесли «Док» Сандерс, человек, чьё странное прибытие в Медину продиктовано желанием найти ответ на самый значимый вопрос его жизни, умрёт в тот самый момент, когда наконец-то подберётся к разгадке.
Но конец каждой истории, как и положено, станет началом следующей…
Глава I
«Город контрастов» – самая дурацкая фраза, которую можно подобрать для описания Медины. Всё происходящее здесь похоже на калейдоскоп, который чья-то невидимая рука без устали трясёт перед твоими глазами. И это мельтешение становится смутным и расплывчатым, сливаясь в ровный фон, из которого вырастают красочные картинки. А затем ты моргаешь, и перед глазами остаются лишь зернистые точки, подобные песчинкам в их непрекращающемся танце…
Видели когда-нибудь, как они танцуют? Как мириады их взмывают в воздух, подхваченные ветром, и начинают кружиться, переплетаясь, подобно телам в смятой постели? Как картины прошлого и видения грядущего на секунду проступают в этом танце и вновь исчезают?
Если нет – приезжайте в Медину.
Здесь кожа на лице становится красной и грубой от постоянных ударов мелких песчинок. Они забиваются под ногти, в малейшую складку одежды, в карманы, даже в поры кожи. И через пару недель в Медине ты становишься очередным серо-коричневым пятном, покрытым налётом песка. Каждый день ты будешь ложиться спать, стряхивая его с простыни, чтобы утром вновь проснуться в своей персональной песочнице.
Иногда мне кажется, что каждый из нас точно такая же песчинка в этом гигантском море. И город, просыпаясь, выгребает нас из своей постели, а мы упорно лезем назад…
* * *
В баре «Отвратный день» внутренняя обстановка под стать названию, но у него есть одно неоспоримое преимущество перед остальными подобными заведениями. «Отвратный день» располагается ровно через дорогу от полицейского управления. В Медине, с её непрекращающимися, а лишь затихающими на время песчаными бурями, это немаловажно.
Пятьдесят шагов в одном направлении человек способен пройти почти в любую погоду и почти в любом состоянии.
Моё же состояние в тот вечер, как и во многие другие в тот год, было далёким от идеального. Я смотрел в глаза вечности и отводил взгляд первым – это мне, а не вечности хотелось надраться так, чтобы не чувствовать ничего.
Потрёпанная маска с песчаными фильтрами болталась на грязной шее; рука с криво-подстриженными ногтями дрожала, пытаясь удержать пустую рюмку; глаза застилал тоскливый туман; голова постоянно клонилась вниз, предчувствуя скорое появление сна. То и дело запуская руку в густые грязные волосы, я добился того, что причёска напоминала формой песчаную дюну. Проснувшийся в глубинах памяти Томаш (мой несостоявшийся дворецкий, камердинер и кто-то там ещё) ворчал с презрением и осуждением, как он часто любил делать в дни моего детства.
– Ещё одну, Карл, – произнёс я, заглушая голос Томаша.
Карл – высокий и улыбчивый бармен «Отвратного дня» – был немым (не знаю уж от рождения или ещё почему), но прекрасно умел говорить взглядом и жестами. Вот и сейчас он выжидающе смотрел на меня прищуренными, чуть насмешливыми голубыми глазами. Кому другому этот взгляд не сошёл бы с рук, но для Карла я ограничился тем, что повторил просьбу и стукнул кулаком по стойке. Карл усмехнулся и налил ещё рюмку. В насмешке было сочувствие, но я старался не замечать его.
В последнее время я многое старался не замечать.
Зато я отлично знал, что буду делать минут через двадцать-тридцать. У меня было несколько лет практики, чтобы довести действия до автоматизма…
Влив в себя ещё рюмки три-четыре, я начну разговаривать с призраками прошлого (здравствуй, Томаш!) и в очередной раз попытаюсь доказать, что они ошибаются. Всё закончится тем, что я, нелепо взмахнув рукой, упаду на пол, а потом буду долго подниматься, путаясь в плаще и цепляясь за барный стул.
Когда разумный человек начинает замечать за собой подобные привычки, он перестаёт пить. Однако я не был разумным, а в своих человеческих качествах уже начинал сомневаться.
Впрочем, все (в том числе и Карл) уже привыкли к моему ежевечернему ритуалу. К моей колыбельной, помогающей нырнуть в беспамятство.
Поначалу меня пытались образумить, а затем, когда я вроде поддался (по крайней мере начал слушать, а не злобно рычать в ответ), они вдруг отвернулись и оставили меня без поддержки.
Нельзя сказать, что я сильно расстроился – просто ещё один повод надраться, ничего больше.
* * *
Кто-то тронул меня за рукав плаща, возвращая из размышлений к реальности. Я в этот момент поднимал очередную рюмку и едва не опрокинул её на себя. Чертыхнувшись, я прорычал сквозь зубы и повернулся к неизвестному, вздумавшему мне помешать. Думаю, взгляд получился достаточно красноречивым.
Впрочем, незваным гостем оказался Бобби Ти, а уж он-то давно привык к подобного рода взглядам. Хотя всё равно толстяк отшатнулся, задев соседний стул и уронив его. Стараясь не смотреть мне в глаза, Бобби Ти принялся поднимать стул, делая это, как и всё остальное, натужно и нелепо. Нормально нагнуться ему мешал огромный живот, потому пришлось присесть на корточки. Обычно так делают женщины в коротких юбках, не желая показать, что у них там скрывается (а возможно, желая, чтобы ты задался этим вопросом), но Бобби Ти недалеко ушёл от женщин.
«Ти», в его случае, означало «титьки». И дело было не только в жире, раздувшем его тело, но и во всём поведении Бобби, больше подходящему трусливой школьнице.
– Что тебе надо? – мой голос был преисполнен траура по планам, которым не суждено сбыться. В то, что Бобби пришёл сюда по собственной воле я не верил. Толстяка, разумеется, прислал шеф, и случилось что-то срочное.
– Убийство, – Бобби Ти мямлил и комкал в руках защитную маску. – Шеф сказал, что этим делом должен заняться детектив Грабовски.
– Больше некому?
– Туда уже выехал детектив Крополь, но шеф сказал, что вы всё равно должны быть там. Убили Дока.
– Дерьмо…
Я некоторое время молчал, покачивая поднятую рюмку, а Бобби Ти переминался с ноги на ногу. Его держали в полицейском управлении только из-за того, что он соглашался выполнять всю ту работу, от которой отлынивали остальные – писать множество ненужных бумажек, принимать звонки, быть на побегушках у шефа. Сейчас Бобби Ти ждал, когда же я соизволю встать, наверняка мысленно желая, чтобы при этом дежурная порция насмешек оказалась как можно короче.
В этот раз ему повезло. Я медленно выпил, а затем поставил на стойку перевёрнутую рюмку.
– Машина?
– Уже ждёт, – Бобби разве что не прыгал от радости, что я перешёл к делу.
– Хорошо, я сейчас приду. Можешь проваливать.
Бобби Ти послушно кивнул и постарался скрыться из бара ничего по пути не задев, и у него получилось – необычно много везения для Бобби сегодняшним вечером.
Я повернулся к Карлу и наткнулся на укоризненный взгляд.
– Будешь читать мне мораль, Карл? – бармен усмехнулся и покачал головой. – Правильно, не стоит. Дело ведь не в том, как он выглядит, а в том, как он с этим живёт. Так что пусть будет благодарен, что я ограничиваюсь словами.
В глазах Карла мелькнула насмешка.
«Посмотри на себя, Любомир Грабовски, – говорил этот взгляд. – Тебя и Бобби Ти различает только то, что в его случае страхи трансформировались в привязанность к еде, а в твоём – к выпивке. Он тебя так раздражает из-за того, что ты видишь в нём кривую копию себя».
– Сделай мне что-нибудь отрезвляющее, – попросил я, решив не обращать внимания на так и не прозвучавшую речь.
Карл пожал плечами и принялся смешивать коктейль из сырых яиц, томатного соуса и лимонного сока. Я следил за его действиями с рассеянной улыбкой и размышлял над одним принципиальным различием между мной и Бобби Ти, которое бармен упускал из вида.
Я нёс свой крест с улыбкой и удовольствием…
* * *
Через десять минут, сидя в кабине служебного вездехода в компании хмурого водителя, я пытался представить, кому могла быть выгодна смерть Дока, и не находил ответа.
Да, старик был странным, но не более странным, чем многие жители Медины. Денег у него не водилось, а вокзал, который служил Доку домом, вряд ли мог кого-нибудь заинтересовать, учитывая, что раньше он стоял опустевшим. Кроме того, старик ладил практически со всеми. Его слегка побаивались, иногда подшучивали, но я не мог вспомнить, чтобы кто-то искренне желал Доку зла, хотя и не стоило полагаться на мою память. Сколько я жил в этом городе, старик с его историей появления, в которую я не очень-то и верил, был легендой Медины.
Одна из достопримечательностей вроде песчаных бурь, памятника мэру Орбаису или огромной воронки на месте взорванного бара «Цеппелин».
Мне нравилось общаться с Доком, пусть и случалось это не так часто – либо старик был занят, либо я сам не находил времени. Однако, когда беседы всё же случались, то они приносили удовольствие. Почти всегда расспрашивал Док, но было что-то такое правильное в его вопросах, что на какое-то время помогало выбраться из тумана алкогольных паров и увидеть мир в ином свете.
К сожалению, вскоре очередная передряга загоняла меня обратно, но факт оставался фактом – Док умел поразительно точно проникать в глубину души человека. Возможно, если бы он стал проповедником, то имел бы куда больший успех, чем адепты остальных религий, пытающиеся обратить жителей Медины в свою веру.
Тем не менее, сейчас старик был мёртв, и я надеялся, что сумею заглянуть в глаза тому, кто на это решился.
И буду задавать вопросы, пока не услышу ответов.
* * *
Возле вокзала меня встретили пара патрульных вездеходов, фургон на гусеницах с потускневшим красным крестом на боку и личный автомобиль детектива Шустера Крополя. Вопреки здравому смыслу и всепроникающему песку Шустер разъезжал на джипе с брезентовой крышей, высокой подвеской и увеличенными колёсами. Этого монстра он охранял столь тщательно, будто лучшего средства передвижения во всей Медине и быть не могло. Шустер даже любой ремонт проводил самостоятельно, и я подозревал, что внутри джипа скрывается какой-то секрет, хотя напрямую ни разу и не интересовался. Когда-то мы молчаливо договорились, что не будем лезть в жизнь друг друга сверх меры, и выполняли это соглашение до сих пор.
К примеру, Шустер не читал мне нотации на тему выпивки, а я, в свою очередь, ещё ни разу не спросил, почему он всё время носит эти странные очки…
Сейчас же мне предстояло задавать вопросы вещам на месте преступления. Они обычно знают многое, хотя не с каждым готовы поделиться ответами. Всё зависит от того, как ты спрашиваешь.
Я вылез из вездехода и направился к вокзалу. Водитель остался сидеть в машине, достав из бардачка Кубик Рубика. Мозолистые пальцы сноровисто обращались с игрушкой, которую куда привычней видеть в руках ребёнка, чем у сорокалетнего мужчины с лицом профессионального убийцы. Вертя разноцветный кубик, водитель зловеще ухмылялся, будто придумывал способ уничтожить весь город одним ударом.
«Возможно, так и есть. Я не удивлюсь», – подумал я и решил, что в таком случае готов предоставить водителю шанс.
Медина заслужила собственный апокалипсис – к такому мнению я приходил не только, когда был пьяным. С этой мыслью я просыпался и засыпал. Не знаю, почему я ещё оставался в этом городе. Возможно, то был дом, найденный после долгих лет поисков, а скорее всего – я был трусом, который не может решиться всё бросить и начать с начала.
Я цеплялся за Медину, как молоденькая девушка цепляется за издевающегося над ней мужа.
* * *
Трое полицейских осматривали территорию снаружи, ещё один охранял вход в комнату, где произошло убийство. Внутри Шустер и медик стояли с озадаченным видом, какой бывает, когда первый шок уже прошёл, и остаётся лишь вопрос: «Как такое может быть?»
Мой затуманенный разум не обратил внимания на странное поведение коллег, но едва я подошёл ближе и взглянул на мертвеца, как внутри всё перевернулось. Подозреваю, в этот момент на моём лице появилась такая же озадаченная маска.
То, что лежало на полу никак не могло быть Доком, потому что у трупа не было сердца – в грудной клетке виднелась огромная дыра, словно что-то взорвалось изнутри. В самом отверстии проглядывала мешанина трубок и проводов, собравшихся в один огромный узел, похожий на творение безумного механика, в пьяном угаре соединявшего всё подряд. Вместо крови из раны натекла и уже частично засохла странная маслянистая жидкость. Хотя цвет у неё был красным, я сильно сомневался, что нечто подобное обнаружу когда-нибудь в собственных венах, если только не перейду от спиртного к чему-то более экзотичному.
И всё же это был Док. Его лицо, с застывшей гримасой удивления; шрам на подбородке в виде повёрнутого набок полумесяца; тёмно-карие глаза; нос с горбинкой; неизменный чёрный костюм, чей крой сложно было перепутать с другим. Как-то Док обмолвился, что там, откуда он родом, подобную одежду носили все, но что это за страна узнать не удалось. Фактически, это был единственный раз, когда я хоть что-то услышал о том, кем был Док до приезда в Медину.
А сейчас он лежал прямо передо мной. Мёртвый, без всяких сомнений, и не способный ничего рассказать. Жизнь весьма изобретательна, раз один из самых «человечных» жителей Медины оказался наполовину механизмом.
Я говорю «наполовину», потому что дело было не только в отсутствующем сердце – часть видневшихся костей была настоящей, в то время как на других имелись металлические вставки или заплатки. А ещё от трупа шёл одуряющий запах гниющей плоти, какой должен был идти от мертвеца, пролежавшего на жаре пару дней.
– Когда он умер? – спросил я.
– Смекаешь, – Шустер поправил тёмные зеркальные очки, плотно прилегающие к вытянутому узкому черепу. Так плотно и так зеркально, что глаз под стёклами было не видно совсем. – Если наш медик не слишком шокирован видом трупа и может нормально соображать, то всё произошло сегодня. Всего каких-то пару часов назад.
Медик метнул быстрый взгляд на Шустера и пробурчал что-то себе под нос. Достаточно разборчиво, чтобы понять, кому адресованы ругательства, и в то же время так тихо, что всегда можно сказать: «Вы меня неправильно поняли…»
Парень работал не первый год и знал, что, когда и как нужно говорить.
– Вдобавок, – продолжил Шустер, подойдя к окну, – у нас есть убийца.
Я засмотрелся на то, как свет лампы обрисовал тонкую фигуру Шустера на стене – силуэт был похож на призрак из готического театра теней. За этими наблюдениями смысл последней фразы не сразу дошёл до меня.
– Что ты сказал? Убийца? – переспросил я, чувствуя, как кулаки сжимаются помимо воли. – Он здесь?
– Да. И это он нас вызвал. Законопослушный гражданин, когда не убивает, не находишь?
Я всегда считал, что мой юмор чернее некуда, но порой Шустер превосходил меня и в этом. Как и во всём остальном, кроме выпивки, разве что. Но этим мне было трудно гордиться.
– Где он сейчас?
– Ребята заперли в каморке и не спускают с неё глаз. Если парень не умеет проходить сквозь стены, то никуда не денется.
– Мне хочется потолковать с ним.
– Понимаю… – усмешка Шустера могла бы напугать кого угодно. Она была такой же неживой и непроницаемой, как и взгляд из-под зеркальных очков. – Но это потом, Любо. У нас здесь хватает неразгаданных загадок и без убийств. Ничего не замечаешь?
Я слишком хорошо знал Шустера и сомневался, что он предлагает ползать на коленках в поисках улик или строить путанные версии произошедших событий. То, о чём говорил Шустер, лежало на поверхности.
Я присмотрелся к столу, за которым, по-видимому, Док сидел, когда убийца проник внутрь – стул был опрокинут, как это бывает, когда резко встаёшь. На потрескавшейся поверхности деревянной столешницы лежали разбросанные в беспорядке бумаги, исписанные каллиграфическим почерком. Отдельно, стопкой, покоились три конверта. Я аккуратно пальцем сдвинул их веером, чтобы прочитать адресатов, и присвистнул.
Док общался с весьма разношёрстной компанией, которую, впрочем, довольно легко было представить собранной вместе.
Легба, барон Рюманов и Рабби Шимон – самые значимые из когорты проповедников, мечтающих подчинить Медину воле своих богов. Протянув руку, я поймал одобрительный кивок Шустера – можно было не переживать из-за отпечатков, криминалист уже поработал над конвертами. Открыв один (они были не запечатаны), я вытащил листок бумаги за самый краешек и быстро просмотрел содержимое.
На листе бумаги лишь слово, но сколь многозначительно его можно интерпретировать.
«Получилось…»
Вернув конверт на место, я двинулся вдоль стены, не сомневаясь, что Шустер говорил не только о письмах. Само преступление, необычный труп, позвонивший убийца, конверты и послания – тайны, подобно рыбам, обожают собираться в том месте, где прикормлено.
Под ногой что-то заскрипело, и я наклонился, чтобы рассмотреть поближе. Передо мной было нечто вроде чёрного песка, так непохожего на жёлто-рыжий ковёр, лежащий на улицах Медины. Тонкой ровной линией, которая не прерывалась ни в одном месте, чёрный песок лежал вдоль стен комнаты. Взяв щепотку, я понюхал – чёрный песок пах пылью и тленом и ничуть не походил на порох.
Мысль о взрывной дорожке пришлось отбросить.
– Не порох, – подтвердил Шустер. – Пока не представляем, что это. Однако, как написано в письме Дока: «Получилось».
– Что? – спросил я, но пока вопрос слетал с языка, понял всё сам.
В комнате царила идеальная чистота, которая возможна в Медине только в первые несколько минут после уборки. Потом песок непременно возьмёт своё.
Я слышал о нескольких парнях, которые осознанно отказались от мебели, предоставляя песку право устраиваться так, как он того хочет. Эти безумцы спали на песчаных пригорках, мягко ступали по шершавому ковру и часами наблюдали миграцию дюн в собственных гостиных. Наверняка, чтобы оправдать сумасшествие, парни придумали какую-нибудь знатную теорию под это дело. Я даже пожалел на секунду, что так и не удосужился спросить.
В кабинете Дока не было никакого песка, кроме чёрного. Даже того, который непременно принесли бы с собой полицейские, медик, Шустер или я сам. Зато на пороге, возле границы, застыла жёлто-рыжая масса. У меня мелькнула одна мысль, и я двинулся к порогу, чтобы провести небольшой эксперимент.
– Не получится, – сказал Шустер, вновь предугадывая мои действия. – Если попробуешь высыпать в центр комнаты, то порывом ветра песок сдует, едва ты ступишь внутрь. Я уже пробовал.
– Порывом ветра? Я не чувствую никакого ветра, здесь все щели заделаны.
– Тем не менее, так и будет. Так что, как я и говорил, дело не ограничивается одним лишь трупом Дока. У нас здесь целая комната загадок.
Я кивнул. Я всё ещё частично оставался пьяным, но уж точно не слепым.
– Что-то ещё?
– Пока нет. Мы постараемся найти что-нибудь в бумагах Дока, или убийца захочет рассказать нечто интересное, но сейчас это всё, что нам известно.
– Я бы хотел с ним пообщаться, с убийцей.
– Не теперь, – Шустер мягко улыбнулся и успокаивающе поднял руку. – Позже, трезвый и не один на один.
– Ладно, – я примирительно кивнул, стараясь не выказывать разочарования, и покосился на конверты. – Тогда мне остаётся только оставить тебя здесь, а самому разнести письма. Я понимаю, что это улика, но криминалист уже сделал своё дело, а для более детального анализа я верну письма позднее. Те, кому они предназначались, могут занервничать и запаниковать.
– Кто из них?
– Да кто-нибудь! – я взорвался, в раздражении взмахнув руками, но тут же приказал себе успокоиться. Я мог высказать Шустеру что угодно, но не стоило делать это при посторонних. – В любом случае, здесь ловить уже нечего.
– Может и так, но хотя бы скажи, где тебя искать в первую очередь. Мало ли… – Шустер оборвал фразу.
– Особняк барона всего в двух кварталах, с него и начну.
Шустер внимательно посмотрел на меня. Я знал, что у него на уме вертится вопрос, и даже хотел, чтобы Шустер его задал. Однако, хоть вопрос и последовал, он был не тем, который я ожидал услышать:
– Возьмёшь вездеход?
– Нет, пожалуй, прогуляюсь. Нужно привести мысли в порядок и… протрезветь.
– Хорошо. Береги себя, Любо.
Я кивнул. Несмотря на охвативший меня азарт, я знал, что Рюманов самый опасный из той троицы, чьи имена были на конвертах.
* * *
Моя жажда мести всё не утихала, хотя я уже начал трезветь – виски пульсировали подступающей болью. Мне хотелось наказать убийцу, несмотря на открывшиеся секреты Дока, которые, как я подозревал, просто лежали на поверхности, прикрывая нечто ещё более странное. Однако я не верил, что хоть один из этих секретов стоил того, чтобы убить.
Когда-то я пытался представить мир, в котором люди бы не прятали скелеты в шкафах. После некоторого размышления пришёл к выводу, что особой радости это никому бы не принесло. Понадобилось бы всего лишь привыкнуть к виду людей, таскающих за собой громыхающие костяки нерешённых проблем.
Месть продолжала гореть внутри, пока я шагал по продуваемым ветрами улицам Медины. Попутно я размышлял, что может заставить меня столь же активно взяться за собственные дела.
Возможно, дорога оказалась короткой, а возможно, я не больно-то и старался. У меня так и не получилось прийти к нужному ответу.
* * *
Особняк барона как всегда смотрелся внушительно: барельефы, колонны, фигурная вязь на древнеславянском по всему фасаду и холодный, без мерцаний, голубовато-белый свет из окон, который горел днём и ночью, пробиваясь сквозь задёрнутые портьеры. Даже при взгляде на этот свет становилось морозно, как где-нибудь в Святом Петрославле.
Два охранника у дверей, облачённые в металлическую броню с молнией Перуна-Апостола, смотрели на меня мертвенным светом голубоватых глаз – явным родственником того, что лился из окон.
К моему удивлению, фразы «У меня послание для барона» хватило, чтобы дверь открылась без промедлений и вопросов. Внутри особняка меня встречал барон Александр Рюманов собственной персоной. Одетый в тонкий, расшитый золотом халат он спускался с винтовой лестницы, шедшей сквозь несколько этажей. Величавая походка и подслеповато прищуренные глаза придавали Рюманову сходство с тюркскими ханами.
– Вельми рад видеть вас, княже. Ниспосланной благодатью ваш приход озарён, – поприветствовал он.
Я шумно выдохнул, запоздало жалея о своём решении начать именно с барона. Никогда не любил этого фигляра, но сейчас отступать было поздно. Возможно, сыграла роль извечная привычка бросаться с головой в трудности, не заботясь о том, чтобы сначала всё хорошенько продумать.
«А возможно, ты очень хочешь, чтобы именно он был виновен», – подсказал Томаш.
– Не паясничайте, барон, не на службе, – буркнул я.
– Простите, не удержался. Чем обязан столь позднему визиту? Вы пришли приобщиться к нашей вере? Весьма похвально, но сомнительно. Возможно, у полиции есть ко мне вопросы? Или вас привело личное дело?
– И личное тоже. Док просил передать вам письмо.
– Вы прочли завещание, или старик успел озвучить просьбу перед смертью? – барон холодно улыбнулся.
– Вообще никак не успел, – не стал скрывать я. – Но полиции хотелось бы выяснить, что всё это означает…
Барон протянул руку, и я вложил в тонкие холёные пальцы конверт. Рюманов извлёк лорнет откуда-то из глубин халата и несколько секунд с недоуменным выражением лица изучал содержимое письма.
Наблюдать эту комедию было грустно и тоскливо – опьянение прошло, а депрессия никуда не делась. Проблема с бароном и подобными ему в том, что если их начинаешь торопить, то они начинают паясничать больше обычного.
– Не имею чести знать, что хотел сказать покойный.
– Не имеете или не желаете говорить?
– Разве я могу врать следствию? – барон фыркнул. – По-видимому, старик совершил некое открытие или же закончил важный эксперимент. Результатами, я так полагаю, он собирался поделиться со мной при встрече, а пока просто хотел известить письмом о свершившейся удаче. И сейчас, учитывая, что Док мёртв, я не могу знать, что он пытался сказать. Мы с ним слишком о многом беседовали, знаете ли…
Рюманов развёл руками и улыбнулся. По-доброму и обезоруживающе. Ни тени злорадства или лжи.
– Док написал ещё несколько писем, – закинул я пробный камень.
– Постойте, не говорите кому, – Рюманов поднял руку вверх, отвернувшись в сторону. Затем, вздохнул и опустил ладонь на выдохе. – Легба и Шимон, не так ли? Только не удивляйтесь и не задавайте лишних вопросов. Сейчас в Медине лишь трое пытаются принести божественный свет в это тёмное место. Индра-седьмой покинул нас на прошлой неделе, решив, что в текущем перерождении у него ничего не выйдет.
Я ничего не знал про отъезд Индры-седьмого. Я и видел-то его пару раз – сухопарый смуглый мужчина со слезящимися глазами.
Люди, которым были адресованы письма, действительно пытались привнести «божественный свет в это тёмное место», пользуясь терминологией Рюманова. Эта мысль пришла и мне самому, едва я увидел конверты, но зачем об этом упомянул барон? Пытается направить на след или же сбить с него? С этими русскими никогда ни в чём нельзя быть уверенным.
Изучая некоторое время барона, я молчал. Рюманов же сначала улыбался, а потом враз стал серьёзным, напомнив цирковых медведей, веселящих публику, но порой приходящих в бешенство на пустом месте.
– Княже, вы вообще осведомлены о тех исследованиях, которыми занимался Док?
– Полагаю, что да, – солгал я, хотя понятия не имел, что Док делал в Медине. Что-то исследовал, это уж точно.
– Ах, вы полагаете! – Рюманов насмешливо хмыкнул и вернулся к привычному образу. – Вы, должно быть, в том числе полагали, что я упаду вам в ноги и начну каяться? Признаюсь в убийстве Дока и, до кучи, ещё в чём-нибудь, что вы никак не можете раскрыть? Вы это полагали? Не отвечайте, я ещё не закончил. Быть может, вы полагали, что я благосклонно отнесусь к столь позднему визиту? Или к тому, что вы ведёте себя так, будто я являюсь главным или даже единственным подозреваемым?
– Нет, – я начал закипать, но в тот момент барон вновь переменил тактику.
– Я очень рад, что всё не так, – расплылся Рюманов в улыбке. – А то мне, знаете ли, показалось. Ну да, мало ли, что мне кажется, правда? Быть может, есть ещё что-то, в чём я могу вас просветить?
– Чёрный песок, – усмехнулся я сквозь сдерживаемую ярость. – Можете рассказать, что это такое?
– Как-как, вы говорите? Чёрный? Не имею ни малейшего понятия. Но это, знаете ли, интересно. Это меня увлекает. Так похоже на пепельный снег чадящих фабрик близ Святого Петрославля.
Я не сдержал смешок. На этот звук в приоткрытой двери у противоположной стены показалась полуодетая девушка, которая сначала сонно смотрела на нас, а потом, осознав, что Рюманов не один, тут же шмыгнула обратно.
– Не желаете остаться? – спросил барон. – Кальян, самовар, что-нибудь ещё…
– Пытаетесь купить?
– Ну вот! – Рюманов всплеснул руками. – Вы опять меня оскорбляете, княже, а я ведь всего лишь проявляю заботу о ближнем, как учит нас Перун.
Барон нащупал на груди серебряную цепочку, а затем его пальцы пробежались по аккуратной сапфировой молнии – вид божественного символа натолкнул меня на одну занятную мысль.
– Скажите, барон, а как Перун велит поступать с теми, кто потерял часть плоти, заменив её механизмами? Насколько я знаю, механические протезы не являются чем-то диковинным в ваших краях.
– Нужно искать в подобных калеках человечность, – Рюманов вновь нацепил холодную улыбку. – Вытягивать её по капле изнутри до тех пор, пока она не станет определяющей. А если человечности нет, то и относиться к таким созданиям надлежит как к бездушным тварям. Скажу вам даже больше, княже, люди умеют терять человечность, не избавляясь от плоти. Я удовлетворил ваше любопытство?
– Вполне.
– Тогда, будьте добры, оставьте меня.
Барон указал на дверь, продолжая улыбаться, и в тот момент я понял, что это его настоящее лицо. Или, как минимум, одно из самых любимых. Холеное лицо аристократа, привыкшего указывать и повелевать.
– Благодарю за оказанное гостеприимство, барон, – ответил я, не изменившись в лице. – Постарайтесь в следующий раз встретить меня в подобающем виде.
Когда я закрывал дверь, горсть песка, подхваченная ветром, ринулась на штурм, стремясь проникнуть внутрь. Повинуясь внезапному порыву, я придержал створку на секунду – не смог удержаться от маленькой неопасной мести.
* * *
В управление я брёл с надеждой обнаружить в сейфе предусмотрительно забытую там бутылку. Каждый раз, когда мне напоминали о прошлом, неудержимо тянуло выпить, хотя я точно знал, что это ничего не изменит.
С другой стороны – иного выхода обнаружить пока не удалось. Даже Томаш, как бы не вставал предо мною его укоряющий образ, чаще всего пользовался именно этим средством от дурной памяти. А когда изменил ему, то умер в грёзах гашиша. Слухам об отравлении я не верил, слишком многое надоело Томашу Хубчеку в этом бренном мире.
Когда-то я хотел убить барона. Ещё задолго до того, как встретил его в Медине. Однако, по иронии судьбы, наша встреча произошла, когда я решил отказаться от прошлого. К тому же, невозможно ненавидеть всю жизнь. В какой-то момент от чувства остаётся лишь привычка. Старые поводы остались в прошлом, а новые барон мне пока дал.
Не убивать же всякого, чьё поведение тебе не нравится?
А песок продолжал шуршать под ногами, и в том шуршании рождались картины прошлого и несбывшегося…
Интерлюдия: Канга
Искушения созданы, чтобы с ними бороться, но это не означает, что всегда необходимо побеждать.
Поражение, подчас, куда приятней…
Барон Алексей РюмановВосемь лет назад, в один необычайно пасмурный день Любомир Грабовски патрулирует улицу – скорее, от скуки, чем от желания сберечь покой граждан Медины. Сегодня в городе тихо, ведь приближение грозы – слишком редкий праздник, чтобы омрачать его. Шанс того, что гроза и в самом деле разразится – ничтожен, но никто не мешает в него верить.
Большинство жителей расположились на верандах, некоторые забираются на крыши, а многие устраиваются просто под открытым небом. Люди ждут дождь; мрачное небо затянуто тёмно-серыми и чёрными тучами; вдалеке, если присмотреться, можно увидеть зарницу или попробовать убедить себя в том, что ты её видишь.
Грабовски жаждет прихода дождя, но вместо наблюдательного поста на остывающей броне вездехода, подобно остальным полицейским, детектив выбирает прогулки по улицам Медины. Маски на его лице нет и чуть влажный ветер приносит с собой не только песчинки, но и прохладу. Кажется, будто воздух наполнен ожиданием, хотя этим наполнен сам город.
Внимание Любомира Грабовски привлекает музыка, доносящаяся из старого разбитого дома, который торчит посреди аккуратной улочки, словно гнилой зуб посреди здоровых. Кажется, что в том доме репетирует дуэт или трио, но, подойдя ближе, детектив видит, что все звуки издаёт один инструмент.
Сквозь наполовину разбитое окно можно разглядеть ободранную полусферу, обтянутую кожей, и гриф с натянутыми жилами – не металлическими струнами, это ясно совершенно отчётливо. Пальцы музыканта то зажимают жилы и дёргают их в рваном ритме, то начинают чуть барабанить по корпусу, то скользят по натянутым жилам, порождая бередящие сердце звуки.
Музыканта Любомир Грабовски замечает гораздо позже, когда мелодия стихает. Прежде кажется, что руки и инструмент существуют сами по себе и живут, погруженные в ритм, не нуждаясь в дополнении в виде человека.
Тем не менее, чернокожий старик прекращает играть и улыбается неожиданно ровными белыми зубами, показывая Грабовски, что того заметили.
– Эта песня… – Грабовски чуть покачивает головой в такт ещё звучащим в его сердце звукам, – она совершенна.
– Песня дождя, – кивает негр. – Канга играет песню дождя. Зовёт его. Духи обещали удачу. Слишком часто нельзя играть. Волшебство должно накопиться. В остальные дни Канга играет что-нибудь другое. В дни без путешествий по дорогам духов.
Детектив Грабовски до сегодняшнего дня слышал о шамане Канга совсем немногое и ничего из этого не представляло интереса. Шаман, как утверждали очевидцы, постоянно сидит в старом пустом доме, поджав ноги и вперив взгляд в одну точку.
О музыкальных умениях шамана никто ничего не говорил.
– Будет дождь? – спрашивает Грабовски.
– Канга говорит так. Духи говорят так. Человек из потерянной страны чувствует так. Человек из потерянной страны задаёт глупые вопросы.
Шаман чуть пожимает плечами и отставляет инструмент в сторону. В этот момент детектив испытывает приступ разочарования – на сегодня песни закончены.
Вместо инструмента шаман берёт посох. Воображение детектива никогда до этого не пыталось нарисовать посох африканского шамана, но едва Грабовски видит его, как сразу понимает – таким он и должен быть.
Тщательно отполированная палка, чуть раздваивающаяся к верху. На получившейся рогатине привязаны высушенные лапки, комочки шерсти, бусины из смолы, какие-то камни – всякий хлам, который только шаманы и могут считать имеющим ценность. Когда Канга делает несколько шагов, предметы ударяются друг об друга с мерзким, по мнению Грабовски, звуком.
– Духи возмущаются, – говорит Канга, растягивая рот в ещё большей улыбке чем раньше. – Говорят Канга не вмешиваться. Обычно Канга их слушается. Сегодня особый день. Сегодня будет дождь. Он закроет Канга от духов. Человек из потерянной страны скроется в пелене дождя. Мы будем смотреть на мир человека из потерянной страны.
– Меня зовут Любомир Грабовски, – произносит детектив.
Предложение шамана пугает тем, что оно никаким предложением не является. Это и не вопрос, а спокойное утверждение, от которого Грабовски чувствует себя неуютно. Он всегда испытывает смущение в компании уверенных в себе людей и часто компенсирует это агрессией, но сейчас явно не тот случай.
– Грабовски, – произносит шаман, растягивая слово, будто пробуя на вкус. – Любомир, – смакует он. – Противоречие. Как и внутри.
Грабовски не видит противоречий. Он вообще сомневается, что шаман понимает значение произносимых слов.
Канга подходит ближе к окну и делает приглашающий жест, предлагая переступить порог, а затем добавляет уже словами:
– Будем пить пиво. Смотреть мир Любомира Грабовски. Дождь всё скроет. Духи не узнают.
И вновь это не вопрос и не предложение, а констатация факта, который случится совсем скоро. Сил спорить у Грабовски нет. К тому же, он не против посмотреть на свой мир.
Не против и ветер, ведущий тучи к Медине, чтобы они пролились дождём. Не против посох, предвкушающий новые странствия вместо изведанных дорог. Не против Канга, которому скучно и хочется сделать приятное этому незнакомцу, пришедшему на звук музыки.
Однако никто не удосуживается спросить у мира Любомира Грабовски, не против ли он, чтобы на него смотрели…
* * *
Мир Грабовски искривлён, извилист и ни одной картиной не создаёт ощущения нормальности. Первое впечатление от увиденного всегда обманчиво, но в данном случае имеет смысл вести речь о сотнях обманах, вложенных друг в друга. Чем дальше пробиваешься, тем больше понимаешь, что до правды доискаться не получится. Возможно, её попросту здесь нет.
Грабовски сидит с банкой тёплого пива в руке и жадно хватает ртом воздух. Его подташнивает, в горле застрял ком, в ноздрях сладковатый запах сожжённой человеческой плоти, а в глазах ужас сотен тысяч людей.
И причина этого ужаса – князь Грабовски, законный наследник трона Словакии.
Канга сидит рядом. Инструмент вновь в его руках, а посох отставлен в сторону. Музыка, которую играет шаман, далека от совершенства, услышанного детективом ранее – тогда была песня, а сейчас просто какофония с аритмичным повторением одного и того же навязчивого пассажа.
– Любомир Грабовски хочет спросить, – говорит шаман. – Канга не желает отвечать. Духи не желают отвечать. Мир Любомира Грабовски хочет ответить. Любомир Грабовски не хочет слушать свой мир. Или не может.
В настоящий момент Любомир Грабовски не хочет вообще ничего. Он роняет банку – именно роняет, а не выбрасывает. Банка ударяется о деревянный, местами выщербленный пол; брызги оказываются на плаще детектива; из банки неравномерными толчками выплёскивается пена.
«Совсем как кровь той девушки, которая назвала тебя кровавым тираном и узурпатором…» – Томаш назойлив, но Грабовски удаётся не думать о недавних картинах. Вообще не думать ни о чём и не вспоминать. Образы увиденного затаились рядом, но они прежде должны прорвать тонкую плёнку, защищающую сознание Любомира. И он продолжает укреплять плотину, перестраиваясь и начиная думать о другом.
Шаман Канга смотрит вслед детективу, который рваной походкой движется к двери и улыбается. Шаману ведомо, что сделанное им правильно, хотя будет иметь ужасные последствия. Это всё сослужит однажды хорошую службу Любомиру Грабовски, но до того детективу придётся страдать. Закон равновесия никому ещё не удавалось обойти.
Если Любомир Грабовски думает, что и без того жизнь ему задолжала, то он ошибается. Изгнание, позор семьи, жизнь в чужом краю на правах не пойми кого – это всего лишь плата за саму сохранность жизни.
Впрочем, духи по-прежнему говорят Канга, что он зря вмешивается, но сейчас идёт дождь и духов почти не слышно. Когда Любомир Грабовски выходит на улицу из полуразвалившегося дома-убежища полубезумного шамана-музыканта, дождь не приносит успокоения, а совсем наоборот – напоминает недавние кровавые картины.
В Словакии часто идут дожди, и ни один правитель не станет откладывать казнь или пытки до наступления тёплой погоды.
* * *
С этого дня жизнь Любомира Грабовски превращается в бегство от несбывшегося.
Он бросается в водоворот расследований, отчаянно рискует и лезет на рожон даже тогда, когда можно обойтись малой кровью. Погружается в ночную разгульную жизнь в стремительных попытках поскорее впасть в беспамятство, потому что кровавые картины возвращаются. Однако пьяным Любомир Грабовски не способен их осмыслить, а значит – этого словно не существует.
Попытки списать всё на пьяный бред – столь частая практика, к которой прибегают бегущие от действительности люди, что, даже когда они спасаются от несбывшегося, всё по-прежнему работает идеально.
Окружающие реагируют на эти перемены в соответствии с собственными убеждениями.
Кто-то, как Док, пытается переубедить Грабовски и вызвать на откровенный разговор. Кто-то, как Шустер, старается максимально корректно сгладить впечатление, а иногда просто не замечать. Рюманов и ему подобные открыто или намёками насмехаются. Множество коллег и знакомых попросту сторонятся, боясь, что чужая обречённость каким-то образом зацепит и их тоже, а значит – есть риск попасть под каток судьбы, мчащийся за Грабовски. И лишь некоторые наблюдают со стороны догадываясь, что происходит, и не желая вмешиваться и останавливать.
Чаще всего они и не знают, как это сделать.
Многим людям кажется, что для решения внутренних проблем необходима остановка. Размышление над причинами, понимание истоков поступков и трезвая оценка ситуации. Эти люди просто никогда не сталкивались с тем, что пришло на ум Любомиру Грабовски, когда ему показали его мир.
Он бежит, потому что следует быть осторожным с теми секретами, которые ты доверяешь песку, ведь он никогда ничего не забывают.
Стоит только рассказать песчинкам тайну, мечту или нечто, показавшееся возможной реальностью, как этот образ будет преследовать тебя постоянно. Задумавшись, ты не заметишь, как мир вокруг обрастает новыми красками; как перед глазами возникает то, чего ты так долго ждал; как покажется, что всё только начинается и обязательно закончится правильно.
Сделаешь шаг, второй, третий, но вместо желаемого получишь в лицо горсть-насмешку песка. Утрёшься, смахнёшь песчинки, поморщишься, обвинишь себя в излишней доверчивости и ещё долгое время будешь с опаской смотреть на всё вокруг, опасаясь, как бы это не обернулось очередным миражом.
И кто-кто, а Любомир Грабовски знает насколько призрачное несбывшееся заманчивей реальности…
Глава II
Бутылка в сейфе нашлась, однако выпивки в ней оставалось на глоток. Я утешал себя мыслью, что даже если все бары уже закрылись, то в моей квартире всегда найдётся что-нибудь.
Шустер, дожидался меня в кабинете. Он молча подождал, пока я допью виски, а затем поставил на стол средних размеров стеклянную банку.
– Что это? – спросил я, не спеша дотрагиваться.
– Посмотри, не бойся. Занятное зрелище. Можешь даже потрясти.
Я нахмурился, но взял банку в руки. Внутри были привычный песок Медины и чёрный, который обнаружился у Дока. Они застыли друг напротив друга маленькими дюнами, словно готовые к схватке скорпионы. Я потряс банку, а затем снова взглянул – да, Шустер был прав, зрелище оказалось занятным.
Несмотря на тряску чёрные и коричневые песчинки не перемешались и даже не соприкоснулись. Вместо этого внутри банки образовалось подобие «инь-янь», если проявить немного фантазии и мысленно достроить линии. Конфуцианец Вон, покинувший город пару лет назад, наверняка бы увидел в том знамение, я же разглядел очередную головную боль в попытках выяснить, что всё это означает.
– Что всё это означает? – адресовал я вопрос Шустеру. – Новый способ не пускать песок в дом?
– Возможно, – он отобрал банку. – Ещё это может заменить калейдоскоп. Трясёшь, и у тебя каждый раз новая картинка.
Шустер встряхнул банку и полюбовался на происходящее. В этот раз получилось нечто похожее на таблетку с полосой, проведённой посередине.
«Разрез под отвёртку» – когда-то я слышал такую фразу, хотя до сих пор не мог представить, как и зачем сочетаются отвёртка и таблетка. Если только речь не об одноимённом коктейле и утренних последствиях.
– И всё же, – я поморщился. Выпивка не успокоила, а вызвала новый приступ головной боли. – Что это означает?
– Без понятия. Возможно, записи Дока смогут что-либо прояснить, хотя я и сомневаюсь. Пока тебя не было, я просмотрел их мельком, но ничего дельного не обнаружил. Док рассуждает о городе, людях и о песке, разумеется. Обычном, не чёрном. С таким же успехом он мог жить в Святом Петрославле и рассуждать о пепельном снеге… Кстати, как прошло у барона?
– Отвратительно. Он уже в курсе, что Док мёртв. И, разумеется, Рюманов что-то недоговаривает. Он будто ждал меня, а вёл себя при этом, как всегда…
– …Экстравагантно?
– Мягко сказано. Что я точно могу сказать: письмо не вызвало у барона удивления, а про чёрный песок он вскользь заметил, что его подобное увлекает, – я договорил и скривился.
– В общем, ты не узнал ничего, – Шустер, судя по тону, и раньше не особо верил в эту затею.
– Лишь уточнил, что Перун советует вытягивать, пусть даже по капле, человечность из обладателей механических протезов, – я потянулся. – А если не получается, то относиться к ним, как к бездушным тварям.
– Док не был похож на бездушную тварь, – после паузы заметил Шустер.
– Ты это знаешь, я это знаю, большинство жителей Медины, подозреваю, тоже так или иначе в курсе. Но вот за Рюманова не поручусь. Этот всегда себе на уме.
– Мне кажется, или в тебе говорит застарелая обида?
Я улыбнулся и покачал головой. Потом отобрал банку и принялся трясти её, глядя на меняющиеся картинки. Шустер прав – это действительно походило на калейдоскоп, но главная притягательность была в ощущении смерти, притаившейся где-то рядом. Напряжение, словно электрический заряд, пролегло между двумя горстками песка.
Смерть и разрушение – это всегда красиво, если происходит в каком-нибудь абстрактном мире, который тебя абсолютно не волнует. Например, в обычной стеклянной банке.
– Собираешься всю ночь провести за этим занятием?
– Думаю, стоит поговорить с убийцей. Я уже достаточно остыл, чтобы не начать допрос с удара по морде.
– Подозреваю, что у тебя ещё возникнет это желание, – Шустер встал, как всегда элегантно и тягуче, словно двигалась песчаная дюна. – Пойдём, тебя ожидает любопытное зрелище.
– А мне казалось, что на сегодня лимит исчерпан, – заметил я, поднимаясь со стула.
Жёлтая и чёрная песчаные фигуры внутри банки замерли в очередной патовой ситуации, но теперь до них никому не было дела.
* * *
Убийцей оказался гигантский лысый мужчина в огромных ботинках, штанах с подтяжками и простой белой футболке, испачканной засохшей красной жидкостью —язык по-прежнему не поворачивался назвать это кровью. Сидевший за решёткой гигант походил на борца или лесоруба. Хотя вокруг Медины была только пустыня, я подумал, что в прошлой жизни убийца вполне мог оказаться тем или другим.
В прошлой жизни у каждого из нас полно секретов. Раскуроченное нутро Дока, оказавшегося наполовину механизмом, тому свидетель.
– Отпечатков пальцев нет в нашей базе, фотографии нет в картотеке, никаких документов при нём не нашли, а собственное имя он называть отказывается. Он вообще очень странно отвечает на вопросы, – сказал Шустер.
– Но в полицию всё-таки позвонил он, правильно?
– Да, Бобби Ти опознал голос.
– А толстяк запомнил, что конкретно сказал убийца?
– Ты недооцениваешь Бобби. Он записывает всё, что говорят по телефону. Любой бред и ахинею.
– Я не удивлён, – сказал я, изучая убийцу, который так и не переменил позу, с момента, как мы подошли к камере. Всё сидел, положив руки на колени, и смотрел в стену, словно скульптура. Если бы он не моргал, я, пожалуй, решил бы, что передо мной манекен. – Так что он сказал?
Шустер на мгновение прикрыл глаза, а затем произнёс, выделяя каждое слово: «Я. Убил. Дока. Вырвал. Ему. Сердце». Во время этой фразы кончики пальцев убийцы чуть дрогнули, но я успел это заметить.
– Обязательно напускать столько драматизма?
– Бобби Ти утверждает, что между словами были огромные паузы.
– Лучше бы они были у него в еде, – я поймал укоризненный взгляд Шустера. – Сегодня все сговорились давить мне на совесть?
– Нет, дави на неё сам, Любо. Я просто хотел напомнить, что твой юмор порой слишком злой, а смеха не вызывает.
Я сплюнул на пол, поморщился и подошёл к решётке – из камеры пахло нечищеным сортиром, сыростью и тленом. Убийца не отреагировал на мой приближение, продолжая сверлить стену взглядом.
– Эй! – позвал я. – Спящий гигант, поговори со мной.
Молчание. Ровное дыхание убийцы. Насмешливый взгляд Шустера, подразумевающий одну из вариаций фразы «я же говорил». Моё собственное раздражение, готовое выплеснуться наружу.
– Слушай сюда, урод. Можешь не отвечать, но я знаю, что ты меня слышишь. Ты убил очень хорошего человека. Плевать на то, что у него было внутри, но для меня он был именно человеком. Одним из лучших в этом поганом городе. И я хочу знать: сам ты додумался до этого, или тебе кто-то подсказал?
Вновь молчание. Шустер стоял у соседней камеры, как бы показывая, что не хочет мешать разговору. Раздражение внутри меня сменилось безразличием. Перемена была столь неожиданной, что я и сам не сразу её осознал.
– С тем же успехом я мог бы разговаривать с песком, – пробормотал я в сторону Шустера, но ответил убийца.
– Песок, – прошептал он с придыханием. – Шуршит. Тихо-тихо. Шуршит. Песок. Тихо.
– Итак, ты разговариваешь. Что-нибудь ещё?
Вновь молчание. Я нахмурился и произнёс вопросительно:
– Песок?
– Шуршит. Тихо-тихо, – поддакнул убийца.
– Вы можете выступать в цирке, – Шустер похлопал меня по плечу, неуловимым движением оказавшись рядом. Иногда эта его «тягучесть движений» здорово пугала даже меня. Вот и сейчас я слегка вздрогнул, а Шустер, как мне показалось, улыбнулся. – Правда, вам придётся доплачивать зрителям, чтобы они на это смотрели.
– Вспомни, что ты говорил о моём чувстве юмора, и верни себе в стократном размере.
– Туше.
Я догадывался, что большего от убийцы не добьюсь. Ему явно прочистили мозги – вряд ли настоящий убийца (тот, кто всё задумал и организовал) не позаботился о том, чтобы стереть следы в памяти этого уродца.
– Ты прав, это было любопытное зрелище, но с меня хватит.
– И чем думаешь заняться сейчас? Выспаться? На мой взгляд, сон тебе не помешает.
– Если бы убили кого-нибудь другого, то я бы так и сделал, но из уважения к Доку наведаюсь ещё к остальным адресатам писем. Буду играть в тупого патрульного. Думаю, сейчас у меня это неплохо получится. Теперь-то у нас есть фотография этого дровосека? Я буду показывать её и спрашивать: «Видели ли вы этого человека?»
– Сомневаюсь, что из этого выйдет что-то путное.
– Может да, а может и нет, – я пожал плечами и поморщился: в голове стрельнуло вспышкой боли. – Нужно что-то делать. Я покажу им фотографию, ты распорядишься, чтобы такие же развесили на улицах. Возможно, кто-то на это клюнет. Бумаги Дока оставим на потом, а чёрный песок отдай криминалистам.
– Хорошо. Но перед этим хочу тебе сказать кое-что ещё: медики, осматривающие тело Дока, пришли к выводу, что он бы и сам долго не протянул. Старик уже начал гнить изнутри. Помнишь тот запах на вокзале?.. Месяц-два, и он умер бы сам.
– Пусть так, но ему помогли, и я хочу знать, кто это сделал.
Шустер некоторое время сверлил меня взглядом из-под тёмных очков, но затем нехотя кивнул, как бы говоря – ты знаешь, что делаешь.
Мне бы хотелось обладать хоть частичкой подобной уверенности. В тот момент я ощущал себя, как желторотый новичок, бросающийся из крайности в крайность, однако я должен был делать хоть что-то. В противном случае я потерял бы уважение к самому себе.
В сущности, кроме Шустера, Док был единственным, с кем я чувствовал себя настоящим. И у меня не было права разбрасываться подобными ощущениями и памятью о них.
* * *
Я поймал Рабби Шимона возле дверей его гостиничного номера. Отворил без стука, благо оказалось не заперто, и взглядом упёрся в сутулую старческую фигуру с чемоданом, похожим на огромный кошель. Рабби отпрянул, прижимая к груди пожитки. Я почувствовал ярость и оттолкнул его ещё дальше, заставив приземлиться на стоящий неподалёку стул. Чемодан Рабби так и не выпустил.
Нам явно предстоял тяжёлый разговор. Если среди ночи совершается убийство, а один из подозреваемых собирается сбежать… даже моих пьяных мозгов хватало, чтобы сопоставить очевидное.
Я встал около двери, перекрывая единственный путь к бегству – старикан выглядел запуганным, но ещё не настолько отчаявшимся, чтобы выпрыгивать из окна. Песок только с виду кажется мягким, и падение с третьего этажа закончилось бы для Рабби плачевно, если только адепты Каббалы не освоили левитацию. Впрочем, в таком случае Шимон уже давно включил бы это в программу своей еженедельной проповеди на улицах Медины.
– Куда-то собираетесь, Рабби? – спросил я. Даже не пришлось стараться, чтобы в голосе прозвучала подозрительность.
– Прочь, детектив! Я собираюсь прочь. Подальше от этого города, от этих людей, от вас, от песка… – последнее слово Шимон произнёс с отвращением. Я понял, что Рабби не только напуган, но и взбешён. – Что вам надо?
– Помилуйте, Рабби, это я вас должен спрашивать. Сегодня один из старейших и уважаемых жителей Медины гибнет, на его столе я нахожу письмо, адресованное вам, а оказывается, что вы собираетесь исчезнуть из нашего прекрасного города. Может быть, всё-таки стоит объяснить своё поведение?
– Кто погиб?
– Док.
– Я так и думал, – Рабби кивнул. – Можете мне не верить, детектив, но я почувствовал, что произошло нечто ужасное. Ужасное настолько, что оно могло послужить началом для других ужасов. Потому-то я и решил, что мои дела на этой грешной земле закончены. Никто и никогда не постигнет здесь настоящего бога. Все только и могут насмехаться и больше ничего, – Шимон покачал головой, прижал чемодан к груди и с тоской посмотрел в окно.
– Ничего не хотите сказать о письме? Внутри всего одно слово: получилось.
– Не важно, – Рабби поморщился. – Это совсем не важно, детектив. Поверьте, вам не стоит об этом задумываться для вашего же блага. Просто живите среди всего этого песка, как делали раньше. Просто живите, не задумываясь о том, зачем он здесь. Просто живите, – повторил он и замолк, поджав губы.
– Дался вам этот песок! Уж не намекаете ли вы на то, что это песок убил Дока? – Злость во мне не просто усилилась, она достигла предела. – Что это песок вырвал его сердце? Что это песок превратил уважаемого жителя Медины в месиво, от которого даже видавшие виды люди приходят в ужас?
– Я старый больной человек, – Рабби Шимон действительно выглядел именно так. – Мне незачем врать, но я и не собираюсь рассказывать ничего такого, что могло бы навлечь на меня чужой гнев. Я просто хочу скорее выбраться отсюда. Как только я окажусь вне этого городишки, то с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Могу оставить телефонный номер, по которому со мной можно связаться.
Злость схлынула почти так же быстро, как и подступила. Вместо неё пришла растерянность и опустошение. Рабби Шимон – убийца Дока? Я слышал, что эти двое встречались едва ли не через день. И все утверждали, что они дружны. Если принять это на веру, то можно предположить, почему Рабби испугался.
«Почувствовал, что случилось что-то ужасное», – так он сказал. Как можно это почувствовать?
Мысли ворочались в мозгу – тяжёлые, неповоротливые. Словно человечки, вертевшие шестерёнки, выдохлись и теперь старались из последних сил. Компания Рабби навевала тошнотворную скуку. Вдобавок, я ощущал, что старикан говорит правду. Возможно, это была всего лишь доля истины и самая простая её часть, но не явная ложь, это уж точно.
И, тем не менее, я чувствовал, что вокруг идёт крупная игра, а до меня доносятся только слухи и общие слова, отражающие лишь избранные картины реальности.
– Вам знаком этот человек? – я показал фотографию убийцы, но Рабби лишь скользнул по ней взглядом и уставился куда-то мне за спину. – Понятно. Желаете хранить молчание.
Пройдя мимо Рабби, который ещё крепче прижал к себе чемодан, я выглянул в окно. Внизу кружил небольшой песчаный смерч, трепавший обрывок газеты.
– Останьтесь пока в городе, Рабби, – сказал я, не отрывая взгляд от окна, но зная, что старикан слушает. – Как только обстоятельства смерти Дока будут прояснены, можете делать, что хотите. Но сейчас – считайте это приказом.
Я прошёл через крохотную комнату и закрыл за собой дверь, оставив Рабби обнимать чемодан. Мне не хотелось оборачиваться, потому что открывшееся зрелище было бы слишком… жалким.
Благодаря Томашу Хубчеку – моему несостоявшемуся камердинеру, дворецкому, советнику, наставнику и прочее – я больше пятнадцати лет наслаждался подобным зрелищем.
* * *
Я отошёл от гостиницы, в которой жил Рабби, метров на пятьсот и остановился, почувствовав себя взбешённым и восхищённым одновременно.
Точно такое же восхищение мне не раз доводилось слышать в полицейском участке, когда я беседовал с доверчивыми простаками, попавшимися на удочку мошенников. Они негодовали, топали ногами, призывали наказать виновных, но вместе с тем в голосе слышалось то самое: «Ну как он меня сделал, а?»
Старый сукин сын, Рабби Шимон сделал меня, без сомнения. Не знаю, как именно, и, подозреваю, не узнаю никогда.
Я ведь хотел вытрясти из него всё. Он выглядел подозрительно, вёл себя подозрительно, знал много больше, чем говорил, а я… просто оставил его одного. Предупредил, угрожал, но что с того? Если Рабби действительно собрался бежать, то ему мои угрозы – растереть и выбросить.
– Мы ещё не закончили, Рабби, – прошептал я, усмехнувшись.
Впрочем, за усмешкой не стояло ничего конкретного, а слова не соответствовали истине.
Я повернулся и прошёлся в обратную сторону. На небе светила луна, и я старался держаться в тени домов. Дойдя до гостиницы, увидел, что в окне Рабби горит свет, обрисовывая невысокий силуэт.
Подкравшись ближе, я разглядел, что это действительно Рабби, если только он не обзавёлся братом-близнецом или двойником. Старик смотрел на улицу недвижимо и молча. Я же изучал его минут пять, размышляя, что делать дальше.
Вернуться и арестовать Рабби? Это выглядело логично, но так я терял время. Собирался действовать по горячим следам, а они и без того почти остыли. У меня была ещё одна встреча, и, провозившись с Рабби, я рисковал не застать Легбу сегодня.
И всё же не стоило так просто оставлять это. Я понадеялся, что мне повезёт, и решил вызвать патрульного от Легбы. Ночь за решёткой поможет старику ответить на мои вопросы утром. Если ответы меня удовлетворят, то я позволю ему вернуться в гостиницу.
А вот проваливать на все четыре стороны только после того, как убийца Дока отправится на виселицу. Смертную казнь в Медине, к счастью, не отменили, как бы на том не настаивала «широкая общественность». В противном случае убийце пришлось бы совершить попытку к бегству, чтобы после оказаться застреленным за сопротивление при аресте.
Я двинулся к Легбе, оставив Рабби за спиной. Что он пытался рассмотреть в ночной улице я не знал, но прекрасно представлял, что можно в итоге там увидеть. Когда живёшь в Медине, то выучиваешь все типы миражей.
* * *
Стрип-бар «Запах мамбо» встретил меня клубами табачного дыма и сотней запахов, среди которых преобладали ароматы рома и потных тел.
Будний день и половина третьего ночи – не время для аншлагов, потому внутри оказался лишь с десяток полупьяных посетителей. И не все из них могли сфокусировать взгляд на сцену, где отплясывала обнажённая мулатка. Судя по скупым движениям девушки, она либо очень устала, либо понимала, что сегодня стараться не для кого. Только бледный толстяк ещё крутился у сцены и пытался подбодрить танцовщицу. Словами, но не монетой.
Я прошёл к стойке, заказал рюмку водки и проглотил залпом, едва её поставили на лакированную поверхность. Вкуса не почувствовал, лишь ощутил, как в голове чуть прояснилось. Я знал, что эффект будет недолгим, и надеялся, что этого хватит для связного разговора с Легбой.
Но перед этим я взял телефонный аппарат со стойки, набрал номер управления и сказал дежурному отправить пару человек к Рабби Шимону. Пусть проследят, чтобы он никуда не исчез и задержат при попытке покинуть гостиницу.
Кивнув бармену, я положил рядом с рюмкой пару монет и двинулся в неприметную, почти сливающуюся со стеной дверь рядом со стойкой. Здоровенный негр-охранник попытался меня остановить, но узнал, усмехнулся белоснежной улыбкой и отошёл в сторону. К счастью или к несчастью, однако мне каким-то образом удалось заслужить расположение Легбы, благодаря чему была надежда, что я не окажусь на улице до того, как закончу задавать вопросы.
Едва я прошёл через тесный маленький коридор и добрался до комнаты Легбы, как стало понятно, что время выбрано неподходящее. Улыбка охранника у входа имела скрытый подтекст.
На «леопардовом» диване (уверенности, что это лишь имитация шкуры у меня не было) сидел огромный обнажённый негр. Полузакрыв глаза и постанывая от удовольствия, миниатюрная блондинка двигалась на нём вверх и вниз. Груди девушки колыхались в такт движениям, по щеке скользила бисеринка пота, а губу блондинка чуть прикусила. Негр смотрел в потолок и шумно дышал в такт фрикциям.
Блондинка громко застонала, округлила рот и широко распахнула глаза. Заметив меня, она остановилась, а затем в затуманенных похотью зрачках проступил проблеск разума.
– Дерьмо. Грабовски, ты не вовремя, – сказала она.
– Мне подождать, пока ты закончишь?
– Нет уж, останься…
Легба поморщилась, встала и принялась собирать разбросанную по дивану одежду. Заметив, что негр продолжает сидеть недвижимо, блондинка повернулась к нему:
– Уйди, ты мешаешь.
Сонливость мигом слетала с негра, он подскочил, быстро подобрал шорты и футболку, а после прошёл мимо, одарив улыбкой.
– Что тебе надо?
Легба уже оделась, но плотная, облегающая тело майка вкупе с короткими штанами мало что скрывали. Вдобавок, в мой затуманенный мозг проник запах, витавший в воздухе, – секс, похоть и, возможно, благовония.
– Ты пришёл лишь для того, чтобы заменить его? – с усмешкой спросила хозяйка бара, заметив взгляд. – Или у тебя действительно важное дело, Грабовски?
– Убит Док, – я очнулся от наваждений. – Убит каким-то зомбированным лысым гигантом в костюме лесоруба.
– Он его зарубил?
– Нет, вырвал сердце, – что именно заменяло Доку сердце, я решил пока не сообщать. – Потом убийца вызвал полицию, а теперь молчит и лишь сообщает, что песок шуршит. Тихо-тихо.
– Очень полезная информация, – по тону сложно было определить, издевается Легба, шутит или пытается говорить серьёзно. Последнее было маловероятным, но я решил не сообщать, что шутка вышла так себе. Не мне оценивать чужой юмор, и уж точно не сегодня.
– Вот и я так думаю, – достав из кармана плаща фотографию убийцы, я перекинул её сидящей на диване Легбе. – Никого не напоминает? Может быть, заходил к вам? Типаж подходящий для стрип-бара.
– Может и заходил, – Легба пожала плечами. – Думаешь, я знаю в лицо всех посетителей? Я отдам фото парням, они поспрашивают. Если что-то станет известно, то я тебе сообщу.
– С чего бы такая законопослушность?
– Ты обвиняешь меня в этом, Грабовски? Ха! Никогда бы не подумала, что детектив полиции будет обвинять меня в законопослушности!
Хихиканье Легбы выглядело несколько наигранным, но я не воздержался от комментариев. Прошёл к стоявшему неподалёку столу, подхватил бутылку рома из приткнувшегося там мини-бара и сделал глоток, не тратя время на поиски стакана.
– Док написал тебе письмо, – сказал я, не отпуская бутылку.
– И что же было в том письме?
– Одно слово: получилось. Я надеялся, что ты мне расскажешь, что это значит.
Она одарила меня взглядом, который приблизительно можно было истолковать как: «Ты, конечно, хороший парень, но не настолько, чтобы я делилась с тобой секретами». Затем Легба встала, подошла ближе, отобрала у меня бутылку и сделала несколько глотков.
Когда она оказалась рядом, возбуждение вновь нахлынуло. Я стоял и не мог оторвать взгляда от того, как вздымается грудь при каждом глотке. В голове промелькнули картины недавних событий на леопардовом диване. Захотелось протянуть руку и сжать сосок, а затем повалить Легбу на диван и… Позже я возблагодарил собственное замутнённое состояние – когда мысль окончательно оформилась, Легба уже отошла. Что-то в её вскользь брошенном взгляде намекнуло, что она догадывалась о моих мыслях и даже жалела, что они не стали реальностью.
– Что-то ещё хотел, Грабовски? – Я редко понимал намёки, но этот был откровенней некуда.
– Нет. Если понадобится какая-либо информация, то тебя вызовут для допроса, – мне самому стало тошно от этих слов, но казённые фразы отлично помогают, когда не знаешь, что сказать.
– Зачем же вызывать? Ты заходи ещё, Грабовски, – Легба растянулась на диване. – Заходи, поговорим, выпьем, прекрасно проведём время. Ты же знаешь, здесь тебя не обидят.
– Насчёт этого у меня нет уверенности, – пробормотал я искренне, затем нелепо взмахнул рукой, прощаясь, и вышел.
В спину донёсся смешок, наполненный сожалением.
Вновь окунувшись в прокуренный воздух, я оказался в баре. Танцовщица уже ушла, и те из посетителей, кто мог передвигаться самостоятельно, потихоньку собирались домой. Остальных вполне вежливо будили охранники и выпроваживали на улицу. Возможно, кто-то из них станет жертвой внезапно налетевшей песчаной бури, но работников бара это не волновало. Их территория ответственности заканчивалась за порогом, а там уже каждый должен был сражаться в одиночестве.
Я размышлял над последними словами Легбы, и в очередной раз пытался понять, чего же больше в её предложении – искреннего интереса или желания привязать к себе детектива полиции. Наверное, одно, второе и ещё что-нибудь из третьего и четвёртого.
* * *
Шурх-шурх», – шептал песок, растекаясь волнами по улицам Медины. В наступившей ночной тиши песнь ветра была еле уловима, но едва поймаешь ритм, и уже не оторваться.
Возвращаясь домой, я вспомнил историю, которой было лет десять, если не больше. Один из тех эпизодов, который сначала прячется в глубинах памяти далеко, а после вдруг его выносит на поверхность.
Десять лет назад я только приехал в Медину и ещё не представлял себе, кто такой Док, считая его кем-то вроде городского сумасшедшего. Милый старик, общительный, похож на доброго дедушку из сказки.
В сущности, в каждом городе есть такой. Но даже добрые дедушки оказываются не теми, кем кажутся в месте вроде Медины.
В тот день, когда произошла история, я сидел в своей любимой кофейне, дожидаясь, пока Ахмед – владелец и бариста – достанет турку из песка. Док расположился неподалёку, через столик, и читал газету. В какой-то момент в кафе вошёл новый посетитель, и я повернулся, чтобы его рассмотреть – незнакомцы представляли для меня интерес, поскольку я сам был чужаком в этом городе.
Вошедший ничем не выделялся на первый взгляд – плечистый, но невысокий, с морщинистым лицом, но при этом не выглядящий старым. Карие глаза незнакомца смотрели настороженно и вроде бы даже с улыбкой. Бурый плащ, первоначальный цвет которого невозможно было различить, почему-то оказался весь в мелких прорехах.
Проходя мимо меня (я сидел ближе всех к входу), незнакомец чуть кивнул в приветствии и вроде бы даже слегка подмигнул. Удивившись внезапному дружелюбию, я запоздал с ответным кивком, и тот пропал втуне – вошедший к тому времени повернулся спиной.
На секунду пришлось отвлечься – Ахмед принёс кофе, и пока он ставил крохотную чашечку на столик, перекрыл мне обзор. Когда же хозяин заведения отошёл в сторону, я увидел, что незнакомец сидит напротив Дока. Мне по-прежнему была видна только спина странного посетителя, но вот лицо Дока я мог наблюдать совершенно отчётливо.
Старик улыбался.
Морщины на лице разгладились, в глазах плясали искорки не то гнева, не то веселья; указательным и большим пальцем Док словно растирал что-то микроскопическое. Мелкую песчинку или хлебную крошку.
В кофейне стояла тишина, нарушаемая лишь шумом песка, бросаемого в окно ветром. Тем удивительней оказалось понимание, что двое сидящих друг напротив друга ничего не говорят. Постепенно не только я, но и все остальные посетители сосредоточили внимание на этой странной паре.
Ничего не происходило, но в воздухе нарастало напряжение. Оно сгущалось подобно туману и вдруг стало трудно дышать. Когда я потянулся к чашке, то прошло, как мне показалось, не меньше минуты, прежде чем пальцы обхватили фарфор. Мне подумалось, что если я попробую приподнять чашку, то это усилие убьёт меня.
А затем Док вдруг засмеялся – хрипло и прерывисто, почти переходя на кашель, стуча по столу и периодически взвизгивая. Казалось невероятным, что все эти звуки издаёт один и тот же человек.
Отсмеявшись, Док встал, расплатился и, медленно ступая, прошёл к двери. Когда она скрипнула, напряжение, витавшее в воздухе, схлынуло разом. Я помню многоголосый встревоженный хор на разных наречиях, и я помню свой голос в этом хоре. Мы все какое-то время только и могли, что радоваться наступившему спокойствию.
Однако, когда через пару минут встревоженный Ахмед подошёл к незнакомцу, так и сидевшему за столиком, и тронул его за плечо, тот сполз со стула и упал на спину. Странный посетитель смотрел мёртвыми карими глазами в потолок, не дышал и продолжал улыбаться…
Позднее, через пару лет, когда я уже работал в полиции, то спросил Шустера о том случае. Меня интересовало, почему Док ушёл от наказания. Он ведь был причастен к этой смерти, не было никаких сомнений.
– Он спасал себе жизнь, – ответил Крополь и зевнул. – Тот парень был убийцей. Не понимаю, кто его подослал, но целью явно был Док.
– Убийцей – удивился я. – Каким ещё убийцей? Этот парень даже оружия при себе не имел.
– Убийца-гипнотизёр, – совершенно серьёзно ответил Шустер. – Большой профессионал. Силой взгляда заставлял людей поверить в то, что у них разрывается сердце. Мы ничего не могли ему предъявить – сам понимаешь, никаких доказательств просто не оставалось. Хорошо, что Док его прикончил.
В тот раз я не поверил Шустеру. Слишком дико и анекдотично выглядела эта история. И слишком странно, даже для Медины. Куда больше походило на попытку подшутить над новичком.
Сейчас, после убийства Дока, я всё больше и больше склонялся к тому, что случай в кафе Ахмеда был не так уж прост. Неизвестно, кому нужно было покушаться на жизнь Дока и как именно старик проделал тот трюк, но он был не так прост, как порой казался.
Интересно, сколько ещё покушений было за те десять лет? Может быть, и раньше Дока пытались убить, а мы просто не замечали. Может быть, это всё звенья одной цепи…
Как бы там ни было, но я чувствовал, что сегодняшний день – лишь начало. Если не знаком с правилами чужой игры, то самое разумное – заставить остальных играть по твоим и в твою. Вот только для этого надо обладать желанием и силой, а ни того, ни другого у меня в данный момент не было.
«Шурх-шурх», – продолжал шептать песок, и я искренне желал, чтобы он, наконец, заткнулся.
Интерлюдия: Рабби
Природный песок – это мелкие частицы, образованные вследствие разрушения осадочных пород.
Здесь есть один факт, который многие склонны упускать из виду – речь о разрушении. Оно является прямой причиной возникновения песка, и оно же, если так можно выразиться, у него в крови.
В Медине никогда не стоит забывать об этом.
Рабби ШимонРабби стоит у окна и наблюдает за исчезающей вдалеке фигурой Любомира Грабовски. Детектив идёт нервно, изредка останавливается и в задумчивости смотрит на песок, словно желая его пнуть.
Рабби Шимон сочувствует детективу. Тот, должно быть, впервые столкнулся с тем, с чем сам Рабби имеет дело уже не первый десяток лет – со странностью всей жизни в Медине. Большинство не задаёт никаких вопросов и не обращает внимания на несуразности, вылезающие на каждом шагу. Но большинство вообще никогда не отличается наблюдательностью.
В Медине каждый видит ровно то, чего ему больше всего хочется – всё остальное остаётся в стороне от восприятия. И именно поэтому следует как можно скорее оказаться подальше, чтобы увидеть картину целиком.
Смотреть издали, на безопасном расстоянии, и позволить истории случиться самой, – этот урок Рабби усвоил ещё в детстве.
* * *
Когда-то давно, когда ему было раз в шесть меньше лет, чем сейчас, Рабби точно так же стоял у окна и смотрел, как соседская собака играет во дворе с детьми. Им было радостно и весело, дети бросали мяч, а собака приносила его, чтобы он вновь полетел как можно дальше.
Мячу изрядно досталось от клыков, собачье слюны и грязи, которая налипла, пока он катился по земле, но дети не обращали на это внимания. Точно так же они не замечали силуэт Рабби, застывший возле окна.
В детстве его замечали в основном взрослые. Они делали это, когда старались противопоставить трудолюбивого, знатного и умного Рабби остальным. Поставить в пример…
Дети ненавидели Рабби за этот «пример» и старались не обращать на него внимания. Когда это не удавалось или когда им хотелось обидеть кого-нибудь слабого, они «играли с Рабби». Несколько подобных игр имели последствия куда серьёзней, чем ссадины и синяки.
Поначалу Шимон ненавидел других детей за это, а взрослых за то, что они постоянно стравливали его со сверстниками своими «примерами». Ненавидел и боялся. Однако в скором времени он пришёл к выводу, что и то, и другое чувство на самом деле ложные. Куда выгоднее и проще стать незаметным. Вычеркнуть себя из жизни других.
В тот день, когда Шимон стоял и наблюдал за тем, как дети играют с собакой, ему казалось, что всё получилось, а потом он понял, что теперь ненавидит самого себя – за трусость. Ненавидит и боится, что это навсегда.
* * *
Вернувшись в настоящее, Рабби чувствует, как исчезает покров, позволявший оставаться незаметным. Нет никаких сомнений, что Грабовски вернётся – это лишь вопрос времени. Он придёт и будет задавать новые неудобные вопросы, на которые у Шимона слишком много вариантов ответа.
Рабби так и не решил, что именно рассказать детективу. Ни одна из версий не удовлетворит того полностью, а потому лучше всего переложить эту проблему на чьи-нибудь плечи. На того, кто сможет это сделать бесстрастно и спокойно.
Или на ту.
Рабби убеждается, что фигура Грабовски уже не более чем одинокая чёрная точка, и облегчённо вздыхает, вытирая об штаны влажные от пота ладони.
Детектив не счёл Рабби опасным. В очередной раз Шимона спасло безжалостное общественное мнение.
Маленький сухонький старик, до которого никому нет дела. Он занимается каббалой, но что это такое, сказать никто точно не может. Да и сам Рабби не может. По крайней мере так, чтобы люди поняли.
Он отлично знает, как выглядит со стороны и какое производит впечатление, и порой не прочь этим впечатлением воспользоваться.
Рабби аккуратно задвигает под кровать сумку, которую держал в руках, когда зашёл Грабовски, а взамен вытаскивает другую. Всего лишь маленькая предосторожность, которой Рабби воспользовался, когда почуял скорый приход детектива.
Внутри сумки лежат аккуратно уложенные вещи и билет на ночной рейс из Медины.
Рабби Шимон вновь выглядывает в окно и чувствует, что Грабовски где-то рядом. Он вернулся и кружит неподалёку. Рабби ощущает сомнения, которые одолевают детектива и позволяет им усилиться. Заодно он вновь укрепляет веру Грабовски в то, что Рабби Шимон не представляет опасности. За пять минут наблюдения лишь вездеход проплывает по улице и скрывается в ночной тишине, чтобы более не вернуться.
Грабовски тоже уходит, захваченный новой идеей и принятым решением. Рабби не знает, что это за решение, но чувствует, что времени у него немного.
Подхватив нужную сумку, Рабби спускается по лестнице. Едва он оказывается на первом этаже, как за спиной раздаются шаги. Рабби оборачивается и видит пожилую китаянку, которая, склонив голову чуть набок, внимательно наблюдает за ним. Встретившись с ней взглядом, Рабби улыбается.
– Уходишь? – спрашивает китаянка. – Куда?
– Юнь, я… не могу сказать. Может быть, потом ты узнаешь сама.
Она пожимает плечами и продолжает стоять и смотреть. Тонкая и костлявая, словно цапля, внимательно изучает его птичьими, чуть навыкате глазами. Рабби понадобилось несколько лет, чтобы привыкнуть к этому взгляду. Ещё через какое-то время Шимон даже стал находить его очаровательным. Последнее, по его собственному мнению, значило то, что на старость лет он сделался излишне сентиментальным.
– И ещё, – говорит Рабби, – когда я уеду, снова придут из полиции и будут задавать вопросы. Скорее всего, тот же самый человек, что и сегодня – детектив Грабовски. Ты можешь рассказать ему всё.
Китаянка не меняется в лице, хотя Рабби ощущает, что она испытывает серьёзные сомнения, стоит ли рассказывать действительно всё…
– Когда придёт Грабовски, покажи ему всё и расскажи, если он спросит, – повторяет Рабби.
– Ты уже говорил.
Чуть вздёрнутая бровь – единственный жест, который Юнь себе позволяет. Большая часть людей подумала бы, что это выражение удивления или же скепсиса, но для Рабби этот жест говорит: «Я знаю, что ты волнуешься. Я знаю, что ты не хочешь уходить, но уважаю твой выбор. Я сделаю всё так, как ты сказал. Исполню в точности. Ты можешь на меня положиться, и ты это знаешь. Чего ты ждёшь? Долгих прощаний?»
Рабби хмыкает, и звук угрожающе звенит в тишине, нарушаемой лишь шуршанием песка. Он слишком долго знает Юнь, а она, в свою очередь, слишком долго знает его. Человек, который лучше всего в мире умеет наблюдать, чтобы увидеть сокровенное, и та, которая молчит так, словно рассказывает при этом величайшие тайны мира. В другое время, в другой жизни или в другой стране они могли бы стать кем-то большим. Любовниками, настоящими друзьями или даже мужем и женой.
В Медине они – хозяйка гостиницы и постоялец, которые знают друг друга пятнадцать лет с того самого момента, как Рабби Шимон приехал в этот город.
– Я рад, что узнал тебя, – шепчет он и направляется к дверям, успев заметить, как губы китаянки шевелятся в безмолвном прощании.
Пятнадцать лет прошло, а он так и не нашёл того, что искал, потому что всё время был не там и не тогда. А теперь…
А теперь он знает, куда отправляется, но пока не может предположить, что его там поджидает. В другое время Рабби Шимон расстроился бы из-за этого, но сейчас его радует сама мысль, что через несколько часов он окажется далеко от Медины.
От города, который так ему и не покорился…
Глава III
В ту ночь я ворочался, собирая простынь в ком, и видел сны-вспышки. Они оказались настолько однообразны, что либо в этом был тайный смысл, либо я свихнулся.
Во снах приходил Док с развороченной грудной клеткой; с застывшим механическим протезом, приводящим в движение сердце; с приклеенным к лицу выражением крайнего удивления. Он заходил в квартиру, доставал бутылку виски из рассованных то тут, то там запасов (очень удобно, можно постоянно радоваться внезапной находке), и, когда Док начинал пить, я видел, как жидкость перетекает у него внутри и, в конце концов, заканчивает свой путь в мочевом пузыре. Тот пульсировал голубоватым светом, что в ночной тьме смотрелось дико и пугающе. На этот свет слетался песок, облеплял Дока и впитывал в себя жидкость.
Реальность, разумеется, оказалась куда понятней – мне просто хотелось помочиться. Но пришлось просмотреть повторяющийся сюжет раз пять или шесть, чтобы осознать это.
После похода в туалет я понял, что уже не усну. Вдобавок разболелась голова, и я проглотил пару таблеток цитрамона, запив их водой.
За последние три или четыре месяца это было едва ли не первое утро, которое началось для меня не с рюмки.
«Что-то изменилось, – сказал я сам себе. – Что-то изменилось в тебе, в остальных, в Медине. Что-то, что стало причиной смерти Дока слегка накренило ось вращения мира, и изменения теперь будут лишь нарастать».
Эта мысль подействовала на меня, как удар в челюсть. Сначала ошеломление, а затем долгая ноющая боль. И вместе с тем появились два равнозначных по силе, но направленных в разные стороны вектора желаний: держаться от всего этого подальше и ударить в ответ.
Если бы с утра в руке оказалась рюмка, то я практически гарантированно выбрал бы «держаться подальше». Но утро началось с таблетки цитрамона, а потому пришло ощущение, что изменения в моей жизни необходимо ускорить.
* * *
Первым делом я выгреб весь мусор. Пустые бутылки, испорченную еду, несколько пачек из-под презервативов. На счёт последних я не был уверен, что они принадлежали мне, потому что не мог вспомнить, когда последний раз был с женщиной. В кучу всякого хлама полетели и старые засаленные карты – обрывок прошлых времён, когда я тащил собутыльников «продолжить» в квартиру.
Найдя коллекцию открыток с видами Словакии, я выбросил все, оставив себе лишь одну, с изображением родового герба, намереваясь повесить над рабочим столом. Уже заранее можно было предсказать сарказм Шустера по этому поводу.
Что касается меня, то, когда открытки отправились на свалку истории, я не почувствовал ничего кроме громадного облегчения. Так ли важно на самом деле хранить их? Мне было не больше года, когда меня увезли. Драгоценности, переданные отцом, частично разворовали, частично пошли в оплату. Даже фамильное кольцо «Скрепа», служившее князям Словакии вместо короны, осталось у кого-то из перекупщиков. Я уже почти всё простил Томашу за те годы, что прошли после его смерти, но перстень…
Впрочем, я был жив, а Томаш мёртв. Раньше мне казалось, что ему повезло, а теперь ничего не кажется.
Из всего, что напоминало о прошлом, сейчас у меня были только открытка и характерный профиль князей Грабовски. Ни то, ни другое не являлось достаточным для возвращения трона.
Но куда чаще остальных причин меня останавливал страх, что ничего не выйдет.
Или выйдет, но не так, как мне хотелось бы.
Найдя старую ненужную сумку, я запихал в неё весь собранный хлам и огляделся. Солнце уже взошло, а ветер пока ещё не поднялся, потому песчаная завеса не мешала свету. Квартира по-прежнему выглядела убежищем холостяка, который поставил крест на том, что сюда когда-либо попадёт хоть одна женщина. Однако теперь было видно, что это именно убежище, а не берлога. Мне даже показалось, что здесь стало легче дышать.
Впрочем, не исключено, что всё объяснялось действием таблеток на голодный желудок и не до конца протрезвевшую голову.
Я вытащил сумку с хламом на улицу и закинул в огромный бак, а затем отправился в участок, чтобы появиться там до обеда впервые за несколько последних лет. Забавно, но из-за вчерашних ночных допросов, у меня в кои-то веки была абсолютно законная причина опоздать.
* * *
Если бы мне когда-нибудь пришлось составлять рейтинг людей, с которыми неприятно общаться, то на вершину я бы поместил всех неофитов, и не важно, чем они занимаются.
Кто-то из них бросает пить или курить, кто-то начинает бегать по утрам или делать зарядку, а кто-то просто наконец-то уходит с опостылевшей работы или разрывает отношения, потерявшие всё, что связывало людей вместе. Едва в разговоре с такими людьми вы заикнётесь о проблемах, с которыми не можете справиться, то они тут же начнут приводить в пример самих себя. Наверняка каждый в жизни сталкивался с подобным и может навскидку перечислить несколько фраз, которые непременно звучат в ходе разговора с такими людьми:
– Раз я смог, то и ты сможешь!
– Люди просто слабаки, если не могут себя заставить делать то, что должно.
– У тебя какие-то проблемы? Так пойди и реши их! Я же так сделал…
Нельзя сказать, что эти фразы далеки от истины, но в поведении людей, которые их произносят, слишком много позёрства и самовосхваления, и слишком мало реальной помощи.
И, пожалуй, самое печальное в том, что неофиты действительно считают, будто помогают другим, а на деле лишь ещё глубже загоняют остальных в скорлупу проблем. И, попутно, становятся теми, с кем никто не хочет делиться сокровенным.
Неофиты часто удивляются, почему их круг общения в скором времени состоит лишь из таких же, как они, а также горстки гуру, которые достойны восхваления. При этом давние знакомые норовят перейти через улицу или сделать крюк, лишь бы не попадаться неофитам на глаза.
Впрочем, каждый из нас не только встречался с неофитами, но и был им. И причина подобного поведения известна – при первых шагах на любом пути требуется поддержка, вот почему неофит создаёт значимость совершаемых поступков самостоятельно. В противном случае начинания бросаются так же рьяно, а убеждения против них становятся столь же непримиримыми.
* * *
Участок встретил меня тишиной, нарушаемой лишь шуршанием бумажного пакета. Одного взгляда оказалось достаточно, чтобы подтвердить подозрения – Бобби Ти уже был на посту. Обложившись едой, он работал челюстями, как молотилками. Правда, сегодня были не привычные гамбургеры или пончики, а какая-то трава. Возможно, сельдерей – я не сильно в этом разбирался, считая зелень украшением блюда, а не едой.
Вообще-то Бобби Ти был совсем не тем, кого я ожидал увидеть и удивить, но я решил насладиться и этой встречей, учитывая странную пустоту в участке.
– Да-да, жирдяй, это не призрак. Это действительно Любомир Грабовски собственной персоной. Трезвый и вовремя. Смотри и учись. Было бы неплохо, если бы и ты перестал заполнять свою бездонную клоаку всяким дерьмом. Впрочем, ты на верном пути. Здоровая пища и всё такое.
Несмотря на грубый тон в тот момент я действительно желал Бобби Ти добра. Вплоть до того, что почти ожидал: сейчас толстяк отбросит еду в сторону, улыбнётся и запишется в тренажёрный зал, сауну для сжигания жира или куда-то ещё.
Однако Бобби Ти не отбросил еду. Он продолжал жевать, методично работая челюстями. Рот толстяка полностью не закрывался, и было видно, как меж зубов мелькает зелёный ком. Именно в этот момент, когда пасть Бобби Ти была забита, он попытался что-то произнести. Раздалось нечленораздельное чавканье, из которого мне удалось выудить лишь пару знакомых букв: «… л… Кр… … ищ……».
«Чтоб ты подавился», – в свою очередь подумал я, разом позабыв про доброту и попытку выудить Бобби Ти из лап чревоугодия. Словно исполняя моё желание, лицо толстяка перекосилось от приступа боли. Бобби Ти закашлялся, попытался набрать воздуха, но ничего не получилось. Затем толстяк согнулся и выплюнул всё, что было у него во рту, под стол. Словно там скрывались детёныши Бобби, которых следовало покормить пережёванной пищей.
С глухим «шмяк» зелёный ком упал на дощатый пол, а Бобби Ти захрипел. В глазах его читалось такое отчаяние, которого мне не доводилось видеть даже на лицах у приговорённых к казни. Возможно, те ребята просто успевали смириться со скорым концом, а Бобби Ти только сейчас осознал, насколько близко подобрался к смерти.
«Вот видишь, Бобби, к чему приводит чревоугодие? Тебя разве никогда не предупреждали, что не стоит разговаривать с набитым ртом? В сущности, это будет самым логичным концом для тебя», – успел подумать я, а затем с размаху хлопнул Бобби по спине.
Мелкий кусок жёванной травы вылетел из рта толстяка и упал прямо на блокнот, в котором Бобби записывал телефонные разговоры. Тотчас же на бумаге растеклось влажное пятно. Толстяк вздохнул несколько раз, сглотнул, и постепенно его лицо обрело нормальный вид. Я взял пару салфеток у Бобби и вытер руку. Спина толстяка была влажной от пота.
– Ну а теперь, раз ты передумал помирать, может, нормально скажешь то, что пытался произнести минутой ранее?
Дыхание толстяк ещё не восстановил, потому вместо связного рассказа мне вновь досталось нечто нечленораздельное. Однако сейчас я уже мог различать слова, и смысл их даже по отдельности мне не понравился, а уж после того, как я нанизал слова на одну нитку в нужном порядке – тем более.
– Крополь… сбежал… ищет… преступник… ночью… заметил… никто… не…
Одарив Бобби уничтожающим взглядом, под которым тот съёжился и, как показалось, начал вновь бледнеть, я выбежал из управления, сопровождаемый призраком, явившемся из подсознания. У монстра был облик запотевшей бутылки водки с руками и ухмыляющимся ртом в том месте, где обычно пишут названия. Монстр протягивал мне полную до краёв рюмку и шептал: «Выпей, Любо! Как ты успел убедиться, жизнь в трезвости напоминает дерьмо. Выпей скорее, чтобы об этом позабыть».
В тот момент мне удалось побороть искушение, но причина была не в выдержке. Только когда меня охватила ярость, я понял, что до сих пор пьян. Похмелье пока не явилось, сдерживаемое лекарством, но, затаившись, шептало: «Это будет ужасно, мой мальчик…»
К счастью или нет, но я был поглощён другими проблемами и проигнорировал это предупреждение.
* * *
Ноги сами принесли меня к вокзалу. Обычно у меня вызывали смех штампы о том, что преступника всегда тянет на место преступления, но сейчас я руководствовался двумя соображениями. Во-первых, там его никто никогда не додумается искать. А во-вторых, кто знает, какие указания дал хозяин своему зомби.
Оказавшись у вокзала, я почти сразу разуверился в собственной идее. Одного взгляда на безжизненное кирпичное здание хватало, чтобы понять, что там вряд ли кто-нибудь прячется.
В «Ломбарде Страхова», стоявшем слева от вокзала, старик Страхов придирчиво оглядывал только что помытые стёкла. В «Прачечной имени Ляо», что стояла справа, один из сыновей Ляо с бумажным пакетом в руках упаковывал чей-то заказ. Во всём этом чувствовалась жизнь, а вокзал выглядел склепом, по недоразумению воткнутым посреди торговой площади.
Зайти внутрь меня заставило одно лишь упрямство.
* * *
Ступая тихо и осторожно по песку, я шёл по коридору вокзала. В воздухе разливались запахи тлена и сырости. Ещё совсем недавно, когда Док жил здесь, здание выглядело иначе. Видимо, старик был для вокзала сердцем, и, когда вырвали его собственное, случились сразу две смерти.
Заглянув в кабинет Дока, я увидел чистый стол и пол, скрытый песком. Не чёрным, а вполне обычным, желтовато-рыжим. Это напоминало гигантский лоток для кота. В местах, где остались крупинки чёрного песка, виднелись небольшие провалы – дерьмо, которое так и не удосужились закопать.
«Вот только такое дерьмо не закопаешь, да, Любо?» – мнение Томаша было как нельзя кстати.
Заходить в опустевшую комнату не хотелось, а потому я двинулся дальше и сам не заметил, как вышел на перрон.
Поезд, на котором Док приехал в Медину, стоял на путях, которых не было. Вид локомотива стал для меня неожиданностью, и я неосознанно отступил в спасительное нутро вокзала. До сегодняшнего дня мне приходилось видеть этот поезд только один раз, и то издали, с водонапорной башни. Я забрался туда в погоне за Лили Оденсо – соблазнительной аферисткой, связавшейся не с теми людьми и сумевшей сбежать от полиции, чтобы через пару перекрёстков поймать пулю в сердце. Тогда, как и сейчас, вид поезда внушал странный трепет. Казалось, что железный гигант не из этого мира. Что само его присутствие в Медине напоминает чёрное пятно в лёгких курильщика, которое медленно, но верно его убивает.
Стоило подойти ближе, как иллюзия рассеялась.
Я по-прежнему ощущал, что поезд в этом месте абсолютно чужой, но то ощущение «инаковости» было лишь остатками. Неуловимый флёр, который не успел выветриться. Смерть Дока стала причиной угасания или что-то иное, я не знал, и, наверное, так и не узнаю. При других обстоятельствах и при живом Доке я не попал бы на перрон.
Впрочем, сейчас у меня был карт-бланш, а потому через минуту я оказался возле скрытой под слоем копоти таблички. На чёрном фоне поезда она выделялась лишь очертаниями.
Сначала медленно, а затем всё быстрее и быстрее я принялся стирать налёт. Хотя он постепенно исчезал слой за слоем, буквы всё не появлялись. Лишь полностью испачкав руки, а заодно рукава плаща и рубашки, мне удалось не прочитать, но прочувствовать то, что когда-то было там написано. Водя пальцами по буквам, я запечатлевал их в своём сознании, пока не появилось слово, от которого повеяло могильным холодом.
Безвременье…
Я не знал, что реально ли это место или просто глупая шутка, но что-то внутри утвердилось в мысли: «Где бы ни находилось Безвременье, Док оттуда сбежал и не собирался возвращаться».
Может быть, именно оттуда и пришли те, кто послал лесоруба-убийцу. Может быть, если тому громиле сказать «Безвременье», его речь станет куда яснее, чем в тот раз, когда он услышал «песок». А может быть, это слово заставит его подохнуть прямо на месте – от разрыва сердца, к примеру. В конце концов, мы не могли заглянуть внутрь убийцы и узнать, не подобен ли он Доку.
Так я думал, одновременно с тем понимая, что во всех этих рассуждениях слишком много домыслов и ни одного реального факта. Мне следовало заняться тем, чем я изначально собирался – искать сбежавшего убийцу, который прятался где-то в городе. Я сомневался, что он сунется в аэропорт или попробует пересечь пустыню на вездеходе, не говоря уже о том, чтобы сделать это пешком. То, как лесоруб говорил о песке, выдавало скрывающийся у него внутри страх.
Вытерев руки об испачканную рубашку, я плотнее застегнул плащ, поправил маску с фильтрами и двинулся к выходу, где меня, как оказалось, ждали.
* * *
Это был обычный паренёк лет десяти или около того. Ребёнок из тех, чьё детство проходит на улицах. Увидев меня, мальчишка вскочил со ступенек и снял с лица платок – маски у него не было.
– Детектив Грабовски? – голос у паренька уже начал ломаться, и он этого стеснялся, отчего старался говорить тихо, благо ветер стих и нам не мешал.
– Да, малыш, чего тебе?
– Меня зовут Мерк, – он замолчал и внимательно посмотрел на меня. И только парой секунд спустя я понял, что сделано это лишь для того, чтобы его не называли малышом.
– Уяснил, Мерк. Так чего тебе нужно?
– У меня послание от Легбы, – паренёк насупился, затем лицо разгладилось, и он затараторил быстро-быстро, будто пытался рассказать стих в школе, пока ещё не забыл. – Человек, которого ты ищешь, сидит у меня в баре. Он не собирается уходить, но я не знаю, что будет дальше. Приходи скорее, если он тебе всё ещё нужен. И заплати парню.
На последней фразе Мерк поперхнулся. Я посмотрел на него чуть внимательней и заметил, как кончики ушей у мальчика порозовели. Было очевидно, что последнюю фразу он добавил уже от себя, готовый, в случае чего, откреститься или попросту сбежать. Маленький паршивец уже получил своё и теперь пытался увеличить ставки, блефуя.
Следовало бы разозлиться, но я лишь отметил, что паренёк далеко пойдёт.
– Держи, – я протянул ему купюру и, не удержавшись, добавил банальность. – Только не трать всё сразу.
– Спасибо. Разумеется, не буду. Я собираюсь накопить на вездеход. Надоело ходить пешком.
Он развернулся и пошёл прочь, через минуту исчезнув в каком-то переходе, а я всё стоял на месте и думал о том, что глаза Мерка во время последней фразы были чересчур серьёзными, хотя внутри плавала искра хитринки. Вот паршивец! Скорее всего и этот его срыв в конце был отрепетированным! Да, он точно далеко пойдёт, раз так умеет чувствовать людей.
Я расхохотался, и смех принёс облегчение, вернув то ожидание перемен, которое началось сегодняшнее утро. Возможно, если бы Мерк встретился мне вновь, я бы отблагодарил его ещё одной купюрой.
Едва я окончил смеяться, как вспомнил о преступнике. Учитывая, что гигант вырвал Доку сердце, нечего было и думать о том, чтобы остановить его в одиночку.
* * *
Закусочная Римуса была первым местом, которое попалось на пути. Я заскочил внутрь и сразу принялся пробиваться к дальней от входа стене, где висел, сверкая хромированной поверхностью, телефонный аппарат.
Посетители ворчали, когда я их отпихивал, но никто не переступил грань, за которой начинается ссора или драка. Либо они узнали меня, либо их отпугнуло выражение злости на лице, но мне понадобилось не больше минуты, чтобы оказаться у аппарата. Я снял трубку и попросил оператора соединить с полицейским управлением.
Пока шли гудки, я бросил взгляд на часы, висевшие на стене. Время непостижимым образом уже приблизилось к двенадцати пополудни, и стала ясна причина подобного столпотворения.
В обеденное время к Римусу стекались многие, ведь к каждому заказу совершенно бесплатно прилагался свежий номер газеты собственного издания. Вечером, а тем более утром, спрос на прессу был куда меньше. Те, кто получил газету, успевали разнести новости задолго до захода солнца.
– Полицейское управление, дежурный слушает, – раздалось в трубке, и я вздрогнул, возвращаясь к действительности. Говорил не Бобби – толстяк, по-видимому, закончил смену и ушёл, а других дежурных я не запоминал.
– Это Грабовски, – сказал я. – Преступник, сбежавший сегодня, находится сейчас в баре «Запах мамбо». Вооружён или нет – неизвестно, но точно опасен. Вышлите пару машин на подкрепление и обязательно сообщите Крополю, если увидите.
– Вас понял, детектив.
Я повесил трубку и вздохнул. Чтобы успеть до приезда полицейских и самому оценить ситуацию, следовало поторопиться. Вездеходы быстрее, чем человек, но полицейское управление находилось от «Запаха Мамбо» дальше, чем закусочная Римуса. К тому же, им ещё надо собраться и выехать.
Подхватив с чьего-то стола оставленную газету, я на ходу вытер об неё копоть с рук, оставшуюся с тех пор, как я тёр табличку на вокзале. После запихнул уже не выглядевший свежим выпуск во внутренний карман плаща и быстрым шагом вышел из закусочной.
* * *
Убийца сидел за стойкой, подперев голову двумя руками, и смотрел в стоявший перед ним стакан с чем-то прозрачным внутри.
Неподалёку, за одним из столиков, я заметил Рюманова и Легбу. Они о чём-то беседовали, но при моём появлении замолчали. Хозяйка бара улыбнулась, а барон медленно кивнул.
«Что ему тут надо?» – спросил я сам себя. Возможно, Рюманов заглянул к Легбе по каким-то своим делам и даже не подозревал, кто сейчас сидит за стойкой – в конце концов, он был единственным из подозреваемых, кому я не показывал фотографию убийцы. Однако меня не покидало ощущение, что это не случайность.
Впрочем, с этим я собирался разобраться позже. Сейчас следовало вернуть убийцу в камеру, выяснить, как он сбежал, и сделать всё возможное, чтобы это не повторилось.
Но стоило сделать шаг, как за окном раздался грохот. Послышались взволнованные крики людей, а лысый громила начал поворачиваться ко мне. В этот момент ножка его стула подломилась…
Убийца полетел на пол, нелепо взбрыкнув руками при этом, и приземлился ровно на затылок. Послышался треск, какой бывает, когда разрезаешь арбуз. Руки гиганта со стуком ударились о дощатый пол, а следом, завершая аккорд, противно громыхнул подломившийся табурет.
Я сглотнул и внутренним ощущением понял, что сделать уже ничего нельзя – на полу бара лежал труп.
* * *
Когда происходит нечто ужасное, в голове проносятся за одно мгновение тысячи мыслей, во многом далёких от происходящего. Время не останавливается, и едва всё заканчивается, как можно почувствовать пыль, поднятую табуном размышлений, промчавшимся мимо. Всё, естественно, не запоминается, а удаётся выхватить лишь одну-две мысли или фразы, которые человек обычно и произносит сразу же. Чаще всего это нечто нецензурное, потому что самые первые и гениальные идеи исчезают быстрее, чем удаётся их поймать.
Но в тот раз, когда на моих глазах преступник совершил столь нелепое самоубийство, удалось всё-таки ухватить кое-что важное. Всего лишь маленький намёк, кому это могло быть выгодно, благо причина сидела у меня перед носом.
* * *
– Та-а-ак, – протянул я, посмотрев в сторону Барона и Легбы. – И кто из вас двоих это сделал?
Дверь за спиной распахнулась. Я обернулся, ожидая кого угодно, но это оказался всего лишь Шустер. В тусклом свете лампы его очки казались абсолютно чёрными. Он посмотрел сначала на меня, потом на труп, а затем как-то разом обмяк, потеряв весь запал. Даже полы плаща прекратили трепетать, хотя в том драматическом эффекте повинен был утихший сквозняк. Стянув маску на шею, Шустер шагнул к стойке и склонился над убийцей.
Я же, подхватив стоящий рядом стул, подошёл к столику с двумя подозреваемыми, развернул стул спинкой вперёд и присел.
– Повторяю вопрос: кто из вас это сделал? Или, быть может, вы вместе?
– Не понимаю вас, детектив, – тон Рюманова был тихим и печальным. – Что вы пытаетесь сказать?
– Я пытаюсь сказать, многоуважаемый барон, что сейчас на моих глазах произошло убийство человека, замаскированное под самоубийство. Под нелепое, абсолютно ирреальное самоубийство. Мы можем сто раз повторить подобный трюк, и преступник выживет. Здесь не обошлось без ваших церковных фокусов. Впрочем, может спросим хозяйку заведения?
– Отвянь, Грабовски, – Легба была не столь дружелюбной, как барон. – Ты пришёл в мой бар, потому что я тебя позвала. Я могла просто прикончить этого типа и даже не сообщить, что он здесь был. А после ты искал бы его до скончания веков.
– Зато теперь ты отвела от себя все подозрения, разве нет?
– Ты идиот? – взгляд пылал злостью. – Заметь, я спрашиваю, Грабовски. Потому что если бы так думала, то, разумеется, устроила бы этот балаганный трюк. Ты прав, всё выглядит, как дешёвый фокус, но фокусник не я, а кто-то другой.
– Барон? – я вновь обратился к Рюманову. – Что говорит нам Перун-Апостол о подобных происшествиях?
– Что случайности – часть жизни.
– Благодарю покорнейше, теперь буду знать.
Я едва сдерживал злость, но первый порыв прошёл – у меня не было никаких доказательств, одни теории. Барон и Легба сидели передо мной, когда всё произошло. Не было каких-то странных звуков, магических обрядов или ещё чего, что обычно предшествует демонстрации божественной силы. Это было идеальное алиби, и, возможно, именно его они и добивались.
Когда живёшь в городе, где ежедневно один проповедник сменяет другого, а их проповеди напоминают соревнование фокусников, то поневоле привыкаешь к этому балагану. Чтобы кого-нибудь завлечь, требуется устроить шоу, но никто не говорил, что всё тоже самое нельзя устроить незаметно.
Дешёвым трюкачом сейчас выглядел я сам. Даже не трюкачом – простым клоуном, который в очередной раз получил тортом в морду и этим всех насмешил.
– И что теперь делать будем, а?
– Вы хотите совета, княже, или же просто интересуетесь нашими дальнейшими планами?
– Я интересуюсь, как быстро вы окажетесь за решёткой.
– Грабовски, – Легба наклонилась над столом, чтобы оказаться чуть ближе. – Веди себя как мужик, а не нытик. Что тебя больше волнует? Что потерял убийцу Дока? Если хочешь, я слеплю тебе из этого трупа простенького зомби. До суда он продержится, а потом тихо и мирно умрёт в камере. Устроит?
– Меня устроит, если ты захлопнешь свою пасть!
Я встал, но тут же вскочил и барон:
– Советую вам извиниться, княже. А иначе мне придётся вызвать вас на дуэль.
– В Медине не бывает дуэлей, только пьяные драки в подворотнях.
– Значит, случится первая. Впрочем, если вам больше нравится, я вызову вас именно на пьяную драку. Выбирайте подворотню!
Минуту мы сверлили друг друга взглядами, а затем я почувствовал на плече руку Шустера. Его голос, лишённый привычного сарказма, тихо и спокойно произнёс:
– Детектив Грабовски приносит вам официальные извинения, Легба фон Гётце. Мой коллега несколько не в себе и расстроен тем, что произошло. Примите заодно извинения от меня и от всей полиции Медины.
Легба задумчиво водила указательным пальцем по губам. От меня не укрылся взгляд, которым она обменялась с бароном.
– Вы принимаете извинения? – терпеливо спросил Шустер.
– От вас – да.
– Хорошо. Сейчас сюда подъедут мои коллеги. Думаю, мы закончим до обеда, и вы сможете открыть бар в обычное время.
Легба пожала плечами, показывая, что сейчас это волнует её меньше всего. Затем Шустер аккуратно и настойчиво оттащил меня к барной стойке и усадил на стул. На такой же, с какого недавно свалился убийца. К горлу подступил истеричный хохот. Я перегнулся через стойку и разжился половиной бутылки виски. Стакан мертвеца, разумеется, трогать не стал.
Развернув газету, прихваченную у Римуса, я расстелил её на стойке. С открытой страницы на меня смотрел портрет Дока. Убийство не осталось тайной в таком маленьком городе. В статье вновь вспоминалась история приезда Дока в Медину, но, к счастью, о других странностях произошедшего убийства, пока ещё никто не разболтал. С одной стороны – это позволяло автору строить фантастические версии, а с другой – все они были ничуть не фантастичней реальности.
Отхлебнув из бутылки, я пролистал газету и отшвырнул её в сторону. Методично выпивая, я только где-то в районе четвёртого глотка вспомнил про утреннее решение завязать. Сейчас оно казалось надуманным и абсолютно неосуществимым. Мир без спиртного оказался ничуть не лучше, чем с ним. Даже наоборот – он бил куда больнее и в те моменты, когда ты этого не ожидаешь.
Я выпил ещё, и к тому времени, когда приехали полицейские, мне было если не хорошо, то хотя бы безразлично. Я продолжал злиться на Легбу и ненавидеть барона, считая, что именно они виноваты в том, что произошло, но эмоции уже потускнели.
Оседлав привычного внутреннего монстра «Меня-Никто-Не-Любит», я отправился на его спине в знакомую страну под названием «Забвение». Иногда мне казалось, что лучше остаться там навсегда и никогда больше не возвращаться в Медину.
Когда-нибудь, я так и сделаю.
Интерлюдия: Канга
Люди выбирают тотемы по духу. Иногда растят дух по тотему. Иногда меняют тотем.
Тотемы выбирают людей редко. Духи ещё реже.
И то, и другое – к счастью.
Шаман КангаШаман Канга парит в вышине подобно орлу и наблюдает за Мединой, выискивая ту дичь, которую ему обещали духи для последней охоты. За все эти годы никого похожего не появлялось, и чтобы не растерять навыков, Канга порой бросается вниз с высоты, дабы припугнуть зазевавшуюся душу и вновь взмыть в небо.
Иной раз удержать себя оказывается необычайно трудно, а потому Канга вцепляется острыми когтями в чужой дух. Медленно-медленно приходится разжимать их, чтобы не ранить того, кто привлёк внимание шамана.
В другие разы он не атакует, но преследует. Позволяет какому-нибудь духу угнать себя в дорогу странствий. Посмотреть чужими глазами, послушать чужими ушами, побыть чужим…
Когда ты уже много лет шаман Канга, то побыть кем-то другим – небывалое удовольствие. Настолько небывалое, что постоянно приходится себя одёргивать. Ведь можно поселиться в чужом теле, вытеснить чужой дух или поглотить его. Тогда старое тело останется гнить в старом доме, а на новом месте предстоит прожить новую жизнь.
Канга не поступает подобным образом по причинам, которые лежат далеко от этики или морали. Просто чужие судьбы, попадающиеся во время странствий, слишком мелкие. Ни один из увиденных путей не может сравняться с его собственным.
Шаман так долго идёт этой дорогой и так долго ждёт нужного момента, что заставить бросить привычный путь может только нечто поистине невероятное.
* * *
С призрачной охоты шамана возвращает требовательный зов, сильней которого Канга ещё не слышал. Разве что в тот раз, когда духи призвали его и отправили в этот треклятый город. Но тогда всё было иначе – чистый свет, красивые слова, долгое прощание.
Сейчас в зове ясно слышится тревога.
Открыв глаза, Канга некоторое время смотрит в одну точку. Ему требуется время, чтобы полностью вернуться в тело. Постепенно шаман начинает видеть обстановку вокруг, а дыхание становится глубоким и ровным. Взгляд отрывается от начертанного на кирпиче знака возвращения (завитушка, похожая на спираль) и принимается блуждать по комнате.
Песок, пыль, следы запустения – спутники того, кто давно не обращает внимания на реальный мир.
«Канга уже пора отправляться. Канга всё ещё здесь, – думает шаман с неудовлетворением. – Духи обещали Канга подвиг. Прошло больше десяти лет. Канга ютится в маленькой конуре. Канга покрывается пылью. Духи неплохо посмеялись».
Между этим брюзжанием и резким уколом в сердце проходит не более секунды. Духи напоминают, что шаман предпочитает больше времени проводить, блуждая призраком, нежели дожидаться шанса совершить подвиг.
– Канга всё знает. Успокойтесь! – фыркает шаман.
Он поднимается с колен, чувствуя, как прекрасно повинуются мышцы. У путешествия в мир духов имеется побочный тонизирующий эффект. Стоит провести там пару дней, как ты ощущаешь себя на пару десятков лет моложе. Это длится не более трёх-четырёх часов, но даже эти часы радуют Канга, чьё тело давно уже перешагнуло рубеж старости.
И всё же, несмотря на приятные ощущения и лёгкость, Канга вспоминает про тревожный зов. Вздохнув, он отстёгивает с пояса маленький холщовый мешочек – содержимое глухо ударяется друг о друга. Шаман улыбается и подходит к окну, половина стёкол в котором разбита. Набежавший песок горкой покоится рядом. В отличии от других домов, он не пытается занять здесь всю поверхность, предпочитая шнырять мелкими горстями то тут, то там.
Словно уважает или боится хозяина дома.
Разровняв поверхность, Канга очерчивает пальцем круг, затем отмечает местонахождение сторон света. После, подумав, обозначает траектории движения солнца и луны. Встряхнув содержимое мешочка несколько раз, шаман высыпает в круг зубы, большая часть из которых принадлежит предкам Канга.
Не глядя на результат, старый шаман идёт к холодильнику, берёт там банку тёплого пива – холодильник работает плохо – и возвращается к песчаной картине.
Чёрные зубы лежат на севере. Белые на востоке. Жёлтые возле лунного силуэта. Один из зубов, самый маленький, принадлежавший умершему в младенчестве брату Канга, покоится отдельно от остальных на границе круга.
Задумчиво потрогав его пальцем, шаман опускается на тёплый песок, ложится возле круга на бок и принимается тщательно изучать получившийся рисунок, кивая в такт собственным мыслям и не забывая отпивать из банки.
Когда пиво заканчивается, шаман подбирает зубы по одному и перекидывает их в банку. Закрыв отверстие ладонью, он встряхивает, наслаждается прозвучавшим звуком, пробует сыграть простой ритм, ещё раз кивает и опять высыпает зубы в круг.
За исключением крохотных, не больше пары миллиметров, сдвигов – картина получается той же самой.
– Плохая судьба, – вздыхает шаман, сминая алюминиевую банку до маленького блинчика.
Затем он вновь собирает зубы и прячет их в мешочек, пристегнув его обратно к поясу. Поднимается и подходит к холодильнику – там есть ещё пара банок.
– Канга расскажет плохие вести мальчику, – говорит шаман, вскрывая первую банку и слушая, как шуршит пена. – Только надо узнать больше.
Зов духов тревожен, но не предполагает мгновенного действия. В сущности, духи вообще ничего не требуют, а только лишь спрашивают с тебя, когда наступает их время.
* * *
За окном день двигается навстречу ночи. Канга успел уйти в очередное путешествие в мир духов и вернуться из него. В этот раз шаман искал кое-что определённое и нашёл это. Судьба ещё одного мальчика оказалась тесно переплетена с той, которая любопытна Канга. С той, которую шаман когда-то изменил.
Канга вспоминает об этом и ухмыляется. Допивая уже пятую банку пива, он размышляет о двух вещах: необходимость пополнить запасы и необратимость судьбы.
С судьбой проще.
Она подступает, хватает тебя за горло и ведёт туда, куда ей вздумается. Так и произойдёт с самим Канга, так и произойдёт с мальчиком.
«Канга один раз обманул судьбу», – думает шаман и улыбается этому приятному воспоминанию. Отсалютовав солнцу банкой, Канга мысленно возвращается к тому времени, когда он сумел обхитрить всех. И соплеменников, которые в нём разуверились; и молодого ученика, который вздумал занять его место; и матёрого льва, который охранял дорогу духов.
Сейчас не стоит и пробовать обманывать судьбу. Канга отлично понимает, что уже далеко не тот, кем прибыл в этот город. Размеренная жизнь не идёт на пользу тому, кто привык выживать. Да и изменять проще чужие судьбы, а не свою.
– Канга расскажет мальчику, – шепчет шаман, вытряхивая на песок последние капли пива из банки. – А тот сам решит. Миссия Канга закончится. Дальше ждать подвига.
Несмотря на то, что духи уже давно обещали ему великих свершений, Канга подсознательно давно привык к мысли, что единственным его подвигом будет достойная смерть.
Вновь вспомнив об этом, шаман возвращается мыслями к пиву. Запасы заканчиваются, а денег, разумеется, у старика нет. Раньше он торговал амулетами, но дела шли плохо. Пожалуй, сейчас лучше заняться предсказанием будущего или смастерить себе новый инструмент.
Старый пришлось выкинуть много лет назад, сразу после того, как они с мальчиком заглянули в его мир.
– Канга расскажет мальчику, – повторяет шаман и начинает собираться.
Глава IV
На улице светило солнце.
Это всё, что я видел со своего спального места, представлявшего собой два сдвинутых стула. Ноги затекли, голова привычно гудела, а где-то в груди жила пустота. Я помнил все события сегодняшнего утра – они отпечатались в мозгу столь отчётливо, будто я пил не спиртное, а некий эликсир для улучшения памяти.
Во рту было так же сухо, как и на улице. Вдобавок, я ощущал на зубах крошечные песчинки. «Если Медина ощущает себя так же, то я не удивлён, что здесь постоянно дует ветер. Должно быть, таким образом город пытается унять сводящий с ума зуд», – подумал я.
Cкинув с себя плащ (мой собственный), я попытался подняться. Получилось с трудом, так что я предпочёл скомкать плащ и подоткнуть его под голову. Едва я закончил, как в кабинет кто-то вошёл. Поскольку дверь была за спиной, а повернуться мне не хватало сил, я предпочёл представить, что это Шустер. В пользу данной версии говорило деликатное молчание вошедшего.
Молчание длилось с минуту или около того, а после я всё же ухватился за спинку стула и рывком поднял себя вверх. В голове зашумело сильнее, перед глазами всё поплыло, но, поморщившись, мне удалось совладать с приступом. Это не повод для гордости, конечно, однако у меня имелась большая практика в подобных пробуждениях.
Единственным отличием оказалось то, что меня совсем не тошнило.
– Рад, что ты жив, – раздался за спиной голос Шустера.
– Песок шуршит, тихо-тихо, – пробурчал я.
Шутка не нравилась мне самому, но не хотелось начинать с извинений или оправданий.
– Смешно. Полагаю, у тебя тоже между ног пустовато?
Настал тот момент, когда следовало повернуться. Это было мучительно, и процесс растянулся на несколько секунд, но всё же у меня получилось.
Шустер, вопреки ожиданиям, не улыбался. Скорее, он выглядел растерянным. Более точно мешали определить зеркальные стёкла очков.
– Повтори, – попросил я.
– Лучше просто расскажу, – Шустер прошёл и сел на край стола, заслужив мой признательный взгляд. Теперь не приходилось задирать голову и можно было откинуться на спинку стула. – В общем, через час после того, как ты выразил желание поспать, а я вспомнил о своём дружеском долге и притащил тебя в участок, позвонил Крюгер. Наш медик, как ты знаешь, обычно спокоен и невозмутим и лишь бурчит что-то себе под нос. Однако в этот раз я уже по голосу понял, что он столкнулся с чем-то таким, что никак не может его отпустить. После его рассказа голос изменился и у меня, так что пришлось самому съездить и убедиться, что у Крюгера не случилось внезапного помутнения сознания. Оказалось – не случилось. А если и случилось, то у нас обоих. Не думал, что после Дока меня что-то ещё способно удивить.
– И что же это было? Я сейчас не в форме и предпочту обойтись без загадок.
– Расслабься. От загадок всё равно никуда не деться. Парень, который убил Дока, на самом деле не парень. Впрочем, и не женщина. Это бесполое «оно». Под слоем кожи, которая на ощупь больше напоминает резину, мы обнаружили, что наш лысый гигант попросту наполнен глиной. А вот на том месте, где у него должен быть член, есть лишь странный символ, который ни я, ни Крюгер никогда не видели.
– Голем, – пробормотал я и потёр виски, прикрыв глаза. – Големы – искусственные люди, которых делают из глины. Где я про это слышал?
– Подозреваю, что от Рабби. Големы – это одно из орудий адептов каббалы. Понимаешь, к чему я клоню? Рабби Шимон обладал необходимыми знаниями, чтобы сделать такого голема. Более того, я поговорил с парой человек, и один из них рассказал мне, что больше двадцати лет назад Рабби пытался с помощью големов проникнуть в тайны Медины. Рассказчик в подробности не вдавался, да и вообще, как показалось, предпочёл бы не вспоминать тот вечер, однако что-то заставляет меня думать, что он не сочинил эту историю.
– Рабби убил Дока? – я помотал головой. – Что-то не сходится. Письмо указывает в том числе и на него, но что-то не сходится.
Шустер вздохнул и встал, затем подошёл ближе, присел на корточки и заглянул мне в глаза. От неожиданного соседства собственного лица, которое посмотрело на меня из зеркальных очков, я чуть отклонился назад.
– Любо, я тебя должен кое о чём спросить, – голос Шустера лился спокойно и мягко, как обычно бывало, когда он готовился к короткой и быстрой словесной атаке.
– Спрашивай, – буркнул я. – Только я тебя и оттуда слышал.
– Хорошо. Спрашиваю. Перескажи мне свой последний разговор с Шимоном.
– Он говорил, что письмо Дока не имеет больше никакого значения; что город стал слишком опасен; что ему нужно срочно отсюда сваливать; что лучше не трогать песок, а просто жить. Что-то ещё про то, что он старый и больной человек. Мне показалось это подозрительным, так что я вызвал патрульных, когда был у Легбы. Они должны были приглядеть за Рабби, если он попытается смыться…
Пока я это говорил, то понял, что Шустер, безусловно, знал, где искать Рабби. И наверняка уже успел бы с ним поговорить, если только…
Если только этот сукин сын не сбежал! Надо было мне остаться с ним… хотя при таком раскладе я вполне мог не встретиться с Легбой, не передать ей фотографию, не дождаться ответного жеста любезности с приглашением посетить бар и посмотреть на убийцу…
От подобных рассуждений голова разболелась ещё сильней.
– Ясно, – Шустер встал. – Спасибо, Любо.
– Рабби сбежал?
– Да, вчера патруль не обнаружил его в комнате. Сразу объявили в розыск, но ты понимаешь, что и без того дел хватало. Особенно, когда наш бесполый убийца сбежал. А дальше, в тот самый момент, когда мы были в баре, самолёт с Рабби Шимоном на борту при взлёте не сумел набрать высоту, клюнул носом и упал. Помнишь грохот, раздавшийся в тот момент?
Я неуверенно пожал плечами, но Шустер кивнул – скорее собственным мыслям, а не моему жесту.
– Да, крушение самолёта, – продолжил он. – Говорят, песок забился в турбины. Как бы там ни было, но Рабби Шимон ныне мёртв. И я не могу утверждать точно, а лишь догадываюсь, что нелепая смерть голема произошла в тот самый момент, когда умер и сам Рабби. Смекаешь?
– Пока нет, – мой голос звучал глухо. – Сейчас я попрошу тебя найти мне какой-нибудь еды и стакан с водой, а пока ты ищешь, я умоюсь и попробую заткнуть стрекотание цикад в своей голове. А вот уже после постараюсь понять.
Встав, я двинулся к дверям. Мир был слегка иллюзорен, но, к счастью, не делал попыток перевернуться с ног на голову. Спасибо ему на этом. Я и без того от произошедших за последние дни событий потерял ощущение реальности.
Уже на выходе меня догнал вопрос Шустера:
– Стакан с водой, Любо?
– Да, – я понял, что его так изумило. – Сегодня, как мне кажется, с меня хватит.
Всё ещё улыбаясь из-за того, что удалось изумить Шустера, я прошёл в туалет, поплескал в лицо прохладной водой, а затем посмотрел в покрытое мутными потёками зеркало – обычно его протирал Бобби Ти, но последний раз, судя по всему, случился очень давно.
«Док мёртв, – подумал я. – Теперь умер и Рабби. По логике, следующими должны стать Легба или Рюманов, но мне почему-то кажется, что так не будет. И ещё мне кажется, что Шимон не убивал Дока. Они были чем-то похожи. Может быть, как раз эта похожесть и стала причиной их смерти».
Я пустил холодную воду большим напором, засунул голову в раковину, слегка извернувшись, чтобы не задеть кран. Минут пять, пока не закололо в висках, я старался думать лишь о том, чтобы случайно не уснуть и не захлебнуться.
Это была бы ещё более нелепая смерть, чем та, которая приняла в свои объятья лесоруба-голема.
* * *
Через полчаса, съев пару огромных бутербродов с консервированным тунцом в листьях салата (Шустер заявил, что отобрал их у Бобби Ти), я был в относительном порядке.
– Что у нас есть? спросил я.
Шустер достал листок бумаги и вывел на нём заглавную «Д». Затем обвёл её в кружок и зачеркнул. После нарисовал от «Д» три стрелочки к трём другим буквам «Б», «Л» и «Р». Затем обвёл «Р» кружком и зачеркнул. Нарисовал в стороне заглавную «Г», обвёл, зачеркнул и протянул от неё две стрелки. Одну к «Д», а вторую к «Р», сопроводив последнюю знаком вопроса.
– Вот что-то такое мы имеем, правильно? – Шустер поднял глаза. – Только это и ничего больше.
– Нет, не правильно.
Я отобрал листок и нарисовал ещё отдельно стоящую букву «Ч», от которой протянул стрелку к «Д». Затем, подумав, поставил небольшую «Б» и подчеркнул.
– «Ч» – это чёрный песок, как я понимаю, а «Б»?
– Бумаги Дока. В них что-то должно быть.
– Поверь мне, я просматривал их. Ничего из того, что могло бы дать зацепку. Больше похоже на мемуары.
– Из мемуаров обычно легко понять отношения с другими людьми.
– Не в этом случае. Впрочем, если хочешь, просмотри их пока. Мне как раз надо заняться этим «Ч». Мы перевезли весь найденный чёрный песок с вокзала в хранилище к криминалистам. Не могу утверждать, что всё до последней крупинки, но ребята очень старались. И сейчас возле хранилища вертится парочка неприятных типов из тех, что готовы на всё за большие деньги. Не мешало бы их проверить.
– Хорошо, тогда так и поступим. Где сейчас бумаги дока?
– В моём кабинете, в сейфе. Код ты знаешь.
Я кивнул и потянулся. Вопреки деловому настрою, в голове, по большей части, мелькали мысли о том, что не мешает взять у Бобби Ти ещё парочку бутербродов. Или отправить толстяка за более изысканным ужином.
Умственная работа необычайно способствовала здоровому аппетиту.
* * *
Бумаги Дока действительно содержали мало интересного. Вернее, интересного в них было много. Попади они к какому-нибудь историку Медины (я не знал ни одного, но это не мешало им существовать), тот, возможно, и действительно мог убить за такой богатый материал. Однако, что касается эпизода с убийством самого Дока, удалось вычленить лишь кое-какие намёки. Для этого пришлось внимательным взглядом проредить многочисленные загадочные заметки и опустить короткие, но ёмкие размышления о жизни Медины.
Я вернулся в свой кабинет за листком со схемой, которую мы начертили с Шустером, а затем отправился обратно. Навстречу попался Бобби Ти. У него было такое задумчивое лицо, словно перед толстяком разом открылись все тайны мироздания и только и ждут, когда же он к ним прикоснётся. Однако при всём этом Бобби опять работал челюстями – грыз ноготь.
Завидев меня, Бобби выдернул палец изо рта, переменился в лице и постарался прошмыгнуть на своё место. Я проигнорировал его и, вернувшись к бумагам, сделал на листке со схемой несколько дописок.
Поставил рядом с зачёркнутой «Д» вопрос и подписал: «Что есть Медина?»
Затем подписал точно такой же вопрос рядом с зачёркнутой «Р».
После, откинувшись на спинку и покачивая в руке карандаш, я некоторое время просто сидел, почти физически ощущая, как в голове холостым ходом проворачивается механизм, которому не хватало лишь какой-то одной шестерёнки, чтобы заработать в полную силу.
Поразмышляв, я поставил ещё по знаку вопроса рядом с «Л» и «Б». Я чувствовал, что и эти вопросы были связаны с Мединой. Док и три человека, которым он написал письма, были объединены идеей фикс покорить этот город. И если для Дока и Рабби это означало «познать», то вряд ли Легба и Барон жаждали всего лишь раскрыть тайну.
Последнюю дописку я сделал по наитию. Уже убрав бумаги Дока назад в сейф, я вернулся и дописал к чёрному песку – «противовес».
Если рассматривать его как антиматерию для песка Медины, то выходило, что Док всё же смог приблизиться к ответу. Зашёл с другой стороны, создав нечто такое, что было настолько «не-Медина», что простым убиранием «не» можно было подобрать нужный шифр.
«Но кто-то убрал Дока раньше. Не Медина же это сделала, в самом деле?» – я попробовал ухмыльнуться, но понял, что у меня не получается. Исключая вопрос «как именно», я уже вплотную подошёл к тому, чтобы поверить и в такое развитие событий.
* * *
Шустер просочился в кабинет, бесшумно открыв и закрыв дверь, а затем уселся напротив меня и поправил очки. Я машинально отметил, что пальцы у него дрожат, но ничего не спросил.
– Пока всё чисто, – сказал Шустер. – Типчики продолжают вертеться поблизости, но ничего не предпринимают. Можно взять их, повод всегда найдётся, но тогда пришлют новых. Не ясно, как быстро мы их опознаем. К тому же, можем ещё и спровоцировать ненароком, если смекнут, что мы знаем о слежке.
– Кто смекнёт?
– Легба и Барон. А может не «и», а «или». Больше-то некому. Сомневаюсь, что в эту игру вмешается кто-то ещё. Мы с тобой сидим тут, расхлёбываем дерьмо и мучаемся в догадках, а возможно где-то рядом прячется главный приз.
Шустер шумно потянул носом, а потом вдруг словно заскулил жалобно. Я никогда ещё не видел его таким. Детектив Крополь явно был не в себе, а потому, презрев все договоры, я спросил напрямую:
– Что случилось, Шустер?
– Херня. Всё херня. Забудь. Кажется, у меня начинается депрессия. Наверное, ты виноват, что до сих пор трезвый. Возможно, стоит напиться мне, чтобы восстановить равновесие. Должен же быть в полиции Медины хоть один алкаш.
На последней фразе Шустер всхлипнул, но тут же закрыл лицо руками и несколько раз вздохнул через паузу. Минутой спустя он вновь сидел передо мной с обычной невозмутимостью.
– Прости, Любо, нервы. Я не хотел тебя обидеть.
– Ты сказал то, что сказал. Ещё вчера я бы набил тебе морду, но сегодня, пожалуй, ограничусь тем, что пошлю подальше.
– Ты чрезвычайно добр, – Шустер хмыкнул. Хорошее настроение постепенно возвращалось к нему. – Что-нибудь откопал?
– Ничего существенного. Ты прав, бумаги Дока не кладезь знаний. Хочу теперь прогуляться до комнатки Рабби.
– Ребята вывезли оттуда всё, так что можешь никуда не идти, а просто заглянуть на склад.
– И всё же схожу.
– Как пожелаешь. Подбросить? – Шустер усмехнулся. – Давно я тебя не катал на своей малышке.
– Не сегодня. Ты же знаешь, что я не доверяю твоему автомобилю. В любой момент он может превратиться в дьявола… или какие там про него ходят слухи?
– Какие только не ходят, – Крополь усмехнулся, но криво. – Ладно, прогуляйся, Любо, если хочешь. Я останусь здесь и буду ждать результатов анализа по чёрному песку. Эксперты клянутся, что им осталось совсем чуть-чуть, но тоже самое они говорили вчера.
– Да, – я кивнул и натянул маску. – Я бы тоже очень хотел знать, что это за штука.
* * *
То, что я собирался найти в комнате Рабби не было чем-то определённым. Возможно, знаки на стенах, полу, в коридоре или просто выцарапанные на подоконнике. Что-то должно было остаться. Какая-нибудь старая и вроде бы никому не нужная тайна.
Как поезд Дока, застывший на перроне вокзала.
Или как его бумаги-мемуары. Кое-что всё-таки было в них, о чём я решил пока не сообщать Шустеру, боясь, что он меня высмеет. Была одна общая черта, встречавшаяся из раза в раз, почти на каждой странице – у каждого здесь есть секрет. Свой вопрос, на который требуется получить ответ. Не скелет в шкафу, хотя и последних хватало, а именно цель жизни, которая исподволь управляла всеми действиями человека.
По мне, в этом не было ничего удивительного: так и должно быть в мире. Однако Док считал, что вопрос каждого жителя Медины лежал в плоскости «жизни и смерти». Сознание, которое определяло бытие и тем самым изменяло мир.
Насчёт последнего у меня были сомнения, но я решил попридержать их пока. Как я уже говорил, живя в городе, где каждый день творятся проповеди с балаганными чудесами, легко забыть, что всё это может быть лишь прикрытием. Мне уже доводилось сталкиваться со странностями, которые невозможно было объяснить рационально.
Я и не объяснял. Просто забывал и старался не тревожить те участки памяти. И без того забот хватало, как мне тогда казалось.
Теперь пришла очередь пожалеть о том опрометчивом решении.
«А ты сам? – спросил Томаш, о котором я уже начал подзабывать, – В какую игру играешь ты? В князя, копящего войска, чтобы вернуться с огнём и мечом? Вряд ли. В крутого детектива, повергающего бандитов в трепет? Возможно. В заплутавшего в темноте человека, которого ложные огни манят в разные стороны? Куда как вероятней».
Ветер продолжал сдерживать меня, усиливая напор. Через какое-то время пришлось чуть нагнуться вперёд. Буря усилилась, хотя ещё минуту назад было относительное затишье. Такие моменты в Медине нельзя предсказать, но я чувствовал, что сейчас это неспроста.
В последнее время всё происходило неспроста.
* * *
Когда я добрался до комнаты Рабби, то застал там пожилую китаянку. Склонившись, она мыла пол, собирая грязную воду драной тряпкой и выжимая в оцинкованное ведро. Повсюду поблёскивали мелкие крупинки влажного песка, а под панцирной сеткой кровати образовалось что-то вроде развалин песочного замка.
– Детектив Любомир Грабовски, полиция Медины – сказал я. – Хочу ещё раз здесь всё осмотреть.
Китаянка взглянула на значок, затем выжидающе посмотрела на меня, а после пожала плечами и удалилась, оставив тряпку досыхать на ведре. Я слышал шаги женщины по старой скрипучей лестнице. Они становились всё тише, пока не умолкли окончательно. Только тогда я приступил к осмотру.
Внимательно изучив подсыхающий пол и прощупав стены, я признал, что затея «найти что-то» чересчур отдаёт оптимизмом. Рабби наверняка был осторожен и предполагал, что комната будет первым местом, где начнут искать его секреты. Что же касается «нечто неощутимого, какой-то атмосферы», то в помещении пахло мокрой тряпкой и влажным песком.
Я почувствовал смутное движение за спиной и обернулся. Китаянка вернулась и, склонив голову, смотрела на меня, почти не моргая. Я поёжился. Так как раз могли разглядывать потенциальную жертву стервятники.
«Интересно, какой вопрос привёл её в этот город?» – прошептал Томаш и хихикнул.
Я же сунул руки в карманы плаща и нащупал фотографию голема-лесоруба. Повинуясь наитию, я вынул карточку и протянул женщине.
– Видели этого человека?
Взгляд китаянки изменился. Глаза расширились, она прижала руку к груди и с ненавистью и затаённым страхом с минуту смотрела на фотографию. Затем женщина неожиданно плюнула на изображение убийцы. Сеть мелких пенистых пятен украсила физиономию голема.
– Как вы сказали, вас зовут? – спросила китаянка. Вроде бы понятная фраза прозвучала как птичья трель.
– Любомир Грабовски.
– Пойдёмте, он сказал, что вы придёте и вам можно рассказать всё.
«Он – это Рабби, стало быть», – подумал я и одновременно с тем задался вопросом, почему женщина не рассказала мне всё сразу. Видно, нужен был свой ключ к этой тайне. Некий правильный вопрос.
Я двинулся за китаянкой вниз по ступеням. На второй этаж, на первый и ещё дальше – по маленькой крутой лестнице в подвал.
Там по всей длине широкого коридора свисали, словно гирлянды, мелкие лампочки, соединённые тонким проводом. Видимо, слишком тонким для такой нагрузки – я заметил множество заплат-скруток, сделанных синей изолентой.
Китаянка провела меня до самого конца коридора, а затем принялась возиться с огромной связкой ключей. Звук был такой, словно ветер звенел колокольчиками. Я едва не впал в подобие транса от этой мелодии. Во всяком случае, не сразу заметил, что замок уже открыли.
Это оказалось именно тем, что я собирался найти, отправляясь к Рабби.
Маленький зал, не больше чем три метра в диаметре, все стены которого были испещрены вязью неизвестных символов. В центре, в пересечении нескольких старательно проведённых по полу геометрических фигур, стоял стол, накрытый простынёй. Я подошёл ближе, потянулся и услышал позади предостерегающий шёпот, похожий на заглушённый крик. Слов я не разобрал, но сомневался, что понял бы их – женщина говорила на китайском.
Подняв простынь, я обнаружил под ней ровную поверхность стола, покрытую очередной порцией символов на неизвестном наречии, словно кто-то использовал дерево в качестве страницы из записной книжки. Прикоснувшись к буквам, я отметил, что они выжжены в поверхности. Водить по вязи символов было приятно даже сквозь перчатку. Я остановил себя, только услышав ещё один предостерегающий вздох. Отдёрнул руку и повернулся к китаянке.
– Он лежал здесь, – сказала она. – Шимон запрещал мне сюда заходить, но я всё равно заглядывала. Простое любопытство и желание подсмотреть чужой секрет. Я видела, как стены и пол покрывались рисунками день за днём. Потом появился стол, а чуть позже – голый человек. Когда я впервые увидела его, то подумала, что это труп или спящий, но потом присмотрелась и поняла, что это не могло быть человеком. У него вот здесь, – она потрясла связкой ключей, которая висела у неё между ног, – ничего не было, понимаете?.. Я убежала тогда. Зареклась заходить сюда. Подумала, что Шимон решил таким образом меня испугать. Мне показалось, что в следующий раз этот не-человек, будет стоять прямо за дверью. Месяц тут не появлялась, – китаянка вздохнула. – А потом любопытство победило страх, я спустилась, готовая убежать, если услышу хоть один подозрительный звук. Подошла к двери, открыла и была готова захлопнуть, едва в маленькой щёлке, которую я для себя сделала, мелькнёт хотя бы тень от мошки. Но никого не было. Пустая комната, только накрытый простынёй стол.
– Когда это было? – спросил я. – Когда вы впервые увидели это… существо и когда вернулись, а его уже не было?
– Первый раз – почти два месяца назад. Второй – где-то с неделю. Я думала, что Шимон избавился от этого… существа, – китаянка повторила мои интонации в точности. – А потом Шимон собирается уходить и говорит мне, что я могу всё рассказать Любомиру Грабовски, если он придёт и будет задавать вопросы. А затем приходите вы, и спрашиваете.
Китаянка всхлипнула, коротко и резко, однако я отметил, что глаза у неё сухие.
– Сюда ещё придут. Мои коллеги. Осмотрят, сфотографируют, запротоколируют и вновь зададут вам неприятные вопросы. Возможно, ещё неприятней, чем те, которые задал я. Постарайтесь на них ответить.
Китаянка кивнула и отвернулась. У меня было ощущение, что она больше не произнесёт ни слова, как будто на сегодня лимит исчерпан.
Я прошёл мимо женщины, оставив её в тесной комнатёнке, а сам двинулся к выходу. Мне не было дело до того, кем китаянка приходилась Рабби – любовницей, просто служанкой или кем-то ещё. Сейчас было важно то, что она оказалась в нужное время в нужном месте, а это значило, что я напал на след.
И в благодарность за это, я не стал спрашивать у китаянки, знает ли она о смерти Рабби Шимона. Мне не хотелось оказаться тем человеком, который принесёт ей эту весть.
* * *
В моей собственной квартире меня ждали. С посетителем я встречался до того раза два в жизни. Первая встреча была во многом чудесна, но она имела столь дрянной привкус, так что во второй раз я попросту постарался пройти мимо незамеченным.
– Здравствуй, Канга, – устало сказал я. – Чего тебе?
Человек с огромным посохом (ветвь чёрного дерева, раздваивающаяся к концу и увешанная множеством «бренчалок») сидел на моей кровати и пил пиво из банки.
«Где он берёт его постоянно? – подумал я. – Может, у него какая-то волшебная нескончаемая банка?»
– Канга пришёл, – сообщил шаман. – Канга будет говорить. Духи хотят. Канга хочет. Надо сказать.
– Ну раз надо, то говори. Раз даже духи хотят…
Я обречённо вздохнул и понадеялся, что Канга быстро закончит. Очень хотелось выспаться после такого тяжёлого дня. К тому же, если память мне не изменяла, в прошлый раз духи были «против». Возможно, если они «за», то я услышу что-то стоящее. Может быть, какая-то зацепка, которой мне так не хватает, а не очередной сеанс погружения в свой внутренний мир – этого мне в последнее время хватало.
Я не кривил душой в тот момент. Странная ситуация, которая произошла в Медине, старое-новое воспоминание, что меня окружают довольно странные люди (я просто к ним привык) – всё это подсказывало, что распутать дело без подобной же странной помощи не представлялось возможным.
– Зло вырвалось на свободу, – сообщил Канга. – Страшное зло. Древнее зло. Канга видел. Там, где жил Док.
– Вокзал? – я настороженно посмотрел на шамана. – Что ещё за зло?
– Чёрный дух. Страшный дух. Пропитан смертью.
– Он как-нибудь связан с чёрным песком?
Канга замер на секунду, пожевал нижнюю губу, пробурчал что-то под нос неразборчиво, а затем положил посох на кровать.
«Кто его знает, где он его держал до этого? – подумал я. – А ведь только-только навёл дома порядок. Надо будет поменять постельное бельё».
Правда, следом я вспомнил, что всё остальное бельё лежит комом в кладовке, в ожидании, пока я донесу его до прачечной. В жизни полицейского так мало времени, которое можно уделить простым мелочам быта.
«Надо завести женщину, хотя бы домработницу», – мрачно посоветовал я самому себе.
Шаман тем временем снял с пояса кожаный мешочек и высыпал его содержимое на покрывало. Внутри мешка оказались зубы, и Канга склонился над ними изучая получившийся рисунок.
Мне захотелось послать шамана куда подальше вместе с зубами и посохом. И плевать, что в возможностях этого человека – по крайней мере в каких-то – я не сомневался.
Однако Канга, не оборачиваясь ко мне, поднял руку в предостерегающем жесте.
– Связан с песком, – наконец заключил он. – Чёрный песок и чёрный дух – суть одно. Состояния разные.
– Это всё?
Я решил, что с этой информацией разберусь как-нибудь позже. К тому же, наличие некоего чёрного духа никак не могло помочь. За ними полиция пока охотиться не научилась. Это куда больше подошло бы тому же Канга. Или Легбе с Бароном. Надо будет поинтересоваться у них при встрече.
От последней мысли я повеселел. Даже испарилась злость на шамана за внезапный визит.
– Всё, – сказал тот, поднимаясь. – Канга предупредил. Злой дух на свободе.
– Зло всегда на свободе, – сказал я. – Мы его сажаем, сажаем, а оно не переводится. Было бы куда лучше, если бы с ним боролись не только мы.
– Грабовски не понимает, – Канга покачал головой. – Надо прояснить. Надо показать. Смотри.
И хотя я успел отшатнуться, шаман довольно ловко поймал меня за плащ одной рукой, а второй ткнул посохом в лицо, едва не выколов глаза. Бубенцы звякнули, я инстинктивно зажмурился, а после почувствовал, как раздвоенный конец палки ткнулся мне в надбровные дуги.
И видения полились потоком.
Интерлюдия: Мерк
Дети вообще мало чего боятся, но дети Медины, как мне кажется, не боятся ничего.
В этом суровом крае наука выживания преподаётся с самого рождения.
Лесли «Док» СандерсХотя Мерк не собирался возвращаться, но вот он вновь стоит у вокзала.
Деньги, полученные от детектива, лежат в поясном ремне вместе с остальными накоплениями. Банкноты собраны в одном кармане, а монетки рассортированы по разным, чтобы не стучали друг об друга. Мерк всегда носит все деньги с собой. Дома оставлять слишком боязно – кто его знает, кто их там найдёт.
На самом деле мальчик знает, кто может их там найти, но ему не хватает смелости, чтобы признаться в этом самому себе.
Мерк сглатывает ком, застрявший в горле, и пытается подумать о чём-нибудь другом. Как назло, другие мысли тоже не из приятных. И зачем он только проболтался детективу про вездеход? Наверняка тот подумал, что это глупая шутка или мечта, которой не суждено стать реальностью. Грабовски похож на человека, разбирающегося в подобных мечтах…
Но всё-таки детектив ничего не сказал. Может, не желал расстраивать?
Мерк трясёт головой, выгоняя размышления прочь. Сейчас на них нет времени. Нужно проникнуть на вокзал. Пусть ночью тут побывали люди Барона, Легбы и много кто ещё, но что-то могло остаться. То, что не подошло остальным. Или то, что они упустили из виду.
Преодолев робость, которая больше похожа на страх, мальчик скользит к входу. Глубоко вздохнув, он быстро заглядывает внутрь и тут же отшатывается, прижимаясь к тёплому кирпичу здания.
Внутри вокзала только песок.
Привычная картина – кого в Медине можно удивить песком? – придаёт решимости, и Мерк заходит внутрь.
Аккуратно ступая особым, шаркающим шагом, которому его научили приятели, мальчик движется вперёд, тут же заметая собственные следы. Всего пара часов, и ветер сам справится с этим, но вдруг за это время на вокзале побывает ещё кто-то?
Может быть, он пожалует прямо сейчас…
Мерк быстро минует пустынные коридоры. Тёмные углы страшат его. Вдобавок, возникает ощущение постороннего взгляда, который тянется к мальчику со всех сторон сразу.
Это взгляд слишком чужой даже для Медины, где все чужие друг другу.
В помещении, которое, должно быть, служило Доку кабинетом, Мерк ненадолго останавливается. Во-первых, свет, льющийся из окна, разгоняет вокзальный сумрак, потому ощущение чужого взгляда стихает. Во-вторых, Мерк надеется отыскать здесь что-нибудь стоящее.
Первоначально внимание мальчика привлекают крупинки чёрного песка, разбросанные тут и там. Он берёт одну, катает на ладони, но не ощущает ничего. Песок вполне обычен, исключая цвет. Вряд ли это может что-нибудь стоить. Чего-чего, а песка в Медине хватает.
Мерк отбрасывает чёрную песчинку в сторону, не замечая, как перед её приземлением обычный песок Медины отступает, обнажая пол.
Затем взгляд обращается к пустым книжным полкам – наверняка их содержимое растащили, но что если где-то спрятан тайный ящик? Мерк тщательно прощупывает ссохшееся дерево, нажимая на каждое лаковое пятно, которое кажется ему секретной кнопкой.
Как и прежде, с песчинкой, Мерк не находит ничего и быстро разочаровывается. Даже не ищет способа дотянуться до верхних полок.
Надежды мальчика найти что-то интересное таят с каждой секундой. «Глупо было думать, что тут не всё обшарили», – хмурится Мерк и с досады пинает стол Дока. Получается не сильно, но чувствительно – тонкая прохудившаяся кожа сапог почти не смягчает удара, и мальчик болезненно морщится.
Он двигается к выходу, но не сворачивает налево, чтобы вернуться на улицу, а направляется вправо. Старые, ещё различимые следы ведут в ту сторону.
«Детектив, – Мерк чувствует, что сердце забилось быстрее. – Он туда ходил, и я схожу».
Мальчик выходит на перрон. Мерка, в отличие от Грабовски, вид поезда не пугает, а восхищает. Подобные штуки он раньше видел только на картинках или в кинофильмах. Без сомнения, один только поезд стоит посещения вокзала.
Все страхи отступают. Мерк уже предвкушает, как будет рассказывать приятелям о поезде. Возможно, ему не поверят, но в таком случае всегда можно предложить друзьям прогуляться сюда вместе. И лучше всего ночью, чтобы проверить, у кого хватит храбрости.
Подойдя к поезду, Мерк рассматривает его с восторгом. Чёрные огромные колёса, матовая тёмно-зелёная поверхность корпуса, труба, из которой когда-то шёл дым. Как и все, он слышал эти рассказы, но до сегодняшнего дня не верил ни в один из них.
Мальчик замечает на корпусе локомотива небольшую табличку. Она будто покрыта угольной пылью, но контуры букв можно рассмотреть – кто-то потратил силы и время, чтобы оттереть их.
– Без-вре-мень-е, – по слогам читает Мерк и вздрагивает от раздавшегося лязга.
Прозвучавшее слово запускает скрытый, дремавший до этого времени механизм. Поезд словно вздыхает, а затем начинает дрожать. Сначала это мерное дребезжание, какое бывает у старого холодильника, но постепенно скорость и сила возрастают, и вот уже силуэт поезда становится мутным и неуловимым. Так бывает, когда волны раскалённого воздуха смазывают очертания силуэтов.
Но сегодня не жарко, а просто тепло. К тому же, сам поезд, по ощущениям, остаётся холодным.
«Всегда холодным. Как труп», – понимает Мерк.
Эта мысль возвращает мальчику чувство страха. Он отступает на шаг назад, стараясь не отводить взгляд от поезда. Руки не трясутся, ноги не подкашиваются, но в горле становится сухо, как не было с Мерком никогда, даже в самую страшную жару.
Будто вся жидкость разом уходит через пот.
Сделав ещё пару шагов назад, мальчик спотыкается. Возможно, он бы сумел удержать равновесие, но как раз в этот момент поезд перестаёт вибрировать. Мерк вскрикивает и падает на спину, ударившись копчиком об какой-то выступ. Боль не сильная, но слеза скатывается по щеке.
Пауза в дрожании поезда длится секунды две, не больше. Затем, вздрогнув, поезд исторгает облако чёрного пара из трубы локомотива – словно душа покидает тело. Облако зависает в воздухе идеальным шаром. Постепенно вырисовываются провалы глаз, носа и рта. Мерк смотрит за этим превращением с замиранием сердца.
Когда на призрачном лице появляется улыбка, мальчик вскакивает и бросается бежать, сдерживая подступающий к горлу крик.
Мерк ни разу не оборачивается, а потому не видит, как облако сжимается до размера чёрного плотного шара и взмывает в воздух, чтобы после затеряться в небе над Мединой.
* * *
Позже Мерк гуляет по улицам, стараясь унять страх. Будь он моложе или впечатлительней – ничего бы не получилось. Но сейчас Мерк слишком занят попытками решить, что ему делать дальше, потому события на вокзале вскоре тускнеют и теряют свою силу.
Он по-прежнему о них помнит и, не исключено, вспомнит ещё в какой-нибудь не самый удобный момент, но пока в душе вновь радость от заработанных денег и надежда, что дальше будет не хуже.
Впрочем, несмотря на возраст, Мерк знает, что удачи ходят поодиночке, а вот беды предпочитают резвиться стаями.
«Я заработал больше дневной нормы, но день ещё не закончен», – Мерк заслоняет глаза от палящего солнца и зевает. В животе у мальчика урчит, он морщится, но ещё некоторое время пытается не обращать внимания на голод.
Пройдя пару перекрёстков, предлагает свои услуги чистильщика обуви, носильщика тяжёлых сумок и курьера. Во всех трёх случаях следует отказ – когда вежливый, а когда с криками. Пожав плечами, Мерк понимает, что виной всему жара, которая с возрастом выжигает мозги взрослым. Нормальными оставались только те, кто и без того был странным. Например, тот же детектив Грабовски.
Поразмышляв ещё немного и вспомнив свои впечатления, мальчик решает, что детектив примером для подражания служить не может. Грабовски не похож на человека, у которого водятся деньги, а Мерку надо рассчитывать не только на себя, но и заботиться о матери.
Собственно, из-за этого он и идёт сейчас домой, хотя мог на часть заработанных денег посидеть в прохладе кофейни – посетителей днём мало, а потому никто не будет кричать, что Мерк занимает столик слишком долго со своей одинокой чашкой кофе. Можно даже отправиться в кафе-мороженое и потребовать у Баска несколько разноцветных и – самое главное! – разновкусных шариков.
Однако дома тоже еда и даже плохонький кофе, который Мерк худо-бедно умеет готовить сам. Внутри прохладно – дом продувается всеми ветрами и скрипит, но в нём никогда не царит жара. Можно почитать что-нибудь или в очередной раз подсчитать, сколько осталось накопить на вездеход. В общем, и дома можно провести время с интересом. Самое главное, чтобы там не оказалось матери. Мерк, конечно, её любит, но лучше встретиться с ней вечером, а не сейчас…
Мальчик останавливается. Воспоминание о матери порождает в его душе новую волну сомнений, однако взвесить все плюсы и минусы того или иного пути он не успевает.
Низкий утробный рёв, заставляющий вспомнить тварь с вокзала, прокатывается над Мерком, одновременно накрывая его на долю секунды тенью. Мальчик поднимает голову вверх, озирается и успевает увидеть, как самолёт, кажущийся отсюда игрушечным, утыкается носом в песок вдали от города. Следует взрыв, и, несмотря на расстояние, окна в Медине вздрагивают.
Мерк шумно вздыхает и понимает, что его проблема решена – теперь-то он точно знает, куда надо отправиться, чтобы на этот раз не остаться в стороне.
Глава V
Всегда трудно отследить тот момент, когда слова, которые мы произносим, становятся чем-то большим, чем просто словами.
Ты говоришь, говоришь и говоришь, а сам не веришь, что это когда-то окажется реальностью. Мантра, аутотренинг, пустое сотрясание воздуха по привычке – называйте, как хотите.
Простой секрет состоит в том, что для тебя эти слова так и останутся словами, в то время как другого они могут воодушевить на подвиг. Не всякого, разумеется. И подчас совсем не того, на кого бы ты мог подумать. И узнаешь ты об этом лишь после, когда привычный для тебя человек откроется с новой, неожиданной стороны.
А до тех пор ты просто повторяешь одно и тоже без конца и не замечаешь, как мир меняется вокруг. Ты устал. Борьба со злом для тебя ежедневная рутина. А слова – просто слова, которые мы произносим.
Это были мои последние мысли в тот долгий день, что вместил в себя бездну впечатлений.
* * *
Несмотря на срыв в первый же день, с которого я начал отсчёт новой жизни, во второй я начал утро с зарядки.
Специально не насиловал организм по полной программе – двадцать отжиманий, тридцать приседаний и тридцать же рывков на пресс вкупе с десятиминутным бегом на месте. Тем не менее, этого хватило, чтобы почувствовать себя дурно. «Это всё алкоголь, дружок, – подсказал Томаш. – Алкоголь, плохая еда и мало движений. Ты застоялся и порядком забродил, если позволишь мне этот каламбур».
Если говорить об алкоголе, то Томаш был прав – я постоянно ощущал желание выпить. Оно кололо изнутри и вгрызалось в голову огромным буром, будто некто сверлил скважину, надеясь обнаружить там что-нибудь стоящее.
Тем не менее, я налил в стакан воды, а не что-нибудь ещё. Память, раньше работавшая избирательно, сейчас баловала картинами припрятанных бутылок. Я мигом вспомнил, где находятся все тайники и даже подсчитал сколько там чего. Вполне хватило бы, чтобы устроить небольшую попойку на трёх-четырёх человек.
Я попытался сглотнуть слюну, но в горле пересохло. Выпил ещё воды, но облегчения это не принесло.
«Надо идти в управление, – решил я. – Там у меня всё закончилось, и пить нечего. Сидеть здесь – значит искушать себя».
О том, что «Отвратный день» находится ровно через дорогу, я позабыл. Или же заставил себя позабыть, чтобы не сбежать от всех искушений куда-нибудь в пустыню. Там то уж точно нечего найти.
Наскоро приняв холодный душ, я вышел на улицу. Ветер мигом растрепал ещё мокрые волосы и засыпал их песком. Я попытался поправить причёску, но быстро понял, что это бесполезно.
Стоило сделать не больше сотни шагов, как от энтузиазма не осталось и следа. Меня трясло, мутило, шатало, хотелось пить, болели мышцы, не хватало дыхания – в общем, был самый первый день из той череды неприятных недель или даже месяцев, которые мне предстояло пережить в борьбе с привычкой.
И я уже сейчас ощущал, что борьба эта не будет выиграна никогда. Мне предстоит жить в постоянном контроле. И даже в будущем, когда я смогу позволить себе пропустить стаканчик-другой, нужно будет следить, чтобы стакан ненароком не превратился в бутылку, а я – в того человека, от которого пытаюсь избавиться.
Однако отступать мне претило. Хватило того, что я сделал это один раз, отказавшись от притязаний на трон Словакии. И плевать, что шансов изначально было минимум. Равными нулю их сделал именно я.
От этих мыслей выпить захотелось ещё больше.
* * *
В какой-то момент я оказался на перепутье. Прошагал до управления несколько перекрёстков и застыл на очередном, не в силах выбрать, куда направиться. Зачем я вообще шёл в управление? Что я планировал там увидеть? Бобби Ти в кресле дежурного? Шустера с новостями о чёрном песке? Сообщение об очередном преступлении, которым требовалось заняться прямо сейчас?
Последняя мысль вызвала оторопь. Я вдруг вспомнил (ещё один каприз избирательной памяти), что у меня есть и другие дела. Жизнь детектива Грабовски не ограничивается расследованием убийства Дока, как бы мне того не хотелось. Каждый день в Медине убивают, воруют и насилуют… И если каждый из нас займётся своим любимым делом? На кого в таком случае падёт остальная рутина?
На Бобби Ти? Он и без того занимается как раз тем, от чего остальные отказываются. Может быть, найдётся парочка парней, которые возьмут на себя кражи или что-нибудь попроще. Всегда есть ребята, которые опасаются расследований, где тебя могут убить. Я их не виню, у них есть семьи, в отличие от нас с Шустером. Но вот просто так взять и заняться тем, чем хочется? Шеф этого не позволит.
Однако именно шеф, если верить Бобби Ти, настоял, чтобы я занялся убийством Дока. Сначала туда выехал Шустер и, сказать по правде, одного его хватало за глаза.
«Давай посчитаем это карт-бланшем, – прошептал Томаш. – Хотя бы на сегодняшнее утро. Потом ты придёшь в управление и как честный человек поинтересуешься, не найдётся ли ещё работёнки. Такой вариант тебя устраивает?»
Он, разумеется, знал, что меня устроит. Если бы у меня отняли сейчас вторую страсть после выпивки (а расследования добавляли в мою жизнь адреналина), то я бы обязательно сорвался. Томаш умел ставить дилеммы. Он считал, что таким образом помогает мне подготовиться к будущему правлению. Его ошибкой было то, что он каждый раз пояснял, где я промахнулся, забывая рассказать, что было правильным в моём решении.
Я вздохнул свободней и оглянулся, пытаясь понять, где нахожусь.
Если пойти вправо, мимо ломбарда и заведения мадам Клио, можно добраться до особняка Рюманова. Увидеть яркий холодный свет, встретить парочку служителей Перуна возле дверей и провести некоторое время за разговором с самим хозяином дома. Недолгим разговором, скорее всего, если вспомнить, что не далее как вчера барон вызывал меня на дуэль.
– Нет уж, – пробормотал я. – Чтобы барон убил князя на дуэли – это полная чушь. Возможно, Рюманов здесь действительно по делам церкви, да только Всеблагой Император наверняка обрадуется, что линия словацких князей официально прервётся. Может быть, даже орден барону пожалует.
– А вы и правда князь? – спросил меня знакомый голос.
Я повернул голову и увидел Мерка. Мальчик вновь замотал лицо тряпками вместо маски.
– Был, когда-то, – хмыкнул я, не вдаваясь в детали. – У тебя снова послание?
Мерк покачал головой, а затем продемонстрировал какую-то железку. Я не разбирался в технике, в отличие от Шустера, но на всякий случай уважительно кивнул. При этом в глазах мальчика я прочитал, что он ни на секунду не поверил в искренность, но ему приятна сама попытка.
– Это стартовый генератор, – Мерк покосился на меня. – Генератор от вездехода. Я нашёл его на окраине. Он долго пролежал под песком, но должен ещё работать.
– Я думал, ты собираешься купить вездеход, а не собрать.
– Мне может не хватить на новый, – парень непритворно вздохнул, но тут же предостерегающе покосился, показывая, что не клянчит деньги, а доверяет секрет. Теперь пришла моя очередь оценить жест.
Попутно я вспомнил про видения, показанные Канга. Спросить у мальчика, что он делал на вокзале вчера? Было ли дрожание Локомотива и чёрный дым, исторгшийся из него?
«Нет, – ответил я сам себе. – Только не сейчас. Слишком много секретов получится. Он поделился с тобой одним, но сделал это добровольно. Подожди другого раза и тогда сможешь спросить».
– Ясно, держи, – я порылся в карманах, затем выудил из них мелочь и ссыпал Мерку в ладонь, накрыв её своей. Руки у мальчика были необычно горячими.
«Уж не заболел ли он?» – я пытливо посмотрел в лицо Мерка, но дальше этих мыслей зайти не решился. У ребёнка должна быть мать. Или отец. Или хоть кто-то. Дети вообще редко оказывались в Медине, и потому, даже если парень остался сиротой, о нём наверняка заботятся. Даже меня поначалу опекали, хотя я был уже достаточно зрелым, чтобы заказывать выпивку.
– Мне не нужны подачки, – в голосе Мерка проявилась обида. – Я сам накоплю. Вот увидите! Сам!
– Успокойся! – я осадил его резким вскриком, так что парень вжал голову в плечи. – Я не собирался подавать тебе милостыню. Это для того, чтобы ты купил себе маску. Не могу смотреть, как ты ходишь в этих тряпках. Если копишь на вездеход, значит, наверняка не можешь позволить себе денег на что-нибудь другое. Считай, что я ссудил тебе. Под будущую услугу.
– Какую? – парень всё ещё был осторожен, хотя глаза его оживились, а щёки неожиданно покраснели. – Какая вам нужна услуга?
– Прокатишь меня как-нибудь на вездеходе, – я засмеялся. – Наверняка это будет круто.
– Круче чем вы думаете, – ответил Мерк, гордо вскинув голову, и тоже рассмеялся. – Спасибо! До скорого, детектив!
– До скорого!
Я улыбнулся и повернул в сторону от дома барона. Я не умел читать знаки судьбы, и даже с поиском улик у меня не всегда ладилось, но решил рискнуть. Раз мне повстречался Мерк, то надо было идти не к Рюманову, а к Легбе.
«Прямо в логово к искушению, – напомнил Томаш. – Там ты вчера напился и сегодня можешь сделать это снова».
Я посоветовал ему заткнуться, что он и сделал, однако от молчаливой покорности мне стало едва ли не противней, чем до этого.
* * *
«Запах мамбо» уже открылся. В отличие от позавчерашнего дня, когда я застал агонию ночи, и вчерашнего утра, когда ещё ничего не началось, сейчас здесь было не протолкнуться.
Поначалу меня удивило такое количество народа, а после я вспомнил, что сегодня выходной, а вдобавок – вчера в этом баре умер человек. Что может быть притягательней для ищущей развлечения толпы обывателей?
Я скользнул внутрь, постаравшись задержать дыхание, и вздрогнул, когда прямо передо мной выронили бутылку, осколки которой захрустели под ногами, пытаясь проникнуть сквозь подошву. Словно капли алкоголя стремились хоть таким образом оказаться у меня в крови.
Когда я наконец оказался возле двоих охранников, они оскалились белоснежными улыбками.
– Легба у себя? – спросил я одного из них. Сомнительно, что тот что-нибудь расслышал в стоящем гуле, но он кивнул и отворил дверь. – Благодарю!
Я вошёл внутрь, ступая нарочито громко, чтобы не повторилась недавняя ситуация, когда моё появление оказалось лишним. Однако Легба оказалась одна – сидела на леопардовом диване в небрежно наброшенном халате и читала книгу. Названия я не разглядел, но обратил внимание на потёртость страниц и обложки.
– Я не помешаю?
– Заходи, Грабовски. Налей себе что-нибудь и подожди – мне нужно дочитать один момент, – ответила Легба не отрываясь.
Я прошёл к бару и некоторое время изучал бутылки с ромом. Внутри что-то предательски дрогнуло, и я постарался перевести взгляд. Схватил первую попавшуюся бутылку, которая казалась менее опасной, и лишь через несколько секунд, когда бутылка исторгла из себя пенную чёрную жидкость, я понял, что взял колу, которую терпеть не мог из-за уравнивающего всё и вся вкуса. Не важно пил ли ты её отдельно или с чем-нибудь ещё, всё равно в итоге чувствовал в первую очередь колу, которая, вдобавок, вызывала дикую жажду.
С таким же успехом я мог собрать с пола горсть песка и насыпать в стакан.
– По коктейльчику решил? – спросила Легба. Я услышал за спиной шуршание халата и медленно повернулся, но оказалось, что хозяйка бара всего лишь встала, чтобы убрать книгу. – Странный выбор для тебя, Грабовски. Я думала, что ты предпочитаешь пить, не смешивая.
– Я и пью, – я сел на стоявший рядом стул.
– Просто колу?! Ты поражаешь меня, Грабовски. Решил увлечься здоровым образом жизни, а?
– С помощью колы? – я улыбнулся и получил ответную улыбку от Легбы.
– Зачем ты здесь?
– Хочу задать парочку вопросов. Когда ты говорила мне, что не видела парня с фотографии, ты, случаем, не лгала? Потому что мне удалось выяснить, что это был голем. Более того, нашлись свидетели, которые рассказали, что голем был создан Рабби.
– Может быть, тогда стоит спросить у Рабби?
– Он мёртв, – я насладился изумлением и испугом, мелькнувшими на лице Легбы, но тут же осадил себя. Сомнительно, что она ещё не знала этой новости. – Вчера частный самолёт с Шимоном на борту потерпел крушение, едва взлетев. Говорят, песок забился куда-то не туда.
– Этого следовало ожидать, – пробормотала хозяйка бара, медленно поднявшись с дивана. Она подошла к бару, выцепила бутылку тёмного рома и сделала несколько глотков прямо из горлышка. Со своего места я видел часть её груди в вырезе, и успел подумать, что за последние пару дней подобное зрелище выпадало мне куда чаще, чем за несколько прошлых лет.
– Почему же следовало ожидать? – спросил я, стараясь отвлечься.
– Потому что «песок попал куда-то не туда» – это очень точное описание того явления, которое происходит.
– Объяснись.
– Забей, Грабовски, тебе не понять, – Легба сделала ещё один большой глоток.
– Я слишком туп? – мне не было обидно. Просто хотел узнать, как толковать фразу.
– Скорее, слишком приземлён. Ты думаешь, мы приехали сюда для того, чтобы проповедовать? Очнись, Грабовски. Я не знаю ни одного человека из жителей Медины, который бы выбрал какую-нибудь религию, не считая тех, кто, как и я, был сюда послан. Мы приехали вовсе не за этим.
– А зачем же тогда? К чему тратить столько сил и средств?
Прежде чем ответить, Легба уселась на стол, подобрав при этом полы халата и приняв позу куда более целомудренную, чем от неё можно было ожидать. Затем она достала из ящика стола портсигар, нашарила там же бензиновую зажигалку, прикурила тонкую чёрную сигариллу и затянулась, выпустив в комнату аромат вишни и пряностей.
– Здесь есть сила, Грабовски. Большая сила. Стоящая того, чтобы тратить свои силы и средства на её изучение. Кто-то разочаровывается и уезжает, кто-то продолжает ждать и исследовать. Некоторые подбираются слишком близко и платят за это, иногда даже жизнью. Мы тут как в шахте, Грабовски. Возможно, что за поворотом скрывается золотая жила, возможно – ещё один перекрёсток, где есть риск свернуть не туда. А может быть, тебя попросту завалит сверху и всё. Ничего больше не будет. Ничего.
Я заметил, как пальцы Легбы задрожали на последней фразе. Она затянулась очень глубоко, а после затушила окурок в стоявшей неподалёку вазе с фруктами и шумно выдохнула.
– Спроси себя, Грабовски, почему ты выбрал именно это место, чтобы сбежать от судьбы. И ты поймёшь, о чём я говорю.
– Постараюсь как-нибудь воспользоваться твоим советом.
Я поднялся, сделал, было, шаг вперёд, но был остановлен Легбой, схватившейся за полу моего плаща. Только сейчас я заметил, что часть ногтей у неё на руке обгрызены.
– Что-то ещё? – спросил я.
Легба не смотрела на меня, отвернувшись чуть в сторону. От неё пахло спиртным, вишней, пряностями и страхом. Последний запах был наиболее ярок.
– Поцелуй меня, Грабовски. Пожалуйста. Просто поцелуй.
Я хотел перевести всё в шутку. Хотел сказать, что предложение несвоевременно. Хотел добавить ещё что-нибудь циничное и жёсткое, но потом Легба повернулась, в глазах мелькнули слёзы, и я, ещё даже не успев понять, что происходит, уже чувствовал вкус чужих губ.
Рука скользнула под полы халата и замерла на бедре Легбы. Во всём происходящем не чувствовалось страсти. Лишь нежность и налёт торжественности, словно мы свершали ритуал, который не требовал суеты и спешки.
– Смелей, Грабовски, – чуть грустно сказала Легба, оторвавшись от моих губ на секунду.
Я вновь прижал её к себе, а после, подхватив, посадил на стол, развязал поясок халата и начал всё так же спокойно, без лишней спешки, снимать с себя одежду. Легба смотрела меня, чуть покачивала ногой и походила больше игривую девушку, а не на властную хозяйку бара или могущественного адепта одной из религий. Чуть закусив губу, она потянулась и расстегнула пуговицу на моих брюках.
– Только ничего не испорти, – попросила Легба, дождалась успокаивающего кивка и улыбнулась. – Люби меня, Любо.
Я притянул женщину к себе и ощутил, как её соски касаются моей груди. Этого ощущения хватило, чтобы напряжённость последних дней ушла, я расслабился и забыл про смерти Дока и Рабби, про чёрный песок и голема, про Медину, про всё. Мир сжался до размеров комнаты, в которой всё было предельно просто и понятно.
И этот мир я был готов любить вечно.
* * *
За стенами комнаты приглушённо звучали танцевальные ритмы и изредка доносились радостные или горестные вскрики. Внутри жила тишина.
Я лежал на диване, прижав к себе Легбу. На мне была расстёгнутая рубашка, один носок и полуспущенные штаны. Порыв страсти прошёл и сейчас, когда ко мне вернулась способность нормально соображать, я чувствовал себя в этом наряде донельзя нелепо.
Легба, уткнувшись мне в грудь, словно в подушку, дышала ровно и спокойно, будто спящая. Мне не хотелось её будить, но я чувствовал, что если не уйти прямо сейчас, то всё станет гораздо сложнее. Ситуация, когда два человека попытались заглушить страхи друг другом, словно стаканом крепкого спиртного, не предполагала чего-то последующего.
В противном случае всё может обернуться катастрофическим любовным похмельем.
Я попытался встать, стараясь не потревожить Легбу, но едва сделал намёк на движение, как она сама отстранилась и села рядом со мной. В её глазах читалось, что ситуация понятна Легбе не хуже, чем мне.
– Пора, Грабовски, – сказала она и чуть улыбнулась. – Герой на привале знатно повеселился с хозяйкой замка, ну а теперь время двигаться дальше.
Я ничего не ответил. Мне был знаком этот подход – быстро и без вариантов опошлить то, что произошло, чтобы заглушить чувство утраты, которое должно последовать. Люди всегда низводят прекрасное до состояния животного, не желая испытывать лишних страданий. Точно так же они поступают со всем, что не вписывается в их картину мира. Чем больше упрощаешь, тем легче жить. Я и сам постоянно поступал подобным образом.
Однако Легбе я ничего не ответил. Сосредоточенно встал с дивана и принялся собираться. Хозяйка бара вновь достала сигариллу и закурила. Теперь запах уже не казался волнующим, скорее он выглядел как попытка заглушить то, что недавно произошло.
«Как благовония в комнате, где нагадил кот», – подумал я.
– Насчёт того парня, который убил Дока, – сказала Легба, когда я уже застёгивал куртку. – Я действительно не знала, что это был голем Рабби, но вот барон, похоже, знал. Вчера утром он пришёл ко мне, чтобы поговорить кое о чём. Не буду уточнять, с твоего позволения, иначе придётся соврать. Когда вошёл тот парень, барон на секунду задержал на нём взгляд и пробормотал: «Ах, Рабби, Рабби». Я обернулась, думая, что явился Шимон, но там был только этот гигант. У нас с бароном шёл слишком важный разговор, и я, отослав парнишку с посланием, не придала этому значения. Но сейчас думаю, что вряд ли барон спутал бы этого костолома с Рабби.
– Похоже на правду, – сказал я.
– Можешь мне не верить, а можешь считать, что я тебе отплатила за секс, – Легба усмехнулась и отсалютовала рукой с сигаретой, после чего затянулась и с вызовом посмотрела на меня.
Я ощутил желание подойти к ней и обнять. Прижать к себе и успокоить. Поцеловать и ласково гладить по волосам. Просто сидеть и ни о чём не думать…
Стоило сделать хоть один шаг в этом направлении, как потом уже вряд ли сможешь выбраться. Я всё ещё сомневался в правдивости сказанных слов – может быть, Легба просто решила подставить барона. К тому же, нельзя было с точностью утверждать, что она не замешана в смерти Дока. И потом, я только взялся за борьбу с одной дурной привычкой, так что не стоило обзаводиться новыми.
Вместо утешений я кивнул и двинулся к выходу из комнаты, на ходу надевая маску.
Порой во мне просыпалась холодная расчётливость, и я ненавидел себя за это.
* * *
По дороге в полицейское управление, я размышлял над тем, что произошло у Легбы. Это была прививка от одиночества и боли, которая требовалась каждому. Лучшее, что можно было сделать, так это постараться вести себя так, будто ничего не случалось, но при этом помнить, что оно действительно было.
Однако я знал, что кто-нибудь из нас обязательно постарается всё испортить, и у меня почти не было сомнений, что этим «кто-то» окажусь именно я.
Впрочем, вскоре я понял, что куда больше меня занимает иное.
Легба задала этот вопрос, и сейчас пришло время поразмыслить, почему я выбрал именно Медину для своего бегства от прошлого. Я уже десять лет живу здесь и до сих пор не смог сформулировать, а ведь с таким же успехом я мог бы спрятаться в куда более приятном для жизни уголке планеты.
Словно подтверждая эти слова, по улице прогрохотал вездеход, оставляя за собой облачка пыли и песка, которые радостно подхватывал ветер и бросал в окружающих. А те спешили по своим делам, закрывшись масками и укутавшись в бесчисленные одежды. Они были похожи все до одного, и я не выделялся в этой массе. Такой же как все – жёсткий, говорящий то, что думаю, имеющий секреты и цель.
И кто знает, предложи сейчас мне средства для отвоевания Словакии, не ринулся бы я тут же, бросив всё? И бросать-то нечего: старая квартира, надоевшая работа, опостылевшие однообразные пейзажи изо дня в день.
Может быть, в этом и была причина? Может быть, мне хотелось почувствовать себя таким же, как остальные? Может быть, потеряв свой народ, я решил найти новый, который будет так максимально похож на меня самого?
«Нет, – подумал я. – Мы все здесь похожи только на Медину. Мы такие же, как она. Если что нас и тянет, так это город, который собирает себе жителей».
Слова Легбы о скрывающейся здесь силе имели под собой реальную основу. Живя в центре урагана, легко представить, что нет никакой опасности. Док, Рабби, Легба, Рюманов и другие при поддержки своих религий и способностей видели больше, но, скорее всего, тоже лишь часть картины. Попытки узреть всё разом наталкивались на противодействие.
Я подумал, как мало видел и вижу сам. Мне знакомы работа и дом. Места, в которых я бываю изредка. Некоторые достопримечательности, о которых я слышал или видел издали. Что и говорить, если я лишь спустя десять лет добрался до вокзала, чтобы посмотреть на тот самый поезд?! И лишь после смерти человека, который там жил.
Если бы в Медине толпы туристов слонялись тут и там, я бы гораздо лучше знал город. Места, где собираются люди. Как пройти туда-то или туда-то. Где лучше поесть, а где остановиться…
Но туристов в Медине не бывает. Сюда приезжают, чтобы остаться, сбежать или исчезнуть. Второго и третьего хотят не все, но город не принимает каждого. Он словно испытывает людей на прочность – каждый день, каждый час, каждую секунду решает, достоин ты жить здесь или нет.
Мы, жители Медины, были настолько разными и странными, что все вместе действительно были похожи. Мы даже не замечали странности друг друга. Считали их сами собой разумеющимися.
Князь Грабовски, наследный правитель и изгнанник Словакии. Чем не подходящая компания для жрицы Вуду, механического старика, человека с зеркальными очками, русского барона-священника, да и толпы нам подобных?
Что мы здесь забыли? Здесь ведь нет ничего. Только песок и ветер.
Я остановился, наклонился и неожиданно для самого себя зачерпнул горсть песка. Выпрямившись, я смотрел, как песчинки скользят сквозь пальцы, а ветер относит их в сторону.
Это могло показаться глупостью, но мне почудилось, что стихли все звуки. Даже ветра не было слышно.
Песок просыпался, я посмотрел под ноги и пошёл дальше. Это была ещё одна вещь, над которой за десять лет жизни в Медине я никогда не задумывался.
О том, что можно просто стоять и смотреть, как сбегает песок сквозь пальцы. Может быть, мы ищем не вещь и не силу, но именно вот это ощущение? Спокойствие, сила и понимание – всё тлен. Есть лишь ты и песок, который утекает, словно время. И ветер, который подобен вечности, разбрасывает крупинки времени без жалости и сомнений.
Если бы всё было так просто.
Интерлюдия: Легба
Люди хотят поиметь весь мир и не поиметь при этом проблем, но почему-то постоянно забывают предохраняться.
Легба фон Гётце– Он вернётся, – говорит Легба своему отражению. – Этот болван у меня в руках, хотя думает, что всё контролирует. Все алкоголики так думают.
Прошло всего минут пять, как Грабовски ушёл. Небольшой факт о том, что барон узнал голема, обрадовал детектива едва ли не больше, чем секс, но Легба не чувствует обиду. Для неё секс тоже всего лишь побочное – пусть и приятное – событие.
Сейчас она стоит перед зеркалом обнажённая и разглядывает себя. Грабовски пытался быть нежным, но парочка синяков всё-таки появилась, а грудь и шея стали красными от раздражения. Нет ничего хуже мужиков, которые так и не определились: носят они бороду или же бреются начисто. Как показывает практика, и в остальном они предпочитают поступать половинчато.
Тем не менее, Легба довольна. Несмотря на все его минусы, заполучить Грабовски – большая удача.
– Только не пытайся использовать его сразу, – Легба продолжает говорить с отражением. – Пусть он думает, что всё под контролем. А когда выпадет случай, тогда и посмотрим, что можно сделать с этим сентиментальным болваном, который прячется внутри детектива Грабовски.
– Мне показалось, ты была искренней с ним, – отзывается пустота в сердце. – Тебе ведь понравилось.
Легба предпочитает не разговаривать с пустотой. Особенно в тех случаях, когда слова, идущие изнутри, подозрительно похожи на правду.
Кому нужна правда в наше время?
Легба смазывает шею и грудь успокаивающим кремом, чуть проходит лёгким тоном по тем местам, где виднеются синяки, ещё раз оглядывает себя и остаётся довольной увиденным.
– И всё-таки, тебе было хорошо, разве нет? – вновь подаёт голос пустота.
Легба фыркает, но правдивость этих слов отрицать ещё сложней. В Грабовски действительно оказалось что-то возбуждающее. Наверное, налёт обречённости и печали, лежащий на его душе. Или то, что он старался быть нежным при всей своей грубоватости. В любом случае, общение вышло не только полезным, но и приятным.
Раздаётся стук в дверь, отделяющей комнату от бара. Стук условный, и он означает, что пришёл посетитель, которого Легба меньше всего хочет видеть.
– Барон, – выдыхает она сквозь зубы.
Под злостью Легба скрывается страх. Её пугает появление барона именно в тот момент, когда она только-только открыла Грабовски один небольшой секрет. Не такой явный, чтобы дать детективу доказательства, но достаточный, чтобы пустить его по следу.
Будь Легба менее уверена в себе и покровительстве лоа, она бы подумала, что Рюманов каким-то образом подслушивал. Но, как бы ни была велика сила Перуна-Апостола, здесь, на перекрёстке между миром живых и миром мёртвых, Рюманов способен лишь на жалкие фокусы.
«Вот почему я так редко выхожу, – думает Легба. – Я просто боюсь, что меня подловят в тот момент, когда силы будет мало».
Тем не менее, эта пораженческая мысль не мешает девушке быстро собрать разбросанную на диване одежду, затем швырнуть ком тряпок в глубину шкафа и достать оттуда взамен простое белое платье. Оно необычайно закрытое по мнению Легбы, так что девушка надевает его прямо на голое тело. Вряд ли барона шокирует, если Легба вдруг окажется нагой, но с этим русским следует соблюдать приличия, если не хочешь, чтобы он относился к тебе, как к дикарке. К тому же, ей и самой не хочется обнажаться перед бароном.
Перед кем угодно, но только не перед человеком с ледяным взглядом.
– Войдите! – кричит Легба, прикуривая сигарету.
Не здороваясь, барон, облачившийся в серое – штаны, рубаха, жилет без пуговиц – проходит внутрь и усаживается на стул, стоящий рядом с диваном. Плащ Рюманова перекинут через правую руку, там же покоится песчаная маска. Барон многозначительно посматривает на диван и улыбается.
– По пути сюда случилось со мной престраннейшее событие. Звать событие – князь Любомир. Спешил от вас, окрылённый думами и мечтаниями. Видать, было от чего! – барон цокает языком. – Благодаря этому ли, благодаря ли тому, что я отпрянул, но княже меня не заметил. Думаю, в таком состоянии ему можно было всадить нож не то что в спину, а прямо в сердце – он бы ничего не почувствовал.
Легба улыбается. Барон может что угодно рассказывать про свои походы пешком, но состояние одежды, да и привычки Рюманова, говорят о том, что он приехал на вездеходе. Возможно, он и встретил по пути Грабовски, но и что с того? И если какие-то шпионы следили за баром, то это не значит, что они были внутри. Лоа предупредили бы Легбу.
– Я удивлена, что вы не воспользовались случаем, чтобы всадить этот нож, барон. Всегда казалось, что вы только ждёте подходящего момента.
– Их уже было сотни! Наследники престола так беспечны, – барон сокрушённо качает головой. – Но вы плохого обо мне мнения. Не я ли вступился перед этим грубияном за вашу честь?
– Вы, но это были лишь слова. Я думала, вы можете пойти и дальше.
Легба докуривает и тушит сигариллу – руки не дрожат, это успокаивает. Затем девушка наливает немного рома в стакан и кидает внутрь дольку лимона из морозильной камеры.
– И мне, пожалуйста, – просит барон, а после принимается внимательно следить за действиями Легбы, будто всерьёз опасаясь отравления. – Что же касается вашей идеи, то должен признать, что, при всём желании, это было бы неразумно. Мало того, что подозрения пали бы на меня, так ещё и без того город взволнован смертью Дока.
– Всё ещё? Вот как…
– Да, людские умы поражены дерзостью содеянного. Будь мы где-то в ином месте, я бы подумал, что Дока канонизируют.
Легбе ставит стакан перед бароном и присаживается напротив. Взгляд Рюманова выражает лишь скорбь, но девушка, разумеется, не верит в неё. К тому же, ей не нравится это «мы».
«Только не впутывай меня туда, где я не участвовала».
– Вы пришли говорить о Грабовски и Доке? – спрашивает Легба чуть резче, чем планировала.
Барон внимательно смотрит на неё поверх стакана, затем сквозь, после отпивает, причмокивает губами и ставит стакан на место.
– Нет, что вы. Я пришёл узнать: остались ли в силе наши предыдущие договорённости? Теперь, когда в Медине всего лишь два пророка, нам нужно либо подтвердить их, либо опровергнуть.
– Пока два, – напоминает Легба. – Не исключено, что завтра или послезавтра явится Сет Великий, к примеру, и объявит это всё затерянными территориями Нила. Местность-то подходящая. К тому же, барон, вы забываете про того же Канга…
Рюманов хохочет. Долго и со значением. Бьёт себя рукой по коленке, подмигивает Легбе и снова заливается смехом. В конце концов, она не выдерживает и тоже улыбается, хотя и не может понять, что же смешного в её словах.
– Я говорю про пророков, моя дорогая, – качает головой барон, отсмеявшись. – Про проводников воли божьей. Даже не уточняю, которая из них является истинной. А вы же говорите мне про ископаемые и про вероятности.
Он вытирает глаза рукавом, и один этот жест резко меняет барона. Едва рука заканчивает движение, как глаза Рюманова сужаются, на лоб наползают морщины, а ворковавшие до этого губы обретают прочность.
«Надел новую маску. Или сбросил все», – думает Легба, не зная, какой из вариантов ей понравился бы больше.
– И всё-таки, что насчёт наших предыдущих договорённостей?
– Они остаются в силе, – Легба выдерживает взгляд барона. – И если это всё, что вы хотели спросить, то прошу меня оставить. Мне нужно отдохнуть. Ночь была трудной, а утро ещё хуже.
– Разумеется, разумеется! – Рюманов вскакивает. Вновь энергичный, целеустремлённый и ничуть не похожий на угрозу. – Прошу простить мою навязчивость.
Он торжественно кланяется. Легбу тошнит от этого фиглярства, но она встречает жест благодушным кивком. Барон торопливо следует к выходу. Из-за раздражения, мести и любопытства Легба пробует отправить следом за бароном лоа. Дух бросается к двери, но затем доносится тихий писк, и лоа растерянно возвращается. Легба пожимает плечами и отпускает дух к собратьям.
Что ж, она по-прежнему не способна победить барона, но её силы, как минимум подросли. В прошлые разы лоа просто растворялись в ауре Рюманова. Иногда он напоминал ей другого барона, Самеди. Но тот был дик и не обуздан в своих стремлениях, в то время как Рюманов походил на старого лиса. Интересно, водятся ли на севере лисы?
География не является сильной стороной Легбы, но ей представляется, что лисы там непременно должны водиться. В месте, где не каждый способен выжить силой, всегда есть место для хитрых тварей.
Легба отпивает ром и катает обжигающую жидкость по языку, прежде чем проглотить. Разумеется, девушка не может отказаться от предложения барона. Открытая конфронтация ей не нужна, а что касается того старого договора – это были не более чем слова.
Да, Док нашёл способ отгородиться от песка, но отгородиться – не значит покорить.
Легба встаёт, скидывает с себя платье и вновь остаётся обнажённой. Подойдя к зеркалу, она плюёт в него, а затем принимается пальцем рисовать в слюне символы.
Гадание предвещает скорую удачу, хотя и предупреждает, что удача будет кратковременной, а расплата, вполне возможно, ужасной.
– «Вполне возможно» не значит «точно», – бормочет Легба. – Скорее, удача, я тебя жду. Жду уже очень давно. Без сомнения, удача будет связана с Грабовски, но будет ли это он сам? Вряд ли. И всё же, и всё же…
Она вытирает зеркало рукой, оставив влажный след, и принимается наводить порядок. Да, в её распоряжении слуги, но эту комнату, этот её маленький личный уголок Легба предпочитает убирать сама. Не стоит никого пускать к себе в душу.
– Особенно, если её нет! Ведь так, дорогая моя? – Легба хрипло смеётся и думает, что ей стоит немного поспать. Утро действительно получилось изматывающим – в этом она нисколько не солгала барону.
Пустота в сердце молчит, хотя Легба ждёт очередных нотаций. Так всегда с этими внутренними голосами – молчат, когда ты жаждешь их услышать.
Убрав бутылки, почистив пепельницу и скинув одежду в корзину для прачки, Легба ворочается на диване и старается уснуть. Получается не сразу – диван всё ещё пахнет Грабовски, и это приносит лишние сейчас воспоминания.
Тем не менее, вскоре сон милостиво укрывает Легбу в своих объятьях.
Глава VI
Картина, которая мне открылась в приёмной, поражала воображение. В первую очередь – серьёзностью, доходившей до нелепости. Во вторую – неожиданностью, граничащей с ирреальностью происходящего.
Бобби Ти сидел перед бумажным пакетом с эмблемой «Пекарня Пауля» и гипнотизировал его взглядом. Правая рука толстяка комкала воротник формы, словно та душила Бобби. Левая лежала на столе рядом с пакетом и чуть подрагивала. Я не сразу понял, чем занимается толстяк, а когда осознал, едва не расхохотался.
От смеха, без сомнения унизившего бы Бобби, меня удержало воспоминание о собственных попытках победить схожую проблему. И хотя бороться с желанием выпить всё же сложнее, чем с постоянным голодом (иногда ты что-то ешь, чтобы просто не сдохнуть), но я готов был признать, что мы с толстяком похожи. Оба вступили на путь отказа от вредных привычек, и дела у нас шли примерно одинаково.
Тем не менее, я не смог отказать себе в желании поддеть Бобби. Демонстративно прошёл к столу дежурного и подхватил бумажный пакет.
– Я смотрю, ты не очень-то голоден, – прокомментировал я свой поступок. Показалось, что Бобби едва ли не впервые испытывает ко мне чувство похожее на благодарность.
Подойдя к кабинету Шустера, я дёрнул ручку двери. По-видимому, было заперто на защёлку, но один из болтов настолько раскрутился, что не выдержал. Я фактически взломал дверь, нарвавшись на раздражённый взгляд Шустера.
На раздражённый взгляд, который скрывался под очками всё это время. Взгляд жёлтых глаз с чёрной каймой по периметру и маленьким зрачком, тоже чёрным. Я не сразу понял, что происходит, но едва сдержался, чтобы не захлопнуть дверь. Мне захотелось оказаться от Шустера подальше и прятаться всю оставшуюся жизнь – столько ненависти было в этом взгляде.
– Отвернись, – попросил Шустер, спустя секунду, которую мы провели за разглядыванием друг друга.
Я послушно отвернулся, заодно проверяя, чтобы ни дай бог кто-нибудь ещё не оказался поблизости. «Я бы тоже это прятал, – пришло внезапно осознание. – Вид этих глаз настолько страшен и дик, будто смотришь на разумное животное с человеческим лицом».
Едва я начал думать в этом направлении, как вспомнил несколько моментов, когда Шустер вёл себя, как подобает животному. Бесшумные перемещения, почти звериный нюх на опасность… можно было о многом его спросить, но я точно знал, что не сделаю этого. Особенно сейчас, после этого пробирающего душу взгляда.
Сколько же в нём было ненависти…
– Всё в порядке, – сказал Шустер тем временем. – Можешь повернуться.
Очки, как и прежде, практически лентой опоясывали глаза Крополя. Он смотрел на меня и улыбался, но я знал, что под маской жёлтые глаза выискивают на моём лице признаки страха, отвращения или ещё чего-нибудь, что должно подтвердить мою неприязнь.
Я и сам так смотрел на людей, которые видели меня мертвецки пьяным. Искал повод, чтобы обвинить их в чём-либо, желая при этом почувствовать облегчение. Повод иногда находился, а вот с облегчением всё складывалось не очень.
Сейчас я вернул улыбку, постаравшись сделать это как можно естественней, и кинул Шустеру пакет, который отнял у Бобби Ти. Крополь поймал его на лету, почти не отрывая взгляд от меня.
Я улыбнулся ещё раз. Происходящее всё больше и больше походило на испытание.
– Решил перекусить? – спросил Крополь. – Не помню за тобой любовь к выпечке.
– Мы спасаем Бобби Ти от обжорства. Уничтожим всю его еду, и он вынужден будет похудеть. Здорово придумал, а?
– Да уж.
Шустер слегка расслабился, опустил пакет и вытянул из него пончик с корицей. Пряный аромат разнёсся по кабинету, напомнив мне о том, что произошло совсем недавно в баре Легбы.
– Что-нибудь нашёл? – спросил Крополь.
– Напомни мне содрать с тех, кто ездил к Рабби, зарплату. Они пропустили свидетеля. Пожилая китаянка, которая там убирает, видела нашего голема и утверждает, что создал его именно Рабби.
– Юнь Фанг Су, если ты о ней, владеет этой гостиницей.
– Разве это так важно? – я с изумлением посмотрел на Шустера. – Какая разница, кто она? Главное – она может подтвердить мои слова. Кроме того, у Рабби там целая комната, исписанная каббалистическими символами. Комната, в которой он занимался созданием голема.
– И что это нам даёт? Рабби мёртв, голем мёртв, следов никаких.
– Ошибаешься.
Я отнял пакет – свою законную добычу – у Шустера и запустил внутрь руку. Либо вся удача досталась Крополю, либо Бобби Ти нарочно купил так мало, чтобы его сила воли осознавала, что ловить в пакете, в общем-то, нечего. Нельзя было исключить и то, что толстяк уже что-то успел съесть. Как бы там ни было, но мне досталась лишь булка с маком. Я повертел её в руках, затем откусил, взял со стола Шустера стакан, высыпал стоящие в нём карандаши и двинулся к графину с водой.
– Ты невыносим, Грабовски – фыркнул Крополь. – Может быть, расскажешь, что ты обнаружил?
– Один момент, – пробурчал я, пытаясь прожевать кусок булки, – дай запить, – я сделал большой глоток из стакана и в несколько попыток всё-таки смог пропихнуть комок в желудок. – Меня, знаешь ли, учили не разговаривать с набитым ртом.
Не помню, что именно на меня нашло в тот момент, но весь спектакль был направлен только на одно: на попытку создать у Шустера ощущение, что ничего не случилось. Всё остаётся как прежде и плевать какие у кого глаза.
– К делу, Любо, не томи, – кажется, я перестарался, в голосе Шустера зазвучала подозрительность.
– В общем, Легба рассказала, что вчера утром, когда она разговаривала с бароном, тот, увидев нашего убийцу, пробурчала что-то вроде: «Ах, Рабби, Рабби». Разумеется, это всё она не подтвердит ни в одном суде, но понимаешь, к чему я клоню?
– С таким же успехом она могла просто соврать.
– Не спорю, но у меня есть некоторые подозрения, что она была честна в тот момент.
– Какие же это?
Шустер смотрел так, что я явственно представил, как под зеркальными очками жёлтые глаза ощупывают меня, пытаясь вызнать, что осталось сокрыто. Когда же Крополь вдобавок повёл носом, я спросил себя – а действительно ли у него нюх, как у животного или это лишь моя фантазия? И какие запахи хранит моё тело? Возможно, запах женщины, которую недавно я обнимал…
– Думаю, она боится, что будет следующей, – ответил я, поскольку это походило на правду. Легба действительно боялась. Как бы не бравировала она, но столь быстрая череда смертей тех, кого объединяла тайна, не могла её не насторожить.
– Возможно, – подумав, кивнул Шустер. – Барон при таком раскладе выглядит тем, до кого доберутся в последнюю очередь, если он не сам это затеял, как нас заставляют думать
Какое-то время Шустер сосредоточенно размышлял, вперив взгляд в пол. Я то и дело пытался проникнуть под зеркальные очки и постоянно спрашивал себя: не показалось ли?
Даже если и так, теперь я не мог полностью доверять Шустеру. И не было уверенности, что это доверие когда-нибудь воскреснет.
– Я посмотрю, что с этим можно сделать, – сказал Крополь. – Покопаюсь в делах, попрошу ребят приглядеть за бароном. В конце концов, раз он выставляет слежку за нашим хранилищем, то и нам не помешает заняться тем же.
– Хорошо, – я уловил недвусмысленный намёк, что пора уходить. – Думаю, мы займёмся этим завтра.
– Да, Любо, – Шустер обрадовался. – Займёмся завтра. Сегодня был трудный день и надо отдохнуть.
Я ничего не ответил. День ещё не закончился, он всего лишь близился к вечеру. Однако, хотя он и вправду был труден, но это один из тех немногих дней в моей жизни, который не был прожит зря.
Возможно это покажется диким, но чем больше я узнавал чужих тайн и секретов, тем прочнее держался на ногах. Наверное, просто понимал, что ни на кого нельзя положиться.
* * *
Дороги Медины – всего лишь песок, который ветер переносит с места на место. Зыбкое отражение того, что творится в людских душах. Обиды, желания, страсти и страхи – всё это перемешивалось, и сверху каждый раз оказывалось нечто новое.
Я вышел из управления с твёрдой решимостью дойти до вокзала. Я обещал Канга «разобраться с этим завтра», но завтра уже наступило, а я не только не разобрался, а запутался сверх меры.
Двинувшись к вокзалу, я ещё не подозревал, что добраться до него мне не суждено. Судьба распорядилась иначе и устроила мне столкновение с человеком, который нуждался в помощи. Столкновение в прямом смысле – он на бегу врезался прямо в меня. От удара мы оба полетели на песок, но практически тут же толкнувший меня человек попытался вскочить.
– Постой-ка! – я схватил его за руку. Что-то в лице незнакомца казалось знакомым, но маска мешала понять, что именно. – Куда торопишься?
– Здравствуйте, детектив Грабовски, – выдохнул из-под маски беглец. Что ж, знакомых среди детей у меня было немного, так что я наконец-то понял, кто это. – Я вас не заметил. Извините.
– Всё нормально, Мерк, а теперь расскажи, что случилось? – я поднялся и попытался стряхнуть с себя песок. Занятие было бесполезным, но всё же от большей части песчинок мне удалось избавиться.
– Взрослые парни. Не такие, как вы, но постарше, чем я, понимаете? – я кивнул. – Вот! Они узнали, что у меня есть деньги, и решили, что я готов с ними поделиться.
– И как же они узнали?
Мерк сделал вид, что не расслышал вопроса и отвёл взгляд. Всё ясно – парень решил продемонстрировать, какой он крутой, не оценив последствий. Надеялся купить дружбу старших, а в результате разбудил их жадность. Ничего удивительного. Такое случалось сплошь и рядом, и возраст тут не имел значения.
Я огляделся, но никого не увидел. Если за Мерком и гнались, то, видимо, решили не связываться со взрослым, внезапно очутившимся рядом. Теперь будут выжидать момент, когда их жертва окажется беззащитной и беззаботной.
– Где они? – спросил я на всякий случай.
Мерк тоже огляделся, слегка присев, готовый по малейшему сигналу бежать, а затем выдохнул и выпрямился.
– Ушли, – сказал он глухо. – Они наверняка просто спрятались. Я… они… в общем, мы с ними не сильно поладили.
– Ты обидел их действием или словом?
– Ударил одного из них в лицо. Возможно, у него будет синяк.
– Тогда это ерунда, – я положил руку парню на плечо. – Пойдём, я провожу тебя на всякий случай домой.
– Я не собирался домой!
– Сегодня отсидись. Поверь, так будет лучше.
Как ни странно, он послушался. Мы двинулись по улице, а на ближайшем же перекрёстке свернули вправо. Я не представлял, куда меня ведут, но был благодарен строителям Медины, кем бы они не были. Эти прекрасные люди не тратили время на изыски, и все улицы были строго перпендикулярны или параллельны друг другу. Если не знаешь куда идти – шагай в одну сторону. Не позднее чем через пару часов выйдешь на окраину, а там можно просто обойти весь город и свернуть, куда надо. Метод работал всегда и не раз выручал меня, пока я только осваивался в Медине.
– Почему действием оскорбить не так страшно, как словом? – спросил Мерк, когда мы уже прошагали несколько перекрёстков.
– Потому что за действие тебе почти всегда грозит только действие. Ты ударил одного, они, вполне возможно, ударят все и не по одному разу. Если ты будешь сопротивляться – они наверняка озвереют, но в следующий раз подумают, прежде чем снова за тебя взяться. Если же ты оскорбил кого-то из них словом, то получишь в ответ, как действие, так и слово. А со словами невозможно бороться по-честному. Их будут рассказывать на всех углах, их будут передавать друг другу у тебя за спиной, и, в конечном итоге, ты и сам начнёшь думать: а не правда ли то, что о тебе говорят.
– Откуда вы всё это знаете?
– Знаю, – я пожал плечами, решив, что откровений достаточно. – Просто знаю.
Мне не хотелось рассказывать парню о том, как было трудно здесь первое время, когда я столкнулся с презрением и ненавистью. Ничего не сделал людям, а просто искал защиты, но моё происхождение и прошлое заслоняли собой всё остальное. Разумеется, не все были ко мне жестоки. Скорее, таких было меньшинство. Но ублюдков запоминаешь куда лучше, чем нормальных людей.
Просто некоторым нравится видеть, как те, кто что-то имел, теряют ещё больше. Это самое любимое зрелище, в котором даже не обязательно принимать участие. Словно пожар в доме богача, на который останавливается посмотреть каждый второй, а каждый пятый не забывает подлить бензина.
Если рассказать всё это Мерку, то будет похоже, будто я пытаюсь вызвать жалость. А этого я как раз добивался меньше всего.
– Мы пришли, – сказал тем временем парень, останавливаясь возле двухэтажного домишки скромных размеров. Если его ещё и сдавали на квартиры, то у каждого из жильцов, должно быть, не больше комнатушки. – Может быть, зайдёте? Моя мама делает вкусные пироги.
– Мама? – я произнёс это слово с некоторым удивлением. Мне сложно было представить мать Мерка. Не потому что я думал, будто её нет, скорее в голове никак не складывался образ.
– Да, она наверняка сейчас дома. Зайдёте?
Я усмехнулся и сам не заметил, как кивнул.
* * *
Мама Мерка оказалась невысокой бойкой женщиной лет тридцати пяти. Удивительно, но её короткие волосы уже почти поседели, и лишь кое-где виднелись чёрные пряди. Глаза смотрели устало и подозрительно, а губы были слегка поджаты. Тем не менее, в её внешности оставались следы былой красоты, и я не сомневался, что лет десять (или даже пять) назад мужчины не давали ей прохода.
К сожалению, климат Медины мало подходит тем, кто желает сберечь себя от старости.
Несмотря на явное недовольство моим приходом мать Мерка предложила мне пройти внутрь, вскипятила чайник на крохотной электрической плите, а после действительно угостила пирогами, которые оказались выше всяких похвал. Всё это время женщина периодически ворчала по поводу стеснённых жилищных условий и сына, который шляется неизвестно где, а после приводит в дом всяких странных типов. Хотя я и продемонстрировал значок, а Мерк добавил про спасение от хулиганов, это никак не повлияло на мать мальчика.
Даже когда я от чистого сердца поблагодарил за пирог, женщина лишь фыркнула, как будто я сказал что-то пошлое.
– Меня зовут Ивелин, – сказала она, когда пирогом было покончено. – И не дай бог ты, мужчинка, попробуешь как-нибудь сократить это имя. Усёк?
– Да, – я кивнул. Происходящее забавляло, хотя на первый взгляд ничего забавного не было.
– Все вы говорите «да», когда вам выгодно, – Ивелин хмыкнула. – А когда от вашего «да» появляется кто-то ещё, то мужчинки просто сбегают. Разве нет?
– Не знаю, не доводилось, – я развёл руками.
– Можно подумать, тебе и трахаться не доводилось.
– Мама!
– Меркуцио, ты разве не закрыл уши?
Я невольно улыбнулся, но тут же постарался стереть с лица улыбку, заметив, как покраснел парень. Он-то как раз был не против, чтобы его имя сокращали.
– Это папашка его такое имя придумал, – Ивелин заметила мою реакцию. – Этого мужчинки ещё хватило, чтобы своими руками собрать из досок первую кроватку мальчику. А потом он сбежал. К какой-нибудь шлюхе, – она внимательно посмотрела на Мерка, и тот послушно прикрыл уши. – А скорее всего он бегал к ней и до этого. Просто в какой-то момент там остался, и больше мы этого козла никогда не видели. Бабы заводят детей, чтобы удержать мужиков, а те как раз от этого и сбегают. Понимаешь меня, детектив?
– Примерно.
– Ладно, я скоро вернусь. Пора старушке Ивелин погреть свои кости на толчке.
– Мама!
– Это нормальное слово, – женщина с удивлением посмотрела на Мерка. – Я же не сказала «сральник».
Под растерянным взглядом мальчика Ивелин вышла из крохотной кухни, и я остался с мальчиком наедине. Пока смущённый Мерк – я не сомневался, что парень не притворяется, – отводил глаза и пытался что-то придумать, я размышлял о превратностях людских судеб.
Я мог понять, почему муж Ивелин сбежал. И почему бросил её ради другой. Но почему он ни разу не навестил ребёнка, я не понимал. Кажется, это действительно был «мужчинка».
– Она не всегда такая, – сказал Мерк. – Иногда бывает нормальная, но в последнее время… Не знаю, почему она так. Я думал, что приход гостей её порадует.
– Не важно, – я улыбнулся. – Как там с вездеходом? Накопил?
– Почти.
– Ну это и главное. А друзей постарайся выбирать получше.
– Они мне не друзья.
– И я об этом же.
Мы посидели в молчании ещё некоторое время, пока я не решил, что пора уходить. Я вспомнил, что направлялся к вокзалу. Да и про мальчика кое-что вспомнил.
– Завтра постарайся найти меня, Мерк. У меня будет для тебя работа.
– Какая работа? – он напрягся, но скорее от ожидания, чем из-за страха.
– Не такая большая, чтобы за неё много заплатить, но гарантированная. Кроме тебя мне никто не поможет. Всё остальное – завтра.
«Кроме тебя и Канга», – мысленно добавил я, но искать старого шамана мне не хотелось, а Мерка можно будет завтра расспросить и чуть-чуть добавить в копилку для вездехода.
Решив, что с меня достаточно, я встал, натянул маску, подмигнул на прощание Мерку и двинулся к выходу. Уже у самой двери откуда-то сбоку вынырнула Ивелин. От неё пахло алкоголем, а ещё чем-то терпким и сладким. Судя по поведению женщины, в местном туалете наливали, а может даже баловались наркотиками.
– Уходишь, мужчинка? – она прижалась ко мне так близко, что я почувствовал напрягшуюся грудь даже сквозь слои одежды. – Куда же ты, а? – несмотря на небольшой рост Ивелин умудрялась шептать прямо в ухо, обжигая горячим дыханием.
– У вас очень хороший сын, – дипломатично заметил я.
– Старая, да? – женщина презрительно скривилась. – Молодую сучку хочется, кобелёк?
Скорее по наитию, чем по желанию, я схватил Ивелин за руку, развернул спиной к себе и прижал к стенке. Пальцы сами собой нащупали шею женщины, но пока только держали, не сжимая. Ивелин не делала попыток вырваться, а лишь только скулила – не жалобно, а с ненавистью.
Что ж, последнего мне сегодня досталось изрядно. Сначала от Шустера, теперь вот от этой женщины.
– У вас очень хороший сын, – повторил я. – И ради него я сделаю вид, что ничего не произошло. Пока вы ведёте себя так, вы позорите его. Если вы хотите отвратить его от всех мужчин, чтобы он превратился в невнятного мужчинку, которых вы так ненавидите, то у вас может получиться. Думаете, он просто так полез к тем уродам? Нет, он сделал это нарочно. Чтобы подружиться с ними, заставить их себя уважать и выглядеть мужиком в ваших глазах. Если вы этого не понимаете, то хотя бы просто не мешайте ему жить.
Убрав руку, я повернулся и вновь попытался покинуть дом. По счастью, в этот раз мне никто не мешал. Только сзади доносилось хриплое дыхание Ивелин, постепенно перешедшее в плач.
У меня было чувство, будто это не она, а я побывал в сортире и умудрился окунуться в дерьмо по самую макушку.
* * *
Выйдя из дома Ивелин и Мерка, я заметил, что уже начало темнеть. Удивительно, как быстро летит время, когда занят делом. В прошлом я бы уже успел напиться, поспать, а потом снова напиться, страдая от безделья. Не сказать, что в Медине не происходит никаких преступлений, но разбираться с ними куда проще, чем с убийством Дока. Вся проблема состояла в том, чтобы отрезать преступнику пути к отступлению и вынудить его вылезти из норы, в которую он запрятался. Учитывая, что город окружала пустыня, это была не такая уж и трудная задача.
Всё это время я не переставал думать о выпивке, пусть и где-то на периферии сознания. Неожиданно помогла недавняя сцена, участником которой мне пришлось стать. Память впитала запах, шедший от матери Мерка, и при мыслях о выпивке меня начинало подташнивать.
Я решил, что на сегодня достаточно. Требовалось отдохнуть и переварить произошедшее. Может быть, внести дополнения в схему, которую я начал чертить. Имелось много новых факторов, над которыми стоило поразмыслить.
Участие барона, признание Легбы, глаза Шустера…
Когда я сворачивал за угол, приближаясь к квартире, прямо передо мной выскочил вездеход. Я едва успел отшатнуться, запнувшись о деревянную ступеньку «Первого и Единственного банка Медины (Отделение №2)». Пребольно ударившись копчиком, я с недоумением смотрел, как огромная машина уносится вдаль. Стёкла кабины оказались затемнены и лица водителя я не рассмотрел. Что касается модели вездехода – она была самой обычной. У каждого второго в городе подобный.
Поднявшись и отряхнувшись (второй раз за день!), я успокоил остановившихся прохожих взмахом руки и двинулся дальше. Учитывая, как всё топорно было сделано, меня хотели просто припугнуть, так что можно было не бояться повторного покушения.
Если же говорить про убийство, то пуля в затылок или нож в сердце – это куда проще и надёжней. Я не строил иллюзий, убить меня было так же легко, как и любого другого за исключением Легбы или Рюманова, быть может.
«А что если это просто досадная случайность? Водитель струхнул, а потому решил сбежать. Ведь и такое может быть…» – подал идею Томаш.
Я пожал плечами. Да, так могло быть, но я кое-кому мешал, и вариантов тут было немного. Нужно было всего лишь чуть-чуть подождать, и сегодня или завтра последует визит, во время которого мне объяснят, что стоит забыть и в какие дела лучше не совать свой нос.
Впрочем, возможно ограничатся запиской или письмом.
«Забудь о том, что видел в доме Рабби».
«Забудь о том, что тебе рассказала Легба».
«Забудь о моих жёлтых глазах».
«Забудь о смерти Дока».
Вариантов, как я уже говорил, было немного, как и моих недоброжелателей.
Тем не менее, дальше я старался держаться настороже. Пока одни хотят запугать меня, другие, не исключено, постараются убить.
Именно осторожность и стала причинной того, что я заметил одну сладкую парочку у входа в «Отель свиданий». Это был огромный мужчина и хрупкая женщина. Мужчина стоял спиной и в тени, так что всё, что я мог сказать о нём – он был гигантом. Никак не меньше голема-лесоруба, убившего Дока. Однако я узнал женщину рядом с ним. Да, я видел её всего лишь раз, и то мельком, но сейчас она уже успела снять маску перед входом, и огни вывески осветили лицо красотки.
Это была та самая девушка, которую я видел, когда приходил к барону в ночь убийства Дока.
«И она изменяет ему», – хмыкнул я и тут же укорил себя за расслабленность. Сомнительно, чтобы барон позволил это, если только сам не видел в том выгоды.
Я не стал подходить к парочке, чтобы заглянуть в лицо гиганту, но решил, что стоит запомнить это.
* * *
По пути домой я заглянул к синьору Веласкесу, торговавшему едой на вынос. Он соорудил мне гигантский тако и попытался всучить пару бутылок слабого пива. Пришлось убеждать его, что я сегодня не в настроении и это отнюдь не означает, что я что-то имею против его пива. Убеждение заняло едва ли не десять минут. Синьор Веласкес заламывал руки, призывал в свидетели Иисуса Христа, Кетцалько́атля, Перуна, Барона Субботу и всех иных богов, о которых только слышал. Обвислые усы синьора выражали недоумение, ведь он предлагал две бутылки по цене одной!
Возможно, стоило бы прогуляться в другое место, но тако у синьора Веласкеса были божественными, так что пришлось потерпеть немного. У меня даже возникла мысль взять пиво, чтобы после вылить его где-нибудь, но я решил не вводить себя в искушение.
В итоге мы расстались довольные друг другом – я чуть переплатил и благодарил хозяина, а он в ответ подарил мне бутылку домашнего лимонада, который сделала его жена, хотя все знали, что у синьора Веласкеса нет жены, зато в достатке детей разного возраста.
Уже дома, за ужином, я выяснил, что если сам тако был гигантским, то специй в него положили столько, что хватило бы ещё на пару таких же. И бесполезно пытаясь унять пожар в горле, я чувствовал, как разгорается пожар в голове.
Вытерев руки старым полотенцем, и без того грязным, я развернул перед собой листок, на котором рисовал схему (он к тому времени изрядно поистрепался), а заодно нашёл чистый листок бумаги и ручку. Я не стал чертить старую схему, дополняя её новыми фактами. Если хочешь решить проблему, то полезно менять угол зрения, поэтому я просто выписывал имена и дополнял их фактами.
Док – смерть от голема, механизмы внутри, чёрный песок, письма троим, зло на вокзале (не подтверждено).
Рабби – смерть, голем, письмо от дока.
Легба – смерть в её баре, письмо от дока, информация про голема и барона.
Барон – письмо от дока, знал о големе, интересовался чёрным песком.
Канга – информация о зле на вокзале (не подтверждено).
Шустер – жёлтые глаза.
Последних двоих я написал для общей картины, и не видел смысла вычёркивать. Нужно было держать в голове все факты, а я в последнее время с этим не справлялся. Да, я бросил пить, но ещё был далёк от лучшей формы.
Я взял ручку и принялся подчёркивать слова. Смерть – одной чертой. Голем – двумя чертами. Чёрный песок – тремя чертами. Письмо – волнистой линией.
Получилось, что в ряду Дока остались неподчёркнутыми «механизмы» и «зло на вокзале». В ряду Рабби и Легбы всё заполнено. Барон – тоже самое.
Я выписал чуть ниже от всего этого две фразы «механизмы внутри» и «зло на вокзале». По первому я не знал никого, кто мог бы мне помочь, а по второму варианту следовало найти Канга.
Возможно, стоило отбросить всё, что не влезало в стройную картину, и остановиться на самом очевидном варианте: Рабби убил Дока и умер сам вместе с големом. Нужно было лишь побеседовать с Бароном и выяснить, что тот знал об экспериментах Рабби. Но разговор этот ничем хорошим не закончится – даже имея на руках реальные факты, было сложно соперничать с бароном в их интерпретациях. К тому же, мои догадки основывались на словах Легбы, которые она бы ни за что не подтвердила при очной ставке.
«Всего лишь вспомнил о своём друге Рабби», – такой ответ я мог получить от Барона, и мне оставалось бы лишь подтереться этими словами.
Я наметил себе завтра прогулку к Канга и до вокзала. Ещё оставался Мерк, который обещал меня найти. Думаю, что-то могло сдвинуть дело с мёртвой точки.
Ложился спать я с воодушевлением, но одновременно с ощущением, что что-то упустил. Мелочь и деталь, которую я даже не удосужился принять к сведению. Такое со мной случалось часто и, говоря честно, оказывалось правдой в половине случаев.
Однако я уснул слишком быстро, чтобы понять, что же осталось за кадром.
Интерлюдия: Рюманов
Тайны просто созданы для того, чтобы их узнавали. Раскрытие чужого секрета воодушевляет и заставляет нервничать его владельца.
Этим можно и нужно пользоваться.
Барон Алексей РюмановНа следующее утро после крушения самолёта, гибели Рабби и других трагических событий барон Рюманов пребывает в благодушном настроении.
В просторной зале на втором этаже он возле окна, смотря сквозь прозрачную тюль, а Глафира, свернувшись калачиком, не то дремлет, не то пребывает в задумчивости. Стоящий в дальнем углу граммофон тихо играет полонез. Громкость тому виной или же атмосфера, установившаяся в комнате, но торжественная музыка более походит на мелодичное мурлыкание.
– Что самое опасное для мудрого человека, девочка моя? – спрашивает барон.
Глафира вскидывает на покровителя подобострастный взгляд и замирает в ожидании. Она уже привыкла к роли молчаливого слушателя, которому вопросы задают только для того, чтобы подтвердить собственные размышления. Покорность, однако, всего лишь третье по ранжиру качество, за которые её ценит Рюманов. Первое – беззаветная преданность, второе – блистательная красота.
– Наипервейшая опасность для мудрого человека, Глаша, это когда его заставляют действовать. И не важно – обстоятельства тому виной, собственные побуждения или чьи-то чужие поступки. Сделай чаю, будь ласка.
Девушка вскакивает с кресла и, громко топоча босыми ногами и заглушая музыку, кидается в направлении кухни. Барон следит, как колыхается подол платья, открывая взгляду светлые икры, и вздыхает. Если говорить о внешности Глафиры, то Рюманова привлекают именно изящные ступни девушки, потому он постоянно заставляет её ходить босой и носить платья чуть выше лодыжек. Колыхание ткани придаёт придуманному образу налёт домашнего уюта, знакомого ещё с детства. В родовом гнезде Рюмановых вся прислуга женского пола одевалась подобным образом.
О том, что происходит в имении сейчас и как им распоряжается старший брат барона, Рюманов предпочитает не думать. Застарелая обида, неодобрение семьёй его выбора… всё это и многое другое давно уже отдалило Рюманова от родственников, однако воспоминания остались. В отличие от многих, барон их не гнал от себя, а тщательно взращивал.
Глупо отрицать прошлое, которое даёт понимание будущего.
Тем временем Глафира возвращается. Медленно и аккуратно ступая, перекатывая ступню с пятки на носок, девушка вносит поднос, на котором стоят заварочный чайник, кружка и сахарница. Чай барон предпочитает крепкий и хорошо подслащённый, но никакой еды при этом не терпит.
Глафира ставит поднос на столик, наливает в чашку ароматной жидкости густого коричневого цвета, бросает четыре ложки сахара, размешивает и возвращается в кресло, вновь вжавшись в него спиной, словно желая раствориться в мягкой мебели. Барон переливает часть чая в блюдце, поднимает его, придерживая снизу на расставленных пальцах, и благосклонно кивает.
– Возвращаясь к разговору, замечу, что опасность для мудрого человека даже не в самом принуждении, а в том, что мудрый человек не привык к поспешным действиям. У него всегда есть план, он поступает в зависимости от выстраданных решений, а потому никогда и ни за что не должен бежать сломя голову куда-то, даже если мир при этом погибает… Ты слушаешь?!
Крик выдёргивает Глафиру из подступающего забытья. Она ничего не может с собой поделать – барон рассказывает интересно, но звуки его голоса для неё сродни музыке. Часто та музыка заставляла её извиваться в жаре страсти или же вынуждала искать прощения, но порой, как сегодня, убаюкивает своей размеренностью.
– Простите, – шепчет девушка, вновь выскальзывая из кресла, но теперь уже она не бежит, а ползёт к Рюманову, покорно опустив голову и стараясь не заглядывать барону в глаза.
Тот смотрит за движениями девушки со спокойным и сытым удовлетворением, но в глубине глаз разгорается пожар. Глафира подползает ближе, трётся о колено, укрытое халатом, а затем хватает барона за свободную руку и наотмашь бьёт себя по щеке чужой ладонью.
– А ну цыц! – Рюманов фыркает, отставляет чашку и хватает девушку за длинные русые волосы, заставляя поднять голову. – Чего удумала, красава? Ты мне личико своё не порть, тебе ещё им работать. Поняла?
Глафира кивает, пытается улыбнуться, но выходит излишне жалобно. Рюманов, тем не менее, кивает и, по-прежнему держа девушку за волосы, медленно и ритмично продолжает прерванную беседу:
– И потому, девонька моя, мудрый человек имеет тысячу, а то и больше планов, в которых старается предусмотреть абсолютно любой поворот судьбы. Чтобы только и оставалось – вытащить его из закромов, да использовать. Понимаешь, лапонька?..
Девушка что-то неразборчиво лопочет. Её тонкая ладонь с длинными изящными пальцами скользит под халат барона и поднимается всё выше.
– Брось ты это, Глашка, – Рюманов отпихивает Глафиру – не сильно и не грубо, но обидно. – Иди, оденься для улицы. С другим тебе миловаться сегодня надобно. Скромностью запасись только.
Ничуть не выказав неудовольствия, девушка покорно отползает к порогу, а затем встаёт и, вживаясь в необходимый образ, поднимается по ступенькам лестницы на верхний этаж медленно и осторожно, словно опасаясь всего в мире и ожидая на каждом шагу неудачи.
Рюманов, более не обращая на девку внимания, поднимается, вновь наливает чай в блюдце, и проходит в дальний конец комнаты. Там, неподалёку от граммофона, стоит шахматная доска с незаконченной партией. Барон оценивает ситуацию, делает несколько ходов с одной стороны и другой, а напоследок двигает белую пешку вперёд, намереваясь в будущем превратить её в ферзя.
Тут же охладев к шахматам, Рюманов кликает камердинера и велит тому готовить одежду к выходу.
Следует напомнить ещё одной зарвавшейся девке, что она должна слушать барона и беспрекословно подчиняться. И, хотя её не получится так просто схватить за волосы и оттаскать, поучая уму-разуму, но и Легбу фон Гётце непременно ждёт урок, который она запомнит на всю жизнь.
* * *
Поздним вечером, уже почти ночью, барон, в ожидании пока Глафира закончит свои дела, сидит в вездеходе и предаётся праздным размышлениям. В последней сдаче Фортуна наконец-то была благосклонна, и сейчас у Рюманова на руках сразу несколько козырей. Из них особо радовал и удивлял последний – уж очень нежданным он вышел.
Адепт! Подумать только!
В Медине, где никто не выбирал себе религию, наконец-то случилось исключение! Теологи всего света и всех религий засылали послов, проводили исследования, писали трактаты о царстве тьмы и безверия… и оказались посрамлены.
Барон ждал без малого десять лет, и удача наконец-то пришла к нему. Нельзя сказать, что он отчаялся, но, если откровенно, несколько потерял интерес в последнее время.
А потому, даже без скидок на качество материала, с которым придётся работать, сегодняшний день исторически важен.
Если всё получится, Рюманов захватит не только адепта, но и пешку, столь необходимую в его шахматной партии. Этот план он когда-то тоже предусмотрел, но, пожалуй, считал его одним из самых малореализуемых.
И вот поди ж ты!
Барон, не в силах сдержать хорошего настроения, хлопает себя по колену. Почти тут же, словно это условный сигнал, дверца вездехода распахивается и показывается лицо одного из гвардейцев, приехавших вместе с бароном из Великороссии. Рюманов недовольно морщится – песок залетает внутрь. Пожалуй, песок – это то, с чем барон так и не смог примириться за годы жизни в Медине.
Однако из-за спины гвардейца быстрым шагом выходит Глафира и тут же занимает в вездеходе место подле барона. Она рассказывает, как всё прошло, и Рюманову хочется помолиться Перуну. Такое, несмотря на благословение самого Верховного Волхва, с ним случается не так уж часто.
– Он наш, – шепчет Глафира. – Весь без остатка. Он дрожал, но принял испытание огнём. Надел медальон на шею и согласился почитать Перуна, как своего единственного Бога и благодетеля. Он наш, барон, без сомнения.
– А не заартачится? Чем ещё зацепила.
– Поцелуй! Ну и слеза Перуна, разумеется!
Глафира смеётся, но тут же замолкает, прикусив губу, хотя барон видит, как внутри девку распирает самодовольство. Что ж, может себе позволить. Целуется она знатно, с изобретательством, чаровница русоволосая. Рюманов и сам не раз мог оценить. А уж коли она ещё и воспользовалась слезой Перуна, так действительно пропал парень.
Или нашёлся, тут как посмотреть.
– Не возгордись! Не то плетей сегодня всыпят, да с Никитой спать будешь.
Девка вздыхает, но опять притворно. Впрочем, барону сейчас не до неё. Это всё напускное – Глафира не предаст и не отступит, что ни прикажи, так что пусть повосторгается собой. Повод есть, а урезонить всегда успеется.
Сейчас, несмотря на приятные вести, барона мучит непонимание истоков нежданно свалившейся удачи, и потому желание помолиться Перуну только усиливалось.
Полоса удачи куда опасней, чем время полного забвения: и то, и другое рано или поздно заканчивается.
Барон Алексей Иванович Рюманов, что для него не свойственно, не уверен, а всего лишь надеется, что успеет сорвать куш раньше, чем придётся возвращать Фортуне долги.
Глава VII
Похмелье я переживал не больше пяти-шести раз в жизни. Это случалось ещё на заре моей карьеры алкоголика, пока я не осознал главное правило— всегда держи себя в тонусе. Едва я пришёл к этой мысли, как перестал терзать себя понапрасну, и в моей крови в той или иной мере всегда плескалось сколько-то алкоголя.
Утром я вставал, не давая себе проснуться, потому что это автоматически означало приближение боли. Просто встать, пошарить руками в одном тайнике, в другом, третьем… в каком-нибудь да найдётся запрятанная бутылка. Несколько глотков, и уже можно открывать глаза, не боясь, что резкость мира расплющит глаза.
У этого правила была и обратная сторона – я никогда не напивался мертвецки. Я входил в штопор, но у самой земли аккуратно замедлялся и падал на заботливо подстеленную соломку. Возможно, то было чувство самосохранения, а возможно – гордость, которая не давала мне опуститься окончательно.
Как бы то ни было, но в то утро я проснулся с головной болью, и это было ещё не самое страшное. Всё тело болело так, словно тот вездеход вчера меня действительно переехал. Вдобавок, меня мутило, во рту воняло чем-то прокислым, было жарко до одури, а пульс скакал то вверх, то вниз, и при этом не придерживался какого-либо ритма.
У меня имелось два пути – терпеть или сорваться. И как бы мне не хотелось прибегнуть ко второму средству, я сдержался.
Когда руки уже зашарили в шкафу среди десятка старых книг в облезлых обложках (я отчётливо помнил, что в одной из книг заботливо вырезано отверстие под бутылочку виски), неожиданно вспомнился Бобби Ти. Именно тот момент, когда толстяк сидел перед пакетом из булочной и гипнотизировал его. Мысль о том, что Бобби превзойдёт меня в борьбе с собственной пагубной привычкой, привела воспалённый мозг в чувство.
Словно желая добить, подсознание вытащило на свет вчерашнюю встречу с Ивелин – запах алкоголя, дёрганная улыбка страха, вызывающий взгляд. Затем привиделся Канга, попивающий пиво с безмятежным выражением на лице.
Я зло зашипел, вновь взобрался на диван и прикрыл глаза. Хотелось сдохнуть, чтобы не вставать никогда больше. Почему вчера мне казалось, что я уже на пути к выздоровлению? Почему я думал, что достаточно перестать пить, и сразу всё пройдёт?
«Есть такая легенда, – сказал мне однажды Шустер, когда ещё пытался как-то повлиять на мою жизнь. – Такая маленькая легенда всего наркоманского племени, не важно, что за наркотик ты принимаешь: алкоголь, табак, марихуана, героин или ещё что. Легенда состоит в том, что есть на свете человек, который всю жизнь употребляет, а ему хоть бы хны. И он может отказаться в любой момент, едва только почувствует, что становится хреново… вот только никто не может точно сказать, как зовут того человека или хотя бы ткнуть в него пальцем».
Я, к сожалению, тоже не мог.
* * *
Какое-то время я лежал с закрытыми глазами. Было приятно, хотя имелось два минуса. Во-первых, озноб и дрожь по всему телу, которые дополнялись головной болью и бешеным пульсом. Во-вторых – я подозревал, что второй раз воззвание к гордости не сработает. Мне попросту станет начхать на Бобби Ти, Ивелин и остальных. Я просто придумаю себе новое оправдание.
Например, что пьяный я гораздо лучше соображаю.
По счастью, от мыслей, неминуемо обещавших привести к сеансу самобичевания, меня отвлёк стук в дверь. Аккуратный, деликатный, но в тоже время властный. Даже будь я в нормальном состоянии, такой стук меня насторожил бы.
– Войдите, – простонал я, постаравшись принять удобную для разговора позу.
Дверь скрипнула. Звук проскочил из одного уха в другое, задев по пути что-то в мозгу и заставив меня скрежетать зубами. Вскоре пришлось повторить, но уже осознанно – на пороге стоял барон Рюманов. Мысль о нежелательном визите нашла подтверждение.
– Отвратительно выглядите, княже, – сказал барон, притворяя дверь. – Можете не вставать. Я тоже присаживаться не буду. Грязновато-с.
Я хотел оскорбиться, но сил на не хватило, так что я ограничился неопределённым звуком.
– Скажите, Грабовски, вы ведь неглупый человек? – спросил барон, делая несколько шагов по комнате. – Вы ведь не бессребреник?
– Именно он, – я следил за Рюмановым, но делать это приходилось осторожно. От резких движений глаза начинали слезиться. – Глупец и бессребреник.
– Ясно. Тогда попробуем иначе: вам жалко своих коллег? Я сейчас рассуждаю абстрактно, не дёргайтесь. Так вот, вам жалко, когда с вашими коллегами происходит что-то не то? Вам жалко, когда они отправляются на задание – возможно очень банальное, что-то вроде слежки – а там их настигает беда? Может быть, смерть. Может быть, увечье. Вам жалко, княже?
– Жалко, – я помедлил, не сразу сообразив, к чему клонит Рюманов. – Так жалко, что я, пожалуй, могу начать за них мстить.
– Если вам так жалко, то занимайтесь этим делом сами. В случае чего, вам не придётся оплакивать чужие смерти, а до собственной вам уже не будет никакого дела. Я ясно выражаюсь? С вами у меня свои счёты и разговоры, а остальных я оберегать не обязан.
– А меня, значит, обязаны?
Барон улыбнулся гадкой пронзающей улыбкой и оставил вопрос без ответа.
– Надеюсь, мы поняли друг друга. Я не сомневаюсь, княже, что вы слышали, как охотятся на медведя. Смею уверить, окопавшись в берлоге, он раздерёт любого пса, который туда полезет. Да, потом охотник, возможно, и прикончит зверя, но это случится только потом. И уже не будет возможности вернуть собак. Отзовите псов, княже, пока есть такая возможность. Всего доброго!
Рюманов вышел, резко чеканя шаг, отчего мне даже пришлось прикрыть глаза и в очередной раз зашипеть от боли. Я подождал, пока шаги барона стихнут на лестнице, и шумно выдохнул.
То, что барон вёл себя подчёркнуто вежливо и спокойно, показывало, что он взбешён до предела. Впрочем, мне до того не было никакого дела. Если я останусь в постели, то не смогу предупредить Шустера, что Рюманов едва ли не в открытую бросил нам вызов.
Издав стон, за который мне было стыдно, но не настолько, чтобы себя сдерживать, я всё-таки встал. Держась за стены двинулся к выходу из квартиры. К счастью, в общем коридоре никого не было. Некоторые квартиры на моём этаже пустовали, а где шляются остальные обитатели, меня сейчас интересовало меньше всего.
Добравшись до душевой, я присел на низенькую деревянную скамейку и дрожащими руками стащил с себя майку и трусы. Всё было липким от пота и воняло так, что меня чуть не стошнило. Я склонился над раковиной, постоял, держась за неё, с полминуты, но ничего не произошло. С сомнением взглянув на руку, я уже почти решил помочь желудку с помощью пары пальцев, но передумал – оторвал себя от раковины и полез под душ.
Бойлер работал кое-как, но холодная вода в моём положении была даже предпочтительней. Я стоял, привалившись к стенке душевой, и размышлял, почему мне так хреново. Были две версии, и обе мне не нравились.
Первая говорила, что лечение алкоголизма напоминает лечение простуды. Сначала ты чувствуешь лишь некоторые симптомы, зато потом болезнь хватает тебя за горло и пытается задушить в горячечном бреду и лихорадке. А после отпускает обессиленного, наблюдая, как ты выплывешь на берег. Всё это значило, что сегодняшний день – только начало долгого пути.
Вторая версия подразумевала отравление. Как единственный вариант – тако синьора Веласкеса. Или его же лимонад. Не зря он не хотел меня отпускать без него. Хотя, скорее всего, дело было именно в тако. Возможно, часть отравы была ещё и в пиве, и в таком случае стоило возблагодарить внезапную трезвость за то, что я его не взял.
Впрочем, вторая версия отдавала паранойей. Если туда приплести ещё и вчерашний вездеход из-за угла, то можно было простроить неплохую теорию. Правда, мне не верилось, что я настолько предсказуемый, или же что некто подкупил всех торговцев едой в Медине.
Нет, наверняка всё гораздо проще. Ни одна сложная теория в жизни не работает. Так что стоило принять в расчёт именно первую версию, как бы мне не хотелось обратного.
Когда я уже перестал различать, трясёт меня от холодной воды или от болезненного состояния, то выключил воду и вылез из душевой. Я по-прежнему шатался, но уже мог соображать.
И благодаря этому вспомнил, что забыл про полотенце.
Пришлось вытираться майкой и трусами – по факту, мне удалось лишь собрать с себя часть воды. Учитывая состояние одежды, вскоре от меня вновь воняло, будто я и не мылся. Заставить себя вытирать голову этим я не смог, так что ручейки воды текли по всему телу, вызывая странное чувство – нечто среднее между щекоткой и зудом.
Прижимая мокрый ком одежды к паху, я двинулся обратной дорогой к собственной квартире. Какое кому дело до моего съёжившегося пениса, я не знал, но в таких случаях глубинные табу, накопившиеся за долгое время цивилизации, неизменно берут над нами верх.
* * *
Дорога в управление заняла у меня в два раза больше времени, чем обычно – помимо ветра и песка следовало бороться ещё и с собственным телом.
Шустер, как всегда подтянутый, гладко выбритый и спокойный, сидел на месте Бобби Ти в приёмной и пил кофе, закусывая пирожными. От запаха еды меня замутило, а цветущий вид Шустера вызывал зависть, смешанную со злостью. Мне было отвратительно видеть, как остальным хорошо, пока я сам чувствую себя развалиной.
«Зато у него глаза жёлтые», – подумал я, и эта мысль, как ни странно, примирила меня с реальностью. Как будто люди с жёлтыми глазами получали некое законное право на хорошее самочувствие в любой ситуации.
– Я больше не буду поднимать эту тему, но последний раз предлагаю: возьми отпуск, Любо. Твой организм выдержит только одну борьбу – либо с убийцей Дока, либо с алкоголем.
– Отвянь, – пробурчал я.
В ответ Шустер отсалютовал кружкой. Жуя очередное пирожное, Крополь погрузился в изучение какого-то отчёта.
Я вздохнул, подошёл к кулеру и налил себе стакан воды. Осушив его в три глотка, я потянулся за следующим. Выпив второй, а затем и третий, я понял, что сегодня мне светит напиться только в одном случае – если перейду на что-нибудь покрепче. Но как раз этот вариант был самым неприемлимым.
– Барон знает, что мы за ним следим, – сказал я, не глядя на Шустера. – Он приходил сегодня с утра и требовал «отозвать псов».
– Это невозможно, – сказал Крополь, но отставил в сторону кружку и отложил очередное пирожное. Уткнув подбородок в сложенные руки, он посмотрел на меня. – Это попросту невозможно, Любо.
– Думаешь, я вру?
– Нет, – Шустер покачал головой. – Я не вижу причин, зачем тебе врать. Но никакой слежки пока ещё нет.
– Как? – пластиковый стакан в моей руке заскрипел. Я перевёл взгляд и понял, что теперь пить не из чего. Получившаяся из стаканчика конструкция могла вобрать в себя лишь несколько капель.
– Вот так, – Шустер развёл руками. – У нас, как выяснилось, дефицит личного состава. Люди отдыхают после дежурств, а приставить к барону кого-то со стороны я не решился. Иными словами, если Рюманов о чём-то таком говорил, то это может означать, что он знал о наших намерениях приставить слежку. Знал и поторопился. Или же кто-то следит за ним по своей воле, чего тоже нельзя исключать.
– Но он решил, что это мы, – пробормотал я. – Странно…
– Быть может, нас подставили? Или кто-то узнал о наших планах и выдал их за реальность?
– Кто, например?
Взгляд Шустера был красноречивым даже за зеркальными очками. Крополь не сказал ни слова, но я понял, о ком он.
– Зачем это Легбе?
– Возможно, она что-то знает сверх того, что рассказала нам. А возможно, опасается и тебя, и барона, вот и решила стравить вас между собой.
Я выбросил ненужный стакан в мусорку, взял ещё один, наполнил, а затем вылил воду на ладонь и торопливо умыл лицо.
Мысли побежали плавней.
Что ж, поверить, что Легба так просто сдаст барона, с которым её объединяло гораздо больше, чем с полицией – было глупо. И совершить такую глупость мог только тот, кто не видит дальше своего носа. Например, детектив Грабовски, разомлевший от секса.
– Думаю, ты близок к правде, – резюмировал я. – Здесь идёт двойная игра, а может и ещё круче.
– Я рад, что ты понимаешь. Пожалуй, не стоит устанавливать слежку за бароном. Я сам этим займусь. Сомневаюсь, что со мной он так просто справится.
Шустер хищно оскалился и взял пирожное с таким видом, будто оно и есть барон Рюманов, который сейчас узнает, что не стоит связываться с детективом Крополем.
– А где Бобби Ти? – задал я вопрос, который мучил меня с самого начала. – У него отгул?
– Нет. Наш мальчик занят очень важным делом. Настолько важным, что я решил его пока подменить.
– Каким же это?
– Выйди во двор, Любо, и всё увидишь сам.
Довольная улыбка на лице Шустера была столь отвратительной, что я ушёл скорее просто для того, чтобы её не видеть.
* * *
Внутренний двор управления представлял собой открытую площадку, достаточную, чтобы провести общее построение, если когда-нибудь такая идея придёт шефу в голову. По счастью, пока он обходился без подобных зверств.
Кроме того, в том же дворе имелось несколько спортивных снарядов, за которыми бравые полицейские должны были проводить свободное от несения службы время. Тот, кто это придумал, явно никогда не жил в Медине или же был настолько толстокожим, что не замечал беснующийся вокруг песок.
Однако сегодня, едва ли не впервые на моей памяти, двор действительно использовался по назначению. Бобби Ти, в форме и маске, совершал пробежку. Судя по тому, как огромное тело толстяка мотало из стороны в сторону, то явно был не первый круг. Как минимум второй или даже ещё больше, если Бобби Ти не выдохся моментально.
– Занятное зрелище, правда? – прошептал Шустер, и я вздрогнул. Он опять сумел подкрасться незаметно, но теперь это не вызывало у меня такого удивления.
– Да уж…
Как раз сейчас Бобби Ти пробегал мимо нас. Под запотевшей маской можно было различить, что глаза толстяка полуприкрыты. Он бормотал что-то себе под нос, но сбившееся дыхание Бобби и ветер не давали различить слов.
Я проводил взглядом потную спину толстяка, вздохнул и двинулся назад в управление. Как не прискорбно было признавать, но я завидовал Бобби Ти. Его борьба была активной. Он сам выбирал, как воевать с пагубной привычкой. Что касается меня, то оставалось только терпеть. Стиснуть зубы, тренировать волю, и всё в таком духе. Если бы я сейчас решил побегать, то выдохся бы раньше того же Бобби.
«Он тебя уделывает, малыш. Так стоит ли оно того? Ты уже проиграл, так что смирись», – подал голос Томаш, и я не нашёл, что ему ответить.
* * *
Пока мы с Шустером возвращались к стойке дежурного, сразу несколько полицейских с подозрением посмотрели на меня. Я догадывался, что выгляжу отвратно, но поневоле задумался. Ребята видели меня пьяным, трезвым и ещё не пойми каким. Интересно, как я должен был выглядеть, чтобы они смотрели на меня, как сейчас.
– Ты спал этой ночью, Любо? – спросил Крополь, вновь усаживаясь на место дежурного.
– Как убитый.
– Оно и видно. Выглядишь, как труп.
– Отличная шутка, помнит ещё зарождение мира. Не волнуйся, я пока не собираюсь присоединиться к Доку и Рабби. Кстати, кто-нибудь ещё умер?
– Хромой Густав, но там пьяная драка и обычный нож в роли орудия убийства. Преступник удрал в пустыню, так что, думаю, либо он скоро вернётся самостоятельно, либо сдохнет. Я даже разрешил ребятам особо не усердствовать в поисках. Песок всё сделает за нас.
Мне показалось, что в отражении очков я поймал хищный отблеск настоящих глаз Шустера, но вскоре убедился, что это было моё собственное бледное лицо.
– А как с чёрным песком?
– Тут всё загадочней и запутанней. Наши специалисты до сих пор не смогли открыть его тайну. Одно они пока готовы сказать с уверенностью – он содержит элементы органического происхождения. У меня есть теория – это особый вид дерьма, от которого обычный песок предпочитает держаться подальше, потому что есть риск провонять до конца жизни.
Я смотрел на Шустера, пока тот не соизволил улыбнуться. Только тогда я позволил себе отвести взгляд. Вновь прошёл к кулеру, взял стаканчик, налил воды и выпил залпом. Вновь не помогло. Замутило ещё сильнее.
– Ты сегодня не в себе, – прокомментировал Крополь.
– Зато ты – образец остроумия и странных заявлений, как я погляжу.
Я говорил нарочито грубо. Мне очень хотелось, чтобы меня оставили в покое. Я чувствовал, что в конце концов меня всё-таки вырвет, и не хотел, чтобы это произошло при свидетелях. Идти в туалет тоже не было сил. Я не мог сказать с уверенностью, что доберусь туда в целости. Да и вид детектива Грабовски, который несётся в туалет с раздутыми от рвоты щеками и выпученными глазами, мог подпортить мою и без того отвратительную репутацию.
Шустер подошёл ближе и заглянул мне в глаза. Зеркальные стёкла очков, собственное лицо, отражённое в них, и странный резкий запах, шедший от Крополя, оказались последними ударами, обрушившимися на больной желудок. Я резко отстранил Шустера, схватил корзину для бумаги, стоящую под столом дежурного, и почти с наслаждением изверг из себя то, что давно просилось наружу.
– Вот же хрень! – Шустер не смог сдержать возгласа.
Я был с ним абсолютно согласен. «Это расплата, – думал я. – Расплата за то, что ты так наплевательски относился к собственному организму. Теперь он тебе законно мстит. Ты должен будешь выблевать всё, что не успел выблевать, пока был грёбанным алкоголиком. Так рождается новый человек, Грабовски. В муках и отвращении к самому себе».
Поразительно, но мне удавалось прокручивать в голове философские фразы и при этом продолжать исторгать из себя рвоту. Чем дальше, тем меньше её становилось, но тем больше усиливалась резь в желудке, а горло словно обработали наждаком. Кроме того, мне было стыдно перед Шустером, который стоял и спокойно наблюдал за происходящим, словно бы не происходило ничего сверхординарного. Конечно, он видел меня и не в таком состоянии, но на его месте я бы уже давно вышел, хотя бы из чувства сострадания.
Хорошо ещё, что остальные полицейские шатались неизвестно где. По крайней мере, на звук никто не вышел, а возможно я просто никого не заметил.
Наконец, я выплюнул последние остатки – нечто склизкое и едкое, скорее всего просто желудочный сок. Вытершись рукавом, я меланхолично поставил корзину под стол, несмотря на идущий от неё запах. На подгибающихся ногах направился в уборную, постаравшись обойти Шустера по максимально далёкому радиусу.
Я почти физически ощущал вонь, которую сам же и распространял.
* * *
В туалете я наскоро прополоскал рот и, сняв рубашку, долго её отмачивал. Кажется, в тот момент кто-то заходил, но ничего не сказал, к своему же счастью. Я ощущал, что если кто-нибудь попробует произнести хоть слово в мой адрес, то я наброшусь на него. Не столько от обиды, сколько от накопившейся усталости от всего того, что свалилось на меня в последнее время.
Боец из меня сейчас был никакой, так что получился бы фарс, а не драка, но лично для меня всё обернулся бы трагедией. Я был в том состоянии, когда мог устроить истерику с криками, визгами и прочим дерьмом.
Всё по заветам старика Томаша Хубчека.
«Но-но, малыш! – подал он голос. – Только не надо на меня наговаривать».
Покончив с рубашкой, я натянул её на себя – мокрая холодная ткань прилипла к телу и принесла на некоторое время долгожданное облегчение. Затем я, подумав, решил не надевать свитер, а так и пошёл, чувствуя, как капли воды спускаются ниже по спине, проникают под штаны и катятся по ягодицам. Уже второй раз за сегодня со мной случилось нечто подобное, но сейчас ощущения были даже приятные. В итоге, в свой кабинет я пришёл в некоем подобии приподнятого настроения.
Там был Шустер, стоящий у распахнутого окна. Радостный песок с удовольствием выплёскивался на подоконник и ссыпался горстями вниз. «Только его мне не хватало», – подумал я, сам не до конца понимая, кого именно (песок или Шустера) подразумеваю.
– Теперь ты больше похож на человека, – заметил Крополь. Он чертил на подоконнике какие-то знаки в песке, но они тут же оказывались разрушены ветром. – Я убрал там, можешь не благодарить. Просто не хотел, чтобы у Бобби был шок, когда он вернётся. Наш мальчик очень раним.
– Это иллюзия, – я поморщился. Мне было стыдно перед Шустером. Перед ним, пожалуй, больше, чем могло быть перед кем-то ещё.
«Всё закономерно, – подумал я. – Вчера он приоткрыл свою тайну, а сегодня я свою. Только Шустер показал, что он опасен, а я – что ничтожен».
– Любо, у тебя есть срочные дела?
– Пожалуй, что нет, – я пожал плечами. – Пара встреч, но время не определено. Хочешь что-то предложить?
– Мне кажется, тебе не помешает немного прокатиться, – Крополь всё не отрывался от игры с песком. – Ты слишком много на себя взял в последнее время. Нужно развеяться. Я больше не настаиваю на твоём отпуске, но немного отвлечься тебе не повредит.
Я всего лишь кивнул в ответ. Мысль была неплохой. Ну а если меня и укачает – это будет где-то далеко, а вокруг не будет никого, кроме Шустера. А он уже сегодня на подобное насмотрелся.
Шустер прошёл мимо меня, похлопал по мокрому плечу (звук вышел чавкающий) и вышел из кабинета. Я остался один, ощущая, что внутри постепенно всё успокаивается. Битва ещё не выиграна, и вскоре за этим приступом облегчения последует следующий удар истерзанного организма. Но пока я испытывал небывалый подъём.
Наглухо застегнув плащ, я вышел из кабинета, натягивая на ходу маску. За столом дежурного сидел Бобби Ти и тяжело дышал, обливаясь потом. Корзины под столом, как и сказал Шустер, не было, но запах пота Бобби затмевал всё.
– Держись, толстяк, – сказал я, подмигивая. – Не всё ещё потеряно.
* * *
Джип Крополя подпрыгивал на дюнах, качался на рессорах и уносился прочь от Медины. Солнце застыло в зените и нагревало чёрный автомобиль с каждой секундой. Я мог не боятся простуды – рубашка высохла в первые пять минут. Кондиционер работал еле-еле. Ветерок, задувавший сквозь приоткрытое окно, бросал в лицо мелкие песчинки, и тоже не спасал от жары.
Тепловой удар стал бы закономерным итогом сегодняшнего отвратительного дня.
Меня, однако, больше беспокоил Шустер. Заодно с содержимым желудка я, кажется, избавился и от всех лишних мыслей, в результате чего простроилась простая логическая цепочка: детектив Грабовски узнаёт тайну детектива Крополя; детектив Крополь на следующий день подчёркнуто заботлив и постоянно спрашивает о состоянии здоровья детектива Грабовски; затем детектив Крополь предлагает детективу Грабовски уехать подальше от города.
Зачем?
Вывод напрашивался один: чтобы детектив Крополь мог убить детектива Грабовски без свидетелей и спрятать труп. После оставалось заявить, что детектив Грабовски не справился с психологической травмой, вызванной смертью Дока, завязал со спиртным, и покинул Медину, чтобы начать новую жизнь в новом месте.
Версия вполне достоверная. Не хуже прочих, это уж точно.
Однако я не собирался ничего предпринимать, пока подозрения не подтвердятся. Возможно, рискованно, но за всеми не уследишь, и если уж мне было суждено умереть от предательского удара, то пусть предателем окажется Шустер. По крайней мере, я верил, что он постарается сделать всё быстро и безболезненно.
Когда прошло уже минут десять с тех пор, как мы миновали долину ветряков, Крополь остановил машину. Мои подозрения усилились – местность вокруг была примечательна только тем, что город отсюда уже не просматривался.
– Что-то случилось? – спросил я, пытаясь оставаться спокойным, хотя руки слегка подрагивали. Лишнее доказательство того, что рассуждать о чём-либо спокойно получается ровно до того момента, пока не столкнёшься с этим вплотную.
– Давай выйдем, – сказал Шустер.
Он первым выбрался из джипа, потянулся и повернулся ко мне. Не оставалось ничего другого, кроме как последовать за Крополем. Снаружи было ещё жарче, и я непроизвольно сглотнул. Стоило взять с собой хотя бы флягу с водой.
– В чём дело? – спросил я. – Ты ведь меня не просто покататься вытащил.
– Вообще-то, сначала просто покататься, но теперь решил, что стоит кое-что тебе показать.
– С чего бы вдруг?
– Ты изменился, Любо, – ответ ничего не объяснял, но Шустер не уточнил ничего сверх этого.
Мягко и плавно (в общем-то, как обычно, если речь о Шустере Крополе) он сделал несколько шагов и замер у капота автомобиля. Усмехнувшись, взглянул на меня взглядом завзятого фокусника и поднял крышку капота вверх.
Я по-прежнему испытывал странные эмоции по поводу происходящего, но любопытство оказалось сильнее. Я осторожно придвинулся и посмотрел, отчётливо осознавая, что ничего хорошего там не увижу.
Впрочем, поначалу я не разглядел ничего особенного. Затем, когда присмотрелся, понял, что меня начинает потихоньку потряхивать мелкой дрожью. Большая часть двигателя была обычной мешаниной каких-то железок и проводов (я плохо в этом разбирался), однако в ближнем ко мне углу притаилось нечто похожее на железную клетку. Некоторые шланги и провода были закручены в немыслимых позах, лишь бы уместить посторонний предмет.
Внутри той самой клетки стояло типичное «беличье колесо» с прицепленными к нему проводами, а в колесе сидели две собаки странной породы, чей рост не превышал двадцати сантиметров в холке. Однако, несмотря на это, я не мог назвать их «собачками» или «пёсиками». От этих собак – чёрной и белой – веяло страхом и силой. Спокойная поза, взгляд их жёлтых (как у Шустера!) глаз, острые маленькие клыки, торчавшие над губами – это завораживало и пугало.
Всё было настолько дико и странно, что я даже не сразу понял, зачем там «беличье колесо». А когда осознал, то почувствовал неудержимо распирающий изнутри хохот. Я сполз на песок, цепляясь за решётку радиатора, а после с минуту истерично смеялся, лёжа на песке и размахивая руками.
Собаки были настоящим двигателем машины. Собаки передавали тот импульс, который заставлял джип Шустера мчаться. Собаки были той тайной, которую Крополь берёг от всех, наравне с собственными глазами.
«Но тебя он посвятил в оба секрета. В один вынужденно, но во второй-то добровольно…» – напомнил Томаш, и я осёкся. Чувствуя боль в израненном и ссохшемся горле, я поднялся и посмотрел на спокойно взирающего на меня Шустера, который до сих пор не проронил ни слова.
– Что это? – спросил я. – И, главное, зачем это?
– Их зовут Каспер и Йозеф, и они заставляют машину двигаться. Вернее, не они сами, а электричество, которое вырабатывается в колесе.
– Это я понял, – сказал я, отметив для себя, что передо мной были не собаки, а псы. – Но зачем это?
– Потому что мне надо было их куда-то пристроить, – улыбка у Шустера вышла кривая. Он снял очки и взглянул на меня своими жёлтыми глазами, и я поспешил отвернуться. —Возможно, это прозвучит слишком сентиментально, но я давно уже хотел с кем-нибудь поделиться. Очень тяжело носить всё в себе. Слишком тяжело, когда слишком долго.
– Почему ты говоришь, что их надо было пристроить? – я уцепился за одну мысль, пытаясь отсечь остальные. Сейчас в голове медленно, но верно расцветал пурпурный цветок обморока. Уже чувствовалось его приближение, однако я не хотел прерывать разговор.
– Потому что они всегда будут со мною рядом. Потому что они хотят мне помогать. Потому что я чувствую, как они страдают, когда им кажется, что они бесполезны.
– Ясно. – Я облизал пересохшие под маской губы. – Ещё один вопрос: ты убил Дока?
Ответа я не услышал. Цветок наконец-то распустился, и глаза залило сначала пурпуром, а потом сразу же белым. Однако среди всего этого на секунду показалось лицо Крополя. Несмотря на жёлтые глаза, выглядел он не пугающим, а изумлённым и растерянным.
Интерлюдия: Шустер
У каждого в этом городе есть страх. Фактически, мне никогда ещё не приходилось видеть столь много боящихся чего-то людей. Но, возможно, именно страхи заставляют их испытывать настоящие эмоции.
Шустер КропольВ тот день он впервые осознаёт себя. Как и само понятие – «впервые».
Он пробует сжать пальцы в кулак и испытывает боль, поскольку не привык контролировать усилия. Боль кажется ему знакомой. Возможно, когда-то он её ощущал, но скорее – причинял другим. Попытки вспомнить ни к чему не приводят: не болит голова, не встаёт чёрная завеса перед глазами, не кажется, что ещё чуть-чуть и что-то откроется.
Не происходит ровным счётом ничего, и он бросает это пустое занятие.
Осматривается дальше. Собственное тело – мускулистое, без грамма лишнего жира и без единого волоска. Обстановка вокруг – серое помещение из камня, много пыли, полумрак. Луч солнца – пробивается через щель двери, тоже каменную. Принюхивается к запаху пыли, вдыхает слишком глубоко и чихает.
Это событие пробуждает в нём неясную и неконтролируемую волну радости. Он смеётся заливисто и громко, наслаждаясь звуком собственного голоса: твёрдого и решительного.
Внезапно понимает, что в помещении холодно, но холод не помеха этому телу.
Фраза «этому телу» приходит сама собой, и он долго её обдумывает, логическим путём приходя к пониманию, что раньше у него было иное тело. И, может быть, даже не одно.
Никаких воспоминаний по-прежнему нет, но возникает ощущение цели. Какая она и в чём состоит – пока неизвестно. Есть лишь ощущение, что рано или поздно он должен её найти. А может, цель найдёт его сама.
Он решает, что для начала следует выбраться из того места, где он осознал себя.
Дверь отворяется без особых усилий. Он выходит, оглядывается и замечает кривую надпись, выведенную краской на двери.
Некрополь
«Почему „не“?» – спрашивает он у себя и тут же отвечает: «Очень даже крополь».
Слово не имеет для него значения, но нравится своим звучанием, потому неизвестный решает, что именно так его и будут звать. Имя ничем не хуже других, особенно для того, у кого секундой назад не было никакого.
«Шустер» возникнет чуть позже, когда он встретится с обитателями соседней деревни. Один из них, пьяный вдрызг, будет издали кричать, что не верит во всяких «шустриков» кладбищенских. Он протрезвеет и поседеет, когда увидит жёлтые глаза подошедшего Крополя, а тот, в свою очередь, помимо второй части имени приобретёт привычку скрывать свои глаза, узнав, какой эффект они оказывают на окружающих
Точная дата, когда Шустер Крополь осознаёт себя, неизвестна. Дело не в памяти – он помнит абсолютно все события в жизни, даже те, которые не хочет. Однако время в воспоминаниях подчинено какой-то своей логике.
Кажется, что всё происходило неделю назад, а на самом деле прошли годы. Думаешь, что тебя там ждут, а выясняется, что все ожидающие давно умерли. Верится, что ты ещё молод, а оказывается, что ты старше зданий, вдоль которых идёшь.
Впрочем, в тот день, когда он осознает себя – да и гораздо позже – возраст и даты не имеют для Шустера Крополя значения. Всегда и везде он остаётся тем же, кем появился на свет.
Не-человеком.
* * *
В тот же день Шустер Крополь понимает ещё одну вещь – чужой страх даёт ему силу. Она бурлит в крови подобно жидкому огню, пьянит, обжигает и призывает потратить её всю без остатка. Эта сила не безгранична, ей подвластно лишь материальное, но его так много в этом мире, что Шустер Крополь не переживает по поводу пределов отмеренного ему могущества.
Когда пьяный житель деревни – тот самый, что называет его «шустриком» – мигом трезвеет и седеет, излучая флюиды страха, Шустер Крополь вдыхает их, хищно раздувая ноздри. Поддавшись шальной мысли, он оживляет двух небольших каменных псов у входа в Некрополь, и те покорно устремляются к ногам создателя, смотря на него с неподдельной любовью. Шустер Крополь знает, что по его приказу, и даже без него, псы разорвут любого, кто представляет собой опасность.
И хотя сейчас никто не угрожает, Крополь не может сдержаться от того, чтобы не приказать им: «Повеселитесь!»
Псы устремляются в деревню. Они лают громоподобными голосами, они шустры и неуловимы, они приводят в ужас обитателей деревни.
Шустер Крополь идёт следом, впитывая флюиды страха и попутно создавая себе одежду, хотя ему по-прежнему не холодно. А заодно украшает себя очками с зеркальными стёклами, которые скрывают жёлтый цвет глаз. Подумав, он добавляет волос на голове, на руках, ногах и везде, где они должны быть.
Он и без того отличается от остальных, чтобы ещё выставлять это напоказ.
Деревня быстро приедается. Страх селян пахнет отчаянием и горьким самогоном. Отдаёт плохой едой, немытыми телами и простодушием. В этом страхе нет изюминки и, если проводить параллели, это блюдо способно утолить голод, но не радует вкус.
И вскоре, никого не убив и даже не покалечив, Шустер Крополь и его псы отправляются дальше в поисках чего-то более изысканного.
* * *
На долгое время Шустер Крополь становится кошмаром, приходящим из ниоткуда. В неизменном чёрном приталенном плаще и зеркальных очках, не снимаемых даже ночью, он путешествует в окружении двух карликовых псов, которые опасны куда больше, чем их гигантские собратья.
Так проходит период, который можно назвать детством Шустера Крополя.
Как и всякий ребёнок, он любопытен сверх меры и не различает добро и зло. Важно лишь то, что даёт ему возможность почувствовать себя хорошо. А это, за редким исключением, страхи. Чаще всего тоже детские.
Ведь только дети умеют боятся искренне: до глубины души, до дрожи в коленках; до струйки мочи, стекающей по штанине; до воя, поднимающегося из глубин сердца.
Шустер Крополь является им ночью, опытным путём выяснив, что это наилучшее время. Во-первых – дети предоставлены сами себе. Во-вторых – ночные страхи настолько естественны для них, что никто из взрослых не задумается, что, в действительности, происходит.
Но любое детство рано или поздно заканчивается, и для Шустера Крополя этот момент наступает в тот день, когда от его визита пара близнецов погибает от страха. Их сердца не выдерживают вида жёлтых глаз Шустера Крополя и его ухмылки.
Это событие ввергает в уныние – предсмертный страх оказывается горьким и муторным. Несколько дней Шустер Крополь чувствует слабость, будто бы и сам готов умереть. Его руки дрожат, ноги отказываются повиноваться, а дыхание становится хриплым и прерывистым.
Тогда же он впервые в жизни ощущает холод. Тогда же впервые псы скулят, прижимаясь к хозяину в нелепой попытке его согреть. Всё это вызывает неконтролируемую ярость, для которой, по счастью, недостаточно сил.
Однако появляется время поразмыслить, и итогом размышлений становится отказ от прошлой жизни. Не полный, но значительный – отныне никаких больше испугов, кроме тех, которые действительно нужны, чтобы насытиться. Никакого обжорства, а только необходимое питание.
Шустер Крополь вспоминает, что у него есть цель. Он по-прежнему не знает в чём она заключается, и где её искать, но решает, что самое время заняться выяснением как первого, так и второго.
Восстановив силы, он подзывает псов и нарекает их Каспером и Йозефом – так звали погибших близнецов.
* * *
Как и всякий, кто предпочитает разум в угоду эмоциям, Шустер Крополь вырабатывает методику поисков. Он постоянно движется, огибая земной шар по неповторяющимся траекториям. Дни слагаются в недели, недели в годы. Те, возможно, в столетия. Шустер Крополь не ведёт отсчёта, но продолжает идти, восполняя силы мимоходом.
Жара и холод не властны над ним и каменными псами, время не старит ни одного из них, однако оно приносит с собой иное качество – мудрость.
Бесконечное кругосветное путешествие – отличный способ привести мысли в порядок и понять, что же ты хочешь. Шустер Крополь достигает этого состояния ровно в тот момент, когда входит в Медину.
Этот день не остаётся в памяти ни одного из обитателей Медины. Ему не предшествует ничего помпезного или пафосного. Он не содержит в себе диковинных событий или иллюминаций.
Всего лишь ещё один бродяга входит в город. Местные видели такое не единожды, потому даже не присматриваются. И никто не удивляется внешнему виду Шустера Крополя или его псам – здешние обитатели сами кого хочешь могут удивить.
Именно в тот момент вечный путешественник наконец-то понимает, что пришла пора остановиться. Он достиг цели, хотя, в чём именно она заключается, до сих пор не ясно. Однако он умеет ждать и искать, а это не так уж мало.
Не нуждаясь в еде или сне, Шустер Крополь, однако, нуждается в людском обществе. Ему нужно встроиться в окружающую систему так, чтобы внушать страх окружающим, но вместе с тем не вызывать подозрений – оставаться в тени, пребывая на виду большую часть времени.
* * *
В первую очередь он отказывается от псов. Оставляет их дома, когда отправляется куда-то. Приказывает молчать и не показываться на людях. Игнорирует все их попытки помочь.
Псам тяжело, они изнывают от подобной несправедливости, преданные за свою верность. Шустер Крополь мог бы развеять их так же просто, как и создал, но столько лет вместе не проходят даром. Живя среди людей, питаясь их страхами и наблюдая исподволь, он проникается некоторыми их чувствами.
Именно одно из них – проще всего назвать его сентиментальностью – побуждает Шустера Крополя найти выход. Сделать Каспера и Йозефа полезными, обратив неутомимость и рабскую покорность в вечный двигатель для старенькой машины. Машина тоже вызывает вопросы, но к ней привыкают быстрей и проще, чем к псам, а после уже просто считают вещью, которая не требует объяснений.
Решив эту проблему, Шустер Крополь занимается другой – поиском страха. Ему нужна пища, без неё сил не останется и даже это совершенное тело погибнет. До этого он никогда подолгу не оставался на одном месте, а значит – мог пугать безнаказанно, не опасаясь, что кто-нибудь его узнает.
В Медине приходиться искать другие пути. Шустер Крополь находит два и долго не может выбрать: закон или анархия. Больше по привычке к упорядоченному, чем по велению сердца, Крополь выбирает закон и записывается в полицейское управление Медины.
Страх преступников, чувствующих, как им наступают на пятки, пахнет сальным потом, но в меру питателен. Страх тех, кто сидит в камере ожидая допроса или приговора – куда слаще и его хватает, чтобы утолить голод.
Со временем Шустер Крополь настолько вживается в придуманный образ, что иногда по нескольку дней не вспоминает о пробуждении в Некрополе, тайной цели и Йозефе и Каспере под капотом джипа.
У него отличная память, она не дружит только с временем, но рутина обыденных дел и проблем не даёт отвлечься на что-то иное. И только очередной глоток страха, подобно нашатырному спирту позволяет вынырнуть из придуманной грёзы и с холодной яростью осознать, кто он на самом деле.
Так идут дни и годы, и постепенно в голове Шустера Крополя формируется образ той самой цели, что привела его в Медину. Лишь стоит сформулировать это для себя, как жизнь становится такой же яркой, какой она была в самом начале пути.
Всего-то нужно – найти того, кто внушит страх самому Шустеру Крополю…
Глава VIII
Я пришёл в себя в тот момент, когда джип подпрыгнул. Машина неслась по песку, солнце светило в глаза, не давая их открыть, а на лбу лежала мокрая тряпка – липкая, противная и горячая.
«А где-то под капотом Каспер и Йозеф крутят колесо, чтобы машина ехала как можно быстрее, – подумал я. – Они ощущают собственную важность, а осознание того, что хозяин доволен, наполняет псов теплом и силой. И большего им не надо».
Я стянул тряпку, бросил себе под ноги и открыл один глаз, прикрывая лицо рукой. Крополь неотрывно смотрел на дорогу сквозь зеркальные очки. Последнему обстоятельству я был только рад. Вид желтоглазого Шустера нервировал сверх меры.
– Зачем ты мне это показал? – спросил я. – Каспер и Йозеф, зачем мне о них знать? Давай опустим эту душеспасительную историю о том, что тебе просто надо было с кем-нибудь поделиться. Не поверю, что в твоих действиях не было расчёта.
– Был, – Шустер усмехнулся краем рта. – Видишь, ты хорошо успел изучить меня за эти годы.
– Не сказал бы.
– Брось, тайны есть у каждого, а я сейчас говорю о характере. Ты изучил меня, а я изучил тебя. Когда ты увидел цвет моих глаз, то я сразу понял, что если буду делать вид, что ничего не произошло, то только вызову у тебя подозрения. К тому же, чем больше держать тебя в неведении, тем больше ты хочешь узнать.
– Поэтому ты решил пойти ва-банк, – подытожил я и, подтянувшись, постарался устроиться поудобней. – И шокировать меня ещё сильнее.
– Всего лишь показал тебе, что тайн у меня гораздо больше, чем одна. И что не стоит заострять внимание только на глазах.
– И чтобы показать, что ты мне доверяешь. Ясно, – я всё же закрыл глаза – устал держать руку, прикрываясь от солнца. – Это неплохо, но в последнее время я не доверяю никому.
– Я знаю, Любо, – Шустер кивнул. – Потому и решил раскрыть карты. Если ты не доверяешь, то узнал бы обо всём рано или поздно.
Я молчал. Стройность логики Крополя казалась неоспоримой, но было и что-то ещё, из-за чего я пытался сдержать гнев. Мне было тяжело смириться с тем, что я такой… предсказуемый. Кажется, все в Медине (за исключением, разве что, Бобби Ти) относились ко мне как к дешёвому паяцу, чьи трюки давно изучены, и потому на представлениях остаётся лишь изображать вежливый интерес, сдерживая зевоту.
Кроме того, меня смущало, что я не помнил ответа Шустера на вопрос, не он ли убил Дока. С одной стороны – изумлённое лицо было красноречивей слов, с другой – я предпочитал бы услышать и их.
Однако вместо того, чтобы переспрашивать, я решил уточнить кое-что другое.
– Их же может увидеть каждый. Каспера и Йозефа. Всего-то надо приоткрыть капот, и вот они. Можно увидеть, а можно и украсть.
– Увидеть-то можно, – улыбка Шустера стала хищной. Я по опыту знал, что за ней обычно ничего хорошего не следует. – Но ты не разглядел главного, Любо. Клетка всего лишь для удобства. Она открывается изнутри, а Каспер и Йозеф вполне способны за себя постоять.
Я поёжился. Внезапно, несмотря на жару, мне стало холодно.
«Если это – часть его прошлого, то каким же оно было?» – спрашивал я себя и приходил к выводу, что, возможно, и здесь Шустер меня превзошёл.
* * *
На подъезде к городу я попросил остановить машину.
– Прогуляюсь пешком. Надо о многом подумать.
– Только не перетруждайся, – хмыкнул Шустер. – Ты только что пережил тепловой удар. Тебе надо в постель, Любо. Лежать и выздоравливать. Если не вернёшься сегодня на работу, я пойму.
– Я и не собирался, – мне хотелось заняться кое-какими делами, хотя Шустер был прав относительно моего состояния. – Раз уж слежка за бароном отменяется, то остаются только эксперты и чёрный песок. Но это от нас не зависит, мы можем только подгонять.
– Оставь это мне, – очки Шустера сверкнули, поймав солнечный луч. – Они поторопятся, не волнуйся. Ты только будь осторожней, Любо.
Я захлопнул дверь и джип унёсся вдаль.
– Каспер и Йозеф, – прошептал я и хмыкнул. Опять подступил смех, но мне удалось с ним справится.
Впрочем, пусть лучше нервный смех, чем полнейшее непонимание и желание исчезнуть из этого мира, лишь бы не разбираться в том, что происходит…
* * *
Время беспокойств пришло, когда я двинулся в путь. В машине у меня была иллюзия, что я всё контролирую, но стоило встать на ноги, как захотелось немедленно лечь и свернуться в клубок. Однако я знал, что человек, который решит вот так скоротать время, либо замёрзнет после наступления ночи, либо ещё раньше окажется засыпанным песком и превращённым в одну из дюн. Ни тот, ни другой вариант меня не устраивали.
Я медленно брёл в сторону дома Канга, иногда останавливаясь и вытирая лоб ладонью. Солнце всё ещё палило, но уже начало потихоньку опускаться, готовясь спрятаться за горизонт. Ветер практически безмолвствовал, хотя мне хотелось, чтобы он бил в лицо. Не сильно, но ощутимо. Маска спрячет от песка, но ощущение «преодоления» не помешало бы.
Мне очень не хватало «преодоления».
Мир, который я знал, рушился на глазах. Я и раньше не питал иллюзий относительно секретов других людей, но до поры до времени с этим не сталкивался. Я спокойно жил, пил и занимался рутиной. Ничего необычного, ничего странного, ничего сверх того, что ты можешь представить. Однако, по факту, все эти секреты жили вокруг своей жизнью, и сейчас я словно выпал (или наоборот, впал) из одной реальности в другую. Изменился угол зрения, и всё, казавшееся обыденным, предстало в ином свете.
Док, Рабби, Легба, Шустер… кто там следующий? Барон? А может быть, окажется, что Бобби Ти – это отродье тролля, и он попросту не может не есть, иначе займётся людоедством?
Я привык считать чудеса, демонстрируемые последователями разных религий, фокусами. Балаганным развлечением, которое само по себе неплохо, если только тебе не пытаются прочистить мозги. Теперь же я приходил к выводу, что это всё «настоящее».
Сила, скрывающаяся в окружавших меня людях, была действительно «иная». Я не был готов назвать её божественной, а даже если бы и сделал так, то всё равно не поверил бы в этих богов. Однако я готов был признать, что вся эта сила проистекает из веры. Из преданной фанатичной веры, посвящённой служению чему-либо.
«А какова моя вера? – подумал я. – В закон? Хрен с ним, он мне ничего хорошего не сделал. Закон вообще ничего хорошего не делает. Ты можешь жить спокойно и верить в него, пока не встретишь того, кто плевать хотел на все законы. И его вера в то, что подобное право даровано человеку свыше, может оказаться сильнее твоей. Не говоря уже о том, что он попросту может держать в руке пистолет или нож.
В справедливость? Справедливость тоже брехня. Она своя для каждого конкретного человека, а высшая справедливость – байка для тех, кому не хватает ума пораскинуть мозгами.
Вера в предназначение спасать невинных? А кто спас меня? В чём была моя вина, когда мне пришлось бежать из родной страны? Почему я вынужден был скитаться, пока не осел здесь? Почему умерли тысячи людей в войне, которая им была не нужна?»
Я размышлял так, пока шёл, и не мог подобрать правильного ответа. Я даже не верил в себя, потому что знал, что этого не достоин.
По счастью, от этих мыслей меня отвлекли самым неожиданным образом. Кто-то невысокий выскочил на дорогу и замер передо мной, дрожа от возбуждения. Я не сразу понял, что это Мерк.
– Неважно выглядите, – сказал парень.
Он держался настороженно. Чувствовалось, что одно моё лишнее слово или движение, и он бросится прочь или же на меня. С последним я никак не мог определиться.
– Бывало и лучше, – согласился я. – Рад, что ты меня нашёл. Думал, не вспомнишь.
– Я не хотел вспоминать…
В голосе мальчика прорезалась сталь, которой там не должно было быть. Такое ощущение, что он разом повзрослел лет на пять. Уже не подросток, а почти мужчина. И не поверишь, что на вид ему всего лишь десять или двенадцать.
Впрочем, дети в Медине растут очень быстро.
И всё же, мне не давали покоя его тон и слова, которые прозвучали. Что именно скрывалось за всем этим я не понимал – в моём текущем состоянии предаваться философствованиям было куда легче, чем воспринимать действительность.
– Я чем-то обидел тебя? – спросил я, решив, что прямой вопрос – не самый плохой способ узнать, что не так.
– Не меня, – он мотнул головой. – Маму. Вы приставали к ней, а когда она вам отказала, ударили и оскорбили её. Я сам видел следы ваших рук на её горле!
Я сглотнул и почувствовал, что меня сейчас стошнит. Вместе с тем, в душе начала закипать злость. И почему некоторые люди настолько упёрты в своих предубеждениях? Почему им доставляет удовольствие портить чужие жизни?
«Ты и сам прекрасно знаешь ответ, – подсказал Томаш. – Потому что они это могут. А кроме того, им ненавистна сама мысль, что у кого-то может получиться иначе, чем у них. Что кто-то смотрит на мир не так, как они, и получает от жизни удовольствие».
Мерк ждал ответа, но я не мог придумать, что сказать. Не дождавшись, мальчик снял маску, кинул мне под ноги, а после плюнул в песок.
– Вы молчите, а значит – всё правда. Я пытался доказать матери, что она, наверное, ошиблась. Что это всё не так. Сказал, что вы предложили мне работу. Тогда она усмехнулась и сказала, что вы потому и предложили, что хотите меня унизить. Может быть, вы… – он проглотил слово, готовое сорваться с губ. – Может, вы задумали что-то плохое… Почему вы молчите?
Он подождал ещё с десяток секунд, а затем развернулся и пошёл прочь. Вся взрослость разом исчезла. Теперь это был обычный обиженный мальчик. Спина горбилась, а по лицу наверняка текли слёзы. Ветер перемешивал их с песком и превращал в кашу.
Я надеялся, что у парня есть с собой платок – вытереться, а затем закрыть лицо.
И ещё я знал, что сейчас с ним бесполезно разговаривать. Обида, которая жила в Мерке, копилась долго. Он придумывал этот разговор, накручивал себя, искал аргументы… бесполезно возражать, пока все они не прозвучат.
Оставалось надеяться, что пройдёт время и парень успокоится. Возможно, тогда я попытаюсь вернуть его расположение. Главное при этом – не настроить парня против собственной матери. Я не собирался изображать из себя отца семейства после развода, когда родители выставляют друг друга в неверном свете, чтобы с помощью любви ребёнка отомстить тому, кто, по их мнению, испортил им всю жизнь.
Не сказать, что это был первый случай, когда во мне разочаровывались, но всё-таки сейчас это был ребёнок, а подобное прежде не случалось.
Детей нельзя разочаровывать и обижать. Я не из тех, кто выбирает жестокие уроки. Мне их досталось сполна и посмотрите, во что я превратился…
* * *
Канга жил там же, где и раньше – в заброшенном покосившемся доме, который держался на честном слове. Они были похожи: шаман и его дом. Оба уже склонённые к земле, чудом державшиеся и внушающие всем остальным смесь отвращения, сочувствия и страха.
Впрочем, все люди похожи на свои жилища. Распутная и развязная Легба и её бар, в котором столько одиночество, что хоть пей его стаканами вместо рома. Док и вокзал – место, где машины встречаются с людьми, и одно находится внутри другого. Рабби и гостиница – вечный гость в городе, в котором прожил пятнадцать лет. Барон и его особняк – символ власти, чужой и ненужной в Медине. Я и моя прогнившая квартира, в которой только-только начал формироваться порядок, как и в моей голове.
Я не помнил, где живёт Шустер, но не удивился бы, узнай, что он ночует в джипе с Каспером и Йозефом.
К дому Канга я подходил с тревогой. В прошлый раз здесь звучала музыка, которая перевернула мою жизнь, но сейчас, к счастью, в округе царила тишина.
Шамана я обнаружил в огромной пустой комнате – только дребезжащий холодильник в углу и гора пустых пивных банок рядом. Одно из окон было разбито, но, к моему удивлению, песок не заполонил собой весь дом, а лежал маленькими горками – словно гость, пытающийся соблюдать правила приличия.
Сам Канга сидел возле одной из стен и сосредоточенно чертил на ней что-то.
– Здравствуй, шаман, – поприветствовал я его из окна.
Канга не ответил и не обернулся, но сделал рукой приглашающий жест. Я не стал себя утруждать и залез прямо через разбитое окно, хотя на середине пути успел пожалеть – давешняя слабость нахлынула, едва стоило оторвать ногу от земли. Внутрь я упал бесформенным кулём. С трудом встал, отряхнулся и побрёл к старику.
При приближении стало видно, что Канга рисует деревянной головёшкой. Мелкими чёрточками, чрезвычайно маленькими для такой большой палки, какая была в руках у шамана, на стене вырастал лес. Я мог только догадываться, что это за деревья, но совершенно отчётливо представлял вместо чёрных угольных фигур на стене настоящую лесную чащу. Исполинские коричневые стволы с тяжёлыми огромными ветвями нежно зелёного цвета, рядом небольшая группа серых деревьев поменьше с мелкими листьями, выгоревшими на солнце до желтизны.
Рисунок был не закончен, но в нём жила красота, что всегда свойственна вещам, которые делаются от сердца.
– Это твоя родина? – спросил я. – Выглядит красиво.
Шаман не ответил. Провёл линию головёшкой, смочил указательный палец слюной и аккуратно стёр лишнее. Осталась только мелкая чёрточка.
– Любомир Грабовски пришёл ради искусства? Канга сомневается.
– Канга всё делает правильно, – я не смог сдержать смешок. – Я пришёл ради твоего зла. Того, что на вокзале. Ты что-то узнал?
– Канга не пытался узнать, – шаман пожал плечами, продолжая смотреть на рисунок. – Канга готовился к сражению. Нужно бороться со злом. Как это делает Любомир Грабовски.
– Красота спасёт мир, ага, – кивнул я.
Из-за слабости в теле я с трудом сохранял равновесие, но не решился присесть рядом с шаманом, не зная, как он к этому отнесётся. Ещё скажет, что я обязан помочь ему закончить картину…
Канга, однако, встал сам. Подобрал посох, воткнул головёшку обгоревшим концом в песок, будто боялся, что она вспыхнет. Посмотрел на меня с улыбкой.
– Пойдём смотреть на зло на вокзале. Канга и Любомир Грабовски. Хорошая команда.
– Только не пытайся вызвать дождь, старик, ладно? – я хмыкнул.
– Дождя сегодня нет, – он сказал это с необъяснимой тоской. – Есть пиво. Любомир Грабовски будет пиво? – я покачал головой, однако шаман уже направился к холодильнику.
И глядя на него, я почувствовал облегчение, что в мире осталось нечто незыблемое.
* * *
Мы брели к вокзалу в молчании. Странная парочка – шаман, опирающийся на посох, и детектив, которого мотало из стороны в сторону. Меня так и подмывало одолжить этот самый посох у Канга. Казалось, что в противном случае мне не дойти. Солнце нещадно палило, и было подозрение, что случится второй тепловой удар.
Где-то на середине пути шаман тоже это осознал. Он остановился, и принялся внимательно изучать меня.
– Любомир Грабовски одержим духами, – голос шамана и без того был неразборчив, а из-за шума ветра казался еле уловимым. Хорошо ещё, что маску Канга не носил, хотя я и не понимал, как можно в таком случае перемещаться по Медине.
– Какими ещё духами? – спросил я. Версия, что всё происходящее является следствием одержимости, не казалась мне в тот момент странной. Я скорее желал этого. Так просто спихнуть все проблемы на внешние силы, а не искать их внутри самого себя.
– Дух огненной воды!
Канга улыбнулся и отсалютовал мне сумкой, в которой у него было пяток банок с пивом. Затем молча обошёл меня по кругу, поцокал и удовлетворённо кивнул.
– Канга может помочь. Канга может завязать дух на самого себя. Прогнать не может – слишком крепко сидит.
– Можешь помочь, так помоги… – я хотел крикнуть, но получилось нечто невнятное.
– Опасно. Дух будет копить злобу. Копить месть долго-долго. Когда Любомир Грабовски в следующий раз выпьет, дух уже прилипнет и не отвяжется. Больше не сможешь его избегать. Не хватит сил на победу. Будешь пить и пить, чтобы его задобрить, пока не умрёшь.
– Плевать! Я не буду пить.
– Даже капля. Маленький глоток. И всё.
Шаман сделал угрожающий жест, взмахнув рукой. Мне, честно говоря, до этих угроз не было дела. Я уже понял, что ничего бесплатного не бывает, но меня смущал один момент: как понять, что именно дух считает выпивкой и как именно определяет дозу, после которой вернётся?
– А если мне кто-то подольёт что-нибудь, когда я отвернусь? – спросил я. – И что если я выпью какого-нибудь забродившего сока по незнанию? Дух тоже придёт?
Канга улыбнулся хитрой улыбкой, которая, на мой взгляд, получается только у стариков. Этакая простоватость с глупостью, но за ними скрывается бездна мудрости. Пусть иногда это и иллюзия, но старикам неплохо удаётся вам эту иллюзию продать.
– Дух не торгуется, – сказал он. – Торгуются люди.
– Спасибо и на этом, – проворчал я. – Пошли дальше.
– Любомир Грабовски передумал?
– Любомир Грабовски постарается справиться сам. Или сдохнет. Тоже самое, что предлагаешь ты, только ещё не надо контролировать всё, что пьёшь.
Шаман удовлетворённо кивнул, будто рассчитывал услышать именно это. Повернулся и вновь побрёл в сторону вокзала, помогая себе посохом. Чёрная сгорбленная фигура, карикатурная и размытая песком, словно сепией.
Может быть, Канга и не был похож на религиозных проповедников, наводнивших Медину, но, как и они, любил поучать.
«И у него получается лучше, чем у многих. По крайней мере, в твоём случае даже лучше, чем у меня», – сказал Томаш, а я решил, что в кои-то веки склонен с ним согласиться.
* * *
Здание вокзала выглядело ещё хуже, чем в прошлый раз. Может, до того я не замечал трещины, которые избороздили строение. Не видел, насколько обветшали оконные рамы и не обращал внимания на прохудившуюся крышу. Впрочем, в прошлое посещение я ведь так и подумал – вокзал умирал, потому что умер Док.
Канга шагнул внутрь. На первый взгляд шаман двигался медленно, но я с трудом поспевал за ним. В какой-то момент я так разозлился на собственную немощность, что от этой злости слабость и тошнота пропали. Я шёл вперёд, пытаясь угнаться за старым шаманом и его посохом, умудрявшимся «цокать» о плитки пола, которые были сплошь занесены песком. Как так получалось? Я не знал и не хотел задумываться об этом. В моём мире остались только три вещи:
– Цок-цок-цок-цок, – подгонял посох.
– Не отставай, Любомир Грабовски, – говорила удаляющаяся спина шамана.
– Шевелитесь! – приказывал я ногам.
Так незаметно мы прошли вокзал от и до. Заглядывали в каждую комнату, останавливаясь лишь на секунду, которая требовалась шаману, чтобы окинуть взглядом помещение, кивнуть своим собственным мыслям и двинуться дальше.
Запустение проникло и внутрь вокзала, не удовлетворившись фасадом. Песок на полу, на подоконниках, полках, да и на любой ровной поверхности. Уличные мусорщики, которых здесь побывало в достатке, избавили вокзал от всего «лишнего».
До приезда Дока никто не совался сюда, считая это место не от мира сего, поскольку никаких поездов не было и не будет. В появлении строения жила тайна, а чужие тайны в Медине тебя волнуют ровно до того момента, пока ты можешь извлечь из них пользу. Когда прибыл Док, защитой стала его собственная репутация, а сейчас она умерла вместе с ним.
Неофициальные законы общества напоминают законы природы. Когда умирает человек, то черви перерабатывают тело, чтобы удобрить почву. Когда умирает дом, то уже сами люди находят то, что ещё может послужить им.
* * *
В конце пути мы, что закономерно, вышли на перрон. И в этот момент транс, гнавший меня по вокзалу, отступил и растворился, словно его и не было. Я устало выдохнул. В голове помутилось, и пришлось опереться на фонарный столб, застывший на платформе.
Поезда не было.
Громадная чёрная махина, на которой приехал Док и которую я собственными руками ощупывал несколько дней назад, пропала, словно её не существовало никогда.
Я подошёл ближе к тому месту, где стоял поезд, и увидел, что исчезновение не прошло бесследно.
Мелкая чёрная пыль, напоминавшая песок, найденный в комнате Дока в ночь убийства, покрывала пространство в том месте, где стоял локомотив. Однако, в отличие от чёрного песка, чёрная пыль не могла отгородить себя от обычных песчинок. Скорее, они наоборот старались перемешать её с собой, скрыть от людских глаз и выставить всё так, будто ничего никогда и не было.
Я сел на перрон и тихо спрыгнул-сполз вниз – боялся, что если прыгну стоя, то ещё ненароком подверну ногу. Набрав горсть этой пыли, перемешанной с песком, я снял маску и понюхал эту смесь – пахло тленом. Похоже, чёрный песок и эту пыль, оставшуюся от поезда, что-то объединяло. Решив, что криминалисты разберутся лучше, я ссыпал пыль с песком в карман плаща.
Канга не стал спрыгивать. Шаман стоял на перроне, но смотрел не вниз, а вверх. Солнце было позади Канга, и можно было не бояться, что оно выжжет ему глаза. Тем не менее, вид шамана внушал опасения.
– Ты в порядке? – спросил я его, параллельно пытаясь подняться назад. Всего-то метр с небольшим, а будто бы взбирался на самую высокую гору.
– Канга думает, – лаконично ответил шаман.
Поднявшись, я привалился к давешнему столбу, теперь уже сидя, и размышлял, что никогда у меня не получается то, что я так хочу. Требовалось найти ответы на вопросы, а вместо этого я лишь заполучил новые. Оставалось надеяться, что шаман что-нибудь прояснит.
Он всё так же стоял и смотрел, и я вновь подумал, что шаман – всего лишь силуэт на старой выцветшей фотографии. Поразительно похоже на тот рисунок, что рисовал сам Канга. Разве что не среди деревьев, а на заброшенном вокзале посреди пустыни.
Я видел этот рисунок так отчётливо, что мог бы и сам нарисовать его, приди мне в голову подобная идея.
– Ничего, – шаман повернулся ко мне и покачал головой. – Зло ушло. Место пустое. Ни добра, ни зла, ничего…
Судя по тому, как он удручённо качал головой, Канга надеялся на другой исход. Я, честно говоря, тоже, но у меня хотя бы была эта чёрная пыль. Шамана же она не заинтересовала нисколько. Он двинулся к выходу, напомнив мне давешнюю походку Мерка. Разве что мальчик в момент обиды стал казаться ещё моложе, а Канга постарел и осунулся.
Я поднялся и двинулся за ним следом. Мы шли по собственным следам в молчании, пока не показался выход. Увидев, что старик не собирается останавливаться и двигается к своему дому, я окликнул его.
Был ещё один вопрос, который я намеревался задать. Канга мог знать ответ и, что самое главное, имел мало причин, чтобы утаить его.
– Шаман, ты слышал о людях с жёлтыми глазами? Такие жёлтые, что похожи на золото, солнце и песок одновременно…
Канга медленно развернулся и посмотрел на меня. Морщины на его лице прорисовались чётче, чем обычно.
– Они не-люди, – сказал Канга после некоторого молчания, а затем развернулся и пошёл дальше.
Не сказать, что меня сильно удивили эти слова – что-то подобное я и ожидал услышать. Однако, проговорённое вслух, это знание заставило меня нервно сглотнуть.
«Бойся ответов больше, чем вопросов», – так, кажется, говорят…
* * *
От вокзала я отправился прямо домой. Правильнее было вернуться в управление и отдать криминалистам на анализ серую пыль, которая осталась от поезда Дока, но мне требовалось хоть немного поспать. А сон на работе (хотя это было бы не впервой) – не отдых, а всего лишь один из видов времяпрепровождения. Пользы мало, тело болит от неудобной позы, силы восстанавливаются кое-как, да ещё и всякий норовит зайти и обрадовать тебя какими-нибудь «важными» новостями. И на каждый закрытый замок найдётся умник, который будет стучать до тех пор, пока ты не проснёшься.
По закону подлости он уйдёт ровно в тот самый момент, когда ты встанешь, чтобы открыть дверь.
Разумеется, дома я тоже не был бы застрахован от подобного. Взять хотя бы визит барона сегодняшним утром. Тем не менее, я решил рискнуть, и едва не поплатился за это. Я брёл как в тумане: жара и слабость чуть было не одолели меня. По приходу пришлось опять сунуться под душ, чтобы хоть как-то привести себя в порядок.
Затем я рухнул в кровать и проспал до заката, а когда проснулся, простыни были мокрыми от пота.
Чувствовал я себя лучше, хотя по-прежнему слегка шатало. Есть не хотелось, но за сегодняшний день я только пил воду, а организму, чтобы справиться с болезнью, требовались силы. Стоило порадоваться, что я признал тягу к спиртному болезнью, но сил не хватало и на это.
Разумеется, после вчерашнего я не мог отправиться к синьору Веласкесу. Эта забегаловка отныне была для меня закрыта – если не навсегда, то до момента, пока я не буду точно знать, что причиной моего отвратительного состояния являлся абстинентный синдром, а не попытка отравления. Следовало найти другое место, но я никак не мог выбрать какое. Мной овладели противоречивые желания: хорошо посидеть в приятной атмосфере и не выглядеть идиотом, если организм вновь покажет свой строптивый характер.
Чтобы хоть как-то отвлечься от этих размышлений, я занялся делом. Нашёл в мусорной корзине бутылку из-под домашнего лимонада синьора Веласкеса и пакет из-под тако, а затем отыскал старую жестянку, в которой хранил перец ещё в те дни, когда предпочитал готовить дома. На дне оставалось чуть чёрного порошка, я высыпал его в раковину и смыл, однако кое-что всё-таки успел вдохнуть.
Раздавшийся чих едва не вышиб дух из моего обессиленного тела.
После, утерев выступившие слёзы, я закинул в банку пыль, собранную мной на вокзале. Её оказалось ровно столько, чтобы наполнить жестянку до краёв. Что-то осело в кармане, но буквально самые крохи. Запихав банку вместе с остатками еды в один из бумажных пакетов какой-то забегаловки, я спрятал всё это за решётку вентиляции, которая никогда не работала, сколько я себя помнил.
Решив, что достаточно позаботился об уликах, я вышел на улицу, не имея ни малейшего понимания, куда собираюсь отправиться.
* * *
Я брёл по вечерней Медине. Жара спала, воздух бодрил, несмотря на шныряющий тут и там песок в потоках ветра. Я почти наслаждался жизнью… Ровно до того момента, пока не остановился перед вывеской «Запах мамбо».
Прошло чуть больше суток с тех пор, как я вышел отсюда с твёрдым убеждением не переступать порог этого места до тех пор, пока не разберусь в себе. Пока не пойму не только разумом, но и сердцем, что произошедшее между мной и Легбой – всего лишь эпизод, который следует забыть, чтобы ничего не испортить. За это время произошло множество событий, всё ещё больше запуталось, и вот я вновь стоял перед этим местом.
«Ничего страшного, – шепнул Томаш. – Ты можешь зайти и заказать что-нибудь поесть. Тебе не обязательно общаться с Легбой. Не обязательно покидать пределы общего зала и заходить в маленькую комнату, которая ещё помнит вчерашние события. Ты всего лишь зайдёшь и закажешь еду, а заодно проверишь собственную выдержку, глазея, как другие люди напиваются и превращаются в свиней. Когда ещё ты смотрел на подобное со стороны, а не изнутри?»
Верить внутреннему голосу – тоже самое, что давать волю ногам. Мы думаем, что с нами общается кто-то мудрый, а между тем это говорят наши тайные желания. Да, иногда их совет выглядит дельным, но в данном случае… отправиться поесть в бар, который содержит женщина, делившая с тобой постель в недавнем – очень недавнем! – прошлом, и которую ты пообещал себе не видеть до тех пор, пока не разберёшься в собственных желаниях…
Есть вещи, которые мы делаем неосознанно, но с долей мазохистского удовольствия. Одна из таких вещей – нарушать собственные обещания.
Интерлюдия: Легба
Иногда в твоей душе появляется прореха. Сначала маленькая, но чем дальше, тем больше она растёт. И вот уже дыра становится огромной, а ты проваливаешься внутрь и выворачиваешь себя наизнанку.
Самое забавное, что ничего не меняется. Абсолютно. Но ты знаешь, что раньше была другой…
Легба фон ГётцеСемь лет назад, в канун нового года, вся Медина охвачена предкарнавальной лихорадкой. Скажи жителям ещё пару дней назад, чем они будут заняты новогодним вечером – они рассмеялись бы в ответ. Но сейчас все: дети и старики, немощные и здоровые, женщины и мужчины – готовятся встречать смену календаря в объятьях карнавала.
Жители перебирают наряды, выискивая всё самое яркое и пёстрое. В Медине редко кто носит подобное – большинство предпочитает не выделяться и выбирает что-нибудь светло-песчаное. Слишком тёмные цвета грозят вниманием солнца. Светлые – тем, что замёрзнешь от ветра.
Больше всего волнуются девочки из заведения мадам Клио. Казалось бы, им ли переживать из-за чужого внимания? Однако сейчас они собираются вступить на чужую территорию. Туда, где нет интимных разговоров, игр в палача и преступницу, приглушённого света, шёпота и шороха одежд. Ночные бабочки вылетают на свет, чтобы присоединиться к сотне таких же и сгореть в очищающем пламени карнавала.
* * *
Барабаны начинают звучать в восемь вечера. Поначалу грозно и ритмично, напоминая сигнал тревоги, собирающий ополчение у ворот крепости. Однако едва перепуганные жители высовываются наружу, музыка сменяется. Лишь чуть-чуть сбивается ритм, но вот уже тебя тянет пуститься в пляс, и невозможно этому противиться.
Люди ручейками, цепочками, бурными потоками и просто парами, стремятся туда, откуда доносится музыка. Они слегка пританцовывают, не в силах остановиться, и никто в тот момент не остаётся один, наедине с собой в окружении толпы. Все подхвачены радостью, весельем и ожиданием праздника.
Кроме Легбы фон Гётце.
Она – устроительница и распорядительница всего действа. Она – та, которая решила поймать Медину в ловушку лоа. Дать людям то, чего они хотят – безудержное веселье, танцы, секс, выпивку.
Карнавал – быстрый способ показать, что лоа могут принести в этот город.
Позади Легбы высится вывеска только что отстроенного бара «Запах мамбо», а сами мамбо прохаживаются неподалёку, разминаясь перед выступлением. Они собираются работать не в полную силу и оставить многое сокрытым, но тем сильнее будет подогрет интерес публики. Большинство решит хотя бы раз зайти в «Запах мамбо» и посмотреть на то, что они упустили. И большинство этого большинства будут приходить ещё и ещё.
Рядом с Легбой расположились барабанщики. Они поют на непонятном для многих языке и улыбаются приближающимся людям белоснежными улыбками. Один из барабанщиков повесил парочку там-тамов на бёдра и прохаживается перед входом в заведение. Его кожа натёрта маслом, а потому сверкает в пламени воткнутых тут и там факелов, плюющихся искрами.
Действо напоминает безумие. Ритуал, вырванный из прошлого и перенесённый в настоящее. На этом и строится расчёт, потому что лоа знают – люди всегда остаются дикарями. Они могут стесняться этого, могут скрывать или выставлять напоказ, могут даже бороться… но зажги их души варварской мелодией, пообещай, что здесь и сейчас они могут творить всё, что вздумается – и люди с радостью примут твой дар.
Так думают лоа. Так думает Легба. Так, как им кажется, и будет.
* * *
Через несколько часов людская толпа начинает постепенно редеть. Часть перебрала с дармовой выпивкой и теперь валяется в стороне, не в силах дойти до дома. Хочется сказать, что в их пьяных мозгах теплится мысль: «В подобном скоплении народа я не пропаду. Кто-нибудь спасёт меня от песка, холода и забвения». Но сказать так – значит погрешить против истины, потому что эти люди уже не способны думать ни о чём.
Другая часть не в силах больше отплясывать. Их мышцы гудят, их сердца лихорадочно бьются, пытаясь поспеть за ритмами, а в их глазах зажигаются разноцветные огни от мельтешения тел, факелов и перемигивания огоньков на вывеске.
Ещё одна часть покидает празднество парами. Они не очень-то стараются уйти подальше, ибо похоть, разожжённая в их душах, туманит разум. Пары составлены весьма странно и большинство из тех, кто сейчас оказался вдвоём, в иное время даже не взглянули бы в сторону друг друга.
И не взглянут.
Легба, заметив подобные пары, думает, что совокупляющиеся в масках люди похожи на существ из другого мира. У них даже пластика движений совершенно иная.
Устроительница карнавала смотрит на праздник, который породила с помощью лоа, и чувствует удовлетворение. Культ Вуду торжествует и празднует своё воцарение.
Но это только так кажется.
Невзрачный маленький человек, оказавшийся рядом с Легбой, нетерпеливо тянет её за полу плаща. Королева праздника оборачивается и видит Рабби Шимона. Она улыбается ему ласково и вместе с тем покровительственно. Весь вечер Легба выискивала адептов других религий, но те спрятались и затаились. Не в силах помешать празднику, они хотят сохранить хотя бы себя чистыми.
Но этот явился. Должно быть, чтобы восславить Вуду. Других вариантов попросту не существует.
– Я восхищён, – говорит Рабби, хотя тон его больше свидетельствует об усталости. – Восхищён тем, как вы лихо тратите силу, которую потом не сможете вернуть. Наверное, вы очень щедры.
Легба не верит своим ушам: она слышит насмешку от этого недомерка, который ни на что путное не способен! Сейчас, когда её величие неоспоримо, Рабби смеет появляться здесь и портить праздник своими «восхищениями»?
Да он просто не понимает, что здесь происходит!
Поначалу Легба собирается вышвырнуть вон этого наглеца, но вовремя вспоминает историю, которую ей рассказывали о Шимоне. Историю больше похожую на легенду, особенно принимая во внимание его внешний вид. Но что-то в ней было такое, что отличает перевранные истории от полностью вымышленных. Возможно, всё было не совсем так, и Рабби не измордовал четверых с помощью одного удара, но он может постоять за себя, несмотря на кажущуюся безобидность. Это уж точно не должно вызывать сомнений.
– Что тебе надо? – спрашивает Легба. Голос её низок и глух, как удар в большой барабан.
– Я всего лишь хотел предупредить, – говорит Рабби. – Всего лишь хотел указать на то, какую ошибку вы допускаете. Я бы пришёл раньше, но тогда бы вы мне не поверили. Зато сейчас можете сами взглянуть, что происходит.
– Происходит карнавал, – надменно замечает хозяйка праздника. – И если ты настолько недалёк, чтобы этого не заметить, то ты ещё более жалок, чем я о тебе думала.
– Я вижу карнавал, – кивает щуплый человечек. – Но чей это карнавал?
Поначалу Легбе хочется надменно фыркнуть и расхохотаться. Если Рабби считает, что это шутка, если ему нравится изображать из себя паяца, то она, лоа свидетели, готова это позволить. В конце концов, как раз идиота-шута на празднике и не хватает.
Но Легбу настораживает спокойная уверенность, с которой задан вопрос. Как бы не был силён Рабби Шимон, но здесь и сейчас не то место и не то время, когда его силы могут сравняться с силами Легбы.
А значит, он что-то знает. Или подозревает. Или, что очень маловероятно, но всё же возможно, он говорит правду, которую Легба не замечает.
Хозяйка праздника резко отворачивается от незваного и нежданного гостя и осматривается. На первый взгляд всё действительно идёт, как должно. Действо перед глазами похоже на то, чем оно должно быть – ритуал поклонения священным лоа. И даже на второй взгляд карнавал не отличается от сотен тех, которые Легба видела, начиная с того момента, как её семья отдала дочь на воспитание культистам.
Но Легба, урождённая Лиза фон Гетце, всматривается в третий раз, и тогда понимает, о чём говорит Шимон.
Да, вокруг карнавал. Вокруг празднество и беснования толпы. Вокруг экстаз, блаженство, разврат, порок, насилие, безнаказанность, жестокость, распахнутые настежь души, шум и суета… но вокруг ещё и песок.
Он заполнил собой всё.
Песок устроился на телах танцоров, попал в стаканы с ромом, он подпрыгивает под ритм барабанов и блаженствует вместе с совокупляющимися. Песок повсюду, и его присутствие затмевает то, что должно было стать определяющим в этот момент – присутствие лоа.
Духи здесь, но духи в панике. Они мечутся, не получая силы, которой искали. Легба чувствует их растерянность и не понимает, как она могла до этого считать, что им хорошо. Как не сумела определить, что всё вокруг лишь фарс и комедия? Песок обратил чужой ритуал себе на пользу, и в мыслях присутствующих нет и тени уважения к лоа. Скорее, насмешка над Вуду, которые устроили дармовую вечеринку. Презрение бедняка, который пришёл на благотворительную кормёжку, но который не станет от этого меньше ненавидеть богача, устроившего это.
– Как же так? – бормочет Легба в недоумении. – Как же так?
Она поворачивается к Рабби и видит в его глазах странное выражение – смесь торжества и сочувствия. Ей не хочется верить, но она признаёт, что маленький человечек прав. И потому, на правах растерявшейся и ищущей, она спрашивает:
– Почему так?
– Не знаю, – отвечает Рабби. – Но это происходит со всеми. Песок заставляет нас отдавать последние силы, чтобы продемонстрировать могущества, а затем забирает всё это и оборачивает на пользу себе. Песок ничего не создаёт, он только умело пользуется тем, что есть у других.
– Но зачем мы продолжаем это делать? – спрашивает Легба. – Я же видела, ты продолжаешь свои службы, Шимон.
– Затем же, зачем мы и приехали сюда, – грустно улыбается он. – Ты ведь понимаешь.
Легба кивает. Ей хочется посмотреть, что там с праздником, но она не в силах заставить себя сделать это. Не хочется видеть, как плоды твоих трудов нагло и бесцеремонно забирает кто-то другой.
Она чувствует, как маленький человечек берёт её за руку, смотрит ему в глаза и дожидается той самой мудрости успокоения, которую Рабби, как ей кажется, просто обязан принести сюда.
– Это пройдёт, – говорит Рабби.
На секунду в сердце Легбы вспыхивает надежда, но она тут же гасится ещё одним сказанным словом. Словом, которое способно разрушить все иллюзии:
– Наверное…
* * *
Дальнейшая жизнь Легбы фон Гетце превращается в кошмар, которым живут все адепты, приехавшие в Медину. В кошмар, предполагающий поиск ответов на терзающие душу вопросы.
Жизнь, наполненная вопросами, порождает тревогу. Всё вокруг кажется ненастоящим. Полное непонимание того «зачем она?»
Зачем она здесь, когда могла бы и дальше жить на островах, продвигаясь по пути духовного наставника и готовясь к тому, чтобы стать первой белой женщиной, возглавившей Вуду.
Зачем она вообще уцепилась за этот путь, хотя всё её естество противилось тому, чтобы впустить в себя великого Лоа, подарившего ей нынешнее имя? Родители выбрали за неё, но унганы задали вопрос, перед тем как провести обряд, и она – тогда ещё Лиза фон Гётце – согласилась.
Зачем она до сих пор существует, зачем родилась, зачем живёт, зачем пришла в этот мир, который, по правде говоря, не подарил ей ничего такого, что действительно оказалось бы правильным. Хорошего было много, но вот именно правильного – ничего.
Беседуя с Рабби, с Доком, с Бароном, с Даосом, с Кирком Отступником, с Лоренцо Великолепным, со всеми посланниками религий, она натыкается сначала на недоумение, а затем на неприятие. Никто не желает слышать этого вопроса, потому что все вокруг считают, что задавать его можно только самому себе. А в какой-то момент Легба начинает понимать, что даже обычные жители Медины, все те, кого она считала скотом, нуждающемся в пастыре – они тоже каждый день спрашивают себя об одном и том же.
Зачем мы?
В конце концов к Легбе приходит ответ. Он дик, непонятен и абсолютно ей не нравится. Последнее – верный признак того, что ответ верный.
Если вкратце, то он состоит из одного слова: «Доказать». Что именно следует доказывать, каждый решает сам, но жизнь без подобных попыток кажется Легбе игрушечной.
Доказать себе и остальным адептам, что именно твоя религия самая верная. Доказать, что в прошлой жизни у тебя ничего не получилось лишь благодаря неприятным обстоятельствам. Доказать, что ты справишься везде и со всем, едва получишь шанс начать всё с начала.
Медина даёт шанс, но пользуются им лишь единицы.
Легба знает это. Чувствует в молчаливой насмешке песка, который взирает на происходящее действо с одобрением и подначкой. Ему нравится, что весь мир вертится вокруг него, потому что песок не видит других альтернатив. Эта всепоглощающая воля перебивает всё на своём пути.
Но, самое главное, песок заполняет пустоту в душе. Приносит умиротворение и покой, и, как Легбе не стыдно в этом признаваться, она уже не представляет свою жизнь где-то вдали от Медины.
Возможно, именно благодаря этому юная хозяйка бара «Запах мамбо» так хочет познать тайну песка.
Всё, что ты любишь и без чего не можешь представить свою жизнь, ты так или иначе пытаешься себе подчинить.
Наверное…
Глава IX
В баре почти никого не было. Я попытался вспомнить, какой сегодня день недели, но не смог. Возможно – среда, а может – понедельник. И то, и другое ничуть не хуже четверга или вторника. Точно не пятница или суббота, иначе вечером народу было бы больше. Впрочем, может быть и воскресенье – вчера-то публики хватало даже днём.
Все эти размышления, бессмысленные на первый взгляд (ну в самом деле, кого волнует, какой сегодня день?!) помогли мне не отвлекаться на мелькающие тут и там бутылки. Я прошёл по залу, кивнул двум-трём знакомых, которые поспешили отвести взгляды, и занял пустующий столик в самом дальнем углу.
По счастью, голод пересиливал желание выпить. Когда подошла официантка (с таким вырезом, который делал топик просто тряпкой повязанной поверх груди) я заказал овощную похлёбку, куриные крылья без маринада и стакан горячего чая.
Я ненавидел чай и не любил еду без специй, но, помня уроки сегодняшнего утра, постарался выбрать то, что мой желудок должен был усвоить без проблем. Может, это признак подступающей старости? Когда ешь не то, что хочешь, а то, что хоть как-то задержится внутри.
Заказ принесли быстро, и всё остальное перестало меня волновать. Я сосредоточился только на еде, и даже обжёг язык и нёбо, настолько сильным был аппетит.
– Сначала ты пьёшь колу вместо спиртного, а затем ты приходишь в мой бар, чтобы поесть, – Легба возникла за моим столиком столь незаметно, что я вздрогнул и заподозрил в происходящем какой-нибудь колдовской трюк. – Ты всё больше и больше удивляешь меня, Грабовски. Того и гляди, ты станешь примерным семьянином, обзаведёшься выводком детей и будешь приходить сюда исключительно по пятницам, чтобы в компании с другими подкаблучниками насладиться иллюзией свободы.
Я промычал что-то невразумительное в ответ. По счастью, передо мной стояло ещё достаточно еды, чтобы держать рот занятым. Я всё равно не знал, что сказать.
– А между тем, Грабовски, тебе следовало заглянуть вчера вечерком. Рассказала бы одну занятную историю о бароне. Этот уродец пришёл сюда сразу после тебя, будто выжидал, когда ты свалишь. Понимаешь, что это значит?
В этот раз мой ответ был таким же информативным, как и в прошлый – неопределённый «угук» из набитого рта. Я не мог понять, с чего бы Легбе всё это говорить. Явно не тот случай, когда после секса между людьми появляются доверительные отношения, и они начинают рассказывать всё подряд: прошлое, настоящее, будущее… Куча слов, чтобы заполнить паузу между соитиями, ведь едва возникает молчание, как люди понимают, что их, в сущности, ничего другого не объединяет.
Такие отношения заканчиваются через пару месяцев, когда все темы для разговора исчерпаны, а одного лишь секса уже недостаточно.
Я слабо мог представить в такой ситуации себя и Легбу (ну какое между нами может быть доверие?), но она продолжала рассказывать, а я продолжал слушать. Я буквально видел, как в историю встречи с бароном на ходу вносятся необходимые дополнения и вырезается то, что мне не следовало слышать.
Я бы сделал тоже самое на месте Легбы.
И, разумеется, когда она закончила, я только и думал о том, что осталось за кадром. Какие тайны хранила та небольшая комната за дверцей в дальнем углу бара? Какие кроме тех, когда два тела сплетались вместе, не говоря слов любви, но обещая их друг другу?
Воображение моё разыгралось – видимо, то была компенсация за отсутствие спиртного.
– Ну и что ты скажешь на это? – спросила Легба.
Прошло уже минуты две с тех пор, как она закончила рассказ, а я всё молчал, переваривая услышанное.
– А почему я что-то должен говорить?
– Дерьмо, Грабовски. Почему обязательно надо быть таким колючим? Почему все мужики после того, как переспали с женщиной, начинают вести себя либо как сопливые слюнтяи, либо всеми силами стараются её оттолкнуть, чтобы она что-нибудь не подумала? Ты должен говорить, потому что я тебе рассказала кое-что важное. Ну и ещё потому, что в твоей тарелке пусто, так что тебе больше не удастся скрыться за невнятным бормотанием под равномерное движение челюстей.
Оставалось лишь горько усмехнуться – Легба понимала меня лучше, чем я сам.
– Допустим, всё это правда, – сказал я. – Ты кругом права, ничего не приукрасила и всё такое. В таком случае есть два неприятных вопроса. Первый – почему ты вообще мне всё это рассказала?
– Может быть, ты мне нравишься? И после того, что у нас было, я чувствую себя обязанной?
– Нет, – я покачал головой. – Кто угодно, но только не ты.
– Ладно, Грабовски. Твоя правда, – она улыбнулась, откинулась на спинку стула и даже не сделала вид, что обиделась. – Можешь считать это маленькой местью. Или конкуренцией. Барон мне слегка мешает, как ты понимаешь, вот я и стравливаю вас между собой. Сойдёт за объяснение?
Это действительно «сходило». И хотя Легба озвучила только часть правды, для начала меня устроило и это.
– Ну и второй вопрос, – я чуть отодвинулся, давая официантке убрать пустую посуду. На Легбу девушка старалась не смотреть и так торопилась, что даже не спросила у меня, буду ли я что-то ещё. – Второй вопрос звучит так: что был у вас за договор с бароном, который он хотел подтвердить?
– Тоже ничего такого, о чём бы ты не догадался сам. Мы договорились поделить Медину. Ещё давно, когда был жив Рабби. Поделить на три части и не шалить на чужой территории. Ну и заодно убедили Дока в том, что он должен нам помочь. Сыграли на его профессиональном интересе. Просто задали вопрос: А можно ли так разделить Медину, чтобы внутри образовалась своя собственная. Три маленьких города вместо одного. Как ты понимаешь, Док нашёл ответ, но слишком поздно для себя. Впрочем, барон повышает ставки и предлагает мне уже половину города.
– Вот только у него нет чёрного песка, чтобы огородить территорию.
– У меня тоже, – Легба улыбнулась ласково, как улыбаются смышлёным детям, когда они говорят именно то, что от них хотят услышать. – Но ведь если всё пойдёт хорошо, то ничего огораживать и не придётся, разве нет?
Мы помолчали какое-то время. Странно, но шум бара больше не мешал. Какое-то волшебство или получилось отгородиться от происходящего, сосредоточившись на разговоре. Молчание между тем становилось всё тягостней. Я размышлял, стоит ли просто попрощаться или надо сказать ещё что-нибудь. Вспомнив, с кем я разговариваю, из губ сам собой вырвался вопрос, который я уже сегодня задавал.
– Что ты знаешь о людях с жёлтыми глазами?
На лице Легбы мелькнула странная смесь эмоций. Она вообще хорошо их контролировала, но глаза слегка расширились, а губы распахнулись, обнажив кончики зубов, по которым скользнул язык.
– Только то, что они не-люди, Грабовски.
После этих слов Легба ещё раз улыбнулась – мило и приветливо, как никогда раньше. Она встала из-за стола и ушла, не попрощавшись и не обернувшись. Пузырь тишины ещё какое-то время окружал меня, а затем лопнул, разом окатив звуками, царящими в баре.
Мне стоило удивиться поспешности, с которой ушла Легба. Возможно, следовало обратить внимание на столь короткий ответ и отсутствие заинтересованности. Ещё вернее – не стоило задавать этот вопрос.
Но кто из нас может сказать, что всегда поступает правильно?
* * *
Я вышел из «Запаха мамбо» сытый и наполненный сомнениями по самое горло. Верно ли я сделал, что туда пришёл? Стоило ли выслушивать и принимать на веру то, что говорила Легба? Стоило ли спрашивать её про жёлтые глаза? Стоило ли вообще что-то делать?
Я запутался и не находил ответов ни на один вопрос. События неслись вскачь, а мне недоставало времени, чтобы отделить одно от другого и сделать какие-либо выводы. Из одной крайности я упал в другую: вместо действий без размышлений, одни размышления без действий. А те поступки, что я совершал, оказывались необдуманными.
И, что хуже всего, я понимал – возврат к выпивке не решит проблем и не даст ответов. Пока я буду в беспамятстве, их накопится ещё больше. И что тогда? Снова напиваться? Получался какой-то замкнутый круг, из которого мне не виделось выхода.
Собственно, этот круг и был моей жизнью. Пони бегало по кругу, выдохлось и отошло в сторону пожевать травку. И ничего в голову дельного не приходило, ведь пони только и привыкло, что бегать по этому долбанному кругу.
Я не мог ни на кого положиться. Шустеру я перестал доверять, Легбе не доверял никогда. Ни с кем из ребят в управлении так и не сошёлся близко. Мерка отпугнула от меня его мать, хотя чем бы мне мог помочь мальчишка – я совершенно не представлял. Оставался, правда, Канга, но его мотивы и поведение также лежали за гранью моего понимания.
– Да катись оно! – крик разлетелся по улице, но было слишком мало тех, чьё внимание он мог привлечь. И даже они не соизволили обернуться.
Я второй раз за день дал волю ногам – без особой надежды, просто от безысходности.
Шёл, шаркая и загребая песок. Смотрел на звёзды, нависшие над головой, а не под ноги. Не слышал ничего, кроме шума ветра, редких вскриков и шуршания гусениц вездеходов. Ночной город, идиллия – кому-нибудь это всё показалось бы именно таким, я же просто мечтал о спокойствии.
Гостиница, в которой раньше жил Рабби, выросла передо мной тёмной громадой. Свет не горел нигде, кроме первого этажа. Старые доски скрипели от порывов ветра.
– И что? – спросил я, посмотрев на собственные ноги. Они не ответили, хотя на миг мелькнула надежда, что прозвучит хоть какое-то объяснение.
Но поскольку сегодня был день странных поступков (уже почти неделя странных поступков, не стоило себя обманывать) я зашёл внутрь, потоптался на пороге, стряхивая с плаща песчинки, а затем прошёл в фойе.
Китаянка, которую я принимал за уборщицу и которая оказалась владелицей гостиницы, сидела за конторкой и, по-птичьи склонив голову, смотрел на меня.
– Доброй ночи, – голос был хриплый, и мне пришлось откашляться, чтобы повторить фразу.
Женщина моргнула, но промолчала. Я засомневался, что она меня услышала.
Осматриваясь по сторонам, я не заметил никаких перемен в обстановке. Всё по-прежнему выглядело обветшало, но крепко. Собственно говоря, так выглядела вся Медина.
– Они приходили, другие офицеры? – спросил я у владелицы гостиницы.
Запоздало мелькнула мысль, что надо было бы представиться, затем я понял, что вновь позабыл, как зовут хозяйку, хотя Шустер мне говорил. Я почувствовал странную неуверенность под этим птичьим взглядом. Словно меня ежесекундно оценивают, а каждый поступок подвергают анализу.
В ответ на мой вопрос китаянка медленно кивнула.
– Ничего нового не нашли?
Она помотала головой и быстро-быстро заморгала. Я неуверенно улыбнулся и стоял так до тех пор, пока мне не пришёл в голову один из тех странных вопросов, которые всегда случаются «вдруг», а ты потом не можешь понять, что же тебя заставило произнести эту фразу.
– Вы же знаете, что с ним случилось? С Рабби?
– Он ушёл, – сказано было быстро и сухо.
– Умер, – поправил я зачем-то.
– Можно и так сказать.
Дурацкий получался разговор. И совершенно логичный для сегодняшнего дня.
– У вас можно снять комнату? – продолжение с моей стороны вышло не менее идиотским.
В этот раз она даже не моргнула. Не дожидаясь дальнейших слов, покопалась в отсеке конторки, вытащила ключ и быстрым шагом, в чём-то даже нервным, направилась к лестнице. Обернулась на полпути, проверяя, следуя ли я за ней.
Взгляд птичьих глаз на миг сделался просящим, будто китаянка молилась, чтобы происходящее не оказалось лишь глупой шуткой.
Наверное, именно поэтому я начал подниматься следом. А ещё мне просто не хотелось возвращаться в свою квартиру. Если начинаешь новую жизнь, то стоит менять не только привычки, но и место обитания. Слишком много всего пропитало то место. Ароматы разочарования, как никотин – выветриваются дольше некуда.
«Можешь ещё поменять друзей и работу. А то и вовсе уехать из Медины», – посоветовал Томаш. Я усмехнулся в ответ. К переменам следовало привыкать постепенно. Они и без того шли, обгоняя одна другую. Хоть какой-то порядок должен быть. Сегодня одно, завтра другое – а иначе сойдёшь с ума.
– Если это уже не произошло, – пробормотал я.
Китаянка обернулась на шёпот и посмотрела вопросительно, но я лишь покачал головой. Мы двинулись дальше. Потрескавшиеся лакированные перила приятно холодили ладонь – я и не заметил, как снял перчатки и маску.
Словно я был дома.
Тем временем хозяйка гостиницы привела меня на третий этаж. Я думал, что мы сейчас свернём к комнате, которую занимал Рабби, но мы прошли дальше, до самого конца коридора. Дверь, которой он заканчивался, выглядела лучше других.
– Сюда, – китаянка распахнула дверь, и я даже не заметил, чтобы ей понадобился для этого ключ. По-видимому, он предназначался мне, а пустые номера стояли незапертыми.
Комната была не в пример лучше, чем та, которую занимал Рабби Шимон. Хорошая широкая кровать, шкаф в половину стены. Стол у окна с приставленным стулом. Даже отдельная душевая комната с туалетом. Интересно, почему старик выбрал не это великолепие, а ту маленькую комнату? Поддерживал в себе силы лишениями или же просто считал, что этот номер будет для него слишком большим?
Хозяйка показала мне, где лежит чистое бельё, положила на кровать ключ с огромной деревянной биркой и двинулась к двери.
– Подождите! Деньги… – я засуетился по карманам, пытаясь вспомнить, где спрятан бумажник, но хозяйка меня остановила.
– Заплатите потом, когда будете выезжать.
– Но… – я не знал, что за «но» и замешкался. Китаянка терпеливо ждала, пока я подберу слова. – Но почему вы так быстро согласились?
Да уж, сегодня мои вопросы поражали оригинальностью.
– В гостинице должен хоть кто-то жить, – сказала она тоном, который не подразумевал иных разъяснений, и вышла за дверь, отсекая любые вопросы.
Думаю, я всё же сошёл с ума, потому что ответ меня не просто устроил, а показался наилучшим из всех, какие могли быть.
Я ещё раз оглядел номер, потоптался на пороге и принялся стаскивать сапоги – впереди меня ждал душ и хороший сон. Почему-то я даже не сомневался, что всё будет именно так.
На ночь ветер исполнил мне колыбельную. Тихую и пронзительную, как сокровенная тайна, рассказанная жарким шёпотом. Была только ночь, завывание ветра и никакого песка. Ни единого звука, напоминавшего о его существовании. Погружение в сон случилось столь быстрым и спокойным, как никогда в жизни. Казалось, я слушал ветер целую вечность, а на деле даже не заметил границу между сном и явью.
Мне снилось нечто прекрасное и спокойное – умиротворяющий покой, отсутствие проблем и необходимости выбора. Существование, которое только и делает, что длится.
Когда я проснулся, то ещё несколько секунд пребывал в этом настроении, но затем реальный мир обрушился на меня со всей силой неразрешимых противоречий и текущих проблем.
Хотелось заплакать, но я лишь бессильно заскрежетал зубами.
Интерлюдия: Юнь
Даже если человек кажется дерьмом, то он на самом деле не обязательно дерьмо. Или не обязательно только дерьмо. А может быть не только дерьмо, но и гораздо хуже.
Впрочем, те немногие исключения, которые мне встречались, с лихвой оправдывают всех остальных.
Любомир ГрабовскиГде бы она не жила, каждое утро Юнь открывает двери.
Много-много лет назад – почти вечность! – в большом семейном доме, в котором живёт три поколения и несколько ветвей семьи Фанг одновременно, Юнь всегда просыпается раньше всех.
Восход солнца ещё только чувствуется, трава мокрая от выступившей росы, а ночные тени объёмны и упруги, когда Юнь встаёт и на цыпочках идёт по дому, открывая двери. Она движется аккуратно, чтобы не разбудить никого из многочисленных родственников скрипом половиц или неосторожным щелчком замка. Никому из близких Юнь не рассказывает о том, что она делает каждое утро. Они, безусловно, прекрасные люди, но даже самые прекрасные люди не обязаны – и, зачастую, не должны – разделять с вами самое сокровенное.
Юнь достаточно того, что она просто встаёт и идёт открывать двери. И если ей запретить это, то она зачахнет, ведь с каждой открытой дверью на волю вырывается частичка её самой.
У каждой двери, что естественно, свой характер. Иные из них осторожны, боязливы и согласны лишь на лёгкое прикосновение, чтобы взамен подарить крохотную, не толще волоса, щёлочку. Другие нуждаются в том, чтобы их оставили полуоткрытыми – застывшими на половине пути в нерешительности. Третьи следует распахнуть настолько, насколько возможно. А некоторые хотят всего лишь свободы от плена засовов и замочных скважин – решение, открываться или нет, они предпочитают принимать сами.
И обязательно после открытия следует внимательно посмотреть на дверь и сказать мысленно что-нибудь вроде: «Ну вот, ты этого и хотела, теперь довольна?»
Не всегда, но двери порой отвечают. Точно так же мысленно или «ощущениями» – лёгким дуновением ветра, еле слышным скрипом, секундной вспышкой радости. Юнь чуть улыбается этим ответам, а после продолжает обход.
Когда все двери отворены, наступает время готовить завтрак – семейная обязанность, которая никогда не надоедает Юнь, в отличие от уборки, приготовления обедов или ужинов, походов за покупками, стирки и прочего, прочего, прочего…
Так проходят дни и недели, переходя в месяцы и годы, пока Юнь не исполняется двадцать.
* * *
В маленькой лачуге, в которой Юнь ютится с ещё двумя девушками, как и она приехавшими в Пекин в поисках самостоятельности, дверей всего три, но и их Юнь продолжает открывать, и с ними продолжает разговаривать. И малое количество нисколько не смущает – чем меньше собеседников, тем содержательней и глубже беседа.
Затем наступает черёд гостиницы, в которой Юнь работает. После – другой гостиницы, за которую она платит четверть жизни, прежде чем наконец получает в полную собственность. Все эти годы Юнь удаётся оставаться незамеченной по утрам и даже самые убеждённые полуночники засыпают перед её приходом, уходят в душ или попросту не слышат чужих движений и щелчок открывающегося замка.
Когда случается пожар от заискрившей проводки, Юнь как раз совершает утренний обход. Открытая дверь дарит огню приток воздуха, а самой Юнь – необходимость несколько пластических операций. Лицо восстановить удаётся, вот только от былой улыбающейся женщины остаётся лишь восковая маска почти без эмоций.
Вся страховка уходит на операции, и порой Юнь жалеет, что на них согласилась. Всё-таки с обгорелым лицом и ужасными шрамами она могла улыбаться, а не просто кривить губы. А теперь у неё на лице своя собственная дверь, за которой прячется настоящая Юнь и никак не может выбраться.
И нет никого, кто мог бы её выпустить.
Наверное, именно это побуждает Юнь уехать в Медину. Сорваться в один миг, приехать в странный город, заночевать в огромном заброшенном доме, а после решить, что он вполне подходит для гостиницы.
* * *
К счастью, никто не требует никаких документов. Ты занял дом, ты трудишься над его устройством, так что он теперь твой. И ничего сверх того не нужно.
Юнь трудится почти полгода, прежде чем понимает, что наконец-то может принимать гостей. Всё это время она подрабатывает то тут, то там. Берётся за всё и даже сверх того, лишь бы получить то, что ей необходимо. Иногда это просто услуга за услугу, иногда деньги, иногда нечто такое, что стоит забыть сразу, едва деньги получены.
Чем больше Юнь работает, тем больше замечает, что ей порой необъяснимо везёт, но ровно настолько, насколько необходимо для дела. Не больше, не меньше.
Впрочем, Юнь большего и не требуется.
Однако, когда гостиница наконец-то обзаводится вывеской и открывается для посетителей, то оказывается, что их нет вовсе. Никому в Медине не приходит в голову жить в гостинице, когда вокруг много незанятых домов и квартир – кажется, что они появляются сами собой непостижимым образом. День за днём проходишь мимо пустыря, а потом понимаешь, что уже несколько дней ты видишь перед собой дом. Заходи, живи, и никто слова не скажет.
Совсем как случилось с Юнь, когда у неё появилась гостиница.
* * *
Проходит почти год, и Юнь примиряется с тем, что её дальнейшая жизнь будет посвящена открытию дверей в пустом огромном доме, который она по нелепости считает гостиницей. Однако стоит этому знанию оформиться в слова, как появляется Рабби, будто таким образом Юнь породила заклинание, призвавшее постояльца.
Возможно, так и есть, но Юнь нет никакого дела до этого.
Рабби входит вкрадчиво, долго изучает интерьер, саму Юнь, а после предложенные номера. В конце концов он выбирает самый дешёвый. Говорит, что спартанская обстановка только мотивирует его на свершения.
Юнь неудобно предоставлять единственному гостю самый неудачный номер, но она не спорит, радуясь тому, что здесь наконец-то появился хоть кто-то. И, боясь, что Рабби рассердится и уйдёт, Юнь уговаривает его лишь для виду.
Так начинаются долгие годы, за время которых хозяйка гостиницы и единственный жилец становятся куда большим, чем просто людьми, живущими в одном здании.
И все эти годы Юнь каждое утро просыпается рано-рано и обходит всё трёхэтажное здание, открывая двери.
И в день, когда Рабби уходит. И на следующий. И после.
В то утро, когда в гостинице появляется Любомир Грабовски, Юнь не отступает от своих привычек, но меняет порядок: начинает с первого этажа. Чтобы не разочароваться вдруг и сразу, когда обнаружит, что вчерашние события – лишь галлюцинация старой уставшей женщины, у которой только одна радость и осталась, что открывать двери.
Однако, когда она доходит до третьего этажа, за закрытой дверью доносится сонное бормотание детектива и невнятные стоны. Радости или горя – этого Юнь не может различить, да и не хочет. Сердце, замершее в груди, начинает биться всё чаще, догоняя, должно быть, по скорости крылья колибри.
Чуть приоткрыв дверь, Юнь спускается по лестнице и чувствует, что глубоко под чужой кожей проступает давно утерянная улыбка…
Глава X
С утра я направился в старую квартиру: там кое-что оставалось, что следовало захватить в управление.
Слово «старая» пришло само по себе. Хотя я не видел с утра хозяйку отеля и оставил ключ на стойке, но ничуть не сомневался, что вечером получу его обратно. И номер будет убран, ожидая меня, как это было вчера.
Не сомневался я и в том, что именно так и поступлю. Хорошая спокойная ночь – это было именно то, чего мне не хватало. Тупая ноющая боль внутри отступила, и мысли забегали в разы быстрее.
В квартире я собрал остатки чистой одежды и упаковал в просторную сумку. Банка с пылью, собранной на месте крушения поезда, и пакет для экспертов тоже отправились туда. Когда я вновь оказался на улице, сумка закачалась под порывами ветра – слишком мало оказалось того, что я взял из старой жизни.
В управлении вместо Бобби Ти сидел другой дежурный, чьего имени я не помнил. Я ограничился кивком и двинулся в сторону собственного кабинета, гадая, чем же занят Бобби. Я надеялся, что толстяк не забросил борьбу с лишним весом и не обжирается где-нибудь, где его никто не увидит, а просто взял выходной, чтобы набраться сил.
Поймав себя на том, что, кажется, скучаю по Бобби, я не удержался от улыбки.
– Смотрю, ты прям светишься от удовольствия! – Шустер возник внезапно, как он это умел, но у меня действительно было хорошее настроение, так что я даже не дёрнулся против обычного.
– Это не так уж и сложно. Вот что делает с человеком хороший сон. Попробуй как-нибудь.
– Предпочитаю другие способы расслабляться, – он ухмыльнулся и проник в мой кабинет раньше меня.
Войдя внутрь, Шустер чуть поводил носом, словно принюхиваясь, а затем расслабился и вытащил из кармана плаща мятый лист бумаги.
– Надеюсь, я не испорчу твоего настроения, если скажу, что наши талантливые криминалисты наконец-то установили, из чего сделан чёрный песок Дока?
Уловив акцент на слове «талантливые», я понял, что Шустер в ярости. Не удивительно, учитывая сколько времени он ждал ответ.
– Уголь, пепел, прах и нечто неопознанное, – зачитал он с выражением. – Ты представляешь, Любо, насколько нужно быть прекрасным и удивительным, чтобы подобное написать? Они даже побоялись вручить мне это лично. Оставили у дежурного, а сейчас не подходят к телефону. Клянусь, я не поленюсь доехать до них и высказать всё, что думаю об этом!
– Может быть захватишь кое-что ещё?
Я вытащил из сумки и протянул Шустеру банку с чёрной пылью. Схватив склянку, он повертел её в руках, потряс, а после посмотрел на меня вопросительно.
– Это то, что осталось от поезда Дока, – я пожал плечами. – Одно из двух: либо его угнали, либо он рассыпался, превратившись в эту пыль. Песок, правда, на неё не реагирует, но Канга считает, что между этой пылью и чёрным песком есть связь.
– При чём тут шаман? – Шустер смотрел неопределённо, и я никак не мог угадать его настроение. Трудно сказать, что подразумевает человек, если его глаза скрыты. Да и снятые очки, боюсь, не помогли бы, учитывая, что скрывалось за ними.
«Они не-люди», – некстати вспомнилась фраза, повторенная вчера дважды, и я непроизвольно сглотнул. Хорошее настроение стало угасать.
– Что-то не так? – теперь в голосе Шустера точно появилось подозрение.
– Ещё не совсем пришёл в себя после вчерашнего, – сказал я, намеренно не уточняя, что именно подразумеваю под «вчерашним».
– Бывает – он, кажется, расслабился. – Так при чём тут шаман?
– Канга рассказывал про зло, вырвавшееся из поезда Дока. Звал туда проверить, так что я решил: почему бы и нет? Похоже, я действительно был не в порядке, раз повёлся на это. Тем не менее, мы пошли и обнаружили разграбленный вокзал, а вместо поезда вот эту пыль. Думаю, Канга знает больше, чем сказал мне.
Шустер пожал плечами. Мол: может и знает, а может и нет.
– Хорошо, – тем не менее кивнул он, пряча банку в карман. – Я отдам экспертам. Что-то ещё случилось в твоей полной сюрпризов жизни?
– Да, сегодня день подарков и новостей, – я виновато развёл руками. – Но только все как один не очень.
Протянув второй пакет, я рассказал свою версию про отравление. Она Шустера тоже не впечатлила, но он согласился, что не мешало бы проверить. В конце концов, не обязательно, что меня отравил именно сеньор Веласкес, а даже если и так – он не обязательно действовал по своей воле.
Затем я подобрался к самой главной новости и пересказал Шустеру рассказ Легбы и её объяснение происходящему в Медине. Я ожидал от него ещё одного неопределённого взгляда, но в этот раз последовала мрачная усмешка. Я не сомневался, что она предназначена не мне, но в комнате на миг стало холодно и темно.
– Делим территорию, ага, – он потянулся. – Не знаю, что там скрывает Канга, но вот Легба знает куда больше, чем говорит.
– Разумеется, но не вижу повода, чтобы она с нами этим поделилась. Если только барон действительно начнёт ей угрожать… Да и то, это будет лишь временное партнёрство, пока угроза не пропадёт. Легба сама по себе.
Шустер ничего не ответил, но его улыбка продолжала меня нервировать.
– Ты же не собираешься делать глупостей? – кажется, со вчерашнего дня я заделался экспертом по дурацким вопросам. Впрочем, не надо себя обнадёживать, экспертом я стал куда раньше. Просто сейчас наконец-то начал замечать то, на что раньше обращали внимание только другие.
– Нет, Любо, – в этот раз улыбка у Шустера вышла печальная. – Тут у нас лавры всецело принадлежат тебе. Даже как-то неловко отнимать.
Он виновато пожал плечами, встал и потянулся, каким-то образом едва не достав руками потолка, хотя я всегда считал, что это невозможно в принципе. Они были метра три высотой, а то и больше.
– Отвезу твою добычу криминалистам. Может, действительно что-нибудь найдут, чтобы оправдаться за чёрный песок. Нечто неопознанное, ха!.. Однако должен спросить: у тебя дома не было ничего поменьше? – Шустер ткнул пальцем в стоящую на столе сумку. – Ты бы мог распихать всё это по карманам, разве нет?
– Я же специалист по глупостям. Репутацию стоит поддерживать.
– А, ну да, – он вяло кивнул, ещё раз потянулся и вышел.
Едва дверь за Шустером захлопнулась, как улыбка пропала с моих губ. Раньше я думал, что он по-доброму подшучивает надо мной, но сегодня показалось, что Шустер намеренно пытается меня задеть.
Я не знал и не мог знать, зачем ему это. Была только некая догадка, что тот, кого я раньше считал близким другом, оказался совсем иным человеком.
«Не-человеком!» – напомнил Томаш.
Я пошатался ещё немного по управлению, перекинулся парой слов с остальными ребятами, но, в очередной раз поймав хмурые и удивлённые взгляды, поспешил закончить с этим.
Былая нелюдимость и не самое приятное поведение привели к тому, что сейчас, когда Шустер отдалился (или я отдалился от него), мне не на кого было опереться. От бессилия я направился в кабинет шефа – хотелось получить мудрый совет, отеческое наставление или хотя бы хорошую взбучку. Для этого же и нужны начальники, разве нет?
Я постучался в массивную дверь. Никто не ответил, но я всё равно зашёл.
Огромный широкий стол, на котором застыл массивный телефонный аппарат и лоток для документов. Большое окно во всю стену. Аккуратные шкафы с папками. И никого живого.
– И вы туда же, шеф, – пробормотал я, ёжась от странного ощущения чужеродности, которое посетило меня в кабинете. – И вы не хотите со мной общаться. Ну и ладно. Пойду развлекаться в обществе стариков-шаманов и детей-одиночек. Хотя, простите, дети меня тоже в последнее время не любят. У них на редкость мерзкие мамочки, скажу я вам.
Произнеся свой монолог в пустоту, я аккуратно заслонил дверь. Едва я это сделал, там «звякнул» телефон и тут же замолчал. Я отворил дверь вновь, но ожидаемо никто не появился. Не прятался же шеф в шкафу или под столом, в самом деле.
Пожав плечами, я отправился к Канга. Просто не знал, чем ещё себя занять, пока не вернулся Шустер. Мне не нравился путь, по которому двигалось расследование, и я надеялся, что парочка новых улик или предположений сдвинет дело с мёртвой точки.
А может наконец-то её поставит.
* * *
Едва я вышел на улицу и прошёл несколько десятков метров, как понял, что за мной следят. Преследователи не скрывались, и, хотя держались на отдалении, позволяли себя рассмотреть, встречая мой испытующий взгляд холодной улыбкой и льдистым сиянием голубых глаз.
Люди барона Рюманова.
Кажется, он решил отплатить мне за слежку, если Шустер действительно что-то сделал, как и обещал. Я некстати вспомнил, что позабыл спросить об этом. Дурацкое ощущение, что в таком случае будет не так обидно, если со мной что-то случится. По крайне мере, я пострадаю за дело.
Я успел пройти пару кварталов, размышляя, не стоило ли вернуться к привычке носить с собой оружие. Когда-то я отказался от этого (во многом благодаря доводам Шустера), но сейчас, бросив пить, контролировал себя куда лучше, чем в прошлом.
Вдруг меня дёрнули за рукав плаща. Я обернулся и увидел Мерка. Взгляд у парня был виноватым, а под глазом расплывался синяк. Лицо от песка вновь закрывал платок, а не маска.
– Кто это? – глухо спросил я. – Те ребята, которые тебя тогда не догнали?
Он промолчал, не сделав попытки хоть как-то подтвердить или опровергнуть мои слова. Просто стоял рядом, старался не смотреть мне в глаза и беззвучно всхлипывал.
Из меня плохой утешатель. Я не знаю, что делать, когда люди рядом плачут, и совсем не важно ребёнок это, девушка, пожилой человек или здоровенный мужик. Чаще всего меня хватает только на абсолютно дурацкие в подобной ситуации «ну-ну» или «не стоит, в самом деле». Потому, не желая всё испортить ещё больше, я стоял и молчал.
Прошла минута, затем ещё одна. Я заметил, что Мерк уже успокоился и всхлипывает скорее по инерции. Сейчас следовало завязать разговор, который отвлечёт парня от плохих мыслей, но я не знал с чего начать. Окончание прошлой беседы стояло между нами, как стена.
– Простите, – опередил меня Мерк. – Простите за вчерашнее, детектив Грабовски. Я был не прав.
– Не стоит, – сказал я. С губ едва не слетело «я уже забыл», но я вовремя понял, что это ранит парня ещё сильней. – Мы все совершаем ошибки. Я не исключение, а скорее правило.
Всё-таки иногда банальности срабатывают. Главное, чтобы они действительно подходили под ситуацию, и ты верил в то, что говоришь.
Я верил, и ситуация подходила.
– Я не должен был того говорить, – продолжал Мерк. – Даже если это всё правда, я не должен был так себя вести. А это ведь не правда, так?
– Не совсем, – я вздохнул. – Я это и имел в виду, говоря про ошибки. Я действительно сделал твоей матери больно, пусть и не так сильно, как она тебе расписала. Она меня вынудила, но я виноват в том, что не сдержался. Можно было поступить иначе, а я разозлился и сделал то, чего не следовало. Совсем как ты вчера. Мы квиты, в общем-то.
– Хорошо, – он угрюмо кивнул. – А что у вас за дело было ко мне?
Я задумался. Вряд ли Мерк мог рассказать мне что-то большее, чем показал Канга и увидел я сам. Но, в тоже время, не стоило просто так прогонять парня, когда он пришёл мириться. Следовало что-то придумать и сделать это как можно быстрее, пока Мерк не понял, что это экспромт.
Однако вместо этого я выложил всю правду.
– Один человек сказал мне, что ты видел кое-что странное на вокзале. Видел, ведь так?
– Допустим, – Мерк насупился. – И что с того?
– Он говорит, что это некое страшное зло. Какая-то сущность, которая вырвалась на свободу. Я не совсем верю ему, потому что он производит впечатление человека, который слегка не в себе. Но я хочу попросить тебя сходить к нему вместе со мной. Обещаю, никто не будет заставлять тебя делать что-то против твоей воли.
– Кто этот человек?
Мерк напрягся. Я видел, что от имени зависит многое. Судя по всему, у парня были свои дела с некими людьми «не в себе», и мой ответ мог на многое повлиять.
– Канга. Старый шаман. Знаешь такого?
– А, этот, – Мерк расплылся в улыбке. – Видел пару раз. Он странный, но добрый. Однажды подарил мне бренчалку со своего посоха. Только я её после выменял.
– Думаю, он не обидится. А скорее всего и не вспомнит. Ну так как, сходишь со мной к нему?
Мерк кивнул, и следом у меня возникла ещё одна идея. Куда более дурацкая. Впрочем, подобные идеи у меня вряд ли когда-нибудь переведутся.
– Только есть одно «но». Люди барона Рюманова за мной следят, а мне не хотелось бы, чтобы они видели, что я иду к Канга не один…
Я осёкся, запоздало вспомнив, что люди Барона уже десять раз заметили, с кем я разговариваю. И даже если они не могли расслышать разговор, Мерка возьмут «на заметку», можно не сомневаться. Лучшим выходом было распрощаться с парнем, объяснить ему в чём дело и попросить добраться до Канга как-нибудь позже. Затем я бы предупредил шамана о визите Мерка, и все дела.
Однако я ничего не успел сделать или сказать. Едва стоило заикнуться о том, что за мной следят, как в глазах Мерка зажглись озорные огни. Я не видел его лица под платком, но мог поклясться, что парень улыбается. Весело и беззаботно, как умеют улыбаться только дети, даже если они выросли в Медине, а их лица покрыты синяками и ссадинами.
– Сейчас мы их сделаем! Бегите за мной!
Он выкрикнул и действительно бросился бежать. Я припустил следом, хотя в моём состоянии бег был не самым лучшим способом передвижения. Да, я чувствовал себя лучше, чем вчера, но это само по себе ничего не значило. Я ожидал, что организм вот-вот напомнит о своей слабости.
Однако шли минуты, но ничего не происходило.
Я бежал следом за мальчишкой широкими шагами и чувствовал, как на моём лице расплывается точно такая же улыбка, какая была у Мерка: беззаботная и весёлая. Я бежал и не чувствовал ног, настолько легко мне всё давалось. Я бежал, и песок под ногами пружинил, будто подталкивая меня взлететь и присоединиться к песчинкам в воздухе.
Даже в детстве я никогда так не бегал: погони случались, но чаще всего за ними стоял страх, а сейчас его не было и в помине.
Только свобода.
Только движение.
Только песок, ветер и удаляющаяся спина Мерка впереди.
Мы проносились по улицам, сворачивали в подворотни, пробегали насквозь старые разрушенные дома, изъеденные временем. Мы сворачивали на ходу, останавливались, чтобы отдышаться, и вновь бросались бежать. Оглядывались в поисках погони…
И хохотали.
Почти всё это время мы смеялись на бегу. Не знаю, как у меня хватало дыхания, чтобы бежать и смеяться одновременно, но именно так всё и было.
А потом мы выбежали к дому Канга, и наваждение закончилось…
* * *
Встретиться с шаманом в тот день нам было не суждено.
Мы прошли весь дом, заглядывая в каждый уголок, но нашли только пустые банки из-под пива, старый урчащий холодильник и рисунки на стенах.
Они разрослись с момента моего прошлого визита. Теперь перед нами была почти целая история. Этакий настенный комикс без слов, рассказывающий, как я понял, историю появления шамана в Медине. Канга однажды оказался среди странных существ – гигантских животных, отдалённо похожих на людей. Они и указали ему путь в Медину. Последняя картина показывала дом Шамана, холодильник и маленькую фигурку, сидевшую в центре комнаты.
От этих рисунков я почувствовал грусть. Думаю, дело было в контрасте между первыми рисунками с великолепным лесом и последней картиной, наполненной одиночеством.
– Кажется, Канга нет дома, – сказал я, когда мы обошли всё.
– Да, – кивнул Мерк облегчённо. Перспектива встречи с шаманом его, видимо, не очень-то радовала. – Но мы классно бежали.
– О, да, – тут мне даже не пришлось притворяться. Губы сами расплылись в улыбке, однако она тут же пропала. – Бежали классно, но теперь тебе нужно быть аккуратней. Люди барона будут подстерегать тебя. Обещай, что будешь осторожен?
– Обещаю, – он хмыкнул. – Что-то ещё, детектив?
Теперь в голосе мальчишки появилась издёвка, но я не мог понять, чем вызвана столь резкая смена тона.
– Ещё я бы посоветовал тебе держаться подальше от того, кто сделал вот это, – я поднял руку и указал на синяк на его лице. – Но ты наверняка не послушаешься. Если будут сильно доставать, ты знаешь, где меня найти.
– Спасибо, вы очень добры, – Мерк вновь хмыкнул, а затем пошёл к двери. Оказавшись на пороге, он обернулся, как будто специально ждал момента, когда я окажусь от него на расстоянии. – Мы с вами классно побегали, но дам вам один совет: не пытайтесь вести себя как мой отец, вы ведь всё равно им не будете. Я знаю, как о себе позаботиться.
Он вышел, а я остался стоять, пытаясь сглотнуть застрявший в горле ком. Когда ты становишься пьяницей, то привыкаешь постоянно ощущать вокруг дерьмо, но вот другим не позволяешь себя в него окунать. Сейчас подобное всё-таки случилось, но я промолчал, потому что чувствовал – Мерк сказал правду. Я действительно подсознательно пытался изображать отца. Того отца, которого у меня самого не было.
Не зная, что с этим делать, я нервно вздохнул, пнул пустую банку из-под пива, а затем вздрогнул. На улице послышался шум вездехода, а затем протяжно посигналили. Я бросился к окну, гадая, не случилось ли что-нибудь с Мерком, но мальчика на улице уже не было видно.
Зато на отполированном и блестящем на солнце вездеходе сидел Рюманов в белых одеждах и призывно махал рукой.
Больше всего в этой картине мне не нравилась улыбка на лице барона.
* * *
Я медленно брёл к вездеходу, пытаясь выработать стратегию поведения, но ничего не приходило на ум, кроме предостережений. Однако о том, что Рюманов – склизкая и опасная тварь, от которой лучше держаться подальше, я знал и до этого.
– Выглядите лучше, чем обычно, княже, – поприветствовал меня барон, когда я подошёл.
В ответ я промолчал. Демонстративно огляделся по сторонам, а потом уставился себе под ноги. Необходимость задирать голову и подставлять глаза под палящие лучи солнца, казалась мне отвратительной. Сомнительно, что на барона это произвело хоть какое-то впечатление. Его голос, донёсшийся сверху, был всё так же благодушен.
– Смотреть под ноги – отличная привычка, княже. Если хотите моего совета, что, конечно же, неправда, вам стоило бы заняться этим раньше. Сейчас необходимо смотреть вперёд. Впрочем, что это я сижу, а гостя дорого заставляю стоять? Залезайте, княже, нам предстоит долгая поездка.
– Куда и зачем?
Я запоздало понял, что бормотать в сторону, не самый лучший способ быть услышанным, но барон ответил:
– Нам нужно спасти вашего друга… Ах, простите, я вновь допускаю неточность, вам нужно спасти вашего друга. А я так, в сторонке постоять. Ну и помочь вам быстрее добраться. Между прочим, счёт идёт на минуты, если не на секунды. А потому, и в знак моего глубочайшего к вам расположения, сообщу, что речь, разумеется, о Шустере Крополе, который прямо сейчас пребывает в баре «Запах мамбо». В компании небезызвестной вам Легбы фон Гётце. Не по своей воле пребывает, прошу заметить. Хотя, пришёл он туда сам. Всё очень запутано. Залезайте, расскажу по дороге.
Я слушал его тарабарщину, а в голове разом щёлкало и вставало на места, словно запустили древний, давно не используемый механизм. Винтики и шестерёнки наконец-то согласовались между собой, и всё получилось.
Я спросил Легбу про жёлтые глаза, а она не задала ни одного вопроса, хотя не трудно догадаться, кто из наших общих знакомых постоянно носит тёмные очки. Я сказал Шустеру, что Легба знает кое-что про барона и город, и он отправился к ней, чтобы всё выяснить. А она знала, кто он и что он. Знала куда больше меня и решила это использовать.
Сегодня у меня случился день небольших открытий. Ещё раньше я узнал, что могу бегать быстро, весело и беззаботно. Сейчас я понял, что умею моментально взбираться на вездеход.
Барон смотрел на меня с лёгким любопытством, молчаливым укором и тайным одобрением. Ну и улыбочка ещё эта его, гаденькая.
Я протянул руку, схватил Рюманова за отворот плаща и притянул к себе, ожидая появления гвардейцев, вставших на защиту барона.
– Если хотите что-то сказать, то говорите прямо, – процедил я. – И езжайте уже, чтоб вас…
Он сделал какой-то неуловимый взмах рукой, вездеход дёрнулся, и мы едва не слетели с него. Барон прикрикнул, и машина пошла ровнее.
– Я и говорю прямо, – Рюманов цедил в тон мне и, как казалось, это доставляло ему удовольствие. – Ваш друг в плену у вашей любовницы. И понимая, кем она является, я не жду, что в этой ситуации с ним случится что-то хорошее. А кем он является, не подскажите?
– Не знаю, – я убрал руку и вцепился в скобы на корпусе вездехода. – Но он не-человек. У него глаза жёлтые.
Я сказал это потому, что мне захотелось сказать. И ещё потому, что не сомневался – барон не врёт. Факты именно таковы, как он их преподносит. А раз так – тайна Шустера уже не имеет значения.
Фактически, я предал его ещё в самый первый раз, когда спрашивал у Канга. Затем предал второй, у Легбы. А теперь это уже просто стало делом привычки.
– Любопытно, – пробормотал барон. – Но уже не имеет значения. Не желаете ли залезть внутрь? Вездеход вообще-то не предназначен, чтобы на нём ездили так, верхом. Я просто красовался.
Рюманов как-то виновато передёрнул плечами, и в этом жесте я тоже увидел правду. Такую, какая она и была.
– Зачем вы следили за мной? – спросил я.
– Хотел убедиться, что с вами всё будет в порядке, княже. Я и за другом вашим следил, и только благодаря этому узнал, что с ним сейчас происходит. Не будете же вы отрицать, что эта моя вольность оказалась предусмотрительной.
– Это не ответ на вопрос, – я помотал головой. – Что ещё за предусмотрительность? Мне казалось, мы с вами враги.
До этого дня я думал, что видел все улыбки барона Рюманова, но сейчас мне открылась ещё одна. Едкая, ехидная и очень заразительная. Мы несколько секунд так улыбались друг другу.
– Мы с вами никогда не были врагами, – Рюманов говорил медленно и вкрадчиво, но я слышал его, несмотря на шум ветра в ушах. – Просто мне удобно было, чтобы вы так думали. И чтобы все остальные так думали. Поверьте, княже, я охраняю ваш покой с момента появления в Медине. Вот уже десять лет, если мне память не изменяет.
Ещё один щелчок в голове, и картинка встала на место, но осматривать её прямо сейчас я не стал – как-нибудь позже, в более спокойной обстановке. К тому же, вездеход уже останавливался.
Прямо передо мной виднелась дверь, которая вела в «Запах мамбо». Окна были зашторены, вокруг ни души, а над самим баром повисла атмосфера тягучей беспросветности. Я даже невольно поёжился.
– Будьте осторожны, – сказал Барон ровным тоном. – Вам, как я полагаю, ничего не грозит. Может быть, только постараются задержать или обездвижить, чтобы вы не мешали. Легба фон Гётце, при всей кровожадности религии, которую она представляет, добрый и запутавшийся человек. Даже сейчас она просто совершает ошибку, хотя ещё и не подозревает об этом.
– Не хотите ли тогда пойти вместе со мной, чтобы растолковать ей это?
– Это вы зря, княже, – Рюманов вновь обрёл холодность. – Одно моё присутствие может побудить Легбу к необдуманным действиям. А вздумай я вмешаться… боюсь, тогда вообще непонятно, что будет дальше. К тому же, я охраняю ваш покой, а вот друзей своих, будьте добры, спасайте сами.
Последнюю фразу он произнёс твёрдо и решительно. За этим стояло куда больше, чем барон старался показать, но я не стал ничего говорить. В нарисовавшейся в моём мозгу картинке барон действительно должен был вести себя именно так. Моя охрана – это не единственная его цель в Медине.
– Ну что ж… – пробормотал я и принялся спускаться.
С каждым шагом ближе ко входу в бар я чувствовал подступающую слабость. Атмосфера беспросветности, почудившаяся мне, действительно имела место. И чем ближе я подходил, тем больше чувствовал её давление. Ноги задрожали, руки затряслись, а в горле пересохло. Меня попеременно бросало то в жар, то в холод, но я продолжал идти, понимая, что если остановлюсь, то не смогу заставить себя сделать новую попытку.
А я хотел оказаться внутри. Я был виноват в происходящем и должен был остановить всё это. Но, помимо всего, мне было интересно увидеть, что же происходит внутри. За этим скрывались ответы на вопросы, которые меня терзали.
– Будьте осторожны! – выкрикнул Рюманов. – Мои люди помогут, если что-то пойдёт не так, но внутри вы можете рассчитывать только на себя!
Послышался резкий лязгающий звук гусениц. Барон снова пробурчал что-то неразборчивое, и вскоре шум мотора стих.
Я остался один, но, собственно говоря, так было всегда. Мои мнимые друзья оказались не такими простыми, как следовало думать, а враги, оказывается, занимались тем, что спасали жизни. Иногда даже мою… Я не знал, что мне предстоит увидеть внутри, но протянул руку и повернул ручку входной двери, размышляя, получится ли у Легбы и Шустера удивить меня.
Я был бы не против, если бы всё сложилось иначе.
Интерлюдия: Рюманов
Мы склонны считать его очень полезным и, безусловно, небывало одарённым человеком…
Всеблагой ИмператорДесять лет назад в Святом Петрославле выходит первый за год номер газеты «Столица». Заголовок на первой полосе наполнен криком страдания:
«Нас покидает ум, честь и совесть эпохи!»
Эстафету подхватывает и «Московийский Ратоборец», не стесняясь в выражениях:
«Мы теряем самых лучших!»
Чуть позже, исключительно в силу часовых поясов, выходит номер Самар-Ханского «Путешественника», где корреспондент лишь чуть-чуть преуменьшает масштаб трагедии:
«Печально осознавать, но эпоха подходит к концу. Герои больше не нужны отчизне…»
Екатериногорский «Ура! Рус» обходится и вовсе без заголовка:
«Мы всегда будем помнить покорителя Словакии!»
После такой внушительной первой строчки, «чтобы не мусолить трагическое событие», газета обращается к хронике Словацкой компании, которая, в своё время, и вознесла героя статьи на небосклон Великороссии. Даже просто перечисляя факты, журналист рисует перед глазами читателей картину подлинного величия.
Может создаться ложное впечатление, что кто-то умер. Оно и создаётся у тысяч и даже миллионов людей, которые шокированы подобными заголовками. Но на самом деле главный герой всех этих и многих других неохваченных статей находится в добром здравии, пусть и скрывается от внимания публики.
Как пишет пресса:
Барон Алексей Иванович Рюманов подал в отставку, получил от Верховного Волхва Перуна-Апостола наставления и, в качестве посла доброй воли и мира, отправляется в Медину.
Эти строчки вызывают у жителей Великороссии недоумение, граничащее с обвинением в помешательстве. Не барона, разумеется, ибо герои неприкосновенны. Но вот журналисты получают своё сполна.
Подал в отставку? Герой Словацкой компании? Едва ли не в одиночку разработавший план завоевания непокорных соседей? Тот, благодаря кому имперская армия почти не встретила сопротивления? Тот, кто сумел убедить Императора, сохранить многочисленные привилегии словацкой знати и добавить к ним вольности обычных жителей братской ныне страны? Тот, кому стоит памятник едва ли не в каждом крупном городе? И подал в отставку? В своём ли вы уме?!
Не меньшее удивление вызывает и визит к Верховному Волхву, а после добровольное изгнание. Барон никогда до сего дня не был истово верующим, предпочитая в религии, как и во всём остальном, умеренность. Да и что забыл он в этой Медине? Где она, кстати? Вот это крохотное пятнышко, затерявшееся в пустыне? Посол доброй воли и мира в эту неизвестность? В своём ли вы уме?!
И этот вопрос звучит отовсюду, повторяясь на разные лады, но реальность, увы для многих, под стать этому вопросу. На другой и на третий день не появляется опровержений. Не случается их и после.
Некоторые всё-таки принимают, скрепя сердце, эту блажь героя, который, без сомнения, скоро одумается и вернётся.
Иные, коих меньше, принимаются исподволь, словно червь сомнения, грызть постамент, на котором покоится слава барона. Дескать, и не совсем он герой, и план разрабатывали за него другие, и вообще!
Но есть ещё и третьи. Те, кто кивают первым и вторым, а сами же многозначительно молчат. Эти третьи внимательно изучают газеты, особенно последние страницы, где печатается информация, которой мало кто придаёт значение. И когда им на глаза попадается крохотная заметка о наследном князе Словакии, Любомире Грабовски, который направляется ныне в Медину, третьи вновь кивают. В этот раз собственным мыслям.
Позже в одной частной кинохронике обнаружится трёхминутный любительский фильм, в котором барон Алексей Иванович Рюманов, военный советник государя по делам ближнего зарубежья в отставке, садится в имперский винтокрыл и поднимается в воздух.
Зависшая в воздухе эскадрилья, в которой ещё шесть подобных машин, дожидается, пока винтокрыл барона займёт место в центре построения, и после, с мерным рокотом, удаляется на юг.
* * *
В Медине у барона долгое время всё идёт настолько по плану, что ему становится скучно.
Он знакомится со всеми мало-мальски значимыми людьми города, составляет психологические портреты и разрабатывает стратегии по нейтрализации или переманиванию на свою сторону.
Денно и нощно его люди контролируют жизнь Любомира Грабовски, следя, чтобы с ним, с одной стороны ничего не случилось, а с другой, чтобы наследный князь не сумел набрать в этом месте силу.
В том, что она есть в Медине, барон ничуть не сомневается.
Эта сила снится ему по ночам – недоступная и обжигающая, манящая и остающаяся в стороне. Просыпаясь, барон хищно скалится, глядя на своё отражение в зеркале. Тем не менее, этот оскал на долгое время остаётся единственным его действием по отношению к силе.
Скрытый враг привлекает князя куда больше, чем князь-неудачник. К тому же, в словах Верховного Волхва проскальзывало что-то такое, что заставляет барона думать, что и в самом деле Перун выбрал Рюманова для особой миссии, а вовсе не были те слова бредом, пусть уважаемого, но уже давно считавшегося выжившим из ума старца.
И вот после первых двух лет в Медине барон и в самом деле превращается в посла доброй воли и мира. А заодно и в распространителя учения Перуна-Апостола.
Как и многие до него, как и те, кто находится здесь теперь, он сразу же обращает внимание на то, что жителям Медины религия не нужна. Они не страшатся её, не бегут, не смотрят на тебя, как на сумасшедшего и не позволяют себе насмешек. Они просто изрядно удивляются тому, что нужно верить во что-то ещё, кроме милости песка Медины.
Барон отмечает, как проповедники различных учений сменяют друг друга и покидают город один за одним. Лишь единицы остаются, продолжая жить в этом городе. Словно кто-то просеивает сквозь сито, оставляя достойных.
Достойных чего именно? Об ответе на этот вопрос остаётся лишь догадываться, чем барон и занимается медленно, но верно. Заводит ещё больше полезных знакомств, втирается в доверие и делает странные поступки. Например, подсылает к Доку убийцу-гипнотизёра, а после сам же признаётся в этом.
Рюманов играет в игру, правил которой не понимает. Лишь природная интуиция позволяет ему не просто оставаться на плаву, но и считаться едва ли не самым сильным игроком. Впрочем, вскоре барон понимает, что и остальные знают о правилах не больше него. Иногда он даже задумывается, насколько дико и смешно, должно быть, выглядит всё это для устроителя игры.
Люди борются не пойми с чем и не пойми зачем.
Но барон твёрдо знает, что победа приходит к терпеливому и к тому, кто на протяжении долгого пути не допускает ошибок. Всего-то нужно – держать руку на пульсе событий. Подталкивать одних, обманывать других, говорить правду в лицо третьим.
А когда выпадет шанс, обязательно нужно им воспользоваться. В этом городе не бывает вторых шансов, так уж он устроен.
Глава XI
У каждого из нас есть несколько стереотипов, возникающих при слове «ритуал». Начертанная на полу пентаграмма и расставленные в углах свечи; торжественное преклонение колен перед возложением короны на голову; причастие толикой крови, хлеба или ещё чего-нибудь. Точно так же верно и обратное: увидев нечто подобное, слово «ритуал» возникнет в голове совершенно непроизвольно.
Внутри бара «Запах мамбо» не было свечей, пентаграмм и людей, стоящих на коленях. Но там оказалась Легба в одной лишь набедренной повязке из длинных засохших листьев. Волосы собраны в тысячи маленьких косичек; тело изрисовано диковинными знаками; глаза горят огнём (это не метафора!); мужской голос, доносящийся из её рта – грубый, надменный, гортанный.
И с десяток негров, выстроившихся по периметру. У них в руках барабаны, чей мерный звук не был слышен снаружи, но заполнял всё пространство внутри. Обнажённые торсы чёрных статуй, сверкающие в свете факелов, и белоснежный оскал звериных улыбок.
А посреди этого, на обычном деревянном столе лежал Шустер Крополь, связанный и недвижимый. Очки с него успели сорвать.
Если снаружи атмосфера давила беспросветностью, то внутри всё дышало предвкушением крови, насилия, криков жертвы и её падения. Едва я вошёл, как эта атмосфера чуть не поглотила меня без остатка, заставив стиснуть зубы до боли. Меня хватило лишь на то, чтобы оценить картину, запечатлеть в памяти и начать действовать.
Я бросился вперёд, но почти тут же споткнулся о выставленную одним из негров ногу. Покатился, больно ударился головой о край стола и прикусил кончик языка. Зашипев от боли, попытался вскочить, но кто-то уже оседлал меня сверху стиснул руку в захвате. Малейшее движение и перелом неизбежен.
Кажется, я в тот момент закричал. От боли, несправедливости, неудачи и просто от бессилия. Ритуал не прекратился ни на секунду. Я слышал, как тот, кто меня оседлал, продолжил песнопения, словно ничего и не случилось.
По-прежнему стучали барабаны: гулко и мерно.
Надменный незнакомый голос, шедший из уст Легбы, продолжал изрыгать заклинания.
Стонал Шустер – тихо, еле уловимо.
Где-то послышалось кудахтанье курицы, а потом резкий взмах ножа, превративший звук в бульканье.
Я ничего не видел, кроме ножек стола и босых ног Легбы, двигавшихся в странном ритме. Он не совпадал с барабанами, не совпадал с выкрикиваемыми заклинаниями. Казалось, он жил сам по себе.
От этого «невидимого» действа, которое проходило рядом, мне было невыносимо. Я чувствовал привкус крови во рту от прикушенного языка, по-прежнему желал двигаться, крушить и ломать, но ничего не мог сделать. Даже пожертвуй я рукой, и то вряд ли что-то сумел бы предотвратить. Оставалось наблюдать, бояться и желать сделать хоть что-нибудь…
Однако дальше желания дело не шло.
Тем временем голос усилился. Фразы стали нарастать и проникать в мозг с такой болью, будто они уподобились раскалённым гвоздям. Я чувствовал, будто меня выворачивает наизнанку, а Шустер перестал стонать и взвыл долго и протяжно.
Мне показалось, что его убивают, но почти тут же голос Легбы стих практически до шёпота, а затем раздался уже её крик. В нём не было прошлой торжественности, не было властности и отчуждённости. Вдобавок, голос вновь стал женским и наполнился такой болью, что я позабыл про свою собственную.
Мою руку внезапно отпустили, барабаны смолкли, и крики негров вторили крику Легбе. И тогда я понял, что что-то пошло не так в этом странном ритуале, цели и смысла которого я не знал.
Одним из заключающих аккордов царившего безумия стал новый крик. Совершенно потусторонний, шедший из ниоткуда и отовсюду сразу. Эхо от него заметалось по помещению.
Меня резко вдавило в пол, на миг перед глазами всё померкло, а затем словно кто-то схватил сердце ледяной рукой. Сильно и крепко – не вырваться, не сбежать, лишь только судорожные попытки вдохнуть.
Потом так же резко меня отпустили, послышался свистящий звук, отдалённо напоминающий гудок паровоза или чайника. Я вздрогнул и дёрнулся, поцарапав руку о торчавший из пола гвоздь. И в этот момент наступила гнетущая тишина, сопровождаемая лишь тихим поскуливанием – голос напоминал Легбу.
Как бы не хотел я вскочить резко и быстро, мне этого не удалось. Мышцы словно одеревенели, а при малейшей попытке пошевелиться кости пронизывал холод. Младший брат той стужи, что недавно сковывала моё сердце.
Цепляясь за подвернувшийся стул и нависший надо мной стол, мне всё-таки удалось подняться. Вокруг царил полумрак, свет с трудом пробивался через плотные жалюзи. Кто-то потушил все факелы разом, и когда я взглянул на один из них, то увидел, что пламя превратилось в сосульку.
Никогда бы не подумал, что огонь так запросто может замёрзнуть.
Негры, ещё недавно предвкушавшие ритуал, лежали ниц и дрожали. Я различил шелестящий шёпот – разрозненные обрывки фраз, повторяемые торопливо и с исступлением. Я протянул руку к одному из негров, но не успел и дотронуться, как он вскочил и с диким визгом бросился бежать. Его путь преградил стул, подвернувшийся под ноги. Споткнувшись, негр упал, проделал в воздухе кувырок и покатился по полу, пока не впечатался в стену.
Это могло показаться смешным в другой ситуации, но прямо сейчас я торопливо сглотнул и поёжился от холода и страха. Остальные негры всё так же что-то шептали, продолжая дрожать. Больше всего происходящее походило на молитву.
Я как мог быстро двинулся в сторону того места, где видел стол с привязанным Шустером. Идти приходилось осторожно – не хотелось повторить судьбу споткнувшегося негра.
Когда же наконец-то удалось добраться до стола, то я увидел, что Шустера на нём нет. Верёвки болтались неразорванными, но они никого не держали.
– Шустер? – неуверенно позвал я, надеясь, что ему удалось каким-то образом освободиться, воспользовавшись возникшей суматохой.
В тот момент мне показалось логичным, что человек (не-человек!), у которого в машине две миниатюрные собачки в роли двигателя, вызвал такой дикий переполох. Однако даже после того, как я повторил свой призыв несколько раз, никто не отозвался. Тогда я попробовал позвать кое-кого другого.
– Легба?..
Едва стоило прозвучать этому имени, как поскуливание Легбы, раздававшееся неподалёку, сменилось диким рёвом.
Кто-то вскочил едва ли не у меня под ногами, я дёрнулся в сторону, всё-таки зацепил стул и в очередной раз за сегодня упал. К счастью, удалось смягчить падение, подставив предплечье, и именно оно взорвалось болью, а не лицо.
Между тем вой-вопль двигался в сторону выхода. Некто огибал препятствия так, словно видел в темноте. А затем, добравшись до двери, распахнул её и осветил всё помещение.
Солнце обрисовало контур фигуры на пороге. Дикой обнажённой фигуры, прикрытой лишь набедренной повязкой из длинных засохших листьев. Мне не было видно лица, но по судорожному дрожанию плеч, я предположил, что Легба плачет.
Она выбежала на улицу бесшумно и беззвучно – все крики стихли. Дверь осталась открытой, и я, теперь уже при свете, двинулся между стульями, столами, брошенными барабанами и павшими ниц неграми, продолжавшими бессмысленно искать защиты у неизвестных мне богов.
Несмотря на то, что я двигался к свету, ощущение было таким, словно я погружался в беспросветную тьму.
* * *
За те минуты (часы, годы, жизни?), которые я провёл внутри бара «Запах мамбо», Медина нисколько не изменилась. Светило солнце, дул ветер, лежал песок и только впереди, на том самом песке и под порывами того самого ветра виднелся силуэт, удаляющийся от города. Солнце, как и ранее на пороге бара, высвечивало фигуру, которая постепенно превращалась в тёмное пятно.
Я не чувствовал в себе сил и желания преследовать Легбу. Я собирался отправить следом кого-нибудь, но в первую очередь стоило найти Шустера.
– Доброго дня, – человек, незаметно возникший рядом, двигался бесшумно, несмотря на тяжёлую броню с символом Перуна-Апостола.
– Не такой уж и добрый, – сказал я. – Что вам приказал барон?
– Приглядывать, – дипломатично ответил неизвестный. Его белоснежные брови, больше похожие на кусочки инея, иронично взметнулись вверх. – При необходимости оказать помощь.
Я не стал уточнять, какого рода помощь и кому именно. Не стал и просить своего соглядатая отправиться за удаляющейся Легбой. Если люди барона предпочли спокойно отпустить её, то либо очень сильно боялись, либо не видели в поимке смысла.
Барон сказал, что приглядывает за мной, но о друзьях советовал позаботиться самому. Оставалось только понять, была ли Легба мне другом.
– Вы не видели выходящего человека? Не её, – я махнул в сторону Легбы, – а мужчину. Шустера Крополя.
Соглядатай покачал головой и добавил с холодной улыбкой, предупреждая вопрос:
– Не из этого входа, не откуда-либо ещё из этого здания больше никто не появлялся, кроме вас и её.
Я покачал головой и почувствовал слабость во всём теле. Она жила со мной ещё с того момента, как я двинулся внутрь бара, но только сейчас удалось прочувствовать её полностью.
Возможно, я бы даже опустился на песок, но мысль о том, что этот неизвестный наверняка постарается меня подхватить или поднять, неожиданно придала сил.
– У вас есть транспорт? – спросил я.
– В шаговой доступности, в подворотне.
– Можете доставить меня в полицейское управление?
Соглядатай поднял глаза и поджал губы, что-то прикидывая или же вспоминая инструкции Рюманова, а затем кивнул. Он медленно двинулся прочь от бара, а я пошёл следом. Надо было добраться до полицейского управления и поднять на уши ребят, а если понадобится, то и самого шефа. Следовало организовать поиски Шустера.
Человек или не-человек, друг или не друг, но он несколько раз спасал мою жизнь, так что я обязан был хотя бы попробовать сделать для него тоже самое.
А уже потом мы займёмся Легбой…
* * *
В управлении почти никого не было, а те, кто остались, столпились возле дежурного (это опять был не Бобби Ти) и возбуждённо переговаривались между собой. На моё появление не обратили внимания до тех пор, пока я не начал кричать:
– Ну-ка слушайте сюда: пропал детектив Крополь. Необходимо, чтобы все, кто свободен, занялись его поисками. Кроме того, задерживайте всех, кто имеет отношение к Вуду или бару «Запах мамбо». Легбу – в первую очередь, но лучше не рискуйте в одиночку. Она может быть опасной.
Голоса, стихшие на время, зазвучали с новой силой. Мне удалось выхватить обрывки фраз и сложить необходимую картинку: пока я отсутствовал, произошло кое-что ещё из ряда вон выходящее, помимо ритуала над Крополем. Подоплёка у этого события была куда прозаичней, но связать два обстоятельства в одно было легче лёгкого.
Тем временем седоволосый полицейский со странным шрамом, шедшим поперёк лба, (будто кто-то решил добавить новую морщину) выступил вперёд. В тоне, с которым он обратился ко мне, сквозил лёгкий оттенок презрения.
– Все и без того заняты, детектив. На лабораторию напали какие-то ублюдки. Два криминалиста убиты, несколько ранено. Все, кто свободен, сейчас прочёсывают улицы в поисках следов. Может быть, они и найдут Крополя, но я бы не стал отвлекать ребят от этого задания. Они очень злы, поверьте.
– Что-то пропало? – я уже подозревал, что именно, но мне хотелось услышать ответ.
– Улики с убийства Дока, – седовласый сплюнул. – Эта сраная куча чёрного песка. Наверняка настолько важная штука, чтобы убить из-за неё…
– Не исключено. И можно только надеяться, что это будут последние жертвы. Свидетели есть? Кого они видели?
– Всё произошло слишком быстро. Сначала вспышка света, затем вспышка тьмы, если понимаете, о чём я говорю. Какие-то вездеходы, крики, выстрелы. Вы же знаете людей, детектив. Они добровольно не сунутся в такую заваруху, предпочтя отсидеться в углу. Сейчас они рассказывают какие-то байки, чуть ли не о танках и гигантских ракетах, но поверьте мне – ничего они не видели.
– А сами криминалисты?
– Тоже ничего особенного. Нападавшие были в масках, сами понимаете. Ребята прочёсывают город, как я уже сказал. Нужно вытряхнуть правду из всех, кто может знать, что произошло. До сегодняшнего дня на нас никогда так нагло и открыто не нападали. Кто бы это ни был, но мы должны взять его за яйца.
Глухой рёв остальных полицейских поддержал последнюю фразу. Я почувствовал раздражение от этого спектакля. Если они такие умные, если уже всё решили, то почему до сих пор ничего толком не сделано?
– И чего вы ждёте? – спросил я. – Почему просто прочёсываете город, а не устраиваете показательную порку?
– Путь решит шеф, – седовласый пожал плечами. – Мы заходили к нему, но его нет на месте. Никто не может вспомнить, чтобы он сегодня появлялся.
Мой последний визит к шефу тоже не увенчался успехом. Неясная мысль забрезжила в голове, и мне очень захотелось, чтобы это оказалось лишь глупой иллюзией.
– Когда его видели последний раз? – резко спросил я.
Полицейские неуверенно зашептались, но никто не смог дать конкретного ответа. Я с тоской заскрежетал зубами. Комната шефа всегда была закрыта, сколько я себя помнил. Отчёты клались на стол дежурного, а затем через него же выдавались указания.
Я повернулся к нынешнему дежурному. Парень был бледен и нервно кусал губы. Кажется, он тоже сообразил, что к чему.
– Как ты получаешь указания от шефа?
Он попытался что-то сказать, но голос сорвался. Дежурный был почти мальчишка, хотя и старался выглядеть старше.
– Бобби Ти, детектив. Обычно именно он возился с отчётами. А если куда-то пропадал, то мы просто ждали, пока он появится. Остальные из нас… нам больше нравилось ходить в патруле. К тому же Бобби просиживал здесь почти круглосуточно, он…
Я остановил его взмахом руки. Ситуация была ясна, хотя не хватало мотивов, чтобы закончить сложившуюся картину.
– Приступайте к поискам, – сказал я. – Моего слова вам будет достаточно? Не просто ходите по улицам и расспрашивайте, но напомните всем уродам на улицах, что полицейское управление ещё существует и разгромлена только лаборатория криминалистов. Постарайтесь донести до них одну простую мысль: чем быстрее нам выдадут тех, кто всё это устроил, тем быстрее мы успокоимся. Вновь сквозь пальцы будем смотреть на то, что не так уж сильно выходит за рамки закона. А в противном случае – у нас много свободных камер. И мы можем просто сажать одного за другим, пока не поймаем нужного. Теория вероятности не на нашей стороне, но попробовать стоит.
Как всегда бывает в подобных ситуациях, все разом зашевелились, едва кто-то взял на себя неприятную ответственность. Седоволосый сформировал группы патрулей, а сам остался вместе с дежурным в качестве координатора. Им ещё многое предстояло сделать: определить раненных, приступить к восстановлению лаборатории, проследить, чтобы она продолжила работу, пусть и в облегчённом варианте…
Я же отправился к себе в кабинет. Мне не было необходимости выискивать виноватых, я и без того знал, кто именно стоял за всем этим. К несчастью, у этого человека было алиби, которое я же ему и обеспечил. А вернее, это он сделал так, чтобы алиби появилось.
С бароном трудно состязаться в планировании. Если его чем-то и можно взять, так это застать врасплох неожиданным ходом. Можно было не сомневаться, что сам он не принимал участия в разгроме лаборатории. А те, кто сделал это, либо боялись Рюманова больше полицейских, либо уже мертвы. Сомнительно, что барон будет переживать по этому поводу. Он рискнул и выиграл, устроив всё не без доли изящества.
«Как вы сказали, чёрный песок? Это интересно, это меня увлекает!» – образ фигляра даже позволял ему говорить то, что было на уме. Всегда можно отыграть назад и представить всё шуткой.
В конце концов, Рюманов мог вновь сыграть на том, что защищал меня все эти годы. Я не сомневался, за словами стояла правда. Мотивы её мне были ясны не до конца, но факт оставался фактом.
Вторая вещь, которая не давала мне покоя, касалась Бобби Ти. Его отчёты для шефа, которого никто, включая меня, не мог вспомнить. Внезапные перемены в образе жизни. Его отсутствие именно сегодня… Какая роль досталась толстяку в происходящем? Или даже не «досталась», а он сам её выбрал?
Перед моими глазами вновь и вновь встала та картина, когда я шёл по ночному городу и увидел огромного мужчину с девушкой, чья преданность барону не подвергалась сомнению…
Если Бобби Ти появится, то я сильно удивляюсь. Не исключено, что труп толстяка сейчас лежит под слоем песка и медленно превращается в высохшую мумию. Наверняка, Бобби не это имел в виду, когда думал о похудении.
Но хотя толика чёрного юмора всё ещё жила внутри меня, на душе было погано и тоскливо. Это был очень печальный день, едва ли не хуже, чем все предыдущие. Я разом потерял друга, женщину и уверенность в том, что правильно оцениваю ситуацию.
И, что хуже всего, день ещё не закончился…
* * *
Я заперся у себя в кабинете, попросив беспокоить только в крайнем случае. Мне требовалось понять, что происходит. В последнее время количество вопросов только множилось, а ответы на старые даже не думали появляться.
Самым главным, пожалуй, было найти Шустера или шефа. Мне не нравилась роль лидера, которую пришлось взвалить на себя. Я был слишком одиноким человеком и, вдобавок, слишком наплевательски относился к своей собственной жизни, чтобы брать ответственность ещё и за чужие.
Так я думал, а тем временем, несмотря на запертую дверь и наказ никого ко мне не пускать, дверной замок щёлкнул. Я повернулся и увидел в дверном проходе Канга. Лицо старого шамана выражало беспокойство, насколько это было возможно в его постоянном безмятежном состоянии. Он подошёл ко мне, не обращая внимания на мой недовольный взгляд, и поводил носом, принюхиваясь.
Точно так же любил делать Шустер, так что я невольно вздрогнул. Канга, не говоря ни слова, коснулся моего лба посохом, но я почти тут же откинул его в сторону.
– Что тебе нужно? – вопрос прозвучал чуть более раздражённо, чем шаман того заслуживал.
Канга пожевал нижнюю губу, огляделся, затем направил посох в сторону двери. Та резко захлопнулась, словно под порывом ветра, но даже ветер не смог бы защёлкнуть замок.
Я невольно сглотнул и отклонился к спинке стула. Шаман продолжал стоять, невозмутимо разглядывая меня.
– Зло, – сказал он, наконец. – Любомир Грабовски его видел. Оно его коснулось.
Я вспомнил свои ощущения у Легбы. Тот леденящий холод, который сковал меня и пронизал кости. И лишь молча кивнул в ответ, хотя Канга не спрашивал, а утверждал.
– Плохо, – резюмировал шаман свои внутренние размышления. – Канга ушёл ловить зло тропой духов. Зло воспользовалось этим. Зло ударило. Теперь будет плохо.
– Послушай, – прервал его я. – Я тебе верю, потому что ты единственный в этом разбираешься и не делаешь из всего тайну. Но мне трудно понять, что именно произошло. Что там было за зло? То самое, что вырвалось из поезда Дока? Или, быть может, нечто иное? Что случилось с Легбой, с Шустером? Почему всё так?..
Рука Канга резко дёрнулась, посох не просто коснулся, а ударил меня в висок. В этот раз я не успел уклониться. Разом нахлынула сильная боль, глаза закрылись и наступила тьма.
* * *
В начале не было ничего.
Затем тёмный лист реальности перед моими глазами покрылся белыми чёрточками, словно копировальная бумага, которую слишком часто использовали. Эти линии, поначалу казавшиеся хаотичными, в скором времени приобрели стройность, и я различил, что они отдалённо похожи на бар «Запах мамбо». Словно чертёж странного архитектора, не придерживающегося реальных масштабов. По крайней мере, помещение было явно больше внешних контуров. Я не понимал, как именно, но отчётливо видел и знал, что так и есть.
Точно так же я видел две линии, сошедшиеся в перекрёстке под баром. И жёлтые силуэты, влетающие в здание и вылетающие из него. Они были похожи на удлинённые капли с глазами и растянутыми в улыбках ртами. Ещё был красный до умопомрачения шар, застывший внутри помещения. Поначалу я подумал про Легбу, но кто-то (может быть, Канга?) подсказал мне, что это Шустер.
Что-то происходило, но за мельтешением рисованных силуэтов я не мог разобрать, что именно. Затем в голове очередной раз щёлкнуло (я бы не удивился, узнай, что шаман в тот момент вновь меня ударил), и всё сразу прояснилось. Воспоминания пережитого наложились на изображение.
Я вновь услышал барабаны. Почувствовал, как меня прижимают к деревянному полу и доски больно впиваются в рёбра, пока происходит ритуал, которому я не в силах помешать. Зазвучали протяжные гортанные фразы Легбы.
А после, когда я увидел тень, превращающую лист бумаги передо мной в ничто, я инстинктивно почувствовал страх. Она ведь была точно такой же, как и в другом видении, дарованном Канга. Тогда, вырвавшись из чрева железной машины, она имела вид странного белого черепа в окружении круглой траурной рамки, но теперь тень изменилась. Больше не было никаких белых пятен – лишь разные оттенки чёрного. Того, который похож на чернильную мглу, и того, который отдаёт сумраком увядания.
Тень заполнила всё изображение, я вновь ощутил холод, пробирающий до костей, а после реальность передо мной ярко вспыхнула. Всё произошло так внезапно и резко, что я открыл глаза.
Лицо Канга нависало надо мной. Взгляд шамана был затуманен больше обычного, и я понял, что он сейчас видит и переживает то, что видел и переживал я.
– Плохо, – сказал шаман, приходя в себя. – Зло вырвалось. Легба хотела поглотить город. Легба поглотила Шустера. Шустера поглотил город. Зло поглотило всех их.
От этих фраз я почувствовал себя неуютно. Я не понимал их смысла, но вместе с тем я ощущал страх.
– Что ты такое несёшь? – Язык с трудом ворочался, во рту внезапно пересохло. – Кто кого поглотил и за что?
– Надо разобраться, – сказал Канга и засеменил к выходу.
А я-то надеялся, что разбираться мы будем вместе!
Однако, если я думал, что поток неопределённости, который принёс Канга, закончен, то ошибался. Уже на пороге, перед тем как открыть дверь (в этот раз рукой), шаман обернулся и изрёк:
– Будет буря.
– И что? – спросил я. – Это Медина, шаман. Здесь всегда бури.
– Нет, – он покачал головой. – Будет отец бури. Самум – таково его имя.
Несмотря на то, что произносилось всё это скорбным тоном, который не предвещал ничего хорошего, Канга вдруг неожиданно улыбнулся. Так радостно, словно всегда хотел сказать именно это именно в такой ситуации.
А может быть, старик просто любил бури? И чем больше они, тем сильнее ему нравилось?
Если кто-то и знал ответы, то не я.
* * *
Спустя час после ухода Канга я находился в той же неопределённой ситуации, что и до его визита. Полицейские сообщали какие-то новости; передавали, что прочёсывают город; обещали, что уже к вечеру лаборатория начнёт работать, пусть и не в полную силу.
Что касается возможных нападавших, то ребята вытаскивали всех, до кого могли добраться. Когда по поводу, когда без, но большинство подозрительных типов притаскивали в участок. В скором времени камеры оказались переполнены, и я начал бояться, что если не половина, то треть жителей Медины осядет здесь.
Всё это действо, разумеется, сопровождалось не добрыми словами и призывами к миру, а пинками и ударами – иногда чересчур резкими и чрезмерными для того сопротивления, которое оказывалось. Впрочем, надо отдать должное отребью Медины, большинство уже слышало, что случилось. Они понимали, что полицейские взбешены и старались не провоцировать лишний раз.
Иногда, разумеется, случались эксцессы. Паре человек невинные шуточки стоили экстренной госпитализации, и я не заметил следов какой-либо жалости на лицах полицейских. Я не встревал и надеялся, что, выпустив пар, ребята придут в норму. К тому же, тех уродов наказали за дело – пусть не за то нападение, но грехов у них набралось изрядно.
Понимая, что своим присутствием я не помогаю, а скорее отвлекаю от привычной рутины, я попытался вновь ретироваться в свой кабинет. Однако у дверей меня ждал человек, завидев которого, я отшатнулся в сторону. Передо мной стоял Бобби, но исхудавший, с ввалившимися глазами и затравленным взглядом, бегающим из стороны в сторону.
– Нам нужно поговорить, детектив, – прошептал он, и в его голосе я почувствовал подступающую истерику.
Догадываясь, что разговор мне не понравится, я всё же предложил Бобби войти.
Он зашёл первым, сел на стул и принялся разглядывать костяшки собственных пальцев. Я заметил, что они сбиты в кровь, как будто Бобби был способен драться.
Впрочем, в последнее время ничего не стоило исключать.
– Что-то не так, Бобби? – спросил я, хотя едва задал вопрос, как понял, что куда логичней было бы спросить: «Что именно не так?»
– Всё, – он усмехнулся, а затем всё-таки посмотрел мне в глаза.
В них был вызов, но вместе с тем затравленность никуда не делась. Не старая затравленность Бобби Ти, толстяка и слюнтяя, а новая – человека, который видел слишком многое.
– Начинай по порядку, – сказал я и откинулся на спинку стула.
Я почти не сомневался, что история будет долгой, а после мне обязательно захочется выпить…
Интерлюдия: Бобби
Каждый, кто считает себя звездой, обязан ценить массовку. Без небесного фона вы – лишь светлячок.
Лесли «Док» СандерсКларисса Инфантино попадает в Медину случайно, в отличие от многих.
Тридцать лет назад рядом с городом происходит крушение дирижабля, и все, кто выжили – а так получилось, что выжили все – становятся полноправными жителями Медины. Разумеется, в честь счастливого спасения новые и старые граждане устраивают праздник.
В ту ночь многие ищут утешения не только в алкоголе, но и в наркотиках и сексе. Людям кажется, что после того, как они избежали смерти, им следует максимально насладиться жизнью. Кларисса участвует в этом разгуле наравне с прочими. В разгар веселья начинаются танцы, затем какой-то незнакомец вызывается приютить её на ночь, а утром они просыпаются в одной постели и продолжают заниматься тем, чем занимались ночью.
Кларисса и незнакомец – он каждый день представляется ей новым именем, это игра – живут вместе около месяца. Однажды вечером, когда буря бушует сильнее обычного, ветер уносит его прочь. Или же он просто сбегает, устав от Клариссы.
С того дня Кларисса, уже несколько недель как беременная, сходит с ума и превращается в затворницу, зарабатывая шитьём на дому. Вдобавок, она нанимает прислугу, чтобы та приносила продукты и ходила по различным поручениям. Даже сын, которого называют Роберто – так последний раз представился Клариссе незнакомец – рождается в старом доме, где заделаны все щели, а окна закрыты толстыми ставнями и непроницаемыми шторами.
Рождение ребёнка Кларисса воспринимает со сдержанным оптимизмом. Она рада, что наконец-то появился тот, кому предстоит разделить её знания о мире. Родители часто поступают так в отношении детей, но обычно у тех есть выбор – слушать или не слушать, поступать или не поступать, принимать на веру или нет.
У Роберто – будущего Бобби Ти – выбора нет.
* * *
С самого рождения Бобби оказывается заперт в клетке.
Его мать – сумасшедшая. Она одержима маниакальной идеей о ветре-убийце. Ведь именно он повредил дирижабль и убил мужчину Клариссы. Заводская неисправность каркаса судна, а также наркотики и алкоголь, которыми был накачан отец Бобби в момент смерти – разумеется, не считаются за причины.
Кларисса не делится своей идеей с жителями Медины, подозревая их в сговоре с ветром. Однако в тишине, царящей в огромном доме – особенно в те моменты, когда за окном бушует ветер – Бобби вынужден слушать истории о монстре, который скрывается снаружи. О том самом вихре, который только и ждёт момента, чтобы унести тебя прочь и зарыть в песок.
Именно из-за этих историй Бобби так много ест.
Логика очень даже проста: чем больше весит человек, тем труднее его подхватить ветру и унести куда-нибудь. Вывод отнюдь не парадоксален, а уж для маленького ребёнка, которому едва ли не каждый день повторяют это – он и вовсе превращается в аксиому. Только в десять или одиннадцать лет Бобби начинает задавать вопросы, на которые мать не может дать устраивающие его ответы.
Почему остальные люди прячутся от ветра только в бурю? Почему Кларисса, в отличие от Бобби, ест умеренно и стройную фигуру сохраняет до конца жизни, в то время как сын вынужден съедать не просто двойную, а даже тройную порцию? Почему мать запрещает сыну много двигаться, а сама без устали что-нибудь делает по дому?
Из-за этих и других вопросов Бобби в скором времени начинает в открытую протестовать. Кларисса при этом не бьёт сына. Она просто садится напротив и говорит про злой ветер, про смерть отца, про собственные несчастья. Говорит, говорит, говорит и плачет. Не навзрыд, а с одухотворённостью во взгляде, словно статуя у которой вдруг открылись слёзные каналы.
Бобби тратит годы, чтобы победить в себе страх перед этими манипуляциями, но и здесь Кларисса его обыгрывает. Она умирает в тот день, когда Бобби наконец-то решается сказать всё, что думает.
* * *
Бобби долго готовит обвинительную речь. Ему уже пятнадцать, и он настроен только на победу. Бобби удаётся заставить Клариссу слушать и не прерывать, хотя мать вновь начинает плакать.
Однако, когда Бобби заканчивает, Кларисса улыбается.
– Хорошо, Роберто, – говорит она, – ты убедителен. Ты чем-то напоминаешь мне отца. Он был таким же убедительным, когда мы познакомились. Но ты знаешь, к чему это привело…
– Конечно знаю! – кричит Бобби. – Я знаю это каждый день своей грёбанной жизни!
– Не кричи, – она опять улыбается. – Ты говоришь слова, но ты ни разу не был на улице. Пойдём, я покажу тебе, куда ты на самом деле хочешь.
Кларисса дьявольски расчётлива, как это часто бывает у сумасшедших. Представьте, что вы пятнадцать лет живёте в замкнутом пространстве, и вдруг тюремщик предлагает сопроводить вас на волю. Догадываетесь, что с вами будет?
Едва Кларисса предлагает отправиться на улицу, как в душе Бобби всё переворачивается. Забытые страхи разом проснулись. Бобби страшно, он потеет, хочет что-то сказать, но дар речи утерян.
– Ну же, Бобби, – продолжает Кларисса, видя, что происходит с сыном. – Ты ведь сам хотел этого, разве нет?
Она берёт Бобби за руку и ведёт к двери. Сын не упирается, но желает, чтобы всё остановилось. Прямо сейчас и прямо здесь!
Подойдя к двери, Кларисса отпирает её и раскрывает перед Бобби. Тот стоит на пороге и впервые видит Медину не через стекло или плотную штору, а так, что может почувствовать. Кожу Бобби колет песок. Ветер забивает мелкими песчинками ноздри, глаза, уши, волосы… они – песок и ветер – везде и всюду.
В тот момент Бобби хочет оказаться в своей комнате, спрятаться под кроватью и сидеть там тихо, ожидая, пока всё не придёт в норму. Необычное желание для пятнадцатилетнего парня, но Бобби впервые встречается со своим страхом воочию.
Кларисса выходит за порог, желая доказать Бобби его неправоту. Она тянет к сыну руку и улыбается кривой вызывающей улыбкой. Ветер усиливается всего на одно мгновение. То, что раньше было бурей, превращается в ураган.
Он подхватывает Клариссу, срывает с места и утаскивает в ночную мглу.
Всё происходит слишком быстро – ещё секунду назад Кларисса стояла перед Бобби, а затем площадка перед домом оказывается пуста, и ветер тут же успокаивается.
Простояв минуту или около того, Бобби делает шаг, с опаской вытягивает руку за порог и быстро хватается за дверную ручку. Захлопнув дверь, Бобби запирает её на все замки и бегом бросается в свою комнату.
Там он делает ровно то, что желал несколькими минутами ранее – стаскивает с кровати одеяло и подушку, забивается вместе с ними под деревянный каркас и укутывается с ног до головы. Он долго лежит и дрожит, чувствуя запах пыли и пытаясь заставить себя забыть всё, что сейчас произошло. Постепенно Бобби засыпает, и сон оказывается на диво спокоен – без кошмаров и ночных ужасов.
Словно день прошёл буднично и обыденно.
* * *
Несколько дней Бобби сидит в доме, слыша, как снаружи стучатся люди – то клиенты матери, то прислуга, то просто люди, прослышавшие, что в этом доме произошло горе. Каким-то образом подобные слухи всегда распространяются очень быстро.
Бобби никому не открывает, проводя время в уютном гнезде под кроватью. Он боится, что ветер подхватит его и унесёт. Кошмар, в который Бобби с трудом перестал верить, спустя годы обернулся реальностью.
Время идёт, подходят к концу запасы еды, а стуки в дверь раздаются всё реже. Однажды Бобби осознаёт, что вот уже несколько дней никто не пытается проникнуть к нему. По-видимому, жители Медины решают, что дом покинут навсегда.
К тому времени Бобби уже полностью смирился со смертью матери и, как бы это не выглядело, нисколько себя в ней не винит. Внутри оставшегося в одиночестве парня живёт только страх.
Выбравшись из-под кровати, Бобби оборудует в гостиной неподалёку от входной двери наблюдательный пост – одеяло и подушка, которые уже почернели от пыли, но от которых Бобби по-прежнему не отказывается.
Он ждёт стука в дверь и собирается уговорить любого, кто это сделает, помочь Бобби выбраться из дома, а в перспективе и из самой Медины с её ветром-убийцей. В обмен на это он готов отдать весь дом на разграбление, и выполнить всё, что от него потребуют.
Идут дни, за окном шумит ветер, песчинки царапают стёкла. Бобби впадает в состояние оцепенения. Ест, пьёт, испражняется, спит. Стука в дверь всё нет, и Бобби начинает казаться, что он выпал из потока времени. Всё будет оставаться таким же, как и сейчас, пока в один из дней Бобби просто не умрёт от тлена и безысходности.
В один из дней, неизвестно какой по счёту после смерти Клариссы, Бобби кажется, что он слышит звук шагов за дверью. Не размышляя, показалось ему или нет, а также не дожидаясь стука, он пытается вскочить, что оказывается не так-то просто.
Тем не менее, Бобби удаётся добраться до двери, распахнуть её и увидеть старика в чёрном костюме и странной шляпе. Тот вовсе не собирался стучать в дверь, а попросту проходил мимо. Тем не менее, старик останавливается, поворачивается в сторону Бобби и подходит ближе.
– У тебя, юноша, должна быть веская причина, чтобы выглядеть таким образом, – говорит старик с лёгким любопытством, но без тени брезгливости.
Бобби запоздало вспоминает, что с того памятного дня ни разу не мылся и не переодевался. Однако Док – а это именно он – не выказывает презрения, он именно что любопытствует.
И тогда Бобби понимает – этому человеку он готов рассказать всю свою историю. Старик выслушает её именно так, как надо: не перебивая и задавая наводящие вопросы в те моменты, когда трудно подобрать слова.
Невозможно найти слушателя идеальней, чем Док.
* * *
В дальнейшей истории следует остановиться на главном: Док превращает Бобби в подобие социализированного человека.
Первое время он навещает парня, принося еду и знания. Чаще всего это выглядит как вопрос, на который Бобби предстоит дать ответ к следующей встрече. Именно тогда у парня появляется привычка записывать всё подряд. Пока пишешь вопрос, нередко в голову приходит нужный ответ. А если нет – разбросанные на листке хаотичные мысли складываются в ключ к разгадке.
Чуть позже Бобби и Док начинают выходить на прогулки. Сначала недалеко, ведь ужас не дремлет. Чем больше проходит времени, тем глуше становятся страхи и тем дальше прогулки. Вскоре Бобби обходит всю Медину и учится гулять один, не боясь быть унесённым.
И всё равно Бобби продолжает есть, как проклятый. Всё ещё верит, что большой вес поможет уцелеть при урагане.
Док никак это не комментирует, и лишь советует Бобби найти работу. Запасы денег, накопленные Клариссой, истощаются, так что её сын того и гляди превратится в нищего.
– Тогда уж придётся худеть, малыш, разве нет? – насмешливо подначивает он.
Бобби понимает справедливость этих слов, но не может представить, для какой работы он годен, и какая бы, вдобавок, окажется интересной ему самому. Надо заметить, что образование Бобби поверхностно. Он умеет читать и писать, знает простейшие математические операции… и, собственно, всё. Многое Бобби вычитал в книгах, но это знания без практического опыта.
Книг, к слову, в доме много, а тематика их разнится – Кларисса быстро заметила, что проводя время за книгой, Бобби не стремится выбраться на улицу.
Промучившись с новой проблемой пару недель, Бобби случайно забредает в полицейское управление и вскоре выясняет, что здесь как раз и нужен человек с его талантами.
Писать, читать, использовать простейшие математические операции и, собственно, всё. Большего от дежурного не требуется, по крайней мере поначалу.
После этого Док появляется всё реже, но Бобби воспринимает это нормально. Он и без того постоянно задавался вопросом, зачем старик вообще потратил на него столько времени. Иногда Бобби думает, что Доку просто стало интересно. Может, он решил просто проверить, что получится из парня, который столько времени просидел в доме и даже ни разу не побывал на улице.
Чем дальше, тем больше Бобби понимает: кое-что из того, что получилось, Доку бы не понравилось.
* * *
Роберто Инфантино успевает проработать в полицейском управлении не больше месяца, когда понимает, что его ненавидят. Не до глубины души или потери контроля, но ощутимо и вместе с тем как бы походя. Ненавидят за нелюдимость, за привычку вечно что-то писать, за обжорство и внешний вид.
Раньше жизнь складывалась легко: мать была строга, но любила Бобби, её посетители не позволяли себе каких-либо замечаний или действий, а что касается Дока – его вообще трудно представить ненавидящим хоть что-то.
Но в полицейском управлении всё иначе.
В людях копится злость от собственного бессилия, когда преступник ускользает. Когда они видят, что он вытворяет со своими жертвами. Очень часто этой злости требуется дать выход иначе она затопит целиком… и тут подворачивается Бобби.
И даже зная, откуда всё проистекает, неприятно ощущать на себе гневные взгляды, слышать насмешки и получать вроде бы случайные, но ощутимые толчки.
Когда Бобби вконец устаёт от этого, он решает зайти к начальнику управления и высказать всё, что наболело. Он ищет утешения у старшего, потому что в памяти отложилось: шеф полиции – замечательный человек. Не такой, как Док, но в чём-то они похожи.
Неизвестно, где и когда Бобби получил это воспоминание. Когда он пытается вспомнить хоть что-нибудь, что касается приёма на работу, то чувствует лишь пустоту. Бобби помнит, как зашёл в полицейский участок, помнит своё желание здесь работать и помогать людям…
А в следующем воспоминании желание уже осуществилось.
* * *
Что же касается того дня, когда Бобби заходит в кабинет шефа, то он никого не находит. Пустая комната, пустой стол и одинокий телефонный аппарат на нём. Бобби подходит ближе и замечает на столе листок бумаги с коротким посланием:
Бобби, не удивляйся, но это место пусто. Никто не хочет быть шефом полиции, как ни странно. Ты тоже не очень хочешь, я знаю, но тебе придётся кое-что взять на себя.
Я уверен, ты оценишь всю извращённость этой мести.
Подписи нет, но Бобби это не смущает. Как не смущает и то, что неизвестный, оставивший послание, знает его имя.
Куда больше Бобби интересует месть, о которой говорится в письме. Кое-какие догадки посещают Бобби, но он не знает, правильны ли они.
И тогда звонит телефон. Внезапно разрывает тишину грохотом.
Бобби пугается, подскакивает, неудачно приземляется и больно ударяется ногой. После он бросается к телефону, желая заставить его замолчать, потому что если кто-то зайдёт и увидит Бобби в пустом кабинете, то начнёт задавать неприятные вопросы.
Однако, когда он хватает трубку, то слышит только странный шорох, сквозь который прорывается слово: «Действуй!»
Бобби кладёт трубку и чувствует, что впервые за всё время в полиции на его губах появляется улыбка. Он понимает, что его идея получила одобрение кого-то свыше, а потому начинает воплощать её в жизнь.
* * *
У мести и в самом деле извращённый привкус. Продолжая терпеть унижения и чужую ненависть, именно Бобби в течение следующих десяти лет выполняет обязанности шефа полиции. Именно он доносит все приказы и пожелания. Именно Бобби принимает отчёты, возвращает дела на доработку, координирует действия, повышает или же наоборот отказывает в повышении.
Неизвестно, кто и как делал это всё раньше, но теперь именно Бобби является главным человеком в управлении. Пока его ненавидят, не замечают и считают мальчиком на побегушках, он выполняет всю работу, и, разумеется, втайне потешается над тем, что остальные этого не замечают.
Впрочем, они и не хотят замечать. Никто не желает видеть то, что на поверхности. И если сначала это забавляет Бобби, то после он привыкает, а чуть позже начинает тяготиться своим положением.
Ведь он не может просто признаться – сначала ему не поверят, а после станут ненавидеть ещё больше, как ненавидят слабого, который обманом оказался сильнее. А Бобби желает не ненависти, а признания. Ведь он неплохо справляется со своей работой. Гораздо лучше, чем можно ожидать от неуверенного в себе толстяка.
И вот тогда Бобби понимает, что ему нужно сделать что-то эффектное. Что-то, что растопит лёд в чужих сердцах. Быть может, это и не позволит Бобби полностью стать своим, но хотя бы чуточку признания он получит.
Эту мысль Бобби лелеет несколько лет, но всё никак не может выбрать подходящего момента и подходящего дела.
А потом убивают Дока.
* * *
Человек, который превратил Бобби в личность, становится трупом. Это самый жестокий удар, который могла нанести жизнь.
И Бобби говорит себе: «Ты должен это сделать сам. Не только, чтобы доказать остальным, но и в память о Доке».
Разумеется, Бобби подстраховывается: он назначает на это расследование Шустера Крополя и Любомира Грабовски. Отправляет лучших, по оценке самого Бобби, а уж затем принимается действовать сам.
Бобби приходит к барону и просит приобщить его к церкви. Говорит, что Док был его духовным наставником, хоть ничего и не проповедовал, а теперь он мёртв и цель в жизни потеряна. Бобби рассказывает, что религия Рабби ему не подходит, а уж Легбы тем более. И остаётся только барон Рюманов и учение Перуна-Апостола.
Бобби мешает правду с вымыслом, очень боится, что ничего не получится, и одновременно с тем ожидает чуда. И оно случается: барон верит Бобби. Или просто делает вид. По крайней мере, обещает подумать и советует ждать посланца.
А потом приходит Глафира, и всё оказывается гораздо сложнее и запутанней, чем Бобби воображал себе поначалу. Всё всегда оказывается именно таким, когда появляется женщина, которая оказывается тебе не безразлична.
Запутанность длится несколько дней, вмещающих в себя бездну событий, а Бобби всё никак не может подловить барона на чём-либо. Он выбрал именно его, потому что чувствовал – Рюманов единственный, кто не остановится не перед чем. Легба слишком долго выжидает удобного момента, не желая рисковать, а Рабби излишне пассивен. Рюманов единственный, кто имеет план, и Бобби надеется подтолкнуть барона, чтобы тот поспешил и ошибся.
Но на самом деле это Рюманов подталкивает новообращённого адепта к явному предательству.
* * *
Поначалу Бобби даже интересно: Рюманов даёт несколько уроков, учит отделять себя духовного от себя телесного, рассказывает, какие испытания нужно пройти, чтобы побороть недостатки. Бобби рьяно берётся за борьбу с собственным обжорством и тут узнаёт, что детектив Грабовски завязывает с выпивкой…
Бобби воображает, что детектив занялся тем же самым – втёрся в доверие к кому-либо из духовников. В таком случае следует держаться настороже, чтобы не начать действовать друг против друга.
Как бы там ни было, но Бобби становится последователем барона. А заодно – его шпионом.
Бобби хорошо знает, как обстоят дела в управлении. То, что именно он руководит полицейскими, новообращённый скрывает от барона, но ему не составляет труда передавать часть того, что он слышит в участке. Правда, необходимо взвешивать каждое слово, чтобы с одной стороны вызвать доверие, а с другой – никого не подставить.
Это похоже на хождение по канату, что чрезвычайно бодрит Бобби. Засидевшись на месте и привыкнув только руководить и делать выводы, он очень быстро входит во вкус и получает удовольствие от щекотания собственных нервов.
Бобби вступает в игру, идёт ва-банк и проигрывает.
* * *
Всё случается накануне того дня, когда Легба решает провести ритуал над Шустером Крополем.
Бобби встречается с Глафирой, и каждый её поцелуй всё глубже и глубже погружает его в состояние экстаза. Он чувствует энергию внутри себя. Энергию, которая превращает никчёмного, пусть и умного толстяка, в бога.
Презревший осторожность адепт рассказывает Глафире, зачем он здесь. Обещает, что когда барон окажется за решёткой, то она останется с Бобби. Кажется, зовёт её замуж…
А она улыбается, как улыбаются люди, готовые вонзить нож в спину. Понимающе, ободряюще и вместе с тем в их глазах печаль – жаль, что всё закончится именно так и именно сейчас.
От последнего поцелуя Глафиры энергия устремляется в голову Бобби, он падает в темноту, а когда приходит в себя, то видит, что совершенно один. И нет на груди больше символа Перуна-Апостола, который подарил лично Рюманов.
Бобби вспоминает, о чём говорил и как себя вёл. Вспоминает свои намерения и понимает, что канатоходец всё-таки свалился в пропасть.
Тогда Бобби спешит в полицейский участок, но уже по дороге понимает, что проспал почти сутки, а за это время случилось много такого, чего не должно было случаться. Своими откровениями Бобби всё-таки подтолкнул барона, и тот начал действовать, вот только ошибок не допустил.
Смерть полицейских, исчезновение Шустера Крополя и чёрного песка – всё это на совести Бобби. Он бы убил себя, если бы не был трусом. Впрочем, Бобби находит оправдание: необходимо рассказать, как всё было. Быть может, эти сведения помогут хоть что-то исправить.
Даже самому себе Бобби не признается, что просто хочет разделить груз ответственности…
Глава XII
К тому моменту, как Бобби Ти закончил исповедь, он сидел, согнувшись, и старался не смотреть куда угодно, только не мне в глаза.
Однако я размышлял не о превратностях судьбы Бобби, а только о его внезапном похудении, о котором он не обмолвился ни словом. Так, видимо, устроен человек, что вещи, которые мы видим перед глазами, задевают куда больше, чем все услышанные ужасы и тайны.
– Ты не рассказал, как ты похудел, Бобби.
Он вздрогнул и поёжился. Бросил на меня быстрый взгляд, судорожно сглотнул, а затем встал и принялся раздеваться. Сбросил с себя плащ, расстегнул жилетку, а после засаленную потную рубашку.
Вид обтянутого бледной кожей скелета (можно было разглядеть каждую косточку) шокировал меня, так что я не сразу заметил гигантский шрам на безволосом животе Бобби – огромная молния, отливающая синевой.
– Прощальная насмешка, – сказал Бобби глухо. – Я ведь рассказывал барону, что хочу стать сильным, чтобы ветер не сдул меня и не унёс. Теперь я чувствую себя легче воздуха. Пришлось даже набить карманы всякой мелочью, чтобы ощутить хоть какую-то тяжесть.
– Оденься, Бобби, – попросил я. – У тебя ещё много работы.
– Работы? – он вскинулся.
– Да, работы. Мне нужно серьёзно подумать, что произошло, и понять, что делать дальше. В это время кто-то должен приглядывать за участком, чтобы ребята не наделали глупостей. Лучше тебя с этим никто не справится. Согласен, куда проще пойти и спрятаться в тёмном углу и плакать навзрыд, или что ты там ещё собираешься сделать. Сбежать и предоставить остальным решать проблемы, которые ты создал…
Я многозначительно посмотрел на него, а потом, внезапно ощутил стыд, но не позволил ему себя остановить, и продолжил вкрадчиво:
– Но если ты хочешь всё исправить и заработать прощение, то для этого надо поработать. Остальным пока не обязательно знать, что ты натворил. К тому же, здесь не только твоя вина. На мне лежит не меньшая ответственность, как и на том же Шустере. И исправить всё это мы можем только вместе. Ты понимаешь меня Бобби?
Чем больше я говорил, тем больше видел проблеск понимания в глазах Бобби. Боль не ушла (она и не должна была уйти) но если Бобби Ти был так умён, как он рассказывал, то самое время включить наконец-то мозги и перестать переживать.
– Хорошо, детектив, – он потянулся к одежде. – Спасибо за ваши слова. Я постараюсь всё исправить, но потом…
– Потом будет потом. Иди, Бобби.
Он оделся и вышел. Я только в тот момент вспомнил, что остальным тоже придётся пережить шок от внешнего вида бывшего толстяка. Возможно, полицейские потребуют объяснений, но я надеялся, что Бобби что-нибудь придумает.
В любом случае, теперь мне не было нужны сидеть в участке и приглядывать за остальными – это было ещё одной, пусть и не главной причиной моей обличительной речи. Я поморщился и встал. Прошёл к сейфу и потянул за ручку дверцы. Не знаю, что я там собирался увидеть – на меня смотрела пачка бумаги (бесполезные архивы Дока) и стеклянная банка внутри которой две горки песка замерли напротив друг друга. Одна была буро-жёлтая, вторая – чёрная.
Та самая банка, которую показывал мне Шустер в ночь убийства Дока.
В голове щёлкнуло, мысль пошла раскручиваться всё дальше, и уже через минуту я понял, что я должен делать. Одевшись, вышел из кабинета и прошёл по холлу, прислушиваясь к тому, как Бобби отдаёт указания. Парень наверняка не замечал, что его голос сейчас звучит куда твёрже, чем раньше, и никто его не подначивает. На лицах полицейских, столпившихся возле стойки дежурного, читалось облегчение, как и несколькими часами ранее, когда я взял на себя ответственность.
Не так важно, кто именно командует. И не так важно, как именно. Люди чаще всего и без того знают, чем им следует заняться. Нужно просто, чтобы кто-то взял на себя ответственность и добавил мотивации.
* * *
Мой путь лежал в никуда из ниоткуда. Мысли текли подобным же образом. Я искал выход из лабиринта, в котором выход попросту не предусмотрели.
Слова на то и слова, что не могут дать внятного объяснения происходящему. Ты можешь понять, но только когда увидишь или услышишь, а ещё лучше – потрогаешь своими руками. Но даже тогда тебя настигнет лишь иллюзия понимания.
Так и решение, которое пришло мне в голову, было лишь иллюзией, но ничего другого у меня и не могло быть. Когда вокруг одни миражи, ты просто воображаешь, что вот тот вроде бы похож на настоящий оазис, и выбираешь его ориентиром.
Иногда это срабатывает, чаще нет, но порой все мы проходим через этот путь.
Я вновь вышел к бару «Запах мамбо». Странно было видеть его вечером с погасшими огнями, закрытыми дверьми и зашторенными окнами. Ни одного звука не доносилось изнутри, зазывала не стоял у входа, а мужчины всех возрастов не вертелись поблизости. Никого не было не только вокруг, но и на ближайших улицах. Казалось, город избегал этого места.
На соседней улице я заметил то, что собирался найти – джип Шустера. Моему облегчению не было предела: почему-то казалось, что я буду искать его дольше. Впрочем, Шустер мог не волноваться за машину – репутация оберегала бы её до поры до времени, а затем взломщикам пришлось бы столкнуться с Каспером и Йозефом.
Собственно, псы и были той причиной, по которой я сюда пришёл.
Открыв крышку капота, я увидел, что Каспер и Йозеф сидят внутри огромного колеса и поскуливают. Завидев меня, оба повернули свои мордочки, однако скулёж не прекратился. Это была длинная протяжная нота, слушая которую, хотелось лечь и сдохнуть – столько было печали и боли в этом звуке.
– Привет, ребята, – сказал я дрожащим голосом.
Пальцы в перчатках стали ледяными. Я вдруг понял, что не знаю, станут ли псы меня слушать. «Просто расскажи им правду. Они ведь не обычные собаки, могут и понять», – посоветовал Томаш, и, поскольку других идей у меня не было, я именно так и сделал.
На пересказ событий сегодняшнего дня ушло не больше десяти минут – я торопился и старался быть кратким. Всё это время Каспер и Йозеф смотрели на меня, а под конец даже прекратили скулить.
– Вот так, ребята, – закончил я. – Нужно найти вашего хозяина, понимаете? Может быть, ему нужна помощь. Мало ли что случилось…
Псы не ответили, однако я почувствовал, что они согласны. Теперь оставалось претворить идею в жизнь.
– Давайте поедем, а? Тихо и спокойно двинемся, куда угодно вам. Вы ведь можете не только заставлять эту машину ехать, но и поворачивать куда угодно, так?
В ответ раздался тихий отчётливый лай.
– Отлично, ребята. Я сажусь в машину, и мы трогаемся с места.
В этот раз никакого лая не последовало, но мне он уже не был нужен. Я понял, что мы с Каспером и Йозефом договорились.
Когда джип дёрнулся с места и заколесил в сторону пустыни, я заметил, что не слышу шума двигателя, но так и не смог вспомнить, слышал ли его когда-либо раньше…
* * *
Через пять минут поездки я начал понимать, зачем Шустеру такая машина, а через десять – позабыл, зачем я вообще здесь.
Меня охватила чистая и незамутнённая радость: гнать наперегонки с песком и ветром; взмывать на дюнах; нырять с горки, зарываясь капотом в песок; гарцевать, когда одна сторона джипа висит в воздухе. И при этом управление абсолютно меня не заботило. Каспер и Йозеф знали своё дело.
Я раньше не любил дорогу. Обычно она означала, что мне вновь надо куда-то убегать, искать себе пристанище или гнаться за местом, где мне будет не так плохо, как сейчас. Однако каждая дорога в моей жизни упиралась во что-то, что оказывалось хуже предыдущего. Медина, пожалуй, была единственным исключением из этого правила. До этого момента.
До того, как я познал, насколько хороша дорога сама по себе.
Мы ехали. Я, Каспер, Йозеф, Джип, Песок, Ветер. Нас было много, и всё же среди этого множества я нашёл то одиночество, которого не мог достичь даже в своей квартире, скрывшись ото всех. А потом, так же внезапно, как и началось, ощущение радости сгинуло, а дорога обрела цель.
Впереди показался силуэт. Тёмная точка, которая стремительно приближалась. Даже ещё не сумев толком разглядеть её, я уже мог предсказать, кто это. Подсознательно давно уловил направление, в котором мы двигались, и только эйфория не давала мне понять, кто должен встретиться на пути.
Легба фон Гётце.
Её путь был целеустремлённым. Можно было разглядеть, как твёрдо она ставит ногу, как взбирается на дюны, не боясь упасть. Как не оглядывается назад, хотя уже должна была услышать если не звук мотора (которого всё равно не было), то шуршание шин на песке.
А после раздался новый звук – длинный и протяжный вой. В нём была боль, был азарт и, самое главное, неприкрытая угроза. Каспер и Йозеф почуяли добычу и рванулись в погоню так резко, что меня вдавило в кресло.
Сейчас я, к сожалению, не мог растолковать мелким псам, что мы ищем Шустера. Впрочем, наверняка они знали о том, кто именно поймал их хозяина и собирался принести его в жертву в том странном ритуале. А раз так – у них были все причины для мести.
Мы мчались вперёд, набирая скорость. Мы мчались не ловить, а таранить. Мы мчались, и наконец-то нашу угрозу почувствовали.
До Легбы оставалось всего ничего, когда она вдруг обернулась. Лицо её оказалось словно покрыто сеткой морщин, которые двигались, исчезая и появляясь в новом месте. В глазах не было страха, а только лишь удивление.
Я отчётливо представил, как джип на полном ходу ударит в Легбу, схватился за руль и попытался вывернуть автомобиль в сторону.
Бесполезно!
Каспер и Йозеф не давали мне этого сделать. До столкновения с Легбой оставались считанные метры, я жал на тормоза и напрягал мускулы, пытаясь сдвинуть рулевое колесо хоть на сантиметр в сторону.
А потом на нашем пути выросла стена, словно поднявшись из песка за одно мгновение.
Джип вонзился в неё и зарылся в песок тупым носом. Однако так просто нас было не остановить. Прорвав стену, автомобиль по инерции двинулся дальше – туда, где Легба всё так же удивлённо смотрела, замерев на месте.
Вторая стена выросла куда быстрее первой. Мы преодолели и её, потеряв почти всю скорость.
Третья стена остановила джип, а после, покачнувшись, рухнула вниз, погребая под собой автомобиль, меня, Каспера и Йозефа.
Я попытался открыть дверь, но песок был слишком тяжёл и всё, что мне удалось, это сдвинуть её на пару сантиметров. Взамен я получил горсть песка за пазуху – он тут же воспользовался шансом и ринулся внутрь.
Затем послышалось какое-то слово, которое я не смог распознать, и песок схлынул с автомобиля так же быстро, как до этого он превращался в стену. Словно волны откатили от берега, и выяснилось, что там теперь стояли двое.
Легба не изменила позу, разве что удивления в её взгляде прибавилось.
Рабби Шимон, застывший рядом с ней, был абсолютно живым на вид, необычайно серьёзным и каким-то… окрепшим.
– Добро пожаловать, детектив, – сказал он. – Вы выбираете странные дороги, но всегда находите то, что нужно.
– Я не искал вас, – пробормотал я, выбираясь из джипа.
Ни на секунду меня не покидало ощущение, что сейчас автомобиль снова дёрнется вперёд, стремясь раздавить, растоптать и несколько раз проехаться по телам этих двоих. Да и по мне, если я попытаюсь остановить псов Шустера.
– Искали, – Рабби кивнул. – Но пойдёмте. У меня здесь есть место, которое больше подходит для беседы. Но для начала нам нужно забрать собачек. Будьте добры, откройте капот. Уверяю, сейчас они не опасны.
Я усмехнулся, однако сделал то, о чём просили. Каспер и Йозеф мирно дремали в своей клетке, так что мне пришлось подхватить обоих на руки.
Тем временем Рабби набросил на плечи Легбы плед в серо-чёрную клетку, взял ладонь девушки в свою, а после мягко, но настойчиво повёл за собой. Легба не сопротивлялась, и, казалось, не вполне осознавала, что происходит.
«А кто может сказать обратное?» – спросил я сам себя и, оглянувшись на джип, в котором уже вовсю хозяйничал песок, двинулся следом за Рабби…
* * *
Ещё секунду назад солнце, зависнув на горизонте, освещало пустыню от края до края, и вот уже на безлунном небе зажглись мириады звёзд.
Мы сидели возле костра, расположившись полукругом – я, Легба, Каспер и Йозеф. Рабби сидел напротив, застыв недвижимо, и смотрел на огонь, которому не нужны были дрова (совсем как поезд Дока, которому не требовались рельсы). Казалось, это просто иллюзия пламени, однако жар от костра шёл самый настоящий.
Рабби только что закончил рассказывать историю своей мнимой смерти – купленный для отвода глаз билет и бегство в пустыню.
– Вы знали, что самолёт разобьётся? – спросил я
– Нет, – он покачал головой. – Но должен был предвидеть. Никто не покидает Медину по своей воле, даже если этот побег вымышлен.
– А зачем вы вообще ушли? Чтобы посмотреть со стороны, что станет с городом? Простите, Рабби, но здесь вам не так уж много и видно.
– Мне – нет, а вот ему… – Рабби наклонился, зачерпнул ладонью горсть песка и просыпал её сквозь пальцы тонкой струйкой. – Вот ему доступно всё.
Я покачал головой, затем покосился на остальных. Легба сидела, сложив руки на груди, и смотрела на огонь – только на него. Её губы чуть дёргались, будто она силилась что-то сказать или же наоборот, скрывала крик, стремящийся вырваться наружу. Каспер и Йозеф двумя маленькими сфинксами замерли подле Легбы. Попыток напасть больше не было. Вытащив псов из автомобиля, мы будто забрали у них всю жестокость.
– Вы разговариваете с песком, Рабби?
– Нет. Он разговаривает со мной. Каждая песчинка кричит и вместе их голоса сплетаются в хор. Иногда я думаю, что не хотел бы этого слышать, детектив, но это всё ложь. Я хотел, и я услышал. Теперь мне суждено с этим жить. И вот ещё что, – он вздохнул. – Не называйте меня больше Рабби. Это имя умерло вместе с тем человеком. Самолёт разбился, Рабби Шимон мёртв. Точка. Песок дал мне другое имя – Элох.
Недоверчивый смешок сам собой вырвался у меня, но Рабби-Элох не обратил внимания, зато Легба вздрогнула и пошевелилась. И тут же дёрнулись со своих мест Каспер и Йозеф. В миг оказались на ногах и застыли. Ни рыка, ни воя, ни лая – лишь покорное ожидание… чего?
– Что с ней? – спросил я, ощутив внезапный приступ ярости, от невозможности что-либо сделать. – Что с ней, Элох? И где сейчас Шустер Крополь? Это вам песок успел нашептать?
– Шустер внутри неё. Частичка его, частичка её и ещё частичка вечного зла, которое Док привёз в этот город. Маленькие частички чего-то большего. Им страшно, они растеряны, они не знают, что делать. Собачки чуют Шустера, а вместе с ним – чуют и всё остальное. И не понимают, кто сейчас перед ними.
– Частичка Шустера?..
Я перевёл взгляд на Легбу. Странные шрамы на её лице зашевелились. Ресницы задрожали, и из правого глаза покатилась слеза. Легба посмотрела на ладони и бессильно уронила руки на колени. И вот тогда Каспер и Йозеф заскулили.
– Если вы говорите, что это частичка, то где же всё остальное?
Рабби-Элох взмахнул рукой, указывая мне за спину, в то место, где осталась Медина. Я не видел, но знал, что Рабби указывает не только и не столько на город, сколько на то, что к нему приближалось.
На бурю. «Самум», как говорил Канга.
Может быть, это знание нашептал мне песок?
– Злу всего лишь не хватало сил… ему всегда их не хватает. И когда Легба решила провести ритуал над Шустером, зло воспользовалось их силами. Выпило до дна, оставив лишь капли. Зато у самого зла теперь достаточно сил, чтрьы стереть город с лица земли. Не спрашивайте о причинах, детектив. Разве злу они нужны? Это человеку нужны причины, чтобы совершить тот или иной поступок. Злу нет дела до поиска оправданий. Смысл его жизни в том, чтобы причинять зло, вот оно и следует этому смыслу.
– Вы неплохо бы поладили с Канга. Я даже удивлён, что вы до сих пор не подружились.
Элох улыбнулся уголками губ, но остался всё так же недвижим. Я поднял руку и потёр переносицу. Метафизическая болтовня никогда мне не нравилась и всегда лежала вне пределов понимания. Меня интересовали куда более прозаические вещи. К несчастью, интуиция подсказывала, что ничего не получится так просто. Чтобы понять, что делать дальше, придётся обратиться к той самой метафизике.
– И что же мне делать, Элох? Как спасти город и жителей?
– А вы этого хотите, детектив? Простите, но вы не производите впечатление альтруиста.
Сказано было жёстко, но я не расстроился. Это была та жёсткость, которая необходима, а всё сказанное было правдой
– Я забочусь о себе, Элох. О тех людях, которые мне дороги, пусть их немного. О тех вещах, которые мне дороги, пусть я и не всегда их ценю. Я забочусь о том, что необходимо мне. Я не альтруист, а эгоист, но сейчас мой эгоизм говорит, что город нуждается в спасении. Я понимаю, о каком зле вы говорите. Не могу объяснить, но понимаю.
– Вы правы, – он кивнул. – Но я не могу вам помочь.
– И песок? – я усмехнулся.
– И песок, – он кивнул. – Вы опять делаете ошибку, детектив, но не расстраивайтесь, я тоже её совершил. Я принимал песок за силу, которая управляет Мединой. Пятнадцать лет я потратил на то, чтобы понять её, постичь, научиться ею управлять… – он взмахнул рукой, и над костром вдруг образовался купол из песчинок. Рабби-Элох задержал руку в воздухе, а затем резко опустил вниз. И снова костёр горел передо мной, а песок лежал, как ни в чём не бывало. – У меня получилось почти всё. Но вот только песок – не повелитель Медины. Он самый первый её житель. Настолько первый, что когда-то не было ничего, но был песок. Даже ветра не было. Однако самый первый житель не всегда является правителем.
– Тогда что же или кто…
– Это неизвестно, – Элох ответил слишком быстро, чтобы я ему поверил. Он прочёл сомнения в моих глазах и опять улыбнулся уголками губ. – Не думайте, что я обманываю. Всё просто немного сложнее.
– Как всегда, – я встал и потянулся. – Как всегда, Рабби, уж простите, что так обращаюсь. Всегда всё намного сложнее. Я к этому уже начинаю привыкать.
Отойдя от костра, я задрал голову вверх и посмотрел на звёзды. Что ж, даже неожиданная находка (человек, который должен быть мёртв, но продолжает жить) не даёт мне практически ничего. То, что к городу приближается буря, мне сказал и Канга. Единственное новое – Шустер внутри Легбы. Вот, пожалуй, и всё.
– Вы разочарованы? – спросил Элох.
– Скорее, разозлён. Когда вы встретились мне в пустыне, то мелькнуло что-то такое на грани уверенности. Мол, подобное чудо может обернуться только ответом на все вопросы, а заодно и планом на всю оставшуюся жизнь. Планом, который знай себе исполняй, и всё будет отлично. Но ведь так не бывает, да?
– Не бывает.
– Тогда хоть что-то вы можете мне сказать? Что-то такое, что поможет или подскажет. Что не окажется очередной метафизикой, а приведёт к реальным действиям? Я устал от того, что все вокруг говорят умные фразы, а потом совершают какие-нибудь глупости или даже подлости. Вроде как поглотить дух детектива полиции. Вот зачем это Легбе?
– Она тоже думала, что городом управляет песок. И решила, что Шустер Крополь с его жёлтыми глазами и есть физическое воплощение того самого песка.
– Ага, понятно, – я кивнул. – В общем, то глупости, то подлости, и конца и края этому нет. Я вот тут послушал вас и решил – это всё из-за того, что люди слишком много думают. А когда приходит время действовать, то все эти мысли настолько их переполняют, что люди не знают, за что взяться сейчас. Вот и получается какая-нибудь ерунда. Как теория?
– Вполне имеет право на существование, – Элох даже не улыбнулся. Впрочем, я тоже не шутил. – Что же касается всего остального, то вам скоро представится шанс действовать. За вами уже едут, детектив. Едет друг, и он скоро будет здесь. Уж это песок может сказать точно.
Я не стал уточнять, что за друг едет, но был уверен, что Элох говорит правду. Ночная тишина пустыни была прекрасным фоном для раздававшегося вдали звука мотора…
– Что будет с ними? – я показал на Легбу. – Со всеми ними. Их как-то возможно разделить?
– Сейчас они напуганы, а потому вцепились друг в друга и не отпускают. Даже зло напугано, и не спрашивайте, как это возможно. Не беспокойтесь, я пригляжу за ними.
– Хорошо, – я кивнул.
Меня так и подмывало спросить, кем же на самом деле является Шустер Крополь, что он так спокойно оказался внутри Легбы, потеряв тело. Кем он является, отчего у него есть эти две собаки, жёлтые глаза и всё остальные незаданные вопросы… Но о некоторых друзьях ты просто не спрашиваешь, потому что ответ тебе не понравится. Остаётся довольствоваться лишь верой или доверием.
– И ещё, зачем вы делали голема, если уже подчинили себе песок? Для чего он был нужен?
В воздухе повисла пауза. Казавшийся спокойным Элох вдруг слегка дрогнул.
– Меня попросили, – только и сказал он. По сжавшимся в тонкую линию губам стало ясно, что ничего больше он не скажет. Возможно, позже, но не сейчас.
В этот момент вездеход, шелестя гусеницами, вполз на дюну рядом с нами и застыл на месте. Двигатель мерно гудел, и этот хорошо знакомый звук в тишине пустыни принёс мне неожиданное облегчение. Что-то знакомое и понятное. Что-то, что действует, а не размышляет.
Люк открылся и оттуда по пояс высунулся человек, которого я меньше всего ожидал увидеть, хотя вихрастая голова и довольная улыбка Мерка, который опять разгуливал без маски, принесли мне ещё большее успокоение.
– Я как-то обещал вас прокатить, детектив, – сказал он и засмеялся.
Улыбнувшись, я обернулся к Элоху, но тот лишь покачал головой.
– Я выбрал свой путь. Я стою в стороне и смотрю на то, что происходит. Я могу помочь Шустеру и Легбе, но не вам. Это плата за то могущество, которое я обрёл.
– Чем больше я на всё это смотрю, тем больше понимаю, что всё могущество – ужасно дурацкая штука. Постоянно приходится платить тем, чью ценность ты понимаешь позже.
Элох-Рабби кивнул, хотя сомневаюсь, что он услышал в этой фразе что-то новое. Я же развернулся и побрёл к вездеходу. Мерк смотрел то на меня, то на странную компанию, рассевшуюся у костра. Смотрел во все глаза, с восхищением, но не задавал вопросов.
Я догадывался, что они последуют позже, но у меня тоже была парочка, которые я хотел прояснить до того момента, как мы окажемся в Медине.
Интерлюдия: Рабби
Люди видят символы там, где их нет. А когда символы оказываются на виду, люди проходят мимо.
При этом многие ошибочно думают, что символы не будут работать, если не обратить на них пристального внимания.
Рабби ШимонПятнадцать лет назад небольшой пятачок возле ратуши Медины становится центром пересечения нескольких судеб. В результате происходят события, о причинах которых мало кто догадывается, зато последствия обсуждают всем городом. Типичная ситуация, в общем-то, если не брать в расчёт сущность тех самых причин. Да и последствий тоже.
Первыми к месту действия пребывают пьяные зеваки. Верховодит компанией Ян Портер – крепко сбитый парень с расплющенным носом. Гуляки уже основательно набрались, их карманы опустели, но один из них, разгорячённый выпивкой парень по имени Ланс Вингер, вспомнил, что у его двоюродной тёти есть шкатулка, в которой та хранит сбережения на собственные похороны.
«Гробовые», – так называет эти деньги Ланс.
Имена остальных из этой компании не имеют значения. Ланс Вингер заикнулся о деньгах, Ян Портер предложил одолжить немного, прочие нестройным хором поддержали, а на половине пути компания вдруг остановилась, привлечённая странным зрелищем.
Не обращая внимания на пьяных зевак на пятачке возле ратуши стоят четверо обнажённых мужчин, словно обозначая вершины невидимого квадрата. На лбу каждого из них вытатуирован знак, и только лишь в этом можно увидеть различие между обнажёнными истуканами.
Смысл символов Ян Портер и сотоварищи даже не пытаются понять. Упражняясь в остроумии, они придумывают прозвища для застывших на пятачке. Большая часть шуток бьёт ниже пояса, но, в оправдание Портера и его компании, эта часть обнажённых мужчин действительно привлекает внимание. В первую очередь, своим отсутствием. Принадлежность к сильному полу выражается у истуканов лишь в грубых чертах лица, развитой мускулатуре и позе, свидетельствующей о том, что центр тяжести смещён к крестцу, а не к пояснице.
Впрочем, о последнем различии подвыпившие зеваки не догадываются. Как и не думают о том, что отсутствие полового члена – не единственная уникальная особенность четверых любителей нудизма, выбравших не то время и не тот пляж.
Если заглянуть в ноздри бесполых фигур, то увидишь лишь небольшую выемку и полное отсутствие дыхательных путей. Если раздвинуть ягодицы, то не обнаружишь ануса. Ушные раковины – тоже лишь имитация. Более того, если разрезать собравшихся от макушки и до пяток, то выяснится, что их тела лишены крови и состоят из мягкой субстанции, напоминающей обыкновенную глину.
Собственно, это и есть глина из Иерусалимских карьеров.
Куда больше мог бы рассказать Рабби Шимон, застывший в точке пересечения диагоналей квадрата, образованного обнажёнными истуканами. Однако он пришёл не отвечать, а спрашивать. И ради этого садится на корточки и простой деревянной палкой чертит знаки и символы, покрывая песок вокруг себя письменами, чей смысл понятен лишь самому Рабби.
– Поссать решил, – замечает Ян Портер, и, воодушевлённый зазвучавшим гоготом, тут же выдаёт следующую «остроту». – Те не мужики, а этот вообще – баба!
Зеваки продолжают смеяться, но никто не обращает на них внимания.
Буря, внезапно усилившись, принимается забрасывать рисунки Рабби. Ветер движется по кругу, сопровождая движение палки. Ветер не желает, чтобы Шимон закончил свой рисунок. В какой-то момент Рабби оказывается в оке урагана и даже может, если захочет, снять маску и вдохнуть – в воздухе ни единой песчинки.
Но Рабби Шимон не отвлекается на подобные сентиментальные пустяки.
Никому не видно, но под маской он ухмыляется, радуясь своей предусмотрительности. Рабби достаёт из кармана бесформенного плаща светящийся пузырёк, аккуратно открывает его, пряча от ветра, и окунает самый кончик палочки. После этого Шимон возвращается к вязи символов, но теперь они вдавлены не в песок, а в саму реальность. Словно вырезая на ткани бытия прорехи, Рабби продолжает рисовать, постепенно ускоряясь.
Рычащий от негодования ураган бушует вокруг, но всё без толку. Едва символы обретают необходимый смысл, Рабби втыкает палочку себе под ноги, и всё затихает.
* * *
Словно гигантская волна разносится от центральной площади до окраин Медины. Она невидима и нематериальна, но, проносясь сквозь здания, волна задевает людей, и те чувствуют дуновение вечности.
Музыкальный автомат в заведении мадам Клио затихает, бессмысленно мигая огоньками. Тапёр в ресторане «Кушать подано» может лишь злобно взирать на инструмент, не в силах исторгнуть из него и звука. Более того, он и сам онемел, как и все остальные посетители. Как и все жители Медины. Как и Ян Портер, Ланс Вингер и остальная компания.
Впрочем, не совсем все. Заключив себя в магический круг, Рабби Шимон получил право спрашивать, а големы давать ответы в пределах своего понимания, которое разнится, как и надписи на лбах.
– Пшат! – произносит Шимон властно, и тотчас же четверть мнимого квадрата оказывается подсвеченной тёмно-жёлтым, почти коричневым цветом. Один из големов, чьё имя только что прозвучало, падает на колени. Его рот открывается – беззубая впадина, поблёскивающая влажной глиной.
– Спрашивай, – доносится непонятно откуда звучащий голос.
– Где ты? – задаёт первый вопрос Рабби.
Шимон выглядит спокойным, но руки его покрылись потом и мёрзнут под тонкими кожаными перчатками; ноги подкашиваются, а душа трепещет от осознания значимости того, что сейчас происходит.
Глаза Пшата закатываются, затем он закрывает веки, и через секунду лицо меняется, убирая трещины и превращая голема в подобие не имеющего глаз троглодита.
– Я в стране песка, Рабби, но тебе это известно. Я в стране непростого песка, но ты знаешь и это. Я в стране, которой не должно быть, но которая, тем не менее, существует – и здесь я не открою для тебя нового. Твой вопрос не имеет смысла на этом уровне понимания. Мне жаль.
Сказавши это, голем падает лицом вниз. Рабби Шимон догадывался, что не услышит нужного ответа, но должен был попробовать. К тому же, ритуалам присуща степенность и правильная последовательность. Не обратившись к низшим сущностям, не стоит тревожить высшие.
– Ремез! – падает слово. Оно на тон ниже, на тон властнее и на ступень ближе к пониманию сокровенного.
Голем, стоящий по диагонали от упавшего Пшата, опускается на колени в подсвеченный светло-серым квадрат.
– Спрашивай, – произносит он.
Рабби чуть улыбается. Происходящее его веселит тем ощущением силы и вседозволенности, которое обычно веселит людей, подобных Яну Портеру. Рабби Шимон на несколько секунд допускает, что сейчас подобен Богу, удовлетворяет этим допущением гордыню и поворачивается к Ремезу.
– Где ты? – спрашивает Рабби вновь.
Опять закатившиеся глаза и сомкнувшиеся веки – ещё один голем, ставший троглодитом.
– Я в стране, которая создана силой многих, но подчиняется одному. Я в стране, которая чтит чужие заветы, но не забывает собственных. Я в стране, где у каждого есть тайна, но есть и одна, которая объединяет их всех. Не думаю, что открыл тебе что-то новое, Рабби, но ты можешь отправиться по этому пути.
Шимон удовлетворённо кивает, наблюдая, как второй голем опускается на песок.
– Драш!
Действие ускоряется. Тёмно-коричневый квадрат вспыхивает за одно мгновение. Колени очередного голема преклонены, а сам он ожидает вопроса повелителя.
Рабби тоже торопится, потому не тратит время на размышления или попытки проанализировать свои ощущения – всё это случится чуть позже.
– Где ты? – спрашивает он.
– Я в стране, которая создана великой волей ради обыденной цели. Я в стране, которая лежит вне времени и пространства, потому что сама является и тем и другим. Я в стране, которую невозможно покорить, но которая не собирается покорять других, пока они просто живут, не пытаясь познать её тайны.
Голем падает, но перед этим успевает произнести ещё одно:
– Это было предупреждение, Рабби.
Шимон лишь нервно дёргает щекой и готовится произнести последнее слово. Все предупреждения сейчас не имеют никакого толка. Рабби говорит гораздо тише, чем до этого, но слово разносится куда дальше:
– Сод…
Болезненно-бледный свет заполняет последнюю четверть квадрата. Сод стоит на коленях и готов внимать, хотя вопрос не будет отличаться оригинальностью.
– Где ты? – спрашивает Рабби и сам опускается на колени – ноги уже не держат.
Следует долгая пауза, за время которой все собравшиеся на площади успевают достичь наивысшей точки любопытства. А после, едва губы голема раскрываются, как их запечатывает песок.
Он налетает со всех сторон разом. Окутывает, покрывает слоями, запечатывает, словно сосуд. Песчинки умудряются проникнуть между слоями глины и протискиваются всё глубже и глубже, расширяя пустоты для своих собратьев. Рабби растерян и не может поверить в происходящее, но ему приходится это сделать, когда голем взрывается, покрывая всё вокруг ошмётками липкой глины.
«Он заговнякал мою маску резиновым, мать его, дерьмом», – думает Ян Портер, когда ему в маску прилетает один из кусков.
Ровно в этот же самый момент пелена тишины, нависшая над Мединой, спадает, и Портер озвучивает своё недовольство, повторяя одно и тоже на разные лады, не в силах остановиться. Он похож на новорождённого, что возвещает криком о своём появлении на свет.
* * *
Рабби Шимон чувствует себя опустошённым и неудовлетворённым. Ритуал, к которому он так долго готовился и на который потратил силы и сбережения, потерпел неудачу. Сод, чья способность проникать в суть вещей лежит далеко за пределами обычных возможностей, мог дать ключ к разгадке тайны Медины. Однако в последний момент чужеродная сила всё испортила.
Шимон слышит какой-то звук и оборачивается Приближающийся к нему человек знаком Рабби, но напрямую они никогда до этого дня не общались. Шимон был занят подготовкой к ритуалу, а чем занят Док его не интересовало. Сейчас же тот подходит и, улыбаясь, аплодирует Рабби.
Для Шимона этот звук как издёвка.
– У вас почти получилось! – говорит Док. – Извините, что не предупредил о своём присутствии – не хотел мешать и отвлекать. Позвольте заметить, что вы подошли к разгадке куда ближе, чем я. Возможно, нам стоило бы объединить усилия, вам так не кажется?
– Не сейчас, – шепчет Рабби и бессильно качает головой.
– Понимаю. Вам нужна моя помощь, чтобы убрать всё это…
Док обводит рукой вокруг, но тут же осекается. Песок поглотил остатки големов, квадрат более не подсвечен, а символы, начертанные в воздухе, исчезли.
Тратя время на удивление, Док и Рабби кое-что упускают из виду – Ян Портер в бешенстве. Он жаждет мести за то, что резиновое дерьмо испачкало маску.
– Слушай сюда, маленький гавнюк, – говорит Портер, подбегая к Рабби и вздёргивая его в воздух с высоты своих почти двух метров. – Ты мне кое-что должен, сечёшь? Твой голый дружок взорвался и превратился в дерьмо. И это дерьмо заляпало мне маску. Соображаешь, что надо сделать?
Ян не обращает внимания на Дока. Конечно, Портер что-то слышал о том, как этот старый хрен появился в Медине, но бешенство, подогретое алкоголем, не даёт мозгу рационально обдумать, что в этой истории правда, а что выдумка. Он даже не задумывается, что стоит хотя бы держать Дока в поле зрения.
– Ты меня слушаешь, гавнюк? Я с тобой разговариваю, мразь. Ты выглядишь неплохо, так что у тебя наверняка полно денег…
– …это преувеличение, – устало вставляет Рабби, но тут же Портер начинает его трясти, отчего плащ трещит и готов порваться, повергнув Шимона обратно на землю.
– Какое, нахрен, преувеличение? Заткнись и запоминай: ты, мать твою, должен мне новую маску – это раз. Кроме того – деньги. Это два, если ты считать не умеешь. Ну и в-третьих, ты должен всё это предоставить мне прямо сейчас. Соображаешь, маленький гавнюк, что ты должен сделать?
– Да, – говорит «гавнюк», и голос его наливается силой, которую Портер не замечает.
Рабби бьёт Портера по ушам. Громила ревёт и выпускает Шимона, допустив тем самым очередную ошибку. Приземлившись, Рабби вскакивает и наносит несколько ударов в солнечное сплетение противника. Когда же Портер загибается, пытаясь восстановить дыхание, идеально выполненный апперкот подбрасывает его на несколько сантиметров в воздух. А уж сила притяжения прикладывает все усилия, чтобы Портер рухнул на песок рядом с застывшим в изумлении Доком.
Остальные зеваки топчутся в отдалении. Сохранив часть своей шакальей осторожности, они с опаской косятся на Рабби и мысленно проводят параллели относительно разницы в размерах и физической подготовке между Яном и Шимоном. Как-то само собой получается, что Портер превращается в пустышку, наполненную лишь бравадой. До конца сегодняшней ночи эта весть разлетится по барам, и на следующее утро не останется человека, который не будет знать о столкновении Яна с Рабби и о том, что из этого вышло.
– Неплохо, – говорит Док уважительно.
– Большие и сильные всегда забывают, что у маленьких и слабых есть море возможностей попрактиковаться в драке, даже если они не хотят, – устало улыбается Рабби, потирая кулак. – Я никогда не любил драться, но пришлось научиться, чтобы доходчиво объяснять свою нелюбовь. Что же касается вашего предложения, я подумаю над ним.
Док неожиданно подмигивает Рабби и слегка шаркающей походкой идёт в направлении дружков Портера. Те почтительно расступаются. На их глазах «маленький гавнюк» показал насколько он опасен, а потому не стоит искушать судьбу, выясняя, на что способен «старый хрен».
Но Доку нет до них никакого дела. Он проходит мимо, чувствует, что ещё ближе подобрался к разгадке своего сокровенного вопроса, и попутно размышляет над тем, как применить полученные сегодня знания.
Что касается Рабби, то он стоит на месте и смотрит на песок, не в силах оторваться. Ему вдруг кажется, что ответ на заданный вопрос всё же прозвучал, и осталось лишь разгадать его смысл…
Глава XIII
– Итак, у тебя есть вездеход, – сказал я, когда мы двинулись обратно в город. – Насколько я помню твоих сбережений на него не хватало.
– Нет, – Мерк улыбнулся не то виновато, не то смущённо. – Но мне его подарили детектив, честное слово. Можете не сомневаться, я не угнал его и не украл.
– Здесь я не сомневаюсь, ты достаточно сообразителен, чтобы понять, что за этим последует. Но всё-таки, откуда он?
– Подарили. Друг.
За этими односложными ответами скрывалось нежелание рассказывать правду. Мерк либо боялся, что я ему не поверю, либо был не до конца честен. Насчёт первого он мог бы не волноваться – за последнее время я научился верить во всё. А вот что касается второго…
– Где меня найти, тебе тоже подсказал друг? – я попытался зайти с другой стороны.
– Нет, – Мерк передвинул рукоятку и увеличил скорость. – Я выехал покататься. Мне подарили вездеход, и я решил, что стоит сначала попробовать где-нибудь, где я не буду никому мешать. Ну, знаете, не смогу задавить или ещё что. Вот я и отъехал от города. Сделал пару разворотов, чертил восьмёрки на песке, а потом вдруг понял, что мне нужно поехать в пустыню. Не знаю, как объяснить. Хотите верьте, а хотите нет, но только я понял, что если не поеду прямо сейчас, то просто жить больше не смогу. Я раньше думал, что так бывает только, когда видишь, как люди в ресторанах едят десерты. Или тогда, когда у кого-то появляется новая игрушка, которой у тебя никогда не было. Ты смотришь и думаешь: жизнь уже будет не такой, если у меня этого не окажется. Только с игрушкой и десертами потом как-то всё проходит, а здесь я понял, что не пройдёт. Что надо ехать обязательно. Я не знал, что вы здесь, кстати. Но с кем вы там были? Одна – кажется, Легба. Второй похож на старика, который проповедовал по воскресеньям. Только тот был грустный и усталый, а этот спокойный. И какие-то зверьки маленькие, я таких не видел ещё.
Я усмехнулся. У мальчика, как я в очередной раз убедился, язык был подвешен неплохо. Быстро рассказал то, что хотел рассказать и тут же перевёл тему. Наверняка ему действительно было интересно, но всё-таки…
– Это Легба. И Рабби, которого теперь зовут иначе. А ещё Каспер и Йозеф – так зовут псов. Им надо немного побыть всем вместе.
– В пустыне?! – Мерк удивлённо покачал головой. – Сейчас ещё ладно, но ведь приближается буря. В городе только о том и говорят.
– Может выйти так, что в пустыне будет куда безопасней, чем в городе, – сказал я, а про себя подумал: «Достаточно ли будет сил Элоха, чтобы укрыть песком не только костёр, но и всех остальных? Справится ли он с тем самым приближающимся злом?»
«А ты справишься?» – спросил в свою очередь Томаш.
Мерк молчал. Либо переваривал то, что я ему сказал, либо старался, чтобы разговор вновь не вернулся к появлению вездехода – эта тема ему явно была неприятна. Мальчик нервничал и ёрзал на месте, постоянно косясь в мою сторону.
Я тоже молчал, но вовсе не потому, что потерял интерес. Я наконец-то осознал, что мне сказал Элох – песок не был правителем Медины. Мы боялись его, некоторые поклонялись, а он всего лишь жил здесь и на правах старейшины командовал нами. Он и ветер.
А сами они подчинялись кому-то другому.
«Так ли надо тебе это знать? – Томаш вновь подал голос. – Ты ведь практичный человек, Грабовски. Ты сам об этом заявлял не более часа назад. Так что отбрось размышления, а если уж хочется подумать, то реши, что делать с бароном и с этой приближающейся бурей. Это самые основные вопросы сейчас, так что сосредоточься на них, и перестать страдать ерундой!»
Что бы я не говорил про Томаша Хубчека, но этот призрак прошлого чрезвычайно пригождался, когда мне надо было заставить себя что-либо сделать.
* * *
Рассвет наступил так же внезапно, как и закат. Время в очередной раз продемонстрировало свой извечный фокус – сжалось в точку в тот момент, когда хотелось продлить его до бесконечности. Недавно я видел, как на западе заходит солнце и на небе вспыхивают звёзды. Въезжая в Медину, я застал восхождение светила далеко-далеко на востоке.
Одновременно с восходом я увидел Самум во всём его великолепии. Он ещё только зарождался и набирал силу, но, глядя на огромную чёрную стену бури, я уже знал – вскоре Самум будет готов напасть на город. Напасть и разрушить всё до основания.
Мы въехали в город на рассвете, но по моим внутренним ощущениям была ночь. Я не устал, а наоборот – чувства обострились до предела.
Удар каждой песчинки о толстый корпус вездехода отдавался эхом, встречаясь со скрипом половиц в домах, пыхтением людей, пытавшихся сделать утреннюю зарядку, и проклятиями, которые они посылали в адрес нового дня…
Я почти зримо видел, как жители Медины встают, топчутся на месте, вздыхают, подходят к окну и смотрят сквозь жалюзи. Кто-то видит собственный двор, кто-то встающее солнце, однако есть и такие (и их много), кто видит Самум…
Люди смотрели на Самум и взвешивали угрозу. Даже быстрые и дерзкие поступки люди в Медине совершают после тщательных подсчётов, даже если они умещаются в секунду. Никто здесь не поступает опрометчиво, что, однако, не отменяет совершаемых ошибок.
Мы въехали в город на рассвете, но для самой Медины наступал закат. И совсем скоро мне предстояло убедиться в этом воочию.
И всё же я чувствовал, что никто не побежит из города. Из-за слепой веры, что всё обойдётся. Из-за нежелания терять то, что имеешь.
Из-за того, что никто по своей воле не покидает Медину, как сказал Элох.
* * *
Когда Док приехал в Медину, он сумел остановить разбегающихся в панике людей единственным вопросом.
Мне подобное было не под силу, но и останавливать пока никого не требовалось – ни одного паникёра на улице. Собственно, их можно было понять. Поножовщина, перестрелки, венерические заболевания и сердечные приступы унесли людей в разы больше, а песчаная буря болталась где-то в конце рейтинга «Угрозы жизни в Медине».
Однако, сейчас на город надвигалась не простая буря. И с одной стороны – хорошо, что никто не поддался панике, иначе пришлось бы ещё хуже. С другой – я понимал, что для этой бури не станут помехой дома и укрытия, какими бы крепкими они ни были.
«Но и с третьей, тебе некуда их увести и спрятать», – сказал Томаш, и его правда была страшнее всего.
Мерк высадил меня у полицейского участка, всё так же продолжая хранить молчание. Не знаю, проникся ли он видом бури или просто размышлял, как бы ловчее спрятать вездеход, чтобы никто его не угнал. Оставалось надеяться, что собственного ума парня, и упрямства его матери хватит, чтобы он вёл себя благоразумно.
– Ещё раз спасибо за помощь, – сказал я на прощанье.
Он отмахнулся, будто я упомянул какой-то пустяк, и выглядел при этом совсем как взрослый.
Затем Мерк уехал, а мне осталось переступить порог полицейского участка и погрузиться в проблемы. Поспешное бегство вчера вечером, доведённый до истощения Бобби, которого я едва ли не вынудил занять место за стойкой, исчезновение Шустера, нападение на криминалистов… я почти не сомневался, что ребята все разом ушли мстить, а в управлении остался лишь Бобби, спрятавшийся за стойкой от подступающего Самума.
Реальность, однако, преподнесла очередной сюрприз.
– …прежде всего позаботьтесь о стариках, женщинах и детях. Мужчины и сами в состоянии за себя постоять.
Я не сразу смог поверить в картину, которая предстала моим глазам. Полицейские выстроились у стойки, а Бобби раздавал им указания. Он по-прежнему выглядел не очень – плащ болтался на нём, как на вешалке, под глазами мешки, а лицо усеяно морщинами. Однако полицейские смотрели на него, как на героя.
Да что там! Я готов был поклясться, что и сам смотрю с восхищением.
– …Вы должны прочесать каждую улицу, каждое ветхое здание. Нужно собрать всех, кто не способен найти подходящее укрытие. Отправляйте их к знакомым, а если таковых нет, то тащите сюда. В камерах сидят вчерашние задержанные, но в управлении полно других мест.
– Можно использовать бар Легбы! – вырвалось у меня.
Все, как по команде, повернулись, а Бобби, такое ощущение, вздохнул с облегчением.
– Хозяйки нет, а внутри бара просторно. Вдобавок, если поставить кого-нибудь за стойку, то у большинства из тех, кого вы найдёте, не возникнет никаких проблем. Они скоро перестанут замечать форму и вообразят, что сейчас обычный вечер, ничем не отличающийся от прочих. Правда, внутри могут скрываться пара прислужников Легбы, но не думаю, что они будут против.
– Отлично, – Бобби кивнул. – Вы это слышали? А теперь идите и сделайте так, чтобы эта буря осталась всего лишь ещё одной бурей и никак не вошла в историю.
«Возможно, историю просто некому будет писать. И не для кого», – я едва не поддался пессимизму, однако полицейские помогли мне. Они задвигались, затопотали по дощатому полу, зашелестели насмешками, дежурными фразами, подначками. Словом, всё приобрело привычный ритм, который сразу же настроил на нужную волну.
Бобби почти подлетел ко мне, едва остальные занялись делом.
– Я думал, вы сбежали, – выдохнул он.
– Никто не может сбежать из Медины по своей воле. Я всего лишь сходил развеяться, – уклончиво ответил я. – Что-нибудь нового по поводу криминалистов?
– Увы. Но сейчас это не основная наша проблема. Если переживём бурю, то сможем заняться и нападением на лабораторию.
– Что, тоже проняло? – спросил я, посмотрев внимательно. – Большинство не переживает.
– Большинство переживает только тогда, когда уже поздно, – он покачал головой. – Надо сделать всё, что в наших силах.
Я улыбнулся ему и похлопал по плечу. Бобби улыбнулся в ответ. Смешно было представить ещё пару дней назад, что всё будет так выглядеть, но такова жизнь – чем быстрее идут события, тем быстрее тебе приходится принимать новые правила игры, чтобы не исчезнуть из списка участников.
Шустера больше нет, он пленник тела, которое ему не принадлежит. В свою очередь, Бобби Ти тоже исчез в том виде, в каком я к нему привык. Хорошо всё-таки, что перемены коснулись и его внешности. Так гораздо легче принять произошедшие изменения.
– У тебя неплохо получалось, Бобби. Я поначалу даже не поверил, что ты решил толкнуть речь.
– Это всего лишь бравада. – он скривился. – Я страшно боюсь, поэтому пытаюсь казаться крутым. Во мне живёт страх. Я боюсь, что все наши усилия окажутся напрасными.
– А как тебя так быстро приняли, а? Словно и не было этих нескольких лет насмешек!
– Они привыкли подчиняться, а никто кроме меня не пытался командовать. Знаете, детектив, я им даже завидую. Думаю, вы представляете, насколько сложнее быть тем, кто принимает решения.
– Отлично представляю, Бобби.
Я вздохнул и прошёл к окну. К тому самому, что вело на запад. Самум по-прежнему висел чёрной громадой, и мне показалось, что он приблизился.
«Тебе не показалось», – сказал Томаш, и в этот раз не поддаться паническим ноткам в его голосе оказалось сложнее.
* * *
Через два часа эйфория, которая позволяла мне хранить спокойствие и оставаться бодрым, улетучилась. На смену пришли усталость и то состояние, которое одолевает, когда набиваешь желудок до отвала, а после смотришь осоловелыми глазами на происходящее вокруг, говоришь невпопад и реагируешь на события с заметным опозданием.
«Чудеса, – подумал я. – Я сыт по горло чудесами, тайнами, двойными жизнями, неожиданными метаморфозами и прочим дерьмом. Что надо, чтобы человек начал уставать от чудес? Просто заставь их происходить каждые несколько часов».
Бобби выглядел лучше моего. Он не сидел без дела, а постоянно куда-то звонил или принимал звонки. Беспрестанно записывал что-то в блокнот, развёрнутый перед ним. Делал пометки, хмурился, изредка принимался грызть кончик карандаша, а затем смотрел на него с сомнением.
– Как давно ты ел? – спросил я его.
– Что? – он вскинулся, затем вновь посмотрел на карандаш, а после рассеяно улыбнулся. – Не знаю. Не голоден.
– Тебе следует поесть, парень. Никогда бы не подумал, что это скажу именно я и именно тебе, но это правда. Если ты упадёшь в голодный обморок, полицейскому управлению Медины от этого легче не станет.
Он пожал плечами, а затем кивнул и с тоской посмотрел в окно.
– Не бойся, от пары бутербродов тебе хуже не станет. К тому же, в нынешнем состоянии понадобится не один месяц, чтобы ты набрал былую форму.
«И может статься, что столько времени у нас нет», – закончил я мысленно.
Бобби вновь улыбнулся, но по-прежнему пребывал в сомнениях. Чтобы помочь ему избежать их, я решил прогуляться до «Отвратного дня». Мне и самому не помешала бы пара бутербродов, а вдобавок кружка (а лучше две!) кофе, который умел делать Карл. Чёрный, густой, с пряностями и чрезвычайно бодрящий.
– Прогуляюсь через дорогу, принесу тебе поесть, заодно и сам подкреплюсь, – бросил я, направляясь к выходу.
Бобби проводил меня растерянным взглядом, но ничего не сказал. Так-то оно лучше. В конце концов, парень хотел, чтобы кто-нибудь сделал выбор за него. Почему бы не начать прямо сейчас?
* * *
Хотя путь занимал пару десятков метров по прямой, я шёл медленно, во все глаза высматривая следы паники. На первый взгляд всё было как обычно, но если тщательно искать что-то, то обязательно обнаружишь. Уж не знаю, но эта примета работает только в те моменты, когда ищешь то, что боишься найти.
Город замер в ожидании. На улицах воцарилась тишина, прерываемая лишь редким звуком мотора (и то чаще это оказывался полицейский вездеход). Во всех заведениях владельцы столпились возле входа. Хозяин прачечной «ЧистО!» и вовсе теребил в руках табличку с надписью «перерыв» на одной стороне и «открыто» на другой, пытаясь выбрать что-то одно. Заметив, что я смотрю, он нервно поставил «открыто» и тут же ушёл вглубь прачечной.
Я двинулся дальше, не желая смущать людей. В моменты ожидания все становятся излишне нервными и склонными делать выводы на пустом месте. Кто его знает, что люди подумают, увидев, как детектив Грабовски застыл посреди улицы.
«Отвратный день» в очередной раз оказался для меня спасением. Если раньше моё появление здесь означало, что вскоре боль отступит, а сознание затуманится, то теперь я просто обрадовался знакомой картине.
Карл полировал стойку грязным полотенцем, выстроив начищенные до блеска стаканы в подобие пирамиды. А позади бармена, на полке с зеркальной стенкой (специально, чтобы их казалось больше) притаились мои старые друзья-приятели – бутылки с выпивкой.
Я нервно сглотнул, но мимоходом отметил, что это уже остаточная реакция. Меня не тянуло выпить – привычка, ничего более.
Ещё раз оглядев зал, я прошёл к стойке. Почему-то казалось, что здесь будет полным-полно народу, ведь всегда хватает людей, которые стремятся скрыть страх за бравадой алкоголя и шумной компанией. Но либо я пришёл слишком рано, либо все понимали – такой страх не спрячешь.
– Твой фирменный кофе, Карл, – попросил я. – Лучше сразу двойной. Пару бутербродов с собой и ещё два прямо сейчас.
Лицо бармена озарила хитроватая усмешка, но он, как и всегда, ничего не сказал. Никакого удивления, что я заказываю кофе, не присовокупив к нему выпивку. Никаких вопросов, что это я давно не заглядывал. Ни малейшего проявления любопытства.
Идеальный бармен Карл. Всё ровно так, как требуется, и ничего лишнего.
Через минуту чашка с ароматным кофе уже стояла передо мной, а Карл принялся мастерить бутерброды – с едой в «Отвратном дне» всегда было туго. Только если бармен был не очень занят, и ты входил в число постоянных клиентов, можно было рассчитывать на некое подобие сэндвича. Ничего особенного – хлеб, сыр, ветчина, пара солёных огурчиков и ещё один кусок хлеба сверху, чтобы удобней было прижимать всё это пальцами. Впрочем, что-нибудь другое в меня сейчас и не влезло бы.
Я сделал большой глоток кофе, отдававшего корицей, кардамоном, гвоздикой и ещё бог знает чем. А на втором глотке пришло понимание, что среди этого «бог знает чего» есть и несколько капель коньяка.
Он всегда был в «фирменном кофе Карла», но память услужливо утаила это от меня.
Я прислушался к своим ощущениям, но ничего не заметил. Да, кофе. Да, с коньяком. Бодрит, и ладно. Никакого желания тут же удариться в глухой загул.
И всё же я поспешно откусил от бутерброда, уже лежавшего на тарелке передо мной. Сжевал его весь в три укуса и прислушался к себе снова.
Вновь ничего.
После я без особой опаски сделал ещё один глоток кофе и успокоился.
Казалось, что это ещё одно из так надоевших мне чудесных превращений (излечиться от алкоголизма всего-то за несколько дней), но я знал, что цена мною уплачена сполна. Человек, который сейчас пил кофе в «Отвратном дне», сильно отличался от человека, неделей ранее заливавшего водкой несуществующее горе.
Удовлетворившись этими размышлениями, я допил кофе, съел ещё один бутерброд (в этот раз медленно и тщательно пережёвывая), а затем забрал пакет с едой для Бобби, расплатился и двинулся к двери.
Уже на выходе я обернулся и поймал загадочный взгляд Карла. Ощущение подступающей беды неожиданно кольнуло в сердце. Накатила слабость, коленки едва не подогнулись.
Тем не менее, меня хватило, чтобы кивнуть Карлу на прощанье, а затем выйти прочь.
* * *
Вопреки ожиданиям, на улице не стало легче. Беда приближалась, я чувствовал её холодное дыхание и руку, протянутую, чтобы схватить меня за сердце. Вот-вот должно была что-то произойти.
Нервно оглядываясь, я двигался к полицейскому участку, когда меня окликнул вопль, раздавшийся с той стороны, куда я посмотрел парой секунд ранее.
– Мужчинка! Детектив!
Голос был женский, резкий и смутно знакомый. Я быстро обернулся и увидел в глубине улицы чёрный размытый силуэт. Женщина бежала мне навстречу, с каждым шагом её образ становился всё чётче. Я узнал её даже раньше, чем разглядел, достаточно было вспомнить про «мужчинку».
Ивелин… Мать Мерка…
Ощущение беды стиснуло сердце уже по-свойски, без всяких предварительных ухаживаний. Я против воли зарычал сквозь зубы, вот только раздался лишь тихий свист.
– Что с ним случилось? – спросил я, когда женщина подошла ближе. – Что с Мерком?
– С ним?..
Она помедлила. Ещё секунду назад Ивелин шла ко мне целеустремлённо, словно только я мог спасти её. Или же оказаться тем виновным, который ответит за всё преступления. Но сейчас она рассеяно и растеряно озиралась вокруг, не замечая меня. Казалось, женщина не может понять, как она здесь очутилась.
– Ты не знаешь…
Это был не вопрос, а констатация. Ивелин развернулась, плечи поникли. Мне показалось, что сейчас я услышу рыдания, но вместо этого раздался лишь сухой кашель. Только в тот момент я понял, что женщина без маски. Вот и надышалась песком, пока бежала сюда.
– Давайте зайдём в управление, и вы мне всё расскажете, хорошо? – я старался говорить спокойно, потому что только это и мог сделать. Не оплакивать же Мерка, пока не ясно точно, что именно случилось.
Женщина ничего не ответила, но позволила мне обхватить её за плечи и увести внутрь. Пока мы шли, я чувствовал, что это будет ещё один долгий рассказ. И затронет он не только исчезновение Мерка, но и многое другое.
В этом городе, где никто и ни во что не верил, людям так не хватало исповедника. Может быть, его с успехом мог бы заменить психолог, но и таковых в Медине почему-то не водилось.
Приходилось за всех отдуваться детективу Грабовски…
Интерлюдия: Ивелин
Боль – это то, что привлекает мужчину в женщине. Каждый самец хочет причинить боль самке или защитить её от боли. На этом и строятся все отношения.
Легба фон ГётцеЕё зовут Ивелин Глосс, и она знает, что должна прожить эту жизнь только для себя.
Знает, когда ей всего три года, и все вокруг умиляются её походке, её улыбке, её словам, которые считают необычайно рассудительными для столь малого возраста. Ивелин специально подбирает эти слова. Подслушивает у взрослых и коллекционирует, как иные дети собирают кукол или красивые камешки.
Если хочешь жить для себя, то все вокруг должны считать тебя необыкновенной. Вот Ивелин и старается, чтобы жизнь продолжалась весёлым балаганом, потаканием её капризам, умилением, покупками, игрушками и так далее.
Когда в её жизни появляется маленький брат, она ненавидит его всей душой, ведь теперь до неё нет никому дела. Ивелин преувеличивает, как это любит делать каждый ребёнок и большинство взрослых, но контраст между прошлым обожанием и нынешними жалкими остатками разителен.
Ивелин молится. Искренне, с верой в чудо. Расчётливо, с обещаниями, которые реально выполнить. Самозабвенно, с одержимостью в голосе. Спрятавшись в самом тёмном углу, забившись туда, куда не проникает свет, она поднимает глаза к небу, которого не видит, и просит о том, о чём не должна просить.
Когда младший брат, не прожив года, умирает от страшной болезни, Ивелин испытывает острый приступ ужаса. Как и всякий, верящий в чудо и возносящий молитву, она пугается, когда получает очевидное, как ей кажется, доказательство существования… кого?
Ивелин не знает ответа, но чувствует, что найти его жизненно необходимо.
Родители и все вокруг убиты горем. Плач и поминки продолжаются даже не сорок дней, а ещё полгода. И всё это время Ивелин ходит погружённая в себя.
Взрослые не удивляются. Взрослые видят то, что хотят видеть. Они думают, что девочка печалится о брате, не замечая истинных причин, как раньше не замечали пожар ненависти в её взгляде, когда она смотрела на того, кто отнял у неё любовь и внимание.
На деле Ивелин погружается в глубины своего я. У детей это происходит проще, чем у взрослых, потому что они прекрасно понимают, что именно хотят найти. Вот и Ивелин находит своего бога.
Многим позже она узнает, что имя тому богу – эгоизм, но пока она просто называет его – Любящий.
Потому что он любит её.
Потому что он тоже желает, чтобы все вокруг любили её.
Потому что он знает: она – само совершенство.
* * *
После смерти брата и окончания поминок любовь вновь окружает Ивелин со всех сторон. Родители сконцентрировались на единственном ребёнке и ещё больше потакают её капризам. Девочка получает удовольствие, но старается не перегибать палку.
Выдержка изменяет ей лишь несколько лет спустя, когда Ивелин уже двенадцать. Она чувствует изменения в своём организме. Она наблюдает, как растёт её тело и боится, что вырастет в уродину, которую не будет любить никто, кроме родителей. А хочется, чтобы любили мальчики, юноши, мужчины.
Уже хочется.
Но кто полюбит уродину? Только такой же урод!
Вдобавок к этому страху добавляется ещё один – будущий ребёнок.
Он ведь обязательно должен родиться на свет, предварительно высосав из матери все соки. А потом отнимет и всю любовь. Сконцентрирует на себе все силы родителей и будет постоянно требовать внимания.
Ей ли не знать, как это происходит?!
Когда страх становится неудержимым, Ивелин прибегает к матери. Путаясь в словах и не в силах правильно сформулировать мысли, она требует объяснений. Что происходит, почему происходит и чем это грозит в будущем.
Эти путанные слова настораживают мать. Она отвечает на вопросы, а сама внимательно приглядывает за дочерью. Следит за её реакцией.
Ивелин растеряна, потому не сдерживается в формулировках. Ей слишком поздно удаётся распознать этот проснувшийся материнский страх того, что ты родила и вырастила чудовище. Что под маской милой девочки скрывается расчётливая тварь, которая тебя использует.
Разговор заканчивается взаимными упрёками и истериками. С криками. С разбитой посудой. С брошенными на ветер фразами, которые уже не забыть.
– Я тебя ненавижу!
Никто не помнит, кто первым произнёс эту фразу, но обвинение и приговор были обоюдными.
С того дня мать замыкается в себе и почти не обращает на Ивелин внимания, а та, в свою очередь, окатывает мать волнами презрения. Отец не понимает, что происходит, старается быть обходительным с обеими, но в итоге лишь становится главной мишенью для ненависти.
Когда Ивелин исполняется четырнадцать, прямо в её день рождения мать неожиданно падает с лестницы и ломает себе шею. Насмерть.
Это действительно неожиданность, от которой никто не застрахован, как бы ни мала вероятность подобного события. Тем не менее, Ивелин уверена, что мать сделала это специально, чтобы ей досадить.
Горе поселяется в доме. Отец с каждым днём становится всё рассеянней. Его увольняют с работы. Он начинает пить. Он катится в пропасть, в которой уже лежат его жена и сын.
Любимая дочь, наблюдает за этим с холодным презрением. Ивелин больше не нужен отец. Ей четырнадцать, она считает себя взрослой, и в её жизни уже появились мужчины.
* * *
Ивелин довольно быстро понимает и принимает правила новой игры. Они не так уж и отличаются от прошлых.
Теперь, чтобы тобой восхищались, нужно уметь менять сотни разных образов. Быть то взбалмошной, то нежной. То страстной, то невинной. То увлекающейся, то увлекательной. Варьировать поведение исходя из тысячи факторов, главным из которых является то, что хотят видеть.
Не то, что озвучивают вслух, а что именно хотят, порой даже боясь признаться самим себе.
В первую очередь мужчины хотят чувствовать себя сильными. Пусть даже наедине с тобой, пусть даже в мелочи, пусть в какой-то маленькой уступке, но они обязаны это чувствовать, иначе теряют интерес.
Но помимо силы мужчины ценят, когда ты находишь внутри них тот образ, который они сами никогда не решатся на себя примерить.
Если он красив, называй его умным, восхищайся его решениями, советуйся с ним, спорь, когда он называет себя идиотом.
Если он богат, то цени что-то простое, что он делает своими собственными руками, не прибегая к помощи денег, цени попытку, а не результат.
Если он мужественен, цени его за сентиментальность и нежность.
Если слюнтяй, пестуй в нём решимость.
Если циник, то ищи романтику в каждом его поступке, и рано или поздно это даст плоды.
Если всё сделать правильно, тогда мужчина окажется твоим целиком и полностью, потому что он будет именно тем, кем ты его вырастила. Не такой, как для других, а такой, каким его увидела ты.
Ивелин не сразу приходит к пониманию этой идеи. Однако, едва осознав теорию, тут же берётся за практику. И у неё отлично получается… до того момента, пока она не втемяшивает в голову одного детоненавистника, что он станет прекрасным отцом. Пока не дарит ему ребёнка, которого он должен бы ненавидеть, но которого любит.
– Его будут звать Меркуцио, – так говорит счастливый отец в день, когда забирает Ивелин из роддома.
Он на седьмом небе от восторга. Муж смотрит на жену с любовью, но с ещё большей любовью отец смотрит на сына.
И Ивелин в тот день, в тот час, в ту минуту и секунду понимает, что потеряла своё лидерство. Чтобы не случилось, она станет именно «матерью его ребёнка», и назад пути уже нет.
Если с ребёнком что-то произойдёт, как это случилось с братом Ивелин, то будет виновата она.
Если что-то случится с ней – он сконцентрируется на ребёнке.
Она совершила ровно ту ошибку, о которой задумалась, когда ей было двенадцать лет. Совершила с холодной головой, пытаясь привязать к себе богатого, знатного и почти идеального мужчину.
Через месяц, взяв деньги, драгоценности и сына, Ивелин бежит из мужниного дома, чтобы вскоре оказаться в Медине.
* * *
В Медине ей дают приют. Её кормят. Ей помогают… И ждут, когда она встанет на ноги.
Даже маленький ребёнок и красота молодой матери не могут быть оправданиями для ничегонеделания в городе суровых людей.
Постепенно до Ивелин доходит эта мысль. Далеко не сразу, разумеется. Для полного понимания требуется, чтобы эту мысль высказала в достаточно грубой форме квартирная хозяйка:
– Оставь ребёнка, если кормить не можешь, а сама проваливай.
Ивелин не так-то легко смириться с этим. Она в гневе. Она жаждет доказать всем и вся, что сама может о себе позаботиться.
И становится шлюхой.
Нет-нет, далеко не сразу. Поначалу она вновь делает то, что привыкла – обольщает, очаровывает, пытается доказать, что он- – любой! – для неё самый единственный и самый желанный. Это срабатывает, но как только ситуация заходит слишком далеко и слышны первые аккорды свадебного марша, Ивелин соскакивает.
Грубо и с яростью рвёт петлю, готовую затянуться на её шее.
Хватит! Уже проходили!
И всё превращается в замкнутый круг. Ритуал принесения даров, который оканчивается жертвоприношением в смятой постели, на влажных от пота простынях, с вездесущим песком, занесённым не пойми кем и не пойми когда.
Затем ещё несколько ночей удовольствия и полный разрыв.
Слухи расходятся, ритуал становится всё короче, дары всё скудней, а красота, как не удивительно, блекнет. С возрастом, с климатом, с образом жизни.
И вот ты уже шлюха, которую достаточно накормить, напоить, а после отыметь где-нибудь, не заботясь о комфорте. Кинуть пару монет, застегнуть ширинку и отправиться дальше.
Очередной незапоминающийся эпизод в жизни.
* * *
Но что же ребёнок?
Поначалу Ивелин почти не уделяет ему внимания. Она развлекается, она купается во внимании, а сын всего лишь помеха, которую можно отдать под присмотр квартирной хозяйки и других сердобольных людей.
После, когда мужчины начинают отпускать сальные шутки ей вслед, а женщины плюют в лицо, Ивелин вспоминает о сыне.
Она мечтает стать ему богом, отлично помня, как дети умеют становиться богами для своих родителей и не желая допустить подобного. У неё получается какое-то время. Лишь в три года Меркуцио впервые спрашивает об отце.
Ивелин, улыбаясь, сообщает, что папы нет и не будет. Он – предатель. Сбежал и бросил их.
Ложь вылетает спокойно, ведь Ивелин почти уверена – именно так и было. Мама оберегает, мама защищает, мама много работает, чтобы их прокормить. Меркуцио кивает и смотрит восторженными глазами, а Ивелин купается в этом восторге.
Однако в пять лет Меркуцио жаждет подробностей. Как выглядел отец? Как его звали? Есть ли фотографии? Почему его никто не помнит? И так далее…
Ивелин поначалу обороняется словесно, а после пускает в ход оплеухи. Поначалу это имеет эффект, а после превращается в привычку.
Чем старше Меркуцио становится, тем больше смотрит на мать угрюмо и исподлобья. Он пропадает на улице, общается со странными людьми и всё больше замыкается в себе.
Мальчик по-прежнему не отвечает ударом на удар, но Ивелин и сама уже боится бить его. Однажды она понимает, что Меркуцио смотрит на неё, как на препятствие, которое нужно только перетерпеть. Почти сразу после этого Ивелин обращается к обратной стороне любой любви, к её чёрной натуре.
К жалости.
Ивелин бросается в омут распутства, пьянства и безрассудства. Она видит, как Меркуцио работает, чтобы прокормить семью, как он с жалостью смотрит на неё… и чувствует почти такую же радость, которую ощущала, когда он любил её и почитал, как бога.
Однако, когда он приходит и говорит, что вытащит их из этой дыры, потому что есть вездеход, а значит деньги потекут рекой, Ивелин пугается.
Ей не нужна эта новая жизнь. Ей не нужен покой. Она не хочет смотреть, как сын растёт, становится взрослым, заботится о ней, а она превращается лишь в предмет интерьера. В старую мать, которая, словно необходимое зло, есть в твоей жизни. В капризную старуху, от которой хочется убежать подальше.
Ивелин слишком хорошо знает, что будет именно так. Слишком хорошо знает саму себя, способную рушить даже то, что преисполнено самых лучших чувств. И решив нанести удар сейчас, а не после, когда он не будет иметь такой силы, Ивелин начинает говорить. Старательно вспоминает свою жизнь и выворачивает её тёмной изнанкой на глазах сына.
Чтобы пожалел? Чтобы простил? Чтобы всё исправить?
Нет. Чтобы проклял! Чтобы сбежал! Чтобы ушёл навсегда и оставил её догнивать!
Ивелин повторяет это едва ли не через слово, отлично зная, что подобные фразы лишь ещё больше заставляют человека спасать того, кого он любит.
Но любви давно нет, и даже остатки жалости умирают под этими словами. Меркуцио дослушивает и выходит из комнаты. Не выбегает прочь, а медленно уходит, горбясь под грузом прозвучавших слов. Ивелин плачет от жалости к самой себе и ждёт, что сейчас за окном заведётся вездеход, и Меркуцио действительно уйдёт навсегда.
Но вместо этого за окном крики, чей-то глухой голос, звуки ударов, а после – тишина.
Ивелин бросается к окну и не видит никого. Только вездеход с открытой дверцей, а рядом платок, которым её сын повязывал лицо вместо маски.
Она понимает, что случилось что-то страшное, и, скорее всего, именно она виновата во всём этом.
И вот тогда приходит раскаяние. Как всегда – слишком поздно.
Глава XIV
Что сказать женщине, которая вывернула себя перед тобой наизнанку? Без боли, без страха, а с глухим отчаянием, с которым падают в пропасть, когда понимают, что жить больше нет сил.
Я не знал, что говорить. Вернее, знал, но боялся произнести, ведь я не был уверен, что сдержу обещание.
– Мы его найдём, обещаю, – всё же сказал я.
Она усмехнулась одними глазами. Усталая разбитая женщина, которая слишком поздно поняла, кто она есть, и которая не привыкла верить чужим обещаниям.
– Хорошо, – ответила Ивелин и откинулась на спинку стула. Мы сидели в кабинете, солнечный свет сквозь неплотные жалюзи падал ей на лицо, и тысячи морщинок, которые я не заметил при нашей первой встрече, прорисовывались на лице.
«Тысячи загубленных чужих судеб», – подсказал Томаш.
– И ещё, детектив, – она вдруг усмехнулась. – Простите, что пыталась вас отравить. Не стоило так нахваливать мои пироги.
Я даже не спросил: «Зачем?» Едва стоило Ивелин произнести это, как я увидел самую главную причину: чтобы не отнял любовь – жалость! – сына. Из-за этого же и последующий спектакль с приставанием и демонстрацией синяков.
Единственное, что во всём этом радовало – синьор Веласкес был прощён. Хоть какая-то приятна новость.
Встав, я вышел из кабинета, не в силах больше сидеть под обжигающим взглядом, что бросала на меня Ивелин из-под полуопущенных век. Подойдя к Бобби, я быстро и без подробностей ввёл его в курс дела.
– Может быть, мальчика увели полицейские? – предположил он. – Ребята могли просто позвать его, он отказался. Может, обозвал их. Они завелись и утащили мальчика в безопасное место. Для начала следует позвонить туда, где есть связь. За это время его уже куда-нибудь доставили, если это были наши. А если его нигде нет, так хотя бы сузим круг поисков.
Бобби принялся набирать номер. Палец ловким движением поворачивал диск, давал ему вернуться обратно, а затем вновь нырял в прорезь напротив цифры. Я поймал себя на том, что столь сосредоточено изучаю это движение, потому что мне не хочется возвращаться в кабинет.
Что я скажу Ивелин? Я сказал уже всё, что возможно. Теперь наступило время действий.
– Если что-нибудь станет известно о мальчике, то сразу скажи его матери. А я пойду прогуляюсь туда, где нет телефонов. Не сидится на месте.
Я торопливо вышел, успев заметить, как Бобби лишь обречённо кивнул. Он, как и я, понимал, что шансов у нас немного.
* * *
Улицы Медины были пусты. Когда я отправлялся в «Отвратный день» это можно было списать на случайность, но сейчас не оставалось никаких сомнений, что эта умиротворённость разразится грозой, когда Самум подойдёт близко.
А он всё приближался медленно и неуклонно – чёрная отвесная стена почти до самого неба.
Я до сих пор не сомневался, что жители Медины не побегут. Скорее, они засядут в домах, забаррикадируют двери и окна и будут дрожать, обнявшись, ожидая окончания разгула стихии. Но у меня была уверенность, что окончанием станет лишь полное разрушение города. И ещё я точно знал, что этот ураган никого не унесёт в волшебную страну.
Она уже была здесь. Волшебников навалом, но ни одной Дороти, чтобы прибить кого-нибудь падающим домиком.
Меня неожиданно пробрал смех. Может быть, Самум и есть Дороти? Пришёл, чтобы пристукнуть нас всех.
Потом он возьмёт одного из псов Шустера, оживит Дока, прихватит с собой Рабби и, скажем, Бобби в качестве трусливого льва, а затем они все отправятся к Гудвину…
Я хохотал до тех пор, пока в животе не закололо. Думаю, увидь меня кто-нибудь, он наверняка бы подумал, что детектив Грабовски взялся за старое и вновь напился.
Но страх смерти (своей, Мерка, жителей Медины) пьянил куда сильней.
* * *
Хотя мне казалось, что я брожу бесцельно, но незаметно для себя я обходил все места, где до этого встречал Мерка… как будто это могло помочь.
Я пришёл на вокзал, но там оказалось пусто. Когда-то, видимо этой ночью, крыша успела провалиться внутрь здания. Теперь наверх торчал только шпиль, кладка в нескольких местах разрушилась, кое-где фундамент просел под песком. Возможно, именно он и постарался, чтобы безраздельно властвовать над местом, куда его так долго не пускали.
Не думаю, что песок мстителен. Возможно, в его понимании это было восстановлением справедливости. Всё-таки, пусть он и не являлся правителем Медины по словам Рабби-Элоха, но это его город. Его и ветра.
После вокзала я отправился к тому месту, где встретил Мерка, убегающего от сверстников. Меня приветствовали пустые улицы, шёпот ветра и скрип ставен – любопытствующие жители проводили взглядом и снова захлопнули окна.
Дальше – другие улицы, другие ставни. Везде песок и холодное молчание, разрушаемое лишь ветром.
Наконец, я пришёл к дому Канга. Хозяина внутри не было, а рисунок на стенах поблёк и словно съёжился. Он словно тоже предчувствовал бурю и стремился спрятаться. Впрочем, в последний раз я был слишком возбуждён от едва окончившейся погони, а потому мог преувеличить масштаб картины.
«Барон! – вспомнил я. – За нами гнались люди барона».
Вместе с этим воспоминанием пришло осознание, что единственный оставшийся целым «проповедник» Медины внезапно пропал из моего поля зрения. Он не заявлял о себе с тех пор, как его люди похитили чёрный песок.
Что он сейчас делает? Собирается вывести его в Империю? Надеется сбежать от Самума при помощи Перуна-Апостола?
Последняя мысль придала направление моим бесцельным скитаниям. Я покинул дом Канга и отправился к Рюманову. Возможно, он поможет найти мальчика. К тому же, оставалась призрачная надежда, что религия барона действительно способна остановить Самум. Перун-Апостол ведь управлял молниями, разве нет? В бурю для них самое время.
И неужели в таком случае барон пропустит уникальную возможность обрести тысячи верующих, остановив разрушение города?
Даже я не мог утверждать точно, что не встану пред Рюмановым на колени и не назову его бога своим.
Что только не сделаешь, чтобы выжить…
* * *
Однако, как это часто бывает, боги оказались глухи перед молитвами в тот момент, когда их помощь была так необходима. Подозрения зародились у меня ещё на подходе к особняку Барона – у входа не стояла охрана.
День и ночь, двадцать четыре часа в сутки, каждый день года два стражника в кирасах с выгравированной молнией на груди стояли на страже этого дома. Раньше, но не сейчас.
Дверь оказалась полуоткрыта, но я заглянул внутрь лишь для проформы. Мне не нужно было проходить каждый из величественных коридоров, заглядывать в спальню, курительную комнату, комнату для гостей, зал для приёмов, кухню… что там ещё есть в этом доме?
Я с одного взгляда понял, что в доме никого нет, кроме песка. Он вальяжно расположился на дорогих коврах, на пару с ветром трепал гобелены, забивался в щели, чтобы позже захватить всё.
Барон Рюманов покинул этот дом. Перун-Апостол ушёл из Медины. Город остался один, как и прежде.
Чем-то эта картина напомнила мне вокзал, и я подумал, что такова странная, до конца не понятная мне расплата нам за неверие. Все проповедники исчезли из города. Кто-то умер, кто-то изменился, а кто-то попросту сбежал.
Смена эпох? Новый этап? Я не знал ответа.
Я подозревал лишь одно – как бы то ни было, но песок никуда не исчезнет. Пройдёт Самум, и, как бы долго он не продлился, песчинки заскользят дальше по дюнам. Может, останется, что ещё необходимо засыпать, а может быть, не останется ничего.
В этом неумолимом беге песка, как и в беге времени, как и в приближении Самума я чувствовал неотвратимость. И от этой неотвратимости мне было отвратно, но не было рядом никого, кому бы я мог сообщить этот глупый каламбур.
– Пора в управление, – прошептал я. – Там ещё остались люди. Люди ещё остались в городе, и если не боги, то хотя бы мы сами должны попытаться спасти себя. Умереть, сражаясь – благородное дело. Это тот мираж, который всегда оборачивается разочарованием, но других у нас нет.
Я подгонял себя, говоря нечто очевидное или излишне философское. Память услужливо не запоминала ни одну из фраз.
Память милостивей богов.
* * *
По пути в участок я заглянул ещё и в «Запах мамбо». Как я и предложил, полицейские собрали там забулдыг и бродяг, которых нашли на улицах. Они сидели в огромном зале за столиками и на полу – привалившись к стене или друг к другу.
В руках многие держали стаканы, но выпивка в этот раз не веселила. Люди пили больше от безысходности, чем от желания действительно напиться. Передавая друг другу бутылки, они словно давали последний шанс на спасение, но при этом отлично понимали, что максимум, на что способно спиртное, это дать им умереть в беспамятстве, не мучаясь и не сжимаясь от страха.
Многие полицейские, которые остались охранять эту свору от самих себя, тоже были навеселе. Я не стал делать замечаний – я был не тем, кому это под силу, а уж тем более не тем, кого бы они послушали.
Я сбежал оттуда, как иные сбегают с места преступления, хотя единственное в чём меня можно было обвинить – я не оправдал чужих ожиданий.
Иногда подобное обвинение одно из самых суровых.
Именно оно и встретило меня в полицейском участке. В резко вскинувшем голову Бобби. В бросившейся ко мне Ивелин. Я лишь пожал плечами им в ответ. И если бывший толстяк досадливо поморщился, то женщина застыла на месте, а лицо её сделалось каменным.
Надо, наверное, было подойти, обнять и утешить, но из меня хреновый утешатель, я уже говорил. К тому же, у меня не было уверенности, что я смогу сделать это искренне. Не прямо сейчас, когда в памяти ещё жили слова, услышанные от Ивелин…
– Что у нас с бароном? – спросил я Бобби, всё ещё желая действовать, а не стоять на месте. – Вы вчера что-нибудь выяснили?
– Ничего, – он покачал головой. – Барон затаился. Его люди пропали отовсюду. Кого не спросишь – уже несколько дней их не видели. Может и правда, а может, людям заплатили, чтобы они так говорили. Заплатили или запугали.
– А может, он просто ушёл.
Я и пересказал Бобби обстановку в особняке Рюманова. Когда договаривал, за спиной послышался скрип двери. Я резко обернулся, но успел уловить лишь исчезающий силуэт Ивелин. «И куда она в такой момент? Искать Мерка? А разве можно его сейчас найти?» – вздохнул я, а Томаш насмешливо и вкрадчиво спросил: «Ты собираешься запретить матери искать собственного сына?»
Я не собирался. Я вышел за Ивелин на улицу, увидел застывший силуэт прямо посреди дороги и лишь собрался окликнуть, как понял, почему она так стоит.
Самум уже был здесь.
Нависая над городом, он подходил к окраинам. Можно было различить мельтешение песка в этой чёрной пелене. Слышно было завывание и чувствовался неземной холод, словно внезапно посреди пустыни вдруг разразилась вьюга. И сейчас буран заметёт всё, припорошит и оставит сокрытым.
Только вместо снежинок будут песчинки. И их удары в тысячи раз острее и больнее. И ни одно, даже самое жаркое солнце, не превратит их в безвредную воду, дарующую очищение.
– Вот и всё… – прошептал кто-то рядом со мной.
Я оглянулся и увидел Бобби. Вцепившись в дверную ручку, словно в якорь, он стоял и смотрел. Пальцы побелели от напряжения, а губы шевелились, словно шептали молитву неведомому божеству.
Только молитвы нам и оставались.
* * *
Удивительно, но я не паниковал. Самум, хоть и был рядом, двигался медленно. Время, чтобы уйти и спрятаться, ещё оставалось. Самым логичным было запереться в тюремной камере. Те стены были рассчитаны на взрыв бомбы.
Однако боги, которым, возможно, молился Бобби, услышали нас. А вернее, один единственный бог, воплощённый в самом противоречивом человеке Медины.
Со стороны аэропорта, который ещё не был затронут бурей, послышался рокот, перекрывший даже приближение стихии.
Чёрные точки, числом семь, приближались, выстроившись в холодный и безжалостный строй. Они шли на город, и в моей душе против всех тревожных предчувствий, какие нашёптывал внутренний голос, затеплилась надежда.
– Винтокрылы Великороссии, – прошептал Бобби. В его голосе жила даже не надежда, а вера в спасение. И не важно, что она была связана с человеком, который его использовал, а затем выбросил.
Именно чужая вера и помогла мне разрушить собственную. Я пристально взглянул, и теперь уже тревожное предчувствие не смогло спрятаться. Я вытащил его наружу, как червя из яблока, и внимательно рассмотрел.
Всё происходящее было ошибкой. Одной большой ошибкой, которая вела в пропасть.
Я не видел отсюда, да и никто, думаю, не мог бы увидеть, будь у него даже бинокль, но отчётливое знание, что именно находится на борту винтокрылов, жгло душу.
«Он собирался разделить город на две части», – так говорила Легба.
«Это тоже зло, что и в песке», – так говорил Канга.
«Это зло забрало силу Шустера и Легбы», – так говорил Рабби-Элох.
Винтокрылы Великороссии не вели нас к спасению, а приближали конец. Мне показалось, что барон и сам догадывается об этом. Быть может, он устал ждать и просчитывать различные варианты, а потому решил рискнуть? И теперь, как заядлый игрок в покер, всё повышает и повышает ставки, стремясь взять стихию на испуг. Поймать на свой блеф.
Вот только карты, краплёные, барон. Самум знает всё, и его так просто не купишь. А может быть, ты не смог предсказать это? Погряз в своих расчётах, и когда случилась неожиданность, то просто достал самое мощное, что было в твоём арсенале, а теперь, хоть и знаешь, что проиграл, не можешь отступить?
Размышлять было бессмысленно. Нужно было как-нибудь привлечь внимание Рюманова и не дать ему совершить ошибку. И плевать, что времени не оставалось. Его никогда не бывает в избытке.
* * *
Сначала медленно, но затем всё ускоряясь, я двинулся вперёд. За моей спиной что-то продолжал шептать Бобби, слышался тихий, почти беззвучный плач Ивелин.
Я шёл быстро, уже почти бежал навстречу винтокрылам, перестраивающимся для облёта города. Я видел, как открываются бомбовые люки, но вместо бомб вниз срываются струи чёрного песка. Я почти рассмеялся, когда понял, что он не достигает земли…
Самум всасывал его. Собирал, словно стремилась воссоединиться с тем, что когда-то было его частью. Чёрный песок падал вниз, а затем тянулся в сторону, исчезал в стене бури и делал её ещё монолитней. Ещё черней.
С громким хлопком один из винтокрылов взорвался изнутри. Треснул посередине и стал падать вниз, рассыпаясь на части. Экипаж помедлил с открытием люка – возможно, планировал сделать это позже, чтобы гарантировано получилось отрезать весь город. Но чёрный песок не пожелал ждать своей очереди, а вырвался навстречу буре.
Обломки падали на окраину, с грохотом чертя в небе чёрные линии, но, по счастью, под ними никого не было.
Меня вела незримая нить, соединившая судьбу города с моей собственной. Я знал, что ничего не могу сделать, что битва уже проиграна, но барон тоже это видел. Думаю, теперь ему оставалось только попытаться сбежать из Медины, спасаясь от Самума.
Возможно, именно так бы он и поступил – для любого безумства наступает свой предел, после которого включаются инстинкт самосохранения и трезвый расчёт. А возможно Самум успел бы нагнать их – он вдруг одним скачком накрыл окраину города, как раз то место, где догорали остатки винтокрыла.
Но в этот самый момент в нашей трагедии появилось новое действующее лицо. Как и положено по законам драмы, его приход не был очевиден до самого последнего момента.
* * *
Продвигаясь вперёд, я смотрел только вверх, потому налетел на человека, стоящего передо мной. Налетел и отскочил в сторону, не в силах устоять на ногах. Перекатился по песку, поднял взгляд и нервно сглотнул.
Рядом со мной стоял Канга, которого я не знал.
Согбенные плечи расправились. Старик стоял прямо, и росту в нём ощутимо прибавилось. Посох, извечная палка-бренчалка, потерял все свои сотни бубенцев и игрушек. Теперь это был просто прямой шест, раздваивающийся на последней четверти длины. Все три конца (два вверху, один внизу) были заострены. И пускай это было всего лишь дерево, но я почему-то не сомневался, что при необходимости оно способно пробить даже броню вездехода.
Старик стоял ко мне вполоборота, так что я видел лишь один его глаз, напряжённо всматривающийся в бурю, а также краешек изогнутых губ. Не пустая улыбка сумасшедшего, а твёрдая и расчётливая усмешка, которая набегает на лицо бывалого бойца, когда он наконец-то встречает противника себе по силам.
Я вскочил и бросился к Канга. Не знаю, что именно он собирался сделать, но у меня внутри всё переворачивалось, лишь едва я начинал думать об этом.
– Любомир Грабовски остаётся, – шаман остановил меня, даже не дав приблизиться.
Он всего лишь выставил ладонь, но я не мог сделать и шага вперёд. Попробовал отступить – получилось. Вновь вперёд – но вновь уткнулся в стену, словно старик окружил себя прозрачным коконом.
– Любомир Грабовски остаётся, – повторил шаман. Он облизнулся и неслышно засмеялся. – Канга отправляется на охоту. Дикую охоту на духов. Славную охоту.
Он вновь засмеялся, и от этого смеха меня пробрало до глубины сердца. В нём было столько… «чужого», что, пожалуй, я не знал в тот момент, кого больше боялся – старика или же бурю.
А затем Канга поднял свой посох, выставил его раздвоенным концом вперёд – эдакая рогатина, с которой идут в бой крестьяне – и скользящим бегом бросился вперёд.
Навстречу Самуму.
* * *
Впоследствии я долго гадал: было ли то, что я видел, реальностью или же то оказалась иллюзия, вызванная огромным напряжением последних дней. И если это всё же было в действительности, то открылась ли она кому-либо ещё из жителей Медины кроме меня?
Почувствовал ли кто-нибудь вместе со мной, что значит «быть Канга».
Интерлюдия: Канга
Чем старее люди, тем больше в их глазах вечности, что смотрит на нас с любопытством.
У некоторых она даже не маскируется.
Любомир ГрабовскиБыть Канга в прошлом – это когда ты стоял на тропе духов, окружённый тотемами и слушал, как они предрекают тебе охоту. Славную охоту, которой не было ни у кого из твоего племени, и которой не будет ни у кого больше.
А потом они предложили тебе отправиться в чужие края и ждать. Ждать так долго, что в конце концов ты разочаруешься в своём ожидании.
«Будет тяжело, – предупреждали духи. – Нужно много терпения. Эта дорога будет мгновенна по расстоянию, но долгой по времени. Терпение и только лишь терпение приведут тебя к добыче».
Ты смотрел им в лицо и усмехался.
Ты – Канга. Охотник и шаман в одном лице. Ты достиг всего, что мог в обоих своих ипостасях. Ты убил больше львов, чем можешь упомнить; ты устоял в схватке с сотнями враждебных духов; ты привёл племя к процветанию… А потому племя отказалось от тебя. Тебя боятся и обходят стороной, а недавно и вовсе объявили чужаком, выбрав нового шамана. Твоё время прошло. Племени оказался не нужен легендарный охотник-шаман здесь и сейчас. Ты нужен только как память, но ты ещё не готов стать памятью. В твоих силах покорить их и утвердить свою волю, но силы идут вразрез с желаниями.
Духи, без сомнения, знали и ведали всё, но им нужно было формальное подтверждение. И вот ты сказал: «Согласен» – и двери мира открылись перед тобой, не заботясь о том, готов ли ты увидеть, что за ними сокрыто.
Быть Канга – это когда ты жил ожиданием долгие годы, как и предсказывали духи. Не позволял себе привыкать к чужой стране, за исключением некоторых послаблений – например, пива. Соблюдал духовную частоту и не заводил привязанностей среди людей, кроме частностей вроде детектива Грабовски. Проводил время, совершенствуя дух и укрепляя его.
Рисовал дерево всей жизни, не забыв каждого из родственников и самого себя. Рисовал прошлое, рисовал настоящее, рисовал будущее. Подводил итоги, потому что после той охоты, чем бы она не закончится, все слова будут сказаны.
Не вмешивался ни во что, стараясь быть настороже. Руководствовался только своими желаниями, игнорируя чужие судьбы. И лишь в редкие моменты, когда духи отворачивались или же сами просили что-то сделать, можно было потратить тщательно накапливаемые силы на какую-нибудь маленькую радость. Например, призвать дождь.
Быть Канга – это когда ты сидел в засаде двадцать лет, чтобы наконец-то броситься на давно поджидаемого зверя.
* * *
Быть Канга в настоящем – это не иметь ни прошлого, ни будущего.
Жертва, стоящая перед тобой – твоя жертва. Добыча, полагающая, что это она является охотником – твоя добыча. Момент, в который решается чему быть, а чему миновать – твой момент.
Ты стоишь и смотришь на всё это, улыбаясь, как тогда, когда отправлялся в эту дорогу. Ты стоишь и знаешь, что сегодня и сейчас всё непременно закончится. Да, у тебя ещё есть возможность убежать. Ни у кого в этом городе нет, а у тебя есть, потому что ты частый гость на тропе духов.
Но быть Канга – это не помышлять о бегстве. Что ты там не видел? Что забыл? Всё, что ты так долго искал, находится прямо перед тобой, так зачем желать большего?
Ты срываешься с места и бежишь, выставив вперёд посох-копьё. Шаман-охотник, дождавшийся свою добычу. Она живёт сразу в двух мирах, как и ты сам, так что вы достойны друг друга.
Ещё раньше, чем ты срываешься с места, приходит понимание, что сегодняшний бой будет последним. И большинство даже не вспомнит об этом подвиге, и никаким подвигом не назовёт. Но тебе и не надо чужих воспоминаний. Достаточно своих собственных, которые привели сюда.
Быть Канга – это биться до последнего даже тогда, когда разумнее отступить.
* * *
Быть Канга в будущем – это быть мёртвым. Растоптанным, раздавленным, похороненным под слоем песка. Твоё племя не терпит подобных могил, предпочитая сжигать тела, что отпустить дух на свободу. И тот может спокойно странствовать среди себе подобных, но сегодня нет никого, кто выполнит подобный обряд для тебя.
Впрочем, дух покинет тело ровно за миг до того, как труп упадёт в приготовленную для него могилу. Ты пришёл на охоту, но не желаешь лежать рядом со своим трофеем.
Быть Канга – это победить не важно какой ценой. И пусть других волнует, сколько будет сказано слов по этому поводу. Лучше всего, чтобы победа была безоговорочной, а ещё лучше – помнить, что её приносит не только сила, но и хитрость.
В прошлом и настоящем у тебя не так много хитрости, но ты знаешь, что вскоре придёт вся нерастраченная за время жизни.
И хотя есть шанс почувствовать, каково это – «быть Канга в будущем», но никакого будущего у Канга нет.
Глава XV
Чужие ощущения затопили и захлестнули меня своей яркостью, и я едва не забыл, кто я такой. На моих глазах фигуру воина, который бежал навстречу буре, окутало яркое сияние.
Ещё мгновение, и шаман тоже превратился в смерч. Такой же чёрный, как и Самум.
Вновь раздался смех, который я уже слышал ранее. Хохот разнёсся над Мединой, словно звук от пропавших с посоха Канга погремушек.
А затем маленький смерч бросился прочь от города и в обход Самума. Тот, помедлив секунду, развернулся и помчался вдогонку.
Вот только я знал, что Самум никогда не догонит, покуда Канга этого не захочет. Он будет выматывать бурю, а затем, когда Самум даст слабину, маленький смерч набросится на него и разметает во все стороны.
А после умрёт сам. Это неизбежно, но я не желал принимать эту неизбежность. Пусть даже никому кроме меня не было дела до того, насколько всё это несправедливо.
Однако, пусть конец шамана и был предрешён, возвращаясь в управление, я понял, что навсегда запомню, каково «быть Канга».
* * *
Один из винтокрылов приземлился рядом с полицейским участком, а остальные предпочли вернуться в аэропорт.
Когда тяжёлая грузная машина опустилась, песок под опорами начал проваливаться. Показалось, что сейчас винтокрыл исчезнет вместе с людьми внутри, но погружение остановилось, когда опоры были проглочены. Осталась торчать лишь кабина с медленно вращающимися винтами.
Словно нахохлившаяся птица решила передохнуть и поджала под себя лапки.
К тому времени я вернулся в участок, и сейчас мы с Бобби и Ивелин вновь стояли на пороге, ожидая, чем всё закончится. Просто ждали без каких-либо эмоций. В отличие от ситуации несколькими часами ранее, когда над Мединой нависал Самум, не было речи о каком-либо напряжении. Я вообще не уверен, что кто-либо способен жить под его гнётом столь долго.
Однако, несмотря на мои мысленные размышления, едва дверь винтокрыла распахнулась, как Ивелин тут же ринулась вперёд, будто вновь речь шла о жизни и смерти. Я ничего не видел, но подумал, что Ивелин углядела внутри Мерка. Или же очень хотела его там увидеть.
Почему бы и нет, в самом деле? Разве у кого-то ещё остались силы думать о причинах и логике чужих поступков?
И всё же первым из винтокрыла появился Рюманов. Он улыбался и с гордостью осматривал город, будто именно бессмысленная попытка барона атаковать Самум чёрным песком привела к тому, что город оказался спасён. Впрочем, улыбка вышла кривоватой. Хорошая мина при плохой игре, как она есть.
На Ивелин барон даже не взглянул. Лишь недоуменно пожал плечами, когда женщина оттёрла его плечом, нырнула в нутро винтокрыла, а затем появилась, таща за руку Мерка. Тот выглядел сонным и обессиленным, но живым.
Вид этой картины заставил растаять один из ледяных камней на моём сердце.
Ивелин, не глядя ни на кого, села рядом с винтокрылом и принялась баюкать Мерка на коленях. Тот смотрел в небо и улыбался. Я понадеялся, что его просто одурманили, и вскоре парень будет в норме.
– Княже! Рад вас видеть…
Барон уже успел оказаться рядом и теперь протягивал руку. Бобби тяжело задышал за моей спиной, а затем выругался сквозь зубы.
Я взглянул на Рюманова, на его протянутую руку, на удаляющуюся бурю, на дымящиеся остатки винтокрыла на окраине, на мать, баюкающую сына… и только лишь пожал плечами. Мне не хотелось прикасаться ни к барону, ни к кому бы то ни было ещё.
Не сейчас, по крайней мере.
– Ну-ну, не стоит так, княже, – барон усмехнулся, но я видел, что потряхивает и его. – В конце концов, я не сделал ничего такого, в чём бы вы меня не подозревали. Наоборот, стоит гордиться, что я оправдал ваши ожидания. Из вас получился отличный детектив.
Рюманов засмеялся. Тонко и пронзительно, будто в истерике. Возможно, так оно и было. В этом-то и проблема с людьми, которые хорошо умеют притворяться – никогда не можешь чётко сказать: так всё с ними или не так.
Я почувствовал за спиной движение, резко вскинул руку и едва успел перехватить кулак Бобби, готовый ударить барона.
– Нет, – сказал я.
Бобби зашипел ещё яростней, задёргался, но затем расслабил руку. Рюманов смотрел на это с искренним изумлением.
– Однако, – протянул он. – Очень даже интересно, Роберто.
Таким же тоном родители обычно произносят что-то вроде: «Вот ты и вырос. А я даже и не заметил».
– Что вам надо? – спросил я.
– Пока не знаю. Всё случилось так быстро, и я уже был внутренне готов к тому, что моя попытка окончится смертью, вот и не успел придумать, чем займусь после. Это такое новое и небывалое ощущение для меня – не знать, чем заняться, что делать, против кого интриговать… – Барон поджал губу, бросил взгляд на Бобби, а затем вновь взглянул мне в глаза. – Но что мы всё обо мне и обо мне? Что надо вам, княже?
Мне хотелось всего и ничего одновременно. Хотелось, чтобы Канга был жив. Чтобы с Шустером и Легбой всё было нормально. Чтобы Мерк пришёл в себя. Чтобы Бобби успокоился. Чтобы город вернулся к нормальной жизни. Чтобы барон заплатил за то, что он сделал.
Мне хотелось многого, но ничего из этого не было мне под силу.
Кроме одного.
Коротким ударом, без замаха, я врезал барону в челюсть. Как раз туда, куда недавно метил Бобби. Ударил за нас обоих, ну и ещё много за что. Вышло не сильно, но голова Рюманова дёрнулась, а кожа перчаток прочертила на его щеке ссадину.
– Отдохните, княже, – он покачал головой, – отдохните, а потом приходите в гости. Нам есть о чём поговорить.
И вместо вспышки гнева барон развернулся и побрёл назад к винтокрылу. На половине пути он сплюнул в песок, ещё раз потрогал челюсть, а затем нырнул внутрь летающей машины.
Через секунду лопасти задвигались. Сначала медленно, а затем всё быстрее. Мне было интересно, каким образом барон собирается выбираться из песка, но интерес угас, едва я увидел, как песчинки отпускают винтокрыл. Последний раз столь стремительно движение песка я видел, когда Рабби-Элох демонстрировал вновь обретённую силу. Тогда тоже не было ничего похожего на естественное движение дюн.
– Пойдём и мы, Бобби, – сказал я. – Нужно убрать всё после этой вечеринки.
Ивелин ушла, придерживая пошатывающегося Мерка. Он всё ещё выглядел плохо, но я не сомневался, что мальчик поправится. Мы с Бобби вернулись в полицейский участок, чтобы собрать ребят и порадоваться тому, что всё наконец-то закончилось, и все остались живы.
Эмоции куда-то ушли, и осталась лишь усталость.
* * *
Юнь встретила меня в гостинице всё тем же птичьим взглядом, который ничего не выражал. Однако мне почудилась улыбка, прячущуюся в уголках её губ.
– Чему вы улыбаетесь? – спросил я, не чувствуя в себе сил гадать и желая услышать ответ.
– Тому, что вы вернулись.
– Разве я не обещал это сделать?
– Нет, – она покачала головой, и я понял, что действительно не обещал. Хотел – да, но ничего не сказал вслух.
«Может быть, она переживает из-за денег?» – спросил я себя и потянулся во внутренний карман за бумажником.
– Вы не обещали вернуться, – продолжала китаянка, – но я рада, что вы это сделали. Гостиница создана для того, чтобы в ней жили. Все те, кто находится где-то между «здесь» и «там» живут в гостиницах. Не замечали?
Я покачал головой, но отдёрнул руку от кармана. Кажется, от меня хотели не денег, а чего-то другого.
– Если у нас есть дом, то мы «здесь». Если живём в гостинице, то когда-нибудь обязательно окажемся «там», которое не здесь.
– Я видел Рабби, – сказал я невпопад. Юнь осеклась. – Его теперь зовут Элох, и он живёт среди песка. Вам, должно быть, это интересно узнать.
Она молча кивнула и продолжила ждать.
– Не думаю, что он вернётся, – сказал я, помедлив. – Кажется, он действительно теперь «там». И даже не он, а кто-то другой, похожий на него и с его воспоминаниями.
– Именно об этом я и говорю, – Юнь опустила взгляд. – Ваш номер убран и свободен. Можете подняться.
– Сколько я должен?
– Считайте, что вы уже расплатились, когда сообщили про Рабби.
Мне было не до того, чтобы играть в благородство, так что я молчаливо принял это и двинулся к лестнице. Дорогу к номеру я вспомнил без труда, а ключ оказался в замке. Висел, покачивая тяжеленой биркой, будто бы его оставили здесь с минуту назад, если не меньше.
У меня едва хватило сил, чтобы раздеться, залезть под одеяло и прикрыть глаза. Перед тем, как сон сморил меня, я опять вспомнил слова Юнь про живущих в гостиницах. Хотелось усмехнуться и сказать, что это всё чушь, но я не смог.
Вместо этого наконец-то уснул, и этот долгий день, начавшийся для меня много часов назад, всё же закончился.
* * *
Я проснулся от ощущения, что в комнате есть кто-то ещё. Он сидел слева от меня, в тёмном углу, но я видел его смутный силуэт и слышал тихое дыхание. И не было никаких сомнений в том, кто именно решил меня посетить.
Лёгкий животный запах, который разливался по комнате, я уже чуял не один раз, но всегда был слишком занят чем-то другим (чаще всего выпивкой), чтобы задуматься о его природе.
– Привет, Шустер, – сказал я. – Рад, что ты вернулся.
Он шумно выдохнул, затем хрипло расхохотался, после чего зашёлся в кашле. Я почувствовал (не увидел, а именно ощутил), что он встал и подошёл ближе. Подняв глаза, я встретился с взглядом жёлтых глаз Шустера Крополя. В этот раз я выдержал его и ответил улыбкой.
– Тоже рад тебя видеть, Любо, – сказал Шустер, покачав головой. – Но ведь не тебя надо благодарить за моё спасение?
– Нет. Это Канга увёл бурю.
– Да, только он и мог это сделать…
Шустер помолчал, а затем произнёс с небывалым пиететом, как будто говорил о кумире:
– Он был совсем не таким, каким мы привыкли его видеть. Высокий, сильный, благородный воин. Не шаман, а именно воин. Охотник. Такой не испугается ничего…
Последние слово он едва ли не процедил. Я на секунду задумался о причинах, но почти тут же понял, что вряд ли разберусь в этом с первого раза. Я слишком мало знал о Шустере, несмотря на то время, которое провёл рядом с ним.
– Чем собираешься заняться? – поинтересовался я. – Вернёшься в управление?
– Да, там надо навести порядок. Малышу Бобби требуется помощь, – Шустер облизнулся. – Может быть, потом исчезну, как собираешься это сделать ты. Увы, но моя миссия в этом городе окончилась грандиозным провалом.
– Я не собираюсь никуда исчезать…
Вместо ответа он неопределённо махнул рукой. Сделал два тягучих шага и присел на кровать. Жёлтые глаза оказались совсем близко от меня.
– Ты изменился, Любо. Даже не знаю, кто мне больше по нраву. Тот страдающий слюнтяй, что ошивался возле с десяток лет, или же тот, кто не отворачивает взгляда.
– Я не собираюсь быть кому-то по нраву.
– Теперь – да, но ведь раньше хотел…
– Наверное, хотел, но и что с того? То было раньше. Лучше расскажи, что стало с Легбой?
– Не волнуйся, она жива. Хотя её сила возвращается куда медленнее, чем моя, но я оставил её в живых, несмотря на то, что эта сучка пыталась сделать. Не по доброте душевной, разумеется. Просто там был Рабби. Или Элох, как он себя называет. Старик слишком быстр со своим песком и совсем меня не боится, представляешь?
В последних словах Шустера мне почудилась обида. Но почти тут же он наклонился ко мне и оскалился.
– Я тоже тебя не боюсь, Шустер, – я умудрился не дёрнуться.
Крополь кивнул, затем встал, прошёл к окну и отворил его, позволяя песку прорваться внутрь.
– Да, ты не боишься. Как не боится Барон, не боится Легба, не боялся Канга… и Док. Он тоже не боялся, – произнёс Шустер тоскливо. – Я похитил голема у нашего доброго Рабби. Оживил эту тварь, чтобы напугать Дока, но всё пошло не так. Я перестал им управлять, представляешь? Я ведь всего-то хотел напугать его, но… ты спрашивал меня, Любо, не я ли убил Дока. Вот мой ответ – надеюсь, что нет. Я только хотел напугать… В убийстве нет ничего интересного, в отличие от страха…
Затем Шустер позволил воплю-вою вырваться из горла. Душераздирающий звук пролетел над домами, отражаясь эхом, а после затих. Когда Шустер обернулся, глаза его горели ещё ярче, а на губах играла довольная улыбка.
– А потом ты убил голема, чтобы он случайно на тебя не вывел.
– Смекнул, да. Не поздновато ли, Любо? Да, я это сделал. И я же заставил нашего дружка позвонить в полицию. Хотел свалить всю вину на Рабби, а заодно испугать его. Кто же знал, что старый интриган продумал всё гораздо лучше моего. Этот его самолёт… отличный ход!
Я не стал говорить, что Рабби отрицает свою вину в падении самолёта. Даже если Шустер это признает – ничего не изменится. К тому же, я не был уверен, что слова «просто попугать» были правдой.
– Ты умеешь менять внешность? – спросил я. – Среди твоих талантов есть такой?
Он помедлил немного, но кивнул. Кажется, я нащупал ту нить разговора, которая была неприятна Шустеру.
– Тогда почему ты не уберёшь глаза? Ты ведь мог сделать их нормальными, и тогда никто бы ничего не заподозрил. Уж я тем более не заметил бы.
– Это память, – Шустер вздохнул. – Иногда я начинаю заигрываться в крутого детектива. Тогда достаточно снять очки, посмотреть на себя в зеркало, и снова ясно, кто я.
– И кто же?
– Не знаю! – он взорвался криком и одним прыжком оказался рядом со мной. – Не знаю, Любо. Есть смутные догадки, есть предположения, есть миллионы вариантов, но я не знаю, кто я и что я. Но в той, первоначальной форме, которая у меня была при появлении на этом свете – можешь понимать, совсем не такая, как сейчас, – у меня были жёлтые глаза. Жёлтые, понимаешь?
– Понимаю…
– Брехня! Но я не обижаюсь на тебя. Ты ведь тоже не знаешь, кто ты есть, Любо. Даже сейчас ты не знаешь, потому что так и не выбрал, кем быть, а предпочёл, чтобы другие выбирали за тебя. Иногда я насмехаюсь над тобой, а иногда завидую. Неведение, что может быть прекраснее?
Я промолчал. В груди что-то всколыхнулось, завертелись вопросы и смутные догадки, но мне не хотелось озвучивать их Шустеру. Этот человек пока ещё оставался моим другом, поскольку жила память о том, кем он был для меня раньше. Но чем больше он говорил, чем больше я наблюдал за ним, тем лучше я понимал, что наши дороги расходятся. Они уже разошлись, а теперь мы всё дальше.
– Не надо трагедий, – Шустер поморщился. – Я прям чувствую, что сейчас ты начнёшь нести какие-нибудь прописные истины. Пожалуй, пойду прогуляюсь. Ненавижу быть рядом с тем, кто впадает в сентиментальщину.
– И это говорит мне тот, кто оставил глаза, чтобы помнить? – огрызнулся я. – А может быть, это вовсе не для того было, а просто ты устал прятаться? Хотелось, чтобы кто-нибудь всё обнаружил и начал задавать вопросы. Чтобы кто-то догадался о твоих способностях. Разве не так всё было?
– Великий психолог Любомир Грабовски, спокойной ночи.
Дверь захлопнулась. Я откинулся на подушку и с ненавистью посмотрел в потолок. Разговор оставил тягостное впечатление. Мне захотелось поскорее заснуть, чтобы избавиться от привкуса разочарования во рту.
Когда у меня это наконец-то получилось, мысли завертелись с бешеной скоростью, рисуя странные, но очень живо перекликающиеся с реальностью картины. А после, когда одна из картин на секунду остановилась, я увидел гигантскую узорную паутину и понял, где в ней место для меня…
* * *
Солнце вновь стояло над Мединой. Если не приглядываться, то ничего не напоминало о катастрофе, которая почти произошла вчера. Люди возвращались к привычному ритму жизни, очищая память от неприятных событий.
Пройдут месяцы, и чёрная буря, что едва не обрушилась на город, превратится в легенду. Обрастёт ненужными подробностями, приобретёт новых героев и потеряет тех, кто в действительности сделал всё, что было необходимо.
Подобно своим жителям Медина избавлялась от всего, что могло ей навредить, превращая любую беду в победу. В этом была часть её силы и в этом же намёк на то, что происходит в действительности.
Я шёл к особняку барона, чтобы превратить свой намёк в уверенность. В отличие от города я хотел знать, что именно произошло.
* * *
У дверей вновь не стояла стража, а внутри особняка я застал гигантскую перестройку. Барон в чёрных брюках, сандалиях и белой рубашке с отворотами, выставлявшей напоказ густые седые волосы на груди, расхаживал между прислужниками и командовал:
– Перенесите кресло сюда. Шкаф сдвинем к окну. Вот эта колонна мне не нравится, так что у вас есть время до вечера, чтобы её снести…
Было необычно видеть, как последователи Перуна-Апостола двигают мебель из одного конца в другой, что-то сверлят, что-то пилят, а что-то с остервенением крушат. Впрочем, думаю, они любую работу, которую поручал им барон, делали с остервенением.
– Не стойте на пороге, княже, – Рюманов приглашающе махнул рукой. – Подойдите ближе и скажите, что вы думаете насчёт этого трюмо.
Трюмо выглядело так, словно оно было старше меня раза в три. Массивное, деревянное, слегка потрескавшееся, с потемневшим лаком. Я не знал, что о нём думать, но барон ждал ответа с таким напряжением, будто от этого зависела вся его жизнь.
– Я думаю, что оно неплохо бы смотрелось в спальне.
– Отлично! – Барон вскинул руки, а затем разом погрустнел и опустил их. – Однако именно из спальни его недавно вынесли. Надоело, знаете ли. Ума не приложу, что с ним теперь делать.
– Отдайте кому-нибудь.
– Вы с ума сошли? Это же раритет! Впрочем, вы правы. Не стоит цепляться за всякую древность, как это принято у стариков. Передвиньте трюмо ко входу! Если ничего не придумаю, вам будет легче вытащить его на улицу.
Прислужники молча подхватили трюмо и двинулись к выходу. Я заметил, как по вискам одного из них катятся капли пота, однако глаза стражника по-прежнему смотрели на мир с небывалым ледяным презрением. От этого взгляда я поёжился.
– Ну-ну, – барон посмотрел на меня сочувственно. – Вы, часом, не заболели, княже? Могу предложить чай с малиной, мёдом или даже с девкой. Девка, правда, слегка не в себе, но, может, вы таких и предпочитаете?
Я посмотрел в ту сторону, куда он указывал, и вздрогнул. То, что я поначалу принял за стопку белья, выгруженного из шкафов, оказалось той самой девушкой, что я не раз видел рядом с бароном. Думаю, даже Бобби не узнал бы её сейчас. Тело девушки раздулось, словно от водянки или слоновьей болезни, и сейчас она походила на огромную жабу.
– Если где-то что-то убавляется, то в другом месте должно прибавиться, иначе нельзя, – барон усмехнулся. – Не волнуйтесь, это пройдёт, но не сразу. Всё-таки наказание должно быть поучительным и болезненным. В следующий раз будет куда разборчивей в людях. Я ведь, знаете ли, доверился ей, когда она призналась, что Бобби уже в наших руках. А потом, когда всё вскрылось, выяснил, каким же образом проучить их обоих.
– Бобби скорее обрадовался внезапному подарку, – мне хотелось подразнить барона.
– Вот как? Тем лучше, – он пожал плечами. – Давайте пройдём из этого бардака. Вы же пришли поговорить.
Мы двинулись по лестнице. Второй этаж также оказался заставлен мебелью, которая образовала тесный лабиринт.
Барон на пути подхватил два стула, а после, ругаясь негромко и незлобно, тащил их, выставив один вперёд, а второй держа позади. На моё предложение помочь Рюманов лишь покачал головой.
Настаивать я не стал.
* * *
– Итак, давайте начнём заседание нашего кружка неудачников, – барон сидел напротив меня, закинув ногу на ногу, и улыбался. Я заметил, что ссадина от моего вчерашнего удара уже зажила.
«Кружок неудачников?» – что ж, я оценил иронию. Не хватало, конечно, многих: того же Бобби, Глафиры, Рабби-Элоха, Легбы, Шустера… Дока. Тем не менее, иначе нас назвать было трудно. Победителем во всей этой истории был, пожалуй, только Канга.
– Зачем вы похитили мальчика? – спросил я.
– Я его выменял, – барон подмигнул мне. – Я выдал ему вездеход, а он, в свою очередь, обязался служить мне, пока не сможет за него расплатиться. Я даже пообещал, что не сделаю ничего плохого ни вам, ни его матери. Продемонстрировал, так сказать, благородство. А потом появилась эта буря, и я захотел сохранить своё капиталовложение, на случай, если дело не выгорит. К сожалению, те, кого я послал, предпочитают действовать, а не размышлять. Они могли просто объяснить мальчику, что происходит, но слегка перестарались.
Я кивнул. Это было похоже на барона. Он разбирался в людях, и, как и я, видел, что Мерк не так прост, как кажется. Из него можно вырастить кого угодно, если постараться.
Возможно, очередного князя Грабовски.
– Думаю, те люди просто похожи на своего хозяина. Вы мне тоже ничего не объяснили, когда потащили за собой, – сказал я.
Барон замер на секунду, а после расхохотался. Заливисто и громко, хлопая себя при этом по коленке. Рюманов походил на паяца в цирке, но я видел, что он и вправду радовался.
– Ну, княже, вы даёте, – он утёр слезу и погрозил мне пальцем. – Смогли порадовать старика. Я даже ваш удар прощаю. Удовольствие отличное.
– Не называйте меня князем, вы же знаете, что это неправда.
– А вот и нет, мой дорогой, – Рюманов разом собрался. Лицо его стало злой маской. – Вот здесь вы ошибаетесь. Вы – князь, и никто не в силах этого изменить. Вы – символ, который у них есть. Если вы начнёте кричать на каждом углу, что это не так, то они просто решат, что вы свихнулись. Найдутся, конечно, и те, кто лишь кивнёт и заявит, что всегда это знал, но так это и будет настоящая правда – они всегда это знали, потому что не верили. А тысячи жителей, которые знают другую правду, будут верить по-прежнему. Разве что к этой вере добавится оттенок горечи. Вы – князь Грабовски. И совсем не важно, кто вы были на самом деле. Я даже сам не помню этого. Мне притащили десяток младенцев, и я выбрал одного из них. Того, в ком чувствовал потенциал и некое будущее сходство с портретными чертами династии Грабовски. Может быть, вы даже были каким-нибудь бастардом. Сейчас это всё уже не имеет значения.
– Я видел свою мать сегодня во сне. Она была ткачихой. Рожала меня дома. В маленьком домике на окраине Любляны. А затем, когда всё началось, она оставила меня у старухи-соседки и куда-то исчезла…
– Избавьте меня от этой сентиментальности, – барон вскинул руку. – Это вовсе безразлично.
– Тогда зачем же вы просили меня прийти?
– Зачем? – барон встал и потянулся. – Даже не знаю, князь. Наверное, хотел понять, что вы будете делать дальше. Теперь, когда окончилась буря, нет никакого чёрного песка и Медине предстоит жить дальше в привычной рутине. Вы ведь наверняка уже привыкли к тому, что жизнь бьёт ключом, адреналин кипит в крови и всё такое. Признайтесь, привыкли ведь?
Я усмехнулся и тоже встал. Теперь мы стояли друг напротив друга, как почти тридцать лет назад стояли друг напротив друга солдаты двух стран перед битвой, которой в итоге не случилось. Пара предательств, несколько подкупов, и вот уже – братания. И солдаты вместе идут свергать Великого князя Грабовски. Тогда барон выиграл, а сейчас?
Сейчас он выиграл тоже, это сложно было не признать. Я был его созданием, его придумкой. Его символом, который он сделал, прекрасно понимая, насколько проще управлять людьми, у которых есть надежда.
Просто лучше, чтобы эта надежда была далеко. Чтобы они верили, что рано или поздно она вернётся. Чтобы жили, привыкали, мирились, а после, когда надежда исчезнет с горизонта, то окажется, что уже не настолько всё и плохо. Вырастет новое поколение, не знавшее другой жизни – и всё.
Он очень хорошо всё просчитал. Только вот что Рюманов будет делать теперь, когда узнал, что его надежда больше таковой не является?
Наверное, ничего. В сущности, он прав. Те, кто верил, будут продолжать верить и дальше. Те, кто сомневался, просто подтвердят свои сомнения. Я сыграл свою роль, и по инерции продолжал играть её ещё дальше, хотя надобности уже никакой не было.
– Томаш был вашим человеком?
– Разумеется. У него, конечно, были кое-какие свои мотивы. Он собирался уговорить вас в конечном итоге заявить свои права на престол. Мы бы даже позволили это сделать. Сменить одно правительство на другое – что ж в этом плохого? Наших людей уже было достаточно, чтобы саботировать всё, что нам не понравится. А если бы народ был недоволен… что ж, они в любом случае получили бы то, что хотели. Томаш собирался стать премьер-министром или что-то вроде того. Однако, к счастью или нет, он слишком любил спиртное, чтобы действительно что-то сделать.
Тяжёлый дух выпивки. Запах изо рта Томаша, когда он что-то втолковывал мне в очередной раз. Кривая улыбка и ненависть пополам с вожделением во взгляде. Когда я стал старше, мне казалось, что Томаш вожделел меня, но после объяснения барона становилось понятно, что он вожделел власть.
«Я бы попросил у тебя прощения, но не думаю, что чем-то тебя удивил», – тон Томаша был извиняющимся, а в словах жила правда. Что-то подобное я всегда и предчувствовал. А может быть, хотел предчувствовать, чтобы избавиться от титула, как от бремени. В таком случае не стоит верить всему, что сказал барон. Может быть, это новая игра, чтобы заставить наследника отступиться от трона?
Я помотал головой, вырываясь из воспоминаний и размышлений, а после посмотрел на улыбающегося барона. С удивлением я понял, что не могу его ненавидеть. Раньше получалось, а теперь будто обрезало. Да, передо мной стоял победитель. Человек, который оборачивал себе во благо даже самое тяжёлое поражение, расправлялся с врагами чужими руками, имел тысячи вариантов действий и множество способов достигать поставленных целей… но кое-чего у него не было.
Спокойствия. Внутреннего спокойствия, которое бы позволило наслаждаться результатом. Впрочем, именно его отсутствие и гнало Рюманова вперёд.
– Всего хорошего, барон, – я протянул руку и он, прицокнув с восхищением, пожал её.
– Всегда рад услужить, княже. Обращайтесь, если что-то понадобится.
– Возможно, – сказал я, зная, что именно попрошу. – Возможно обращусь прямо сейчас. Отпустите Мерка. Будем считать, что его долг оплачен мною сполна.
– Вы так думаете? – он склонил голову набок, как это делала Юнь, вот только взгляд был куда выразительней. – Ну что ж, почему бы не согласиться на просьбу августейшей особы. Считайте это дело решённым. Мальчик мне ничего не должен и может оставить вездеход себе. Но если он придёт ко мне ещё раз, то это уже будет иная сделка, и я так просто не отступлюсь.
Я кивнул, развернулся и пошёл назад, пробираясь между коридорами мебели. Руки без перчаток скользили по отполированному дереву. Барон остался в той комнате, не собираясь провожать или идти следом.
Чувства, тщательно сдерживаемые, выплеснулись все разом, заставляя всё внутри клокотать. Я шипел сквозь зубы, терпя эту боль. Спокойно спустился на первый этаж, прошёл мимо уже переставленного к выходу трюмо, задержавшись на мгновение, чтобы взглянуть на себя в зеркало.
Увиденное не разочаровало. Это были глаза человека, который принял решение и только и ждёт, чтобы начать действовать.
Я на ходу нацепил маску, перчатки, плотнее закутался в плащ и вышел на улицу.
Солнце стояло в зените. Медина жила своей жизнью, и рана на сердце города уже почти затянулась, как ссадина на щеке барона.
Глубоко вдохнув и медленно выдохнув, я улыбнулся самому себе, пытаясь вытащить из памяти недавно испытываемое ощущение. Сделал шаг, второй, третий, постепенно ускоряясь, а после бросился бежать, подражая Канга, который мчался, уводя бурю.
Только я уводил самого себя.
Эпилог
Когда от тебя ничего не зависит, нужно перестать зависеть от ситуации, когда от тебя ничего не зависит.
Лесли «Док» СандерсЛюбомир Грабовски уходит из Медины. Не останавливаясь, на оборачиваясь, не испытывая сожалений или мук совести.
Он бежит, но не из-за страха. Просто сейчас маятник качнулся, и в самой дальней точке есть шанс перескочить куда-нибудь в другое место. Не обязательно, что там будет лучше или хуже, но обязательно будет иначе.
А Любомиру Грабовски очень хочется «иначе», потому что «так» он уже испытал.
Никто не покидает Медину по своей воле, но в каждом правиле должно случиться исключение.
Грабовски не заглянул ни в квартиру, ни в гостиницу. Не попрощался ни с одним из тех, с кем хотел бы. Ему кажется, что уходить нужно именно так – оставляя позади себя всю прошлую жизнь без остатка. Он бы даже имя сменил, но, во-первых, привык к нему за столько лет, а во-вторых – других документов у него нет. Неизвестно ещё, когда удастся наткнуться на своё настоящее прошлое и настоящее имя, и будет ли Любомир Грабовски этим заниматься.
Впрочем, истинная причина куда более прозаична. Шустер Крополь наверняка оценил бы.
Чтобы помнить.
* * *
Грабовски уходит из города, стремясь в аэропорт, и на середине пути его вдруг посещает озарение. Он понимает, что и кто правит Мединой. Грабовски постигает истинную суть города, оказавшись от него вдалеке. Рабби-Элох в чём-то был прав, когда считал, что стоит просто постоять в стороне и позволить истории «случиться».
Нужно смотреть не пристально, а чуть вбок, словно и не приглядываясь. Но вместе с тем надо постараться в нужный момент оказаться внутри происходящей истории.
Если так получается, то ты становишься всеми участниками действа одновременно. Все мысли и поступки, как на ладони. Прошлое и будущее открыто, так что больше нечего скрывать.
И ты смотришь.
И ты видишь.
* * *
Видишь старика, который приехал в этот город, спасаясь от мира смерти. От странного тягучего мира, где одни полутрупы управляют другими, и тянется это от начала веков до бесконечности.
Очень часто в тот город попадают, выпав из реальной жизни, и ещё никому не удавалось выбраться оттуда. Док – то самое исключение, которым хочет стать и Грабовски, вот только для старика это обернулось попаданием в другую ловушку.
Куда более приятную, куда лучше обставленную, но всё же клетку.
Чем обернётся побег для самого Грабовски? Лучше не думать, а просто идти дальше.
Мимо Дока, которому уже не поможешь и который видит перед собой в момент смерти того самого голема-лесоруба. Глаза убийцы золотисто-жёлтые, но лишь до того, как он протягивает руку к грудной клетке старика. В этот момент золотистая охра сменяется коричневым песком, и Док получает ответ на вопрос, который мучил его последние двадцать лет, а заодно – долгожданное успокоение.
Можно оградить дом от песка, но нельзя спрятаться от Медины и собственных тайных желаний.
* * *
Видишь Шустера Крополя, детектива-демона. Он тоже пришёл из иного мира, но, в отличие от Дока, не по своей воле. Его вышвырнули и вычеркнули из прошлой реальности, а сюда приземлился лишь отпечаток негатива. Остатки сущности, которой больше нет.
В прошлом он питался мечтами и ходил в окружении двух крокодилов. Был большой сволочью, не лишённой чувства юмора.
Сейчас Шустер Крополь питается страхами и ходит в окружении двух собачек. Сволочизма, может, стало и меньше, но и чувство юмора пострадало.
Может быть, ещё несколько десятков перерождений, и получится что-то достойное?
Впрочем, Любомиру Грабовски кажется, что и без того Шустер достоин. По крайней мере, Медина в его лице получила именно то, чего заслуживала. И сам Шустер получил то, чего заслуживал: наконец-то обрёл свой страх, и одновременно с тем потерял человека, у которого мог бы научиться истинному бесстрашию.
Любомир Грабовски проходит мимо Шустера Крополя, который шагает в полицейский участок походкой хозяина, вернувшегося после долгой отлучки.
* * *
Бобби Ти – ещё один человек, оказавшийся на своём месте. Человек, без которого трудно представить город, хотя до самого последнего момента он старался быть незаметным, желая при этом славы.
Что ж, славу он получил, но пошла ли она ему впрок? Любомир Грабовски в этом не уверен. Зато уверен в другом: Бобби и дальше постарается максимально отдалиться от остальных.
Испытание, которое он пережил, заставило его потерять не только вес, но и лишние иллюзии. Теперь, зная свои сильные стороны, он вновь превратится в незримого аналитика, помогающего Медине сдерживать преступность.
А сам останется в тени, которая закрывает лицо Бобби, когда Любомир Грабовски проходит мимо.
* * *
Из тени появляется Легба. Извиняющийся взгляд, укушенные губы. Лишь подойдя к ней ближе, Грабовски замечает рядом Рабби-Элоха и понимает, что происходящее не мираж.
Внезапное прозрение словно выдёргивает его из сюрреалистичного сна.
Легба протягивает руку, но ничего не говорит. Грабовски сбавляет шаг, смотрит на женщину, а затем отворачивается. Ему нечего сказать той, кто думает, что она потеряла душу. Ему кажется, что душа – это то, что ты есть, а не то, что у тебя когда-то было.
Ему не за что и извинять Легбу. За все свои грехи она поплатилась сполна, принеся ад внутрь себя. Единственное, что говорит ей Любомир Грабовски: «Будь».
Слово, которому должно хватить силы, чтобы удержать Легбу от будущих безумств хотя бы на время. Слово, которое должно стать фундаментом для внутреннего спокойствия.
Слово, которое слетает шёпотом, подхватывается ветром и разносится по округе, когда Грабовски подступает к Рабби.
* * *
Его прощать есть за что, и Любомир готов это сделать.
Он понимает из-за чего, он видит «как», он знает, что не во всём есть вина одного лишь Рабби.
«Если где-то убавилось, то в другом месте должно прибавиться», – так говорил барон. Рабби тоже знал об этом и заплатил свою цену, чтобы стать адептом песка. Создал голема, который после убил Дока.
Создал, догадываясь, что его используют для чего-то ужасного. Но ради знаний люди совершают и не такие поступки.
Сейчас же Рабби молчит и смотрит напряжённо. Грабовски знает, что если он попробует ударить, то Рабби не будет защищаться, однако Любомир лишь горько качает головой, даруя прощение.
Кому мстить, если Рабби больше нет? Иллюзия, имя которой Элох, уже расплатилась за всё сполна полученным разочарованием.
Грабовски проходит мимо, оставляя эту парочку. Им обоим требуется внутреннее спокойствие, и, возможно, они смогут помочь друг другу.
* * *
Ивелин и её страсть к любви.
Глафира и её всепоглощающее служение.
Юнь и её мечты о гостинице на перекрёстка между «здесь» и «там»…
Всё это и многое другое пролетает у Грабовски перед глазами.
Казалось бы, аэропорт уже давно должен показаться, но путь всё длится и длится. Каждый житель Медины, пусть даже виденный мельком, приоткрывает занавесу тайны, а после исчезает в мареве солнца, поднимающегося над песком.
Одним из самых последних появляется и сам Грабовски, но настоящий Любомир не смотрит на мираж, а отворачивается в сторону. Он не уверен, что хочет видеть то, что ему покажут.
Куда больше он уверен в обратном – этого не стоит видеть, потому что если в познании других есть хоть какой-то смысл (это даёт ответы на многие вопросы), то от познания себя никакого прока, если ты не занимаешься этим постоянно.
Какой смысл смотреть на картинку, не зная, что было «до» и не подозревая, что будет «после»?
Любая трактовка будет лживой.
* * *
Медина встаёт перед глазами Грабовски.
Старый город. Нескладный, небольшой, в чём-то даже нелепый, как и положено быть городу праведников.
Таким его видит Грабовски. Он наконец-то познакомился с жителями по-настоящему и понял: этим людям не нужен бог, ведь он и без того есть у каждого из них.
Свой бог, свои заповеди, своя вера. Город праведников, город одержимых, город тех, кто достиг собственного рая.
Этот рай они творят вместе, обретая силу в соединении желаний или же, наоборот, в их разобщённости. Всё, как они пожелают. Всё, как они представляют. Всё, как они знают, бывает на самом деле.
И пусть для некоторых рай оборачивается адом, но они сами этого жаждут, даже если боятся признаться в этом.
Люди, подобные песчинкам, подхвачены ветром времени и перемен и вовлечены в непрекращающийся танец. Они взмывают в воздух и начинают кружиться, переплетаясь, подобно телам в смятой постели. Картины прошлого и видения грядущего на секунду проступают в этом танце и вновь исчезают…
Грабовски отворачивается, чтобы не видеть тех картин, и машет рукой городу на прощанье.
* * *
Когда следующая картина пробегает перед глазами, Грабовски останавливается.
Некоторое время он смотрит на песок, моргая и морща лоб. Затем разворачивается и терпеливо ждёт, смотря как облачко песка постепенно становится потрёпанным вездеходом.
Внутри едет мальчик, который собирается помочь Грабовски добраться до аэропорта. Мальчик не собирается никого уговаривать вернуться, ему не за что просить прощения, и так же нет нужды принимать его.
У мальчика впереди вся жизнь, у Грабовски позади уже треть.
И когда ты разом отсекаешь всё, что было в прошлом, следует оставить хотя бы одну связующую ниточку.
Быть может, она ещё понадобится, чтобы выпутаться из того лабиринта, который ждёт впереди.
* * *
Позже Грабовски и Мерк сидят в кабине вездехода и молчат.
Тишина не торжественная, не тягучая, а самая естественная.
Грабовски страшно, но он считает страх нормальной платой за то, что ему позволено выбраться из Медины. Этот город перестал быть его раем, перестал казаться ему праведным и, хотя в её власти удержать, Медина отпускает Любомира Грабовски.
Возможно, это плата за спасение, а может – просто блажь. Кто знает, о чём думают города, когда они сводят людей, дарят им неожиданные подарки или отбирают самое любимое? Грабовски точно не знает и предпочитает не задумываться.
Ему достаточно знания, что его отпускают.
Вездеход, внутри которого сидит прошлое Медины и её будущее, здесь, в настоящем, направляется в аэропорт.
* * *
Поднимаясь по трапу самолёта, Любомир Грабовски едва не разворачивается, но вовремя останавливает сам себя.
Впереди ещё две трети жизни, и он успеет вернуться, если захочет.
Пока же он желает две вещи, о которых Любомир Грабовски молчаливо просит у песка и ветра – не повелителей Медины, но тех, кто всегда будет царить в этом городе.
Любомир Грабовски не видит, но знает, что в эту самую минуту вечное движение песка останавливается. Ветер только усиливается, но песок лежит недвижимо, словно не состоит из мириады лёгких частичек.
Ветер гонит издалека тёмные чёрные тучи, а заодно приносит отзвуки песни, которую Грабовски слышал лишь однажды. В тот день тучи тоже стояли над городом, а два человека сидели в старом потрёпанном доме, пили пиво и смотрели мир Любомира Грабовски.
Того мира больше нет, как нет и шамана, но это не мешает песне звучать.
Когда самолёт с единственным пассажиром на борту взмывает в воздух, над Мединой идёт дождь. Любомир Грабовски смотрит в окно на удаляющийся город и улыбается.
Он где-то слышал, что уезжать в дождь – хорошая примета.
апрель 2013, май – сентябрь 2014Благодарности
Жене Екатерине за то, что стойко перенесла увлечение мужа Мединой.
Роджеру Желязны, Стивену Кингу, Максу Фраю, Рэю Брэдбери, Фрэнку Герберту и ещё многим прекрасным писателям, которые радовали и продолжают радовать меня своими историями.
Максу Олину за полезный опыт работы автора с художником, а также за прекрасную обложку для этой книги.
Всем основателям и последователям Винтерпанка, без которых не случился бы рассказ, ставший основой для этого романа.
Лагиф и Илье Мельникову за то, что помогли сделать этот роман лучше, а также Аглае Вещиковой, Андрею Бударову, Вячеславу Бакулину и Марине Дробковой, которые дали несколько дельных советов.
Людям, рассказавшим реальную историю про «гробовые», пусть она и видоизменилась в этом романе.
Городу Тольятти, который мало чем похож на Медину, однако неизменно вставал перед глазами во время написания.
И, разумеется, героям.
Бонус
Каждый из значимых персонажей Танца песчинок получил свою интерлюдию. Некоторые и не по одной. К сожалению, в процессе редактуры выяснилось, что одна из интерлюдий не ложится в ритм романа. К тому же, она, в отличие от остальных, не несла особой сюжетной нагрузки.
Но прелесть самостоятельного издания книги именно в том, что можно вставить эту интерлюдию уже после романа. Возможно, некоторым читателям будет интересно, кто скрывается под маской молчаливого бармена «Отвратного дня».
Интерлюдия: Карл
Хороший бармен знает сотни историй, но по-настоящему отличный – знает всё!
Любомир ГрабовскиВ правой руке Карла спрятан пучок невидимых для остальных нитей.
Они сделаны не из шёлка, хлопка или чего-либо ещё. Материал, который пошёл на их изготовление, прядут где-то далеко три пряхи, знакомые всем и каждому настолько, что нет смысла упоминать их имён; благо, за всё время существования человечества тех имён известно с десяток, если не больше.
Для кого-то иного в том пучке мог быть сокрыт путь к могуществу. Кто-то другой мог бы управлять судьбами иных людей и решать, что им делать и как быть. Некто с манией величия мог бы представить себя богом, которому даровано право повелевать людьми.
Карл знает, что никакого права у него нет, как нет и возможности хоть как-то повлиять. Всё, что ему остаётся – это чувствовать и знать, что происходит.
Таинственный наблюдатель, которому открыты многие тайны живущих в Медине людей. И даже нелюдей.
Вообще всех.
К примеру, одна из нитей, словно желтовато-коричневая слюна, истончившаяся до предела. Она распадается на мириады ещё более тонких ниток, каждая из которых привязана к отдельной песчинке. Смотреть с помощью этих нитей, словно чувствовать себя стрекозой. Фасеточный взгляд одновременно направлен в тусклое небо, на улицы, на равнину ветряков, в чужие дома, вовнутрь себя, к другим песчинкам… Карл редко пользуется этим взглядом – слишком много того, что ему никогда не понять. Того и гляди, с ума сойдёшь от такого распада на мириады одинаковых «я».
Ещё одна нить голубовато-белая, звонкая, как струна. Она отзывается на малейшее прикосновение. Пойманный этой нитью ветер, словно пёс на цепи бросается то в одну сторону, то в другую. То замирает на месте, а то принимается кружить, выбирая слабину по чуть-чуть. То сидит в своей будке, а то срывается с места, чтобы через секунду оказаться на другом конце двора… этой нитью Карл тоже пользуется редко – его мутит от резких перемещений.
Карл вообще мало пользуется нитями. А в последнее время и того меньше. В основном, сугубо в практических целях – оценить, что за человек пришёл и как к нему относиться; что налить, а что даже предлагать не следует. Хороший бармен должен знать о посетителе только это, но Карл знает ещё кое-что сверх, правда, не может этим знанием поделиться.
За его вечной, чуть кривоватой улыбкой, обрубок языка, которому больше никогда не суждено произнести ни слова – расплата за тот случай, когда Карл пригубил воду из запретного источника мудрости. Писать бармен отродясь не умел, а что касается рисунков – корявые пальцы всё время норовят вывести лишь гигантское древо, корни которого опутывают Землю, а ствол уходит далеко-далеко в небо.
Однажды один из посетителей узнал то дерево и принялся возбуждённо что-то приговаривать, но слова проносились мимо Карла, и тому оставалось лишь понимающе кивать – это у него всегда здорово получалось – и улыбаться.
Впрочем, в последнее время Карл даже не пытается передать знания, а всё больше и больше следует инерции жизни. Та с каждым днём становится всё скучней, и даже возможное путешествие прочь с насиженного места не выглядит панацеей от навалившейся болезненной скуки…
Их было много – мест, в которых он жил и в которых пытался найти себя. Некоторые надоедали через год, иные через месяц, а кое-где ему хватало ночи, чтобы понять, что здесь делать нечего.
Пустое место, пустые судьбы, пустые люди…
* * *
Если разобраться, то окажется, что в руке Карла находятся все нити до единой. И пусть иные протянулись настолько далеко, что другой конец лежит на противоположной стороне планеты, начало-то всё равно в руке Карла.
До тех, кто рядом, дотянуться проще, разумеется. Именно так бармен и делает – смотрит на близких, не трогая дальних.
Кто-то назовёт это ленью, но Карлу нравится считать, что это борьба с застоем. Интерес к новым сюжетам – единственное, что может заставить его сняться с насиженного места и отправиться странствовать. Такой простой путь, чтобы не превратиться в покрытую пылью фигуру, похожую на ожившую статую. Сидеть и перебирать нити судеб в руке до бесконечности…
Возможно, именно этот путь ему в конечном итоге и уготован, но пока Карл борется со своей судьбой. С переменным успехом, правда, но тут уж ничего не поделаешь, ведь здесь у него нет никаких преимуществ.
Свою собственную нить Карл так до сих пор не смог нащупать, хотя занимается этим едва ли не каждый день. Всё время кажется, что вот она, уже почти рядом… но оказывается, что она снова куда-то запропастилась.
Наверное, это тоже часть проклятья, а может быть – он просто не там ищет.
* * *
В Медине Карл уже дольше, чем где-либо до этого. Двадцать или около того лет он сидит в баре «Отвратный день», видит людей и наблюдает за тем, как их судьбы рисуют причудливые картины. Он знает настоящее каждого, может воскресить в памяти любой эпизод чужого прошлого, но ему не дано знания о будущем.
Карл считает это милостью и даром свыше. Ему нравится смотреть на людей и ждать, когда они устроят нечто такое, отчего кровь застынет в жилах или же наоборот забурлит, словно чан с кипятком.
Люди Медины часто оправдывают эти ожидания. Несмотря на внешнюю свою обыденность каждый из них хранит в потаённых углах души такие секреты, которые и не снились многим обывателям в других местах. И Карлу нравится думать, что все эти секреты рано или поздно откроются.
Каждый день он начинает с того, что по очереди прощупывает каждую ниточку, стремясь вызнать у них, что же произошло за истёкшее время. Что же новенького в этом мире. Чем ещё порадовала жизнь других людей, и что она готова рассказать Карлу.
Хоть одна из нитей обязательно преподнесёт желанный сюрприз.
* * *
Однако никому и никогда Карл не признается – и отнюдь не из-за немоты – что больше всего ему нравится находить себя в чужих нитях. Смотреть чужими глазами, оценивать чужими мнениями, вспоминать чужими мыслями. Этот небольшой вариант нарциссизма несомненно порочен, но Карл предпочитает не думать об этом.
Кроме всего прочего, даже в Медине, где он без малого двадцать лет, вспоминают о нём не так уж и часто. Многие даже не замечают, кто именно их обслуживает за стойкой!
Если бы Карл не разучился злиться и умел влиять на чужие судьбы, то однозначно бы пресёк пару жизней. Не тех, кто думает о нём плохо – находились и такие – а как раз завсегдатаев, которые даже не помнят, как зовут бармена и как он выглядит.
Впрочем, есть у Карла и любимчики. К ним он возвращается несколько раз за день, но не для того, чтобы узнать, что с ними происходит. Ему просто хочется ещё раз пережить воспоминания, связанные с собой. Если бы Карл мог, то он бы сделал так, чтобы эти люди жили вечно, но подобной силы у него нет.
Одного из этих людей зовут Любомир Грабовски, и его, пожалуй, можно назвать фаворитом Карла.
Интересное прошлое, интересное настоящее и безмерное уважение к нему, к Карлу…
Сказания ветра
Так вышло, что у Танца песчинок есть продолжение. Поначалу я не собирался писать его, но вскоре выяснилось, что дальнейшая история Любомира Грабовски интересна и мне самому. Я конечно представлял себе, чем он может заняться после Медины, но дьявол, как известно, в деталях, а они оказались такими любопытными, что грех было их не записать.
В итоге, получился синопсис книги, рабочее название которой стоит в заголовке. Действие происходит через три-четыре года после Танца песчинок. Грабовски волей судеб оказывается в Исландии и вновь сталкивается с загадочной и странной историей, требующей его внимания.
История придумана полностью. У меня есть толстая папка с синопсисом, набросками и выписанными характерами персонажей, детальным описанием сцен и сюжетных ходов. К сожалению, пишется история гораздо медленней, чем первая книга, и за год я написал примерно половину. Но когда-нибудь эта работа будет закончена.
В том числе потому я и публикую здесь черновик первой главы ещё недописанной книги. Это вроде обещания самому себе, которое даёшь у всех на глазах, а потом трудно его не выполнить.
К тому же, если кому-то ещё захочется увидеть продолжение, это должно помочь книге появится на свет.
1. Торвальд
В любой, даже самой взаимовыгодной сделке присутствует элемент жертвы.
ОдинСказка начинается с ошибки, которая едва не приводит к смерти Торвальда Торвальдссона.
Возможно, кому-то и в самом деле было бы лучше, если бы так случилось.
Тот день отделён от нашего несколькими сотнями лет. Всё произошло так давно, что даже всезнающие старики расходятся в точной дате.
Стоит зима. Долгая, протяжная. Она уже миновала середину, но кажется, что ей не будет конца. Каждый год так кажется, и каждый год жители Хусавика верят, что весна наконец-то придёт. Весной тоже холодно, да и лето не жаркое, но зима вытягивают из людей силу по капле каждый день.
А ещё дрова подходят к концу, как не запасай их впрок.
Торвальд Торвальдсон в один из таких зимних дней, как раз и возглавляет группу лесорубов, которые отправляются за дровами. Оторвавшись от остальных, Торвальд слишком далеко заходит в лес, желая срубить самое великое дерево, которое только удастся найти. Не столько из-за дров, сколько из желания показать себя.
Эта черта Торвальда чаще всего приносит ему удачу, ведь не зря его уже несколько лет подряд выбирают старейшиной. И не зря его род считается самым успешным в Хусавике. И не зря именно он – самый отважным мореход и рыболов, который убил столько китов, что из их усов можно было бы выстроить целый дом.
Однако именно сегодня стремление быть всегда первым едва не оборачивается плачевно.
* * *
Поначалу Торвальду везёт. Он действительно находит то дерево, которое ищет. Этот великан в несколько раз выше всех остальных. Обхват его столь велик, что и десять подобных Торвальду не смогут окружить его. Каждая из нижних ветвей толщиной превосходит стволы соседних деревьев. Этот дуб, уходящий далеко-далеко в небеса, столь величественен, что Торвальд даже задумывается, не довелось ли ему заплутать и случайно добраться до священного древа, что зовётся Иггдрасиль?
Усмехнувшись, Торвальд качает головой. Если даже и так, то он точно прославится. А даже если и мир оттого рухнет – так и поделом ему.
Иногда Торвальд Торвальдсон не боится ни богов, ни жителей подземного мира, ни саму царицу Хелль. Сегодня – как раз такое настроение.
Примерившись, Торвальд покрепче хватается за топор, который выглядит детской игрушкой в сравнении с гигантским стволом. Размахнувшись, лесоруб делает первую засечку. Металл лишь царапает толстую кору исполина, но большое начинается с малого и Торвальду, пятому сыну, который сумел превзойти первых четырёх, этот путь знаком.
Второй удар – засечка чуть увеличивается.
Третий – кора до сих пор не пробита.
Четвёртый, пятый, шестой, седьмой…
Торвальд входит в раж и более не останавливается. Не проходит и трёх минут, как он сбрасывает рукавицы. Топор ритмично ударяёт о дерево. Горячий пар вырывается из рта Торвальда. Пот течёт по его лицу и уже пропитал всё тело.
Так продолжается, возможно, минут десять, а возможно и все полчаса. Когда Торвальд наконец-то останавливается, чтобы чуть передохнуть, опустив топор к земле, засечка на стволе увеличилась, но, в сравнении с его толщиной, лишь самую малость.
Может быть, стоит позвать остальных? Да, он не в одиночку срубит столь великое древо, но будет тем, кто его нашёл. Тоже ничего себе заслуга, пусть и не такая большая. И всё же, взглянув на солнце, которое только-только поднимается на пик короткого зимнего дня, Торвальд решает пока поработать один. Кто знает, вдруг дальше дело пойдёт успешней. А там и, глядишь, гигант упадёт под тяжестью своего веса.
Однако едва Торвальд берётся за топор, чтобы продолжить работу, как слышит громкий хрип за спиной. Он оборачивается и замирает на секунду, а потом ярость и восторг загораются в его глазах.
* * *
Перед Торвальдом стоит вепрь. Самый огромный из всех, которых он видел в жизни. Возможно, хозяин того дуба, который лесоруб готовится низвергнуть. Быть может, именно на желудях гигантского древа вскормлено столь отвратительное чудовище.
Вепрь действительно ужасен. Морда его поросла рыжим мехом, бока раздуваются от дыхания, а клубы горячего пара, вырывающиеся из нодрей, на лету разрезаются острыми клыками-убийцами. Клыки те длиннее, чем меч Торвальда, которым он сразил ни одну дюжину врагов. И Торвальд понимает, что если вепрь до него доберётся, то ни толстая шкура медведя, ни рубаха под ней не уберегут от смерти. Кольчуга, может, и спасла бы. По крайней мере, смягчила бы удар. Но кто же одевает кольчугу, когда собирается за дровами?
Дыхание зверя, замершего шагах в тридцати от Торвальда, ускоряется. Клубы пара окутывают фигуру, делая её размытой и ещё более величественной. Затем чудовище наклоняет голову и срывается с места.
Торвальд успевает покрепче взяться за топор и готовится встретить свой последний бой. У него практически нет шансов против вепря, если только не придумать какую-нибудь хитрость. Если только не удастся отскочить в последний момент. Если только при этом вепрь не успеет затормозить и не воткнётся клыками точно в гигантский дуб.
Слишком много «если», это понятно даже такому везунчику, как Торвальд Торвальдсон.
Тем не менее, он не бежит, не уклоняется и не сдаётся на милость победителя. Если и суждено умереть в битве, то гигантский вепрь, как противник, и гигантский дуб, как пейзаж – едва ли не самые приятные декорации, которые можно избрать для смерти.
Торвальд ухмыляется, чуть поворачивает топор, чтобы врезать обухом по морде вепря и отклонить клыки в сторону, но, прежде чем лесоруб успевает это сделать, происходит ещё кое-что.
Три стрелы почти разом впиваются вепрю в бок. Одна попадает в заднее бедро, вторая в живот, воткнувшись едва ли не на половину длины, а третья бьёт точно в глаз монстра.
Свист, с которым стрелы вылетают из лесной чащи, сменяется диким воем вепря. Он останавливается и ревёт, мотая головой. Стрела, которая торчит у него в глазу, причиняет самую большую боль. В ясном морозном воздухе Торвальд отчётливо видит, око стекает по морде чудовища.
Не желая выступать статистом в этой битве, которая ещё далеко не закончена, Торвальд с криком бросается на вепря, подняв топор в воздух. Его удар достигает цели, попадая чудовищу во второй глаз. Вепрь ревёт ещё яростней и одним движением головы отбрасывает Торвальда далеко в снег.
Воздух разом выходит из лёгких воина. Он лежит, пытаясь подняться, и слышит грозное дыхание зверя. Однако, когда ему всё-таки удаётся это сделать, видна лишь удаляющаяся фигура вепря. Животное бредёт неуверенно – ослеплённое, напуганное и яростное. Припадая на правый бок, зверь всё дальше и дальше удаляется, но Торвальд, хотя и понимает, что вепрь подранен, не решается отправиться за ним. Не сейчас, когда на боку алеет пятно крови. Охотник ранен тоже, и стоит благодарить богов, что удар нанесён вскользь.
Торвальд Торвальдсон, однако, не поднимает взгляд к небу, а смотрит в другую сторону. Туда, откуда прилетели стрелы, спасшие его от гибели.
Из-за деревьев по снежному насту спускается незнакомец. Глядя на то, как легко он двигается, и рассмотрев в ясном воздухе черты его лица, Торвальд Торвальдсон на несколько секунд всерьёз задумывается, не стоило ли умереть в честном бою с вепрем.
По крайней мере, тогда расплата за самонадеянность была бы короче, чем сейчас, когда он попал в должники к альву…
* * *
Поздней весной, целое лето и ранней осенью люди в Хусавике живут разобщённо. Каждый, особенно если он молод, стремится ограничить своё пространство четырьмя стенами, которые будут принадлежать только ему.
Не у каждого выходит, но это уже другой разговор. Чтобы заполучить собственный дом, нужно приложить немало усилий. В одиночку не построишь, а нанять кого-то или спросить помощи способен только тот, кто обладает или положением, или богатством. Лучше, конечно, и тем, и другим.
Но даже те, кто остаётся в отцовском доме, где живёт несколько поколений, могут хотя бы в тёплое время переночевать на открытом воздухе. Мужчины отправляются на промысел и отдыхают от домашних, а те, в свою очередь, радуются отсутствию постоянного надзора. Не так уж и тяжело это бремя, если говорить по совести, но от любого бремени требуется отдых.
Зимой всё иначе. Зимой Хусавик запирается в четырёх гигантских домах, издавна стоящих в центре города. Они и породили его, а все остальные построены позднее. Дома с многими острыми углами – не больше десяти, но и не меньше шести – представляют собой одну гигантскую залу, в которой коротают долгие ночи и короткие дни наступившей зимы. Внутри всегда полумрак, лишь светятся лампады, наполненные китовым жиром. У каждой семьи из своего – лишь угол, да сундуки с вещами, на которых и спят в большинстве случаев. В центре зала гигантский стол с широкими лавками, на которых дремлет малышня, когда взрослым вздумалось уединиться. За этими столами едят и пьют, обсуждают и планируют будущее и вспоминают прошлое. Столы в центре четырёх домов – настоящее сосредоточение жизни Хусавика, особенно в зиму.
Дома стоят крестом, прикрывая друг друга от пронизывающего ветра, который любит налетать с любой стороны света, но чаще всего с моря. На деревянных стенах нет окон, лишь кое-где виднеются бойницы, затянутые шкурами. В случае нападения маленькие оконца прекрасно подходят для стрельбы из лука или метания ножей. А то и для удара подступившего врага длинным копьём. Такие нападение были нередки в прошлом, но и сейчас от них никто не застрахован. Особенно зимой, когда объявленные вне закона люди рыщут, сбиваясь в стаи, пока не найдут себе жертву, которую сочтут безопасной.
Сегодня, в тот самый день, когда Торвальд Торвальдсон попытался срубить гигантское дерево и сразился с гигантским вепрем, за огромным столом в центре одного из домов сидят всего лишь двое. Торвальд и его спаситель-альв.
Их разговор ещё не начался, но все необходимые ритуалы пройдены. Первым был страх, который альв нагнал на остальных обитателей дома. Вторым – угрозы, которые отпускал Торвальд в адрес домочадцев, требуя, чтобы они застыли как изваяния и не показывались. Третьим – распитие огненного напитка, что согрел кости и развязал языки.
– Вкусный нектар, – говорит альв, вроде бы даже не пускаясь в лесть. – Процветание твоему дому, гостеприимный хозяин, и крепких сыновей, что продолжат твои дела.
– Благодарение за похвалу, – говорит Торвальд.
Хозяин дома чувствует себя неуютно. Он не собирался звать альва, но тот сказал ему, что есть дело, которое будет приятно как жителям Хусавика, так и альвам. Торвальд изрядно сомневался, но не смог отказать спасителю. Теперь же они сидят здесь, и рана на боку Торвальда зудит, напоминая о гигантском вепре. Она же заставляет цепко вглядываться в глаза альва и вслушиваться в каждое его слово.
Хоть Торвальд и не ожидает подлого удара в спину, два его старших сына стоят в дозоре снаружи, вглядываясь в ночную зимнюю тьму. Несмотря на всю ответственность, которую ощущают юноши, Торвальд отправил их больше ради опыта. Будь нападение возможным, он бы выставил проверенных временем воинов. Или тех, кого не так жалко потерять в тихом посвисте быстрых и точных стрел.
– Давно альвов не было видно в этих краях, – говорит Торвальд, желая подтолкнуть гостя, который вперился взглядом в темноту углов, будто бы видит сгрудившихся там домашних. Возможно, так и есть. Говорят, глаза альвов подобны звериным и разгоняют тьму.
– Мы вырождаемся, гостеприимный хозяин. Наши сыновья слабы и немощны, а многие и вовсе появляются на свет мёртвыми. Мы ещё способны постоять за себя, но близок тот день, когда альвы исчезнут из подлунного мира и навсегда отправятся в царство мёртвых.
– Так не было заповедано богами! – восклицает Торвальд, и удивление его неподдельно.
– Спасибо тебе, гостеприимный хозяин, за участие. Но боги не властны над всем. В стремлении защитить любимые творения свои, людей, они ограничили альвов. Мы сильны, мы проворны, мы знаем многое и видели многое. Мы живём долго, но для кое-чего нам нужны вы…
В мыслях Торвальда встают картины кровавых ритуалов. Он почти ясно видит, как альвы едят человеческую плоть, как пьют кровь людей, как приносят их в жертву, сжигают на костре, а пепел втирают в кожу… Много разных мыслей, и ни одна не кажется Торвальду подходящей. Особенно сейчас, когда он вдруг понимает, что за предложение собирается сделать его спаситель.
А вместе с этим пониманием приходит и подозрение: не было ли так, что сегодняшняя встреча оказалась подстроена? Куда лучше прийти сюда в качестве спасителя, нежели врага, это понятно даже пятилетнему младшему сынишке Торвальда. Однако оскорбить альва необоснованным подозрением хозяин не рискует.
К тому же, вдруг слова, о которых подумал Торвальд, так и не прозвучат?
– Боги мудры, – говорит хозяин после паузы. – Для нас они тоже немало создали ограничений.
– О, да. Боги мудры, гостеприимный хозяин. И я предлагаю воспользоваться тебе их мудростью. Боги сделали зависимыми альвов от людей, чтобы они искали людскую дружбу, а не истребляли их. Но, будь уверен, и альвы могут послужить людям.
– Я не сомневаюсь, – говорит Торвальд осторожно.
А сам всё ждёт, когда же прозвучат те самые слова. Сомнений нет, они на подходе. И от тона их, от того, как будут они поданы, зависят дальнейшие действия. Быть может, придётся наплевать на заветы богов и убить своего спасителя. А быть может, альв убьёт их всех…
И, разумеется, всё зависит от цены и условий. Это, пожалуй, самое главное. Торвальд уверен, что о разговоре, который ведётся сейчас за большим столом, станет известно и в остальных домах Хусавика. А раз так, если он откажет, не исключено, что кто-то из его соседей согласится…
«Я не смог одолеть гигантский дуб и гигантского вепря, но мне по силам стать тем, кто заключит сделку с альвами», – понимает Торвальд, и чем больше он обдумывается эту мысль, тем больше она ему нравится.
Гость молчит и продолжает осмотр дома. Взгляд его блуждает из стороны в сторону. Альв не торопится и, кажется, вообще забыл о разговоре.
Торвальд продолжает смотреть на гостя, и взгляд его постоянно сходится к тому месту, где у людей под носом небольшая выемка, которой нет у альва. Затем настаёт черёд ярко-красных губ спасителя, а после выясняется, что уши альва чуть-чуть заострены в верхней части. После этого ритуала взгляд вновь возвращается к отсутствующей впадине под носом. Мысли Торвальда синхронно со взглядом бегают по кругу.
– Что ты хочешь, гостеприимный хозяин? – спрашивает альв, продолжая осматривать дом. – Что сделает тебя счастливей, чем ты есть, а твой народ – сильнее, чем он есть сейчас.
– Тепло, – не задумываясь, говорит Торвальд и ёжится от мнимого холода, хотя дрова в очаге горят, разнося волны тепла по всей большой зале.
– Да, тепло… Люди куда более чувствительны к теплу, чем альвы. Тепло разгоняет кровь. Тепло даёт урожай. Тепло даёт больше рыбы и дичи. Тепло позволяет меньше задумываться о дровах. Тепло – воистину прекрасный дар богов. Люди получают тепло от огня, но этого мало. Боги заповедовали, чтобы лето сменялось осенью, осень – зимой, зима – весной, а весна снова превращалось в лето. Даже альвам не под силу заставить этот хоровод исчезнуть, но кое-что мы можем…
При этих словах Торвальд шумно сглатывает и почти ясно видит, как по углам дома напряглись остальные домочадцы. Как они придвинулись ближе, стремясь остаться за гранью света, но при этом стараясь расслышать то, что будет сказано дальше.
Однако альв придвигается ближе и, чтобы никто другой не услышал, шепчет Торвальду на ухо своим почти ледяным голосом:
– Мы подарим тепло Хусавику. Чуть больше тепла, чем вы привыкли. Ранняя весна, когда у соседей ещё снег. Длинное тёплое лето, когда соседи будут вынуждены кутаться в шкуры ночами. Поздняя тёплая осень, в которую урожай собираешь больше. И тёплую зиму, когда нужно меньше дров. А иной раз получится и выйти в море без риска встретиться с блуждающими льдами. Разумеется, я не жду, что ты мне поверишь, гостеприимный хозяин, но мы покажем тебе. С этого дня и до первого дня осени мы покажем, что альвы могут дать Хусавику, а в последний день лета… мы придём за платой, если ты захочешь, чтобы наша магия продолжала помогать Хусавику и дальше.
– Что за цена? – голос Торвальда превращается в надсадный сип, но альв его слышит.
– Твоя дочь, гостеприимный хозяин. Старшая. Та, у которой рыжие волосы, веснушки на лице и глаза цвета неба. Мы возьмём её к себе. И следующие двадцать лет будут необычайно тёплыми для Хусавика. Мы возьмём её и придём через десять лет, чтобы подтвердить наши гарантии. У тебя или у того, кто будет говорить от имени Хусавика вместо тебя. И в знак подтверждения мы выберем ещё одного человека. И заберём его ещё через десять лет.
– И как долго? – спрашивает Торвальд. – Как долго это будет продолжаться?
– Как решат люди… или боги, – альв пожимает плечами. – Один человек в двадцать лет в обмен на тепло для целого города. Подумай об этом, Торвальд. Подумай до конца лета. Я приду.
Альв встаёт и идёт к выходу. Шаги его легки, как тогда, на снегу. Слышно лишь домочадцев, которые отшатываются в сторону с пути гостя. Наконец, скрипит дверь, открываясь и закрываясь, а после Торвальд долгое время сидит один за огромным столом, и никто его не беспокоит.
Торвальда не так уж и пугает цена. Дочь? Дочь можно отдать. Сыновья останутся при нём, это самое главное. Торвальд надеялся выдать дочь в следующем году за того, кто положит больше приданного, но, пожалуй, такого, как предложил альв, никто не перекроет, если только в этот дом не пожалуют асы.
Ради такой цены Торвальд способен и подождать. К тому же, слова альва сладки, без сомнения, но сейчас, когда он остаётся один, Торвальда одолевают мысли об обмане.
Как бы то ни было, но у него ещё есть множество долгих дней, чтобы принять решение. Тёплых дней, как надеется Торвальд.
* * *
Следующим утром Торвальд понимает, что альвы не обманули. По всем признакам должна быть середина зимы, но на улице явственно чувствуется, что весна близко – почти за поворотом, на расстоянии нескольких дней.
И хотя эти несколько дней проходят, но весна не наступает, жители Хусавика радуются необычайно мягкой погоде.
Снег лежит, но это тёплый и мягкий снег. Ветер дует, но медленно и всё с тем же ощущением теплоты. Даже птицы в лесу начинают петь, словно предчувствуют скорый приход весны.
Для Торвальда становится очевидно, что альвы действительно способны творить то, о чём говорят. А ещё Торвальд понимает: он отдаст им свою дочь, чтобы продлить эту сказку.
Это решение крепнет день ото дня весь остаток зимы и начало ранней и небывало тёплой весны. На родную дочь Торвальд смотрит всё задумчивей. Раз или два он ловит на себе её обеспокоенный взгляд, но старается не показать, что скрываются у него на сердце.
Несмотря на то, что он уже смирился с потерей, Торвальд не может заставить себя сказать дочери, что она предназначена на заклание альвам. Зато ему легко удаётся сказать это остальным старейшинам Хусавика, что держат порядок в трёх других огромных домах.
Тем весенним вечером они отправляются проверять сети, заброшенные на пробу. Это не самая убедительная причина, ведь с таким заданием справился бы любой новичок. Однако все понимают, что старейшины будут держать совет. Многие даже догадываются, о чём именно. Но все делают вид, что ничего необычного не происходит.
Ничего ведь и не происходит. Просто четверо мужчин решают судьбу этого и будущих поколений. Не такое уж и редкое событие, если вдуматься.
* * *
Поначалу они просто гребут, подплывая то к одной сети, то к другой. Улов богат, и даже не верится, что дело только в ранней весне. Что-то более весомое гонит косяки рыб к берегу Хусавика, обещая им обильное пропитание после истощающей зимы. Что-то или кто-то.
Поначалу Торвальд молчит, а вместе с ним молчат и остальные. Право сказать первое слово принадлежит только ему. В Хусавике слишком мало происходит странного, чтобы приход альва к Торвальду остался без внимания. Всё сказанное, разумеется, никто не расслышал, но из сотен разных версий, что бродят по городку, умный человек способен составить сто первую, которая будет ближе к реальности, чем все предыдущие.
Тем не менее, никто не спрашивал Торвальда напрямую. Пару раз вопрос звучал вскользь, один раз в лоб, но вроде как в шутку. Невысказанных вопросов, светившихся во взглядах, накопилось куда больше.
И вот Торвальд, и ещё трое: Хельмир, Гуннар и Олаф – все они сидят в одной лодке. И всем им править ей, как и Хусавиком.
– Должен вам кое-что рассказать, – говорит Торвальд. – И вы знаете о чём.
Остальные молчат и даже не кивают в знак понимания. Смотрят на Торвальда сурово и спокойно, и тот вдруг осознаёт, как будет тяжело рассказывать, глядя им в глаза. И тем не менее, Торвальд рассказывает о гигантском древе и гигантском кабане. Об альве-спасителе и альве-искусителе. О сделке и о цене, которая должна быть уплачена.
Трое других старейшин молчат, не прерывая, пока Торвальд не заканчивает. Он смотрит на них и ждёт ответа, но теперь уже трое других отводят глаза.
– Ты правильно сделал, – наконец говорит Хельмир. – Я бы тоже не отказался. Быть может, думал бы гораздо дольше, но не отказался бы.
– И я не отказался бы, – говорит Гуннар.
Олаф только спокойно кивает.
Теперь уже молчат все четверо. Чайки кружат и кричат, вернувшись небывало рано из тёплых краёв. Солнце потихоньку начинает припекать одетых тепло мужчин. Волны мерно плещутся о борт лодки.
– Я тебе ничего не скажу, – говорит Хельмир опять. – Выбор пал на тебя и твой род. Все мы знаем, что продавать своих в рабство запрещают закон, боги и честь. Все мы знаем, что альвы – странные, а поступки их далеки от понимания людей. Но давай посмотрим на это с другой стороны. Давай посмотрим на это, как на начало крепкой дружбы. Тогда мы увидим не рабство, но честь. Альвы не так часто удостаивают людей приглашением в свой род.
И вновь молчание, нарушаемое плеском волн. Торвальд поглаживает бороду и смотрит на солнце. Остальные мужчины переглядываются. Торвальд знает, о чём они думают. О том, что он обязан согласиться. Потому что процветание Хусавика куда важнее какой-то там девки. Если надо будет – женщины других нарожают. За двадцать лет уж справятся как-нибудь.
– Я отдам свою дочь, Брунд, за твоего сына, – произносит Олаф неожиданно. – В знак признательности отдам с хорошим приданным.
– Я уступлю тебе право первого китобойного похода, – замечает Гуннар как бы вскользь.
– Я готов построить дом для твоего сына и дочери Олафа, – говорит Хельмир. – Если действительно и дальше будет так тепло, нам понадобятся новые дома.
Слова утихают, а Торвальд всё молчит и поглаживает бороду, глядя на солнце. Он не раздумывает – слова остальных троих лишь укрепили его в решении, которое было принято. Вместо раздумий Торвальд пытается уловить какой-либо знак от богов Севера или от бога Иисуса, про которого рассказывал им каждое лето странствующий монах.
Но, как и люди в лодке, боги предпочитают, чтобы Торвальд решал сам.
– Поворачиваем к берегу, – говорит он, вставая к рулю. – Сети обещают хорошую ловлю.
Остальные трое садятся на вёсла и мощными гребками под молчаливый счёт ведут лодку к берегу. Там стоит город Хусавик, и теперь его судьба переменилась окончательно.
* * *
Время бежит вроде бы неспешно, но неумолимо. В тот год Торвальд как нельзя лучше понимает эту поговорку, которую раньше слышал от стариков. Сам он знает, что и его время придёт. Быть может, даже через пару лет мышцы одряхлеют, волосы поседеют, а то и он не дождётся этого момента и отправится в Вальгаллу. Всякое может произойти.
На смену необычайно тёплой весне приходит необычайно тёплое лето. Местность вокруг Хусавика расцветает пуще прежнего. Торвальд женит сына, и смотрит, как строят новый дом для молодой семьи. Его возводят неподалёку от креста огромных домов, чтобы зимой было легче перебраться в свой угол в старом жилище. Однако Торвальд отчего-то уверен, что и зима будет необычайно тёплой. А раз так – сын может и не захотеть возвращаться в общий дом.
И это станет только первым примером. Вскоре вся молодёжь предпочтёт съехать подальше от любящих, но порой слишком сильно, до синяков, отцовских рук и материнской заботы. Всего чуточку тепла, и вот уже городок начинает расползаться вширь и вдаль, чтобы вскорости стать чем-то большим.
Дочь Торвальда, рыжеволосая Сольвейг, которой тоже предназначено стать чем-то большим, мучает отца невысказанными вопросами, застывшими во взгляде. Но чем ближе конец лета, тем более она становится спокойной. Торвальд поначалу думает, что это спокойствие – признак закравшейся истерики или тихого помешательства от измучивших невысказанных слов. Однако, приглядевшись к ней и расспросив её подружек, мать и братьев, которым Торвальд поручает смотреть за сестрой, он понимает, что всё не так.
Сольвейг спокойна и смирилась со своей судьбой. Она знает. О, она безусловно знает – трудно сдержать что-то в секрете, когда вокруг так мало новостей и так мало людей. Все друг другу братья, сёстры или ещё какие родственники, Один их побери.
А раз все родственники, как же не обсудить нечто интересное вечерком, сидя в тесной компании?
И если та, которая стала предметом обсуждения, и сама сидит в этой компании или же прогуливается неподалёку, так что, не обсуждать её вовсе?
Когда Торвальд понимает, что Сольвейг никуда не сбежит и ничего с собой не сделает, он успокаивается, но ненадолго. Поскольку самому Торвальду чужда подобная покорность, он ищет тайную причину, по которой дочь приняла новую судьбу со смирением.
Однажды, за пару ночей до конца лета, когда должны прийти альвы, Торвальд не выдерживает и вызывает дочь на откровенный разговор.
Они стоят вдвоём, в лесу. С моря веет вечерней прохладой, солнце исчезает, заваливаясь за горизонт. Торвальд смотрит на дочь исподлобья, а та отвечает кротким взглядом и лёгкой улыбкой.
– Почему ты хочешь уйти с ними? – спрашивает Торвальд.
Он уверен, что сейчас вопрос нужно ставить так. Сольвейг именно «хочет» уйти.
– Разве ты сам этого не хочешь? Разве остальные жители Хусавика этого не хотят? Разве вокруг нет разговоров о прекрасных тёплых деньках и ничтожной цене в одну дочь Одина, которую заплатят за это?
– Ты не дочь Одина, – Торвальд багровеет. – Ты дочь Локи, дочь великого обманщика. Огневолосая, как и он, и такая же острая и скорая на язык.
– Не волнуйся, – говорит Сольвейг вроде бы дерзко, но вместе с тем всё с той же спокойной улыбкой. – Скоро я покину твой дом и буду отравлять жизнь альвам.
– Почему ты хочешь уйти? Отвечай!
– Им я нужна хоть в каком-то качестве, в отличие от родной семьи…
От удара Торвальда останавливает лишь короткая и быстрая как молния мысль о том, что альвы могут не обрадоваться, если он испортит лицо их будущей жертве. Занесённая рука замирает у самого лица Сольвейг, а порыв ветра от замаха заставляет всколыхнуться волосы цвета меди. Торвальд сплёвывает, отворачивается и уходит, качая головой.
Сделав шагов десять, он оборачивается и видит всё тот же кроткий взгляд и спокойную улыбку.
Чувство, которое охватывает Торвальда в этот момент, весьма неожиданно.
Торвальд Торвальдсон вдруг ощущает, что он в этой сделке продешевил…
* * *
С того разговора до самого последнего дня лета Торвальд и Сольвейг не обмениваются и словом. Они существуют отдельно друг от друга, по-настоящему расставшись ещё до того, как Сольвейг покидает дом.
В последний день лета Торвальд выходит во двор ранним утром и видит перед собой альва. Вновь, как и в прошлый раз, взгляд Торвальда приковывают ярко-красные губы. Однако он мотает головой в сторону, как медведь, и разве что не рычит. Кивнув головой альву в знак приветствия, Торвальд заходит в дом.
К его удивлению, Сольвейг уже готова. Волосы она заплела в косу и накрыла платком. Платье одела самое простое. В руке котомка, в которой угадывается булка хлеба. Возможно, там ещё и сыр, но вряд ли нечто большее. Торвальд сомневается, что дочь заберёт из дома что-то ценное. Она и без того забирает саму себя.
Торвальд берёт её за руку, ведёт на улицу, а затем толкает вперёд, не дойдя до альва несколько шагов. Девушка едва не спотыкается о куст под ногами, но восстанавливает равновесие и подходит к альву спокойно. Тот кивает в ответ Торвальду и медленно бредёт в сторону леса, даже не оборачиваясь на Сольвейг.
Дочь Торвальда так же медленно идёт за альвом следом и не удостаивает отца прощальным взглядом.
Он смотрит им вслед. Пожалуй, меньше минуты. Затем разворачивается и идёт в дом. Крепким тумаком разбудив жену, требует завтрак, бранится на разбушевавшихся детей и смотрит на всех словно разъярённый хищник.
Если два дня назад Торвальд думал, что продешевил, то теперь чувствует себя обманутым. Словно кто-то тайком украл его сердце и ест у него за спиной, посмеиваясь.
Впрочем, уже к вечеру весь этот порыв гнева проходит, и Торвальд не может понять, что было ему причиной. Скорее всего, решает он, всё прошло не так представлялось. Совсем не так.
Он ещё будет вспоминать то утро, но с каждым разом происходящее будет казаться всё более тусклым. А однажды, одним из необычайно тёплых летних деньков следующего лета Торвальд успокоится окончательно.
Однако ни он, ни город, не будут знать, что это отнюдь не конец сказки. И что «долго и счастливо» когда-нибудь непременно заканчивается…


![Перешагнуть черту [СИ]](https://www.4italka.su/images/articles/451373/primary-medium.jpg)


![Пляска на плахе. Плата за верность [СИ]](https://www.4italka.su/images/articles/619353/primary-medium.jpg)

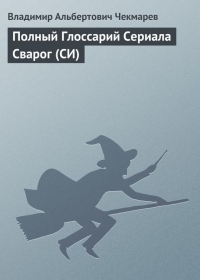




Комментарии к книге «Танец песчинок», Виктор Владимирович Колюжняк
Всего 0 комментариев